60-летию Великой Победы посвящается
Пролог. Судьба
«В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением; но они пребывают в мире…»
Судьба Епистиньи и ее семьи завораживает трагической красотой.
Если бы все это случилось давным-давно, в старину, каким дивно красивым дошло бы до нас сказание или легенда о матери и девяти сыновьях, словно золотое украшение из древнего кургана.
Но беда матери свежа, до боли обжигает. Жизнь русской женщины, жизнь народа в двадцатом веке воплощены в судьбе Епистиньи во всем трагическом величии.
Когда слышишь ее имя — Епистинья, что переводится с греческого как «Знающая», в воображении рождается что-то могучее, суровое, сибирское. А она была в юности красивой, стройной, улыбчивой девушкой; в молодости — счастливой красавицей женщиной рядом с мужем и сыночками, замечательно пела; в старости — мудрой и благородной… И до старости по-детски обижалась на священника, который дал ей когда-то такое громоздкое имя. Но по силе духа — она редкая, могучая женщина. Словно бы пришла к нам из других веков.
Есть в этой женщине тайна — откуда такая сила духа, откуда ее удивительное благородство, ее неиссякаемая доброта?
Думаешь о ее судьбе и смущенной душой чувствуешь, что прикасаешься к чему-то великому, таинственному, вечному, словно бы в результате геологической катастрофы обнажилась на мгновение часть глубоко сокрытого основания всего сущего на Земле.
Обаяние личности Епистиньи и боль ее сердца так велики, что она легко и естественно встает рядом с героями легенд и преданий.
Когда кто-то принимался сетовать на свою жизнь, на трудности, она говорила: «Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе будет легче…»
Глава 1. ПЛАСТ
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
Откровение Иоанна Богослова
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!..
Марина Цветаева
Хутор в степи
Осень… Далеко, в моей рязанской деревне, идут холодные скучные дожди, ветер рвет с деревьев бурые листья, морщит лужи, и ползут по небу низкие серые тучи. А здесь, в южнорусских степях, светит ласковое, в середине дня даже жаркое солнышко, по-особому волнуют сердце еще зеленые метлы стоящих рядами пирамидальных тополей, белые хаты хуторов и станиц, утопающие в густых садах. В палисадниках ярко цветут астры, циннии, висят среди листьев темные кисти пахучего позднего винограда. Греет юг душу северного человека!
Хорошо идти под теплым солнышком полевой дорогой в степь.
Степь, степь… Душа радостно откликается на слово. Степь — это простор, ковыль, курганы, орел в небе, это — вольная воля. Но глаза успокаивают сердце: степь совсем не та широкая, ковыльная, вольная, о которой поется в песнях. Куда ни посмотришь — прямые лесополосы, прямые дороги, между ними прямоугольные поля.
Далеко впереди плавают в волнах марева редкие деревья, кустарник, желтеет камыш, это берега речки Кирпили. Большая стая скворцов с шумом устраивается на ветках акаций. Может, это мои, рязанские, уже долетели сюда, продвигаясь на зиму в теплые края?..
Вот и берег Кирпилей, обрывистый, поросший чащами высоченного камыша, который теперь высох, пожелтел и шуршит от легкого ветра, кланяется, машет густыми, мягкими кисточками. Берега реки пустынны.
К самому обрыву подползла чернота распаханного поля, оставив лишь узенькую травянистую полоску, и болит душа — зачем так близко?! Ведь склон — к реке, и после дождя чернозем поплывет туда, заилит дно, захватит с собой удобрения.
Узкая полоска между полем и рекой поросла чертополохом, конским щавелем, крапивой, лопухами. Вьется тропинка, протоптанная рыболовами… Но вот в бурьяне валяются ржавый, с разбитым обухом топор, печная дверца, лезвие лопаты, рваный кирзовый сапог, помятое ведро, сквозь дырявое дно которого проросла трава. Врос в землю белый каменный ребрастый каток, которым когда-то обмолачивали хлеб, перекатывая с помощью лошади по разостланным снопам. Редкие невысокие ивы склонились к воде… Здесь на берегу стоял хутор Шкуропатский: три десятка белых хаток, окруженных садами, и большой панский дом.
Сюда в конце девятнадцатого века переехала с Украины восьмилетняя девочка Пестя Рыбалко, здесь она вышла замуж за переселившегося из Курской губернии Михаила Степанова, и молодожены своими руками построили из глины и камыша такую же, как у всех, беленькую хатку. В этой хатке родились, выросли и были счастливы дети Епистиньи и Михаила, это их колыбель, счастливый мир детства. По этой земле они делали первые шажки. Эти берега в камышах, эту речку, эти сизые дали, курганы, вот это небо с облаками и ласковым солнышком они помнили и любили до конца своих таких коротких дней.
Курган
Неподалеку, у лесополосы, стоит невысокий светлый курган. Поросший седым ковылем, курган возвышается среди черноты вспаханного поля, волны марева качают его. Еще недавно на вершинах курганов среди ковыля стояли многопудовые каменные бабы.
Курган весь уставлен плитами памятников, деревянными и железными крестами, квадратиками крашеных металлических оградок; у подножия вокруг кургана протянулись врытые в землю длинные деревянные столы со скамьями.
Скупые надписи на крестах и памятниках. «Степанов Михаил Николаевич. 1873–1933». И рядом: «Степанова Вера Михайловна. 1922–1938». Муж и дочь Епистиньи. Кстати, годы рождения и Веры, и Михаила Николаевича здесь указаны неверно, да и умерла Вера в 1939 году. К сожалению, в этом нет ничего удивительного; все мы плохо знаем жизнь даже близких нам людей, не очень-то бережем память о них.
Здесь, на кургане, рядом с родными просила похоронить ее и сама Епистинья. Хотелось ей упокоиться навеки рядом с мужем и Верочкой, рядом со всеми хуторянами, с которыми выпало прожить вместе жизнь…
Но Епистинья похоронена в пяти километрах отсюда, от этого седого кургана, в станице Днепровской. Станица — центр колхоза, там находится братская могила воинов, погибших в боях за эту землю с фашистами, где символически захоронены и все ее погибшие мальчики.
В станице Днепровской все торжественно, официально: гранит памятника, голубые ели, дорожки, цветы, церемонные поклоны Матери. А здесь на кургане — тишина, безлюдье, простор, седой ковыль, длинные столы для поминок, житейская простота.
С печального кургана далеко видно окрест. Пытаюсь посмотреть на этот мир взглядом сыновей Епистиньи. Все изменилось — видно и мне.
Ушло то время, ушла та жизнь, печали и радости тех людей.
«Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после…»
Родные и близкие
Кое-что от ушедшего времени осталось. Кричат, говорят о времени, дышат им заголовки и статьи ломких, пожелтевших газет; словно бы пришли из того времени и скромно стоят среди сытых домов беленькие низенькие хатки, которых становится все меньше и меньше, а в хатках есть еще старенькие женщины и кое-где мужчины, сохранившие в слабеющей памяти тепло прошедшей жизни. Есть в хатках старые письма, грамоты, фотографии, немало любопытных свидетельств прошедшего лежит в музеях и архивах. Все это, конечно, крохи со стола, за которым, красиво выражаясь, шло пиршество той жизни.
Особенно привлекают фотографии. Они висят в рамках на стенах, лежат в домашних альбомах, музейных папках, вдруг выпадают из каких-то семейных бумаг, из пакетиков, конвертов: пожелтевшие, на твердом фирменном картоне или простенькие, с затертыми краями. На старых фотографиях нет улыбающихся людей, серьезно, даже строго смотрят на нас и дают себя рассмотреть бородатые или усатые казаки в папахах, черкесках, с кинжалами, сидящие на стуле, рядом с ними стоят казачки, преданно положив руку на плечо мужа; или мастеровые в пиджаках, сапогах, кепках, с цепочкой часов на жилете; или молодые ударники колхоза в бедноватой, но модной по тому времени одежде.
Пытаешься расспросить об этих людях и чувствуешь, как хрупки, скудны, приблизительны сведения даже о матерях и отцах, еще скуднее о дедах и бабках, их друзьях и товарищах, а уж дальше — и совсем туман.
Рождается в душе каждого живущего и согревает его чувство сердечной связи с родными и близкими людьми, которое не выскажешь словами. Но вот родного человека нет, сердечная связь оборвалась, и, к великому собственному изумлению, обнаруживаешь, как мало известно тебе о жизни и судьбе своей же собственной матери или отца, деда и бабки. А что уж говорить о других, просто живущих рядом людях.
Все течет, уходит куда-то во тьму, поглощается временем. Лишь некое загадочное, влекущее марево дрожит-переливается над ушедшими.
А ведь здесь, в степном южном солнечном крае, велся нашим народом, вернее, продолжался многовековой поиск народного счастья, но великие и трагические уроки его еще плохо осмыслены. Жизнь Епистиньи, гибель ее семьи высвечивают и трагические ошибки, и верное направление великого поиска.
Корни в пласте
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки…»
На краю поля прорыта глубокая траншея, куда готовятся уложить трубы для полива. Если встать на ее дно — скроешься с головой, а на дне все чернозем и чернозем. Толстый пласт чернозема на срезе напоминает отрезанный ломоть хлеба, шершавый, добрый, живой.
Крупно, заметно уходят в землю корни деревьев, и даже когда дерево срублено и корни сгнили, все-таки в толще сохранились их следы, уходящие вглубь. Корни же степной травы многочисленны, тонки, перепутаны, легко умирают и прорастают снова. Где уж тут найти корни давно отшумевших трав?
В мощном черном пласте уложены сотни тысяч лет жизни. Какие растения цвели и зеленели, набирались сил от земли и солнца, а затем, перегнив, образовали нижние слои чернозема? Какие звери, птицы, какие люди жили тогда?..
По некоторым теориям, в пласте кубанского чернозема немало частиц почвы, принесенных сильными, устойчивыми ветрами из Средней Азии, где на месте сегодняшних пустынь были когда-то цветущие долины, уничтоженные бездумным, неумелым хозяйствованием, а вернее всего — в тех цветущих долинах произошла какая-то народная трагедия, после которой долины выродились в пустыни… Где-то тут, близко к поверхности, превратились в чернозем травы, по которым ходили Степановы, травы тоже навсегда ушедшего времени.
Самой степной травы, ковыля, теперь не осталось. Степь вся распахана. Чернозем начал истощаться, сильные ветры поднимают его и несут в другие места, в моря, в реки.
В толщу народного пласта уходят корешки рода Степановых. Известны роды, фамилии, пронизывающие своими видимыми корнями толщу многих веков.
Древние роды не могли не родниться друг с другом, не пересекаться на протяжении веков. Выяснено, что в той или иной степени родства оказались великие писатели и известные общественные деятели XIX века. Роднились дворянские и княжеские роды русских, украинцев, белорусов, поляков, татар, грузин, казахов, немцев, французов, англичан и других народов. Еще при Ярославе Мудром русские княжны стали королевами французской, венгерской, норвежской, датской, а сыновья Ярослава — Изяслав, Святослав, Всеволод — были женаты на принцессах из германских, польских земель, из Византии.
Ну а крестьяне?.. Если бы мы знали все родословные крестьянских родов, наверняка оказалось бы, в какой удивительной степени родства находятся многие известные наши современники, находимся все мы. Переезды, расселения, бегство крестьян и раскольников на окраины государства, уход в города, войны, господство на определенных землях то одних, то других народов, захват пленных, долголетнее соседство причудливо перемешали не только роды, но и народы между собой.
Если бы были известны родословные… Но предков мы знаем чаще всего лишь до дедушки и бабушки, а дальше все обрывается, и корни уходят в темную глубь времени, в пласт народа. Древность крестьянского или другого «незнатного» рода, ценности рода на этом, так близко отстоящем поколении переходят сразу в древность народа, ценности, дела и славу его.
Уходят в глубь веков лично твои корни, пронизывают толщу пласта, разветвляются множеством незнаемых родственников. Обнаруживаешь, что всякий народ — это живое существо, имеющее свою душу, характер, здоровье, возраст, родословную, свою судьбу. Потому так тянется сердце к знанию истории — родословной своего народа. В этой родословной — жизнь и дела лично твоих далеких безвестных предков.
Родственники рода Рыбалко, как и потомки рода Степановых, доходят в своих воспоминаниях о предках до времени переселения. На переселении обрывается слабенький, тоненький корешок памяти родов, ведущий в глубь пласта.
Глава 2. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Так переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории…
В. О. Ключевский.
Курс русской истории
Благодарим Императрицу,
Молимося Богу,
Що нам она указала
На Тамань дорогу.
Антон Головатый, войсковой судья
Черноморского казачьего войска
Арба на степной дороге
По весенней степной дороге медленно двигалась громоздкая арба, которую тащила пара волов. На арбе были сложены узлы одежды, чугунки, макитры, сундук, прялка, закопченный котел, прочая домашняя утварь. Рядом с арбой и позади нее шли усталые, почерневшие от солнца взрослые и дети, чуть в сторонке бежала, высунув язык, собака.
Казак верхом на коне, купец в бричке, чабан у отары, мужики и бабы в селах и станицах застывали и смотрели на арбу долгим взглядом. Большая семья на дороге — не будничная сценка, тревожно и доверчиво обнажена сокровенная суть народной жизни, обычно глубоко скрытая.
Внимательный взгляд определял хозяина, хозяйку и девять их детей, выделял старшего, взрослого сына, младшую, маленькую дочку. Если смотрел добрый человек, сжималось его сердце от жалости, от сочувствия: ведь не кочевники едут, не цыгане, а большая крестьянская семья, не привыкшая и не приспособленная к долгим путешествиям, оторвалась от дома, от родного села и ищет новое пристанище. Это большое испытание судьбы, перед которой семья сейчас совсем беззащитна: болезни, несчастья, беды так и кружат над ней. Куда они едут, что сдвинуло их с места: голод, пожар, нужда? Найдут ли свое счастье, устроятся ли? Как-то сложится их жизнь?.. Равнодушный человек вяло думал: «Хохлы переселяются на Кубань».
Всякому встречному приходили мысли, уводившие далеко-далеко: ведь жизнь каждого, если смотреть разом, от рождения до кончины, жизнь большой семьи, если смотреть на протяжении десятилетий, полны случайностей, неожиданных несчастий, крахов и везений. Мало устойчивых, ровных лет. Потери, переезды, болезни, разлуки, крушения надежд постоянно напоминают о непрочности нашего существования. Как все-таки хрупка, коротка жизнь!
Оглянешь повнимательней всю свою или чью-то жизнь от начала до конца и поразишься множеству вроде бы мелких случайностей, круто менявших судьбу. При широком взгляде внятнее ощущаешь трепет жизни, слышишь дыхание судьбы. Картина жизни большой семьи еще больше усиливает это чувство. А жизнь народа и народов на протяжении столетий, с их взлетами и падениями, процветанием и полным исчезновением заставляет думать, в чьих же руках все это находится, кому и зачем это нужно?
Люди с тонким, тревожным ощущением жизни внимательны даже к мелким происшествиям, снам, случайным встречам, видя в них знаки судьбы, тянутся ко всяким гаданиям и предсказаниям, а большие события считают неизбежными: «Так на роду написано…» Есть люди, семьи, целые народы и государства — осторожные, осмотрительные в своих действиях, есть бесшабашные. А все же: «От судьбы не уйдешь».
Семья Рыбалко
Федор и Феодора Рыбалко и девять их детей снялись из села где-то под Мариуполем сразу, всей семьей и поехали неопределенно, без конкретного адреса, вообще на Кубань. Двинулись весной. Тепло, подсохли дороги. По теплу можно не только найти на огромной Кубани подходящее место, но и устроить до холодов кое-какое жилище, и, Бог даст, что-нибудь вырастить на зиму.
Что подтолкнуло к переселению семью Рыбалко: засуха и плохой урожай последнего года, переполненность ли села, семейный ли раздел, после которого мало досталось земли Федору и Феодоре? Наверное, накопилось всего понемногу.
А наугад, без разведки поехали потому, что Кубань не так уж и далеко от южной Украины, от Мариуполя: надо лишь, держась берега Азовского моря, обогнуть его Таганрогский залив, переправиться через Дон, пройти область Войска Донского, и вот она, Кубань, вот они, желанные земли Кубанского казачьего войска.
Но для ленивых волов эти четыреста — пятьсот верст по степи — путь неблизкий, не на одну неделю. Медленно поплыла громоздкая арба по степным дорогам, через хутора, станицы, рыбацкие поселки, сопровождаемая стайкой детей и взрослых, верной собакой.
Южнорусские и южноукраинские степи сто лет назад еще сохраняли свое очарование. Конечно, это уже не были роскошные гоголевские степи времен Тараса Бульбы, заставившие писателя воскликнуть: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..», когда «вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов» и в высокой траве едва лишь виднелась шапка казака, сидевшего на коне… Степи были уже чеховские: в эти же годы ехал по тем же степям поступать в гимназию Егорушка вместе с дядей и священником Христофором, а точнее — ехал молодой Антон Павлович Чехов. Широченная пыльная дорога, по которой, казалось, ездят сказочные богатыри и великаны, тянулась мимо хуторов, мельниц-ветряков, курганов, полей пшеницы, отар овец, панских экономий, встречались на дороге длинные чумацкие обозы, одиночные брички, арбы.
Степь обживалась. Ушла в прошлое ее дикая красота с травами в рост человека, стадами коз, кабанов, несметными стаями гусей, дроф, уток. Но далеко ей было еще до сегодняшнего сплошного распаханного поля, геометрически расчерченного лесополосами и асфальтированными дорогами.
Федор, сильный, плечистый мужик, шагал рядом с волами, подбадривая их длинной лоснящейся хворостиной, светлая его сорочка со скромной цветной вышивкой пропиталась потом. Как и все остальные, он шел босиком: тепло, дорога ровная, зачем же без толку бить об нее черевики. Густые темные усы на загорелом, небритом лице скрывали плотно сжатые губы, из-под соломенной крестьянской шляпы, бриля, — густой, тяжелый от заботы и огромного затаенного волнения взгляд темно-коричневых глаз. Ну а в общем — обычный крестьянин, хохол, мужик в самой поре, обремененный большой семьей, которая надежно и уверенно чувствует себя за его спиной. Семья-то более-менее спокойна, но каково ему? Оторвать огромное семейство с насиженного места, бросить родину и двинуть в другие края — не шутка для серьезного мужика. Все в нем напряжено, сложные мысли и чувства ни днем, ни ночью не давали покоя.
Но — сильно тянуло в казачий край, тесно было в родном селе.
Вольный казак — вот что давно трогало и прельщало душу, особенно мужчин. А издалека, из русского или украинского села, уставшего от безземелья, поборов, бесправия, такая жизнь виделась особенно привлекательной.
За спиной Федора, своего чоловика, держалась Феодора, жинка, стара, маты большого семейства. В светлой кофточке, сборчатой юбке, белом платочке, она, невысокая, худенькая, — хлопотлива, немножко всполошенна, но надежно смотрит за детьми, ведет дорожное хозяйство, надежна в непростом предприятии.
С другой стороны арбы, тоже подгоняя волов хворостиной, шел Данила, старший сын, лет двадцати, сильный парень, одетый так же, как и отец, но поаккуратней — парубок, жених… Ну а за арбой и около нее — остальные диты, одетые кто как в простенькую одежку: Федоска, Ганна, Макрина, как назвал ее поп, но в семье звали Мариной, Иван, Арина, Одарка, Свиридон и младшая — восьмилетняя Пестя, невысокая, тоненькая, подвижная девочка, к которой невозможно было приложить ее полное имя Епистинья, оно совсем ей не шло, как старушечья одежда ребенку.
Бодро задрав хвост и вывалив язык, бежал Шарик, верно сопровождавший хозяев, гонялся за птицами у дороги, яростно перебрехивался со встречными псами в хуторах и станицах.
Весеннее солнце и степной ветер быстро до черноты сожгли лица, руки, босые ноги. Наладился кочевой быт: на ночевку вставали около рыбацкой избушки на берегу залива, рядом с чабанами, пасущими овец, а чаще просто в степи у дороги, у речки. Разводили костер, Феодора варила кулеш, отпускали попастись стреноженных волов. Море под луной, звезды, ночная душистая степь, утренняя свежесть, восход солнца с птичьим гомоном — все переполняло душу сильными чувствами и было бы ошеломляюще радостно, если бы не тревоги и сомнения.
Арба обогнула свежо сиявший под солнцем Таганрогский залив, переправилась через Дон и другие степные реки, текущие к морю, и, наконец, вышла на широкий шлях, ведущий в глубину кубанских степей. Обожженные солнцем лица теперь оживились: пошли земли, хутора и станицы, где, Бог даст, и им найдется доброе место. Хороша весенняя степь, но и дети, и взрослые устали от бесконечных дорог, от мытарств, от ночевок под небом.
Федор уже начал осторожно присматривать место, расспрашивать казаков и крестьян в станицах о жизни, работе, о земле. Ничего утешительного пока он не услышал, посылали в глубь Кубани: «Кажуть, там земля е». Арба двигалась дальше.
Ночью страстно били в траве перепела. Рано утром с криком носились над арбой чибисы и степные чайки, звенели высоко в небе жаворонки. В жаркий полдень неподвижно висели, распластав крылья, что-то высматривали в траве ястребы. Вдруг вихрь закручивался на широкой дороге, живой столб поднимал вверх пыль, солому, сухую траву, шары перекатиполя, несся на стоявшую у степного ручья арбу, обдавал пылью. «Свят, свят!» — испуганно крестилась Феодора… Зацвели в лугах травы, еще не выжженные летним зноем; заросли дикого терна, в которых водились лисы и волки, покрылись пышной нежно-белой шалью, из кустов доносилось щелканье соловьев.
Весенняя степь ярка, полна уверенных сил и надежд, а задумчивые курганы с каменными истуканами на вершинах мудро и доброжелательно смотрели на неторопливую арбу. Степь, курганы, широкий шлях и волы с арбой хорошо подходили друг к другу, рисуя скупые черты края, уводя воображение куда-то в давнюю, даже древнюю пору.
Великое переселение
Как и арба, медленно, тягуче двигалось время, позволяя нам спокойно оглядеться, разобраться в происходящем и увидеть в арбе частицу «тектонических» процессов в человеческой мантии Земли — мощных народных передвижений, великих переселений, коренных перемен в толще народного пласта.
Когда-то давние-давние предки, славяне, вот так же, на быках и конях потихоньку продвигались от Дуная к Карпатам, Днепру, а затем хлынули дальше на север, восток, юг по Русской равнине, постепенно обживая новые и новые пространства. Заполнив Русскую равнину, легко перевалили через невысокие Уральские горы и стали расселяться по Сибири до самого Тихого океана, не остановились и тут, перемахнули на американский континент, на Аляску. Словно бы накопившаяся за Днепром народная лава растекалась по трем континентам.
Какой же мощной духовной силой, жизнестойкостью, миролюбием должна быть наполнена каждая частичка этой лавы, каждый человек, если на местах расселения не возникало жестоких войн с местными племенами, осваивались земли, строились села, монастыри, города, храмы.
Это накопление сил и растекание по трем континентам довольно загадочно, если смотреть общим взглядом, но вблизи видны реальные причины, которые подталкивали людей к движению: крестьяне убегали от властей, князей, помещиков, искали лучшие земли, уходили от врагов; по необжитым местам ходили артели охотников и рыболовов, основывая там поселения; к местным племенам ездили купцы, торговцы; ехали на глухие лесные или степные окраины или в Сибирь, спасаясь от преследования и притеснения, общины старообрядцев, сектантов; уходили в глушь все ищущие покоя от мирских соблазнов, основывали скиты, монастыри; возникали по окраинам государства поселения «вольных людей», казаков. Государство подталкивало крестьян к переселению не только притеснением и поборами, но и обещанием лучшей жизни в новых своих землях, целые села снимались с родных мест на Украине и в Европейской России, грузились на арбы и телеги и иногда годами двигались в Сибирь или на Дальний Восток.
Главным двигателем переселения и расселения был поиск земли и воли. Воля и надежный кусок хлеба были и остаются постоянной мечтой народа. Много сил отдано, много крови пролито, но мечта так и остается мечтой. Вольные люди у нас доверчивы и беспечны. Вскоре оказывалось, что кто-то хотел быть еще более «вольным» и богатым за счет них. Тихо подкрадывались обязанности, порядки, установления, якобы во имя государства — для защиты этой самой воли и земли, и вот уже вольные люди связаны, опутаны и ничем не отличаются от других, не вольных. Вновь и вновь сталкиваются в противоборстве народ и государство, а точнее — народное простодушие с алчностью захвативших власть (или рвущихся к власти). Мечта о земном рае веками манит народ, уже бывает близко — протяни руку, и вот он, рай, но вдруг все срывается. Судьба ли нас не жалует или что?..
Шли годы, десятилетия, века, сменялись поколения и властители, но так и не найдена была в России, не установилась твердо золотая середина, когда бы необходимые порядки и правила не подавляли у народа волю, не отнимали землю… Терпел, терпел это мужик, а затем запрягал коня или быков — и в путь, на поиски. Земля, слава Богу, тогда еще казалась бескрайней.
«Одно слово — казак!..»
Арба с семьей двигалась по степи, которую в древности населяли южные соседи славян — кочевники: скифы, сарматы, половцы, аланы. Это их рукотворные курганы, насыпанные над погибшими вождями, встречаются по пути. В курганах вместе с уснувшим навсегда вождем, знатным скифом, погребались и его живые жены, наложницы, слуги, кони, оружие, посуда. Дивные украшения, золотые фигурки, оружие и сейчас еще находят в курганах экспедиции; искатели кладов и сегодня тайком копают их… Какая странная судьба у целых народов: вот ведь жили, возникли откуда-то могущественные скифы, наводившие страх на соседей, и вдруг исчезли, совсем исчезли с земли, оставив только могильные курганы. В чем трагедия этих народов?..
Но наши переселенцы не думали о скифах и вряд ли вообще слышали о них, они знали, что едут к казакам.
Ровно за сто лет до семьи Рыбалко в конце восемнадцатого века тем же путем, из-за Буга, обогнув Азовское море и его Таганрогский залив, пришли в эти пустовавшие тогда земли бывшие запорожские казаки, гнездо которых, Запорожскую Сечь, разорила Екатерина Вторая. Многотысячное колоритное казацкое войско с семьями, оружием, скотом, на арбах и повозках, запряженных быками и конями, верхом, с шумом, громом, песнями пропылило через места, где стояло село с предками Рыбалко, закрутило могучий народный водоворот, куда сто лет спустя втянуло и нашу арбу с семьей.
Примерно в это же время, может, двумя-тремя годами пораньше семьи Рыбалко, двинулась из села Снитского Курской губернии семья русских крестьян-переселенцев Степановых.
Чем же так сладок был для крестьян казачий край?
Вот как, например, уговаривает один молодой воронежский мужик другого идти к казакам на заработки в романе Александра Эртеля «Гарденины», написанном именно в те годы, когда переселялись Рыбалко и Степановы:
«Из нашей деревни трое идут, из Прокуровки — двое, один боровский обещался… Коли ты соберешься, вот нас и артель, елова голова. Эй, собирайся, Андронка. Места — рай, умирать не захочешь… Вот пойдем — все Русь, все Русь… А там хохлы попрут, что ни яр — слобода, что ни левада — хутор. Сплошной хохол до самого Коротояка. Завалимся, Господи благослови, за хохлов, казак пойдет, эдакие села, станицами прозываются… а там уж гуляй до синего моря: все степь, да ковыль-трава шатается, да камыш шумит на Дону-реке… Ну а как ввалимся в казаки, сейчас я вас на место ставлю… И вот какие дела, братец мой: придет суббота — подставляй подол — прямо тебе казак пригоршнями серебра насыплет… И-их, сторонушка разлюбезная… Харчи ли взять… Понимаешь ли, Веденеич, ржаного хлеба звания не слыхать. Все пирог, все пирог… каша с салом, а ежели масло в сухие дни, так невпроворот масла нальют, окромя того — ветчина, водкой поят которые… Одно слово — казак, в рот ему дышло!..»
Манят Кубань, Дон сытым хлебом, сладкой волей. А все же верно: хорошо там, где нас нет.
Воля-то волей, но казаки смотрят хмуро, говорят жестко и скупо: земли нет. Не ждут здесь семью Рыбалко. Не видно было, чтоб тут жили вольные, счастливые люди, обдавало жаром неприязни. Федор уже знает: на ночлег остановиться в поле, воды набрать в колодце — и то непросто. А не дай Бог, быков ночью упустишь на чужое пастбище — загонят, и следов не найдешь. Земля — казачья, у казаков свои беды и заботы, и он с семьей здесь чужой — вот что сразу почувствовал Федор, и тяжелые думы, не отпуская, иссушали душу. Ночами совсем не спалось. Слушал степные звуки, смотрел на звезды, караулил быков, не доверяя сыновьям.
Запорожские казаки
«Одно слово — казак…» Слово это действительно трогало и трогает заветные, глубокие струны сердца. Мощно и радостно тянется душа к простору, небу, морю, степи, к удалой песне, великой правде, вселенской любви к этому миру и всем людям. «Не разговаривайте. Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля…» — говорит Федя в «Живом трупе» Толстого, слушая цыганскую песню.
Удивительное это чувство живет в нашем сердце, заваленное, задавленное бытом, условностями, обязанностями, и вспыхивает вдруг от песни, от искреннего разговора, на природе, в застолье, и, вспыхнув, способно перевернуть всю жизнь. И тогда легко отбросить все надоевшее, будничное, скучное, бросить накопленные богатства, немилые дела и неудержимо кинуться к свежести воли. Родные, сладкие мечты: кочевать с цыганами, плавать по морям и океанам, бродить по неизведанным местам в лесах и горах. Тяга к воле, простору — мощный двигатель переселения и расселения нашего народа на трех континентах…
Но не одним лишь простором, не одной лишь свободой от немилых дел и притеснителей манит воля. Нельзя быть вольным одному человеку. Вольными могут быть только люди. Весь дух и образ их жизни, мировоззрение, общественное устройство основаны на любви, совести, вере в Бога. Вольный человек лишь тогда волен и счастлив, когда вольны и счастливы все рядом живущие. Без знания и понимания этого многое в нашей истории и общественной жизни будет странно и непонятно. Зная же, чувствуя всей душой данные Богом нашему народу, живущие в самом сердце его законы воли, нам легче понять рождение восстаний и революций, страдания и уход Толстого, прозрения Достоевского, нам легче понять желания и действия декабристов — тысяч богатых и знатных господ, желавших отдать свои богатства, знания простым людям, готовых жертвовать во имя этого и высоким положением в обществе, и даже жизнью.
Когда Толстой в последние его дни ушел, «рванул» из дома, душа его потянулась к степному, казачьему краю, он поехал на юг, в сторону Кавказа, к воле казаков.
Казачество — пример смелого практического поиска народом лучшей жизни, поиск не единоличный, эгоистический, а именно народный, общий.
Казаками половцы в XI веке называли свою передовую стражу. В переводе с тюркского казак — удалец, молодец. Русские позже стали называть казаками удальцов, уходивших далеко на юг, в Дикое поле ловить рыбу, охотиться, нападать на поселения кочевников, оставшихся на исторической дороге из Азии в Европу. Могущество кочевников, которые разоряли, грабили, облагали данью Древнюю Русь, уходило в прошлое. После сокрушительного поражения на Куликовом поле они еще делали жестокие набеги на южнорусские города и села, но их уже обессиливали собственные распри, самих теперь постоянно «щипали» казаки, уводили табуны лошадей, скот, отбивали своих пленных.
Первое известное в истории упоминание о наших казаках относится к рязанским казакам, которые в XV веке отправлялись за добычей к Дону и позже составили основу донского казачества. Много хлопот приносили вольные казаки своему же государству, а точнее, богатым воеводам, боярам, дворянам, но и надежно, отважно защищали Отечество. Наполеон сказал о них красивую фразу: «Дайте мне одних лишь казаков — и я покорю всю Европу».
К началу XX века было уже одиннадцать казачьих войск — Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское…
Украина в XV–XVI веках оказалась в тяжелейшем положении. Отколотая от остальной России нашествиями татаро-монголов, она была включена в состав польско-литовского государства. На земли Украины к тому же покушались татары и турки, молдавский господарь.
Польские землевладельцы, переваривая огромный сладкий кусок, устанавливали на землях Украины крепостное право, уже определившееся в Польше, изматывали поборами, насаждали католицизм. Местные дворяне перенимали польские порядки… Украинские крестьяне восставали или сбегали, иногда целыми селениями и хуторами, в незаселенные южные степи.
Крестьяне были той благодатной вольнолюбивой средой, которая и породила боевых казаков. За порогами Днепра, на одном из островов возникла Запорожская Сечь, идейный и военный центр украинского казачества. Здесь обосновались несколько тысяч казаков. На Сечи сосредоточилась отважная боевая сила, умно организованная, хорошо вооруженная: казаки отлично бились на суше и на воде, проникали на лодках в Крым и Турцию, по суткам затаивались в речных плавнях, штурмовали города, с гиканьем, свистом неудержимо атаковали в поле превосходящего по силам противника. Они дорожили каждым своим человеком, выручали, отбивали попадавших в плен или выкупали их.
Место расположения Сечи менялось, на нее нападали разъяренные казачьими набегами турки и татары, пытались приручить польские паны, но она никому не покорялась, жила по своим законам. Колоритная жизнь, быт, весь дух Запорожской Сечи не поддается какому-либо короткому определению, как и жизнь любого другого казачьего войска. Запорожцы — яркое порождение украинского народа.
Славная история у запорожцев, огромны их заслуги перед родной Украиной. Пришел и их звездный час, когда они во главе с Богданом Хмельницким сражались за освобождение своего народа, всей Украины, а затем, собравшись на Переяславскую раду, решили соединиться с Россией.
После воссоединения правительство царской России увидело, что нужда в запорожцах как защитниках от набегов турок и татар уменьшилась и, наоборот, — все более увеличивалось влияние Запорожья как рассадника вольности в государстве. Сюда все дружней сбегали от насаждавшегося крепостного права крестьяне и всякий другой «сомнительный» люд. Россия становилась самодержавным государством с профессиональной армией, полицией, бюрократией, правящим дворянским сословием. Народу в нем отводилась роль молчаливых рабов, хотя это совсем не подходило великому народу, было ему чуждо и враждебно.
Начали вспыхивать восстания. И наиболее сильную поддержку они получали в казачьих краях, там часто и зарождались.
Запорожцы поддержали восстание Емельяна Пугачева и яицких казаков. Расправившись с Пугачевым, Екатерина Вторая решила и участь Запорожской Сечи. В указе от 29 июля 1775 года говорится, что Запорожский Кош «по самодержавной власти за учиненные им буйства, грабежи и, наконец, за неповиновение уничтожен».
Знамена и другие казацкие святыни были захвачены русскими регулярными войсками под командованием генерала Теккелия, укрепления Сечи уничтожены. Половина запорожских казаков уплыла в Турцию и образовала там Задунайскую Сечь, другая половина рассеялась по окрестным губерниям.
Пестя
Маленькая восьмилетняя Пестя шла, как и все, рядом со скрипучей арбой.
Степь здесь хоть и похожа на родные места, но огромные курганы, заросли терна, широченные дороги, редкие хутора и станицы придавали ей вид диковатый, суровый, размашистый.
И все же, как дома, ласково, жарко светило солнышко, такие же травы: ковыль, будяк, молочай, конский щавель, чернобыль, репейник росли в степи у дороги. Нет, не так уж далеко от родного села уезжают они, тревожно лишь, что насовсем.
Девочка рвала цветы, плела венок, пела песенки, теребила сестер и мать, расспрашивая о цветах, курганах, птицах, казаках, встречавшихся на пути. Ее детский беззаботный смех, наивные вопросы разбивали тягучую сосредоточенность и озабоченность старших, оживляли их веру в то, что все устроится, все будет хорошо… Но и девочка уставала, садилась в уголок на арбе и грустно смотрела назад, где осталось село, пруды, левады, ракиты, где остались подружки, перед которыми она еще недавно гордилась, что вот едет к казакам и там у ее тату и мати будет много земли, большая хата, сад и всего вдоволь.
Когда темнело и дети укладывались спать на разостланной одежде, Пестя смотрела на огромное звездное небо, опрокинувшееся над степью. Сердечко ее замирало: звезды, весь серебристо-голубой купол, будто отрывали ее от матери-отца, от земли и втягивали в свои бесконечные пространства. Душу охватывала невыразимая радость, смешанная с детским страхом, будто она, маленькая и смешная, вторгалась во царственные владения Всевышнего. Пестя торопливо переводила взгляд на догоравшие угли костра, на отца и брата Данилу у огня, на неутомимо хлопотавшую мать, на Шарика.
Кричали птицы в степи, посапывали пасшиеся неподалеку быки. Пестя думала о казаках, которые представлялись ей какими-то особыми людьми, непохожими на тех, что встречались на пути, о новой хате, где они скоро будут жить, и вздыхала от необъяснимой тревоги, которая владела ею и всеми остальными.
Кто-то сильный решительными движениями уже лепил особую судьбу девочки. Много раз Епистинья говорила: «Такое корявое имя поп дал… Наверно, привезли меня крестить в полотняной простыне. Если бы в шелковой — и назвал бы покрасивей». Но грубая домотканая простынка, серьезное имя уже были первыми знаками ее народной судьбы.
Семья Степановых
Семья русских крестьян Степановых: Николай и Акулина с детьми — Михаилом, Пантелеем, Еленой и Фадеем, — переселялась в эти же годы из села Снитского Курской губернии более обдуманно. Село далеко от Кубани, и очертя голову, наугад бросаться туда было опасно. Николай сходил к казакам на заработки, осмотрелся там, а уж затем семья собралась переехать. Перебирались без особых приключений, как именно — потомки не помнят. Николай был мастер на все руки и с помощью сапожных, плотницких и кузнечных инструментов, захваченных с собой, рассчитывал неплохо прокормить себя и семью в казачьем крае.
Поселились сначала в станице Ольгинской. Но казачьи общины в станицах землю приезжим не давали, а жить лишь ремеслом оказалось непросто: в станицы наехало много иногородних ремесленников. Поэтому вскоре перебрались на хутор Шкуропатский, где генерал сдавал землю в аренду.
«Слава Богу и Царицi!..»
Правительство Екатерины Второй вскоре поняло, что, уничтожив Запорожскую Сечь, совершило большую ошибку — разогнало отважную крупную военную силу. Тут снова началась война с Турцией. А кто лучше запорожских казаков знал места боевых действий и особенности турецкого войска?!
Князь Потемкин, возглавлявший турецкую кампанию 1787–1791 годов, вновь стал собирать рассеянных по губерниям казаков. Из них было образовано Черноморское войско.
Казаки понимали, что теперь от них самих зависит, быть им снова или не быть, и они дрались с турками дерзко, хитро и умело, их похвалил сам Суворов и одобрил Потемкин. «Казаки — глаза и уши нашей армии», — говорил Суворов.
Война с Турцией опять закончилась победой. За боевые заслуги Потемкин определил на жительство казакам нового Черноморского войска земли между Бугом и Днестром. Сюда потянулись казаки с семьями, начали обустраиваться, но на эти земли претендовали крупные вельможи, да и находились земли на бойком месте, что не устраивало ни казаков, ни правительство, которое боялось иметь рассадник вольности на виду народа да еще рядом с Задунайской Сечью на турецкой территории. Неизвестно, к чему может привести соседство двух частей рассеченной Сечи.
Ко всем несчастьям, которые постоянно преследовали запорожцев, вскоре умер их покровитель «пан Грицько» — князь Григорий Потемкин, и они оказались бесправными на новых землях.
Но тут судьба наконец смилостивилась и улыбнулась казакам. Россия еще в 1774 году заключила с Турцией очень выгодный для себя Кючук-Кайнарджийский мирный договор. В новой войне Турция попыталась вернуть отданные по договору земли, но опять проиграла… Южной границей российских земель на Северном Кавказе стала считаться река Кубань, протекавшая в дикой степи. Сотни верст новой границы надо было как-то охранять. Держать тут регулярные войска дорого.
Тогда вспомнили в Петербурге, что лучшая защита степных границ — «живая изгородь», казаки. Так желания казаков и Екатерины Второй совпали. Были в столице и влиятельные противники, которые предлагали другие пути колонизации богатого дикого края, чтоб урвать себе черноземной земли.
Войсковой судья Антон Головатый, второй по должности и первый по влиянию казак в Черноморском войске, хитрый, ловкий, упорный, отправился в Петербург к Екатерине с казачьей депутацией и обозом, нагруженным подарками и червонцами.
Много трудов положил хитрый казак Головатый в Петербурге: кого убеждал, кого подкупал, где, надев колоритные казачьи одежды, пел и играл на бандуре, растопляя черствые сердца чиновников и вельмож. Где хитростью, где лестью, где деньгами добился желаемых земель.
Екатерина подписала «жалованную грамоту», слова которой музыкой звучали для казаков:
«Высочайшая грамота, жалованная Черноморскому казачьему Войску 30-го июня 1792 года.
…Войску Черноморскому предлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских.
…Всемилостивейше жалуем Войску Черноморскому знамя войсковое и литавры, подтверждая также употребление и тех знамен, булавы, перначей и войсковой печати, которыя оному от покойнаго генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврическаго, по воле Нашей, доставлены.
…Мы надеемся, что Войско Черноморское, соответствуя Монаршему Нашему о нем попечению, потщится не только бдительным охранением границ соблюсти имя храбрых воинов, но и всемерно употребить старание заслуживать звание добрых и полезных граждан внутренним благоустройством и распространением семейственного жития».
Хотя полного самоуправления, желанной воли казакам не дали, а подчинили Черноморское войско таврическому губернатору, все же казалось — губернатор далеко, где ему усмотреть за казаками в степях.
Головатый с депутацией и облегченным обозом, радостный, с победой, спешил к своему войску. По пути он сочинил восторженное стихотворение:
Ой годi нам журитися, Пора перестати. Дождалися от Царицi За службу заплати. Дала хлiб, сiль и грамоти За вiрнiя служби, От теперь мы, милi братья, Забудим всi нужди. В Таманi жить, вiрно служить, Гряницю держати, Рибу ловить, горiлку пить Ще й будем богатi. Да вже треба й женитися, И хлiба робити, Хто прiйде к нам из неверных, То, як врага, бити. Слава Богу и Царицi…и так далее.
А оставшиеся в войске атаманы уже поднимали казаков из-за Буга на новое переселение. Непросто было подняться. Ведь лишь недавно приехали сюда, только-только начали обживаться: построили хаты, распахали землю, завели скот, и вот снова надо бросать все и ехать обживать неблизкий, дикий край.
Агитаторы за переселение втолковывали колеблющимся, какие благодатные места ожидают их! В Черном и Азовском морях, лиманах, степных речках водится пропасть красной и белой рыбы, а в степях кишат птицы и звери. Зимы мягкие, жилье можно строить из камыша, которым поросли плавни и берега речек, густые травы позволяют круглый год держать скот на подножном корму. А почва! Чернозем: воткни оглоблю — вырастет тарантас.
Торжественно отпраздновав получение земель на Кубани, казаки собрались в путь. Казачий флот с артиллерией и морскими командами отплыл по Бугу и Черному морю, и вскоре 51 лодка с четырьмя тысячами казаков пристала к берегам Таманского полуострова, а основное многотысячное Черноморское войско с оружием, имуществом, своими священниками, знаменами, продовольствием, стадами скота двинулось на подаренные царицей земли посуху в начале осени. Огромная масса людей, повозок, коней, скота запылила по степным дорогам, пересекла три южные губернии и земли Войска Донского, переправилась через Буг, Днепр, Дон и множество мелких речек, обогнула Азовское море и через два месяца подошла к границе своих земель у реки Еи. Здесь пришлось зазимовать в старой брошенной крепости. Ранней весной продолжили путь по роскошной гоголевской дикой степи и осели уже окончательно. Прибыли к месту своей последней трагедии. Вскоре подошел и обоз с семьями.
Всего в первые два года переселилось около 13 тысяч казаков.
На огромный кусище степи этого оказалось очень мало, ведь надо было охранять границу, вести хозяйство да еще выставлять требуемое количество казаков для войн в других частях государства.
С разрешения правительства в течение следующих пятидесяти лет было осуществлено три массовых переселения крестьян из внутренних губерний Украины и России на Кубань, общим числом свыше ста тысяч человек. Переселившихся без особых проволочек записывали в казаки. Кроме того, казаки сами ездили по ближайшим губерниям, переманивали крестьян, прельщая их богатством своего края.
Передвижение колоритного, шумного казачьего войска по дорогам южной Украины и России, а затем на протяжении полувека еще ста тысяч крестьян на Кубань произвело сильное впечатление на жителей сел, хуторов, городков, через которые они проходили, настолько сильное, что образовавшийся водоворот, усиленный легендами о вольной и сытой жизни казаков, долго втягивал в себя и уносил на Кубань новых и новых беглецов и переселенцев, и вот, уже век спустя, увлек и семью Рыбалко.
Беда
Старшие оживлялись, если впереди показывалась станица, а еще лучше — хутор. Может, это и есть то место, где они останутся насовсем, осядут, получат землю, начнут строить свою хату, ведь уже зеленели, поднимались хлеба на полях, бродили в степи стада коров, отары овец, табуны лошадей, бабы копались в огородах, сажали овощи, крутились большущие крылья ветряных мельниц.
В станицах на переселенцев смотрели равнодушно, а то и косо. Прошли времена, когда принимали всех желающих, даже заманивали сюда, наделяя казачьими правами и землей, теперь землю крепко прибрали к рукам. Огромные наделы лучших земель получили начальники — казачья старшина: генералы, офицеры, просто хваткие и наглые разбогатевшие казаки, и станичные общины из своих оставшихся земель не хотели отдавать пришлым ни пяди. Ремесленникам отводили землю лишь для постройки хаты, и не больше… Другое дело — хутора. Богатые паны, сидевшие на своей земле, охотно сдавали ее в аренду переселенцам, иногородним.
Они узнали, что самые богатые паны держали огромные наделы в глубине края, по берегам рек Кубани, Бейсуга, Кирпилей и нуждались в людях. К этим хуторам и заторопились.
Тогдашние степные дороги казались бесконечными, особенно если ехать на волах. Припорошенные теплой пылью, по-богатырски широченные, размашисто уходившие между курганами за горизонт, они хоть и скучны, но были по-своему привлекательны, звали куда-то, особенно весной, когда степь цвела, когда светило еще незнойное утреннее или же помягчевшее вечернее солнышко. Но когда шел дождь, густая пыль и весь открытый чернозем дороги сразу же раскисал, густел и прилипал к ногам людей и быков, к колесам повозок пудовыми комьями. Степные дороги становились истинным мучением, проклятием. Полегче было на травянистой обочине, поэтому в дождь чумацкие обозы, казачьи повозки шли обочиной, разбивая, превращая и ее в дорогу, расширяя шлях до богатырских размеров. Вот и казалось, что по нему ездят в степи богатырские тройки.
Особенно опасными для проезда становились в распутицу гребли — плотины, которые служили мостами через степные речки. Сооруженные из глины, перемешанной с соломой и навозом, гребли постоянно размывались, разбивались и нуждались в ремонте: по ним то и дело проезжали тяжелогруженые арбы, повозки, проходили многочисленные стада, в половодье размывала греблю шустрая речка. В дождь на лоснившуюся, скользкую, разбитую греблю даже смотреть было страшно, а не то что ехать по ней на неуклюжей арбе.
Их застал в пути весенний ливень. Дорога быстро превратилась в черное вязкое месиво, в колдобины натекла вода, к ногам и колесам налипли комья чернозема. Но впереди уже виднелись белые хатки нескольких хуторов, уютно пристроившихся по берегам Кирпилей. На эти хутора указали им недавно, объяснив, что тут можно получить землю в аренду. Хутора были — Волков, Ольховский, Куликовский, Шкуропатский.
Захотелось побыстрее приткнуться к месту, устроиться после тягостной неопределенности, вот и забыл Федор об осторожности, крестьянской осмотрительности. На разбитой колесами и скотом, скользкой от дождя гребле через Кирпили арба застряла в глубокой колдобине с водой. Как ни понукали быков хворостинами, арба ни с места.
Тогда Федор сам впрягся в ярмо вместе с быками, всей семьей облепили арбу, крикнули на быков, хлестнули их по хребтам. Медленно, медленно поползла арба, срываясь, из выбоины. Ну, еще! Еще!.. С криками, понуканиями, с дрожащими от натуги руками и ногами, скользя по грязи, рванули ее, и арба нехотя выбралась на ровное место. Но что это?
Отец впереди упал на колени, склонился к земле. Мать бросилась к нему, подбежали остальные. Федор, сразу осунувшийся и побледневший, виновато улыбнулся:
«Что-то вроде оборвалось внутри…»
Его виноватая улыбка испугала Пестю больше всего. Улыбка была несвойственна отцу и так неуместна сейчас, от нее повеяло чем-то страшным.
Суетливо и заботливо отца устроили на арбу. И вот отец, всегда такой сильный и надежный, беспомощно лежит на возу и смотрит в небо, с которого моросит дождик из уходящей тучи. То ли капли дождя, то ли слезы боли и горя катятся по его лицу.
Приехали на хутор Шкуропатский. С разрешения пана Шкуропатского, владельца хутора, выкопали землянку, устроили над ней из камыша крышу.
Через несколько дней Федор умер.
Глава 3. ОДНА
Когда была маленька,
Качала меня маменька.
Она качала, величала:
«Спи, моя желанненька».
Частушка
Ой, чужино, чужино,
Чом у тобi так студено?
Та нi вiтрiв, нi морозiв —
Повнi очi моi сльозiв.
В iнших краях солнце грiе,
У чужинi — вiтер вie…
Украинская народная песня
Крушение надежд
Переселяясь, большая семья Рыбалко, конечно, собралась с духом, приготовилась и к сложностям, лишениям в незнакомом крае, рассчитывая одолеть все испытанным крестьянским оружием: трудом и терпением. Но такого удара судьбы семья не ожидала, она оказалась к нему не готова.
В те несколько дней, которые еще прожил Федор Рыбалко, Феодора и старшие дети советовались с ним, как быть дальше.
Федор наказывал:
— Расходитесь по хуторам, идите внаймы…
Но тогда семья должна рассыпаться, перестать существовать как семья.
Отец был главной опорой, все держалось на нем. Если бы все пошло по-задуманному, Федор взял бы в аренду землю у генерала Шкуропатского, через год построил бы хату — новое гнездо семьи, из которого подраставшие дети вылетали бы в жизнь, обзаводились своими семьями и хатами при поддержке отца и матери. Непросто было бы Федору и Феодоре поставить на ноги девять детей, но дети-то не нахлебники, а толковые, работящие парни и девчата. Первым женился бы Данила, он уже взрослый, жених, ну а там… Все пошло бы житейски складно, как из веку в век шло в крестьянской жизни, если в нее не вмешивались злые силы.
Федор знал, что Данила не мог заменить его, не было у сына такого житейского и хозяйственного опыта. А тут новый край, неизвестные порядки, да и надо было ему тогда оставить надежды обзавестись своей собственной семьей, а все силы, всю жизнь положить на братьев и сестер. Такая ноша Даниле не по силам… Ну а мать, женщина, одна, тем более не могла потянуть такой воз.
Чтоб не пропасть в чужом краю, оставался один выход — идти по хуторам наниматься к богатым казакам в батраки. А дальше — что Бог пошлет каждому.
В ясный весенний день, когда звенели в голубизне жаворонки, крякали в камышах утки, когда вся скуповатая природа степи полна жизни и ярких красок, Федора скромно похоронили на кургане. Феодора всеми силами сдерживала себя, не голосила: нельзя сейчас размякать, расслабляться, терять голову, нельзя пугать детей отчаянием.
А затем стали искать места, устраиваться, наниматься.
Пестя устроена
Нашлось место и для маленькой Пести: Данила вскоре отвез ее на другой хутор, отдал внаймы смотреть за хозяйской птицей. Вот и кончилось у Пести детство. Кончилось рано, резко, в самом расцвете светлых детских лет.
Еще вчера улыбались Песте тату и маты, братья и сестры, еще вчера была она младшенькой, любимицей, и вот уже — на каком-то хуторе, у нее канительная, настоящая работа, а вокруг нет ни близких, ни родных, нет даже просто знакомых людей. При живой матери и восьми братьях и сестрах она почувствовала себя круглой сиротой.
С этого времени отложилось у нее в душе, что счастье ненадежно, недолго, вспыхивает и гаснет, как августовские зарницы. Ко всему в жизни надо быть готовой.
Что за хутор, где оказалась Пестя и прожила до замужества, как далеко от Шкуропатского — сейчас никто не скажет. В удобных местах, у реки, хутора стояли часто: дом владельца с хозяйственными постройками и садом, а если у хозяина много земли, неподалеку — хаты арендаторов. В людской при хозяйском доме жило на зыбких правах немало людей со сложными биографиями, все они работали на хозяина. Летом из центральных губерний приходили косить траву или убирать хлеб мужики и бабы, в надежде, что казак пригоршнями насыплет им серебра в подставленный подол.
Для общего представления приведем опись хутора Евтихия Чепиги, племянника бывшего кошевого атамана Захария Чепиги. Хутор устроен был на реке Кирпили.
«Господский дом: печи из зеленых образцов (так в тексте. — В. К.), столы, кресла, канапе, стулья, ларец с чайной посудой. Портреты, картины, 13 икон. Два дома для рабочих людей — один из них людская. Кухня, там медный четырехведерный котел, водоносный ушат, ведра и так далее. Сараи для экипажа и хозяйственного инвентаря: польская повозка, двое конских саней, два воловьих воза, черкесская арба, шесть воловьих саней, 30 колес, девять ярем, кибитка черкесская кочевая, обшитая поветями. Плуги, бороны, вилы, серпы, долота, топоры и так далее. Конюшня с загоном, амбар, погреб и ледник. 55 «чехонских» свиней, 10 индейских и 40 простых кур, 35 гусей, 23 утки, пасека в 9 ульев и 20 порожних. На реке Кирпили, на плотине, перегораживающей реку Кирпили, — две мельницы. При мельницах — дом для мельника и кузнеца со всеми инструментами, три каюка (челна) и так далее. Основная отрасль — коневодство и скотоводство. 50 лошадей, 262 головы крупного рогатого скота. Дом в Екатеринодаре».
На одном из похожих хуторов и жила Пестя, опекая гагающие, крякающие и кудахтающие стада.
Пасти птицу летом еще сносно, но вот зимой… Хозяева взяли девочку на первых порах работать за харчи. Одежды теплой у нее не оказалось, и зимой, давая корм своим крикливым подопечным и приглядывая за тем, чтобы «чехонские» свиньи не сожрали корм «индейских» кур, гусей и уток, девочка мерзла.
Однажды Пестя попросила хозяйку:
— Тетя, дайте мне спидныцю, а то холодно.
— И в одной гарна! — ответила хозяйка. — Ты почаще наклоняйся, собирай гусиные перья, вот и согреешься.
Порядки на хуторах сложились грубые, бесцеремонные. Богатые хуторяне не обременяли себя культурой и образованием, офицеры и генералы совсем недавно «выбились в дворяне» из простых казаков; в качестве помощников, управляющих богатые казаки брали людей пожестче и погрубее, которые могли бы держать в руках ту своевольную силу, тот народ, что приходил наниматься в батраки или на сезон. Среди пришлых обнаруживались и беглые, и бродяги, и работяги, «имели прибежище сумнительные люди», как писалось в полицейских бумагах. На иных хуторах складывались вполне крепостнические порядки, обнаруживались местные салтычихи, хозяйки, избивавшие своих работников и работниц.
Маленькая девочка еще не понимала, что за жизнь шла вокруг, не знала характера казачек, выросших и воспитанных в особых условиях.
Царица Екатерина не случайно наказывала в жалованной грамоте черноморским казакам о «распространении семейственного жития», а Головатый в своем стихотворении нажимал — «треба женитися».
У запорожцев существовал закон о недопущении женщин на Сечь. В цитадели казачества, Запорожской Сечи, женщин не было, нога их туда не ступала. Жены, матери, дочери, которые были у казаков, жили в селениях, городах или в степи на хуторах, зимовниках. В понятие «воля» казак включал полную свободу от семьи. Жена, дети, домашние обязанности, как считал казак, опутывали его, связывали, а он в любую минуту хотел быть готовым, лишь только появлялось желание, вскочить на коня и двинуть на турок, татар, ляхов, москалей, а может, и в ближайший шинок. Вольный, не обремененный семьей казак был слишком легок на подъем и, как показали царям Иван Болотников, Степан Разин, Кондрат Булавин и совсем недавно Емельян Пугачев, казак легко шел жечь и бить помещиков, панов, притеснителей. Жены, дети, матери, как справедливо полагала Екатерина, вносили в казачью жизнь больше спокойствия, устойчивости, осторожности, и не надо то и дело пополнять казачье войско новыми и новыми переселенцами.
Издавна, с самого зарождения казачества, удалец, молодец-казак презрительно относился к женщине и не ставил ее ни в грош. Настоящие, прокопченные порохом, в боевых шрамах казаки, у которых бритые головы с оселедцем походили на пушечные ядра, не имели жен и терпеть не могли женщин, «баб». Донские казаки, с которыми запорожцы всегда были в большой дружбе, в первое время не пускали вообще женщин в свои пределы. Но в числе пленных, которых они захватывали в походах на татар, турок, черкесов, оказывались женщины, с которыми казаки сходились. Такими женами они дорожили мало, продавали их друг другу, меняли, отдавали даром, а за проступки или «продерзость» могли привязать камень на шею и бросить в тихий Дон, ни перед кем за это не отвечая. А все же — нельзя идти против природы. Женщин появлялось все больше, рождались дети, и не все казаки были в силах легко оторваться от женщины или бросить родное дитя. Вскоре донцы разрешили женщинам приходить на Дон и селиться тут, оценив преимущества «семейственного жития».
Однако традиция пренебрежения казаков к женщине сохранялась и у донцов, и у запорожцев долго, и было принято демонстративно, по крайней мере на людях, на улице, женщину ни во что не ставить. На самом же деле нередко бывало, что полновластной хозяйкой в доме оказывалась именно она. Казак подолгу пропадал то на службе, то на лагерных сборах, то в походах, и весь дом, все хозяйство вела жена. Она пахала и сеяла, ухаживала за садом и огородом, смотрела за скотиной, воспитывала детей, и бывало — при неожиданных нападениях черкесов, татар и других степных жителей — брала в руки винтовку. Развитая, сообразительная, чувствующая свою ответственность за дом и семью, крепкая физически, казачка не давала себя в обиду мужу и зачастую лишь делала вид, что она покорна ему, чтоб не ронять при обществе его мужское казацкое достоинство.
Маленькой приезжей девочке трудно было рассчитывать на душевное сочувствие хозяйки хутора. Матери, братьям и сестрам тоже было не до младшенькой Пести, которая считалась устроенной.
А на Пестю задышала жаром перекрученная, накаленная казачья жизнь.
Семья разделилась
Феодора и дети стали искать места на хуторах, но жизнь вскоре подсказала другой выход. Семья разделилась: Данила с младшими сестрами Одаркой и Пестей остались здесь, на хуторах, а Феодора с остальными детьми перебрались на побережье Азовского моря в станицу Бородинскую ПриморскоАхтарского юрта, это в ста километрах от Шкуропатского.
Около моря, около рыбы жить оказалось легче, чем в батраках по хуторам: море общее, его не надо ни пахать, ни засевать, рыбы водилось вдоволь, на рыбных промыслах постоянно требовались рабочие руки. Народ жил попроще, свойский.
Из станицы Тимашевской и с хутора Шкуропатского постоянно ездили в Приморско-Ахтарск, или попросту в «Ахтари», за рыбой, солью, сетями, туда возили на продажу хлеб.
Не сразу, не в один день и даже год перебралась Феодора с детьми в Ахтари к морю и рыбе. Обычно в жизни бывает так: устраивается один, а уж затем, разведав, потихоньку перетягивает к себе родственников и знакомых. Ведь семья уже обожглась на переезде без разведки, понадеявшись на везенье… Никто из рода Рыбалко не помнит сегодня еще одно переселение из Шкуропатского в Ахтари, оно произошло постепенно, тихо и незаметно.
Данила же с Пестей и Одаркой остался здесь, на хуторах. То ли он не любил моря, то ли генерал Шкуропатский дал ему в аренду землю, может, он уже присмотрел себе и невесту, привык к более или менее налаженной жизни и не решился отрываться… Данила остался. И обязался перед матерью опекать двух младших сестер, определить их в жизни.
Пестя хорошо знала давнюю крестьянскую традицию: после смерти отца главным в семье становился старший брат. Она покорно и послушно выполняла его советы и приказания. Уже став взрослой, в трудные минуты, думая и гадая, как выйти из нелегкого положения, всегда заканчивала обсуждение словами: «А там — як скаже Даныло». Последнее слово еще долго оставляла она за старшим братом, почитая его за отца, побаиваясь его.
Данила был рядом, близко, а вот судьбы других братьев, сестер и матери чем дальше, тем больше отходят от ее судьбы. Там, около моря, у них пошла своя жизнь.
Родовая память
Если б не войны, каким могучим, пышным, многолюдным был бы род Рыбалко, как много потомков было бы у Федора и Феодоры. Немало их и сейчас, хотя время все дальше разносит новые поколения, и они ничего не знают друг о друге.
Традиционно небрежение к памяти своего рода у простых людей, дивишься нашему нелюбопытству к этой памяти, ведь несложно многое узнать от родителей и родственников, от дедушек и бабушек. Грустно и больно видеть это нелюбопытство и равнодушие.
Если посмотреть житейски просто, трезво на события хотя бы только прошлого века, то станет понятней, почему наши дедушки и бабушки не сохранили ничего, никаких вещей, документов, писем, семейных преданий своих дедушек и бабушек, не завещали и нам хранить память рода. Время было — не приведи Бог!..
Первая русская революция, Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции и особенно Гражданская война сильно разметали, пожгли, уничтожили те немногие материальные и устные свидетельства о предках, о прошлом, которые еще хранились в семьях… А затем наступили годы коллективизации, раскулачивания, массовых отъездов, насильственных переселений, расстрелов. Годы подозрительности. Тут уж во многих семьях сами начали уничтожать, сжигать, вытравлять из памяти всякие свидетельства и связи со своими предками, родственниками. Посмотришь бесхитростные районные газеты тех лет — сколько там подозрений, обвинений, проклятий кулакам, подкулачникам, врагам народа, вредителям, «социально-чуждым элементам», дети публично отрекались от родителей, меняли фамилии. Какая уж тут родовая память!
А там покатилась по нашей земле, по городам и селам Отечественная война, загрохотала взрывами, задымила пожарами, дошла до Москвы, Волги, Кавказа. Послевоенная разруха подстегнула, продолжила массовое бегство крестьян в города. Свежо на памяти уничтожение деревень под видом неперспективных. Надо учесть и множество обычных переселений из села в село, из дома в дом, с квартиры на квартиру, из одного города в другой, женитьбы и замужества, отделение детей от родителей. И всегда как ненужный хлам выбрасывалась, уничтожалась материальная и духовная память о предках, о прошлом.
Есть тьма причин, по которым рвутся родовые корни семьи и народа, исчезает родовая память, но главная в том, что наш народ, тихий, сердечный, правдивый голос которого хотелось бы слышать, многие десятилетия, даже века живет в постоянном напряжении всех сил, с огромными перегрузками, когда самое важное — это вообще выжить, прокормиться, отстоять землю, Отечество, найти крышу над головой, сохранить от гибели детей, поставить их на ноги. Где уж тут хранить какие-то бумажки и фотокарточки, помнить, кто и какими были твой прадед или прабабушка. Некогда вздохнуть, успокоиться, оглядеться, суетными заботами, тревогами, страхом отягощена душа.
Не выработана культура пользования опытом истории, не найдены еще народом нормальные, ненапряженные, естественные условия жизни, нормальный темп, уравновешенность. Исчезли вековые народные праздники, обряды, обычаи, уважение к церкви, к верующим, вносившие в народную жизнь одушевление, духовную устойчивость, моральные нормы, порядок. Утеряна цель народной жизни — поиск земли и воли, земного рая, Царства Божия на земле… Вот и оказались многие из нас среди своих же людей изгоями без роду и племени. Вот и носятся по народу без корней, как по распаханным степям, «пыльные бури» разочарований, тоски, пьянства, неверия ни во что, воровства и жульничества. Некого стыдиться, недорога честь фамилии, честь рода, некому спросить, не от кого услышать похвалу или осуждение. Бесценный опыт жизни каждого человека, рода, каждого из наших народов уходит в песок.
Жизнь обжигала
Хутор, на котором оказалась Пестя, стоял, похоже, далековато от Шкуропатского, где жил Данила, и уж совсем далеко от станицы Бородинской Приморско-Ахтарского юрта, где жила мать, поэтому девочка чувствовала себя одинокой, брошенной, сиротой.
Однажды она пасла птиц на лугу около хозяйского двора и вдруг увидела Шарика. Видно, где-то недалеко проезжал на повозке Данила, рядом с которым и держался Шарик, а может, брат заходил справиться о ней к хозяйке хутора.
Пестя крикнула Шарика. Пес сразу узнал ее! Примчался, запрыгал, виляя хвостом, заскулил, лизнул в лицо. И ему, видно, было тут несладко среди чужих собак. Пестя обняла его, расплакалась. Вспомнились и село, и подруги, и долгое-долгое путешествие по степи, ночи, звезды, птицы, когда жив был отец… Даже эта случайная встреча с Шариком обрадовала ее, придала сил, хоть ненадолго стало не так одиноко.
Данила не баловал сестру вниманием, считал, что надо привыкать к такой жизни, какая есть, тогда выживешь, встанешь на ноги после удара судьбы.
А жизнь в казачьем крае оказалась хоть и колоритной, но грубой, своеобразной и почему-то накаленной, чем-то обозленной, тут и взрослый не сразу поймет — отчего, а не то что ребенок.
Пестя взрослела душой и телом, стала крепче, подросла. Ей стали доверять другую работу, ведь она росла расторопной, толковой, по-мальчишески ловко скакала верхом на лошади.
Убирали хлеб в степи. Скошенную и связанную в тяжелые снопы пшеницу подвозили к стоявшей на поле громадной, с иную хату молотилке с трубой. Грохотала молотилка, поглощая зубастой пастью вальяжные скользкие снопы, летели клочья соломы, туча пыли окутывала молотилку, струйкой текло сбоку золотистое зерно. Мельтешили вокруг люди и лошади, солнце пекло лоснившиеся от пота лица, спины.
Пестя верхом на лошади подвозила снопы. Надо подъехать с тягалкой — деревянной площадкой на небольших колесах — к снопам, уложенным в суслон, слезть с лошади, отпрячь ее, с помощью лошади цепью надвинуть суслон на тягалку и закрепить, снова запрячь лошадь, сесть на нее и везти снопы к молотилке. И так раз за разом. Суслоны все дальше от молотилки, нужно пошевеливаться, лошадь кусают слепни, оводы, она раздражена, непослушна, того гляди убежит в степь или наступит копытом на босую ногу.
Вечером, поужинав со всеми при свете большого костра, она ложилась на свежую, густо пахнувшую хлебом солому и смотрела в ночное небо. Пели, журчали сверчки, били в степи перепела. У костра начинались беготня, смех, шум, визги, парни и девчата пели русские и родные украинские песни, уносившие куда-то далеко-далеко. Земля качалась, уплывала, как детская люлька, голос мамы пел колыбельную песенку, родное лицо склонялось над ней, смотрели ласковые мамины глаза, а не далекие звездочки.
Казалось, тут же некстати разбудили:
— Давай за конями! Живее снопы подвози!
Уже вставало, начинало пригревать солнышко.
Пестя испуганно вскочила, показалось, что она проспала, и ее будут ругать. Увидев в степи пасущихся, стреноженных лошадей, кинулась к ним и вдруг вскрикнула от боли: не заметила спросонок, что наступила босыми ногами на покрытый пеплом жар от большого ночного костра.
Плача, она сидела на земле, отирая подошвы ног, которые нестерпимо жгло.
А полевой стан просыпался, готовился к работе, вот уже и загрохотала молотилка.
— Эй, где снопы?!
— Ну, чего расселась!
По колючей жесткой стерне, по сухим комьям земли и так несладко было ходить босыми ногами, а уж обожженными-то… Вроде бы и люди свойские, такие же простые крестьяне, дядьки и тетки, парни и девчата, но никому нет дела до девочки-подростка, никто не подойдет, не посочувствует, не проведет по голове ладонью, ласково глядя в глаза.
И снова целый день — на лошадь, с лошади на землю, на колючую стерню обожженными ступнями. Жара, непослушная, замученная оводами лошадь. Текли слезы, но в такой жаре, пыли кто их видел, кто вглядывался: всяко было — у кого пот, у кого слезы…
Жар большого костра
Что же так накалило жизнь народа в казачьем краю, где в отличие от других мест России было, кажется, все, чтобы хорошо устроиться тут, в незаселенной степи, и жить счастливо?
Многих это интересовало во все времена — обнаружить, почувствовать, описать ткань, суть, составные части и саму душу народной жизни. Чем живут там, в глубинах народа, какими устремлениями и мечтами?
Копаешься в архивах, в библиотеках, читаешь пожелтевшие, на толстой бумаге газеты тех лет, старинные книги в надежде найти то, что и самому непросто объяснить. Ищешь сердечный, задушевный голос народный, затаенный тихий вздох его. Но голос, вздохи эти не слышны за криками, казенными речами, цифрами.
Вот хотя бы кубанская газета тех лет «Кубанские ведомости». Где тут атмосфера, ткань народной жизни? Не в официальных же сообщениях и неискренних пышных славословиях царствующей фамилии и властям. Скорее, наверное, в простодушных объявлениях, происшествиях, в торговой рекламе.
Реклама призывает покупать локомобили, жатки, сноповязалки, плуги, парижские духи, конные грабли; объявления сообщают о продаже домов, хуторов, табунов коней… Это все-таки ткань жизни богатых. Ну а обычных людей? Она скорее в «происшествиях», тут о богатых не пишут, не принято.
Печальны, печальны эти «происшествия». Утонул. Застрелен. Изнасиловали. Родила тайком и закопала. Фальшивые деньги. Искусали бешеные собаки. Появились бешеные волки. Убиты молнией. И пожары, пожары… Кражи, кражи…
Как вообще появились кубанские хутора? Что за жизнь шла вокруг маленькой девочки Пести? Почему обжигала?
Запорожцы, закрутив по югу Украины и России могучий народный водоворот, стали оседать на дикой в то время земле Кубани, обживаться, помня о наказах Екатерины, простодушно пересказанных в стихах Головатым: «Гряницю держати, хлiба робити и женитися».
Но вот и земли вдоволь, и таврический губернатор далеко, кругом — степь да степь, а все как-то не ладилась казачья жизнь. И не то чтобы совсем уж было плохо, нет. А все-таки ждали другого, того, чем славилось Запорожье, что искал весь народ, о чем пели в песнях, к чему тянулись со всего света. Шли годы, десятилетия, и все казалось, что пока — приготовление, а настоящая жизнь, сытая и вольная, впереди еще, впереди. А прошло несколько десятилетий, и стало казаться, что настоящая жизнь, вольная, яркая, была в первые годы и десятилетия, а теперь что… Куда-то не туда уносило казаков течение жизни.
В первые годы долго путались с размещением.
Сорок куреней бывшего Запорожского войска, прибыв, разместились вдоль реки Кубани на пограничных кордонах, заложили свою столицу — город Екатеринодар, названный в честь царицы. Но жить и хозяйствовать в ружейном выстреле от боевых черкесов на той стороне границы никому не хотелось: «На границе не строй светлицы», и домашние постройки поползли в глубину степи.
Тогда решили оставить у границы восемь куреней из сорока, а остальные поселить в глубине. Кинули жребий, каждый курень получил свою землю, свой юрт. Но край был разведан плохо, некоторые курени получили сырые болотистые земли, людей там трясла малярия, скот голодал, казаки разорялись, опять роптали. Приходилось снова переделывать границы юртов, переселяться, бросать постройки.
Но если бы только это портило жизнь казакам.
Хоть Екатерина Вторая и пошла на попятный после разгрома Запорожской Сечи, но она в жалованной грамоте не дала казакам всей прежней воли, подчинила их таврическому губернатору. В то же время она не оговорила деталей внутреннего управления в войске, как бы полагаясь в этом на самих казаков. Вряд ли она сделала это необдуманно или не желая стеснить волю казаков.
С благословения царицы, властей и произошел серьезный поворот, а по сути дела — военный переворот в казачьей республике, на который большинство казаков вначале, похоже, не обратило внимания.
Запорожская Сечь славилась своей Радой — общим собранием всех казаков, где решались главные вопросы жизни, быта, войны, управления. Это был высший орган власти. На площади в Сечи около церкви, привязанные к столбу, стояли литавры — медные котлища, затянутые ослиной или телячьей кожей, заведовал литаврами особо избранный казак — довбыш. По желанию казаков или в необходимых случаях он бил в литавры особыми палками, созывая всех на площадь к церкви — на общий совет, Раду. Казаки собирались огромным кругом, стояли, гордо подбоченясь. Выходили главные казачьи начальники — кошевой атаман с палицей, судья с войсковой печатью, писарь с пером, чернильницей и бумагой, есаул с жезлом — и низко кланялись казакам: «Чего хотите, Панове?» «Панове» в прямых, крепких выражениях выкладывали свои желания. Каждый год в январе кошевой атаман переизбирался на Раде, переизбиралась и вся казачья старшина. Конечно, новые начальники опять избирались из богатых и влиятельных, но бывали случаи, когда неугодным атаманам по приговору Рады набивали за пазуху песку и топили в Днепре. Поэтому избранные казачьи начальники чутко слушали голос народа, уважали общий интерес, не засиживались в «руководящих седлах».
Богатые казаки давно мечтали понадежнее, навсегда сесть на место «вождей-наставников», устранить возможность переизбирать их, тем более — топить в реке. Переселением на Кубань они и воспользовались, очевидно — с благословения царицы, которой удобней и спокойней было иметь дела с покладистыми, постоянными казачьими вождями, чем с многотысячным вольным войском, с целым народом. А для этого нужно, чтоб и в боевом Запорожском войске произошло то же, что постепенно, в веках произошло во всем народе России после расселения по Русской равнине, — «кристаллизация», разделение вольных людей на классы, сословия, выделение из массы народа «высшего» общества для руководства этой «темной массой», наделение членов высшего общества землей и работниками и закрепление такого порядка навсегда.
Казачьи начальники не зевали.
В январе 1794 года, вскоре после переселения, казачье Войсковое правительство опубликовало любопытный и важный документ — «Порядок общей пользы», в нем определялось, как пользоваться землей и как управлять казачьим войском. Подписали его: кошевой атаман Захарий Чепига, войсковой судья Антон Головатый и войсковой писарь Тимофей Котляревский. Эта тройка и составила Войсковое правительство.
Документ был основополагающим для новой казачьей жизни, но для принятия его не созывалось ни Рады, ни казачьих совещаний, не проводилось предварительных обсуждений. Документ был «спущен» казакам сверху без демократического и гласного обсуждения всеми казаками. А ведь Сечь и любили за ее Раду, где все решалось открыто при общем сборе всех казаков.
Казаки простодушно верили в ум, хитрость и преданность казачьему делу Харько-атамана, Головатого и Котляревского и в радостной и житейски непростой суматохе первых лет заселения края не придали большого значения ни самому документу, ни тому, что он навязан без обсуждения.
Пункт первый «Порядка общей пользы» утверждал:
«1. Да будет в сем войске войсковое правительство, навсегда управляющее войском на точном и неколебимом основании всероссийских законов, без малейшей отмены, в котором заседать должны атаман кошевой, войсковой судья и войсковой писарь».
Этим отменялась знаменитая казачья Рада, казачья старшина отныне закрепляла свою власть над рядовыми казаками навсегда.
Но не дрогнули в тревоге казачьи сердца, не насторожились казаки. А если кто и насторожился — что мог поделать? Далеко по огромной степи разбрелись казачьи курени. Как собрать казаков на Раду? Как их встревожить? Да и кто бы стал слушать такого смутьяна, который выступил бы против Харько-атамана, Головатого и Котляревского, «отцов родных», ловко добывших для них богатые земли.
В среде вольных запорожцев стало ускоренно происходить расслоение. Казаки бросились «догонять» весь русский народ.
Когда двинулись славяне от Днепра по равнине, жило еще вече, общие народные собрания. Князья с дружинами, призванные для вооруженной защиты от врагов и административного управления, постоянно переизбирались, что, конечно же, их не устраивало. Они постепенно врастали в управляемые области, земли становились их княжествами, вотчинами, общие народные собрания усилиями князя и его дружины упразднялись. Этому помогло опустошительное татаро-монгольское нашествие: тогда было уже не до народных собраний. Когда московские князья стали собирать разрозненные княжества воедино, о народных собраниях не было и речи. Московские князья все тверже называли себя самодержцами. Созывались иногда и соборы для обсуждения общенародных дел, в них представлены были все слои, кроме основного — народа, крестьян. Да и такие соборы самодержцы упразднили. Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина Вторая укрепили самодержавие, абсолютную монархию. Были созданы профессиональная армия, полиция, чиновничество.
Но самодержцы не могли править без поддержки своей «старшины», круга бояр, дворян, потомственных князей, служилых людей. И Грозный, и Петр, и Екатерина, как самодержцы, пытались было выйти из-под опеки и контроля хваткой «старшины», но и при их огромной власти это оказалось невозможно, опасно для них.
Правящим сословием, опорой и контролером самодержцев стало дворянство, за ним закреплена была земля, а в качестве работников закреплены крестьяне, закрепощены. Внимательно, ревниво смотрело дворянство, чтоб только оно получало высшее образование, чтоб только из его сословия были офицеры в армии и высшие чиновники на государственной службе, чтоб не проникали в их круг из других сословий, чтоб не пытался кто-то изменить такое положение. Оттого в России постоянно гибли реформы и реформаторы. Дворянство осуждало тех, кто создавал школы для крестьян, отпускал своих крепостных на волю.
Крестьяне хоть и не сразу и не очень четко, а разглядели сложившуюся систему общественного и государственного устройства и наполнились к дворянскому сословию, без особого разбора, недоверием и ненавистью, считая, что дворяне сбивают с толку добрых, доверчивых царей. Об этот жар недоверия и ненависти обжигались многие господа, даже те, кто много и честно трудился для народа.
Медленно шли эти процессы, веками; принимались указы одного царя, другого, третьего. Словно крепчающий мороз государственное устроение укрепляло государство, но сковывало и сковывало реку народной жизни. Однако никакой мороз не может проморозить реку до дна, и крепостное право было в России далеко не всюду. Не было его на европейском русском Севере, не было в Сибири, свои порядки были во всех казачьих областях, на монастырских и церковных землях.
Простодушен наш народ, не силен в политике, всякий раз доверчиво надеется на доброго царя, на совестливых начальников, на «зерно» общего братства, к тому же широко разошлись крестьяне по просторам Европы и Азии. А тут еще иго кочевников, дани, набеги, разорения, угрозы с запада, с востока, угрозы с юга, и нужны строгие порядки, крепкое государство, чтобы вообще выжить, чтоб удержать землю. Разве крестьяне когда-нибудь не понимали этого, не шли защищать Отечество? Отстаивая свои земли, спасая саму себя, Россия две трети своей жизни провоевала. Из крестьян в основном и состояла армия. Русский солдат, отважный, выносливый, смышленый, — это вчерашний крестьянин, мужик. Единение всех сословий, братство наступало, когда грозила беда всему Отечеству. Храбро дрались с врагом и дворяне, и их крепостные крестьяне. А прогоняли врага — и опять на мужика надевалось ярмо. В заботах об Отечестве, обо всех и упустил народ свою власть, свое вече, упустил волю и землю. Некому было вовремя объединить народ, все объяснить, не дать обмануть себя. Осколками прежней воли смотрелись самоуправляемые общины в русских деревнях, да и их дворянство ухитрилось использовать против самих же крестьян.
Но в глубине народа жарко тлела, никогда не умирала древняя мечта. Оттого легко вспыхивали огромные восстания: Разина, Булавина, Пугачева и множество мелких. Восстания грубо, прямо, жестоко говорили правящему сословию: такое устройство жизни несправедливо, неестественно для нашего народа.
Многие из господ, лучшие умы высшего круга пытались публично обнажить перед всем обществом то, что оно прекрасно знало, — несправедливость государственного и общественного устройства, пытались разными путями устранить это. Как без знания Библии невозможно полное понимание шедевров мировой литературы и искусства, так и без знания народной цели в России, «русской идеи», без знания постоянного перекоса всей жизни по отношению к этой цели непонятны шедевры русской классической литературы и искусства, вся тогдашняя и сегодняшняя общественная жизнь, вся история России до сего дня.
«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!..» — предупреждал Пушкин тех, чьи поместья, имения, дворцы островками стояли в многонациональном, бесправном мужицком море.
Хотя бы из чувства самосохранения дворянству, аристократии и кормившимся около них всевозможным деятелям правящего слоя надо было бы поступиться, поделиться с народом землей и правами. Надо было бы постепенно, но твердо и непреклонно, издавая указ за указом, «размораживать» реку народной жизни, приспосабливать государственное устроение к живой жизни народа, к его вековой цели. Надо было… Но решимости господ хватило лишь на то, чтобы под угрозой всенародного взрыва отменить в 1861 году крепостное право, так и не дав все же толком народу землю, обозлив его. Попытался было сделать это премьер-министр Столыпин в начале прошлого века, но был убит.
Удобно было господам такое устройство, казалось таким естественным! И многие из них не могли понять, а тем более смириться с тем, что на протяжении веков, а особенно после 1917 года, их, таких добрых, умных, тонких, образованных, любящих Отечество и много сделавших для него, убивали, грабили, жгли «эти грубые, невежественные, дикие, злобные мужики» или солдаты, «не имевшие никакого понятия» о свободе, демократии, человеколюбии, правах. Разрушали дворцы, храмы, построенные ими же, мужиками, но для господ.
С удивительной, удручающей закономерностью возникновение правящего, привилегированного слоя произошло и после взрыва 1917 года. Снова образовалась «старшина», которая выдвигала, поддерживала и контролировала новых «царей», новых вождей, снова народ был опутан множеством правил, порядков, установлений, снова лишен земли и воли, ввергнут в нищету. Неужели эта закономерность неистребима, неизбежна? Неужели народ обречен тащить на шее свою «старшину»? А если нет, то что же надо делать? В чем ошибка народа?..
Вот и в казачьей среде ускоренно начала вить паутину административно-государственная система. Богатые, влиятельные казаки получали офицерские и генеральские звания, становились «дворянами», белой костью; с радостью и жадностью набросились они на чины, мундиры, ордена, жалованья, прочие привилегии и дорожили ими больше, чем казацкой волей, о которой не прочь были попеть старинные песни. Песен, преданий, громких пышных слов о вольной казацкой жизни звучало все больше, разносилось все шире, а самой воли становилось все меньше.
Казаки простодушно думали вначале: нельзя им ссориться с царями и властями, надо водить с ними дружбу. Теперешние атаманы это умеют. За их спиной и всем казакам будет хорошо. Земли-то вон сколько!.. И действительно, царскую милость Екатерины казачьи атаманы преданно превратили в особые отношения кубанцев с царским престолом, из кубанских казаков в знак особого доверия составлялся царский конвой в столице империи.
А ведь император Павел I вскоре после смерти Екатерины II упразднил Войсковое правительство, вместо него была образована войсковая канцелярия с правами губернского правления. Император сам назначал теперь войскового атамана — главного казачьего начальника.
Царям и властям ни к чему были слишком вольные казаки, которые бы сами выбирали всех начальников: это дурной пример для народа, и сами казаки в отличие от своих сговорчивых «вождей» легко могут выйти из подчинения. Хоть и на хороших условиях, с добрыми наделами земли, но казаков включили в государственную систему. Они стали частью армии и в этом качестве много хорошего сделали для государства, для Отечества. Но разве только лишь этого хотели казаки, переселяясь в дикие степи?..
В утешение оставили кубанцам право выбирать куренных атаманов, местную власть, но выбирать — из числа старшины.
Понадеялись потомки вольных запорожцев на своих начальников и упустили волю.
Нескладно получилось у них и с землей.
Многие из казаков еще в Запорожье селились на хуторах в степи, где заводили семьи и большое хозяйство: стада скота, птицы, растили хлеб. Для работы нанимали бесправных беглых крестьян или своих бедных собратьев-казаков. И как только сорок куренных обществ получили свои земельные угодья на Кубани и стали основывать поселения, богатые и просто ловкие казаки ринулись в степь, захватывая лучшие участки земли и строя на них хутора. Началась хуторская, а точнее, земельная лихорадка.
«Порядок общей пользы» попытался придать этому ажиотажу черты законности. В нем говорилось, что право на хутора, мельницы, рыболовные заводы имеют те старшины и казаки, которые лично участвовали в войне с Турцией. Но невозможно и некому было четко определить, кто участвовал, а кто не участвовал.
Старшине выгодна была путаница: под шумок, в неразберихе она вдоволь обеспечила землей себя и свою родню.
Особенно любили казачьи «вожди-наставники и попечители общих благ» селиться на Кирпилях. Места замечательные: далеко от беспокойной границы, но и не глушь, рыбная река, плавни, луга. Не стеснялись вожди-наставники иметь по два-три хутора.
Границы отводимых участков указывались широко и неопределенно. Немало участков заняли без всяких разрешений. Начались стычки владельцев хуторов, в которых побеждал сильный — более богатый, бесцеремонный и хваткий.
Земля считалась общей и принадлежала всем казакам, права личной собственности на землю вначале не было. Но где тут, в лихорадке, смотреть за правами, кто будет смотреть? Бери, не зевай, хватай, пока не поздно!
За начальством хлынули в степь рядовые казаки. Хутора в степи росли сотнями. Все больше и больше казаков переселялось в степь из куренных селений. Достать казаков с хуторов для несения службы стало почти невозможно, не хотели хуторяне покидать теплую хату и идти под пули горцев на границу. Посыльных прогоняли с хуторов.
Администрация войска начала многолетнюю войну с хуторянами, в основном с рядовыми казаками, сносила их хутора и возвращала в куренные селения. Отношения между старшиной и рядовыми стали еще хуже. Где уж тут «товариство»!
Разные были хутора, разные хозяева, но все они нуждались в рабочих, чтобы справиться с делами на нахватанной земле. В первые десятилетия казаки не только звали, приглашали, просили переселяться к ним, но и заманивали, даже воровали крестьян в ближайших губерниях, скрывали на хуторах беглых и «сумнительных» людей. Конечно, всех их заставляли работать на хозяина хутора.
Жадность не имеет пределов. Разбогатевшие хуторяне зарились на земли друг друга, покушались и на земли станичных обществ. Иногда станичные общие земли были так окружены землями богатых хуторян, что проезжать к ним или прогонять туда скот поневоле приходилось по участкам хуторян. Это приводило к столкновениям: хуторяне загоняли скот станичников или других хуторян к себе, если он оказывался на их участке, морили голодом, распарывали животы, обрезали соски у коров.
Распри в казачьей среде, доходившие до Петербурга, беспокоили царей, которым нужны были казаки как сплоченная и послушная военная сила, надежная стража границ.
Центральное правительство вынуждено было установить нормы землепользования для кубанских казаков: генералам — 1500 десятин, штаб-офицерам — 400, обер-офицерам — 200, рядовым казакам — 30. Но вскоре выяснилось, что по таким нормам на всех земли не хватает, и нормы уменьшили в два раза. Дележ земли не шел гладко: на удобных местах много людей и мало земли, на болотистых — наоборот.
После отмены крепостного права на Кубань хлынули переселенцы, крестьяне с семьями. Казаки не возражали против переселения ремесленников: кузнецов, плотников, портных, сапожников, сами они считали зазорным заниматься этими делами. Казаков устраивало, что «городовики» работали на них, без иногородних казакам не справиться с хозяйством. Но землю им не давали. Тысячи иногородних, людей мастеровых, дельных, снимали у казаков хаты, углы, сараи, жили бесправно, бессловесно, нищенски, а немало земли, особенно у офицеров, генералов, да и у некоторых станичных обществ зарастало бурьяном.
Нескладные казачьи порядки сдерживали развитие богатого края. К этому времени уже закончилась полувековая Кавказская война русского царизма с народами Северного Кавказа. Граница, которую обязаны были «держати» казаки, передвинулась, ушла далеко, нужда в казаках как пограничной страже отпала. Но они по-прежнему считались опорой престола, государства как военная и карательная сила.
К концу XIX века, ко времени появления на Кубани Рыбалко и Степановых, центральное правительство разрешило предоставлять иногородним участки для постройки хаты и хозяйственных помещений. Выделенную каждому казаку землю теперь можно было сдать в аренду и продавать даже лицам неказачьего сословия. Число иногородних на Кубани стало быстро расти, их стало уже немного больше, чем самих казаков, и все шли и шли на Кубань новые переселенцы.
Все прибывавшие сразу напитывались, наполнялись «духом вольности», духом казачества, но одним духом сыт не будешь. Жизнь быстро отрезвляла.
Населявшие станицы, города и хутора кубанцы делились по своему составу на неравные доли, как небрежно разрезанный, посеченный круглый пирог. Главное разделение шло в двух направлениях, как бы крест-накрест: казаки — иногородние и богатые — бедные. Были и другие деления, доли, ведь жили: ремесленники, крестьяне, рыбаки, рабочие, батраки, русские, украинцы, горцы, армяне, греки, немцы, священники, учителя, мужчины и женщины, православные, мусульмане, сектанты.
Богатые казаки и богатые иногородние, торговцы, землевладельцы, быстро нашли общий язык. А отношения между простыми казаками и иногородними, составлявшими основное население, стали напряженными, враждебными на радость богатым. Эта рознь была самой заметной, ведь небогатые иногородние жили, ходили рядом с казаками и могли переполнить станицы, как переполнили хутора, размыть казачество с его сильно урезанной волей и тающей землей. Иногородних проще было обвинить во всех своих бедах и неудачах, сорвать зло скорее на них, чем на своих братьях — богатых казаках, которые променяли казацкую волю на чины и ордена и предали общие казачьи интересы.
Упустили казаки волю, понемногу теряли и землю. Не получилось, как хотелось — уйти на окраину и в стороне от народа и государства устроить себе сытую и вольную жизнь. Вот и накалилась жизнь, обжигала.
Зацвел цветочек
Хмурая, но недолгая зима сменялась ранней южной весной, пышно цвели сады на хуторе и луга в степи, звенели жаворонки. Оттаивала, расцветала весной и замерзшая душа. А там лето и благодатная сытая осень… Приходили на хутор и снова уходили по домам мужики из других губерний, в надежде заработать денег на богатой Кубани, у казаков с толстыми кошельками, и поправить свои неважнецкие мужицкие дела… Изредка навещал Пестю Данила, не баловал, не размягчал.
Обжигалась девочка о накаленную жизнь, мучилась, но не черствела. «Умному горе — ученье». Хоть и равнодушны окружающие люди к ее судьбе, страданиям, но зато какие песни звучали по вечерам у костра, как бодро и слаженно убирали, молотили хлеб, не унывали под ударами судьбы. Откуда только не заносило на Кубань мужиков и баб, парней и девчат. И у каждого в судьбе всякое — и обиды, и потери, и несчастья. Вглядываясь в этих людей, слушая их разговоры, Пестя чувствовала и скрытые жалобы на жизнь, и ропот, и злость, и согревающие надежды, и покорность судьбе.
Пестя взрослела, из девочки-подростка вырастала в красивую, расторопную девушку. Уходила детская наивность, пряталось вглубь чувство сиротства.
Теперь, когда вечерами на поле замолкал грохот молотилки, спадала жара и вместе с сумерками опускалась на степь, на курганы невероятная тишина, которую лишь подчеркивало стрекотание сверчков, Пестя не торопилась идти спать, а вместе с девчатами и парнями сидела у ночного костра. Освещенные желтым светом пламени, смеялись от избытка сил, от того, что просто молоды, пели песни, шутили. Над костром вились ночные бабочки.
У Пести оказался прекрасный голос, чистый, грудной, сильный. Светлая, страдающая душа ее вся видна была в голосе, в песне.
Ой летiла зозуленька Через поле, гай, Да й згубила рябе пiрце На тихий Дунай. Ой як тому рябенькому Пiрцю на Дунаю, — Ой так менi, сиротинi, На чужом краю! Ой покочу злотий перстень По крутiй горi — Пишли моi лiта з свiту, Як лист по водi.И замечательно было, закончив песню, видеть на лицах печальные или веселые улыбки, слушать, как в наступившей короткой тишине потрескивает костер, струится мелодия сверчков во тьме, а вдалеке четко стучит перепел.
Конечно, она отличалась от своих сверстниц некоторой потаенностью, но уже уходила болезненная ранимость, замкнутость. Она смело скакала верхом на лошади, так что сзади развевались волосы, хорошо разбиралась в хозяйственных делах, совесть ее чиста, она отличная работница, и глаза ее смотрят на людей прямо, доверчиво. Укрепилось и ее положение у хозяев хутора, и можно было если уж не приодеться, то хоть не бедствовать с одеждой, не мерзнуть. Но на гулянье вечерами хозяйка ее не отпускала, тут, видно, не обошлось без слова Данилы. А как хотелось!
Удивительные это были годы. Девочка восьми лет, птенец, выброшенный порывом ветра из гнезда, оказалась одинокой, почти сироткой, и ее учителем, воспитателем, ее семьей и товарищем, сам того не зная, стал народ, люди простые, случайные, пришедшие издалека, из незнаемых глубин жизни. Народная жизнь и стала ее школой. Просты, грубы, жестки на первый взгляд оказались для маленькой девочки первые прямые уроки. Но эти уроки не были жестокими.
Мелочное, преходящее сгорало в тяжелой совместной работе, в песнях, в огне ночных костров, в простодушных исповедях, в простоте отношения к бедности и богатству, к жизни и смерти.
Изредка приезжала из Ахтарей мать. Встречи с ней не могли снять чувства сиротства, редки оказывались эти встречи, и мать, конечно же, была вся в другой жизни, в заботах о других детях. Но само существование в этом мире доброй и любящей матери, умелой мастерицы, со строгими и ясными житейскими правилами, верой в Бога, старинными молитвами действовало на страдающую, позабытую-позаброшенную дочку благотворно. А жить все-таки надо было своими силами, своим умом; трудом и терпением прокладывать свою дорогу.
Реальная жизнь — это искаженная, перекрученная, разбитая картина той справедливой жизни, к которой народ стремился и стремится. Житейская практика переворачивала мечту, делала неузнаваемой, от этого несовпадения жизнь накалялась. Но снова и снова народ терпеливо пытается устроить жизнь по мечте. Груба жизнь внешне, но мечта о прекрасной жизни неистребима, она — как жар костра, подернутого пеплом, и прорывается в песнях и танцах, сказках и одежде, стойкости в испытаниях; «зерно» русской идеи, русской мечты о воле и братстве жаждет прорасти.
Глава 4. ЗАМУЖЕСТВО
У ворот трава шелковая:
Кто траву топтал,
А кто травушку вытоптал?
Топтали травушку
Все боярские сватья,
Сватали за красную девушку,
Спрашивали у ближних соседушек:
«Какова, какова красна девушка?..»
Народная песня
Растрепали русу косоньку,
Как беленький ленок.
Повели меня, младешеньку,
В передний уголок.
Частушка
«А он хоть гарненький?..»
И все-таки кто-то нас видит, замечает в круговерти жизни, в однообразном течении будней, видит именно нас, слышит наши слова. И мы кого-то выделяем среди живущих рядом с нами, иногда не подозревающих об этом, занятых своими заботами, чувствуем чью-то душу, рады видеть чьи-то глаза. Нас обжигает чье-то присутствие, нечаянная встреча, особенно в юности, в молодости.
В зыбком сегодняшнем родовом предании о замужестве Епистиньи сохранились ломкие обрывки и кусочки. Они складываются в коротенький рассказ.
«Приихалы за мною на хутор:
— Збирайся, поихалы.
— А що це вы за мною приихалы?
— Та, кажись, Данила тебя замiж виддае.
— Мэнэ? Замiж? Боже ж мiй! А за кого?
— Та, кажись, за Мишку Степанова.
Я спросила хозяйку:
— А он хоть гарненький?
Приихалы. Данила сказал:
— Выходь замуж за Михайлу.
Поглядела на Михайлу: маленький, курносый…
Говорю маме:
— Ой, мамо, мамо. Я не хочу замiж выходыть.
А она мэнэ:
— Поживешь, привыкнешь та й будешь жить. Чем тебе ходыть по наймах, так лучше будешь хозяйкою».
Минуло тогда Песте «шестнадцать лет и две недельки на семнадцатый». И уже замуж?
Что творилось в ее сердце? Ведь только-только начиналась ее девичья весна, только-только запела она чистым своим голосом первые песни. Может, уже кто-то тронул ее сердце и кого-то примечала она среди парней на том хуторе, и ее уже радовало, обжигало чье-то присутствие, взгляд, слово.
И вдруг — замуж, за какого-то Михайлу. А где же ее зори, рассветы, ее соловьи, ее песни, коханый?
В добрую минуту Епистинья любила с улыбкой пропеть короткую песенку:
По дорози жук, жук, по дорози — черный. Подывыся, дивчинонька, який я моторный.Может, кого-то напоминала ей эта песенка, кто-то пел ее «дивчиноньке» Песте?.. Как много душевных тайн уходит с каждым человеком, какой сложный мир исчезает без следа — целая вселенная.
Михаила Пестя не только не знала, но и не слышала о нем и не видела его.
Она-то не видела, но Михаил приметил ее, выделил, а вот сам подойти не осмелился. Не уверен ли был в себе, робок, скован своим чувством, или же она, охлаждая, скользила по нему равнодушным взглядом? Или смотрела на кого-то третьего, и Михаил заторопился посвататься. Заметно было позже в их совместной семейной жизни, что он любил ее немножко больше, потаенней, так любят открытое самим.
Позже, когда Михаила не стало, а сыновья выросли, Епистинья, подшучивая над собой, рассказывала, напоминала им:
— Ваш батько говорил: «Дети, вот подрастете — никогда не женитесь на такой, как ваша мать. Она всегда недовольная, она вот даже на фотокарточке сидит недовольная».
В этом воспоминании о муже видна была легкая вина, позднее раскаяние — все же могла бы и поласковей быть с Михаилом, не прятать чувств. Но уж такую она определила себе семейную роль. Искренне, глубоко любимая мужем, она могла себе позволить и немножко покапризничать, и сделать вид недовольной. Конечно, не настолько, чтобы выставить мужа смешным перед людьми; она, душевно тонкая и деликатная, прекрасно знала пределы таких возможностей, такой игры: в душевно чистых отношениях никак нельзя переигрывать, насмешка легко все может разрушить. Ну а самое главное — и она любила Михаила.
Понятно, что всякое девичье сердце в первую свою весну ждет своего принца, еще неясно, какого именно, лишь ясно, что особенного, отличающегося от всех, «гарненького». Но семейная крестьянская жизнь и принцы из мечты не очень подходят друг к другу. А в этой будничной семейной жизни Михаил оказался надежным и умелым, характер же у него был мягкий, покладистый.
На одной из немногих сохранившихся фотографий — Епистинья рядом с сыночками: красивая женщина, немножко озабоченная, вроде бы даже и действительно чем-то недовольная, но уверенная, счастливая, совсем не похожая на обремененную, задавленную большой семьей неграмотную крестьянку. По выражению ее лица, ее умных глаз, по гордой посадке головы видна непростая женщина, которую любил муж, и у нее замечательные сыновья.
Но это все — еще впереди. А пока Пестя, встревоженная, со смятенным сердцем приехала на хутор Шкуропатский к Даниле.
Сватовство
Устроено было сватовство со смотринами невесты и жениха. До этого Пестя, конечно, узнала, расспросила, кто такие Степановы, кто такой Михаил. Не паны, не казаки, такие же переселенцы, как и они, только из Курской губернии, русские, «кацапы», не «хохлы». Отец, Николай, ремесленник, на все руки мастер, мать — Акулина, четверо детей: Михаил, Пантелей, Фадей и Елена. Арендуют землю у пана Шкуропатского, держат тройку лошадей и выездной тарантас, на котором подряжаются возить венчающихся; кони быстрые, бегут так, что ветром сносит. Михаил — старший сын, работящий, смирный парень; как и отец, мастер: и плотник, и столяр, и кузнец, и сапожник; грамотный, умеет читать и писать… Сведения эти вряд ли развеяли сомнения Пести и вызвали интерес к Михаилу.
Данила к этому времени женился и построил хату, ведь прошло уже восемь лет с переселения. Вышла замуж сестра, тоже оставшаяся здесь на хуторе, Дарья, Одарка, она постарше Пести, вышла вроде бы удачно, за настоящего казака.
У Данилы в хате и проходило сватовство. И что делать, не понравился Песте суженый, «маленький, курносый кацап» из курской деревни… Какой была эта первая встреча, какие слова сказал ей Михаил, как он был одет, а она что надела — платье ли, юбку ли и вышитую кофточку, которые любила особенно?.. Где же все-таки увидел ее впервые Михаил, как действовал, кому сказал первому — отцу или обратился к Даниле, почему не решился сам подойти к ней? Что чувствовали оба во время сватовства? Как хорошо бы было обо всем этом рассказать, додумать, дочувствовать, как это все чрезвычайно, до невозможности важно, значительно, интересно. Тут — родники, истоки всей будущей семейной жизни, отсюда течет светлая или замутненная в самом начале река семейного счастья, все это навек остается в памяти, хранится в душе.
В такие минуты примечается каждый жест, слово; любая мелочь выдает характер и намерения, смотрится символом будущей жизни. Во всех этих первых встречах, первых обостренных сердечных впечатлениях много предчувствий, догадок, много тайной прелести, тонкого глубокого ощущения жизни, дыхания судьбы.
Лопнуло блюдечко, погасла свеча, завыла собака, кто-то перешел дорогу, пошел дождь, уродился хлеб — все воспринимается знаком будущей жизни, счастливой или не очень.
В жизни каждого человека есть подобные минуты, и, оставаясь глубоко в душе, согревая или печаля ее, уходят они навсегда с каждым из нас, растворяются в этом мире.
Переселившиеся на Кубань русские и украинские крестьяне и ремесленники в складывающемся своем быту и образе жизни испытывали сильное влияние казацких обычаев. Хотя казаки и сами — недавние украинские, русские и других национальностей крестьяне, они за многие десятилетия своей особой казачьей жизни выработали и свои обычаи, которые, впрочем, лишь в мелочах отличались от общих, крестьянских. Говорили казаки на языке, представлявшем смесь украинского и русского, одевались в одежду, представлявшую смесь одежды украинского крестьянина, закубанского горца и русского солдата или офицера, но они были — казаки и считали себя особым сословием, особыми людьми, хозяевами этой земли.
Хоть и не сложилась казачья жизнь по-задуманному, а все же она была яркой, пестрой, раскованной. По праздникам станицы гудели базарами. Особо широко и радостно, с обрядами отмечались Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Покров. Зимой на льду реки проходили кулачные бои, драки улица на улицу, летом все высыпали на выгон станицы смотреть конную джигитовку, скачки, рубку лозы. Какая славная возможность для молодого казака показать красавца коня, свою одежду и свою ловкость!
Когда мальчику-казаку исполнялось 17 лет, станичное правление бесплатно нарезало ему положенный пай земли примерно в 10 десятин, по нынешним меркам в 10 гектаров. Доходами с этой земли он обязан был подготовить себя к военной службе: купить коня, сбрую, седло, обмундирование, шашку, кинжал. Молодой казак обязательно должен быть грамотным и полностью снаряженным, иначе его не брали на службу, что было великим позором для казака, его семьи, невесты. Неграмотного или совсем бедного казака звали в таких случаях «дымарем» — вылетел в трубу. Но большинство казаков старательно, ревностно готовились к службе, испытывали и себя, и коня на праздниках в скачках, джигитовке.
Осенью и весной проходили шумные ярмарки, недельные и двухнедельные. На станичной площади или в другом удобном месте строились палатки и балаганы, съезжались повозки, арбы, собиралось множество народа. Здесь можно было продать пшеницу, скот, лошадей, купить ткани, плуги, одежду, обувь, керосин, соль, спички. Но не только ради этого собирался народ на ярмарку. Это — праздник! Крутились карусели, качели, клоуны зазывали в цирк, ходили в толпе фокусники, цыганки, визжала шарманка, плясал медведь, попугаи доставали карточки с предсказаниями судьбы, силачи поднимали гири. Как притягивала ярмарка! Как долго шумная пестрота ее согревала сердце в буднях!
Понятно, что хозяевами таких праздников чувствовали себя казаки из тех, что побогаче.
Иногородние тянулись к казачьей жизни, старались подражать ей, ведь многое в ней проверено практикой, испытано временем. Но не очень теперь пускали казаки чужаков в свою жизнь: иногородние платили налоги за тот кусочек земли, на котором им разрешали построить хату; они не участвовали в выборах; дети иногородних учились, если вообще учились, в своих отдельных школах. Даже в мелочах казаки выделялись. Дети-казачата могли прогнать своих сверстников-иногородних со льда реки. На станичных улицах бегало великое множество собак, в каждом дворе их было по полдюжины: едет, бывало, казак, а за арбой бегут три-четыре его собаки; так вот, чтобы отбиваться от собак, казаки ходили с палками, а иногороднему положено — с тонкой лозиной.
Не могли иногородние носить и казачью одежду, хотя сами казаки заимствовали ее у горцев. Вначале переселившиеся запорожцы носили, вместе с чуприной на обритой голове, и свою одежду: сорочку, шаровары, «шириной с Черное море», перетянутые очкуром, казакин с поясом, баранью шапку. Горцы издалека узнавали казаков, обстреливали их. Кому-то пришло в голову надеть черкесскую одежду, которая вводила горцев в заблуждение; уменьшились потери. Одежда прижилась, и с царского разрешения казаки перешли на новую обязательную военную форму: черкеска с газырями, бешмет, кинжал на поясе, шапка-кубанка. В ряды ячеек-гнезд на груди вкладывались вначале трубочки с зарядами, позже боевые патроны к ружью системы «Бердана» и трехлинейной винтовке. Когда появились винтовки с коробками-магазинами, в ячеи на груди казаки-щеголи стали вставлять деревянные палочки, верхняя часть которых была украшена серебряными или золотыми колпачками с насечкой, а богатые казаки прикрепляли к колпачкам серебряные цепочки, концы которых сводились в одном месте и закреплялись на груди.
Красив и горд был казак в алом бешмете, черной черкеске с украшениями и башлыком, кубанке с алым верхом, при кинжале и шашке, на горячем коне! Ну а как пойдут казаки строем — сотней, полком — грянут:
Ой, на гори та жныци жнуть, Ой, на гори та жныци жнуть. А по-пид горою, Яром-долыною Козаки йдуть. Гей, долыною, гей, Шырокою Козаки йдуть!..Где уж тут сравниться с казаками мужикам-пентюхам, иногородним гамселам!
Все казачье выглядело привлекательным еще и потому, что привлекательна для прибывающих, переселяющихся сюда была казачья идея вольной жизни в степи подальше от властей, казачий дух. С этой казачьей вольной жизнью и желали приезжие слиться во всем, не соваться же в чужой монастырь со своим уставом.
Сватанье у казаков носило явные черты обряда, принятого у украинских и русских крестьян, оно должно проходить примерно следующим образом:
«При намерении женить сына отец призывает к себе в дом двух женатых казаков средних лет и, угостив их, просит: «Пiйдить, похлопочить за моего сина». После этого все встают и молятся Богу. Мать жениха, вручив одному из приглашенных, называемых «старостами», «паляницу» (хлеб), говорит: «Iдить с Богом, хай Бог помога». Тогда жених со старостами отправляются в дом невесты, избранной женихом.
При входе в хату староста дает принесенный хлеб отцу невесты, говоря: «Прiймить от нас хлiб и, с хлiбом, нас прiймайте».
После паузы завязывается разговор. Выясняется смысл появления гостей.
Отец уходит в другую комнату для переговоров с женой и дочерью.
Если отец согласен выдать дочь, то говорит: «Питайте дiвки теперь».
Кличут «дiвку», которая непременно становится у порога, а один из старост обращается к ней с вопросом: «Ну, що, дiвчино, пiйдешь за нашего хлопця?» — «Я не знаю, як батько та мати, так и я», — объявляет она. — «Бери ж, дочко, хлiб та отдавай старостам». — «А деж, тату, наш хлiб?» — «Ото, дивiсь, наш… Як знаешь, дочко, хоть свiй отдавай, а хочь их».
Если невеста отдает принесенный старостами хлеб, то это значит — отказ, и старосты с женихом молча уходят домой, где на вопрос родителей жених отвечает: «Гарбуз потяг». При неудачных сватаньях говорят: «Попотягав гарбузiв».
Если же невеста дает старостам свой хлеб, то это знак согласия. Тогда все остаются. Старосты достают полкварты запасенной про случай водки.
Распивши водку, договариваются о «рушниках».
«Рушники» — гулянье у невесты, а затем у жениха родных и знакомых. Затем ближайшие родственники совещаются о дне свадьбы, подарках со стороны жениха и невесты. Произошло «зарученье».
В большинстве случаев о сватанье обе стороны знают заранее, потому и готовится для знака согласия свой хлеб. «На авось», то есть без договоренности, сватаются в случаях, когда совсем не уверены в успехе; у хозяев и хлеба-то для согласия не оказывается, арбуз или тыкву дают, чтобы все-таки что-то дать, а не только вернуть обратно принесенный хлеб. Ну а в случае успеха разрезают принесенный хлеб крест-накрест.
Михаил поторопился посватать Пестю, видимо, еще и потому, что женщин на Кубани было меньше, чем мужчин. В первые годы заселения, например, в 1801 году, на 100 мужчин приходилось 39 женщин; позже это соотношение постепенно выравнивалось, но еще не уравнялось: в первую очередь сюда приходили или бежали одинокие мужчины. Бывало, что и казаки вынуждены были жениться на девушках из иногородних, хотя делали это очень неохотно. Так что гут, как говорится, не зевай, жених, а то бобылем останешься.
День и час сватовства в нашем случае, конечно же, заранее оговаривали. Ясно, что сделать все молчаливо договорились попроще, по-свойски, по-домашнему, без лишнего шума и огласки, что всем живущим на хуторе было понятно. Поэтому Михаил шел свататься не со старостами, а с отцом и кем-то из соседей; шла и мать его, Акулина, ведь предстояло тут же обговорить все практические вопросы будущей жизни молодых — свадьбу, приданое и прочее.
Дело происходило поздней осенью, когда и положено справлять свадьбы. Осень на Кубани очень хороша: солнце нежаркое, но еще теплое и ласковое, поля убраны, вспаханы под новый урожай. Пусты огороды, но полны погреба и амбары, ярко цветут перед хатами астры, циннии, чернобривцы. Нет лучшего времени для свадеб.
Беленькие приземистые хаты хутора, крытые бурым камышом, стояли вдоль Кирпилей в одну линию. Напротив хат, через уличную дорогу, стояли скирды свежей соломы, стога сена.
По этой улице между рядом белых хат и рядом желтых скирд, по дороге, присыпанной былинками крупной, лоснящейся соломы, и шел Михаил со старостами к хате Данилы. Одет он, конечно, в лучшее, что у него имелось, по русской крестьянской моде того времени: брюки заправлены в хромовые сапоги, рубашка-косоворотка навыпуск, подпоясанная тонким ремешком, пиджак и кепка-восьмиклинка или, может быть, высокий картуз. Рядом шли приодевшиеся старосты и мать.
В хате Данилы сватов ждали. Подмели пол, прибрались. Наряжаться хозяевам не обязательно, но одеться надо почище, чем обычно. Ну а невеста надела свою любимую белую вышитую кофточку и нарядную юбку. Мать Пести Феодора Корнеевна и жена Данилы взволнованны и суетливы, Пестя же — растерянна, хмура, не скрывала досады и недовольства, так что на нее приходилось покрикивать. Больше всего ей хотелось в эти минуты, чтобы сватовство как-то отложилось, не состоялось.
Увидев в окошко идущих по улице сватов, в хате засуетились, заканчивая последние приготовления и быстро разговаривая почему-то вполголоса. Пестя, как и заранее условились, выскользнула из хаты и забежала в амбар.
Сваты зашли в хату, покрестились на иконы в переднем углу, поклонились: «Здравствуйте, хозяева, люди добрые!» В ответ с достоинством поклонились и поздоровались хозяева и пригласили гостей садиться.
Гости положили на стол хлеб, и, помолчав, покашляв, все заговорили о погоде, об урожае, о расчетах с паном Шкуропатским. Михаил крутил в подрагивавших руках кепку, украдкой оглядывал хату, начиная беспокоиться, не видя самой Пести. Хотя и отец, и Данила дали свое согласие и дело считалось решенным, Михаил волновался, посматривал по сторонам, вздыхал, слушая совсем ненужный разговор: где же сама-то Пестя, не убежала ли куда, не уехала ли опять на тот хутор, отказавшись выходить за него, а если еще здесь, то что она сейчас скажет.
Наконец гости оставили свой глубоко и искренне интересовавший всех разговор о погоде и урожае, почувствовав, что нашли общий тон и хорошее понимание. Сосед, ощутив поощрительный толчок Николая ногой, с улыбкой завел разговор в том смысле, что вот есть у них купец, а у хозяев есть красный товар… Теперь все смотрели уже, чуть улыбаясь, на Михаила.
Феодоре Корнеевне и Даниле будущий зять не мог не нравиться: степенный, спокойный, даже смирный, крепкий, лицо доброе, работящий, мастеровой. Что еще желать Песте? Хозяева и ответили в том смысле, что они-то не против, хоть уж очень молода красная девица и вроде бы рано ей еще, но как сама скажет, так и будет.
Пестя смотрела в дверную щелку амбара на окна хаты, втайне еще надеясь, что все как-то отложится, не состоится. Но из дверей хаты торопливо вышла жена Данилы и, заглянув в амбар, сказала, улыбаясь, взволнованным шепотом:
— Пошли!
Пестя встала на пороге хаты, тоненькая, шестнадцатилетняя. «Уже не девочка, но еще и не девушка», но в ней уже чувствовался крепкий характер, степная крестьянская красота.
Родителям Михаила невеста вряд ли так уж нравилась: совсем молоденькая, наймичка, ни хаты, ни приданого, но Михаила в семье любили и уважали, все-таки старший сын, отцов помощник, добрая душа, и раз уж так просит, так настаивает — что ж, так тому и быть. Но сегодня они держались уверенно: у жениха много преимуществ перед невестой.
Михаил и Пестя встретились глазами и впервые прямо и значительно посмотрели друг на друга.
По обычаю, Михаил подошел к ней, и они отошли в сторонку, к окошку, немного поговорить наедине. О чем говорить! Какие слова могли выразить их состояние?
Михаил смущенно и успокаивающе улыбался, показывая, что он понимает ее состояние, ее сомнения, но что все будет хорошо. Пестя выглядела растерянной, но она же была красивая девушка, «гарна дивчина», и не могла не показать Михаилу, что она «недовольна».
Данила твердым голосом позвал Пестю и Михаила к столу, строго спросил сестру: «Ну что, согласна?»
Михаил радостно улыбался. Пестя посмотрела на мать, на брата и опустила голову.
«Ну вот и хорошо!» — сказал Данила.
Все обрадованно зашумели, Феодора Корнеевна, перекрестившись, разрезала крест-накрест принесенный сватами хлеб и благословила дочь иконой Божьей Матери. Это была старинная родовая икона, привезенная вместе с другим имуществом с Украины; этой иконой благословила саму Феодору на жизнь с Федором ее мать.
На столе появилась бутылка горилки, и Данила, Феодора Корнеевна и родители Михаила стали обсуждать деловую сторону: свадьбу, приданое, условия жизни молодых.
Хоть и нерадостное, смятенное было у Пести настроение и много сомнений относительно жениха, что и незнакомый он, и не «гарненький», а все-таки сказать о своем несогласии не решилась. Не нашлось серьезных, убедительных для всех оснований и большого личного чувства протеста: Данила приказывал, мать рассудительно говорила о том, что у Степановых своя хата, люди они работящие, что она будет в доме мужней женой, а потом и хозяйкой в доме, а не наймичкой в панском имении. Да и свое одиночество и бесправное положение у хозяйки хутора надоели… А Михаил держался робко, смотрел на нее добрым взглядом, и хоть совсем не таким представлялся ей будущий муж, но, может, так и должно быть.
Свадьба
Свадьба для девушки — огромное событие, как и для всех женщин, всегда проявляющих к свадьбам большой интерес в отличие от мужчин. Может, это от большей эмоциональности женской натуры, более острого ощущения судьбы, но есть и естественные причины: кончалось девичество, начиналась жизнь замужней женщины. Женатый парень мог еще и погулять какое-то время с холостяцкой компанией; замужнюю женщину трудно представить вечером в кампании незамужних подруг — ее осудят, да и дети вскоре появятся, какие уж тут гулянки. Много песен и частушек сложено про бабью долю.
Девушки, красуйтеся, В бабью жизнь не суйтеся: Бабья жизнь не красота, Только сердцу сухота.Любят женщины и просто посмотреть чужую свадьбу, хоть прикоснуться к чужому счастью, примерить его к себе, сравнить со своим, придумать и додумать в своей свадьбе то, что в ней не вышло; окунуться в чужую и как бы додать своей недостававшее. Отрадна свадьба женщине.
Свадьбы на Кубани проходили примерно по такому правилу.
«День свадьбы назначался на воскресенье. Начинали готовиться с пятницы. Пекли из теста «коровай», «борону», «лежiнь», «перепiйцу, «барило», «гребiнку», «шишки» имеющие своеобразные формы.
В субботу жених с боярином, верхами на лошадях, ездят приглашать на свадьбу. Подъезжая к дому, жених отдает свою лошадь боярину, а сам, с плетью в руках, заходит в дом, кладет по три поклона иконам, хозяину, хозяйке, при словах: «Просiв батько и мати, и я прошу на хлiб, сiль, на свадьбу», при этом старшему в доме дает «шишку».
Невеста в этот же день убирает голову цветами, красными лентами и вместе со старшей «дружкой» и подругами обходит с приглашением на свадьбу всех своих знакомых.
Венчание бывает за неделю или за две раньше празднования свадьбы.
Невеста, убранная в цветы, подпоясанная рушником с дружкою, жених с боярином направляются в церковь к обедне. После литургии их венчают. Жених с невестой становятся на платок, под который кладут медную монету (платок и монета остаются в пользу дьячка). После венчания молодые идут в дом свекра. На пороге хаты отец с иконою, а мать с хлебом встречают молодых и благословляют».
Как хотелось бы рассказать в подробностях о свадьбе Песта и Михаила!.. Осень. Убрали хлеб, рассчитались с паном. Можно свободно вздохнуть. Есть что поставить на стол для свадебного гулянья.
Утром, когда под нежарким осенним солнышком ярко пестрели около хаты астры, розы, дубки, циннии и просторно открылись вокруг хутора степи, отец Михаила запряг в выездной тарантас разукрашенную тройку лошадей. То чужих возили венчаться в Тимашевскую, или Днепровскую, или Роговскую, чужих катали по улицам станиц и хуторов, а сегодня — женится сын; надо оказать честь станичному атаману, спросить разрешения, пригласить его на гулянье, а затем везти молодых в церковь.
Нарядная тройка с женихом, «боярином», друзьями подкатила к хате Данилы за невестой. Тут начался шумный и веселый торг «боярина» с родственниками невесты, требующими за нее выкуп.
Но вот дело улажено, и появляется Пестя. Мать помогла сшить ей белое платье и простенькую фату, и юная невеста, тоненькая, стройная, с такими живыми веселыми глазами, легко поднялась в тарантас, села рядом со степенным Михаилом, в темном пиджаке, картузе, светлой рубахе-косоворотке навыпуск, брюках, заправленных в начищенные сапоги. И нарядная тройка получила прекрасное завершение. Любой встречный не мог не остановиться, не улыбнуться.
По степной дороге тройка помчалась в станицу мимо опустевших осенних полей, необычайно просторных, где пролетали лишь стаи птиц. Михаил со смущенной улыбкой поглядывал на Пестю, и она понемногу начинала привыкать к нему, к его неназойливому, стеснительному вниманию.
Станичный атаман принял их важно, но милостиво, сказал молодым наставительные слова о жизни на благо Отечества, напомнил, что живут они на казачьей земле и обязаны почитать казаков как своих благодетелей; от приглашения на свадьбу отказался — уже приглашен на другую, дело осеннее, кругом свадьбы. Михаила и отца это не обидело и не расстроило, они иногородние, из бедняков, на такую честь и не рассчитывали.
Как хорошо было бы рассказать про венчание: легкий туман от волнения в глазах Пести, неловкость жестов молодых перед батюшкой, лучи солнца в окнах церкви, дым кадила и запах ладана, тяжесть медной венчальной короны на голове. А затем — про обратный путь на хутор с сидевшим рядом не женихом уже, а мужем… Как встречал их весь хутор, как обсыпали на счастье овсом, хмелем, благословили прадедовской иконой… На свадебном гулянье пели русские и украинские песни, звучала русская и украинская речь, на дворе плясали гопака, русского, цыганочку, а мужики толковали про аренду, пахоту, волов и лошадей. Сегодня, зная все, зная, что ждет Пестю дальше, как зорко вглядывались бы мы в приметы. Какие знаки подавала в тот день судьба; не споткнулся ли конь, не разбилась ли тарелка, не погасла или не выпала ли из рук свеча, не покрылось ли небо вдруг тучами?..
Как хорошо, как увлекательно было бы подробно рассказать про весь этот светлый и непростой день… И дело не в том, что никто сейчас об этом не помнит, вернее, нет тех людей, которые могли бы помнить. Жалко, но ни такого венчания, ни поездки на тройке в станицу к атаману и в церковь, ни самой свадьбы не было.
Известно лишь, что Пестя после договоренности в виде сватовства собрала свои немудреные вещички, какие у нее оказались к тому времени, и перешла жить к Степановым. Вот и все.
Мать подарила Песте родовую икону Божьей Матери для душевной опоры в новой жизни, наказала молиться, терпеть и уехала в станицу Бородинскую, к другой части своей большой семьи.
Свадьбы не было. Причин оказалось несколько. Главная, конечно, из-за бедности: свадьба — это большие расходы, это показ приглашенным да и всему хутору своей жизни, быта, имущества, дома, а показывать-то особенно и нечего.
Куда посадить гостей, что и в чем подать на стол?.. Свадебные обычаи требуют много всяких неизбежных церемоний. Например, подарки молодым от родителей. А что они могут им подарить? Или показ гостям приданого невесты. Но где у Песта такое приданое, чтоб его можно было показывать, хвастаться всей свадьбе, всему хутору?.. Нет, по обычаям свадьба не получалась, а комкать ее, делать убогой и самим совестно, да и смешить хуторян, а особенно казаков в округе не стоило.
И еще были весомые причины. Допустим, поднатужившись, могли Степановы сыграть кое-какую свадьбу: все-таки денежки не Бог весть какие, но водились, вот и тройка свадебная с тарантасом есть, можно было пустить хоть легкую пыль в глаза хуторянам — поехать в станицу Тимашевскую на тройке венчаться.
Но жених и невеста — иногородние, приезжие, гости на казачьей земле, бедняки — гамселы, то есть хамами сели на чужую землю. И вдруг — на красивой тройке в казачью церковь. А что скажет атаман? А станичное правление? А сами казаки, особенно молодые, не выкинут ли какую-нибудь злую шутку? Чего это, мол, гамселы развеселились, раскатывают на тройке по их станице?..
Опасна для иногородних вся атмосфера жизни станиц, вообще своеобразна, накалена. Исследователь жизни казаков П. О. Кириллов пишет о казаках станицы Стародеревянковской в те годы на страницах «Кубанских ведомостей»:
«Уважение к начальству у казаков только наружное, в душе же они его ненавидят. Пока казак состоит на службе, он при встрече с начальством поневоле отдает честь, но, как только выходит в отставку, казак делается неузнаваем: не только непочтителен к старшим, но при случае дерзок, а при встрече никогда первый шапки не снимет. К духовенству они проявляют больше уважения, но не прочь иногда и над ним посмеяться или создать юмористическую песню, поговорку, пословицу. К лицам высшим себя подобострастия не замечается; к лицам, находящимся в зависимости у них, относятся пренебрежительно и деспотически и не прочь при всяком удобном случае кольнуть фразой: «вы на наших животах живете», хотя бы тот, к которому эти слова относятся, был самый честный работник. Ни любознательности, ни изобретательности в жителях станицы не замечается, но зато скрытность, желание унизить другого, отсутствие привязанности, дружбы, злопамятность и мстительность поразительны. К спорам, часто пустым, и драке проявляется большая наклонность. Драки чаще всего бывают при всякого рода попойках или же при столкновении интересов материальных (при покосах, распашке земли — там, где еще пользование юртом общинное). Были примеры, что при ссорах прибегали к оружию и были смертоубийства. Дух прежнего казачества, удальства проявляется чаще у пьяных, когда бывает зуд в руках и желание кого-нибудь «оттузить»…
Отправляются казаки на службу, служится напутственный молебен; возвращаются со службы по прошествии пяти лет, они непременно складываются и покупают что-либо священное для церкви, останавливаются недалеко от станицы и туда приглашают священника встретить их с крестом и служить благодарственный молебен за благополучное возвращение в свою родину, где столько дорогих сердцу воспоминаний и с нетерпением ждут родные, жены и дети. Проводы на службу сопровождаются гуляньем и пением, надрывающим душу даже постороннего слушателя: сколько слез проливается, сколько потрясающих картин. Вот казак уже прощается с отцом, матерью, женой и детьми и готов уже сесть на коня, как дети безмолвно, инстинктивно цепляются за него и не пускают, а мать, которая вскормила и вырастила на своей груди… нужно видеть ее страдания и слышать те речи, которые льются у нее из глубины души, ее обращения к сыну. Да, при всей кажущейся неприглядности, в этом народе много таких симпатичных сторон внутренней, сердечной жизни, которые в современном цивилизованном человеке редко найдете…»
Любопытен взгляд автора и тон этих заметок: о казачьей жизни в казачьей газете исследователь пишет как о чужой экзотике. При всей симпатии это все-таки взгляд господ на колоритную, но перекрученную, обозленную народную казачью жизнь. Не рискует автор выяснить или хотя бы задать вопрос: за что же «вольные казаки» так ненавидят свое начальство? С чего это вдруг? Ведь это не пустой вопрос. Но автор отлично знает, что тогда надо говорить обо всем, что накалило, обозлило казачью жизнь, — и о земле, и о воле, и о казачьей идее, преданной этим начальством.
Нет уж, лучше Степановым не дразнить гусей, сидеть тихо в их положении, не шуметь, не привлекать внимания. Это общая черта всех приехавших на Кубань иногородних бедняков — держаться незаметно и скромно во всем… Да и родственников не было на хуторе ни у той, ни у другой стороны, так что и звать-то на свадьбу было некого; некому и обидеться, что не соблюден обычай. Так было принято среди бедных иногородних — свадеб не устраивать: не по карману, не по чину, опасно.
Не было свадьбы. И Пестя с Михаилом не отличались от других. Да и долго еще, до послевоенного, послесталинского уже времени редки были в хуторах и в станицах традиционные, добрые, по всем правилам крестьянские свадьбы. Вообще свадьбы бывали, но чаще такие, о которых женщины вспоминают с горечью, с печальными вздохами и слезами; ведь все время жили, стараясь держаться потише, как бы украдкой: то около казаков, то в бедноте, то строили жизнь будущую, где настоящему как-то не находилось места. И у казаков стихли свадьбы после Гражданской войны: столько бед обрушилось на их головы и натворили они сами, что какие тут свадьбы.
Потому пожилые женщины жадно, азартно ходят смотреть на нынешние свадьбы: не сыграли своей путевой, хоть чужую посмотреть, оценить, на чужое счастье порадоваться, около него погреться.
Хоть и не было свадьбы, но нельзя же без венчания. Простенькие венчания крестьянских пар совершались в будничные рядовые дни, когда в церкви мало народу, совершались торопливо, скромно, по сокращенному ритуалу.
Непомнящие родства
Пестя, молодая сноха, пришла в хату Степановых.
Было ей тогда, по ее словам, «шестнадцать и две недельки на семнадцатый». Выходит, Епистинья знала год и день своего рождения, с которым вышла некоторая путаница.
В старости решила она переехать к дочери в Ростов-на-Дону, ей потребовался паспорт для прописки. Но не оказалось никаких документов, в которых были бы указаны положенные данные о времени ее рождения. То ли Епистиния Федоровна не придала всему этому значения, то ли просто запамятовала, но не смогла она сказать день и год рождения, и их записали приблизительно, по показаниям врача, — 5 мая 1876 года.
Позже, когда Епистинии Федоровны уже не стало, в бумагах дочери нашелся старинный паспорт Михаила Николаевича Степанова, выданный ему Генеральшенским волостным правлением Курской губернии в 1911 году: видимо, станичные власти потребовали.
Согласно этому документу Михаил Николаевич родился 23 мая 1878 года в селе Снитском Генеральшенской волости Дмитровского уезда Курской губернии. «Вероисповедание: православное. Род занятий: чернорабочий. Состоит ли или не состоит в браке: женат. Находятся при нем: жена Епистиния 29 лет, сыновья: Александр 11 лет, Николай 9 лет, Василий 4 лет, Филипп 2 лет…»
Таким образом, в 1911 году Епистинье было 29 лет. Значит, родилась она в 1882 году, а не в 1876-м. Вышла замуж шестнадцати лет — в 1898 году. Первенец, девочка, родилась в 1899 году. Все сходится.
Эти расчеты приходится привести потому, что пока в музейных документах и некоторых изданиях указывается год рождения Епистинии Федоровны — 1876-й или даже 1874-й, а в 1966 году при ее жизни торжественно отмечалось девяностолетие, и сейчас вроде бы как-то и неловко уточнять ее годы и подвергать сомнению правомерность юбилея…
Есть сомнение и в том, что она родилась 5 мая. Если, по ее словам, в день замужества ей было «две недельки на семнадцатый», то выходит, что они поженились с Михаилом в середине мая. Но в мае у крестьян не принято жениться. Кроме того, сохранилось в воспоминаниях сетование Епистинии Федоровны на попа за такое неуклюжее имя, которое он ей дал. «Якэ было в святцах, такэ и дал…» В святцах имя «Епистимия» стоит 18 ноября по новому стилю, 5 ноября — по старому. Пожалуй, это число и есть день ее рождения, ведь осень — наиболее подходящее время для свадеб. Вот и выходит, что родилась Епистиния Федоровна не 5 мая 1876 года, а 5 ноября 1882 года.
Путаница и неясность с днем и годом рождения не являются чем-то необычным, они как раз естественны и показательны: не берегут остатки истлевших воспоминаний и сведений в простых крестьянских родах, не придают им никакого значения. А из окружающих кому особенно есть дело до старенькой бабушки и ее жизни?
И вот еще что тревожно. Когда наконец-то была широко замечена трагедия семьи Степановых, внимание к Епистинье усилилось: появились газетные публикации, вышел короткий, но сильный документальный фильм о ней. Но уже с первых публикаций обозначилось стремление рассказывать о Епистинье гладко, «правильно», «как надо»; мало точных деталей, неповторимых черт ее характера, судьбы, сложнейших, запутанных, неуклюжих обстоятельств жизни, что составляет непременную принадлежность каждого жившего на свете и что всегда особенно убедительно в рассказах о конкретном человеке. Ничего нет о жизни ее матери и отца, ее братьев и сестер, об атмосфере давнего времени, когда она жила.
Как странно. Даже когда жила рядом женщина такой судьбы, такой души, и то внимание к ней, к ее жизни всех, включая и близких родственников, было похожим на торопливое досужее любопытство, и на множество конкретных вопросов о жизни Епистиньи сейчас нет ответов. «Если бы мы знали, что это кого-то будет интересовать, мы бы расспросили…» Ну а сами-то, просто для себя!.. «Да она много чего рассказывала, разве мы ее слушали…»
Внимание к другому человеку, сочувствие, желание понять особенности его судьбы и характера, понять строй его души, чувств и мыслей, его настроение требует развитости, работы своей души. Тот, кто прорвался к этому, — все равно что пробудился, он понимает, чего достиг, что открыл в этом мире. Но как мало таких, какая редкость такой человек!
Многим из нас неинтересен другой человек, по большому счету, а не досужему любопытству. Да что там другой человек! Далеко не каждый из нас может связно и твердо рассказать о себе, о своих убеждениях, мировоззрении, чертах и особенностях своего характера. А что это дает? Невероятно много в самопознании человека, в полном ощущении жизни, неискаженном, глубоком восприятии этого мира, в поисках ответов на неизбежные вопросы, встающие перед каждым: как жить, что есть жизнь и смерть, правда и ложь, что есть судьба, счастье, время.
Когда начинаешь сравнивать себя со своими родственниками, — сколько обнаруживаешь сходства, как понятней становятся собственные привычки, черты внешности, особенности своего характера, судьбы!
Приблизительность и размытость представлений решительно обо всем стало нашей бедой. Давно с тревогой замечена неустойчивость сознания нашего народа, отсутствие у него «стойких демократических традиций», уважения к закону, терпимости к иному мнению. И все это вместе с простодушной доверчивостью. Отчего это все?
Стремление к воле, братству глубоко заложено кем-то в кровь, в характер нашего народа. Другим он быть не может, это его суть. На протяжении веков народ наш главное внимание уделял поиску воли, а не свободы, то есть поиску таких форм жизни, которые основаны были бы на любви, вере в Бога, на совестливых братских отношениях в своей среде, и меньше обдумывал формальное общественное и государственное устройство, законы, меньше придавал им значения, полагаясь на более важные, хоть и неписаные законы воли. Слишком велики пространства, на которых он расселился, чтобы жизнь на них была охвачена едиными правилами. Этим постоянно пользовались и пользуются расчетливые, корыстные люди, пробиваясь к власти, образуя правящий слой, устанавливая зыбкие, выгодные лишь себе порядки. И жизнь народа перекашивается, корабль народной жизни кренится, отношения рвутся, путаются, озлобляются и накаляются. По этой гримасе иные судили и сейчас судят о лице и душе народа. По равнодушию к формальным правилам жизни, по отсутствию «стойких демократических традиций» кое-кто говорит о неспособности нашего народа к государственному устроению. Ясно, что это не так.
Но в обиходе все это оборачивается разливанным морем необязательности, своеволия, неточности, нетщательности, неверия в себя, поклонением слову, а не делу. Не развит вкус к правде, какой бы горькой она ни была, легко рождаются и приживаются нелепые выдумки, чудовищные слухи, реальное в пересказе искажается, слишком много говорится «как надо» или «назло», легко рождаются большие и малые легенды.
Все это сказывается на том, что выходит из-под наших рук, на морали и нравственности, на взаимоотношениях людей, на внешнем облике нашего Отечества, на общем качестве жизни. Вот почему в который раз уплывали у нас из рук и земля, и воля.
Как укротить нам расхристанный наш дух, направить его энергию на созидание, на дело? Как связать великую народную цель с будничными делами, не потерять эту цель в текущей жизни?
Воля — высшая форма общественного устроения, наиболее соответствующая духу, характеру и предназначению нашего народа. Но весь многовековой, кровавый опыт жизни народа показывает, что законы воли невозможно воплотить без свободы и демократии. Свобода и демократия — необходимые компоненты воли. Опыт требует постоянного внимания и серьезнейшего отношения к государственному и общественному устройству, требует знания и уважения законов «формальных», соблюдения золотой середины, когда бы народ знал и уважал государственные установления, а те не подавляли бы волю, не отнимали землю. Нельзя народу оказываться в положении, когда он вынужден вести борьбу со своим же государством. Надо охранять волю с помощью демократии и свободы, надо охранять землю с помощью свободы и демократии, и в охране этой надо быть раз и навсегда бдительным. Другого, более легкого пути нет. Люди так устроены, что всегда будут «кристаллизоваться», дробиться на слои и группы, а слои и группы будут стремиться стать правящими, сесть на шею народа. И нужен постоянный трезвый и свободный взгляд на все происходящее в жизни народа.
Надо начинать уважать живущего рядом, его слово, его мнение, а для этого знать себя, других, знать историю своего и других родов, своего и других народов. В истории — великие и убедительные уроки жизни, великий опыт, уже оплаченный кровью.
Не помнящие родства, не знающие народных целей — это люди толпы, изгои, которых легко обмануть, легко двинуть на любое недоброе дело. Ничего не стоит отнять у таких волю, отнять землю.
Стеня
В положенный срок после замужества родилась девочка. Дочка, первенец, Степанида, Стеша, Стеня. Вот уже она весело шлепает босыми ножками по глиняному полу, уже лопочет что-то на радость всем. Затем родился мальчик, Саша, который останется в памяти матери как Саша-старший. Стеня стала помогать матери нянчить братика.
Тогда и произошел нелепый случай, который окончился так горестно.
Валентина Михайловна, дочь Епистиньи, рассказала о происшедшем так:
«Стеня качала в люльке маленького Сашу. Ей было четыре года. У нее с головы спал платок. Она подошла к маме, чтобы покрыла ее. А мама в это время вытащила из печки большой чугун с кипятком и поставила на земляной пол рядом с печкой. Повязав ей платок, мама продолжала свою работу. Стеня направилась к люльке, оступилась и упала в этот чугун с кипятком. Обварилась. Для облегчения ее обложили снегом, это было зимой, и к утру она умерла. Свекор и мой папа сказали: «Если она умрет, мы тебя выгоним». Ей и без того было большое горе…»
Беда, произошедшая со Стеней, частенько бывала в крестьянских семьях: дети крутятся около печки зимой, завороженные огнем, теплом, запахами чего-то вкусного, мешаются под ногами старших, которые готовят обед семье, варят корм скоту и птице, озабочены хозяйственными делами, своими отношениями, а потому прикрикивают на вертящихся тут же детей. И немало детишек, пятясь, садилось в чугун с кипятком, стоявший на полу. В чугун нельзя упасть боком или передом, в него можно угодить рукой или сесть. Вот и Стеня попятилась, споткнулась и… Крики, плач, горе, беда!..
Поднялась суматоха, никто толком не знал, что делать в таких случаях с ребенком. О существовании больниц и врачей имели неопределенное представление, на хуторе врача не было, а идти в станицу — так это казачья больница, казачий врач, да и есть ли он там? Авось как-нибудь сами.
А как лечились сами? Знаток жизни казаков того времени сообщает: «При «несплячке» носят под кур, сидящих на насесте, причем на кур бросают горсть соли с шептанием. От насморка дают нюхать зажженную шерсть с кошачьего хвоста. От лихорадки пьют с чаем горчицу или едят муравьев. От куричьей слепоты окачивают больного холодной водой, так чтобы он испугался». Лечились и травами.
Но это все рассчитано на болезни, которые приходили не сразу и длились долго, а здесь несчастье, и что-то делать надо было тут же.
Кому-то пришло в голову посадить Стеню на снег, затем в холодную воду, полагая, что это снимет жгучую боль. Снег прикладывали к ошпаренным местам и после.
Девочка плакала. Догадались затем смазывать ожоги топленым салом.
Стеня указывала пальчиком на обожженное и просила мать: «Вот тут помажь и вот тут, — и вздыхала по-взрослому, — ох, Господи!..»
Умерла девочка не к утру, а через несколько дней, умерла от воспаления легких: ее простудили, держа голышом в снегу и в холодной воде.
И умолк звонкий голосок, умолкло лепетанье, ушла Стеня, первенец. Открыт счет потерям. Маленький гробик отнесли на печальный курган.
Конечно, вряд ли свекор и Михаил сказали в один голос: «Если она умрет, мы тебя выгоним»; добрый, немногословный Михаил такое и не выговорит. Но в том неожиданном несчастье, вина за которое легла на Пестю, в горе и жалости за девочку с Пестей, наверное, не церемонились и наговорили ей всякого, не считаясь с тем, что это ее дочка, что у нее и самой черно в глазах.
Епистинья позже никогда не жаловалась на свекровь, вообще в рассказах о прошедшей жизни не касалась своих отношений с нею. Очевидно, душевных отношений не сложилось, но и не было чего-то непримиримо злого.
Ведь и у Акулины судьба не подарок: по домашнему, семейному преданию, она еще там, в селе Снитском Курской губернии, выкармливала грудью щенков барина по его приказу… Свекровь могла, очевидно, упрекать Пестю, что она пришла в семью бесприданницей, с пустыми руками, но, сама труженица, она не могла не видеть, что за руки оказались у Пести. Пестя — толковая работница, расторопная, терпеливая, старательная, кричать и ругаться не умела, не капризничала. В домашних делах Акулина сразу почувствовала облегчение, хотя, как и положено, она показывала свою власть над снохой-бесприданницей.
Свекор Николай, труженик, мастер, бывал и добрым, бывал и сердитым, зла подолгу не держал. Но в отношениях к женщине принял правило казаков: бабу всерьез не принимать. Однажды Пестя попросила его взять в семью ее сестру Одарку, которая вышла замуж за казака; тот относился к жене, иногородней, да еще из бедной семьи, в худших казачьих традициях: издевался, бил, выгонял из дома. По принятому у казаков обычаю, когда хозяин возвращается откуда-то верхом на коне, жена должна встретить его, открыть ворота. Замешкалась ли Одарка, или упустила из виду, но не встретила мужа, не открыла ворот. Тот набросился на нее с кулаками, избивал немилосердно, Одарка едва вырвалась, оставив в руках мужа разорванное платье, и в чем мать родила убежала в степь, где пастухи дали ей кое-какую одежду… Свекор принять Одарку отказался: «Даден собаке мосол, хоть сразу ешь, хоть долго грызи», — ответил он расхожей, принятой здесь бытовой мудростью. Не вступился за сестру и Данила. Наверно, и Николай, и Данила опасались связываться с казаками, покушаться на их давние, запорожских времен правила… О судьбе Одарки больше ничего неизвестно; высветился во тьме ушедшего времени кусочек ее жизни, и все исчезло.
Михаил с Пестей решили отделиться и жить своим домом. Задумала-то это, похоже, Пестя. А уж чего задумает жена, то потихоньку, но упрямо добьется от мужа, настоит на своем. «Ночная кукушка денную перекукует».
Глава 5. МОЛОДАЯ ХОЗЯЙКА
С того времени жил он со своей женой по-царски, ездил в коляске, пиры задавал; на тех пирах и я бывал, медвино пивал…
Сказка
Дом невелик, да лежать не велит.
Пословица
«Перекуковала»
Какая же молодая женщина, выйдя замуж, не мечтает быть в доме полной хозяйкой. Это естественно, нормально. Она как бы распрямляется, все ее душевные качества и черты характера, вся ее жизнь, наконец, приобретают направленность и главный смысл. Что бы там ни говорилось, а главное предназначение женщины — быть хозяйкой дома, матерью, хранительницей очага, душой семьи.
Да и чем еще можно заниматься на маленьком хуторе в степной глуши молодой крестьянской женщине, которой не удалось ни одного дня поучиться в школе, даже просто овладеть грамотой. Поэтому все силы эти женщины отдавали дому, семье, хозяйству — своему древнему, вечному, милому сердцу предназначению… В недрах народной жизни — в степных станицах, на хуторах, в лесных селах и деревнях, маленьких городках и поселках, горных аулах и кишлаках, в глуши, в тишине медленно, тягуче текло время, шла огромная, загадочная работа. Тихо покачивались на невидимых крюках колыбели наций. Тут совсем «незаметно» жили и умирали люди, создавались песни, сказки, легенды, рождались и росли дети. Чистой душой дети впитывали прелесть дождей и гроз, метелей и звездных ночей, полуденного зноя, цветов и родников, чувствовали любовь матерей, слушали их простые ласковые слова и песни. Таинственно и мощно копились, росли силы народов, наций.
Как бережно, мудро надо действовать «вождям-наставникам», чтоб осветлить, напитать их жизнь, не дать загнить, сорваться, загрохотать снежной лавиной, не отравить ядом распрей и ложных идей или хозяйственных, технических, политических нововведений.
«Перекуковала» Пестя своего доброго Михаила — они решили отделиться.
Песте надоело чувствовать себя в доме бесправной прислугой и слушать попреки Акулины и Николая. Мать, отдавая замуж, говорила в утешение: «Будешь хозяйкою». По пословице: «С вечера девка, с полуночи молодица, по заре хозяюшка». А тут давно не одна заря миновала, шли годы, но ничего в ее положении не менялось.
От раздела Степановым деваться было некуда. Все в жизни движется, меняется. Нет ничего неизменного, вечны только перемены. За Михаилом женился Пантелей, собирался жениться Фадей. Когда внутри большой семьи появляются новые, они неизбежно разорвут ее. Происходит это болезненно, иногда со слезами, ссорами, а то и скандалами, криками, драками, но естественный ход жизни не остановить. Не остановить приход весны или старости.
И Пестя, и Михаил понимали трезвым умом, здравым смыслом: чтобы отделиться и жить своим домом, действовать надо твердо, но осторожно, обдуманно. Хорошо бы сказать Николаю и Акулине свое желание, убедить их и не поссориться с ними: когда есть родные, то и все идет по-божески. «Русский человек без родни не живет». А родителей вряд ли обрадует их намерение, ведь из семьи уходили два некапризных работника… Требовалось серьезно поговорить и с паном Шкуропатским, на земле которого они жили; от него зависело, дать им землю под хату и в аренду или отказать.
Прежде чем «перекуковать» Михаила, Пестя, конечно же, посоветовалась со старшим братом. «Як скажэ Даныло…» Данила понимал, что труженик Михаил и «моторная» сестра вполне устоят на своих ногах и им действительно пора жить своим домом, своей семьей, своим хозяйством. «Своя воля — свой и ответ».
И Николай, и Акулина сами догадывались, что сыновья, обзаводясь семьями, будут со временем отделяться или потребуют раздела, но, как обычно бывает, известие об этом сваливается неожиданно и звучит обидно для родителей. Они обвиняют сына в неблагодарности и сразу догадываются, кто главный заводила в желании отделиться.
Песте пришлось выслушать много попреков и обидных слов, которые она переносила стойко, чувствуя молчаливую, но весомую поддержку Данилы.
Николаю и Акулине, как и всяким родителям, казалось, что они могли бы пожить еще все вместе. Но запретить наотрез старшему сыну жить отдельно, своим домом они не могли, жизнь-то не остановишь. «Сколько ни куковать, а к зиме отлетать».
Оставалось получить согласие и одобрение пана Шкуропатского.
Генерал
Большой дом генерала, под железной крышей, с хозяйственными постройками, утопавший в зелени деревьев, стоял на краю хутора, в некотором отдалении. Но сам Шкуропатский считал, что это хатки арендаторов выросли недалеко от его просторного дома. Вокруг дома раскинулся сад с аккуратными дорожками и аллеями, обсаженными акацией и сиренью, сад спускался по склону к берегу Кирпилей.
Жителей хутора умилял невысокий курганчик, насыпанный в саду генерала, засаженный кустами сирени. На вершине кургана возвышалась легкая беседка, к которой вела наискосок чистая дорожка; из беседки открывался прекрасный вид на реку, курганы и степные дали за рекой. Когда цвела сирень, светлая ажурная беседка словно бы парила над белым холмом.
Одним словом, дом генерала виделся хуторянам из их хат огромным, богатым и чудесным. Позже, при советской власти, в доме располагались школа, клуб, жила учительница с семьей; в комнатах настланы деревянные полы, и после хат с глиняными полами дом казался хуторским ребятам дворцом. Кое-кто из школьников тех лет на всю жизнь запомнил облицованные цветными изразцами печи в комнатах; нарядные, с блестящими медными вьюшками печи создавали настроение праздника, стояли «как живые», притягивали к себе. Хуторские дети неудержимо, с удовольствием ковыряли их, отколупывая изразцы, бегали по железной крыше дома; быстро исчезла легкая беседка в саду на курганчике, вершину которого вытоптали бойкие ребятишки, вместе с сиренью. Дом исчез, растаял раньше хутора. Ну а сейчас на месте дома ровное поле.
Зимой генерал Шкуропатский жил с семьей в Екатеринодаре, лето проводил на хуторе; генерал владел выделенной ему в свое время генеральской долей земли.
В первые годы после переселения в дикие степи казаки занимались земледелием неохотно: железных дорог, да и вообще хороших дорог в крае еще не проложили, излишки хлеба все равно девать некуда, а труд земледельца тяжелый, во многом ручной. То ли дело скотоводство. Трав вдоволь росло в степях; на зиму стада перегоняли ближе к морю, где снег почти не выпадал, на продажу скот стадами переправляли в центральные губернии. Вот и держали богатые хуторяне тысячные отары овец, стада коров, табуны лошадей, перегоняя их для пастьбы, как красиво писали тогда, «по лицу всей Черномории», имея в виду всю Кубань.
Во второй половине XIX века, когда всю землю заняли, размежевали, закрепили, стало развиваться земледелие, ведь скот надо было чем-то кормить уже только со своих земель. Налаживался и вывоз излишков хлеба через приморско-ахтарский порт, а позже появились и железные дороги.
Земледелие потребовало много наемных рабочих. Хозяева хуторов каждый год волновались, придут ли из центральных губерний крестьяне на заработки в летние месяцы, придут ли косцы, жнецы, не остановит ли их какая-нибудь холера или другое бедствие, не перехватят ли по пути донские казаки, сколько крестьян придет, какую цену назначат они за свой труд. Меньше придет — дороже придется платить да еще смотреть, чтоб не переманил их к себе сосед-хуторянин.
Аренда многим богатым хуторянам казалась делом более надежным: крестьяне-арендаторы «садились на землю», жили здесь постоянно и обеспечивали постоянный доход. Конечно, доход был поменьше, чем можно получать с помощью наемных рабочих, но привлекала его надежность.
Генерал Шкуропатский часть земли обрабатывал с помощью приходящих работников, часть сдавал в аренду. Вот и протянулся недалеко от панского дома ряд маленьких белых хаток вдоль Кирпилей, и ряд этот все рос и рос.
На каких условиях сдавал землю в аренду Шкуропатский, сейчас никто сказать не может. Условия эти не давали возможности разбогатеть, но жить было можно. Вот и Николай с Акулиной получили в свое время землю, вскоре вместо землянки построили хату, завели тройку лошадей и красивый выездной тарантас; умели работать, а может, годы выдались урожайные и условия пана Шкуропатского не были грабительскими.
Семейство Шкуропатских оставило по себе добрую память: мужчины сегодня из того немногого, что когда-то рассказывали их отцы и деды, запомнили, что генерал был хромой и любил выпить; женщины помнят взаимные улыбки и приветствия генерала и хуторян, когда тот с женой проходили иногда по хуторской улице. Шкуропатский не был белой костью, «академиев не кончал», выбился из простых казаков.
У генерала выросло двое детей: сын полковник и дочь учительница. Судьбы генерала и его сына затерялись во времена Гражданской войны, а дочь его свою долю наследства, полученную после смерти генерала, сама отдала новой власти и затем всю жизнь работала учительницей в одной из станиц края. Когда умер генерал и где работала и жила его дочь, что стало с сыном — разве это кого-нибудь интересовало тогда в «развороченном бурей быте», когда еще свежи были следы человеческих судеб в памяти людей; а сейчас, когда на месте ажурной беседки, дивно парившей над белой кипенью сирени, на месте панского дома с нарядными изразцовыми печами протянулось черное поле, а тогдашние жители хутора навек улеглись на кургане, — кто скажет…
Словом, Степановым с владельцем хутора, пожалуй, повезло — он оказался не грозным паном-эксплуататором, грабителем, а человеком свойским, имеющим сердце. Больше того, в Гражданскую войну он спас Пантелея, брата Михаила, от расстрела. Вот как это было.
В 1918 году, когда в степи загремели бои, около хутора остановился отряд красных, занял позицию и вел перестрелку с наступавшими белоказаками. И что-то вдруг заело у красных пушку, и белые стали их прижимать. Красные были мужики простецкие, одним словом — свои, не надо ни шапки ломать, ни вытягиваться, ни бояться неизвестно чего, как перед белыми, где презрительно смотрели на полуграмотных корявых хуторских мужиков господа офицеры, злобно огрызались богатые казаки, да и простые казаки смотрели на гамселов свысока, как на людей второго сорта.
Про сломавшуюся пушку узнал Пантелей, дельный, сообразительный мужик, он быстро разобрался, что там к чему, и орудие вовремя починил. Белым после огня ожившей пушки пришлось отступить. Но все-таки положение красного отряда оказалось тяжелым, и он снялся с позиций, ушел. Пришедшим белым кто-то донес, что стрелявшее по ним орудие починил Пантелей, казаки схватили его, избили и повели в станицу Тимашевскую, в которой после захвата ее белыми шел скорый и кровавый суд над сторонниками новой власти: расстреливали и вешали прямо на улицах.
По дороге казакам, которые вели Пантелея, встретился пан Шкуропатский. Старый генерал распорядился: «Это мой арендатор, он мне много задолжал. Отдайте-ка его мне, я с ним разберусь сам…» Казаки не посмели ослушаться приказа генерала и отдали Пантелея. Генерал спросил его, когда казаки отъехали: «Ты что, и правда пушку красным отремонтировал?» Пантелей не стал врать: «Правда…» Старый генерал махнул рукой: «Ладно, иди. Только не говори больше никому про пушку. Мол, брешут…»
Что тут скажешь. Домашние отношения сложились на тихом хуторе. Генерал не мог поверить, что кончалась прежняя жизнь и не будет к ней возврата; ну, пошумят, постреляют, и жизнь продолжится, как шла раньше. Какая ему польза от того, что одного из рукодельных его крестьян-арендаторов застрелят сейчас в станице. Стоял август, мужики убирали хлеб, они еще уплатят ему долги. Выручил генерал Шкуропатский своего непутевого мужика.
Михаил с отцом сходили к пану. Поскольку Шкуропатский не был вздорным деспотом и ему выгодно оказывалось сдавать землю, то Михаил смог обо всем договориться: и о земле под хату, и о земле в аренду.
Своя хата
На отведенном участке на краю хутора Михаил весной вспахал землю, а Пестя посеяла кукурузу, посадила картошку и всевозможную огородную зелень: капусту, лук, морковь, огурцы, бураки и многое другое. Не забыли и про яблони, груши, вишни, жерделы, несколько кустов посадили для начала в сторонке, чтоб не мешались при постройке.
Ну а теперь надо строить свою хату, вить свое гнездо. «Своя хатка — родная матка».
Какую построить хату — долго мудрить не пришлось: за десятилетия жизни в кубанских степях переселившиеся запорожцы нашли и испытали наиболее подходящий, удобный и дешевый тип хаты. А подходящими для этих безлесных краев с мягкими и недолгими зимами оказались хаты, которые строились в степях южной Украины, так называемые турлучные дома, в которых и жили казаки среднего и малого достатка. Не мудрствуя лукаво, строили их и иногородние переселенцы, украинцы и русские.
Постройка турлучного дома отработана в веках и шла довольно просто, быстро и дешево, а самая тяжелая работа проходила даже весело.
Главное — изготовить каркас из дерева и камыша.
По углам будущего дома ставились столбы по высоте до крыши, которые сверху скреплялись одним-двумя венцами бревен или толстых досок — основой. На основу вдоль дома клались одна или две потолочные балки, матицы, а на них почти сплошным слоем настилались жерди. На жерди расстилался толстый слой камыша. Стены между столбами тоже изготавливали из слоя камыша с жердями. Вот и готов каркас.
Теперь весь этот каркас снаружи и изнутри обмазывали толстым слоем глины, смешанной с соломой. Четырехскатную крышу тоже покрывали камышом. На пол настилался толстенный слой глины, сверху мазалась «доливка», которая придавала полу гладкость и крепость. Вставляли окна, двери, клали печь. Вот и все.
В общем, чтобы построить хату, требовалось немного бревен, кирпича и масса глины, камыша и соломы.
Пестя и Михаил строились на хуторе не первыми, им было проще: хуторяне уже выработали житейские способы постройки и добычи материалов.
Трудней всего было с бревнами. Кое-какой лес когда-то рос в округе, но казаки давно его вырубили, оставались только заросли терна и акации. Корявые стволы акации, не очень толстые, но крепкие, и шли для построек.
Зато камыш — вот он, растет вдоль берегов Кирпилей и по плавням густыми зарослями, высотой в два-три человеческих роста, шуршит, качает мягкими метелочками под ветром. Камыш шел и на строительство, и на ремонт построек, и на плетение изгороди, и на топку печей; требовался он всем, всегда целыми скирдами. Весь хутор стоял взъерошенный, лохматый: камышом покрыты хаты, сараи, амбары, погреба, из камыша сделаны изгороди, шалаши в садах или в поле. Соломенные скирды возле хат или кукурузные заросли в огородах еще больше усиливали добродушную растрепанность хутора. Но при пожарах все это горело легко и быстро.
С наступлением зимы, когда река замерзала, начиналась общая хуторская заготовка камыша. Участки камышовых зарослей распределялись между жителями хутора по жребию; подальше от хутора можно косить его сколько душе угодно.
Замечательная пора заготовки камыша с наступлением сильных морозов хорошо помнится здесь и сейчас, как праздник сенокоса — в центральных областях России. На реку, на поблескивающий под солнцем лед высыпал весь хутор, к берегу подъезжали, грохоча колесами по замерзшей земле, арбы и повозки. На траве и камыше посверкивал иней, изо ртов людей, волов, лошадей шел пар; далеко за рекой блестели купола монастырских церквей, а над просторной, пустой степью опрокинулся голубой купол неба… Гулко потрескивал лед, разносились бодрые голоса, смех, крики ребятишек, жиканье рубалок по льду. Остро наточенной рубалкой, похожей на обычную железную лопату, стебли камыша подсекали, скашивали и собирали в груды; по льду, скользя и падая, их подтягивали к берегу, ну а тут — на повозку или арбу — и домой. Высокие скирды камыша вырастали недалеко от хат, на опустевших огородах; за зиму все это сгорало в печах.
Глина залегала глубоко под слоем чернозема. Места подходящей глины были давно разведаны, найдены и всем известны, за хутором уже выработали глубокие карьеры, глинища — наберись сил и терпения, вози да вози. Иногда станичные правления требовали с иногородних за пользование глинищем некоторую плату, с воза, если глинище оказывалось на станичной земле; генерал Шкуропатский на своей земле не мелочился.
Одному мужику каркас не поставить; Михаилу помогали Пантелей, Фадей, Данила и, конечно, отец. Ну а замешать с помощью лошадиных ног глину с водой и соломой, растолочь ее хорошенько своими ногами, а затем тщательно и аккуратно мазать стены и потолок, забивать пол можно и вдвоем.
Но чаще всего для замеса глины и обмазки стен приглашали родственников и соседей — на «помочь», на толоку. Это был праздник общего труда, бескорыстного, идущего от души. Работали весело, с песнями, шутками, подковырками, воспоминаниями, пожеланиями; такой труд скреплял отношения родственников и соседей дружбой, обнадеживал взаимной помощью и поддержкой на будущее; а поздний общий ужин под звездным теплым небом наполнял души удивительным ощущением жизни.
Вот и готов дом. Хата как хата: камышовая крыша, небольшие окошки и побеленные стены, чтоб жаркое солнце не слишком нагревало ее. Но кое-что и отличало хату Пести и Михаила от других: все хаты стояли к реке «спиной» и смотрели через дорогу на разлегшиеся напротив скирды соломы и стога сена, а их хата смотрела окнами на реку, пойму и широкую заречную даль; кроме того, Михаил сложил в хате русскую печь. У казаков и украинских переселенцев большая печь в хате вызывала насмешки, но достоинства ее оказывались велики, и русские переселенцы за нее держались. Особенно хорошо было печь в ней хлеб; неплохо и зимой прогреть на ней косточки. Русская печь и сейчас еще кое-где сохраняется в домах станичных и хуторских жителей, указывая на их русское происхождение.
Построен сарай для скота и птицы.
Много чего еще надо сделать на участке: огородить его сплетенной из камыша изгородью — «леской», вырыть колодец, погреб, сложить летнюю печь — «кабыцю», построить амбар, посадить сад, да мало ли что еще нужно для ведения хозяйства, но можно переходить в новую хату, пахнущую сырой глиной и крейдой — известкой. Жить уже можно. А доделывать, обживаться сподручней тут же, встав поутру.
Новоселье
По давнему славянскому обычаю, при вселении в новый дом прежде всего вносят икону, хлеб-соль, кошку, петуха и курицу, а затем входит семья и молится. Пестя взяла подаренную матерью на замужество родовую икону Богородицы, маленького котеночка, и вместе с Михаилом, оба почему-то сильно заволновавшись, зашли в хату. Затем занесли колыбельку, «колыску», с маленьким Сашей и выделенное молодым имущество.
Когда уходили от родителей, Михаил и Пестя попросили телку, чтоб вырастить и обзавестись коровой, но свекор ответил: «Сами наживайте». То ли обиделся на сына за отделение, то ли пожалел. Дали на обзаведение кур, овец, кое-какие инструменты для Михаила, ведь и сам Николай с Акулиной начинали свою жизнь здесь на пустом месте.
Утром громко прокукарекал в сарае петух, загорелся огонь в русской печи, поднялся дым над трубой, закудахтали куры, потекла жизнь в новой хате на краю хутора. Впрочем, крайней хата оставалась недолго, вскоре к ней пристроились Свенские, ставшие друзьями, затем Симоненки, Болтгаловы, Цирулики, Ковалевы. А по другую сторону жили: Верменики, Данила Рыбалко с семьей, Чикаловы, Топихины, еще Свенские и еще Свенские, Отрошки, Степанов Пантелей, Цыбули, еще Цыбули и еще Цыбули, Чередниченки, Степанов Фадей с родителями… В лучшие годы хутор насчитывал тридцать три двора.
Встав рано утром, молодая хозяйка и хозяин принялись за бесконечную череду дел, малых и больших, срочных и таких, что можно отложить, текущих и с большим загадом. Началась своя жизнь — жизнь своим домом, своей семьей.
Засветились по вечерам окна, в хате запахло борщом, свежим хлебом, соломой. У сарая в конуре поселился щенок, которого Пестя назвала Шариком, в честь того пса, который пришел с ними с Украины и прибежал к ней однажды на луг, когда ей было так одиноко.
Хозяйка Пестя
В первое время ей все никак не верилось, что вот у нее своя хата, сарай с курами и овцами, огород, рядом муж и над душой нет больше никого. Она хозяйка, которую соседки уже деловито окликали: «Федоровна, дай трохи соли!» или «Эй, Степаниха! Дай серничек!». А ей всего лишь двадцать.
Ранним утром загорался в печке огонь, оживал очаг, и молодая хозяйка принималась за свои дела: надо приготовить обед, подоить корову, проводить ее и овец на пастбище, сыпнуть зерна курам, позавтракать с Михаилом, покормить маленького Сашу, в огороде вскопать, посадить, прополоть, в хате убрать, постирать, сшить…
В уголке у печки сгрудились рогачи и кочережки, на лавке и под лавкой выстроились ведра, чугуны, макитры, на окнах забелели занавесочки, которые Пестя любила хоть немного помережить, прошить цветной ниткой, каемкой, чтоб они выглядели нарядней. Михаил выстрогал стол, лавку, пару табуреток, смастерил в кузнице железную кровать со всякими завитками. На ровном, матово отблескивавшем «доливкой» полу лег перед кроватью маленький домотканый коврик; на стене в рамках появились семейные фотографии, застучали ходики.
Подаренная матерью икона заняла место в красном углу. Рядом с нею появились и другие иконы: в хату зашли однажды монахини из монастыря святой Марии Магдалины, ходившие по хуторам и станицам проповедовать слово Божие, и оценили душевную тонкость, искреннюю почтительность к вере молодой хозяйки; завязались добрые отношения. В праздники перед иконами горел бледной точечкой огонек лампадки; каждый вечер Пестя молилась, обращаясь душой к Богородице, читала принятые молитвы, а еще молча, бессловесно сообщала ей свои желания и благодарности, набиралась душевного равновесия, покорности судьбе. Звон колоколов монастыря, доносившийся до хутора со стороны видневшихся в ясную погоду белых церквей и колокольни, согревал и укреплял душу Пести, снимал чувство одиночества.
В матицу Михаил вбил крюк, на который повесили колыску. Из нее подавал голосок и тянул ручки Саша.
Почти четверть века колыска висела на этом крюке. Бывало, не успеет малыш как следует обжить свой маленький домик, а уж ему, несмотря на возмущение и плач, приходится отдать его новому маленькому жильцу. Иногда, изредка, колыску выносили и ставили на «горище», на чердак, но ненадолго; вскоре ее опять доставали и, обтерев еще неуспевшую насесть пыль, вешали на тот же истершийся крюк в матице.
На самых ранних фотографиях Епистинья — красивая женщина с уже выросшими младшими Илюшей и Сашей. Фотографии далеких лет не сохранились: нет ни одной фотографии Михаила и старшего сына Саши, нет и фотографий Епистиньи, когда она была еще Пестей, хотя такие фотокарточки в доме имелись.
В войну, перед приходом на хутор немцев, Епистинья собрала многие фотографии, письма, другие документы, положила в железный ящичек и закопала на участке. Зарывала второпях, ночью, в темноте, и, когда немцев через полгода прогнали, она пыталась тот ящичек откопать, но забыла, где именно она вырыла для него ямку. Так и не нашла тогда. А затем надвинулось такое горе, что ящичек совсем выпал из забот и из памяти.
Но какой-то неуверенный слух о зарытом ящичке в роду остался. Позже, когда Епистиньи не стало, а в хате на хуторе открылся музей, который стал собирать материалы о жизни матери, вспомнили и про это предание о ящичке. Сотрудники музея перекопали много земли на участке, во всех подходящих местах прощупали землю металлическим заостренным прутом, затем договорились с военными и пригласили саперов, которые обшарили участок чуткими миноискателями, слушая в наушники сигналы земли. Но земля молчала.
Был ли тот ящичек в действительности или это чье-то смутное предположение, остается неразгаданным. А может, ящичек сделан из дерева и, конечно же, истлел, а может, ящичком Епистинья назвала коробку из тонкого листового железа, которую быстро съела ржавчина.
Мы же можем грустно сказать, что никакой самый чуткий миноискатель или любой другой в тысячу раз более сложный прибор не вернет нам ту прошедшую жизнь во всех ее красках, звуках, чувствах, подробностях; не вернет ощущение того загадочного, удивительного, что называется жизнью, что прошло, утекло.
Как жить и зачем?
Но зачем мы вглядываемся в прошлое, разбираемся в давних событиях, что хотим там найти? Сейчас ведь совсем другая жизнь!.. Прошлое, прошедшее вообще притягательно. Ну и главное — прошлое дает нам возможность видеть, как прожили свои жизни многие люди, как жил в веках весь наш народ, куда он шел, чего добивался, к чему пришел. Жизнь многих людей и всего народа перед нами от начала и до конца со всеми радостями и горем, удачами и ошибками. Можно видеть, сравнивать со своей, с сегодняшней, думать, мотать на ус.
Что такое жизнь? Как жить? Зачем?.. Вопросы эти вставали и встают перед каждым живущим на земле; над этими вопросами бились и мудрецы древности, и великие наши писатели, и философы, и всякий живой человек. Вроде бы и найдены ответы, но каждый живущий снова и снова ищет свой, пытается ответить не только умными и глубокими рассуждениями, но и просто всей своей жизнью, своим опытом жизни, своим способом жить. И эта реальная жизнь многих людей притягательна и поучительна, наполняет и твою собственную чем-то недостающим, будто прожил еще не одну жизнь.
Наиболее естественной, наполненной глубоким смыслом издавна считалась многими мудрецами жизнь крестьянина. Это — выверенная веками норма, основа жизни народа, всякого человека, семьи. Крестьянин рождается и живет на земле, рядом с растениями и животными, выращивает хлеб, живет в своем доме, с родителями и детьми, своим трудом добывает себе пропитание, находится в гармонии и живой связи с природой, чьи сложные, глубокие и яркие проявления воспитывают в нем мудрого, думающего человека, прирожденного философа. У него целостное представление о мире, о жизни с ее взаимозависимостями, постоянными кругообращениями, началом и концом, рождениями и умираниями, и сам он умирает в окружении детей и внуков на той же земле, где родился, кладут его рядом с его почившими предками. И он знает, умирая, что дети будут приходить к месту его упокоения.
Крестьянин всегда сильно нагружен, ум его занят практическими размышлениями и соображениями. Он не очень боек в разговоре, скрытен, да и не любит отвлеченных разговоров, кажется неуклюжим в многолюдной суете. Но встанет на его место бойкий горожанин и… или становится неторопливым крестьянином, или все у него посыплется. «У мужика кафтан сер, да ум у него не черт съел».
Истово, яростно, мучительно искали и ищут многие живущие на земле великую истину, смысл жизни, грешат и каются, «спасаются», уходили и уходят в скиты, монастыри или же под пули, в обогащение или нищету, в одиночество или активную деятельность «во благо». Крестьянин же ровно и традиционно, «скучно» занят тем, что вот подходит весна — надо пахать, «помирать собирайся, а рожь сей», а там сенокос, уборка хлеба. Надо строить дом, растить детей, сажать деревья. Нельзя ссориться с соседями, с «миром», губить природу, обманывать ближнего, охаивать Отечество.
Народ насмешливо и твердо осуждает бестолковщину, глупость, спешку, лень, гордыню: «Ехала кума, да неведомо куда», «Незнаемая прямизна наводит на кривизну», «Немудрено голову срубить, мудрено приставить», «Тихо едешь — беда нагонит, шибко поедешь — беду догонишь». Меру и толк, разум и терпение, кропотливый труд, доброжелательность, любовь, совестливость — вот что неизменно и ясно отстаивает здравый смысл.
Великое богатство всякого народа — его житейский опыт, его здравый смысл. Пытаться искоренить в народе здравый смысл под любым предлогом, с помощью всяких идеологий, вер, взглядов, социальных проектов — преступление перед народом. Куда бы занесло и заносит нас без традиционного народного, крестьянского здравомыслия… Потеря здравого смысла в общественных делах, в обращении с народом его вождей лежит в основе всех народных бед.
Вот и перед Епистиньей и Михаилом не стоял так уж остро вопрос: как жить и зачем? Жить, как все люди на хуторе: исполнить то назначение, определенное от веку неизвестно кем, но которое было понятно: построить дом, посадить сад, нарожать детей, пахать землю, добывать хлеб в поте лица своего, радоваться празднику, светлому дню и солнышку, радоваться удивительной, непонятной, но такой желанной возможности жить на этом свете и благодарить за это Всевышнего.
Только что начался двадцатый век. Все его потрясения и кровавые деяния еще впереди. А тут, на хуторе, и вовсе неторопливо, тягуче шло время в будничных трудах и заботах.
На участке, неподалеку от новой хаты, Михаил соорудил небольшую кузню, мехи в которой для раздувания горна были в заплатах, но в ней он изготавливал множество позарез нужных в хозяйстве железных вещей для себя и всех желающих. А в общем, он умел делать все нужное для дома; и сапоги шил, и плотничал, и мастерил столы, скамейки, повозки, сани, кадушки, кровати, пахал, лечил скот. Неторопливо, но постоянно Михаил что-то делал по хозяйству.
Евдокия Ивановна Рыбалко, невестка Данилы, вспоминает о Михаиле с некоторым осуждением: «Но немного у них отец был неповороткой: сидит, курит он часто да все детей зовет на имена: «Да Филя, да Федя, да Ваня, да Павлуша, скорей!», а сам сидит да смеется, да подкуривает…» Судя по всему, Михаил имел свое, твердое представление о жизни, о счастье, потому что не замечалось в нем яростного стремления и желания разбогатеть, выделиться, жить непременно лучше других. Если бы у него было такое желание и деловая, бесцеремонная хватка, то с его руками, грамотностью и мастерством практически в любом ремесленном деле вполне можно было бы начать «выбиваться в люди», хотя бы в пределах хутора.
Но нет, судя по доброму состоянию духа, улыбке, спокойствию, с которыми он жил тогда и занимался делами, ему нравился установившийся образ жизни, и он считал его подходящим для себя и семьи.
Михаил владел грамотой, умел читать, одним из немногих на хуторе начал выписывать газету. К нему стали ходить с просьбами написать письмо, официальную бумагу или просто за советом, о чем позже с гордостью за мужа говорила детям Епистинья. Односельчанин Дмитрий Отрошко отмечает, что «при встрече с дядей Мишей ему низко кланялись».
Поселившиеся рядом с домом пана Шкуропатского русские и украинские крестьяне постепенно составили некоторое хуторское общество с неписаными правилами и нормами, со своими «вождями-наставниками», умными головами, трудягами и лентяями, бабками-повитухами, знахарками, гармонистами, грамотеями, болтунами и мастерами дела. И это сообщество людей жило по-своему сложной и интересной жизнью.
Крестьянин живет рядом с великим миром природы, миром растений и животных, и его работа, вся его жизнь — это взаимодействие с этим миром, воздействие на него. Крестьянин накрепко сживается с окружением — домом, полем, скотом, огородом, срастается с ними и не может оставить надолго, ведь все эти куры, овцы, коровы, огород с капустой, картошкой, огурцами, поле с пшеницей, ячменем, овсом — все зависит от него, как и он зависит от них. Обо всем он помнит, обо всем заботится, все держит в голове.
Крестьянин для непосвященного консервативен, молчалив, тугодум. Но ведь под его постоянной опекой находится целый мир со своим неизменным, «консервативным» способом жить и плодоносить, всякий раз надо хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. — а не повредит ли это его миру. Грубое вмешательство в дела и жизнь крестьянина сразу же оборачивались бедой для него и тут же — для государства и всего народа. Все попытки регламентировать со стороны его жизнь и работу, подчинить их помещику или нашему чиновнику ни к чему хорошему не приводили. Выявлялась лишь тупость, злоба мужикоборцев и администраторов. Неизбежно приходится оставить крестьянина в покое, дать ему возможность хозяйствовать самому.
Течение жизни
Век только начался. Тихо мрел в зное летом и зябнул зимой, дымил трубами затерянный в степи хутор, шершавый от камыша и соломы. Колосились хлеба, цвели сады, выпадал снег, шли скучные осенние дожди. Гомонили дети на улице или на реке, купаясь или гоняя по льду замерзший конский катыш.
Шла жизнь, неповторимая, невозвратная, таинственная и простая, родная и грубая, желанная и скучная. Как черпнуть хоть немножко ощущение той далекой, но настоящей жизни, растворившейся во времени?
Вот что писала газета «Кубанские областные ведомости» о станице Тимашевской, куда жители хутора Шкуропатского ходили и ездили как в свою ближайшую столицу.
«15 октября 1905 года.
Ст. Тимашевская. Станица наша благодаря своему географическому положению — самая глухая и захолустная, хотя не прочь претендовать и на городское благоустройство.
Дело в том, что город от нас совсем близко (Екатеринодар, в семидесяти километрах по железной дороге. — В. К.) и нам хорошо видно, как тот прогрессирует не по дням, а по часам: водопровод, электричество, трамвай, автомобили и т. д. и т. д.; ну, конечно, нам досадно становится: почему бы и нам не устроить того же; надоело ездить в город чуть ли не еженедельно и лишь из-за того, чтобы минутами попользоваться благами городской жизни, тем более что для этого приходится оставлять иногда в стороне все домашние и даже служебные дела.
Ввиду этого некие мудрецы вздумали одним махом преобразовать Тимашевку во что-то необыкновенное, а именно: открыть почтовое отделение, телеграф и электрическое освещение (трамвай потом).
С почтовым отделением в нашей маленькой, захолустной и совершенно чуждой прогресса станиченке еще как-никак мириться можно, хотя, откровенно говоря, из-за 10 казенных пакетов и десятка писем и газет, получаемых в неделю, тратить ежегодно 500 рублей на содержание почтового учреждения, при настоящем самом жалком экономическом быте жителей-казаков, нет никакого смысла (содержать почтовое отделение предполагают на общественные средства).
А что касается электричества, то это не больше как странная фантазия какого-нибудь заправилы. Мы так привыкли к освещению «каганцем», что и теперь не можем обойтись без него, а от электрического освещения, без привычки — чего доброго — еще ослепнем. Лучше остаться при слабом освещении, по крайней мере, мало кто будет видеть и знать всю грязь нашей обыденной жизни. Существующий у нас базар на деле бывает только до 8 часов утра, а потом все торговки уступают место пьяной публике и не знающим удержу ребятам-уличникам, бесчинства и безобразия которых превышают всякое представление о них; драки чуть ли не ежедневно, а уж по праздникам две-три обязательно, и народ так привык к ним, что за великое удовольствие считает посмотреть на разбойнические выходки расходившихся гуляк-пьяниц, иногда даже и из числа представителей общественного схода; видеть полицию во главе с атаманом ни разу не приходилось, всегда действуют дежурные урядники, которые завтра, пожалуй, сами угодят в кутузку за те же безобразия.
Оказывается, нам нужен свет не электрический, а умственный, — свет, благодаря которому мы могли бы видеть и познавать доброе и обуздывать свои дикие привычки. У нас есть и казенная винная лавка 1-го разряда, и гостиница, и пивная, и винный погреб, и темных углов тайной продажи водки хоть отбавляй, а общественной библиотеки и читальни или другого какого просветительного места нет; некуда человеку пойти, чтобы удовлетворить свои душевные потребности, — приходится от скуки идти в гостиницу, протянуть рюмочки две-три и тем разогнать грусть-тоску и скоротать праздничное время.
А ведь у нас четыре учителя и учительница, кажется, есть кому заняться, по примеру других станиц, устройством народных чтений с применением волшебного фонаря; только что-то не видно с их стороны желания к тому, — довольствуются игрой граммофона, который как-то ухитрились приобрести на общественные средства, а для какой надобнос ти — аллах ведает. На устройство школьных зданий и на удобства учительских помещений и обстановки их тратилось и будут еще тратиться тысячи, а пользы от обучения в них детей что-то не видно, — хотя бы один пример был, чтобы из нашей 2-классной школы мальчик пошел дальше в ученье, а не глох у себя в навозе; все это показывает, что ни одному ученику не внушили любви к науке и дальнейшему образованию, а вели с ними лишь одну форму обучения. Печально.
Вот когда мы доживем до дня, в котором будем иметь представление о нравственной жизни и потом об электричестве, паре и других новостях науки, тогда и освещать наш быт будет приятно; стыдиться, наверное, не придется своих поступков, так как, пожалуй, сумеем отличить хорошее от дурного и следовать первому.
Г. Бурко».
Даже сегодня ловишь себя на желании поспорить с неизвестным Г. Бурко, но затем понимаешь, что дело не в каганцах, не в трамвае и электричестве, не в учителях и волшебных фонарях. В этом рассказе о станице Тимашевской — боль за нескладную казачью жизнь; это обозначился покрытый пеплом жар костра — мечта о счастливой жизни, спрятанный вздох о ней. Такие письма появлялись в газете редко-редко, раз в несколько лет, и — словно бы камень булькал в болото, после этого ровным счетом ничего не следовало. Ну а что должно следовать-то? Ведь надо было начинать всерьез большой разговор о всей жизни на Кубани, такой нескладной, такой несправедливой; а казачьему начальству этот разговор совсем не нужен. Либеральное письмо Г. Бурко и появилось-то, видимо, потому, что в России уже год шла первая революция, а на страницах газеты — тишина и покой. Нетрудно понять казачьих начальников и редактора их газеты: можно легко всколыхнуть собравшийся в станицах и хуторах Кубани народ, но ради чего? Чтобы отдать власть, отдать генеральские и офицерские паи земли?..
Шла жизнь, которая кажется однообразной, если смотреть на нее спустя годы, но в течении своем насыщенная множеством больших и маленьких событий, которые постоянно происходили в крестьянском мире, тревожили или радовали душу: выпал снег, отелилась корова, захромала лошадь, потекла крыша в сарае, град побил рассаду, расплата-лись с паном Шкуропатским, приходил нищий странник с сумой и наговорил всяких страхов, грачи поклевали ростки кукурузы, ветер ночью страшно завывал в трубе — к чему бы, сгорел сарай у соседей, утонуло ведро в колодце, потерялась овца…
Маленькие и большие события, дела и заботы густо наполняют жизнь крестьянина, дают ему чувство полноты и естественности его жизни. Скука ему непонятна, и если кто-то начинал скучать и задумываться, значит — заболел. Обычное же, нормальное состояние крестьянина или крестьянки — неторопливое и несуетливое, напряженное или расслабленное, но постоянное занятие самыми разными делами. «Работай — сыт будешь; молись — спасешься; терпи — взмилуются».
Глава 6. МАЛЫЕ ДЕТИ
Сколько в лесу пеньков,
Столько вам сынков;
Сколько в поле кочек,
Столько вам и дочек.
Пожелание молодым в день свадьбы
У кого детей много, тот не забыт от Бога.
Пословица
Мальчики и мальчики
Только выбрался из колыски Саша, зашлепал ножками по «доливке», по земле за порогом хаты, а уж его место занял Коля, родившийся в декабре 1903 года, на Николу-зимнего. Теперь он агукает, плачет, тянет ручки к маме; опять поскрипывает на крюке в матице колыска, звучит колыбельная песенка… Чуть подрос Коля, стал свешивать головку из колыски и подниматься на ножки, родилась двойня, тоже мальчики. Но они появились на свет неживыми.
Что было тому виной? Один Бог знает… Конечно, были и видимые причины.
Молодая хозяйка Пестя с радостью принялась за дела по своему дому. В крестьянском хозяйстве дел этих всегда бесконечное множество, и никто, кроме нее, их не переделает: «Хозяйка лежит — и всё лежит; хозяйка с постели — и всё на ногах!» С рассвета до заката крутится хозяйка в череде дел: надо топить печь, носить воду, готовить обед на семью, корм скоту и птице, стирать, нянчить подраставших Сашу и Колю, сажать, полоть, поливать в огороде, вместе с Михаилом косить сено, убирать хлеб, сеять, пахать, бороновать.
Самую тяжелую работу Михаил брал на себя; но ведь не всегда же он оказывался рядом, когда надо поднять ведро с водой или опустить из печи на пол двух- трехведерный чугун с кормом корове, или нести с реки корзину с мокрым бельем, или подтащить ведро тяжеленной размоченной глины, чтобы подмазать хату или амбар. Ведь даже на фотографиях молодая хозяйка Епистинья, как подшучивал Михаил, «сидит недовольная». Не недовольная она сидит, а озабоченная, очень уж много дел, которыми она, впрочем, занималась охотно, не жалуясь.
Природа, родители наградили ее крепким здоровьем, физической силой, хоть и выглядела она худенькой, стройной. Уже после войны, когда Епистинье шел седьмой десяток, муж Валентины Иван Коржов, приехавший к теще на хутор, попытался поднять вязанку хвороста и кукурузных стеблей, только что принесенную Епистиньей с поля для топки и… не смог. Вот и тогда в молодости Пестя делала тяжелую работу часто сама, не всегда звала Михаила. И работала, как всякая крестьянка, до последнего, когда уж начинались родовые схватки.
А рожали тогда крестьянки где придется, где заставало. Хорошо, если дома, и можно успеть позвать бабку-повитуху: «Погоди родить, дай по бабушку сходить!» А бывало — и одна в поле или в огороде, в дороге, в лесу. Крестьянка Мария Митрофановна Твардовская родила сына Сашу, будущего поэта Александра Твардовского, под только что поставленной ею самой небольшой копешкой сена. Сама же и принесла сына в подоле в хату. Позже рассказывала: «Задержалась с родами-то, услышала, что недоенная корова мычит, так положила Александра на кровать и пошла доить». В бедном домишке появился на свет сын крестьянки Устиньи Жуковой — Георгий, будущий маршал.
После двойняшек через год, в ноябре 1906 года, родился Гриша, которого назвали в честь обозначенного в святцах «преподобного Григория». В марте 1908 года — Вася, названный в честь «мученика Василия»; 14 ноября 1910 года, в день апостола Филиппа, родился Филипп, Филя; в марте 1912 года — Федя, названный в честь «святаго мученика Феодора».
«Та що ж цэ такэ — все хлопцы и хлопцы!.. — жаловалась Епистинья соседкам. — Ну, если и в этот раз хлопец родится, возьму за ногу та и в речку закину!»
Но опять рождался мальчик, и соседки смеялись:
«Ну что же ты, Федоровна, — вроде бы хотела в речку бросить?»
«Та вы гляньте, який вин кругленький та гарненький!.. Жалко…»
Крестить детей носили в станичные церкви, Троицкую или Воскресенскую. Епистинья всегда помнила, какое громоздкое имя дал ей поп, потому что привезли ее крестить в грубой простынке. Не было у нее и сейчас для крещения мальчиков шелковых простыней, но, не очень надеясь на попа, она заранее советовалась с Михаилом, монахинями, соседками и сама давала сыновьям простые русские имена.
С особой жалостью Епистинья вспоминала Стеню, девочка сейчас бы уже подросла, помогала бы нянчить братьев.
«Все хлопцы и хлопцы, мужики да мужики… К войне, что ли? А мне-то будет помощница?»
Наконец услышана была ее просьба, и в декабре 1917 года, в день Варвары-великомученицы, родилась девочка. Ее и назвали Варей.
А там опять пошли мальчики, мужики.
Летом и зимой
Подрастали мальчики и единственная пока девочка.
Вставали на ножки, сначала в колыске, чувствуя, как покачивается под ногами колыбель — уютное гнездышко, ну а затем, держась за перевернутую табуретку, за мамины или папины руки, за руки старших братьев… А вот и сам потопал, пошлепал по глиняному полу, переполз через порог и выглянул, вышел в широко распахнутый, залитый солнышком мир: небольшой хуторок в бесконечной степи, речка за хатой, из-за речки смотрел на малыша задумчивый курган.
Если стояла зима, хорошо было смотреть в белую бесконечную даль за окном, приплюснув нос к холодному стеклу, дыша на него и рисуя тающие узоры. Выйти на улицу в мороз часто оказывалось не в чем — ни сапог, ни теплой одежды. Играли в прятки в хате, грелись на русской печке, пересказывая друг другу отцовские сказки или загадывая загадки: «Дедушка старый весь белый, лето придет — не глядят на него, зима настанет — обнимают его». Ну, это легкая. А вот потрудней: «Бычок рогат, в руках зажат, еду хватает, а сам голодает». И это легкая. Тогда такая: «Родился я в каменной горе, крестился в огненной реке, вывели меня на торжище, пришла девица, ударила золотым кольцом мои кости рассыпучие, в гроб не кладучие, блинами не помянучие». Да, это потрудней. Младшие братья вопросительно переглядываются. Старшие усмехаются — они знают ответ, отец не раз загадывал им эти загадки.
Но иногда, наскучавшись в хате и разогревшись на печке, кто-нибудь, чаще всего озорной, находчивый Вася, предлагал: «А ну, пробежимся!»
Убедившись, что отец в кузнице, а матери не видно, орава ребятишек, мал мала меньше, выскакивала из хаты в одних лишь порточках и рубашонках. Один за другим с восторженными криками бежали босиком по искрившемуся снегу, осыпая друг друга комьями и пригоршнями, вокруг сарая, отцовской кузницы, вокруг хаты, захлебываясь от холодного воздуха, от широкого голубого неба, от белого простора. Прокатывались на пятках по замерзшей луже, мокрые, холодные, возбужденные, забегали в хату, карабкались на печь и, обнимая теплые кирпичи, дрожа от холода и восторга, перебивали друг друга: «А я упал!», «А речка блестит!», «Кот испугался, убежал!», «А снег как сверкает!..»
Утверждают, что основа характера, личности человека закладывается в самом малом возрасте, до пяти лет. Что за мир открывался детям Епистиньи и Михаила, что их окружало, что улавливало еще слабо мерцавшее сознание малышей и что прочно входило затем в сознание и в память подраставших мальчиков и питало их души, их силы?..
Мать и отец…
Вот вошла мама, и мир наполнился радостью. Как хорошо протянуть руки — и вот ты сидишь на ее руках, обнимая за шею. Родное, улыбающееся лицо матери рядом. Она твоя. Можно пожаловаться на что-то, поплакаться, попросить чего-то даже невозможного, просто побыть с ней — и ничего не страшно, и ты полон радости, сил. Епистинья любила детей, любила сильно, но спокойно, естественно, ровно, ими жила; любовь ее была для детей такой же естественной принадлежностью этого мира, как воздух, как солнышко. От мамы шли любовь и радость, и мир невозможно представить другим. Это было прекрасно и нормально, и дети росли нормальными.
Об отце запомнилось детям на всю жизнь — просыпаешься и слышишь: тук-тук, тук-тук. Это отец постукивал молотком в хате, чинил чьи-то износившиеся туфли, сапоги. Или стук доносился из кузницы. Или просто со двора. Раз отец постукивал молотком, значит — все хорошо, надежно, все в порядке в их маленьком мире, в доме.
Отец неторопливый, добрый, любит пошутить. От него пахнет табаком, кузницей. К нему можно и приласкаться, но рядом с отцом ощущаешь другую, новую радость — ты мальчик, вырастешь, будешь большим и тоже станешь работать в кузнице, шить сапоги, ездить на лошади в поле. Радом с ним жизнь сразу становилась серьезней, шире, с волнующими надеждами на будущее. Хорошо взять молоток и тоже постучать. А как тянуло зайти к отцу в кузницу!
И отец, и мать несуетливы, некрикливы, между собой не ругались, избави Бог — не обзывали друг друга грязными или грубыми словами… Мир отношений Епистиньи и Михаила установился живой, непростой, полный забот о хлебе, о наступающем дне, мир понятный, совестливый, честный, и это сильнее всяких поучающих слов действовало на детей.
Михаил любил Пестю, ведь он сам высмотрел ее где-то на хуторе, сам посватался, не зная ее, а чувствуя сердцем, и сердце не подвело. Любовь немножко сковывает, делает уязвимым, дает другой стороне какое-то преимущество… Ясно, что о любви в крестьянских семьях впрямую никогда не говорилось, но чувство это всегда замечалось и ценилось, хотя и называлось это не «любит», а «жалеет». И в нашем случае видно это было не только обоим, но и любому житейски опытному человеку.
Песте пришлось начать строить свои взаимоотношения с Михаилом сразу со второй ступени отношений молодых людей, соединявших свои судьбы, то есть минуя период девической влюбленности, с серьезных, основательных, житейских отношений мужа и жены. Ну а был Михаил от природы простой сердцем, мягкий и к ней, Песте, что называется, неравнодушный. Отношения не могли не сладиться… Но Пестя деликатно, не обижая и не унижая мужа перед родственниками и хуторянами, взяла в семье верх, а Михаил, судя по всему, не очень этому сопротивлялся. Он верил ей, верил в ее душевный такт, в то, что это на пользу семье, дому, что так надо, так лучше.
Бывало, готовя борщ, пошлет Пестя Михаила поймать курицу в сарае и оттяпать ей голову, пока сама она режет капусту. Михаил распугает всех кур, поднимется переполох, кудахтанье, а курицы все нет. Пестя выскочит из хаты, и Михаил глазом моргнуть не успеет, как она держит в руках нужную ей курицу, голова у которой уже свернута набок, и Пестя деловито начинает ее ощипывать, пока теплая.
Но у Михаила оставалась большая независимость в сугубо мужских делах и занятиях. Михаил владел грамотой, к нему приходили с просьбами и за советом, он — кузнец, плотник, сапожник, столяр, хлебороб, и в эти дела Пестя не могла вмешаться и не вмешивалась.
Установилось мудрое семейное равновесие, которое устраивало обоих, подходило характерам и Пести, и Михаила. Ну а маленькие столкновения в буднях жизни, ведении хозяйства — кто же без них обходится, они как-то лучше дают почувствовать и себя, и другого человека, и этот мир. Милые бранятся — только тешатся.
Привез однажды Михаил с базара сапоги подраставшей дочери новенькие, а жене — ношеные, со сбитыми каблуками Епистинья обиделась.
— Якась кривонога носила, а теперь ты мне — и выкинула их за дверь.
Михаил принес их, улыбнулся.
— Да я их подобью, почищу, будут лучше новых.
Что уж там было дальше, не запомнилось Видимо, починил их Михаил, действительно сделал как новенькие, и, наверное, носила их Епистинья, все равно новые купить не на что Но было — выкинула, обиделась она красивая женщина, а он какие-то обноски привез.
Устраивались хуторские и семейные праздники Зимой на Рождество девочки и мальчики, одетые кто во что, в отцовские и материнские сапоги и валенки, кожушки и пальтишки, ходили по хатам «со звездой» Гомонящей веселой толпой, с топотом, смехом вваливались и в хату к Епистинье и Михаилу, обдавая холодом и запахом снега В толпе мелькали и лица Саши, Коли, Васи, а стоя рядом с отцом и матерью или из колыски, восторженно подняв бровки, смотрели на ребят маленькие Гриша, Филя, Федя Впереди у ребятишек — мальчик с палкой, украшенной лентами, к верхушке которой прибита вырезанная Михаилом в кузнице из старого ведра «Вифлеемская звезда» А пели ребята, улыбаясь и ширкая носами, древнюю языческую песенку-колядку, радовавшую сердце всякого крестьянина.
Сеите, сеите на новое лето! Зароди, Боже, жито, пшеницу И всякую пашеницу! В поле ядром Во дворе добром В поле копнами На гумне стогами В клети коробами В печи пирогами На столе хлебами!Епистинья угощала ребятишек пирогами, бубликами, а Михаил давал мальчику со звездой медную копеечку.
Ребята громко, довольными голосами кричали.
У доброго мужика Родись рожь хороша Колоском густа Соломкои пуста!И, уплетая пироги и бублики, с гомоном бежали на улицу, толкаясь и хохоча, шли мимо окон к соседней хате.
Как самый большой праздник отмечалась Пасха. Весна, тепло, цвели сады, уже можно бегать босиком, даже купаться. Белили хаты, мыли и чистили окна и все в хате, скребли граблями сад, подметали весь двор; Епистинья шила мальчикам новые или перешивала из старого рубашонки и штаны, вешала в хате выстиранные, с цветной мережкой занавески и рушники. По хате растекались вкусные запахи; Епистинья пекла большой пышный кулич и множество пирожков, красила яйца. Святить кулич в станичную церковь с вечера отправлялся Михаил. Епистинье невозможно отлучиться из дома на всю ночь: домашние хлопоты, корова, маленькие дети накрепко привязали ее к хате. Попозже, днем, она выберет время и сходит в церковь с такими же озабоченными женщинами… Утром ребята просыпались, кто в чистой хате, кто в амбаре, кто в сарае на сене, и все сразу чувствовали — праздник: пахло пирогами, борщом, а издалека доносился перезвон колоколов монастыря. В хате на столе стоял освященный кулич, который становился центром праздничного стола.
Праздничный завтрак, когда одетые в чистое дети и Михаил садились за стол, Епистинья обставляла торжественно: все вставали, она, обратясь к иконам, читала короткую молитву, все крестились. Посматривая на мать, мальчики немножко скованно разговлялись куличом; ну а затем уж — только, мама, подставляй: вкусный борщ, каша, узвар с пирогами. Ребята бежали на улицу, сунув в карманы по паре крашеных яиц, а Епистинья и Михаил навещали на кургане могилки родных, сюда приходил весь хутор. Ходили в гости: к Даниле, к Пантелею, Фадею. Принимали гостей сами, накрывали стол на подворье под шелковицей. А вечером Епистинья ворчала на Михаила: «Я же тебе на ногу наступала: не пей больше, не пей, а он стопку за стопкой…» Михаил отшучивался: «А я думал, ты мне на ногу давишь — мол, давай, давай, чего стесняешься!..»
Хата… Когда смотришь на хутор издали, то своя хата — как родной человек в толпе: поддерживает, ободряет, одаривает душевным теплом. Ну а вблизи — это теплое гнездо: белые глиняные стены, потолок, маленькие окошки с белыми занавесочками; русская печь, у которой озабоченно колдовала мать, с раннего утра стукала рогачами, двигала чугунки и сковородки; еще одна, маленькая, печь-голландка, для тепла в сильную стужу; на стенах висели фотокарточки в рамках под стеклом, стукали ходики; иконы в углу, перед которыми по праздникам светилась бледная точечка лампадки… В колыске качался кто-нибудь из маленьких.
Все уголки, все в ней: сени, горище, пространство под кроватью, под печью, на печи, сама печь, лавки, столы, часы, зеркало, иконы, сундук — все стало родным, все обследовано, рассмотрено, общупано руками в долго тянущиеся, ненастные осенние или холодные зимние дни, когда на улицу носа не высунешь. А запах хаты, особый, только своей хате свойственный, настоянный на запахах хлеба, борща, теста, дыма, соломы, кизяка, особенно чувствовался, когда возвращался в нее вечером или влетал после пробежки босиком по снегу.
Неподалеку на участке стояла маленькая закопченная кузня из кирпича, где пыхтели мехи, малиново рдел горн, пахло дымом и окалиной, на столике лежали молотки, клещи, зубила, всякие железки, с которыми и колдовал отец. Около кузни лежали плуги, бороны, тележные колеса, оси, старая арба, сани, тягалки. Гудело в горне пламя, отец бил молотом по алому железу, летели искры; завораживало превращение раскаленной, желто-алой полоски железа в полукруглую подкову, дверную ручку, задвижку, стремя.
Если тепло, мать готовила обед в кабыце. Кабыця похожа на маленький паровозик с высокой трубой, огорожена изгородью из камыша, в жаркий, сухой полдень ее накрывает тень от пышной шелковицы. Около печки врыт в землю просторный стол, стояла лавка «ослон», на ослоне теснились ведра с водой, наполненные чугунки, макитры; пустые макитры висели на кольях изгороди. Мать раскатывала на столе тесто, лепила вареники или готовила борщ.
Можно помочь матери — принести воды из колодца или охапку камыша, стеблей подсолнечника, кукурузы, подложить в кабыцю. Или спуститься в вырытый в земле и покрытый камышовой крышей холодный погреб за молоком или творогом, осторожно ступая босыми ногами по скользким ступеням, ведущим круто вниз, с каждым шагом чувствуя, как сильнее, гуще охватывали темнота и холод. Внизу, под слоем камыша на дне погреба и по краям стен наложены с зимы куски льда; много тут всяких вкусных вещей, но страх перед домовым и ледяной мрак выталкивали наверх, к теплу и солнцу, к матери. За любовь к лакомствам в погребе Сашу-младшего, Мизинчика, будут звать еще «киток» — котик в переводе с украинского.
Как ярко белела хата после темноты погреба, как сиял день, как ласково лепетали листья деревьев, какие красивые, пестрые цветы покачивали головками у окон хаты.
Кот терся о ноги, задрав хвост. Дремал в тени, высунув язык, Шарик. Куры рылись в куче мусора… Высоко над хутором медленно плыли курчавые облака. Белые, с лохматыми шапками хаты дремали в зное, дрожали, качались в волнах марева; лениво пылила по улице арба.
Зной, лень, тишина…
Но вот с Кирпилей донеслись ликующие голоса ребят, там купаются или ловят рыбу, раков.
Купаясь в речке, плавая, брызгаясь, хохоча, жутко вдруг ощутить холодное, резкое дуновение ветра, увидеть крупную рябь на воде, а на небе — тяжелую тучу с грозными просверками. Одеваясь на ходу, и весело, и страшно бежать к хате, глядя, как ветер взвивает пыль, клочья соломы, гнет деревья, срывая с них листья. Вбегаешь в хату, когда крупные капли простучат по спине, по макушке, а там — сверкнет, грохнет, и хлынет сизый, свежий потоп.
Печальные события никогда надолго не оставляли Епистинью и Михаила, время от времени напоминая, как непрост этот мир, как непрочен покой и зыбко, мимолетно счастье… Умер от свинки пятилетний Гриша, заразился от кого-то у соседей, когда болезнь посетила хутор. Врач на хутор никогда не заглядывал, надежды были на силы своего организма да на волю Божью… Еще один гробик отнесли на курган.
Но детей много, нельзя долго печалиться, убиваться; надо остальных сберечь, накормить, обуть-одеть, вырастить.
К счастью, дети росли крепенькими, болели редко, за столом подметали все подчистую, сколько ни поставь.
Наготовит Епистинья вареников, поставит на стол большую дымящуюся миску. Дети быстро ладят себе вилки: обстругивают с двух сторон стебелек камыша, чтоб получились на конце два рожка — вот и вилка. Усаживаются за стол: Саша, Коля, Вася. А Филя, Федя, Варя садятся за маленький столик — «сырно».
— Вася, кликни батьку исты, — посылает Епистинья за отцом, который работал во дворе или в кузне.
Вася громко кричит с порога:
— Папаня! — и повернувшись ко всем сидящим за столом, хитро улыбаясь, шепотом добавляет: — Иди обедать.
Ребята понимающе смеются:
— Это он как Обед!
Улыбается и Епистинья.
В мире всякой семьи, маленьком мире всякого хутора, деревни устанавливается своя домашняя среда, которая определяется множеством больших и маленьких каждодневных событий. Об этих событиях узнают все, и они становятся местной летописью, местной историей. Тут трудно сохранить семейные тайны и происшествия, да никто особенно и не старается, убедившись, что это бесполезно. Смешные и забавные случаи, местные драмы и трагедии — все общее, все служит и воспитанию нравов, и развлечению.
Обедом прозвали одного из мальчишек за то, что, крикнув работавшему во дворе отцу: «Папаня!», он сразу же бросался в хату за стол, уже на бегу бормоча вполголоса: «Иди обедать!..» Как бы там без него не съели чего вкусного. Хотелось есть набегавшимся по свежему простору ребятишкам, они росли, они здоровы, у них завидный аппетит, а семьи большие, ребят много, и тут уж не зевай за столом!..
Звездное небо
В душе Епистиньи от рождения и от родительских установлений выработалось особое равновесие, гармония, неписаные правила, в соответствии с которыми она и жила. Основана эта душевная гармония была на любви, справедливости, дружелюбии, на сочувствии к людям, желании добра и ожидании такого же отношения от других, на созвучии этих чувств с чем-то высоким и вечным.
Иконы в углу, молитвы Епистиньи давали ощущение сложности, огромности мира, чувство вековечности существовавшей в мире гармонии и слияния с нею своей души. Никакие блага не нужны были Епистинье, если нарушалась эта гармония, эта веками выработанная в душах людей норма человеческих отношений и отношения к этому миру. Нарушения этой нормы болезненно отзывались в ее ранимой душе, мучили, лишали покоя, уверенности и почвы под ногами. По-другому она просто не могла жить.
Она не любила сидеть с женщинами на скамеечке, грызя семечки и сплетничая; совсем ей это не подходило, не приносило радости. Наоборот, она подолгу мучилась, как от зубной боли, когда хуторские женщины перевирали, передергивали, делали злыми ее слова при пересказе, а до нее доходил искаженный смысл якобы ею сказанного.
С радостью, облегчением погружалась она в заботы и хлопоты по дому, о детях; семья, дом, хозяйство были ей опорой, ее миром. В этом мире отношения с детьми и мужем выстроились в соответствии с ее душевной гармонией; соблюдение неписаных правил приносило покой, радость. Их способна доставлять только честная, чистая, в трудах и заботах жизнь без зла и лукавства. Варить борщ, лепить вареники, сажать что-то в огороде или полоть, ощущая всем лицом парное дыхание земли, растений и все время чувствовать где-то рядом детей, Михаила, думать о них, перебирать сказанное ими и ею, думать о хозяйстве — это было лучшее и естественное для нее состояние. В домашнем мире находила она отраду и отдавала ему все лучшее, что у нее было.
Неназойливо, деликатно учила детей Епистинья; всей своей сущностью, любовью своей вырабатывала, выстраивала и в душах детей то же равновесие, гармонию, то состояние, на котором болезненно и неприятно отражалось бы все дурное и приносило успокоение и радость все хорошее. Изредка говорила нравоучения.
— По баштану идите посередине, не межой, а то соседи подумают, что вы их кавун хотите сорвать. А нам чужого не надо.
— Хлебную корку не назад бросай, а вперед. Трудно будет — вот и подымешь.
— Вареник лепи красивый, чтоб он улыбался.
— Идешь на день, а хлеба бери на три дня.
Дети звали мать на «вы», как принято на Украине, отца же на «ты», как ведется у русских. Епистинья говорила на украинском языке, вернее, на той смеси украинского и русского, которая к этому времени выработалась у казаков и местных жителей и называлась кубанским говором; украинский язык, составлявший основу говора, был крепко настоян на языке русском и приправлен кое-какими сугубо местными словами. Отец говорил на русском языке. На русском велись обучение в школе, служба в церкви и делопроизводство в станичном правлении. Дети говорили по-русски, владели и местным говором, к которому уже в то время выработалось отношение как к языку «простому», деревенскому, провинциальному, но язык этот, мягкий и певучий, был сердечный, домашний и так шел маме.
Вечером отец заносил в хату большую охапку свежей соломы, расстилал ровным слоем на полу у стены. Мать накрывала ее домотканым рядном, и ребята покотом устраивались спать, укрываясь одеждой, «жакытками», и чем придется, прижимаясь друг к другу.
Но бывали и удивительные вечера: в пасмурный осенний или холодный зимний вечер после ужина устраивались около теплой печки и просили отца: «Расскажи сказку!.. Почитай!»
Книжки на хуторе водились, и вот при свете каганца отец читал «Графа Монте-Кристо» или «Капитанскую дочку». А какие сказки рассказывал отец! Про степных богатырей, про медведя и лису, про хвостатых женщин в море, про Змея Горыныча о трех головах.
Знакомая и понятная картина представлялась, когда отец читал: «Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»… Похожая беда стряслась недавно и с ними: в метель ночью хату до крыши занесло снегом. Приходили соседи откапывать.
Уложив спать самых маленьких, слушала и Епистинья, спохватываясь в конце концов: «Ну, хватит каганец палить! Керосину и так мало. Давайте спать».
Хорошо выскочить перед сном на двор и, стоя босиком на снегу, поднять голову вверх, увидеть крупные мигающие звезды, широкий Млечный Путь, размахнувшийся по небу, как степная богатырская дорога, увидеть бесконечную заснеженную степь, темные пятна деревьев, утонувшие в снегу низенькие, взъерошенные хаты хутора, темный кустарник у реки и, испугавшись каких-то мелькнувших теней за сараем, бежать скорее в хату, к матери, отцу, укладываться спать, толкаясь и споря. Вдыхая запах свежей соломы, улыбаясь в темноте неизвестно чему, хорошо закрыть глаза с благодарностью прошедшему дню и радостным ожиданием дня завтрашнего. А в памяти еще мелькали чудесные и страшные образы отцовых сказок и книг, и огромное звездное небо медленно истаивало в душе, оседая в глубине ее, но не исчезая совсем.
В августе 1915 года родился Ваня, названный в честь Иоанна Крестителя, Ивана Купалы; в июле 1917 года появился на свет Илюша, названный в честь Ильи Пророка… Не пустела колыска, не снималась с крюка. Опять все мальчики и мальчики. Старшие вырастали: Саша и Коля ходили в станичную школу для иногородних.
А век уже показывал свой характер, свои зубы: третий год шла мировая война. В далеком Петрограде совершилась революция. Невиданное дело — отрекся от престола царь. Пошли возбужденные разговоры, слухи…
Глава 7. КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон…
М. Ю. Лермонтов.
Предсказание
Горе горевать — не пир пировать.
Пословица
Три главные силы
Главная газета Кубани «Кубанские ведомости» никак не могла набраться духу и сообщить о Февральской революции 1917 года, об отречении Николая Второго от престола. Вести из Петрограда запрятывались в середину газеты среди других, подавались как что-то незначительное и преходящее, как слух, как кошмарный сон, который, конечно же, скоро развеется.
Казачьи власти в Екатеринодаре пребывали в шоке, у них не укладывались в голове сообщения из столицы. Казалось, небо рухнуло на землю, а земля загремела в тартарары. Язык не поворачивался повторить слова депеш и телеграмм, приходивших из центра. Ведь в Кубанском казачьем войске принято было гордиться своей близостью к царю и трону, своими особыми отношениями с царской семьей; из кубанских казаков, специально подбираемых по всей области, состоял конвой его величества. Что бы там ни говорили, а приятно и почетно было кубанцам чувствовать себя приближенными к царю людьми, опорой трона.
В Екатеринодар прибыл комиссар Временного правительства Бардиж. Атаман Кубанского казачьего войска был смещен, полицию разогнали, появились новые претенденты на власть: Дума, Казачья рада, Советы. В станицах образовывались Советы, но оставались и прежние правления во главе с атаманами. Положение складывалось пока неопределенное. Неясно — чья возьмет.
Три основные силы существовали на Кубани: иногородние крестьяне и ремесленники, составлявшие половину всех кубанцев; казаки-середняки, которых было большинство в казачьей половине; богатые казаки и богатые иногородние, которые пользовались огромным влиянием, в их руках была вся власть, хотя их было немного. Эти силы выражали разные желания и намерения.
Иногородние потребовали землю. Казаки-середняки от их требования насторожились, но, в свою очередь, потребовали отменить двадцатилетнюю военную службу и прекратить войну, вернуть казаков с фронта. Богатая казачья старшина испугалась за свои огромные земельные паи, доходы и привилегии, заговорила о казачьей автономии. Но Временное правительство на собственность пока не покушалось, объявило лишь, что отныне все равны, все граждане. Ну, граждане так граждане. А с землей-то как? С войной? С военной службой? Пока шли только споры.
Вслед за Февральской революцией пришел Октябрь с его Декретом о земле. «Право частной собственности на землю отменяется навсегда… Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе…»
После Февраля казачья старшина, богатые казаки-землевладельцы волновались и печалились, так сказать, душою, вообще грустили о прошедших славных временах, царских милостях, походах, службе в столице. После Октября стало уже не до печалей о царской короне. Самих грабят! И кто! Гольтепа, иногородние гамселы, пришельцы, чужие люди, которых казаки из милости приютили на своей земле, кровью заслуженной у царицы Екатерины. Богатые казаки озлобились, закричали о казацком «товаристве», казачьей автономии, покушении гамселов на казачью землю и волю. Заволновались все казаки.
9 декабря 1917 года Совнарком принял обращение ко всему трудовому казачеству; в нем сообщалось, что земельный вопрос в казачьих областях будет решаться в интересах трудового казачества и всех трудящихся «в согласии с голосом трудового казачества на местах». Совнарком отменял обязательную военную повинность казаков, зимние занятия, смотры, лагеря; государство брало на свой счет обмундирование и снаряжение казаков, призванных на военную службу.
Это было сделано потому, что на Дон бежали из центра белые офицеры, где генералы Корнилов, Алексеев и Деникин формировали Добровольческую армию и очень рассчитывали на казаков, донских и кубанских.
В марте 1918 года отряды вооруженных рабочих, крестьян, казаков взяли Екатеринодар, где Второй областной съезд Советов вскоре объявил о создании Кубанской советской республики.
Но с Дона на Кубань, оттесненная красными, двинулась Добровольческая армия под командованием генерала Корнилова, рассчитывая создать на Северном Кавказе плацдарм для похода на Москву, получить от кубанских казаков весомую помощь. Это был знаменитый Ледяной поход Корнилова. Несколько тысяч белых офицеров, юнкеров, студентов, немного казаков и черкесов в конце зимы — начале весны, под холодным дождем, мокрым снегом, ледяным ветром шли по Кубани к Екатеринодару. Вместе с Корниловым был и генерал Деникин. К великому разочарованию Корнилова, Деникина, офицеров, кубанские казаки не спешили их поддерживать: отсиживались в теплых хатах, а то и отстреливались.
Хотя Кубанская республика не имела регулярных армейских частей, располагала лишь отдельными отрядами, Добровольческая армия в боях за Екатеринодар потерпела поражение, Корнилов был убит. Остатки армии вернулись на Дон.
Летом 1918 года Добровольческая армия под командованием генералов Деникина и Алексеева двинулась во второй поход на Кубань. Деникин был взбешен слабой поддержкой казаков. И это вчерашние друзья царя, опора престола!
Ну а за что воевать казакам? Чтоб опять служить по двадцать лет? На землю большинства казаков большевики и гамселы не покушаются, отняли ее только у офицеров, генералов, богатых землевладельцев. Этих казакам не жалко. Кто много потерял, тот пусть и воюет. Такие здравые мысли давали все больше ростков и все больше пугали «тех, кто много потерял».
Занимая одну станицу за другой, Добровольческая армия двигалась по Кубани, легко расправляясь с отдельными революционными полками и ротами, защищавшими станицы.
Саша ранен
Подошли белые и к хуторку Шкуропатскому. Они наступали от станицы Роговской, со стороны монастыря Марии Магдалины. Красный отряд, которому Пантелей помог отремонтировать пушку, отбив атаку белых, отходил к станице Тимашевской, отстреливался, давая возможность своим погрузиться на железнодорожной станции. Хутор Шкуропатский оказался меж двух огней.
Над крышами хутора и меж хат свистели пули, когда поднималась перестрелка. Жители попрятались. Испуганно согнувшись, перебегали из хаты к амбару, сараю, погребу и обратно. Выли собаки. Замерла жизнь хутора, встали все неотложные дела. Коровы, лошади, овцы остались без присмотра.
А ведь на дворе — конец июля, горячее время уборки хлеба. Первого хлеба, который должен бы целиком принадлежать тем, кто его вырастил; земля считалась теперь своей, и ничего не надо было платить пану Шкуропатскому за аренду. Но вот — свистят пули, идут белые.
Степановы прятались кто в хате, кто в амбаре; Михаил скрывался в речных плавнях, опасаясь мобилизации.
Дурной день выдался, несчастливый… Ведь уже подала судьба в этот день недобрый знак: Сашу ранило в руку шальной пулей, когда он перебегал от хаты к амбару. К счастью, пуля лишь задела руку, но эта легкая рана сыграла роковую роль. Руку Саше перевязали, на рукаве и на рубашке спереди остались пятна крови.
К вечеру стрельба стихла. Жители осторожно, с оглядкой выходили из хат и амбаров, торопливо принимаясь за дела. Главная забота — коровы, лошади, овцы; брошенные без присмотра, они разбрелись по окрестностям.
Епистинья с Сашей пошли искать лошадей. В такой суматохе загребут их куда-нибудь — ищи потом ветра в поле, а без лошадей как вести хозяйство? Вдвоем они вышли за околицу хутора. В ложбине у реки нашли одного коня. Саша сел на него верхом и решил доехать до кургана Большая могила — может, туда забрела их вторая лошадь.
Как позже казнилась Епистинья:
— И шо бы мне его не завернуть, колы он дальше в степь к Большой могиле поихав! Стою, дивлюсь ему вслед, уж и не бачу, а все дывлюсь…
Уехал Саша к Большой могиле и вечером не вернулся. Не приехал он и на другой день. Уже отыскалась вторая пропавшая лошадь. Епистинья не находила себе места, где же Саша? Неужели с ним что-то случилось? Ведь такое кругом началось! Шастают злобные казаки на конях, избили и чуть не повесили Пантелея. Спрашивали, искали Михаила.
Наконец Епистинье передали, что Сашу, сильно избитого, видел кто-то в станице Роговской, у белоказаков. Она запрягла лошадь и поехала в Роговскую, расположенную в десятке километров от хутора.
Но вернулась она ни с чем. Увиденное в Роговской ужаснуло ее.
События в Роговской
Станица Роговская, как и Тимашевская, одно из сорока куренных поселений, основанных прибывшими на Кубань запорожцами. Стояла она тоже на Кирпилях, насчитывала несколько тысяч дворов.
Третью часть жителей Роговской составляли иногородние — переселенцы из Воронежской, Харьковской, Курской, Тульской, Рязанской и других губерний, густо хлынувшие сюда после отмены крепостного права. Они нанимались в батраки к богатым казакам или работали кузнецами, плотниками, портными, сапожниками. Иногородние строили хаты или снимали у казаков углы и амбары, считались людьми неполноценными, как бы казачьими слугами.
Но время шло. Богател кое-кто из иногородних, разорялся кто-то из казаков, продавал свою землю; хоть и редко, но казаки женились на иногородних девушках и наоборот; ребятишки вместе купались на речке или бегали по льду Кирпилей, парни и девушки вместе вечерами пели песни и гуляли по улицам станицы, хотя доходило и до стычек, до драк.
Вокруг станицы располагались хутора богатых панов, а в семи километрах от Роговской находился женский монастырь святой Марии Магдалины.
После Февральской и особенно Октябрьской революций станица заволновалась, загудела: как жить дальше? Три силы тянули в разные стороны. Зыбкое равновесие держалось в Роговской, как и по всей Кубани. Иногородние не решались сами начать распределять между собой землю богатых казаков, боялись, что остальные казаки заступятся за своих. Большинство казаков не жаловали, не любили разбогатевших собратьев, а все же они были свои, казаки; но не очень-то слушали они и нашептывание своих богатых начальников — прогнать иногородних, образовать отдельное государство казаков: это значит опять посадить себе на шею этих богачей. Было ясно, что большинство казаков склоняются к поддержке новой власти. Поэтому богатые казаки всеми силами разжигали вражду и ненависть казаков к иногородним, используя малейшие ошибки и просчеты, распуская нелепые слухи.
В марте 1918 года в Роговскую прибыл красногвардейский отряд. Станичный атаман Денисенко сдал командиру отряда печать станичного правления. С приходом отряда кончилось зыбкое равновесие. Созвали митинг, где избрали станичный революционный комитет; комиссаром станицы стал казак Федор Караух, председателем ревкома — казак Федор Головко.
На митинге предупредили богатых казаков и офицеров, что в случае их выступления к ним будут применены решительные меры; офицерам предложили снять погоны, а оружие сдать в ревком.
Ревком решил конфисковать земли богатых хуторян, помещиков и земли женского монастыря, дома купцов и попов, организовать красногвардейские роты. Началась запись в три роты и полуэскадрон, образовали революционный трибунал.
1 мая 1918 года состоялась демонстрация с красными знаменами, лозунгами, красными бантами на груди. Играл оркестр. Станица бурлила. Произносились горячие речи о наступлении новой жизни, настоящего братства народов. Караух, видимо, поняв, что слова о братстве все-таки лишь слова, предложил:
— Надо организовать коммуну. Не в теории, а — практически, в нашем Роговском юрте. Ну-ка, Федька, садись и записывай людей в коммуну, — приказал он двенадцатилетнему гимназисту Феде Палкину, сыну одного из членов ревкома.
Из бывшего станичного правления принесли стол, бумагу. Федя приготовился записывать. Началось обсуждение, что это такое — коммуна и как в ней жить. Записывались в коммуну, выписывались, опять записывались.
Караух предложил разместить хозяйство коммуны на землях женского монастыря. Эта весть всполошила монахинь и всех верующих в округе, что не прибавило коммунарам симпатии.
В монастырь прибыли первые коммунары: бездомные батраки, приехавшие на заработки из других губерний, солдатки, у которых мужья погибли в войну. Остальные решили переселиться попозже, когда уберут урожай на своих участках и огородах…
В Роговской побывал красногвардейский отряд матроса Рогачева, что прибавило уверенности станичным революционерам.
Вновь образованные роты и полуэскадрон ушли из Роговской вместе с отрядом на помощь революционерам других станиц. А в Роговской после их ухода вспыхнуло было восстание офицеров и богатых казаков, которое оказалось нерешительным, и его быстро подавили; но — уже было обнажено оружие, пролилась кровь, укрепились и обострились злость и недоверие.
Для охраны станицы образовали четвертую роту.
Наступил июль. На Кубань двинулась Добровольческая армия, захватывая станицу за станицей.
В конце июля белые напали на Роговскую. Четвертая рота не могла дать отпор хорошо вооруженным белым, она почти полностью погибла. Караух успел доскакать на лошади к бронепоезду. Бронепоезд отходил к Тимашевской, куда отступали и другие разрозненные отряды красных.
В станице же Роговской начался погром: ловили, расстреливали, вешали или истязали ревкомовцев, бойцов четвертой роты, всех сочувствующих советской власти. Коммунаров в монастыре расстреляли и порубили, женщин высекли плетьми.
В этот день один из разъездов белоказаков, шнырявший по округе в поисках разбежавшихся коммунаров, ревкомовцев, отступавших красногвардейцев, и схватил в степи Сашу Степанова. Крепко избили его тут же, затем направили для выяснения в Роговскую, где творилась жуткая кровавая расправа.
Федор Палкин, тогдашний гимназист, позже писал об этих событиях:
«Начался террор в станице. Гибли все, кто не понравился тому или иному мерзавцу. Губили без причины, бессмысленно. За это никто не отвечал, и жаловаться было некому.
Охотились за коммунарами в станице. Пороли плетьми женщин, даже беременных, на глазах детей: «Это тебе за коммунию, а цэ за товарыща, а ище за бильшовыка!..» Вырезали целые семьи. Пороли и издевались на площади возле церкви.
Это было 6 августа, в день Спаса, по старому стилю. И под Благовест храма началась расправа. Хотя женщине не положено, по казацкому укладу, бывать в обществе на майдане, многие казачки увлеклись зрелищем расправы, забыв, что надо святить в церкви мед и яблоки.
Мою беременную мать избили плетью, на конце которой была проволока. Ее отливали водой, чтоб пришла в сознание. Ребенок ее родился преждевременно, мертвым. Избили плетьми бабушку. Деду разодрали глаз. Брату казак ширнул шашкой под бок, она, к счастью, прошла под кожей. Отца поймали и повесили. Бабушка по отцу сошла с ума. Меня исключили из гимназии. Мы с братом пошли в батраки, мне — 12 лет, ему — 11.
Зверства учинялись ради забавы. Старика Ивана Василенко, отца двух красноармейцев, разрубили на куски, разбросали эти куски собакам.
Лютой ненавистью отличалась кулацкая часть казачества, офицерство.
Казацкие семьи, сочувствующие Советской власти, особенно жестоко уничтожались. На спине отца комиссара Карауха вырезали: «Земля и воля».
Как утверждает Ян Полуян, в станице Роговской в это время погибло около 1000 человек…»
Гибель Саши
В разгар этой расправы и приехала в Роговскую Епистинья.
Пыталась ли она попасть к атаману станицы, другим белым начальникам, или сразу увидела бесполезность этого и даже опасность для собственной жизни, или кто-то из знакомых или монахинь посоветовал поскорее уезжать, пока саму не схватили, — неизвестно. Конечно, своя жизнь, может, и не так уж была ей дорога, но ведь в хате оставалось еще семь ребятишек. Михаил скрывался в плавнях, и если ее схватят, изобьют до полусмерти, а то и застрелят, — что будет с ребятишками?
Не схватили в Роговской Епистинью, но вернулась она ни с чем. Лишь ужасные сцены кровавых расправ застыли в глазах.
Белые захватили и Тимашевскую. По улице Казачьей у здания станичного правления построили две виселицы и одну на базарной площади; более двух тысяч человек погибло в те дни в Тимашевке. Белоказаки казнили даже попа Павла Ефимова за то, что он отказался освятить веревки на виселицах.
Вскоре Епистинье передали знакомые: Сашу зверски пытали в Роговской, выбили ему глаза и зубы, а затем расстреляли вместе с другими — захваченными коммунарами, ревкомовцами, бойцами четвертой роты, вместе со всеми заподозренными в сочувствии к новой власти. Расстрелянных свозили к глинищу, сбрасывали туда и закидывали землей.
Кровавый разгул таких масштабов в станицах Кубани не был случайным. Ни в чем не повинного Сашу, множество иногородних, казаков, их семьи затянуло в хорошо продуманную и организованную резню.
В пришедшей на Кубань армии Деникина прекрасно понимали, что большинство кубанских казаков склоняются к признанию новой власти. Деникин хорошо помнил Ледяной поход, когда офицеры Добровольческой армии шли через кубанские станицы и хутора, встречая равнодушие, а то и пули. Если казаки сейчас объединятся с иногородними в поддержке Советов — на юге России да и вообще дело будет проиграно. Значит, хватит церемониться. Надо не просто раздуть вражду между ними, а натравить одних на других, открыть злобную войну; обильно пролитой кровью навсегда, напрочь отрезать возможность сближения, встряхнуть всю Кубань. В составе деникинских частей были специальные «волчьи сотни», задачей которых было резать, убивать, казнить, жечь, втягивать в кровавый разгул как можно больше казаков.
Когда части наступавшей Добровольческой армии подошли к станице Роговской, то недолгим был бой между белыми и четвертой ротой, состоявшей из плохо вооруженных пожилых жителей станицы. Но этот бой как бы дал белым право на особо жестокую расправу. После разгрома четвертой роты и начались резня, бессмысленные убийства, сведение давних и свежих счетов и обид.
Вот и Саша попал в безжалостную бойню. В сумерках наскочил на конный казачий разъезд, который обшаривал степь, опасаясь налета красных, отошедших к Тимашевской. Семнадцатилетний юноша верхом на коне в степи, раненный в руку, конечно же, вызвал подозрение разъезда.
Сашу схватили, решив, что он или разведчик красных, или ускакавший из Роговской боец четвертой роты. Его допрашивали здесь же, не церемонясь. Но Саша, как полагали казаки, порол им наивную ложь про заблудившуюся лошадь, и его повезли в Роговскую.
В Роговской Сашу узнал атаман станицы, у которого было неприязненное отношение к Степановым.
Объяснения Саши, что в степи он искал лошадь, а рана — от случайной пули, казались наивной выдумкой. Не походил он на наивного хуторского паренька, слишком упрямо и твердо смотрел в глаза, дерзко отвечал, весь был из другого мира, слеплен из другого теста, казался одним из тех, которые и взяли власть, и устанавливают другой, свой порядок. Всем существом своим он был чужим их превосходительствам, господам урядникам.
Саша вырос в семье, где его любили. Чувство справедливости, чести было впитано им с молоком матери, развито всем духом жизни семьи. Саша никак не мог вилять, унижаться, плакать и трусливо просить о пощаде, на избиения он ответил гордым упрямством; не валялся в ногах, не умолял простить, а побои не приводили его к покорности. Белые чувствовали по его твердости, что он что-то защищает, что-то отстаивает. Значит, из красных, из идейных. Наверное, взгляд Саши выводил их из себя, они догадывались, как выглядят в его глазах, и ослепили его.
Его избивали, принимая за красного разведчика, борца за новую власть и новые порядки. Саша им не был. Но погиб он бойцом, в одиночку отстаивая свою веру, свою честь и достоинство, которые так ненавидели в восставшем народе белые господа. А красных приводило в ярость гордое достоинство господ офицеров, дворян. Лучшие, сильные духом с обеих сторон, цвет русской и других наций погибали в первую очередь.
Надо было бы…
Епистинье не хотелось больше жить.
Она подолгу сидела неподвижно, перебирая подробности того рокового дня: и пулю, которая царапнула руку Саше, окрасила кровью его белую сорочку, и лошадей, пропавших в степи, и глупую свою заботу об этих лошадях в такое время, а не о сыне, и его улыбку на прощание, и то, как сама все смотрела, смотрела вслед как завороженная, а позвать, вернуть Сашу оказалась не в силах. Почему так? Иногда она видела в этом какую-то роковую предопределенность, неизбежность, и это повергало ее в состояние окаменелой печали, а иногда чувствовала собственную вину, горячую, острую: не остановила, не пожалела сына, не вызволила, не поддержала даже в смертный час, и тогда, пугая детей, кричала, плакала и не хотела жить.
Епистинья всегда была до крайности ранимой. Душу ее больно царапали даже простые житейские несправедливости, косые взгляды, искажение кем-то ее слов, подозрение в желании кого-то обидеть.
«Посередине баштана идите, не по меже, а то подумают, что хотите чужой кавун сорвать…» Не дай Бог — даже подумают о ее семье или о ней самой плохо.
Ей хотелось со всеми людьми, окружавшими ее, в первую очередь с мужем и детьми, а также с родственниками и хуторянами, со всеми живущими на этом свете установить добрые отношения, основанные на взаимной приязни, помощи, симпатии, на чем стояло и старое казацкое товарищество. Любые, даже маленькие недоразумения в семье или в отношениях с соседями, хуторянами расстраивали ее. К сожалению, в той жизни, грубоватой, а то и откровенно несправедливой, было много причин для душевных страданий. Вот почему Михаил шутливо упрекал ее за то, что она «даже на фотокарточке сидит недовольная…».
Доходило до смешного. Евдокия Ивановна Рыбалко рассказывала в наши дни: «Пришла я раз к ней, а она сидит и плачет. «Тетя, что случилось?» — «Да вот Филю побила, а потом так мне его жалко стало — вот сижу и плачу…» А Филя тут же сидит, тоже успокаивает: «Мама, вы не плачьте, мы слушаться будем».
Саша был умный, красивый мальчик с такой же тонкой ранимой душой, он отлично учился в школе, и учителя предлагали ему непременно учиться дальше, в гимназии. Может, и удалось бы Михаилу и Епистинье наскрести денег на обучение Саши в гимназии в Тимашевской или Роговской, куда в виде исключения принимали и иногородних, но началась война. Все сразу резко подорожало, а то и исчезло из лавок, магазинов, началась спекуляция. С такой большой семьей, с оравой ребятишек — не до учебы.
Саша помогал дома по хозяйству. Он хорошо пел, писал стихи, просто говорил какие-то поэтические строки, мысли, которые Епистинья охотно за ним повторяла. Долго-долго помнила такую: «Если жить — будем жить, а умрем — и чтоб не было горя».
В эти черные дни Епистинья перебирала всю короткую жизнь Саши, догадываясь, какие физические и душевные муки принял ее мальчик там, в Роговской… Вот незадолго до этого она как-то упрекнула Сашу, что он очень уж холодно разговаривает и обращается с девушкой-ровесницей. Саша ответил: «Мама, боюсь, она привыкнет ко мне, и ей… ну, ей трудно будет отвыкать. Я не хочу, чтоб она потом мучилась». Если же говорить прямо, он хотел сказать: «Она влюбилась в меня, но я ее не люблю и не могу обнадеживать или играть на ее чувствах, это принесет ей большие душевные страдания. Поэтому лучше остановить это в самом начале». Наверное, уже была в его сердце какая-то другая девушка. Весна семнадцатилетнего Саши и его ровесников и ровесниц только-только начиналась.
А тут… Она с непередаваемым ужасом представляла, как бьют там, в станичном правлении, ее Сашу, ее старательного доброго чистого мальчика, как выкручивают ему руки, выбивают зубы, глаза!.. Она бледнела, ноги ее подкашивались, она стонала, кричала: «А-а-а!..» Спохватываясь, убегала в сарай, в амбар, пряталась от людей, от детей. Картины зверского избиения, а затем расстрела ослепленного, изувеченного Саши терзали ее душу и сердце, отнимали силы и желание жить.
Она точно знала, всей душой чувствовала, что в ужасные эти свои часы, ночью и днем, Саша звал ее, молил помочь ему, плакал от боли, ужаса, страха, унижения, а она не услышала, не помогла ему, не кинулась в ноги атаману или какому-нибудь другому начальнику, не умолила простить ни в чем не повинного сына. А потом его, слепого, застрелили и бросили в глинище. И ее не было рядом с ним в эти страшные минуты!.. Как же так! Она бросила его, родного мальчика! Не вернула его еще тогда, когда он поехал к Большой могиле за лошадью, а она стояла и, словно чувствуя, что видит его в последний раз, все смотрела и смотрела ему вслед. Как странно улыбнулся он, отъезжая тогда в степи к кургану, — и печально, и прощально. И не оглянулся больше… Надо было бы!.. Надо…
Дети хотят жить
Не утихала боль в душе Епистиньи, равнодушно делала она неотложные дела по дому и хозяйству. Тяжелей стала ее походка, погасли глаза, две глубокие морщины залегли на лице от крылышков носа к уголкам рта.
Не хотелось жить.
Но под сердцем вновь толкнулось дитя: нарождалась новая жизнь, требовательно заявила о своих правах.
А из колыски подавал голос и тянул ручки навстречу маме годовалый Илюша; теребили мать, хныкали, чего-то просили, на что-то жаловались, втягивали ее в маленькие свои заботы трехлетний Ваня, четырехлетняя Варя, шестилетний Федя. Они не очень-то обращали внимание на ее состояние, такая скучная мама им не нравилась, их не интересовало ее горе, они еще не понимали, что это такое.
Филе исполнилось восемь лет, Васе — десять, Коле — четырнадцать; эти мальчики уже понимали, что к чему, и, испуганно притихшие, посматривали на мать с жалостью, совсем перестали шалить. Старшим сыном теперь стал Коля. Он сразу повзрослел, больше помогал по дому. Михаил то появлялся в хате, то опять скрывался. Появляясь, отец теперь уже с Колей советовался по хозяйственным делам, как раньше советовался с Сашей.
Дети понемногу расшевелили Епистинью.
Надо было жить: кормить и воспитывать детей, вести хозяйство, где ничего нельзя надолго упускать из виду, где постоянно нужен глаз да глаз, работа и работа. Ничего нельзя тут отложить на потом или забросить, всему приходил свой срок, и хочешь не хочешь, а надо делать.
Не за горами зима. Надо убирать огород, запасать топливо, корм скоту, ремонтировать хату и сарай, и раз уж власть опять старая — расплачиваться за аренду с паном Шкуропатским.
Перекатывались по южнорусским степям волны Гражданской войны. В любой день война снова могла прийти на хутор, и к этому тоже надо быть готовым.
Установилась шаткая, неопределенная, гнетущая атмосфера. Расправы в станицах ужаснули многих своей бессмысленной жестокостью. Чувствовалось, что за эту обильно пролитую кровь придется отвечать, ведь ясно было видно: что-то навсегда сломалось в устройстве Российской империи и прежних порядков уже не вернуть.
Никто не знал, как и что будет дальше, более того, никто не знал, как должно быть. В головах была путаница, кто только чего не предлагал!.. Но реальность выглядела ужасной: глубокая трещина прошла через казачью жизнь, жизнь всех кубанцев, разделила их на белых и красных, и они нещадно рубили друг друга. Бои шли недалеко от этих мест, кто победит, чья возьмет — один Бог знает. Хоть и сидели в Роговской и Тимашевской снова станичные атаманы, но чувствовали себя не очень уверенно. Одних казаков сложившееся положение привело к растерянности и осторожности, у других, уже запачкавших руки кровью, оно вызывало дикую злобу. Виной всему, считали многие казаки, — иногородние, большевики, это они принесли смуту на славную Кубань. Копилось раздражение и против белых офицеров, господ, втянувших Кубань в кровавую бойню.
Мужики-иногородние по станицам и хуторам, в том числе и Михаил, Пантелей, Данила, Фадей, сидели тихо, не высовывались.
В феврале 1919 года у Епистиньи родился мальчик, которого, заглянув в святцы и увидев там в этот день «мученика Памфила», назвали попроще — Павлом. Он решительно вытеснил из колыски полуторагодовалого Илюшу, к его великому изумлению и ревнивой обиде… Павлик уменьшил душевную боль Епистиньи, немного примирил ее с потерей старшего сына, не столь остро и обесиливающе болело теперь в груди.
Надо жить, надо растить детей, не дать им пропасть.
Казачья доля
А у казаков голова шла кругом. Деникин требовал полной поддержки своих планов, поддержки людьми и хлебом. Людьми, чтобы набрать армию и идти на Москву, хлебом, чтобы рассчитаться с государствами Антанты, снабжавшими его оружием. На Кубани было мобилизовано сто тысяч человек для деникинской армии, а заграничным кредиторам отправлено более миллиона пудов кубанской пшеницы, полмиллиона пудов муки, более сотни тысяч пудов ячменя.
Но не очень-то хотели казаки воевать в деникинской армии. Их все больше и больше привлекала идея превратить Кубань в «самостийное государство», давняя идея — жить самим по себе. Или объединиться со старыми друзьями, донскими казаками, в одно государство — Казакию. Кубанская рада направила делегацию на Парижскую мирную конференцию, где представители кубанского и донского казачьих правительств обратились к РСФСР с предложением о мире. Рассвирепевший Деникин арестовал двенадцать руководителей и членов Кубанской рады и хотел всех их перевешать, но последствия такого шага могли быть для него печальными. Повесил одного.
Разделилась Кубань на белых, на красных, на самостийников, на тех, кто ничего не понимал в происходящем и хотел лишь, чтоб прекратились резня и стрельба. Судьба, случай причудливо перемешали всех и распределили по разным сторонам, не спрашивая на то их согласия.
Весной 1920 года красные пришли на Кубань окончательно. Разгромленная белая армия, где находились и кубанские казачьи части, откатилась к Черному и Азовскому морям, в лихорадочной спешке, бросая коней и оружие, погрузилась на пароходы и уплыла в Турцию, Югославию, Болгарию, Румынию. Там, на чужой земле, казаки долго лелеяли мечту — вернуться домой, в свои станицы, плакали и проклинали несчастливую судьбу.
Память о Саше
Ушли белые, ускакали несмирившиеся, запятнавшие себя кровью казаки, рассчитывая вскоре, конечно же, вернуться. А в станице Роговской сотни людей пошли к глинищу, чтобы найти там казненных родных людей и захоронить их по-божески, по обычаю. Ездила туда и Епистинья.
Валентина Михайловна, тогдашняя пятилетняя Варя, кое-что запомнила из того далекого дня.
«Помню-то я так, чуть-чуть, какие-то кусочки несвязанные. Солнечный день, тепло. Пришла к нам тетя Нюра, какая-то мамина родственница, где она жила и куда потом подевалась — не знаю. Тетя Нюра толстая, полная, бедра вот такие, крутые. Веселая. Зашла в хату, а тут братики мои кто в колыске, кто на полу, кто у мамы на руках. Тетя Нюра спрашивает: «Шо, Пестя, уси твои?» А тут со двора вошел Федя, потом Филя, потом Коля… Тетя Нюра брови подняла и все спрашивала: «Пестя, и цэ твий? И цэ?.. И цэ твий! Боже ж мий!» И все хлопала руками по своим крутым бедрам. А мама улыбалась.
Запрягли лошадь в бидарку, легкую какую-то. Потому что тетя Нюра долго на ней устраивалась, бедная бидарка вся перекосилась. Я и мама кое-как пристроились. Я всю дорогу боялась вывалиться… Приехали в Роговскую. Огромная такая яма, кругом народищу! И в яме бродят люди… В сторонке черепа лежат, клочья одежды. Помню, какая-то женщина тянула из земли кружевную ленту с остатками платья и по ленте этой узнала дочку… Осталось в памяти, что мама нашла Сашину фуражку, но как это было — не помню. Больше ничего от Саши не нашли… Все, что обнаружили в глинище, перезахоронили в братскую могилу на площади в станице. А глинище закопали и позже запахали. Сейчас вряд ли кто и скажет, где оно было…»
Нашлась только фуражка, рваная, полуистлевшая. Подросли ребята, Сашину одежду износили. Ни одной фотографии Саши не сохранилось. Долго висела на стене в хате похвальная грамота в рамке, грамоту дали Саше в школе за хорошую учебу. Написанная красивым почерком, она хранила память о Саше, но позже исчезла куда-то. Осталась память о Саше — боль в сердце Епистиньи.
Взяли красные атамана станицы Роговской. Жена атамана ездила по хуторам с письмом-просьбой к новым властям помиловать его, просила всех подписать, так как якобы никому ничего худого он не делал. Заходила она и к Степановым. Михаил с Епистиньей готовы были ее просьбу подписать. Но брат Епистиньи Свиридон Рыбалко, недавно тоже чуть не растерзанный казаками в станице Бородинской на берегу Азовского моря, соседи, хуторяне удивились и напомнили про Сашу, в избиении и расстреле которого виноват был и атаман.
Михаил с Епистиньей отказались подписать письмо. Тогда супруга атамана, садясь в повозку, бросила Епистинье: «Да чтоб они у тебя все сгинули!..»
Глава 8. РОСТКИ НОВОЙ ЖИЗНИ
Счастья в жизни нет, есть только
зарницы его — цените их, живите ими…
Лев Толстой — Ивану Бунину
Что было, то прошло; что будет, придет.
Пословица
Кровавое похмелье
Россия приходила в себя. Надо было начинать жить. Ведь не ради крови содрогалась в боях, злобе, резне, митинговых криках огромная страна, должно было родиться дитя новой светлой жизни. Но где оно? Видны пока только горе, слезы, разоренье, вражда. Море народной жизни возмутилось, раскачалось, со дна поднялась муть, сор, на поверхности плавала пена.
Кубань совсем не походила на рожавшую дитя женщину. Ее состояние можно сравнить, пожалуй, с состоянием казака, которого зазвали на чужую гулянку, где он сильно набрался, с кем-то сцепился, выхватил саблю и натворил кровавых бед, а теперь, связанный, избитый до полусмерти, очнулся в чьем-то сарае и с ужасом вспоминает, догадывается, что все происшедшее не дурной сон, а правда.
Большинство кубанских казаков не хотело воевать ни за белых, ни за красных: белые — это опять господа, долгая военная служба, офицеры, зуботычины, война, плетки против студентов и рабочих в городах; красные — это власть иногородних, с которыми надо было уравняться в правах и наделить их своей казачьей землей. Лучше всего — жить как задумывали с самого начала, когда переселялись из-за Буга на Кубань, жить самим по себе, со своими казачьими порядками, радой, волей, землей, как жили деды-запорожцы.
Но — втянули казаков, как им думалось, на чужое гулянье, втравили в драку. Кто воевал за белых, кто за красных, кто ухитрился и за тех, и за других, кто отсиделся, и выбор часто зависел не от самого казака, а от случая, от судьбы.
У иногородних тоже не проще: их загребали и в белую армию, и в красную, иным удавалось отсидеться в камышах, особенно жившим на тихих хуторах.
Разбили белых. Вместе с белогвардейцами уплыло за море немало казаков. Многие белые казаки разошлись по станицам, одни — с облегчением, другие — с надеждой, что «свои» вернутся. Гуляли по степи, таились в речных плавнях банды, проводили кровавые налеты, расправляясь с комиссарами, ревкомами, советами.
Семь мальчиков и одна девочка
Исчез пан Шкуропатский с семьей, опустел богатый, на взгляд хуторян, панский дом на краю хутора. Платить за аренду земли теперь некому, да и не нужно.
Но на хлеб, выращенный и собранный среди тревог и боев, оказывалось слишком много едоков. Летом и осенью 1920 года Кубань должна была дать стране 65 миллионов пудов хлеба, это — седьмая часть разверстки всей голодной Советской России. Такой хлеб из разоренной Кубани выколачивали силой.
В марте 1921 года продразверстка была заменена продналогом. Но в этом году после сильнейшей засухи в ослабленной стране разразился голод. Засуха не обошла и Кубань, хотя здесь она оказалась не такой, как в центре или Поволжье. По хуторам и станицам бродили хлынувшие со всех краев голодающие, нищие, беспризорники, кочевали цыгане. Проводили заготовку продовольствия вооруженные отряды, действовали без церемоний и жалости.
А тут у самих восемь детей, которые давно уже не наедались досыта и оживали только весной, когда в полях и на огороде начинала расти и поспевать кое-какая зелень, а на речке можно ловить рыбу, раков. Не во что было одеть ребят, не во что обуть.
«Вы не боритеся, не балуйтесь, а то порвете рубашки или штаны, у меня ведь больше ничего для вас нету! И так — латка на латке и латун сверху», — останавливала Епистинья сыновей, которые подрастали, шалили, молодыми петушками наскакивали друг на друга.
Восемь ребятишек: семь мальчиков, одна девочка. Все смотрят на мать ожидающими глазами: мама накормит, мама сошьет что-то надеть; опять Епистинья «недовольная», озабоченная, как, где оторвать от детей, чтобы им же выменять на базаре продукты на ношеные рубашки, штаны или что-то, что можно перешить, приспособить.
На хутор наведывались, ходили по хатам монахини из монастыря. Одетые в темное, они старались быть незаметнее, не привлекать внимания к себе новых властей.
О чем шептались монахини с Епистиньей, что внушали, о чем спрашивали? Что бы они ни говорили, но все же монахини были единственные, кто пытался деликатно и умно утешать ее в горе.
Смутно было и на душе у монахинь, они сами нуждались в поддержке: земли у монастыря отняли. Монастырь боролся за свою жизнь, пытался возродить былое влияние.
Восемь мальчиков и две девочки
Постоянные заботы, чем накормить детей, во что одеть, поглощали все время, все силы. И Епистинья насторожилась, огорчилась, когда под сердцем вновь толкнулось дитя. Нет, нет! Хватит. Хоть бы этих вырастить, сохранить, не дать им пропасть в такое время. И люди на хуторе усмехаются — ну вот, народили. Не нужно больше детей.
Она поднимала тяжелые ведра, трехведерные чугуны, ставила на живот огромные тыквины, и всякое другое делала, только чтоб избавиться от ребенка. Не хотела она, чтоб этот несчастный увидел голодный, нищий, озлобленный мир, чтоб уменьшил и без того скудные кусочки братьев.
И все-таки в январе 1921 года ребенок родился: девочка — крошечная, недоношенная, но хорошенькая, «гарненькая», похожая на маму. То, что родилась девочка, немного утешало Епистинью. Назвали девочку Верой, Верочкой… Росла она слабенькой, и в сердце Епистиньи поселилось и закрепилось навсегда чувство вины перед ласковой, тоненькой, бледненькой дочкой. Она по-особому любила Верочку, свой грех перед ней не давал ей покоя всю жизнь.
Верочка потихоньку подрастала, вот уже поднялась на ножки, вот уж и пошла. Колыску забросили на горище, подальше, думалось, все, больше детей не будет. Но судьбе угодно было другое: весной 1923 года, 25 апреля, родился мальчик. Было ясно, что он — последний. Поскребышек, «мизинчик».
Епистинья после Верочки и думать не смела, чтобы помешать новому человеку появиться на свет: нельзя брать еще один грех на душу. Чему быть — того не миновать.
Мальчика назвали Сашей, в честь старшего. Живой, быстроглазый, ну конечно же, «гарненький», он действительно оказался очень похожим на Сашу-старшего, стал общий любимец. Саша-Мизинчик.
Теперь — все, хватит. Уже и от людей неудобно: ведь старший, Николай, жених. Да и десятилетняя Варя, помогавшая нянчить Верочку и Сашу, совершенно серьезно заявила матери: «Вот я этого мальчика вынянчу, и чтоб больше не было».
Вот и все дети. Что бы там ни было — потери, несчастья, беды, трудности, но — вот они, дети. Десятеро: восемь мальчиков и две девочки.
Мизинчик качается в колыске под наблюдением няньки — сестры Вари. Варя гордится своим воспитанником перед подружкой Нюрой Свенской, соседкой, тоже нянчившей братика-малыша, гордится, что ее Саша такой хорошенький, что у него живые смышленые глазки, что у него быстро прорезались зубки, а в одиннадцать месяцев он уже сам пошел, потопал ножками по земле. Трехлетняя Вера уже самостоятельно открывает этот мир, и хоть она росла тоненькой, бледной, задумчивой, но и за ней нужен глаз да глаз. Павлуше пять лет, Илюше семь. Два эти крепыша похожи на отца: такие же статные, круглолицые, курносые. Ване уже девять лет, он тянется к старшим братьям, самостоятельный, независимый, лицо у него миловидное, худощавое — это от мамы, Епистиньи, а вот лоб отцовский, высокий. Так вот и спорят Епистинья с Михаилом в детях: она дает им нежную миловидность, а статные и лобастенькие они в отца.
Федя, Филя и Вася — уже подростки, не сегодня завтра будут женихами. Федя молчаливый, задумчивый, даже печальный, все, что ни скажешь, делает старательно, безотказно… Филя на первый взгляд, судя по выражению лица, страшно серьезный, но, не меняя этого серьезного выражения, он любит подшутить, что-то выдумать, рассказать забавную историю, подковырнуть кого-нибудь, весь простецкий, свойский, притягивающий к себе. И все же недаром у него серьезное выражение лица — он бывает вспыльчивым, резким, но быстро отходит, опять подшучивает. Эта черта — рыбалковская, есть в их роду неожиданная вспыльчивость, горячность. Филя — крестьянин, любит ухаживать за скотом, любит землю… Ну а Вася, красивый, улыбчивый, разговорчивый, всегда был душой компании, заводилой, организатором. Он быстро научился шить сапоги, играть на гитаре, мандолине, балалайке, был семейным парикмахером, хорошо танцевал, и девушки около него вскоре так и закрутились. Крестьянские дела, земля, животные интересовали его мало, какой-то другой мир притягивал его и образовывался вокруг него — мир общего праздника.
Николаю, старшему, уже за двадцать. Он степенный, неторопливый в суждениях человек, отцова опора и помощник, но за внешней степенностью в нем пробьется вдруг неожиданная резкость, непредсказуемость в поступках.
Михаил Николаевич выменял у цыган на бричку хорошего коня, подкормил его, и Николай стал гарцевать на нем лихим казаком, даже брал призы на возрождавшихся скачках, где казаки и иногородние выступали теперь на равных.
Коля-Николай
Да, Николай уже взрослый. Следующий за ним по возрасту Вася отстает на пять лет. Вася, Филя, Федя, Ваня, не говоря уж об остальных, пока еще дети, и хоть они все непохожи характерами друг на друга, но все же для матери ребята эти понятны, они еще послушны, тянутся, ласкаются к маме… Николай держался уже как-то отдельно, первым обозначил старинное родительское заключение: с большими детьми — большие заботы.
Первым обжегся о жизнь Саша-старший. Чистый и добрый, прямодушный ее мальчик обжегся жестоко, сгорел. Но ведь время было какое… Казалось, тогдашняя война и виновата в той беде.
Но вот выпорхнул в жизнь еще один выросший птенец, еще один сын, Николай, и тоже обжегся о жизнь, опалил крылья, сбился с полета… А позже об эту жизнь придется обжигаться всем ее птенцам, всем ее детям, девочкам и мальчикам, еще задолго до войны.
Николай держался в семье независимо. Разница в возрасте отделяла его от братьев. Он играл на гармони, затем у него появился баян, который, по дошедшим воспоминаниям, он сделал сам, очевидно, отреставрировал, восстановил, используя остатки старых инструментов.
Сам Николай — стройный, сильный, с густым чубом. Не могла не появиться у такого бравого парня хорошая девушка, и она появилась, добрая, любящая, работящая, то есть такая родная, единственная, с которой хочется прожить жизнь, нарожать детей.
Жила Аня на соседнем хуторе Волковом, куда она с отцом Пантелеем Ивановичем и мачехой откуда-то переехала. Выдавали они себя за иногородних, но почему-то и в некоторых сегодняшних воспоминаниях говорится, что «невеста Николая была из богатой казачьей семьи». Когда расспросишь поподробней, выясняется, что у Пантелея Ивановича было обычное середняцкое хозяйство: несколько лошадей, несколько коров, пай земли, как у всех, работали сами, без батраков. Но жили они заметно богаче Степановых. Что же касается казачьего происхождения Пантелея Ивановича и его новой жены, то сейчас спросить не у кого, но похоже, что именно принадлежность их к казачьему сословию и сыграла главную роль в драме Николая.
Пантелей Иванович Сердюк и его жена не скрывали своего отношения к Николаю, семье и вообще роду Степановых, роду Рыбалко: «Нищета, голь…» Но Николаю казалось: подумаешь, богатей, казак, сейчас другое время, власть советская, все равны, всем открыта дорога. Они с Аней любят друг друга; не хочет Пантелей отдать дочь замуж добром — украдем.
Тогда вдруг широко распространился экзотический обычай — воровать невест, которых родители не хотели за кого-то отдавать. Молодые люди росли с другими представлениями о жизни, у них завязывались свои связи, свои дела, а родители помнили другие времена, там были воспитаны, вынесли из тех времен свои понятия.
Молодым людям приходилось самим устраивать свою жизнь. Тихонько договаривались. Ночью к хате невесты подъезжала тачанка, дрожавшая от волнения девушка выпрыгивала в окно с узелком одежды в руках, и тачанка мчала ее на другой хутор. Тут заранее подыскивали хату, где девушка могла тайно побыть, пока утрясется дело. Ну а наутро что делать остается родителям? Раз девушка побывала в руках у парня, ночью, за другого ей уже замуж не выйти. Надо смиряться, благословлять, играть свадьбу… А как это ночное приключение волновало и привлекало молодых, каким виделось сказочно красивым, романтичным!
Опять — жар костра
Прежде чем рассказать и романтическую, и житейски простую драму Николая, историю неудачного похищения невесты, хотелось бы хоть немножко передать условия того времени, его своеобразный запах, особую музыку, хотелось бы ощутить суровый холст той жизни. Любой случай, вырванный из той среды, ткани и рассказанный отдельно, не передаст всей трагедии.
На хуторах вообще все шло просто, по-домашнему. Паны, владельцы хуторов, исчезли вместе с бежавшими за море белогвардейцами и белыми казаками. Иногородние на хуторах вздохнули с явным облегчением. Хоть и давила новая, своя, власть налогами, но после многих лет униженного бесправия, безголосия иногородние почувствовали себя людьми, равными с казаками.
В станицах жизнь сложилась тяжелей, затаенней. Большинство здесь составляли казаки, многие из которых участвовали в Гражданской войне на стороне белых или, как в станицах Тимашевской и Роговской, были втянуты в кровавую резню иногородних, мобилизованы, а теперь, после разгрома, тихонько вернулись, спрятали винтовки и шашки и сидели по хатам, занялись хозяйством. Многие не смирились с поражением, ждали: «Вот придут наши».
Казаки считали себя обиженными: власть перешла к гам-селам, чужакам, хоть и немало казаков было в Красной армии, в Советах, коммунах, большевистской партии, а у казаков-середняков новая власть ничего не отняла, не тронула их землю. Иногородние, живущие в станицах, не спешили торжествовать или мстить казакам — опасно, может вспыхнуть резня. Две стороны затаились.
Лишь время делало свою работу: затягивались потихоньку обнаженные жгучие раны, подергивался пеплом жар пылавшего недавно костра войны и взаимной ненависти.
Потомки запорожцев получили трагический жестокий урок — нельзя свое благополучие строить на унижении своего же народа, нельзя в суровые дни держаться в стороне и уж тем более воевать против народа, защищать господ; ведь запорожцы заслужили славу защитников бедных и обиженных, гордились дружбой не со столичными барами, а с Разиным, Булавиным, Пугачевым. Но урок уроком, его мало кто понял, а жили многие казаки сегодняшним злым чувством.
Проще, оптимистичней жили люди на хуторах, но напряжение в станицах волнами расходилось по хуторам, держало и их в беспокойном ожидании неизвестно чего.
Символичной для этих лет стала история общекубанской святыни — монастыря святой Марии Магдалины, звон колоколов которого доносился до хутора Шкуропатского, а в хорошую погоду поблескивали купола. Жизнь и судьба монастыря, все, что в нем и с ним происходило, — оказывало прямое воздействие на жизнь окрестных станиц и хуторов, на жизнь хутора Шкуропатского, Епистиньи, Михаила и их детей.
Судьба женского монастыря святой Марии Магдалины
В музее семьи Степановых есть старинная цветная литография: «Женская общежительная пустынь во имя св. Марии Магдалины. Основана в 1849 году в Кубанской области». На берегу Кирпилей стоит окруженный высокими кирпичными стенами монастырь: сияют купола церквей и соборов, стоят чистенькие монастырские здания, по аккуратным дорожкам среди деревьев, цветников и клумб гуляют монахини в темных, длиннополых одеждах.
Указано, что монастырь состоит из следующих построек:
«Собор трехпрестольный: средний — Вознесения Господня. Второй — св. Архангела Михаила. Третий — св. Дмитрия Ростовского. Церковь первоначальная, Покровская. Церковь теплая во имя св. Равноапостольной Марии Магдалины, при ней же настоятельский покой. Трапеза, кухня, просфирня, кельи. Училище. Мастерская живописная и золотошвейная. Аптека. Больничный корпус. Хлебная. Дома для священнослужителей. Амбары, гостиный двор и корпуса для посетителей. Кучерская, башмачная, квартира для урядника. Дровники. Виноградный сад, при нем же пасека. Кладбище…»
Многие монастыри доведены были за годы советской власти до печального состояния: разрушены постройки, растут березки на стенах церквей и соборов. Наше время вдыхает в монастыри новую жизнь… Когда же оказываешься у монастыря святой Марии Магдалины, охватывает чувство недоумения: «А где же монастырь?»
Просторная площадь среди села Малинина, деревья, тропки в траве; в одном месте стоят два каменных амбара, в другом — жилой домик, в траве чернеет гранитная могильная плита с надписью. О чем-то напоминает лишь двухэтажное здание трапезной, обшарпанное, но хранящее следы былой красоты, в нем сейчас некая контора. И все. Нет стен, церквей, трехпрестольного собора, красивых дорожек и цветников. Все снес ветер времени.
Высказывается сегодня на Кубани идея — восстановить монастырь во всей его красе, ведь край небогат памятниками истории. Идея добрая. Для зажиточной Кубани восстановление монастыря не составит огромного труда. Тогда будет хоть отчасти снята вина перед ним за разорение. Это и будет покаяние — в деле.
Две вехи в истории монастыря: процветание и исчезновение. Между ними нас особенно интересует тот период, когда произошел решающий поворот, который привел монастырь к грустному концу. Это и были двадцатые годы, ткань жизни которых нам надо ощутить.
Итак, стоял на берегу Кирпилей женский монастырь, сиял белыми стенами и куполами церквей и трехпрестольного собора. Звон колоколов далеко разносился по безлесной степи, по глади реки. На Шкуропатском заметили: если видны купола церквей вдалеке, значит, надолго устанавливается хорошая погода. По праздникам к монастырю съезжалось множество народа: казаки, иногородние, богомольцы из дальних мест, нищие, убогие, устраивались торжественные богослужения, крестные ходы.
У монастыря святой Марии Магдалины имелись своя земля, хозяйство, наемные рабочие, жил монастырь и приношениями, вкладами, завещаниями людей, желавших замолить грехи свои с помощью монахинь.
Неподалеку, на острове Лебяжьем, который обтекала речка Кирпили, основан был позже и небольшой мужской Лебяжинский монастырь, победней, поскромней внешне, чем женский.
Ревком станицы Роговской в 1918 году изъял у монастырей их земли, как и земли богатых казаков, офицеров, генералов, тем самым монастыри были поставлены в ряд врагов новой власти.
На отобранных у женского монастыря землях, заняв некоторые помещения монастыря, попыталась начать жизнь коммуна «Всемирная Дружба», в которую Федя Палкин назаписывал несколько десятков семей переселенцев-бедняков и некоторых казаков. Покушение на общекубанскую святыню, на землю кротких, тихих монахинь многие казаки и иногородние считали кощунственным. Члены коммуны были преданы анафеме, а когда пришли деникинцы, с коммунарами расправились особенно жестоко.
Свидетельница тех давних событий Анастасия Иосифовна Иорданова рассказала:
«Мне тогда семь лет было. Батько с матерью переехали из Воронежской области. Жили плохо, бедно. Ну, записались в коммуну. Тут опять пришли казаки. Господи, что они творили, что творили! Батька убили, всех мужиков порубили. Матери дали плетей на площади около церкви. Били плеткой особой, на конце проволока. Мама умирала и то помнила: на спине всю жизнь полосы, болело… Я хор казаков по телевизору видеть не могу: казаки в такой форме, в черкесках, шапках, широких штанах и рубили наших батьков. На наших глазах».
Где-то там, в районе монастыря, казаки схватили и Сашу Степанова.
Тень кровавой расправы над мирными людьми легла на монастырь.
И когда уплыли за море деникинцы и белые казаки, Федор Караух с еще большей бесцеремонностью начал вселение коммуны в монастырь.
12 июля 1920 года 221 человек переехал на территорию монастыря. Начала свою жизнь коммуна «Всемирная Дружба». Коммунары заняли часть помещений внутри монастыря. В коммуну потянулось множество неприкаянного народа, занесенного на Кубань революцией и голодом; к концу года насчитывалось уже около 700 коммунаров всех возрастов, самых разных профессий и национальностей. Тут были бывшие солдаты и бродяги, казаки и иногородние, ремесленники и земледельцы: русские, украинцы, белорусы, татары, чехи, китайцы, евреи, коми, молдаване, поляки, болгары, венгры.
В обители находилось около 600 женщин: 300 монахинь, женщин старше 50 лет, примерно 250 послушниц в возрасте от 17 до 50 лет и 50 девочек-воспитанниц.
На небольшой территории монастыря, лицом к лицу, с неприязнью, а то и с ненавистью глядя друг на друга, расположились две силы. Началось совсем не мирное сосуществование, а символическое для окружающих станиц и хуторов, для Кубани противостояние общины и коммуны, тихих «невест Христовых» и воинствующих безбожников. Каждая из сторон пыталась выжить другую из монастыря. Община использовала старые связи, авторитет церкви и веры в народе, действовала и здесь на месте, и с помощью своих властей в Екатеринодаре, в Москве… У коммуны же были свои защитники и покровители в Екатеринодаре, переименованном вскоре в Краснодар, и в той же Москве. Ни та, ни другая сторона не получала решительной поддержки, ведь в Москве обострилось свое, великое, трагическое для России противостояние: новых властей и Православной церкви, Совета народных комиссаров во главе с Лениным и Соборного совета во главе с Патриархом Тихоном. Стороны вынуждены были пока сосуществовать.
«Было: вечер, трезвон колоколов, — вспоминал Федор Алексеевич Палкин, бывший коммунар, полковник в отставке. — Из келий высыпали божьи «сестры». Все в черном. Вся площадь у паперти собора будто усеяна черными тараканами и таракашками. На душе тягостно и противно. Гнетущая атмосфера. Потянуло средневековьем. Вот идет в черной рясе, в клобуке (высокий цилиндрический монашеский головной убор с покрывалом) монахиня. Идет подчеркнуто чопорно. За ней следует послушница, тоже в черной хламиде, в скуфье на голове (остроконечная шапка для молодых монахинь). Старается ступать важно, понурив свой томный взгляд, но при встрече молодого человека предательский глаз обязательно сверкнет на мгновение в его сторону. Вслед за этими важными персонами семенит воспитанница…»
Коммуна в монастыре цепко держалась за теплое место. По ее примеру и в мужском Лебяжинском монастыре поселилась коммуна «Набат».
В ответ на предание анафеме коммунары распускали слухи о подземном ходе, который якобы прокопан был из мужского монастыря в женский (под рекой!), о том, что родившихся у них детей монахини топили в Кирпилях. Слухи эти живут еще и сейчас.
В округе действовала банда Рябоконя, скрывавшаяся где-то в неоглядных зарослях камыша, на речных островах. Заманчиво было для банды разгромить коммуну в монастыре.
Коммунары почувствовали опасность, стали вооружаться, даже подростки и женщины работали в поле с винтовками. Завязывались и перестрелки — Рябоконь прощупывал оборону, не решаясь пока нападать.
Неважно шли дела у коммунаров: слишком много собралось случайных людей, которые не разбирались в сельском хозяйстве, не умели да и не хотели работать: шла борьба за власть.
Впрямую две противоборствующие стороны своеобразно соприкасались и спорили в школе, о чем Федор Палкин рассказал:
«В монастыре была школа, в которой и учились воспитанницы. Основным учителем и наставником был священник. Основные предметы: Евангелие, часослов, псалтырь, молитвенник, жития святых, Ветхий и Новый завет, церковнославянский язык и история царствования дома Романовых.
Дети в школе ежедневно читали молитвы, пели псалмы и обязательно ходили в церковь (а их было три). В доме, в келье монашка или послушница продолжала «воспитание» своей воспитанницы, впрыскивая в душу ребенка богобоязнь, отвращение к светской жизни, к играм и развлечениям. Особенно внушалось, что революционер — это разбойник, коммунар — антихрист, наука — ересь, что все это должно предаваться анафеме.
Школу изъяли из рук монастыря. В школе учились и дети коммунаров, и воспитанницы монастыря. Воспитанницы — это в большинстве сироты. Были и девочки, от которых родители отказались. Были и дети богатых, которые отдали детей по причине религиозного фанатизма.
Монашки под всякими предлогами не пускали их в школу. Мы же старались, чтобы они не пропускали занятий. После уроков показывали новые книги, плакаты. Пели революционные песни, проигрывали пластинки на граммофоне. Рассказывали сказки, проводили беседы о природе, о революции, о коммуне, о врагах-буржуях. Говорили, что Бога нет, что это выдумки и мракобесие, хотя наша «наука» в этой области была не очень сильной.
Детям монастыря нравилась детская самодеятельность, игры (но они робко участвовали сами), нравились песни, сказки, книжки. Но они боялись ходить с коммунарскими детьми в поле, сад, на островок, речку на виду у монашек. Радовались, когда это удавалось. Но радость сменялась боязливостью, робостью, когда речь шла о Боге. Они были осторожны, молчаливы, не спорили…
В душах детей был заложен какой-то надлом, пусть даже еле заметный. На это жаловались схимницы в черной рясе. Это были результаты нашей работы.
Заметен надлом, когда говоришь с воспитанницей один на один. Заметны симпатии к новому, светлому, что их окружало вне кельи и церкви… За восемь месяцев удалось вырвать из власти тьмы четырех воспитанниц в коммуну. Они были определены на продолжение образования в Краснодаре…»
Неизвестно, чем бы кончилось противостояние двух сторон, но в октябре 1920 года к ним добавилась третья.
После Гражданской войны в стране оказалось множество беспризорных детей и подростков. Судьбой их занялась Чрезвычайная комиссия Дзержинского.
В Краснодаре создали 22 детских дома и исправительно-трудовую колонию, в которую помещали молодых воров, хулиганов, проституток. В нее же попали и молодые артисты, саботировавшие советскую власть.
Вот эту колонию и направили в коммуну «Всемирная Дружба», чтобы перевоспитывать и исправлять сбившихся с пути молодых людей трудом. Примерно 200 колонистов, юношей и девушек причудливой судьбы, разного возраста, образования, воспитания и разных интересов, поселились в монастыре.
Федор Палкин сообщает:
«Комсомольцы коммуны старались привлечь их на совместные молодежные вечера, в кружки художественной самодеятельности, на лекции, беседы, в игры и развлечения в праздники. Лекции и беседы их не интересовали. Их интересовала оперативная работа ЧОНа, особенно оружие…
Некоторые участвовали в художественной самодеятельности. Артисты ставили спектакли, демонстрировали свои способности, 20–25 человек участвовали, столько же смотрели, а остальные распутствовали или с длинными железными прутами, щупами искали в кремле монастыря золотые клады монашек, а когда не находили, грабили квартиры коммунаров и кельи монашек, шастали по окрестным хуторам».
Полторы тысячи человек: монахини, коммунары и юные преступники вынуждены были жить вместе. Не выдерживали, уходили коммунары, покидали монастырь монахини, разбегались преступники.
Коммунары просили краснодарские власти убрать из монастыря и колонию, и монахинь. Монахини умоляли о помощи свое церковное начальство.
Слухи обо всем происходившем в монастыре волнами расходились по окрестным станицам и хуторам, вызывая новые слухи, толки, возмущения.
Долго такое продолжаться не могло.
«Нормальному развитию коммуны мешали бандиты и не вразумившие здравому смыслу черные вороны — монашки…
Партячейка, секретарем которой был Мирон Чаус, приняла решение выселить монашек в один день. О выселении монашек вопрос ставился и раньше несколько раз, но решение об этом затягивалось в Краснодаре и Москве. Поэтому ждать не стали и решили выселить монашек без санкции. Конечно, это, мягко говоря, было своеволие. Но другого выхода наши руководители коммуны не видели.
Комячейка мобилизовала всех коммунистов, комсомольцев и активных коммунаров, подготовила к проведению операции по выселению. Каждый был закреплен за келией. 17 апреля 1921 года (по старому стилю), за два дня до Пасхи, в пятницу все святые сестры до единой были собраны в главном соборе монастыря. Вошел председатель коммуны Иван Андреевич Долженко (бывший председатель Федор Караух ушел в облземотдел) и сказал примерно так:
«По решению коммуны за пособничество бандитам и подрыв нашей коммуны вы будете выселены из пределов монастыря в течение одного часа. Можете взять с собой белье, одежду, постель, церковную утварь келий столько, сколько можете донести на себе. Пожилым монашкам будут предоставлены подводы, которые довезут до желаемого места, но не далее 100 верст, остальные уходят из монастыря своим ходом. Не разрешается брать с собой мебель, часы, швейные машины, золото и серебро. Кто желает остаться жить и работать в коммуне, может это сделать».
Буквально через час монашек в ограде не стало. Остались в коммуне: учительница, врач, фельдшер, две пасечницы, 10 воспитанниц. Все оставшееся монашеское имущество немедленно было снесено в склады, переписано и опечатано, чтобы передать облземотделу.
Начались расследования и обвинения. Основания для законных претензий к нам, конечно, были. Но в сложившейся обстановке коммунары другого решить не могли. Ян Полуян основательно пожурил Долженко за преждевременное решение, но отвел беду от коммуны…»
Выселение монахинь вызвало возмущение в станицах, хуторах, подхлестнуло банду Рябоконя. Но напали бандиты на коммуну «Набат» в мужском Лебяжинском монастыре, где как раз проводилось собрание представителей коммун и артелей ближайшей округи. Когда коммунары заседали, бандиты ворвались в монастырь. Страшную картину увидели прибывшие на подмогу коммунары из «Всемирной Дружбы»: расстрелянные, изрубленные, повешенные.
Не складывалась жизнь во «Всемирной Дружбе» и после выселения монахинь.
Анастасия Иосифовна Иорданова рассказала:
«Сколько же барахла было у монашек! Склады набили. Деньги долго еще находили, на земле валялись, то кошелек кто-нибудь найдет, то монетку. Мальчик нашел узелок с деньгами, семья потом такую домину отгрохала!.. А барахло разошлось куда-то. Мы, девочки, долго еще ходили в платьюшках из мешковины… Сперва красиво было в монастыре: цветы, звон, чисто, хорошо, а потом стали разбирать, ломать».
На пожелтевших фотографиях в музее коммунары одеты нищенски бедно, смотрят озабоченно и простодушно. Здания монастыря за их спинами обшарпанны, со сбитой штукатуркой, церкви без глав.
Из-за имущества монахинь, из-за золотых и серебряных украшений, инвентаря церквей и собора, собранного в склады, начались склоки с местными и областными руководителями и организациями, которые желали принять участие в его распределении.
В июле 1921 года из монастыря вернули в Краснодар исправительно-трудовую колонию.
Из противостояния трех сил коммунары вышли победителями.
Начались годы если уж не процветания коммуны, то хотя бы довольно благополучного житья.
Хозяйство стало вестись грамотно и во многом даже образцово для того времени. В коммуне организовывались для хозяев окрестных станиц и хуторов выставки скота, орудий труда, проводились курсы агрономов.
В коммуне впервые появлялись: электричество, кино, радио, драмкружок, спортивные сооружения, карусель, «гигантские шаги», пионерский отряд в особо пошитой форме, комсомольская организация. Все это были символы новой, «цивилизованной» жизни.
Но подошли годы «сплошной коллективизации». Существование крепко стоявшей на ногах коммуны портило картину, давало повод думать о других формах ведения хозяйства, кроме колхозов и совхозов. Районные власти упорно предлагали коммуне стать колхозом, «как все». Коммуна сопротивлялась. Началась борьба, почти война: у коммуны забрали трактора, закрыли мельницу, маслозавод, начали демонтировать дизель и электростанцию, разбирать собор, церкви и постройки монастыря. В январе 1934 года коммуна «Всемирная Дружба» стала колхозом имени Димитрова. Здания и стены монастыря стали день ото дня таять. Еще раньше сломали здания Лебяжинского монастыря. Из кирпича от стен и церквей обоих монастырей в Тимашевске построили военкомат, мастерские МТС, а в колхозе — жилые дома, конюшню, скотные дворы.
Монастырь святой Марии Магдалины со своим звоном, сиянием куполов, цветниками, крестными ходами, монахинями и послушницами растворился в окружающей жизни, влил в нее свои силы, богатства, свою красоту и исчез, оставив чувство вины перед ним и горечь утраты. В душах казаков и крестьян образовалась пустота, поселилось раздражение.
Похищение невесты
Все происходившее в монастыре разносилось по станицам, хуторам, обрастало слухами, горячо обсуждалось.
У казаков принято было считать новую власть — властью иногородних, а значит, на них лежала вина за разруху, голод, беспорядки, продовольственные поборы. На иногородних же легла вина за изгнание монахинь, за уничтожение общекубанской святыни. Новая власть представлялась казакам неумелой, враждебной, бестолковой. Давняя казачья мечта теперь была еще дальше. Под пеплом внешнего послушания и согласия с новой властью тлел у казаков жар затаенной ненависти и гнева, об этот жар с изумлением, с растерянностью обжигалось в то время немало людей.
Знали и на Шкуропатском обо всем, что происходило за стенами монастыря, знали и Степановы. Да и как не знать? Эти события стали частью и их жизни. Знакомые Епистинье монахини, которые после выселения устроились кто где: у родственников, при станичных церквах, сиделками в больницах, еще долго навещали ее. Теперь уже она утешала монахинь… А сыновья навещали коммуну, которая привлекала их необычными машинами, новыми развлечениями.
Но жар тлел. Об этот жар обжегся и наш Николай. Сын Николая Валентин записал по памяти давний рассказ Епистиньи об этом событии. Написал по-своему, не так, как рассказывала когда-то бабушка Епистинья, написал в романтических тонах, со знакомой, неистребимой у многих склонностью к созданию мифа о жизни, о человеке, о событиях.
«Как великую тайну, чтобы не обидеть нашу мать, рассказывала бабушка Епистинья о печальной истории любви нашего отца.
Отец Ульяны Савватей был мужик зажиточный. Слыл грамотным и детей своих учил в станице. Занимал обширный двор, обсаженный высокими тополями, шедшими от хаты до самой речки. На дворе возвышался обширный пятистенок.
Дед Ульяны до революции имел обширные земли и вместе с панами Шкуропатским и Ольховским занимал площади, которые сейчас принадлежат колхозу «Первое мая».
На дворе было много скота и птицы, на речке плавали стаи гусей и уток, в амбарах полно зерна.
Когда Савватею стало известно, с каким намерением оказывается каждый вечер возле его дома смелый наездник, гарцевавший на вороном коне, — все в нем запротестовало.
Он дал зарок — никогда не отдаст свою дочь за этого голодранца с хутора Шкуропатского.
Дело в том, что отец Ульяны сам был лихим наездником и не единожды выигрывал именитые скачки, проводившиеся регулярно, являвшиеся одновременно открытием красочных ярмарок, большого праздника. Но с тех пор как в скачках стал участвовать сын пришлого мужика Степанова, он начал проигрывать ему скачки.
А совсем недавний проигрыш озлобил его дикой ненавистью. Он со старта ушел вперед, выиграл его. Конь под ним был резвый и стлался по земле словно птица.
Казалось, никто не отберет у него первый приз. Но вскоре он заволновался, его стала настигать вороная кобылица, и уже совсем рядом услыхал он жаркое дыхание лошади, до финиша рукой подать. В сознание пришла ясность, это опять он, эта голытьба, и в бешенстве, охватившем его, он резко обошелся с конем, и тот, поддавшись воле седока, рванулся и сбился с ноги. Вихрем промчалась вороная красавица, и все померкло в глазах Савватея.
Ульяна была единственной дочерью, и уж как баловал ее отец. Девка была работящая, любой работы не чуралась, делала все легко и весело. А на лицо дюже была привлекательна.
Она приветила лихого наездника, голубоглазого чернявого казака, без которого не обходилась ни одна вечеринка в деревне. Звонкий голос его баяна волновал кровь не только ей. Решили они пожениться. Но отец и слышать не хотел, запер дверь и больше не выпускал на гулянье.
И решил тогда молодой казак украсть девку. Все было готово к тому, и верные друзья, братья Свенские, решились ему помочь. Передали записку Ульяне, чтобы та в полночь открыла окно, и ее похитят.
Когда же глубокой ночью подъехавшие к дому Савватея хлопцы тихо постучали в условное окно, оттуда раздался ружейный выстрел. Хозяин давал знать, что никакие обстоятельства не смягчат его сердца. Вскоре Ульяну выдали замуж.
Надо сказать, что братья отца были против его женитьбы на дочери классового врага, как они считали Савватея. В то время Вася был секретарем комитета комсомола и все братья — членами комсомольской организации, активистами создававшейся коммуны. Поэтому на ночной грабеж невесты братья идти отказались.
Но в вопросах определения личной судьбы отец руководствовался только чувствами. И чувства эти оказались глубокими и прочными. Чуть ли не пять лет залечивал он сердечную рану. Все это время оно как бы напрочь засохло, оставалось глухим и чуждым страданиям».
Это романтическая версия рассказа о несчастливой любви Николая. Конечно, легко подправить Валентина: девушку звали не Ульяной, а Анной, отца ее не Савватеем, а Пантелеем, легко поправить и другие очевидные неточности. Но письменный рассказ Валентина не очень отличается от устных рассказов других людей об этом же случае, другие тоже путают имена, факты, путают казаков с иногородними. У некоторых никакого выстрела из окна не было, а когда ссылаешься на кого-то, кто рассказывал по-другому, слышишь яростное: «Та брэшет, собака!..» Разливанное море расплывчатого, приблизительного растекается и держится в народе, создавая благодатную почву для искажений, слухов, сплетен, для внедрения сомнительных идей, лозунгов, нелепых мифов и легенд, выдуманных самими или навязанных кем-то сознательно.
С великим изумлением, с болью и сейчас еще, разговаривая со стариками о прошедшей жизни, ощутишь вдруг жар давней взаимной ненависти казаков и иногородних. Не лучше этой все еще тлеющей ненависти и полное равнодушие молодых к прошлому, к жизни своих дедов и отцов.
По рассказам более простым, когда Николай с друзьями подъехал на тачанке в назначенное время поздно вечером к хате и подошел к окну, из которого должна была выпрыгнуть Аня после условленного стука, девушка открыла окно и сказала, что отец и мачеха наотрез отказались выдать ее за Николая, а без их согласия, без благословения она замуж за него не пойдет.
Как жаль, что все, происшедшее тогда у окна ночью, осталось в сердце и памяти Николая и Ани и сегодня растаяло, растворилось во времени. Но каждый может нарисовать ночную сцену в своем воображении.
Судя по тому, как переживал Николай после ночной неудачи, как страдал и мучился, даже плакал, как его жизнь после этой ночи долго не могла сложиться, похоже, что не ружейный выстрел из окна принес ему столько страданий, не упрямство Пантелея, а неожиданно твердый, решительный отказ самой Ани, которую он любил и которая, он был уверен в этом, еще вчера любила его. Николай уговаривал ее, убеждал положиться в этой жизни на него, недоумевал: что же случилось? И конечно, в сбивчивом, немногословном, напряженном ночном объяснении не могло не всплыть главное препятствие, главная причина несогласия.
Обычно спокойный, рассудительный, уравновешенный, Николай, вспыхивая, бывал и резким, и гордым. Можно предположить, что после горячего объяснения, видя упрямое нежелание любимой девушки и рассердившись, Николай попытался по-настоящему украсть, увезти ее. Яростное ее сопротивление этому и оскорбительные слова обожгли Николая сильнее всего. Ему было с гневом сказано, что он сын бедных иногородних переселенцев, а она казачка, и сказано так, что на Николая пахнуло неожиданным для него стойким жаром скопившейся казачьей ненависти к иногородним за порушенные мечты, за разгром, за отнятую власть. Возможно, тут вмешался и проснувшийся Пантелей, может быть, грохнул и выстрел, но главное, что сильно и больно обожгло, ужаснуло Николая, это открывшаяся вдруг какая-то черная, глубокая ненависть в душе вчера еще доброй любимой девушки.
Не скоро Николай пришел в себя, он заметно переменился, сделался жестче.
Аня вскоре вышла замуж. На богатой тачанке, запряженной парой нарядно украшенных коней, приехал казак с дальнего хутора и посватался честь по чести. Позже выяснилось, что казак совсем небогат, что и лошадей, и тачанку он одолжил у знакомых. Через несколько лет Анна с мужем переехали жить сюда, на Волков хутор, и Николай встречал ее здесь на хуторской улице, но к тому времени он и сам уже был женат, и много произошло других событий, пришли другие беды, которые отодвинули эту в сторонку. Когда началась война, муж Анны ушел на фронт, там погиб.
Но пока Николай тяжело переживал все случившееся ночью.
И Епистинья, и Михаил догадывались о главной причине несчастья сына. Оба они знали, как больны такие удары в распахнутую, незащищенную душу, знали, что никакие слова утешения тут не помогают, лечит время, силы самой души, деликатная поддержка близких.
Жар и пепел
После рождения Павлика, Верочки и Мизинчика утихла боль потери Саши-старшего. Подраставшие дети, чувствуя, что последние годочки живут они вместе, были особенно веселы, дружны, беззаботны. Пели, играли.
Но кто же знает, что нас ждет впереди? Живем надеждами, что завтра будет лучше, что все хорошее, конечно же, еще впереди. А сегодня — ну какая это жизнь!
Тем более что все вокруг было еще так неопределенно. Ростки новой жизни прорастали, но часть их безжалостно вытаптывалась сапогами неуклюжих, нетерпеливых людей, часть увядала сама, не находя поддержки. И все-таки жизнь не остановишь.
Хоть и тлела еще ненависть обиженных казаков, но большинство их занялись привычным делом — работой на земле, которую новая власть у казаков-середняков не тронула, и ненависть к новой власти, неприязнь, недоверие стали покрываться пеплом. Различия между молодыми казаками и молодыми иногородними все больше исчезали, таяли, подраставшая молодежь все меньше придавала этому значение. Кто смелый, удалой, сильный, толковый хозяин — тот и казак, а уж из какой ты семьи, казачьей или пришлой, дело десятое. Тем более что все ходили в одни церкви, держались одних обрядов и обычаев, говорили на сходных, понятных языках, пели одни и те же песни под одинаковые инструменты — гармони, баяны, балалайки, скрипки. Жизнь брала свое. Она бы и взяла свое, неторопливо и мощно, если бы с ней обращались терпеливо, бережно, со знанием дела и чистыми помыслами.
«Надлом», о котором говорил Федор Палкин, существовал в душах многих людей, висел в атмосфере жизни тех лет. Когда затихла Гражданская война, которая и велась потому, что жить по-старому было нельзя, невыносимо и надо жить по-новому, встал и практический вопрос: а как это — «по-новому» и что считать «жизнью по-старому»?
Возникавшие коммуны громко провозглашали: единоличное хозяйство, свой надел земли, лошади, хаты под камышовыми крышами, вера в Бога, церкви и монастыри, Пасха и крестные ходы, бороды и лапти — это все старое, обреченное и чем скорее исчезнет, тем лучше, а жизнь и труд всем вместе, общие столовые, избы-читальни, машины, песни про Каховку и кузнецов, общая земля, агрономы, художественная самодеятельность, спорт — это все новое, передовое, которое надо внедрять как можно быстрее. Но практическая жизнь коммун по многим причинам не складывалась, они распадались.
Нащупывались другие, не требовавшие таких резких перемен, формы организации труда: кооперативы, товарищества по совместной обработке земли, рынок. Мужики и казаки по хуторам и станицам много и с увлечением обсуждали разные способы своей дальнейшей хозяйственной жизни.
В середине двадцатых на хуторе Шкуропатском образовалось два ТОЗа — товарищества по совместной обработке земли: «Пахарь» и «Путь труда», в каждом объединилось около десятка семей. «Пахарь» вскоре добыл себе трактор «Интер», а «Путь труда» — «Фордозон». ТОЗ — дело сугубо добровольное, его польза была очевидна всем: немало тяжелых работ в хозяйстве каждого, и делать их легче, объединив усилия. Но на первых порах товарищества по примеру коммуны распределяли свои доходы на едока. Быстро обнаружились недовольные: как же так, у Степановых работают два-три человека, а когда распределяют хлеб, солому, сено, то они получают на двенадцать человек. Перешли на распределение — каждому работающему.
В хозяйстве Степановых в то время были две лошади, две-три коровы, два десятка овец, несколько десятков кур, несколько свиней.
Все лучшее: сметана, масло, окорока, домашняя колбаса — шло мимо детей, на базар, доставалось им понемножку, как бы тайком от кого-то. На базар чаще ездил отец. Мать собирала продукты, складывала в корзину и масло, и колбасу, и яички. Тут же стояли дети с кусочками хлеба: «Мама, помажь масличком…» Епистинья вздыхала: что делать, лучшее — на базар, хоть вот они и стоят, родные дети, полуголодные. Нужны деньги, чтобы купить им же одежду, обувь, купить соли, мыла, спичек, керосину, материи. Тогда, в тех заботах, постоянных нехватках и в голову не могло прийти, что годы эти — одни из самых счастливых в жизни.
Не оставляли беды. Хоть и не очень большие, а все же держали в напряжении: не зевай, не размякай, не очень радуйся: то корова сломала ногу, то сгорел сарай от оставленного без присмотра каганца, то кто-то пропорол вилами бок свинье, пришлось прирезать, вот и гадай, кто бы это мог сделать и за что… Федя катался по льду речки на самодельных коньках, а лед первый, тонкий еще, хрупкий, вот Федя и провалился. Хорошо, вовремя увидел его сосед, Тимофей Свенский, положил на тонкий лед доску, подполз и вытащил вымокшего, обессилевшего мальчика. А если бы не увидел?.. Варя на участке около хаты гоняла по кругу привязанную к дышлу лошадь, с помощью сделанного Михаилом пресса давила сорго на масло. Лошадь смирная, спокойно ходила по кругу. Варя помахивала кнутом. Если лошадь совсем уж ленилась, шлепала ее кнутом по спине. Стегнула совсем уж было остановившуюся лошадь и нечаянно попала кнутом по нежному, чувствительному месту. Лошадь бешено рванулась, дышло с треском сломалось, и концом его ударило Варю по лицу. У Вари вспыхнул в глазах огненный шар, и она упала, потеряла сознание. Девочку с разбитым, окровавленным лицом повезли в станичную больницу. Слава Богу, там и в чувство привели, и разбитое лицо залечили, зашили так, что почти не осталось ни следов, ни шрамов на девичьем лице… Саму Епистинью чуть не придавило. Зимой набирала она из скирды солому для скота; низ скирды уже сильно подобрали, как бы выгрызли, так что смерзшийся, со снегом верх нависал, как свод пещеры. Вот этот свод и рухнул вдруг на нее всей своей мягкой и душной тяжестью. Хорошо, увидели люди, спасли.
Однажды Филя сказал, что рано утром, проснувшись, он увидел, как в открытую дверь хаты вбежал какой-то зверек и, вцепившись зубами в рядно, которым были укрыты спавшие на соломе ребята, потянул его с них. Затем исчез. Был ли странный зверек или приснилось Филе, трудно сказать, но случай этот встревожил Епистинью, и соседки подтвердили: дурная, нехорошая примета, как бы чего с ребятами не случилось, ведь это домовой тащил с них покрывало.
Тревоги, тревоги… Но пока все ничего, все не так уж плохо, жить можно. Дети растут, ходят в школу, открывшуюся в доме пана Шкуропатского. Жизнерадостные хуторские ребятишки набирались грамоты, попутно с любопытством отковыривали цветные изразцы от печей в панских комнатах, вытаптывали аллейки в саду, обламывали чудно цветущую по весне сирень. Исчезла беседка на курганчике.
Замечательные готовила Епистинья борщи. Сварит двухведерный чугун. Ну что там вроде бы на такой чугун одна курочка, но она положит еще укропчику, перчику, цыбулечки, баклажанчика, да еще что-то, кроме капусты, свеклы — все свежее, прямо с грядки, а курочке только что свернула голову в сарае. Поднимет с чугунка крышку — запах-то какой! «Не успели сесть — борща нэма», — и сокрушалась, и гордилась Епистинья… Через день она пекла хлеб. Запах хлеба, борща, соломы всегда стоял в хате, всю пропитал ее.
Можно было иногда и побаловать детей, выбрать покрупнее тыкву и всю целиком поставить в натопленную печь. Хорошо пропеченная, истомленная в ровной жаре тыква, порезанная сочными ломтями, томно-сладкая, нежно таяла во рту. А если еще и с молоком или сметаной да свежим хлебушком — язык проглотишь.
Делали сами и мороженое. Наливали в ведро молоко, клали снег, немножко сахара, сколько выделит детям Епистинья, все это перемешивали, держали, сколько хватало терпения, на снегу — вот и мороженое.
Перебирая в памяти жизнь далеких двадцатых годов, старенькая Епистинья находила и события, которые заставляли ее тихо плакать. Это не была жгучая боль сердца, как от воспоминаний о гибели Саши или других сыновей. Раскаяние, укор, что она мало любила и жалела детей, вызывали в душе чувство досады на себя и вины перед ними. Вот хотя бы то же мороженое.
Послала она однажды летом Ваню и Илюшу на базар в Тимашевскую продавать молоко. Пока два мальчика несли бутыль до станичного базара, молоко разболталось, и пришлось им продать его дешево. И тут услышали они, как веселый армянин зазывал, приглашал: «Морожный! Сладкий! Холодный!..» А вокруг него и его дымящегося бачка толпились мальчишки и девчонки и с видимым удовольствием кусали белую сладость в хрустящем вафельном кулечке. Съели Ваня с Илюшей по одному мороженому, разве сравнишь со своим молоком со снегом. Съели по второму… В общем, вернулись без молока и без денег.
И Епистинья позже, глядя на фотографии сыновей, не могла без слез вспоминать, как она рассердилась, расстроилась, заплакала, опустившись в досаде на скамейку. «Та шо ж вы за хлопцы такие! У меня соли нэма, спичек нэма, а они все потратили на мороженое!..» Бедные мальчики, родные, золотые, опустились на колени, уткнулись в ее подол, тоже заплакали: «Простите, мама… Мы не удержались… Такое сладкое. Больше не будем!» Совестливым ее мальчикам страшно было подумать, что вот теперь мама не будет их любить… «Та шо я тогда на них напустилась, шо ругалась!.. Такую короткую жизнь Бог им дал… Хоть мороженого попробовали…»
«Надлом»
«Надлом», о котором говорил Федор Палкин, висел во всей атмосфере той жизни. Жило ожидание нового, не очень ясно какого, но хорошего, жила ирония к старому, которое еще крепко держалось. Собственно, никакого «надлома» и не было. Жизнь продолжалась, приходила в себя страна, оживала. Господ прогнали, но, к великому разочарованию многих, не происходило ожидавшегося ими чуда — немедленного рождения новой счастливой жизни; ее еще нужно было долго и терпеливо строить, эту новую жизнь. Да и неясно было, что, собственно, она должна собой представлять. Пока жизнь текла по-старому, лишь понемногу улучшаясь.
«Надлом», кажется, должен был разрушить семью Степановых. Ведь Епистинья, по всем данным, — обычный представитель старого, отмирающего, уходящего: она неграмотная, верит в Бога, держит дома иконы, любит работать в своем доме, хозяйстве, огороде, песни поет старинные, по праздникам ходит в церковь в станицу, к ней наведываются изгнанные из монастыря монахини, детей своих всех крестила в церкви. С другой стороны, эти ее крещеные дети один за другим вступали в комсомол. Вася был организатором ячейки на хуторе и первым в ее истории секретарем, ребята тянулись к общественным делам, в клубных постановках они высмеивали попов и веру в Бога как «мракобесие», любили кино, тракторы, аэропланы. Особенно должно бы быть плохо на душе у Михаила: он, кузнец, плотник, хлебороб, любил и сам изготавливал самые разные технические приспособления и новшества, читал газеты и книги, даже, как уверяет дочь Валентина Михайловна, «проповедовал марксизм на хуторе», и в то же время заговором лечил некоторые болезни, посещал церковь, придерживался в быту многих старинных крестьянских обычаев. Но Михаил всегда был в добром настроении, постоянно шутил, с удовольствием работал, любил верящую в Бога жену и неверящих в Бога детей.
В доме Степановых царила атмосфера устойчивого духовного равновесия. Хозяйкой в доме была представительница «старого мира» Епистинья; она «по-старому» любила детей, мужа, по-старому, то есть умело и рачительно, вела дом и хозяйство, не вмешивалась без нужды в жизнь хуторян, дорожила их о себе мнением, учила детей добру и трудолюбию, мелочно не опекала их. Как же не любить маму и чего еще от нее требовать!
Так было тогда во многих семьях, такое равновесие дошло кое-где и до наших дней. Простодушное и здоровое народное сознание обладало и чувством юмора, и здравым смыслом, и добротой, оно не видело в таком «надломе» ни драмы, ни трагедии, потому что любило жизнь, все живое и уважало, понимало сложности проявления жизни. Народное сознание не одобряло крайних взглядов, нетерпимости, спешки и не торопилось в эти крайности кидаться.
Ведь вот уже тысячу лет мощно боролось христианство с язычеством за народное сознание, за душу народа, а так и не вытеснило первобытных верований: на Рождество Христово крестьянские дети поют языческие песенки-колядки; языческие игрища, костры на Ивана Купалу выдержали и христианские, и атеистические гневные проклятия. Христианский церковный календарь, святцы, весь пропитан крестьянскими земледельческими и погодными приметами.
При всем уважении к могучей природной вере языческой, к великой, очищающей, просветляющей вере христианской, вера в здравый смысл и в будничных делах, и в больших замыслах была все же в народе сильнее. Здравомыслие — это выработанный в веках житейский опыт, практика нормального, здорового проживания человека на земле от рождения до смерти, практика здорового проживания и выживания народа.
Случались в доме Степановых столкновения нового и старого, но они как бы занесены были «с улицы», в самом доме они не могли бы зародиться, несмотря на противоречия.
В красном углу хаты висели иконы, по праздникам перед ними горела лампадка. Епистинья ежевечерне молилась, прося Бога послать на дом и семью покой и достаток. Филя с кем-то из хуторских приятелей просверлил в одной из икон дырочку; трубочки и аптечную грушу с водой вывел на улицу. Богородица на иконе стала плакать настоящими слезами. Филя и приятели рассказали о «чуде» всему хутору, говоря, что вечером в хате Степановых икона заплачет. Вечером в хату набилось много завороженного и испуганного народу, в основном женщин. В условный час, к благоговейному ужасу присутствующих, с глаз Богородицы потекли слезы. Филя и его приятели не стали долго изводить женщин и со смехом показали, как они сотворили это «чудо».
О дальнейшем известно мало, только лишь то, что «Филе от матери крепко попало». Слова ее, очевидно, были и горькими, и жесткими, потому что больше никто на эту сторону жизни матери и дома не покушался. Перед самой войной, когда Филя женился и стал в доме за хозяина, так как братья поразъехались, решили перейти жить с хутора Шкуропатского на хутор Первое мая, где были правление колхоза, сельсовет и больше народа. В новую, построенную самими хату перебрались Филя с женой и детьми, Епистинья с Сашей-Мизинчиком, который еще ходил в школу. Взяли с собой и иконы, они снова заняли свое место в красном углу, против чего колхозный бригадир Филипп не возражал.
Все это было не таким уж простым, житейским делом в те годы. Школа, комсомол, партия, газеты, рьяные активисты вели не борьбу, а войну с церковью, обрядами, иконами, верой в Бога — все это называлось мракобесием, осуждалось, высмеивалось, уничтожалось. Широко распространялся журнал «Безбожник». Филипп, как вспоминала его жена Шура, собирался вступить в партию, когда был бригадиром, но дело как-то отложилось, замялось. Филя оказался, очевидно, перед серьезным выбором. Если он вступит в партию, он обязан будет, его заставят убрать из хаты иконы матери. Или же им с Шурой надо уйти от матери, жить отдельно, то есть бросить мать, оставить ее вдвоем с Сашей-школьником, порвать сердечную связь. Филя ни на то, ни на другое не пошел, дело со вступлением в партию отложилось.
Висят иконы и сейчас в хате-музее. Правда, иконы другие. Свои, в том числе и родовую икону Богоматери, Епистинья, уезжая в Ростов, раздарила, и обнаружить их на хуторе не удалось. Заходишь в хату сегодня и видишь: здесь, перед рушниками, иконами, фотографиями в рамках на стене, около печки с чугунками, горшками, ухватами, рядом с колыской на крюке в матице, все мужчины и женщины со всем своим образованием, знаниями, служебными заслугами и должностями чувствуют себя детьми, пришедшими наконец домой к матери.
Было, скажем так, мировоззренческое столкновение с матерью и у Ивана. Столкновение серьезное. Но о нем позже.
Да, были трудности, были несчастья. Как им не быть в такой большой семье, в многосложном хозяйстве… Но выпадали Епистинье и счастливые, нет, не годы, а деньки, счастливые часы и минуты, вспыхивали в душе радостными зарницами. Сядут за стол: во главе — спокойный, улыбающийся как бы про себя, незаметно, Михаил, справа и слева от него — Коля, Вася, Филя, Федя, Варя, Ваня, Илюша, маленькие — Павлуша, Верочка, Саша — за отдельным круглым, низеньким столиком, на маленьких прочных скамеечках. Родные глаза, чубчики, стиранные и штопанные ею рубашонки. Конечно, дети спокойно не сидят, толкаются, спорят из-за ложек, из-за места, и вот она вносит большую миску борща, наполняя хату густым ароматом. Кушайте, хорошие мои!.. Замелькали ложки. Сыновья на мать смотрят — что же вы, мама? Садится за стол и Епистинья.
Где же ей было тогда знать, что через много-много лет она станет перебирать свою жизнь, проливая тихие слезы, и хоть немножко отдыхать исстрадавшимся сердцем на простеньких мирных часах и минутах.
Какое великое счастье — большая семья, тихие семейные радости: словно что-то тревожащее в душе, постоянно вопрошающее находит тут ясные и мощные ответы. Исполняется могучий закон природы, все живое охотно подчиняется ему.
Около дома в рязанской деревне, куда я приезжаю с наступлением весеннего тепла и откуда всматриваюсь в жизнь семьи на далеком степном хуторе, в жизнь южной ветви моего народа, покачивается на жерди скворечник — маленький домик с круглым окошечком и кустиком над крышей, из скворечника доносится многоголосый писк. В окошко то и дело ныряет бойкий черный скворец с червячком в клюве. Скворец сердито кричит на важно идущего, якобы равнодушного кота, на пролетающую ворону, сидящую на изгороди вертлявую сороку. Так же сердито крича, скворец выпархивает из домика, держа в клюве некий груз, который вскоре роняет на лету, а к домику подлетает другой скворец. Целый день, лишь встанет солнышко, хлопочут у домика на жерди две птицы. Сколько забот, сколько волнений… Но вот вечер, солнышко село, тихо. Гаснет широкая алая заря. Оба скворца, четко выделяясь на алом полотне неба, сидят на своем домике: один на кустике, другой на крыше. Птенцы молчат. Скворцы охорашиваются, чистят перышки, задумчиво смотрят на зарю. Позади день, полный тревог и забот. Вид у птиц уютный, домашний, понятный: дети накормлены, живы-здоровы, все, слава Богу, неплохо.
С детьми не соскучишься, не придешь в отчаяние. Они и горе принесут, они же дадут и радость, и утешение.
Нерастраченные силы
Теплота, простота и притягательность дома Степановых были известны всему хутору. Весело у Степановых, свободно и легко. Мальчики росли бойкими, живыми, были заводилами, но при этом всегда оставались добрыми, душевными. Часто получается, что уличные заводилы подбивают остальных на драки, унижения, озорство, воровство. Нет, тут другое. В братьях жила совестливая, уважительная к людям душа матери, добропорядочность и дельность отца.
К Степановым тянуло, как в клуб. Мальчики всего хутора имели своих ровесников и приятелей среди братьев. Ну а где мальчики, там и девочки. Хорошо было даже просто сидеть или лежать на траве около степановской скирды соломы напротив хаты и говорить обо всем на свете или играть тут в лапту.
В слякоть, холод набьются в хату, на теплую широкую русскую печку, смеются, рассказывают что-то. Епистинья печет на плите оладьи и подает им туда на печку, а там орава своих и чужих ребятишек. В такой компании как хороши, как вкусны были эти оладьи, и запомнились они на всю жизнь оставшимся в живых друзьям и подругам братьев не только тем, что вкусны, а тем, как особенно хорошо всем было в эти минуты, всех их овевала теплота хаты Степановых, доброта Епистиньи. Словно бы души каждого дружески касалось что-то простое, естественное и великое.
Михаил Николаевич всегда что-нибудь мастерил, стучал в кузнице или что-то делал на подворье. И кузница, и отцовы разнообразные инструменты, его занятия по хозяйству притягивали сыновей, а с ними и других мальчишек. Отец не прогонял ребят, не отпугивал суровой погруженностью в дело, наоборот, включал в работу, доверял инструменты, терпеливо учил делу.
Сколько нерастраченных духовных сил было у ребят, сколько желания действовать, что-то делать. Неперекормленная, не задавленная «обилием ненужных сведений», душа каждого рвалась к работе, к творчеству. Энергия молодых, полных сил ребят искала выхода.
Их притягивали ярмарки в станице, скачки. Появилось кино, в коммуне и в Тимашевской — ну как же не посмотреть на такое диво!.. Хороши были ночи под Рождество. Ровесник Ивана Тимофей Тимофеевич Свенский, сосед Степановых, вспоминает: «Вместе встречали рождественские праздники. Ходили по хатам и в стихотворной форме поздравляли с наступающим Новым годом, счастьем, радостью, осыпая хату пшеничным зерном: Иван, Федор, я, другие ребята с хутора. Мы хорошо пели, ходили со звездой, и нас охотно принимали. Угощали пряниками, монпансье, колбасами, давали деньги, но мало…»
Подраставшие мальчики Степановы тянулись к делу, к ремеслу, к чему-то нужному всем жителям хутора.
Оркестр и театр
Особенно тянулись на хуторе к музыке, она была более доступной, петь тогда любили все. Пели во время работы, пели вечерами у костров или, собравшись у кого-нибудь в хате на посиделки, пели за праздничным столом.
Любила петь Епистинья, голос у нее был замечательный, грудной, сильный, наполненный печалью. Плясать она, кажется, никогда даже и не пыталась, это было не ее, а пела хорошо… Михаил, когда был помоложе, играл на гармони, мог и сплясать. Увлечение гармонью передалось Николаю.
С помощью отца сыновья сами склеили простенькую балалайку. Уж как были ей рады! Установили очередь, каждый ждет не дождется, чтоб взять в руки, ударить по струнам и услышать ее веселый, свойский голос.
Михаил Николаевич, видя, как ребята тянутся к музыке, предложил: «В станице Тимашевской у Красного моста один человек продает скрипку. Хотите купить? Тогда запрягайте лошадей и возите нашу солому в станицу на продажу. Вот и заработаете деньги».
Очевидно, он и сам хотел купить эту скрипку, порадовать сыновей, но с деньгами туго было. Вот он и примеривался так и эдак. Лучше всего — дать возможность ребятам самим заработать деньги, да на них и купить, тогда и беречь скрипку будут особенно.
Вася организовал братьев и хуторских ребят. Азартно таскали солому, грузили на арбу, утаптывали, увязывали.
Все удалось замечательно! Вскоре Вася вернулся из станицы, бережно держа в руках футляр со скрипкой — это же не самодельная балалайка, а удивительный волшебный инструмент.
Отец на скрипке играть не умел. Один из хуторян помог настроить ее, показал, как играть, ну а дальше — сам. Вася легко освоил капризный и чуткий инструмент, освоил сам, самоучкой. Когда позже спрашивали его: «Ты учился играть по нотам?», он отвечал с улыбкой: «Нет, по звездам…»
Скрипка Василия осталась в памяти всех хуторян, владел он ею прекрасно, иногда этим даже хвастался; предлагал, например, приятелю: «Хочешь на спор: сегодня буду играть так, что люди будут плакать!» И действительно, играл виртуозно, вдохновенно, так что простодушные его слушатели не скрывали слез, воспринимая лившуюся печаль.
У Васи запела скрипка, у Николая баян, была еще самодельная балалайка, приходил с соседнего хутора в гости брат Епистиньи дядя Свиридон, он хорошо позванивал на бубне, нашлась у кого-то мандолина, кто-то купил гитару.
Одаренный музыкальным слухом Василий организовал настоящий оркестр, проводил репетиции. И вскоре оркестр «запросился в люди».
В бывшем доме пана Шкуропатского работали школа и ликбез. По вечерам здесь решили открывать клуб, не по хатам же собираться. В этом клубе к месту оказался и оркестр, и первое публичное выступление сразу принесло ему громкую славу.
Улыбчивый, расторопный, весь открытый, Вася стал признанным руководителем оркестра Василий же естественно и житейски обоснованно стал организатором на хуторе комсомольской ячейки и ее секретарем. К нему тянулись, к его веселому открытому характеру, к предприимчивости, доброте, тянулись к его оркестру Первыми комсомольцами стали Филя, Николай, Федя, их друзья и приятели, а затем подраставшие братья и сестры. Щедро одаренные матерью и отцом добротой, чувством справедливости, выросшие в здоровой, веселой, дружной атмосфере дома, братья словно бы воплощали в себе эту новую ожидаемую жизнь, их невозможно было не любить.
Вскоре стало ясно, что оркестр в клубе — это, конечно, здорово, но одного его мало, нужно было еще слово, в котором бы осмысливалось происходившее сегодня. Так возник драмкружок.
Большими мастерами играть в спектаклях оказались Николай и Филя.
Непросто осмелиться выйти на люди. Спектакли сначала устраивали дома, в хате, где артистами были Николай, Вася, Филя, Федя, Варя, Ваня. В углу хаты Михаил Николаевич сделал на земле из досок пол, на котором спали теперь дети, все-таки это лучше, чем на земле. Этот полик и сделался сценой. Его закрыли рядном, получился занавес. В хате расставили лавки, стулья — это уже зрительный зал, в который набивалось полно народу. Приходили соседи, ребятишки — ну как же, у Степановых устраивается представление, спектакль! Чаще всего это происходило осенью или зимой: вечера длинные, скучные.
Среди зрителей сидели и Епистинья с Михаилом, и остальные дети.
Какой это был благодарный, душевный и отзывчивый зритель. Простодушные хуторские женщины и мужики, мальчики и девочки легко понимали и принимали все театральные условности: раз Филя надел юбку, значит, это не Филя, а попадья, которая, как и положено, попадает в разные смешные положения. А если Николай привязал к подбородку куделю, то это уже не Николай, а купец, любитель выпить и поесть и обмануть доверчивых крестьян, нажиться на их горе и несчастьях.
Художественное творчество увлекло многих. Как из рога изобилия посыпались стихи на местные хуторские темы, частушки, сценки. А Ваня писал даже пьесы.
Но особенно запомнилась всем, надолго всех очаровала «Наталка-Полтавка», поставленная на клубной сцене. Все там взято почти из жизни хуторян: есть богатые, есть бедные, есть счастливые и несчастливые. Но никто никого не убивает, все решается по доброму согласию, а по ходу вполне житейского, понятного действия там поют трогательные, печальные, такие родные украинские песни:
Вiют витры, вiют буйни, аж дерева гнутця О, як болыть мое сердце, и слезы не льются!Замирало сердце от близкого счастья, когда звучало со сцены бывшего генеральского дома:
Солнце нызенько Вечер блызенько — Спешу до тебе, Лечу до тебе, Мое серденько!Глава 9. БОЛЬШИЕ ДЕТИ
Старушка милая,
Живи, как ты живешь,
Я нежно чувствую
Твою любовь и память.
Но только ты
Ни капли не поймешь —
Чем я живу
И чем я в мире занят!..
Сергей Есенин.
Ответ
Большие дети — большие заботы.
Старое родительское
заключение
Немножко счастья
Счастье нестойко, его всегда сравнивают с чем-то, что вдруг улетает, ускользает. Великая редкость — жить с ощущением счастья. Бывает счастливая минута, сверкнет зарницей — и опять пойдет жизнь как жизнь: заботы, суета, радости, неприятности. О счастье вспоминается, счастье хорошо чувствуется в прошлом. Идет время, и кажется, что жизнь обычная, заурядная, но вот прошло время, оглянешься на прожитое — а ведь это были счастливые годы; особенно ясно это, когда обрушится горе, беда. Правильно говорят: счастье — это отсутствие несчастий.
Счастливыми для Епистиньи и Михаила оказались двадцатые годы. Конечно, когда шла та жизнь, она казалась бедной, иногда нищенской, наполненной тревогами, маленькими несчастьями, заботами о хлебе, об одежде, но все же начинали радовать, обнадеживать и добрые перемены. Это было десятилетие, когда никого из семьи не потеряли, а родились Верочка и Саша-младший.
Дети вырастали, младшие становились подростками, старшие — женихами. В хате вовсю зазвучала музыка, целый оркестр: скрипка, баян, балалайка, гитара, — устраивались и репетировались представления, спектакли, сценки. «Выпивки тогда совсем не было, никто не пил, так было весело. Вася играл на скрипке полонез Огинского, заслушаешься. Пойду к ним, когда Валя дома, все веселые, планы у них, а Епистинья Федоровна смеется у печки стоит…» — рассказала Вера Пантелеевна Степанова-Пашкун, дочь Пантелея…
В хату битком набивались друзья и подруги детей; девушки приходили якобы к Варе, но не только Варя их интересовала.
А раз сыновья выходили в женихи, то ведь их и одевать надо уже не в латаные-перелатаные штаны и рубашки. Епистинья купила швейную машинку и охотно кроила и шила сама, кое-что покупали на базаре — и новое, и ношеное.
Михаил Николаевич набирал в Краснодаре на толкучке всякой всячины, что при небольшой доделке или переделке вполне годилось. Приезжая, он щедро высыпал из мешка на пол среди хаты купленное: и ботинки, и сапоги, и пиджаки, и куски материи…
По праздникам приходили в гости братья Епистиньи Данила и Свиридон и братья Михаила Пантелей и Фадей. Как и положено — с женами. В теплую погоду стол собирали в саду под деревьями, в тени пышной шелковицы. И хоть стол был небогат, но все лучшее, что только имелось в доме, подавалось на стол. Щедрость Епистиньи и ее умение готовить родственники знали. Пили в те времена умеренно, еще сохранились от старых времен правила, по которым напивавшийся до бесчувствия человек вызывал общее осуждение и презрение.
Синий табачный дым плавал над столом, шелестели листья шелковицы, яблонь, пестрые тени покачивались, двигались на столе, на одежде и траве; женщины, все одновременно, вели свой нескончаемый разговор о соленьях, вареньях, об огороде, одежде. Мужики, повесив пиджаки на спинки стульев и на ветки яблонь, курили, говорили серьезно, основательно, спорили, поглядывали вокруг, перешучивались с крутившимися тут же ребятишками, вспоминали и про стопки с горилкой.
Мужикам было о чем поговорить, событий вокруг происходило много. Интересно было бы послушать тот давний разговор собравшихся за столом Михаила, Данилы. Свиридона, Пантелея, Фадея: как виделась мужикам настоящая жизнь, как они ее оценивали, как хотели бы устраивать жизнь будущую?..
Поговорив, поспорив, пели песни.
У Епистиньи это было не просто обычное пение на гулянке. Горечь, печаль, жалобу передавала она в пении, вся гордость и радость жизни, все, смешиваясь, звучало в голосе, в песне, и слушать ее, подпевать ей доставляло особое удовольствие всем. Пели: «Вiють витры, вiюоть буйни…», «Нiчь яка мисячна…» или чудесно сближавшую всех за столом «Дывлюсь я на небо…».
Михаил Николаевич любил «Дубинушку», с большим чувством пел ее сам или просил спеть детей.
Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, Изобрел за машиной машину. Ну а русский мужик, как работать невмочь, Так затянет родную «Дубину». Эй, Дубинушка, ухнем!..Епистинья успевала и подавать на стол, и петь песню, успевала и наступить на ногу Михаилу, чтоб лишнего не пил.
Позже, гораздо позже будет видно, что это были счастливые годы, с какой радостью вспоминала их старенькая Епистинья: «Було — як зберутся уси хлопцы да як заграют, кто на чому, кто на гармошци, кто на балалайци, на мандолине, на скрипци. Як же було гарно та весело!» А тогда казалось, что жизнь никудышная, все бедность да суета, а вот впереди, когда вырастут дети да когда будет в доме всего побольше, и на столе, и в погребе, да когда хата будет попросторней, да когда… Все казалось, что жизнь впереди. А жизнь — всегда жизнь, единственная и неповторимая, скучаем ли мы на вокзале в ожидании, плачем ли, сидим ли за праздничным столом.
Дети росли не по дням, а по часам; родное, теплое, такое притягивающее к себе материнской лаской и отцовской надежной основательностью гнездо становилось тесным. Манила куда-то, выталкивала из него мощная сила — жизнь, все в ней в движении, во всем — перемены и перемены.
Вот и птенцы в моем скворечнике уже далеко высовываются из окошечка навстречу подлетающим родителям и ловко выхватывают у них из клюва приносимый гостинец… Но что это? Скворец с червячком в клюве озабоченно кричит «ж-ж-а-а» и заглядывает в окошечко, а там… пусто. Скворец перелетает на крышу, оглядывается, опять смотрит в окошечко, не веря себе. Где дети! Сожрал кот? Повытаскивала ворона? Попадали вниз? Скворец ошеломлен и встревожен. Но из густой зелени вяза неподалеку доносится восторженное и призывающее «чи-р-р», и скворец летит, ныряет в листву. Там небольшой переполох, и вскоре скворец опять торопится за червячком, но вдруг, словно подбитый, ныряет вниз: другое призывное «чи-р-р» доносится с поленницы дров, а к ней идет толстый кот с разбойничьей мордой. Поднимается крик, прилетают другие скворцы, и вскоре «чи-р-р» уже доносится из зарослей вишенника, куда перелетел птенец. Сколько тревог, сколько хлопот!.. А через неделю скворцы летают уже маленькими стайками, и не разберешь, где дети, где родители. Начинают готовиться к полету в дальние-дальние края.
Движется, движется время, идет жизнь. Нет ничего постоянного. Вечны только перемены.
Коллективизация
Начинались годы тридцатые…
Сплошная коллективизация на Кубани проводилась повышенными темпами: Кубань — одна из главных житниц страны, на нее в Москве были сделаны особые стратегические расчеты. Богатый хлеб, получаемый на Кубани, Ставрополье, Украине, Поволжье, Казахстане, Южном Урале, Сталин и тогдашнее руководство страны намеревались продавать за границей, а на валюту закупать иностранное промышленное оборудование для индустриального прорыва, скачка. Чтобы выполнить эти планы, крестьян надо было сделать легкоуправляемыми, послушно исполняющими команды административной системы, то есть надо было «темные массы» крестьян срочно загнать в колхозы и совхозы, лишить их земли и воли.
Жизнь в станицах и хуторах Кубани после 1917 года причудливо перемешалась, трагически перекрутилась и только-только, медленно, постепенно начинала налаживаться. Люди более-менее привыкали к сложившемуся положению. Еще не зажили раны и казаков, и иногородних, еще тлел жар яростного несогласия с тем, что получилось после Гражданской войны. Пестрой складывалась картина хозяйственной жизни: все было в станицах и хуторах — бедняки, середняки, зажиточные, коммуны, ТОЗы, совхозы, шел естественный поиск лучших форм и способов хозяйствования на земле. И крестьяне, недавно получившие наделы земли, и казаки с увлечением занялись трудом на земле, он вносил в жизнь успокоение, лечил душу.
И вот по этому пестрому лугу, по живой ткани жизни покатился тяжелый каток сплошной коллективизации, стремясь придать жизни однообразие и единый порядок, безжалостно уничтожая все, что этому сопротивлялось. Уничтожались коммуны, ТОЗы, отдельные зажиточные хозяйства и строптивые хозяева.
В Тимашевском районе образовали сначала единый колхоз-гигант, который поглотил и два ТОЗа, действовавших на хуторе Шкуропатском. Оба трактора, «Интер» и «Фордзон», забрали с хутора в МТС, хутор стал одной из многочисленных бригад «гиганта». Управлять таким колхозом оказалось невозможно, и через год он распался на более мелкие. Хутора Шкуропатский, Ольховский, Куликовский и Волков объединились в колхоз «Первое мая».
«Сплошная коллективизация в короткие сроки любыми средствами» выглядела вблизи, в практическом исполнении особенно нелепо и чудовищно. Крестьяне на хуторах вступали в колхозы без сопротивления, простодушно веря агитаторам, что жизнь будет только лучше. Землю крестьяне получили недавно, далеко не все имели необходимые орудия, машины, не успели разбогатеть. У казаков же были более крепкие хозяйства, орудия, машины, лошади, коровы, с семнадцати лет казаку издавна нарезался участок земли до десяти гектаров, и он привык работать на нем: земля кормила его. Земля, свое хозяйство давали казаку чувство независимости, достоинства, чем он очень дорожил. И вдруг землю, лошадей, коров, все орудия труда надо сдать в какой-то колхоз, а самому остаться ни с чем. Непонятно это было казаку, все в нем восставало против этого. Да и дела в кое-как слепленных колхозах шли плохо, бестолково.
На единоличников, то есть на не желавших вступать в колхозы казаков, наложили огромнейшие налоги, обязательства по сдаче хлеба государству, выполнять которые полностью хозяева не спешили, расценивая это как явный грабеж. В станицы и хутора из районов направляли отряды хлебозаготовителей, которые не церемонились с задолженниками. А так как хозяевами-задолженниками были в основном казаки, а хлебозаготовителями — иногородние, вспыхнула старая вражда. Теперь уже иногородних власти натравливали на казаков, припоминали казакам все их грехи. Начались стычки, драки, даже со стрельбой, казаков раскулачивали, арестовывали, высылали, расстреливали. Начался последний, самый жуткий акт трагедии запорожских казаков.
С 1930 года в Тимашевске стала выходить районная газета «Колхозное знамя». Вначале она небольшая, в развернутую школьную тетрадку, затем побольше, напечатана на толстой, иногда почему-то розовой бумаге, такой шершавой, что из нее торчат древесные занозы и шрифт глубоко утопает в рыхлой массе. Читаешь газету и чувствуешь разгоряченное, ядовитое дыхание того времени.
Вот одни лишь заголовки тогдашних статей и заметок:
«Долой поповскую пасху!»
«Кулак еще не добит»
«Добьем классового врага»
«Комсомол. Чистка продолжается»
«Вредителей Коваленковых — к ответственности!»
«Скиба и Басанец — кулацкие агенты»
«Врагам народа — нет и не будет пощады!»
«Требуем высшей меры наказания вредителю, загубившему 6 лошадей»
«Вышибить Тищенко из конюшни».
Страницы дышат подозрительностью, злобой, нетерпимостью и казенным оптимизмом, негде приткнуться пониманию и добру.
В том новом, что навязывалось, вдалбливалось в головы, внедрялось в жизнь народа, не было ни природного чувства язычества, ни величия, простоты и доброты христианства, ни необходимости, практичности, понятности здравого смысла. Шло разрушение вековых храмов в душе человека, в душе народа. Словно бы кто-то нарочно озлоблял и себя, и других, чтоб не осталось и места для разума и жалости.
С каждым днем положение все более обострялось, накалялось. В станицы направлялись отряды войск особого назначения. Зажиточных и строптивых казаков, которые поняли бесполезность сопротивления, теперь уже не принимали в колхозы, их арестовывали вместе с семьями, грузили в товарные вагоны и отправляли на север страны или в Сибирь. Началось «расказачивание», а попросту уничтожение казачества.
Вот в такое время и начали вылетать из родного гнезда в жизнь один за другим братья и сестры Степановы.
В последний раз все вместе
В один из дней 1930 года все десять детей вместе с отцом и матерью в последний раз уселись за обеденный стол, хотя вряд ли кто-то думал, что это в последний, и, конечно же, событие это никто в семье не заметил и не отметил.
Полюбуемся ими, всеми вместе, в последний раз. Отныне судьба начнет разводить их в разные стороны, все дальше и дальше друг от друга, встречаться и видеться они будут от случая к случаю, как это и бывает с выросшими детьми в больших семьях да еще в такое время. Лишь теплые воспоминания о времени, когда жили все вместе, долго будут согревать всех.
Во главе стола сидит, как и всегда, Михаил Николаевич, несуетливый, со спокойным добрым лицом. Он еще не стар, есть еще силы. Николай уже взрослый, серьезный мужчина, несколько подзасидевшийся в парнях. Он все еще переживает свою сердечную неудачу. Вася, неунывающий, любимец многих девушек, Филя начал работать в колхозе, он более земной из братьев, жизнестойкий… Тихий Федя заканчивает школу, уйдет из колхоза… Варя, уже почти невеста, с трудом уговорила мать и едет с подружкой учиться в Краснодар. Ваня, Илюша, Павлуша учатся в школе, Ваня — стройный, красивый, Илюша и Павлуша — курносые крепыши. Верочка, тоненькая, бледненькая, задумчивая, у нее часто болит голова. Общий любимец Саша-Мизинчик весел и беззаботен и страшно горд тем, что он сидит не за детским столиком, а, как и все взрослые, за большим общим столом, весело поглядывая вокруг бойкими глазами… Ну и сама Епистинья. Как всегда озабоченная, но не забывавшая и полюбоваться детьми, семьей своей, свитым хлопотами и заботами гнездом. Ей в 1930 году 48 лет, но в отличие от многих деревенских женщин, быстро стареющих, Епистинье не дать столько: стройная, собранная, деловитая или, как называли таких на хуторе, моторная, она легка на ногу, быстра в движениях и выглядела значительно моложе своих лет. Любовь не старит, а она и сама любила, и ее любили.
И все же Епистинья сильно переменилась. Она уже не та молодая Пестя, которая говорила: «Ну, если и в этот раз хлопец родится, возьму за ногу та и в речку закину». Сейчас она и в шутку ничего такого не скажет. Она — мать. У нее есть уже взрослые сыновья, у нее Верочка, ее любовь-вина, у нее больше мудрости, терпения, она больше, чем когда-либо, знает все о своих детях, понимает их каждого, любит как никогда.
Да, не запомнилось как-то особенно, не отметилось в памяти ни у кого, что вот они в последний раз собрались за столом все вместе, не возникало это потом в переписке между братьями, где они вспоминали жизнь на хуторе. Обычный день, обед как обед.
Запомнился небольшой случай, о котором рассказала Валентина Михайловна. Епистинья разделила сваренную в борще курицу: кому ножку, кому крылышко, кому чего. Работникам, старшим — побольше, младшим — поменьше. И вдруг Павлуша заплакал: «Почему мне так мало?..» Епистинья растерялась, расстроилась: ну как же, так надо, у нее же нет больше, что же делать… Она тоже заплакала и вышла из комнаты. Павлуше строго выговорили, кто-то добавил ему в его долю от своей, мать вернули, успокоили. Павлуша повинился, и все пошло обычным чередом… Павлуше было тогда одиннадцать лет. Он рос крепеньким, сильным: поднять что-нибудь тяжелое доставляло ему радость, вскоре он как игрушку будет подкидывать двухпудовую гирю. Он рос, и, конечно, ему хотелось есть. Но никто из детей Епистиньи не был жадным, завистливым, и она своим материнским сердцем вскоре поняла, что Павлуша обиделся не потому, что хотел съесть побольше, а подумал, что мама любит его меньше всех, и вдруг ужаснулся… Сколько таких маленьких случаев перебирала в старости одинокая Епистинья, плача, виня себя за то, что мало любила своих мальчиков, не ценила их.
Теперь у каждого выявлялась своя линия жизни, судьбы, резко отличавшаяся от жизни других. Теперь не уследить даже любящим матери и отцу за всеми, невозможно каждый день, каждый час словом и делом поддерживать детей. Надо держаться своими силами.
Женитьба Николая
Николай, похоже, неожиданно даже для себя, тяжело и долго переживал свою сердечную неудачу, сорвавшееся похищение невесты. Казалось бы, что для него какой-то отказ: он сильный, незаурядный парень, все при нем, гармонист, вокруг него постоянно молодежь, долго ли забыть, залечить рану, найти другую девушку. Но — пока не получалось. Хорошая была Аня, добрая, понимающая, и тем сильней оказался нанесенный ею удар.
Вот и сбилась жизнь с ноги, как конь Савватея на скачках, и дальше пошла как-то необычно.
На хутор приехала новая учительница, Нина Павловна. Ей за сорок, у нее трое детей: Нина, Зина и Ясик: она из «бывших», выглядит молодо, хорошо одевается, красивая. Поселилась при школе, в бывшем доме пана Шкуропатского.
Вести свое хозяйство на хуторе, без чего в те годы прожить было трудно, учительнице давалось непросто. Как-то, когда Нина Павловна сажала свой огород, рядом оказался Николай. По-видимому, она работала так неумело, что Николай подошел, стал показывать, как надо делать. Оба они находились в непростом душевном состоянии, и оба быстро это почувствовали и потянулись друг к другу, несмотря на разницу в возрасте, образовании, общем развитии и во многом другом.
Николай помог Нине Павловне наладить свое хозяйство. А вскоре и перешел к ней жить. Брак свой они не регистрировали. Может, потому, что выглядел бы такой брак странным: хуторской парень с четырьмя классами образования, двадцати восьми лет, и учительница, «благородного происхождения», с тремя детьми, сорока с лишним лет, а может, они и сами чувствовали, что отношения их еще не очень прочны.
Необычными друг для друга оказались новые родственники.
Сын Нины Павловны, тоненький, чистенький Ясик, стал частым гостем в хате Степановых, ему здесь очень нравилось играть с братьями. Однажды Павлуша посадил его на тележку и пустил по склону к реке, к обрыву. Хорошо, тележка сама перевернулась по дороге, и Ясик только перепачкался в земле. Епистинья строго отчитала сына за такую шутку: «Ты же бачишь, який вин нарядный городской хлопчик!» Смущенный Павлуша оправдывался: «Я думал, он выпрыгнет…» Ясик, мальчик из интеллигентной семьи, был еще меньше приготовлен к той жизни, куда забросила его судьба.
Женитьба Васи
«Василий был красивый, любил танцевать. Танцевал самые модные танцы. Любил одеваться», — вспоминает ровесница Василия Елена Тимофеевна Ермакова.
На одной из фотографий этих лет, где Василий снялся один, — у него ясное открытое лицо, высокий лоб, волосы зачесаны назад, рубашка вроде гимнастерки перетянута широким ремнем, через плечо — портупея. Наверное, таким, на взгляд Василия, и должен выглядеть передовой молодой человек этого времени.
Раскованность, общительность, организаторские способности, предприимчивость — вроде бы все есть для того, чтобы пойти вверх и вверх, сделать в эти горячие годы общественную карьеру, но Василий ни в какое начальство не вышел, остался на скромных ролях. Что же помешало?
Перебираешь крошечные, обрывочные, разнородные детали его жизни, черты характера и пристрастий, дошедшие в воспоминаниях, и видишь, что его тянуло к музыке, к чему-то радостному, к общему празднику. Желание праздника было у людей в эти годы, но вокруг происходили серьезные события, коллективизация.
Вася был слишком чужд новой административной системе, где требовались послушные, нерассуждающие люди, готовые «выбивать» хлеб из единоличников, «стирать их с лица земли», загонять одних казаков в колхозы, других выкидывать из родных хат, отправлять на Север. По-другому был воспитан Вася матерью и отцом. А еще — у него была скрипка, она тоже помогла ему выстоять в то время, помогла услышать фальшь в «музыке времени». И он тихо отошел в сторону.
Вася хорошо танцевал. Модными тогда были: падеспань, падекатр, краковяк, полька-бабочка. Танцевали и «яблочко», гопак, «барыню». Не всякий хуторской парень мог и решался танцевать в клубе в паре с дивчиной модный танец, вот «русского» сплясать с частушками или гопака — это другое дело. Вася же чувствовал себя на танцах как рыба в воде, вокруг него всегда крутились девчата… Но опять, как в случае с Николаем, девушку из зажиточной семьи с одного из заречных хуторов родители не согласились отдать за Василия. Вася, правда, не пытался украсть невесту. Не вручали ему и «гарбуза» в знак отказа — не дошло дело до сватанья. Женитьба расстроилась, едва лишь девушка завела разговор со своими родителями. Знающие эту историю оговариваются, что Василий любил меньше, чем она его. Девушка и после отказа родителей часто приходила на хутор Шкуропатский. И вот пришла как-то, посидела в хате у Степановых, была печальной. Ушла, а вскоре узнали: девушка покончила с собой.
Хуторов и хуторков было тогда разбросано в степи по берегам речки Кирпили великое множество. Молодежь одних хуторов ходила на гулянья или в клуб других хуторов: то веселятся вместе, то подерутся. Идти в одиночку или вдвоем на другой хутор для парней всегда было рискованно, одного или двух непременно поколотят.
Когда на соседний хутор шли Николай, Василий, Филипп, Федор, к ним уже охотно присоединялись другие: с ними не страшно, братья держались дружно, ребята крепкие, и на них не очень отваживались задираться. К тому же настроены братья дружелюбно, Николай приходил с баяном, а обижать баяниста или гармониста не принято.
Учитель Александр Томилко вспоминал: «Когда братья приходили в Днепровскую, вся станица высыпала: «Степановы идут!»
Ну, может, и не вся станица высыпала, но братьев знали, выделяли из всех.
Всякое бывало… Валентина Михайловна рассказала:
«Вася познакомился с девушкой из села Малинина, это рядом с монастырем. Даже не знаю, почему Малинино — село. У нас ведь только хутора и станицы. Может, потому, что рядом с монастырем, что ли, и жили там не казаки, а крестьяне. Малинино — малиновый звон, наверно… Девушку звали Вера Осадчая. Их в семье три сестры и мать. Одна из сестер — глухонемая, но очень старательная работница, все делала по дому. А Вера с сестрой очень современные девушки: катались на коньках, на велосипедах, пели в клубе, танцевали. Вера красивая, рассудительная… Вася стал ходить в Малинино. Однажды и я с Нюрой Свенской, соседкой, пошла в Малинино. Николай не любил, когда я ходила на танцы, а тем более на другой хутор, прогонял домой, считал, что я маленькая еще. Мы пошли после ребят, ну а там, в Малинине, Николай посмотрел на меня очень сердито, а прогонять не стал. В клуб ребята не пошли, зашли в хату к Вере. Тогда часто так делали — собирались по хатам, там и веселились… И вот видим, во дворе и около хаты собрались местные ребята, один, он за Верой ухаживал, с люшней, прут такой металлический, им повозка крепится, другие тоже кто с чем. Дело к вечеру, сумерки, нам домой пора. Вера говорит: «Вася, ты первый не выходи!» А какая тут разница, кто первый. Наши были: Николай, Вася, Филя, Федя и сосед наш Тимофей Свенский. Да мы с Нюрой… Драка началась, боже мой! Васе особенно досталось… Все-таки ребята пробились через двор. За нами шли ватагой до реки, мы через нее на лодке переплывали к себе на хутор. Грозили: «Мы вас в реке утопим!» Но больше драться они не решились. Я сорвала подсолнечник, подошла к тому, с люшней, и по лицу его ударила: «Зачем же ты Васю бил?..» Он лишь отмахнулся рукой… Потом милиция приезжала, разбиралась: кто, что, почему. Где-то там во дворе нож нашли, свалили на Филю, будто это его… Но ничего, обошлось».
Вера сама стала появляться в клубе хутора и в хате Степановых, и Епистинии Федоровне стало ясно — надо готовить свадьбу.
Но со свадьбой, как ни прикидывали с Михаилом, ничего не получалось. Делать свадьбу скромную — выйдет бедно, убого, будет много насмешливых разговоров, обиженных родственников и знакомых, которых не пригласили, а пригласив — плохо угостили. Хорошая же свадьба если не разорит, то надолго придавит семью, где на счету каждая копейка.
Вера пришла в хату Степановых. Конечно, молодоженам в хате неловко — вон сколько народищу, неловко и за столом, где Епистинья давала им первым лучшие кусочки.
Пожили Вера с Васей в хате Степановых недолго. «Ночная кукушка перекуковала», Вера уговорила Василия переехать к ней в Малинино. Досадно Василию под насмешки и своих хуторян, и жителей Малинина идти в «примаки», но что оставалось делать. Хорошо, что характер у него легкий, открытый, который давал ему возможность не дергаться болезненно, не обижаться на шутку, а самому подшучивать над собой, да и дело всем понятное, честное, над бедностью что ж смеяться, большинство иногородних так жили. Ободряла Василия надежда, что все это временно: обживется, построит и свою хату.
Через положенный срок у Веры и Васи родился сынок, Виктор, а Епистинья и Михаил стали бабушкой и дедушкой.
Вася с Верой приходили в гости. Но Василий уже оторвался от родной хаты и чувствовал себя в ней гостем.
Кажется, несладко жилось Васе и в Малинине, слишком часто приходил он домой, долго еще играл на скрипке в хуторском клубе — генеральском доме. Ведь в Малинине жил «тот, с люшней», его приятели, а Вася был примак, чужой.
Два сына, Коля и Вася, хоть и не очень складно, начали свою самостоятельную жизнь.
Старшая дочь
Варе пошел семнадцатый годок. Сама Епистинья уже замуж вышла в ее годы. И Варя становилась взрослой девушкой, невестой, ходила в клуб на танцы, выступала в спектаклях или пела под гитару. После четвертого класса учиться она бросила и стала помощницей Епистинье в работе по дому, братья то и дело спрашивали: «Варя, где моя рубашка?.. Варя, где мои ботинки?..»
Тайком от братьев Варя со слезами жаловалась матери: «Я такая некрасивая! За Нюрой Свенской уже парень ухаживает. У ней брови черные. А я рыжая! И нос перебитый! Я жить не хочу!..» Епистинья утешала дочь: «У каждого своя красота. Ты чужой не завидуй. Вон твоя подруга Рая — все лицо в оспинах, а она ходит улыбается: «Я — как золотая рыбка». Видишь, какая она молодец. А ты не рыжая, а русая…»
Вася больше других братьев чувствовал, что сестре нужно особое внимание, что она не маленькая, а уже девушка и не прислуга их, братьев. Правда, Варя помнила, как Вася как-то давно сказал с шутливым вздохом, когда она была еще маленькая и Вера еще не родилась: «Эх, одна сестра, и та — Варька…»
Благодаря Васе Варя вступила в комсомол. Но, правда, вскоре отправилась с подругами в церковь «говеть», то есть отстояла службу и причастилась, как давно было принято на хуторе. Пришлось Васе объяснять сестре, что к чему.
Вася стал приглашать сестру в кино. Прибежал как-то в хату: «Собирайся, пойдем в кино, в Тимашевку. Мама разрешила. Только быстрее»! И вот побежали с Васей в станицу. До станицы километров семь, и кино хочется посмотреть, не опоздать, и в боку колет, аж в глазах темно. Успели. Фильм «Знак Зорро». Осталось в памяти до сих пор: красивые дома, деревья, балконы и он, красавец, ловко влезал на эти балконы, где ждали прекрасные женщины. И еще: у него был бич, проще говоря, кнут, с которым он очень здорово обращался. А в чем там было дело — забылось, да и тогда было не очень понятно. Но зато какой красивый мир приоткрылся!
Варя захотела стать артисткой. Мечта казалась вполне реальной, потому что она играла в спектаклях, пела со сцены в клубе под восторженные аплодисменты хуторян, к тому же кто-то сказал ей, что она похожа на известную в то время киноактрису Веру Холодную.
Но Вася, который считался авторитетным человеком в области искусства, охладил ее пыл.
«Ты знаешь, как живут эти артистки, кто они такие? У них ни семьи нет, ни дома, ничего — ездят, как цыгане, табором. Они все… ну, это… ты понимаешь, легкого поведения. Ты что, тоже хочешь такой быть?..»
Да, посмотришь в фильме, когда удастся отпроситься у матери и выбраться в станицу Тимашевскую или в коммуну, — артистки по-особенному, по-городскому красивые, улыбчивые, свободные, и рядом с ними действительно крутятся какие-то лощеные, с усиками, вертлявые мужчины, волосы прилизаны, лица жуликоватые. Обнимаются, смеются, целуются, пьют вино из дорогих бокалов. Красивая, чудесная жизнь! Но — без семьи и… все остальное… Нет, это настораживало.
Теперь Варя мечтала стать летчицей. Ведь хотелось чего-то невероятного, невозможного, совершенно нового по тем горячим временам. Окружавшая жизнь казалась слишком простоватой, но в воздухе носились смелые мечты, замыслы, планы. Хотелось поскорее переделать эту жизнь или вырваться из этого окружения к другой жизни. Где-то же она существует! Вот и трактор появился на хуторе, проехал по улице, сверкая шпорами, самолет пролетел, разбросал листовки. Все это частицы интересной, настоящей жизни.
«Вот женим сынов, выдадим замуж дочерей, накидаю целый подол внуков и буду нянчить та и песни спивать…» — делилась Епистинья своими мечтами с соседками.
Варя — Валентина
Но мечты мечтами, а жизнь жизнью. Подружка Вари Нюра Свенская летом 1931 года поступила в Краснодаре в профессионально-техническую школу кройки и шитья. Нюра была очень довольна перспективой — стать портнихой, самой зарабатывать, кроить и шить одежду — что может быть лучше для девушки! Настроение ее передалось и Варе, и она тоже решила: поеду в Краснодар и поступлю в профтехшколу.
Михаил Николаевич отвез дочь в Краснодар. Нашли там на улице Красной и профтехшколу, и Нюру Свенскую, которая помогла устроиться.
На прощанье Михаил Николаевич чем мог порадовал Варю — купил ей новые чулки, которые ей очень понравились, добавили уверенности в себе.
В профтехшколе Варя проучилась недолго. Цель обучения в школе простая — подготовить мастериц для кройки и шитья, только и всего. Страна крепко пообносилась. Теперь все хотели одеваться лучше. Нужны портные.
Варе стало скучно. В ней жила еще мечта стать если уж не артисткой, не летчицей, то кем-то ярким, заметным, а тут надо учиться такому мещанству — одевать модниц, зашибать деньги и устраивать на этом свое благополучие.
Ведь она потихоньку и имя сменила, стала не Варя, а Валя. Ей крепко запомнилось обидное Васино: «Одна сестра, и та — Варька…» И действительно: ну что это — Варвара с хутора Шкуропатского. Валентина Степанова из Краснодара — это же совсем другое дело!
На ее счастье, в школу пришел однажды вежливый мужчина и стал приглашать девчат на семимесячные курсы учителей. В хуторах и станицах открывались новые школы, ликбезы, учителей не хватало, готовили их по ускоренной программе из наиболее бойких, одаренных молодых людей.
Новоиспеченная Валентина в отличие от подруги Нюры без колебаний бросила кройку и шитье и пошла на курсы учителей. Но здесь она еще острее почувствовала, что закончила только четыре класса хуторской школы и затем четыре года совсем не училась, помогала матери по дому, а надо осваивать непростую программу.
Кое-как осилила. Направили ее на работу в станицу Брюховецкую. Приехала в школу, и стало ей страшно: в свои семнадцать лет с четырьмя классами образования и семимесячными курсами, еще толком не осмотревшись в жизни после хутора, надо войти в класс, встать перед глазами битком набившихся в класс языкастых станичных ребятишек, заставить их слушать, слушаться. Нет, не сможет. Не хватает ни знаний, ни уверенности, ни воли.
Поехала опять в Краснодар и поступила в педагогический техникум.
Но закончить его не удалось. По югу России и по Украине покатилась волна голода, вводили карточную систему, которая на учащихся техникума не распространялась. А на хуторе и самим есть было нечего. Надо самой зарабатывать свой хлеб.
Валентина написала письмо подруге по учительским курсам в станицу Староминскую: «Можно ли у вас устроиться на работу куда-нибудь: на почту или телефонисткой?» Подруга быстро ответила: «У нас нужна учительница в школе. Приезжай». Работать учительницей Валентина все еще побаивалась, но голод не тетка, тут уж не до страхов перед классом.
Поехала в Староминскую. Дали Валентине вести второй класс, она стала получать учительский паек. Жила на квартире вместе с подругами-учительницами.
Однажды поздней осенью в коридоре школы Валентина увидела мальчишку, худенького, оборванного, который посмотрел на нее настороженно и, как ей показалось, враждебно. «Урка какой-то», — подумала она и обошла его. А затем обернулась:
— Илюша? Ты?
Да, это был он, пятнадцатилетний братик Илья! Голодный, встревоженный.
Ах ты, Господи! Валентина повела его на свою учительскую квартиру, отмыла, накормила чем Бог послал из своего учительского пайка.
— Илюша, а почему ты не подошел, когда я проходила мимо тебя, не окликнул?
— Ты такая нарядная, чистенькая. Учительница. Я подумал, вдруг и знаться теперь не захочешь… У нас дома так плохо: совсем нечего есть.
Происшедшее следующим утром привело Валентину в великое замешательство и даже напугало. В их учительском доме было заведено: с вечера они по очереди готовили простенький завтрак для всех, чтобы утром быстро перекусить и бежать на уроки. В этот раз испекли оладышки, по два на каждую, которые и лежали в сковородке на общей кухне. Утром оладышков не оказалось… Время голодное, каждая крошка на виду, на счету, но у них так еще не бывало, чтоб у кого-то что-то пропадало. Стали нервно выяснять, кто бы это мог сделать. Илюша ночевал у них.
«Илюша? Нет! Не может быть!»
Но когда Валентина смущенно обратилась к нему по поводу этих оладышков, Илюша расплакался:
— Прости меня, Варя! (Он по привычке звал ее прежним именем.) Я и сам не понял, как сделал. Вышел на кухню рано утром, вижу, стоят. Думал, съем один, твой… А дальше… сам не знаю… Варя, прости!
Если бы ей сказал кто-нибудь, что их скромный, честный Илюша может такое сделать, никогда бы не поверила… Только теперь до нее дошло по-настоящему, что дома на хуторе голодно и плохо.
Валя отдала Илюше остатки продуктов от своего учительского пайка, и он уехал домой на подножке товарного поезда.
Голод
Голод катился по стране: голодали села, хутора, станицы Украины, Кубани, Ставрополья, Поволжья, Южного Урала, Казахстана. Когда-то самые богатые хлебные районы государства вымирали от голода: умирали мужчины, женщины, дети, умирали семьи, вымирали целые села.
Жуткие картины рассказывали пережившие бедствие: ели собак, кошек, крыс, сусликов, солому с крыш. Ходили страшные слухи о людоедстве, о пропаже детей… По некоторым зарубежным данным, от голода умерло 3–4 миллиона крестьян, по другим — в два раза больше. А всего в годы коллективизации, по зарубежным данным, погибло, умерло, было расстреляно, уничтожено около 13 миллионов крестьян.
Как же получилось, что с голоду умирали толковые крестьяне и казаки, жившие на богатейших в мире черноземах?
Во исполнение стратегических планов Сталина крестьян зерновых районов страны ускоренными темпами загнали в колхозы. Миллионы хороших хозяев были разорены, раскулачены, расстреляны, сосланы на Север — тоже на гибель. Многие сбежали от гибели в города.
В сколоченных наспех колхозах дела шли плохо, урожаи падали, зерно с колхозных полей и токов сразу шло в заготовку — для населения городов, для вывоза за рубеж. На трудодни колхозникам не давали практически ничего. Чтобы как-то выжить, они воровали зерно с токов, насыпая его в карманы или за пазуху, собирали колоски в поле, стригли поспевающие колосья. Работать даром никому не хотелось, сбор зерна в стране упал.
Сталин собственноручно написал Закон об охране социалистической собственности, который был принят 7 августа 1932 года. Этот закон определял «в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества».
Историки сообщают: к началу 1933 года, за неполные пять месяцев, по этому закону было осуждено 54 645 человек, из них 2110 — к высшей мере наказания.
Но и этот кровожадный закон помогал плохо, сдача хлеба государству в 1932 году шла медленно, слабо, задания не выполнялись. «Не погоняй кнутом, погоняй овсом!» — говорит в таких случаях здравый смысл. Но не терпелось погонять кнутом. В зерновые районы страны были направлены из Москвы чрезвычайные комиссии. В Северо-Кавказский край, куда входила и Кубань, прибыла чрезвычайная комиссия во главе с Л. М. Кагановичем: М. А. Чернов, А. И. Микоян, М. Ф. Шкирятов, Г. А. Юркин, Г. Г. Ягода и другие. С прибытием комиссии начались репрессии против всех и вся, особенно — против казаков. Усилились расстрелы, казаков стали выселять на Север целыми станицами.
Листаешь газеты тех лет: они переполнены тяжкой злобой — и центральные, и местные.
Тимашевская районная газета «Колхозное знамя» в 1932 и 1933 годах ни слова не говорит о голоде, а прямо-таки заходится от злобы и ненависти:
«С фронта хлебозаготовок»
«Красные партизаны открывают кулацкие ямы» «Прощупать щупами все скирды!»
«Ворам и гноящим хлеб в ямах — расстрел»
«Станица Медведовская на черной доске. Станица выселяется с Кубани»
«Острая и беспощаднейшая ненависть к врагам — вот чего требует борьба, вот что дает победу»
«Разоблачайте притаившегося классового врага! Гоните кулаков из колхозов»
«У амбаров классовый враг».
«Не складывать щупов до тех пор, пока не будут раскрыты все кулацкие ямы, пока не будет собрано все разворованное зерно».
Специальные отряды прочесывали каждую хату, выгребая буквально каждую горсть зерна. Прошлись «хлебозаготовители» со щупами и по хатам хутора Шкуропатского, обыскали хату Степановых, нашли и забрали спрятанную Епистиньей на горище макитру с кукурузой, последнее зерно, которое у них было.
Выгребли. Выгребли все, что было. У всех.
Начался голод.
Смерть Михаила Николаевича
Пришел голод и на хутор Шкуропатский. Дочь Свиридона, Нина Свиридоновна Никифорова, написала:
«В 1933 году на Кубани был голод. Свирепствовала малярия. Я ходила в школу. По дороге начнет меня трепать, я пересижу под забором, а потом иду в школу или возвращаюсь домой.
В голодный год ели лебеду, калачики (трава), печеный лук и печеную свеклу. Потом получили с колхоза полмешка муки пшеничной, и мама нам пекла клецики — пышки такие, уже добавляла муки. Мама очень болела, пухла, но нам, детям, больше еды, «бурды», давала, а сама как-нибудь…»
Евдокия Ивановна, жена Ивана Даниловича Рыбалко, рассказала:
«Мы, молодежь, мало видели летом старших. Они все были на работе, от зари до зари. Ели хлеб и кукурузный, и никакого в 1933 году. Людей умерших свозили за хутор и сбрасывали в ямы».
Голод. Словно бы какое-то затмение опустилось на хутора и станицы. Люди были вялы, злы, равнодушны, легко умирали, особенно пожилые мужчины.
Михаил Николаевич работал в колхозе. В тот осенний дождливый день он ушел на ток сторожить остатки семенного зерна, он честнейший человек, ему доверяли это ответственное дело.
Вскоре в окно хаты Степановых постучал Симоненко, он жил через дом от них.
— Ваш батько лежит на току.
Ваня вскочил верхом на лошадь. Отец лежал на току под дождем, был жив, но без сознания.
Ваня кое-как поднял его на спину лошади, но отец свалился в грязь с другой стороны. Пришлось скакать за помощью.
В сознание Михаил Николаевич так и не пришел. К утру умер.
В смерти его есть и сейчас много неясного. Валентина Михайловна утверждает, что его убили, возможно, даже кулаки… Ваня, который видел отца на току, видел все, в своей автобиографии в военном училище пишет: «В 1934 году отец по болезни умер». Если бы отца убили кулаки, Ваня обязательно бы об этом написал, а о голоде в колхозе на Кубани — лучше помолчать.
Рассказывают еще, что накануне шел он по хуторской улице и остановился около плотника Цыбули, который делал гроб для очередного умершего. «Для кого делаешь?» — спросил Михаил. «Для тебя. Ну-ка примерь». Михаил лег в почти готовый гроб: «Как раз». Обменялись печальными шутками. А на другой день Михаил умер и похоронили его на кургане именно в том гробу. Цыбуля всю жизнь корил себя за свою шутку.
Михаил Николаевич умер от голода. И имя его — в числе тех умерших миллионов крестьян и казаков, которых еще не могут сосчитать.
Вот и нет больше Михаила Николаевича. Как опустела сразу хата, опустело подворье, опустело сердце Епистиньи. Не раздается больше такое успокаивающее постукивание молотка по утрам в хате или во дворе. Некому больше спеть за столом по праздникам «Дубинушку». Нет больше у сынов разумного, спокойного советчика.
Епистинья осталась с детьми одна.
В этом же году умер Пантелей. Немного позже умерли Свиридон и Данила. Уходили навсегда работящие, терпеливые мужики.
Перелом
Дети учились, начинали работать, женились. Епистинье трудно было давать им конкретные советы: она неграмотна и не очень разбирается в происходящем вокруг. Отец понимал больше, и детям рядом с ним было легче. А она говорила лишь, что жить надо по совести, и уж каждый сам разбирался, как ему быть, как поступить в том или ином случае. Видно, и дети начинали понимать это и больше сообразовывали свои решения с общим строем души матери, по которому серьезный шаг должен быть хорошо обдуман, взвешен, а также и честен, бескорыстен, нужен. Ну а как именно надо поступить, решали сами, смотря по обстоятельствам.
Мать была душевно чистым, добрым человеком, а происходящее в тогдашней хуторской и колхозной жизни требовало действий грубых, житейски изощренных, совсем не всегда совестливых. Сыновей мучило это, каждый нуждался в житейски опытном, образованном, умном собеседнике, который мог бы объяснить, что происходит на Кубани, в стране. Ну а кто тогда на хуторе мог разбираться в происходящем?
Опять, как и много раз в нашей русской истории, все завязалось в тугой узел вокруг земли и воли.
Когда-то переселились в кубанские степи вольные запорожские казаки и не заметили в суете бытового устройства, как ушла воля, поплыла из рук земля.
Так и сейчас. Только-только получили крестьяне землю. Еще не получили они, а только надеялись получить волю, то есть избирать Советы из людей, которых знали, которым верили, а не голосовать за составленные кем-то списки.
Но уже опять выявлялась административно-командная система, от лица которой Сталин провозгласил примерно так же, как самозваное «правительство» переселившихся запорожцев: «Да будут у крестьян колхозы и совхозы, полностью послушные райкомам, обкомам, центру». Вновь начала вить паутину жесткая бюрократическая система, которой хорошо подходили люди послушные, нерассуждающие, готовые на все.
Отняли у народа только что завоеванную землю, отняли волю. Вновь напрасно потрачены были огромнейшие усилия, пролито столько крови.
Массированные удары по крестьянству, составлявшему подавляющее большинство народа, — выселения, раскулачивания, расстрелы, зерновые грабежи, голод — надорвали живой, сложный организм, надломили это жизнелюбивое дерево; оно еще жило, плодоносило, но стало медленно сохнуть.
Тихий Федя
Когда Вася перешел жить в село Малинино к Вере, секретарем комсомольской организации избрали Федю. Он работал в колхозе учетчиком, счетоводом.
Немногословный, скромный, исключительно порядочный, «тихий», по общим воспоминаниям о нем, Федя оказался на бойком месте в жизни хутора и колхоза. В районе шли коллективизация, хлебозаготовки, расстрелы. Покатился голод с множеством смертей.
Федя оказался в точке особого напряжения: в колхозе шли бесконечные злые споры по учету сделанной работы, который Федя старался вести честно; из райкома от него как секретаря требовали «добивать кулаков и подкулачников», провести чистку в рядах комсомольской организации, где новоиспеченные комсомолки по праздникам привычно направлялись в церковь причащаться, «набираться благодати Божьей», требовали показать пример и выкинуть из хаты иконы матери. Слишком часто от Феди требовали то, что было против его совести. В своей автобиографии в военном училище Федя позже напишет, чтоб выглядеть все-таки правоверным: «По ликвидации кулачества работал и участвовал в госполиткампаниях». И Васю, и Филю, и Федю как комсомольцев райком привлекал к акциям по хлебозаготовке и «ликвидации кулачества». Кому-то надо было выселять казаков, грузить их вещи на арбы, везти на железнодорожные станции. Братья своими глазами вблизи видели эту «ликвидацию» и быстро уходили с такой «комсомольской работы».
Положение казалось Феде безысходным, он чувствовал, что долго не выдержит.
Вдруг появилась возможность устроиться на работу в Тимашевский станичный совет делопроизводителем. Федя с радостью сдал в колхозе дела счетовода, но комсомольская организация не отпускала его, считая, что он сбегает с трудного участка. Федя перешел самостоятельно.
За переход на другую работу без разрешения комсомольской организации Федю исключили из комсомола. С полгода поработал Федя в стансовете, и в конце 1935 года его взяли в армию.
В школу
Младшие ходили в школу: Вера и Саша — в хуторскую начальную, Павлик с Илюшей — в станичную.
«Портфели шили из мешковины. Носили книжки и просто за пазухой. Учебников не хватало, 1–2 на всех, на звено. Ручки деревянные, с пером. Чернильницы — пузырьки. Одежда — кто в чем, тепло — то босые, ситцевые рубашки, брюки», — вспоминает о том времени ровесник Саши и Веры Павел Федорович Цыбуля.
Верочке, слабенькой здоровьем, учеба давалась трудно, иногда она оставалась на второй год. Ходили они с Сашей в школу в станицу Днепровскую. Верочка одевалась очень аккуратно, носила узкую юбку, модный беретик, за что ее звали «интеллигенткой».
Дети, дети. Никогда нет матери покоя, всякое может с ними случиться.
Вот недавно прислал письмо в музей житель села Малинина Кузьменко Илья Григорьевич:
«Пишу, и передо мной альбом Вечной славы семьи Степановых, подаренный на встрече защитников Сталинграда к 40-й годовщине. И смотрит на меня Павел Степанов, товарищ школьных лет. Просто хочется преклонить голову перед погибшим товарищем за спасение моей жизни. Коротко как это было. Шел 1936 год. Мы учились в школе имени Герцена в Тимашевке, правда, не в одном классе. В то время мы жили через речку, а Павел на Шкуропатском. Теперь нет признаков ни их хутора, ни нашего места, где мы жили. Ходить до дома вкруговую около 15 километров, а через речку вполовину ближе. Павлик мне говорит: “Мы уже катаемся на коньках, пошли, мы тебя переведем через речку”. Занимались мы во вторую смену, пока дошли, стало темнеть. С нами был еще товарищ, Отрошко, забыл как его звали. Мы переходили речку, осталось метров 20. Ну, говорю, теперь я сам пойду. И только отошел метров 10 и провалился. Глубина большая, повис на льду. Но что самое главное, что этот его товарищ испугался и убежал, а Павлик не бросил товарища в беде. Рискуя, он лежа полез наломал камыша, так же лежа подал мне. Я уцепился, и он потихоньку вытащил меня. Книги и фуражка остались на льду, а мы пошли к Павлику ночевать. Мамаша его приняла меня с материнской теплотой, дала мне переодеться, даже налила полрюмочки, говорит, согрейся, постелила постель на соломе возле печки, и я уснул. Утром мы с Павликом соорудили крючок, пошли доставать книги и фуражку. Все примерзло. Кой-как пооторвали, и я пошел домой…»
«Жить стало веселей…»
Радовал Епистинью Филя. Он рос цепким, неунывающим, может, потому, что нашел свое любимое дело.
Его дело — работать на земле вместе с людьми. Он быстро стал звеньевым.
Ровесница Филиппа Вера Тимофеевна Свенская рассказала:
«Филипп раньше работал в первой бригаде, а когда стали создавать вторую бригаду и выбирать кандидатуру на бригадира, предложил свою, сказал: “Я буду бригадиром”. Его поддержали. Филипп сказал: “Баб в бригаду брать не буду!” Женщины и девчата шутили: как же, мол, обойдетесь без нас?..»
Без «баб» бригадир Филипп обойтись, конечно, не мог, тем более что они быстро покорили его сердце. Чем же?
«Работали с огоньком, шли на работу как на праздник. Вставали с зарей и — до заката, дотемна. Не думали, что нам отдохнуть надо — надо отдохнуть лошадям.»
Филипп говорит: “Девчата, а почему мы клятву не дали? Давайте поклянемся, что мы проработаем в колхозе пятьдесят лет”. Все сложили руки и поклялись. Я помнила эту клятву, проработала в колхозе пятьдесят четыре года, хотя была инвалидом второй группы. Воспитаны были: надо — значит надо, и не думай о себе», — рассказала Таиса Андреевна Литовченко-Дерюга.
Это было время, когда «жить стало лучше, жить стало веселей». После первых, злобных, голодных лет колхозная жизнь, особенно на хуторах, начинала налаживаться. Улучшились учет, контроль, пошли урожайные годы, стали прилично оплачивать трудодни.
В колхозной жизни: в общем труде, общих заботах и радостях, обнаружились заметные достоинства — хорошего труженика, толкового человека замечали и ценили все, он сразу вырастал и в своих, и в других глазах. На работу шли с песнями, с работы — с песнями, все словно помолодели.
В работе соревновались с мальчишеским азартом, передовой бригаде тут же на поле давали красное знамя, а отстающей — знамя из рогожки.
Удивительное было время! Ведь совсем недавно прокатился голод, прошли раскулачивания, целые станицы выслали на Север. Все было отодвинуто, как бы забыто, прощено. Жизнь определяли горячая общая работа, колхозные хлебные обозы с флагами, боевые собрания, колхозные праздники с большими общими столами, где дарили красные косынки, отрезы материи на костюмы и платья.
Надломленное дерево все-таки было еще полно сил, оно жило, зеленело. Гремели имена Алексея Стаханова, сестер Виноградовых, Паши Ангелиной, папанинцев, летчиков. Газеты были полны горячих, зажигательных сообщений, призывов. Время понеслось, как птица-тройка. И все же что-то запаленное, тревожное ощущалось за таким темпом времени, созданным искусственно, подхлестнутым. В таком темпе жизнь народа долго идти не может — он неестествен для него, ненормален. Не может тройка весь долгий путь нестись бешеным аллюром, лошади выдохнутся. Не может народ долгие годы жить и трудиться в бешеном темпе, это невозможно, ненужно, вредно. «Не переводя духу, дальше ворот не добежишь». Всегда требуется время для неторопливого осмысления жизни, всего происходящего в ней, чтоб оглянуться вокруг, перевести дух, порадоваться и попечалиться, не может жизнь состоять из одного лишь труда. Но похоже, что Сталин и его соратники не очень хотели, чтоб люди задумались над происходящим в стране, задумались над тем, что снова нет у них ни земли, ни воли. Надо так загнать всех в работу, в классовую борьбу, в подозрительность, чтоб некогда было и головы поднять, и в чем-то засомневаться.
Все силы в колхозе отдавали работе, а Филипп в этой работе прямо купался. Лучшего для него и придумать невозможно. Одним из первых Филипп стал применять недостававшие чернозему минеральные удобрения, организовал сбор по хутору золы из печей, птичьего помета. Все шло в дело, земля отзывалась хорошим урожаем.
Бригадиром Филипп оказался строгим, въедливым, но человек-то он все равно был свойский. Любил вареники! Идет по хутору в неизменной своей большущей кепке, поведет носом: «Так, у этих сегодня вареники с творогом, а у этих со сливами».
«Ну как, Мария, твои вареники с творожком готовы уже?» — шутливо кричал он какой-нибудь хозяйке.
«Да как ты узнал, что у меня сегодня вареники с творогом?»
«По запаху чую!»
«Ну, заходи! Попробуешь», — приглашала хозяйка.
Филипп не отказывался, шел отведать. Хвалил хозяйку. Ну как после этого не любить Филиппа, а тем более держать на него какое-то зло!
1 января 1936 года был Всесоюзный день ударника. От колхоза «Первое Мая» на Всесоюзный день ударника в Москву был представлен бригадир Тупиков Нестер Петрович, с которым Филипп соревновался. Когда колхозники узнали, что в Москву поедет Тупиков, многие запротестовали и предлагали Филиппа, потому что у него показатели урожайности были выше. Районные власти утвердили все-таки Туликова. Наверное, потому, что он был членом партии, а Филипп лишь комсомолец.
Тупиков и поехал в Москву в составе делегации АзовоЧерноморского края, куда входила и Кубань. Ударников страны торжественно чествовали в Кремле; в президиуме сидели Сталин, Ворошилов, Молотов, Калинин. В числе других Туликова наградили орденом Трудового Красного Знамени. Обо всем этом широко писали газеты.
8 января вечером несколько орденоносцев-ударников Тимашевского района вернулись из Москвы в станицу. На вокзале Тупиков выкатил из вагона подаренный ему в Москве велосипед, который произвел большее впечатление, чем сегодня — легковая автомашина.
Поскольку многие колхозники считали, что Тупиков награжден незаслуженно, что наград и почестей больше заслужил Филипп Степанов, то в колхозе его сначала встретили холодно. Но затем общий энтузиазм и настрой времени победили, да и не сам же Тупиков вызвался ехать в Москву, к тому же в клубе всех ждали накрытые столы — в общем, в колхозе устроили большой праздник по случаю награждения их земляка-колхозника орденом и велосипедом.
Может, Филипп и подосадовал, что не его послали в Москву, но недолго. Бригада его по-прежнему работала отлично, а настроение у бригадира, как и всегда, было шутливо-жизнерадостное, на общих праздниках он с удовольствием запевал любимую свою песню: «Ще третьи пивни не спивали, нигде нихто не гумонив…»
Вскоре Филипп женился на Александре Моисеевне Бречко, Шуре, работящей до самозабвения, скромной женщине. Она недавно приехала с родителями из Воронежской области, там остался ее муж, жизнь с которым не получилась… В эти годы на Кубани появляются тысячи переселенцев: слишком много народу унес голод, много казаков, иногда целые станицы были сосланы. А с Севера вербовали крестьян на Кубань. В стране шло великое насильственное «переселение народов».
«Свадьбы никакой не было. Филя привел меня к себе домой, и мы стали жить совместно с его матерью, братом и сестрой», — рассказывала позже Александра Моисеевна.
С матерью, братом и сестрой: в хате Епистиньи остались к этому времени Филипп да Верочка с Сашей-Мизинчиком, Ваня работал уже заведующим Домом пионеров в Тимашевке, Илюшу взяли в армию, Павлуша поступил в педагогическое училище.
В 1937 году у Филиппа и Шуры родился сын Женя… В этом году на Кубань обрушился невероятный, невиданный урожай. Хлеба на трудодни давали столько, что от него уже отказывались — некуда девать. Подъезжали арбы к хатам, и, не спрашивая хозяев, зерно ссыпали грудой у подворья. Долго-долго не получали позже такого урожая и такой оплаты, но этот год заложил основу мифа о сказочно богатой, сытой, беззаботной, счастливой жизни колхозников на Кубани. И после войны поскакали по экранам нищей страны мифические «Кубанские казаки». Не существовало никогда показанной в кино жизни, а кубанские казаки, еще оставшиеся от войн и расстрелов, померзли, поумирали с голоду в бараках на Севере или тосковали по родине в чужих странах. Фильм хорошо выразил лишь давнюю народную мечту о счастливой жизни.
В районе, как и по всей Кубани, решили в конце тридцатых годов снести мелкие хутора, в число которых попал и Шкуропатский. Жителям мелких хуторов колхоза «Первое Мая» отводили участки на хуторе Волховом, который переименовали в хутор Первое мая. Здесь располагался центр колхоза, потому что этот хутор стоял ближе к Тимашевской. Отвели участок и Филиппу; стали готовиться к постройке новой хаты.
Казалось бы, на редкость благополучный год для колхоза. Но происходили и странные события: на Шкуропатском арестовали и увезли ничем не выделявшегося мужика Отрошко, двух поляков-сапожников, затем бухгалтера Болтгалова Петра Васильевича, которого все особенно жалели. Он был из обрусевших латышей, хозяйственный, умный крестьянин. И сейчас еще о нем вспоминают: «Он у нас был как отец хутора: и посоветует, и научит, и расскажет… Забрали как шпиона. Люди же ничего тогда не понимали, всего боялись. Между собой жили дружно, а как из района кто приедет — все, молчок».
В гостях у Вари
Валентина поступила в Ростове-на-Дону в педагогический институт. Вышла замуж. Ее муж, Иван Иванович Коржов, работал заведующим бюро ЗАГС, которые тогда входили в систему НКВД. Вскоре Иван Коржов перешел в органы НКВД, ему присвоили офицерское звание. Жизнь Валентины материально заметно улучшилась: у нее появилась квартира, множество платьев, туфель.
Не захотела она быть Варварой-великомученицей, выбрала судьбу учительницы Валентины, жены офицера.
Муж часто уезжал в командировки: у «органов» было много работы. Возвращаясь, он ничего не рассказывал, по ночам иногда не спал, курил, ходил по комнате. Валентина ждала ребенка, боялась первых родов, ее беспокоили частые отлучки мужа. Она написала жалобное письмо матери, пригласила в гости.
Епистинья поехала к дочери в Ростов. Впервые за долгие годы ехала она тем путем, которым девочкой шла с отцом, матерью, братьями и сестрами вслед за арбой на Кубань. Вроде бы не так уж давно это и было, а позади — целая жизнь!
Валентина встретила мать на вокзале, не без гордости показала квартиру, одежду, пожаловалась на жизнь, на мужа, поплакалась. Епистинья успокаивала дочь, давала советы, утешала: «Думаешь, мне самой сладко? Михаил и выпивал, и за чужими жинками ухаживал, а без него, знаешь, как плохо». Сегодня Валентина Михайловна с улыбкой рассказывала об утешениях матери, она-то знала отца. Если бы все мужчины так «выпивали и ухаживали за чужими жинками», как их добрый отец!
Валентина пригласила мать в театр «Музкомедия» на спектакль «Сорочинская ярмарка». Смотрела Епистинья восторженно и простодушно, как смотрели спектакли на хуторе в бывшем генеральском доме; когда мужик зацепился широченными штанами за кол плетня, она громко рассмеялась:
«Ой, Боже ж мий, мотнею зачепився!..»
На нее с улыбкой оглядывались ростовские зрители.
«Мама, ну что же вы так громко…» — забеспокоилась Валентина.
«Я и забыла, что не одна», — прошептала Епистинья.
Когда занавес закрылся, Епистинья вздохнула:
«Пока сидели и смотрели, когда сцена открыта — красиво, как в раю. А сцена закрылась, и опять сердце обливается кровью…»
Знакомое всем ощущение: отвлечет праздничное нарядное зрелище от забот, вернет в счастливое детское беззаботное состояние, но, как и все в жизни, к сожалению, зрелище кончается, и обступают со всех сторон тягостные невеселые дела, хлопоты, возвращается действительность, словно надевается опять на шею потный, трущий, тяжелый надоевший хомут, кончается сказка.
Епистинья заторопилась из Ростова домой, и когда дочь обиженно укорила ее, что она ее бросает, уезжает, Епистинья вздохнула:
«Варя, да ведь у меня дети. И внуки… А ты уж большая. Живешь лучше всех».
Студент Павлуша
Обо всех сыновьях болела душа у Епистиньи — никому из них пока не удалось устроиться в жизни надежно, крепко, счастливо; каждый из них будто бы пережидал трудное время, надеясь, что настоящая жизнь начнется попозже.
Жизнь детей улучшалась, но медленно и, похоже, не очень складно, потому что появлялись они в хате озабоченные и совсем не такие окрыленные, ликующие, какими были в детстве.
Да и не у всех детей дела шли хорошо: у кого получше, а у кого — хоть волком вой. Сейчас особенно тяжело приходилось Павлику.
Он поступил в педагогическое училище в станице Брюховецкой, это километрах в пятнадцати от Тимашевской. Голодно ему там, и на выходной, на праздники он приезжает домой: прицепится на подножку товарного поезда и едет, если не сгонят, или — пешком по шпалам, в мороз, в гололед. Появляется в хате весь застывший, обмороженный, голодный — смотреть невозможно без слез.
Муж Валентины Иван Коржов приехал в 1937 году в Брюховецкую в командировку и решил навестить своего шурина. Вызвал его через директора: вошел Павлик в старой латаной телогрейке, брюках с пузырями на коленях, ботинках с отставшими подошвами, подвязанными веревочками. Студент педагогического училища… Павлик не унывал, улыбался. Напуганный неожиданным визитом офицера НКВД, директор хвалил его: настойчивый, пишет стихи в стенгазету, будет поэтом… Иван купил шурину новые ботинки, которыми Павлик очень гордился, говорил, что он в них как будто сразу подрос и стал красивым.
Стихи Павлик любил сочинять, он и домой в письмах иногда писал:
Ветер за окном свистит и завывает, А Павлик ваш голодный засыпает…Эти стихи очень трогали Верочку, она собирала кое-какие продукты и отправляла брату посылочку.
Брюховецкая была еще более захолустной станицей, чем Тимашевская: пыльные улицы, хаты-мазанки, камышовые изгороди, на улицах — стаи собак.
Руководители педагогического училища в Брюховецкой действовали житейски обоснованно и просто: зачисляли на первый курс практически всех желающих, потому что отобрать из хуторских и станичных ребят, увидеть в них будущих учителей представлялось невозможным. В ходе учебы, после первых экзаменов, слабые и случайные отсеются, а останутся толковые, способные, упорные.
В классах сидело человек по семьдесят, плечом к плечу усаживались за парты, не хватало учебников, тетрадей, простейших пособий, а общежитие и вовсе нагоняло тоску. В старой хате-мазанке стояли в два ряда придвинутые вплотную друг к другу топчаны, между рядами оставался узкий проход, на топчанах сложены мешки, узлы, свертки, самодельные чемоданы-сундуки, телогрейки, буханки хлеба, дыни, иные спали и под топчанами на полу, в проходе. Не было ни одного стола и стула.
В такой вокзальной суете ребята становились раздражительными, по пустякам спорили, ссорились, готовиться к занятиям было невозможно; первые бегуны схватились за свои котомки.
С Павликом учился его товарищ из Тимашевки Александр Томилко, вместе ездили они домой на товарных поездах, ходили по шпалам, с опаской вглядываясь в заросли терновника по обочинам — там водились волки. Однажды зимой, когда шли домой, Саша обессилел, закоченел, потерял сознание, и Павлик нес его до дома на спине.
Через год училище в Брюховецкой закрыли, а студентов распределили по другим училищам Кубани. Павлик и Саша Томилко попали в станицу Ленинградскую, это уже далеко от дома, пешком не придешь. Училище в Ленинградской значительно лучше, чем в Брюховецкой, больше, чище, светлее. На фотографии этих лет Павлик одет получше, он в добротном костюме, ведь в 1937 году выдался хороший урожай, и Филипп с Николаем помогли брату.
Очень любил Павлик спорт: поднимал гири, играл в футбол. Удар у него был пушечный. Томилко рассказывал: «Руки у него — во, ноги — во, как даст — штанга пополам!» Перед футбольным матчем девушки спрашивали: «А Степанов будет играть?» Если Павлик играл, тогда шли.
Но девушки у Павлика не было, он был молчалив, да и дружили тогда парни с девушками в училище «хором», не разбивались на пары.
Ваня и Ольга
Отношения Епистиньи со взрослыми детьми в главном сложились ясными, уважительными, равными. Дети были понятны ей в своих желаниях, своих жизненных трудностях, охотно рассказывали ей о себе, а если что и не рассказывали, то не из недоверия к ней, а потому, что это были детали, особенности их профессии.
Но вот отношения с Ваней выходили из ее понимания… Ваня словно бы ожидал от матери чего-то, что она не могла даже понять, но что было для него очень важно. Какие-то сложные душевные заботы, тревоги мучили его, что-то неясное иногда даже самому. Он хотел если уж не найти решение, то хотя бы выговориться умному, понимающему человеку, хорошо бы душевно тонкой матери, которую он, конечно, любил, но неграмотная, совсем не учившаяся в школе мать его мучений понять не могла, и он раздражался, нервничал, мог сказать грубость. Душа его рвалась куда-то.
Держался Ваня сам по себе, недоверчиво, хотя не был ни замкнутым, ни молчаливым. Шумные мальчишеские игры его не увлекали, он очень любил читать. Спрячется с книжкой в зарослях бурьяна и читает или пишет стихи, а то и целые пьесы для хуторского драмкружка. «Духовной жаждою томим», Ваня очень нуждался в умной помощи знающего доброго человека, но его рядом не было. Не встречал он на своих жизненных перепутьях шестикрылого серафима.
Дочка хозяйки, где Ваня жил на квартире, когда учился в Тимашевской школе-семилетке, кокетничала с ним, хлестала его по рукам кустиком крапивы, чтоб отвлечь от книжек или сочинения пьес в бурьяне, дразнила его «канарейкой», потому что Ваня немножко картавил, — не помогало. Ваня лишь отмахивался, сердился.
Окончив семилетнюю школу в Тимашевке, Ваня работал счетоводом в колхозе, а затем райком комсомола направил его старшим пионервожатым в станицу Медведовскую. Это была одна из многих станиц, откуда в 1932 году выслали на Север всех казаков «за саботаж хлебозаготовок». В Медведовскую поселили «колхозников с Севера», и районные власти всеми силами старались сделать станицу «образцовой».
В Медведовской Иван познакомился с Ольгой Степановной Колот, учительницей местной средней школы. У нее было высшее образование, родители служили на железной дороге в станице Абинской. Умная, начитанная, ироничная учительница оказалась именно таким собеседником, о котором мечтал Ваня, с ней можно было говорить обо всем, его понимали, можно высказывать и обсуждать душевные тревоги и сомнения, говорить о чем-то даже неясном, читать стихи.
Но на характере Ольги сильно сказывалось то, что в детстве после болезни она лишилась глаза. Несчастье постоянно напоминало о себе: она всегда на людях, в школе, а дети часто бывают безжалостными. Это вносило в их отношения с Ваней особую нервозность, неустойчивость.
В марте 1937 года у них родилась дочь Альбина, хотя брак их не был зарегистрирован. Появление дочери не укрепило их отношений: Ольга постоянно в чем-то подозревала Ваню и, будучи неуверенной в себе, излишне гордилась своей образованностью, даже унижала Ваню, который не был твердокаменным, обижался, злился.
Ваню в 1937 году взяли на работу в Тимашевский райком комсомола помощником секретаря. Он попал в гущу жизни и деятельности тогдашней административной системы, включавшей в себя и комсомольских руководителей. Вася, Филя, Федя обожглись в свое время о ликвидацию кулачества, хлебозаготовки, чистки и держались подальше от комсомольской работы. Настала очередь Вани, которого судьба занесла повыше братьев.
Недавно Ольга Степановна скончалась, и дочь их Альбина передала в музей несколько писем Ивана к Ольге как раз вот этой довоенной поры. Ольга хранила их всю жизнь.
«Здорово, Оля!
Я получил твое письмо, на которое отвечаю, правда, нужно заметить, что для меня оно не совсем приятное и ясное — о чем и хочу написать тебе. Прежде всего, к чему твои упреки и разные ненавистные ко мне слова — этого никак не понимаю.
Я все же удивляюсь тобой, как может человек с таким образованием, культурный, не разобравшись ни в чем, писать и называть подлецом и другими подобными словами ни с сего ни с того, как с за угла кирпичом, писала вначале как будто письмо, а потом упреки разного рода — к чему?
Пишу и объясняю.
Письма от тебя, о котором ты упоминаешь, я не получал, а поэтому незнаком с ним и поэтому не писал тебе ответа.
Я был больной и сейчас тоже. Чем — рассказываю: играли футбольный матч и при игре свернул ногу — получилось растяжение сухожилия и сейчас еще кривундяю. Из-за этого не выехал к тебе — ясно, хочешь верь, хочешь как хочешь, дело твое, больше писать и доказывать об этом не буду, так как тебя агитировать нечего, вполне самостоятельно можешь разобраться, и теперь уже поездку я отложил на отпуск, который получу числа 5—10 августа, думаю тогда побыть у тебя побольше и поговорить, а м. б. и разрешить волнующие тебя вопросы. В отношении того, что ты пишешь, что ты со мной можешь поступать как с подлецом, отвечаю — можешь поступать и так, сколько тебе угодно, ведь ты человек и то, что ты думаешь делать и считаешь по-своему правильным, значить, делай, я тебе препятствовать не могу — по-моему так. Только мне кажется, я этого не заслуживаю, и так меня называть, мне кажется, излишне, а в общем, ты можешь меня называть и уже назвала, как хочешь, сколько хочешь, если ты для себя это допускаешь и считаешь это необходимым. Запретить тебе говорить, что ты хочешь, таких полномочий не имею.
В отношении того, что ты меня ненавидишь — как ты пишешь в письме своем, я хотел бы ответить твоей поговоркой — «насильно мил не будешь» — не знаю, почему ты меня сразу сненавидела. В отношении дочки: ты знаешь, я маленьких не люблю, а приеду в августе, она будет уже большая, работу бросать в ущерб себя, притом на 1–2 дня, нет смысла, есть возможность побыть больше, это будет в отпуску.
В отношении Козлова я хотел тебя поправить, что он не наш, а пособник врагам, поэтому и он враг, и, стало быть, называть нашим не следует — твоя грубая ошибка, надо писать обдуманно, а поэтому писать о ихнем существовании я не хочу и не буду.
Что мне нравится из письма это то, что ты пишешь о своей учебе, приветствую за успехи, маладец, за это привезу конфетку.
В отношении дочки напрасно у тебя такие мнения. Пусть живет себе, выздоравливает, ты ее там устрой, лучше в ясли сдай, чтобы и тебе она не мешала во время занятий.
В отношении того, как ты выражаешься, моей клячи, могу откровенно сказать, от этого я оторвался, ни чего ни каких клячь не имею, хотя они и попадаются, но некогда (конечно ты, может быть, не поверишь, но это опять-таки дело твое).
Работают все на старом месте, я временно переведен на другую работу. Бывшего зав. отделом политучебы сняли с работы за политическую беспечность.
Все.
7. VII. — 37 г. И. Степанов».
Что же к этому времени произошло в отношениях Вани и Ольги, что так обострило их?
Ваня поначалу обрадованно и доверчиво потянулся к умной, начитанной, разбиравшейся лучше его в происходящем Ольге. Она, конечно же, чувствовала превосходство, главенство в их отношениях. Но Ольга, очевидно, решила, что так будет всегда: она умнее, образованнее, он со своими семью классами будет преданно слушать ее. У Вани же, со всей его добротой и мягкостью, характер был вполне мужской, и он не мог быть тихим подкаблучником.
Физический недостаток сказывался на характере Ольги, настроение ее было неровным, она бывала и раздражительной, и недоверчивой, и подозрительной.
Ваню и Ольгу многое связывало: и дочь, и попытки разобраться в происходящем, боль за это. Но многое и разделяло… Их отношения в это время — это дружба-соперничество двух молодых людей. Была ли любовь? Видимо, была. Но не трепетная, юношеская, поэтичная, а взрослая, житейская.
Особенно интересно второе письмо, написанное в том же 1937 году.
«Здорово, Оля!
Получивши твое письмо, я читал два раза с целью лучше узнать его тайну и вообще в целом, так как оно почему-то мне показалось не понятным.
После этого письма мне бы хотелось встретиться с тобой и поговорить, так как письмом всего не описать, но постараюсь подробнее остановиться на всех своих доводах.
1. Да, я сказал, что я комсомолец и потому жить буду, и ты правильно поняла это, но я прошу понять тебя следующее: ты прекрасно знаешь (о чем доказательств не требуется), что я тебя не любил и не люблю, а только уважаю и если бы я еще набрался нахальства сказать, что я тебя люблю, а на душе было бы обратное. Неужели для тебя было бы лучше? Неужели ты этому поверила бы? Ведь это был бы обман! ложь!
Я сказал честно, имея в виду следующее: у меня есть дочь, которую я люблю и которая связывает меня с тобой, я комсомолец, которой должен показывать образцы жизни.
2. Во втором пункте я хотел и пишу о себе, так как тобою поставленные вопросы касаются лично меня как человека. Я имею в виду твои слова из письма: «Ведь ты без образования, и тех детей, что у нас есть и будут, надо кормить, воспитывать, а для этого надо иметь кусок хлеба, а у тебя его еще нет, как это ни досадно и ни обидно». — Кажется ясно и понятно написано, а раз понятно, начнем разбирать и раскладывать как говорят на множители. Я обещал рассматривать с политической точки зрения — обратимся к ней.
ВО-ПЕРВЫХ: Мы живем в стране Социализма, где существует правило — кто трудится, тот ест. Я кажется называюсь трудящимся, а стало быть и имею свой кусок хлеба, и с таким как у меня образованием и равной как у меня работе, у нас людей если не большинство, то 50 %, и значит они сидят без куска хлеба, тем более те, которые имеют семьи, по-твоему они голодуют. Спрашивается, есть это у нас в стране? Конечно нету. Права ты, так говоря? Нет, не права. Ведь ты читаешь газеты, где все трудящиеся пишут: колхозники, рабочие и служащие — Спасибо товарищу Сталину за счастливую, радостную и зажиточную жизнь! Одно это опровергает и показывает, насколько ты, Оля, не правильно разбираешься в жизни и не правильно судишь меня, а значит и людей таких как я.
И ВО-ВТОРЫХ. Если ты сказала это в косвенном виде (только такие вещи в косвенном виде не говорят, при том люди с таким образованием, тебе, Оля, непростительно, ты не маленькая и уже кое в чем разбираешься), то я и тогда покажу, что я не живу еще зажиточно или просто хорошо, и на это могу ответить. Я, как тебе известно, комсомолец, и это достоинство ценю, меня комсомол воспитал и многому научил, за что я конечно отблагодарю, я вступал в комсомол ни с целью наживы и шкурничества, я знаю хорошо устав — и программы — комсомолец обязан, если это нужно, положить все силы, а если понадобится, то жизнь. Я хочу стать настоящим комсомольцем, а потом и партийцем, комсомольцем без кавычек, преданным своей Родине и великому Сталину.
…Да, конечно получал я низкую зарплату 120–250, но можно и на такой жить не так уж плохо как ты пишешь…
Я допускаю то, что пусть ты и будешь получать больше на 100–200 рублей, но разве это главное между молодыми людьми? Разве за это следует вести спор, это я называю не жизнью, а борьбой за рублики, причем борьбой бессмысленной, никому не нужной. Я получал меньше, но борьбы такой не вел и вести не буду. Это чепуха. Я хочу жить и быть полезным нашему обществу и не буду жить ради себя…
3. Кичливость
(так называется по партийному зазнайство и хвастливость).
Нас учить история, вожди нашей партии и товарищ Сталин ничем не зазнаваться и не хвастаться и вести себя скромно и больше работать. Если ты помнишь, Оля! когда умирал академик Павлов, он говорил советской молодежи: «Учитесь больше и сколько бы вы не знали, всегда старайтесь назвать себя невеждой и всегда думайте, что вы еще многого не знаете». Ты должна достаточно убедиться из вышеупомянутых слов, людей несомненно авторитетных. Я это пишу вот почему и против чего. Ты пишешь, Оля! — «Ведь ты! без образования, что простой человек, как и все смертные, а еще из меня! — варить воду». Кажется, не стоит много доказывать. Ведь ясно, Оля, насколько ты меня унижаешь против себя, ты ведь считаешь меня смертным, а себя идеалом. Не правда ли?
Начну опять с политической точки зрения. Не права ты потому, что мы живем опять-таки не в капиталистической стране (где есть деление на смертных и на высшие классы людей, которые «достойны» многого), а в социалистической, имеем одни права с тобой при чем равные права, не зависимо от ценза, образования, оседлости, национальности и т. д. Чем же я смертный, а ты высокопоставленная особа? Конечно, нет. Это опять-таки твоя ошибка.
Жалею, что Аля болеет, но иначе пожалуй нельзя, переболеет, будут зубы, а небудет болеть, то и зубов не будет. Так положено по закону, ничего, пусть выздоравливает. Чем больше я живу, тем больше я люблю Алю. Я сказал это и своим, что у меня есть дочка, а до этого не признавался. Ты говоришь, что я тебя пугал — ни знаю, чем только можно пугать. Ты наверное не поняла.
Привет передай родителям. Целую тебя и Алю. В.».
Ване по-прежнему хотелось выговориться, разобраться в себе, словно бы какое-то зерно в душе его пыталось дать росток, проклюнуться, но никак не могло прорасти. Ваню тянула к себе литература. Может, это и было его «зерно». Но чтоб ему прорасти, нужно бы вовремя встретить «человека литературы» — умного учителя в школе, писателя, а еще лучше попасть в литературную среду или среду интеллигенции. Среда могла бы развить вкус, объяснить происходящее и самого себя, «поставить голос». Но Ваня оказался в среде районного звена командно-административной системы, пропитанной подозрительностью, напуганной арестами. «Человек литературы» не встретился, не было в станице Тимашевской и литературной среды.
Встреча с Ольгой обрадовала Ваню: как легко и вольно, оказывается, можно разговаривать! Но и Ольга, замкнувшаяся на своем несчастье, не помогла прорасти «зерну» дарования, а самого Ваню все дальше затягивало в чуждую ему по духу среду — командно-административную систему, которой он искренне и честно пытался служить.
Судя по тому, что Ваня стал писать Ольге длинные письма, говорить с ней лично было все труднее, отношения обострились. Ушли первые задушевные чувства, обозначилась дружба-соперничество. Ваня отдалялся, уходил, Ольга нервничала, подозревала его в чем-то, была явно несправедлива в обвинениях. Но за ее неправотой и обвинениями видна главным образом страдающая, обиженная судьбой, неуверенная в себе женщина, которой хочется счастья.
Ваня отвечает Ольге точно, откровенно, во многом убедительно, иногда начетнически. Но его точность, его убедительность — безжалостны для Ольги. Не этого она хочет. Это тот случай, когда она была бы рада «обману», то есть уверениям Вани, что он любит ее, верен ей, счастлив с ней. Похоже, что Ваня в глубине души это чувствует, его письмо доброе по тону, ровное, неравнодушное и необозленное. Но что делать — Ольга несправедливо, больно обидела его и своей «ненавистью», и гордостью. Вот он и разбирает нелогичные женские причуды, досаду Ольги с «политической точки зрения». Пожалуй, больше он делает это для себя, хочет сам с собой разобраться.
Обращаясь к «политической точке зрения» на свои отношения с Ольгой, Ваня хочет пошире смотреть на происходящее, не мелочиться, не заниматься самокопанием. Смотрит некритически, доверчиво, наивно. Таким в основном и был тогда наш народ. В ссылках на Сталина у Вани нет возбужденного фанатизма, восторга. Его привлекают в словах «вождя» уверенность в будущем, близкие ему суждения о знаниях. Насыщенность письма Вани этими «первое, второе, заключение, вывод» — явное подражание стилю статей и выступлений Сталина, чей культ в эти годы насаждался безудержно.
Искренен Ваня и в том, что не хочет только для себя личного блага. Это черта всех братьев Степановых — сначала «думать о Родине, а потом о себе».
Наверное, Ольга видела политическую наивность Вани, доверчивость, но это была в те годы опасная тема, в письмах о ней не поговоришь.
Работа в райкоме комсомола не прошла даром для Вани, он напитывался атмосферой руководящих учреждений того времени, поддавался ей.
Однажды Ваня заехал домой. Епистинья сказала ему, что он совсем заработался и забыл ее, мать, и родную хату. Ваня вдруг раздраженно ляпнул: «Для меня советская власть дороже, чем ты». В хате повисло недоуменное молчание. Епистинья заплакала.
«Ваня, я не знаю, кто тебе дороже… Я говорю, ты редко домой приезжаешь, а я ведь скучаю по тебе…»
Неловкая, нелепая была сцена. Непонятная, если не знать всех обстоятельств жизни Ивана, его душевных терзаний.
Он всегда ждал от матери глубокого понимания, ведь «зерно» в душе его было заложено здесь, дома. Рядом с матерью Ване было спокойней, но она не разбиралась в том, что мучило сына. К тому же и сама деликатная, добрая, Епистинья сказала ему однажды со вздохом, когда узнала об Ольге: «Ваня, ты ж у меня красивый, а такую жену нашел…»
В словах Вани прорвалось раздражение тем, что мать, которую он, конечно же, любил, не видит, что ему плохо, что он одинок, что он никак не может определиться в чем-то очень важном для него. Мать с ее добротой, честностью и тогдашняя общественная жизнь, коридоры власти с их атмосферой — это очень разные вещи, особенно в те времена. Запутались и отношения с Ольгой. Епистинья не понимала, не знала всего того, чем жил ее красивый сын Ваня, вот он и разозлился, брякнул.
Вскоре, в сентябре 1937 года, Ивана взяли в армию.
Николай и Нина Павловна
Не складывалась жизнь и у Николая. Может, оттого, что не смогли они завести с Ниной Павловной своих детей?
Евдокия Ивановна Рыбалко вспомнила случай из этого времени:
«Николай Степанов и Лукерья Скиба (она была «дохожалая», то есть старая девка) прижили ребенка. Когда Лушка родила и несла его Николаю, Иван Данилович уговорил ее не нести, и Лукерья подкинула ребенка бездетным пожилым людям в станице Новокорсунской. И так она потом переживала за дитем! И когда одна женщина во время войны прижила ребенка с румыном, и немцы отступали, она этого ребенка бросила на поле в кукурузе, то Лукерья подобрала и вырастила этого подкидыша…»
Видно, у Николая отношения и с Ниной Павловной, и с Лушкой запутались и усложнились, и он вдруг уехал в Грузию, где пробыл около трех лет. Где он там был, что делал, сегодня выяснить не удалось.
Вернувшись из Грузии, он женился на своей хуторской девушке Дуне Цыбуле, стал работать в плотницкой бригаде. Вскоре, как и положено, пошли дети: Валентин, Анатолий, Людмила.
Нина Павловна уехала…
А где-то в Новокорсунской или еще где живет подкинутый «ребенок» — сын или дочь Николая, внук или внучка Епистиньи.
Слезы Феди
Пожалуй, последним большим счастливым событием в жизни Епистинии Федоровны перед тем, как пошла долгая черная полоса для нее, был приезд в отпуск в конце 1938 года Федора, рослого, стройного, в военной шинели.
Сыновья Епистиньи хоть и редко, но появлялись в хате, взрослые, возмужавшие, какие-то уже другие, из других миров. Хата казалась им маленькой. Дети устраивались в жизни, крепче становились на ноги. Казалось, еще немного, еще годок-другой-третий — и сыновья выучатся, будут у них семьи, свои дома. Исполнится и ее мечта «накидать целый подол внуков та и спивать песни».
Федя побыл дома недолго, вскоре уехал учиться на курсах младших лейтенантов. По пути заехал он к Валентине в Ростов. Там произошло удивительное. Федя посмотрел, как живет сестра, сказал: «У тебя все хорошо, квартира, работа, а у нас там, дома…» — и заплакал.
Сдержанный Федя увидел дома не только то, что родная хата стала маленькой, что Верочка — почти невеста и вырос Мизинчик. Послужив в армии, поездив по другим станицам, городам, он увидел, что жизнь на хуторе, жизнь в родной хате осталась нищей, хотя люди с утра до ночи работали в колхозе. Он уже многое повидал, мог сравнивать, знал цену золотому сердцу матери, труженикам-братьям. Видеть их постоянно недоедающими на богатейшей земле, видеть нищенскую одежду, грустные лица красивых, способных, даже талантливых братьев и матери было невыносимо больно и обидно.
Глава 10. СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Александр Пушкин. Предчувствие
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.
Пословица
1939 год
Новый, 1939 год на хуторе не встречали. Не велось. Не было еще на хуторах радио, не говоря уж о телевизорах, которые бы «организовывали» праздничное новогоднее настроение. Ребятишки теперь не ходили «со звездой» на Рождество, не пели песни-колядки: газеты, школа, комсомол неутомимо клеймили это «мракобесие». Поэтому весь хутор, как и обычно зимой, рано лег спать. Проснулся в новом году.
В хате Степановых жило теперь две семьи: Епистинья с Верой и Сашей составляли остатки прежней большой семьи, Филипп с Шурой и маленьким Женей были новой семьей.
Да, разлетелись выросшие птенцы из теплого гнезда. Николай и Дуня построили хату на хуторе Первое мая. Работал Николай в колхозе бригадиром плотников… Вася со своей скрипкой был знаменит в районе, и его пригласили играть в кинотеатре Тимашевки, «озвучивать» тогда еще немые фильмы. Васю, видно, все же тяготило положение примака, и он подумывал перебраться в станицу Тимашевскую всей семьей… Федя учился на офицерских курсах… Ваню и Илюшу взяли в армию одновременно, но в разные части. Послужив по году, оба они поступили в военные училища: Ваня — в Орджоникидзевское, Илюша — в Саратовское бронетанковое. И для Феди, и для Вани, и для Илюши возможность стать офицером была хорошим выходом из житейских трудностей. Офицер — это уже профессия, офицеры пользовались уважением, образование их считалось уже высшим, хотя в училищах все трое братьев учились меньше года. Здесь же, в районе, на хуторе, работу можно было легко найти лишь в колхозе, а это и в те времена было уже непрестижно… Павлуша учился на последнем курсе педагогического училища в станице Ленинградской… Валентина после рождения дочки работала учительницей в Ростовской области.
Ничто не предсказывало бед Епистинье, но наступивший год будет наполнен событиями, войнами, которые никак не могли обойти ее повзрослевших детей: война с японцами у монгольской реки Халхин-Гол, договор с гитлеровской Германией о ненападении с секретными протоколами о разделе «сфер влияния» в Европе, начало Второй мировой войны, освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии, введение наших войск в Литву, Латвию, Эстонию, война с Финляндией.
Но это все впереди, а пока жили близкими, земными заботами: в районе обрекли на снос хутор Шкуропатский, на хуторе Первое мая отводили участки земли для переселяющихся. Получил участок и Филипп, три четверти гектара; теперь надо строить новую хату, начинать другую жизнь.
Как ни сроднились с хутором Шкуропатским, с хатой, садом, местом у реки, делать было нечего. Хутор Первое мая был центром колхоза, там правление, председатель, побольше народу, поближе к Тимашевской, веселей жизнь.
Прошедшим летом Филипп с приезжавшим на каникулы Павликом, Сашей-Мизинчиком, женой Шурой заготовили для хаты саман: завезли глину, солому, замесили лошадьми. Саманные кирпичи подсыхали, можно было бы и начать строиться, но тут выяснилось, что надо доделывать колхозные дворы, иначе некуда будет ставить скот на зиму. Правление колхоза обратилось с просьбой ко всем, кто может, дать саман взаймы. Филипп отдал саман в колхоз, постройку хаты отложили до будущего лета.
С переездом можно было не спешить: Вера с Сашей ходили в школу-семилетку в станицу Днепровскую, которая была ближе к Шкуропатскому, Вера — в седьмой класс, Саша — в шестой. Лучше дать им доучиться там. А в десятилетку в Тимашевке удобнее ходить уже с хутора Первое мая. К тому же Шура ждала ребенка.
Вера — синий беретик
Зимовали на Шкуропатском последнюю зиму.
Если погода была хорошая, Вера и Саша приходили из школы домой, прошагав пять километров по степной дороге, а в мороз, в метель жили в станице всю неделю до выходных.
«Вера ходила в школу в станицу Днепровскую, — рассказывала Шура, жена Филиппа. — Уходила на неделю и жила в станице на квартире, на выходной приходила домой. Одевалась Вера со вкусом, носила тапочки, береты, юбки, платья, ее называли «интеллигенткой». Когда я была в положении, она очень ждала племянницу, девочку, так как у Вани, Коли были сыновья, мальчики. Просила, что сама даст ей имя, когда родится, а пока не говорила, каким именем назовет. Жила на квартире с Ниной Бречко».
Нина Семеновна Цыбуля (Бречко) рассказала: «Вера была не скупа, поделится, угостит. Ухитрялась собрать посылочку и послать своим братьям Илье или Павлу.
Зимой жили на квартире, Саша и Вера вдвоем, питались тем, что из дома возьмут на неделю. Из этих продуктов она экономила на посылочку братьям. Готовили сами, топили тем, что заготовят с осени. Косили камыши и собирали в поле корешки из подсолнуха. Одевались — можно сказать, полуголые. Вера одета была в старенькое пальтишко, то, что не доносила Валентина Михайловна, на голове берет, обута в туфли парусиновые, а зима была морозная. Протопили печь, Саша с Верой с утра и учили уроки возле печки. Вера угорела. Когда мы шли в школу, она нам говорила, что болит голова. Но мы пробежали по холодному воздуху, она в берете по холоду. Зашли в класс, сели за парты. Мы сидели с ней возле печки, а через минут пять она начала умирать: сползла под стол, все испугались, подошел учитель. Вынесли на воздух, снегом хотели тереть, а когда узнали, что угорела, надо горячую воду, но уже было поздно. Так я потеряла свою подружку».
Филиппу на хуторе сообщили о Вере. Он не стал пока ничего говорить матери, взял лошадь с санями и поехал в Днепровскую. Тут выяснилось, что надо везти Веру в больницу в станицу Тимашевскую, чтобы знать точную причину ее смерти.
Филипп, Филипп… Каково-то было ему везти умершую сестренку на санях из Днепровской в Тимашевскую. Дорога проходила недалеко от родного хутора, где мать еще ничего не знала. Филя видел, что мать особенно любила Веру, относилась к ней с виноватой нежностью. Он знал — почему. Как теперь сказать матери? Как подготовить к такой вести?
Шура рассказала, что было дальше:
«Врач жил в Приморско-Ахтарске, Филиппу сказали: или вези сестру в Приморско-Ахтарск, или жди, когда врач приедет. Решили ждать. На третий день приехал врач. Епистинии Федоровне не говорили о смерти два дня, сказали — заболела. Она просилась навестить Веру. И говорила, почему вы мне не говорите, что с ней, я поеду, она умерла, наверно. Но ей отвечали, что врач не пускает к ней никого. А когда уже ехали забирать из больницы, то маме сказали, что Вера умерла…»
Нина Семеновна Цыбуля продолжала: «Хоронили хорошо, все были ученики, приезжали ее братья, был на похоронах и Федор, одетый в военную форму. Епистиния Федоровна плакала за ней очень сильно. Вера — синий беретик. Была похожа на мать — русая, глаза серые, невысокая, волнистые волосы».
Вера — синий беретик… Она сильно отличалась от своих жизнерадостных хуторских подружек, была мечтательной, сдержанной, доброй, любила побыть одна, посидеть, глядя куда-то вдаль.
Однажды муж Валентины Иван Коржов, гостивший на хуторе, подошел сзади к Верочке, которая, задумавшись о чем-то, сидела на скамеечке около хаты, и вскрикнул у нее над ухом, ожидая, что она ахнет, а потом звонко расхохочется: «Ах, как ты меня напугал!» Верочка вздрогнула от крика, побледнела и расплакалась…
Ей было около восемнадцати, а она еще училась в седьмом классе, часто болела.
Похоронили Веру на печальном кургане рядом с отцом, Михаилом Николаевичем.
Если до этого несчастья Епистинья улыбалась, любила петь песни, хоть и не допевая до конца из-за слез, то теперь смеялась она очень, очень редко.
Вина перед дочерью не давала ей покоя. Будь у Верочки здоровье покрепче, перенесла бы она этот угар, отдышалась. А здоровье у Верочки было бы крепче, если бы она, Епистинья, своими руками не подорвала его у дочки. Епистинья говорила, что это Бог наказал ее за то, что не хотела рожать Веру, вот и отнял любимую дочь.
Гибель Феди
Федя учился на курсах младших лейтенантов. Курсы были ускоренные, ведь тысячи лучших наших офицеров арестовали по подозрению в заговорах и шпионаже, расстреляли, отправили в лагеря, и армия нуждалась в новых кадрах.
Грозной для страны складывалась и военно-политическая обстановка в мире. В прошлом году японцы проверили прочность наших дальневосточных границ у озера Хасан, где получили отпор, но не успокоились на этом. Еще опасней было положение в Европе: германский фашизм набрал мощные силы, и в Европе начались активные дипломатические игры политиков, с тем чтобы отвести от себя нападение этого сильного, наглого врага и натравить на других.
Уже в конце марта 1939 года, то есть через шесть месяцев обучения Феди и его товарищей, командование курсов стало готовить документы о присвоении курсантам офицерского звания.
В мае 1939 года ему было присвоено звание младшего лейтенанта, Федя стал первым в семье офицером. В июле по директиве народного комиссара обороны он убыл на Дальний Восток, откуда шли тревожные вести.
В июле на границе Монголии с Маньчжурией уже шли бои между монгольскими и советскими частями с одной стороны, и японскими — с другой. Это не был частный пограничный конфликт. Бои разгорались. Ясно было, что у японцев есть широкие замыслы относительно Монголии и нашей Сибири, Дальнего Востока.
Япония вынашивала планы мирового господства, следуя принципу «восемь углов под одной крышей», по которому все страны Востока должны быть объединены под властью «божественного императора расы Ямато». В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию, в 1937 году начала войну за захват всего Китая.
В мае 1939 года Япония с территории Маньчжурии начала пограничные бои с частями монгольской армии у реки Халхин-Гол, рассчитывая захватить Монгольскую Народную Республику, а с ее территории двинуться на Сибирь и Дальний Восток. Большая война могла разгореться в азиатской части нашей страны. У Советского Союза был договор с Монголией о взаимопомощи. Наши части помогли монгольским войскам отразить в конце мая нападение крупного японского отряда.
Японцы подтягивали к границе новые войска, не прекращали вести бои отдельными частями.
В район Халхин-Гола был направлен комдив Георгий Константинович Жуков, подходили сюда и наши войска. Район реки Халхин-Гол был тогда необжитым пустынным районом на востоке Монголии, не было никаких дорог, не было связи. Японцы же со своей стороны границы хорошо подготовились к войне: там были и железные, и шоссейные дороги, местность была хорошо разведана.
Среди прибывшего пополнения был и Федя. Он был назначен командиром взвода в 149-й мотострелковый полк.
Наши и монгольские войска на Халхин-Голе в июле были объединены в Первую армейскую группу под командованием Г. К. Жукова, которому присвоили звание комкора. Армейская группа насчитывала 57 тысяч человек, 498 танков, 385 бронемашин, 542 орудия и миномета, 515 боевых самолетов.
Японские войска были организованы в Шестую армию, в нее входило 75 тысяч солдат и офицеров, 500 орудий, 182 танка, свыше 300 самолетов.
Оба соединения готовились к решительному сражению. Японцы назначили его на 24 августа. Жуков решил начать свое наступление 20 августа.
Федя, Федя… Тихий, молчаливый, хороший. Сказал Епистинье, уезжая на Дальний Восток, что у него есть невеста и, когда он вернется, сыграют свадьбу: Вася будет играть на скрипке, Коля на баяне, Филя споет свою любимую: «Ще третьи пивни не спивали…» Приедут Илюша с Павлушей и Ваня. Наконец-то будет у них настоящая свадьба. Хотелось Феде подбодрить мать после смерти Верочки, поддержать семью, ее авторитет. Не нищие они какие-то. Вот сойдутся в хату все братья!..
Не удалось.
Невеста Феди, а точнее уже его жена Раиса Яковлевна Лиштаева, рассказала о далеком том времени, о Феде:
«В 1937 году я поступила учиться в медшколу на сестер. Жила в общежитии на улице Красной, 60, в то время был такой номер нашего общежития. Где-то в ноябре месяце, после праздников, в выходной день мы с девочками собрались в кино. Я вышла немного раньше их на улицу, а в этот момент он подошел к общежитию. И вот так завязалась наша дружба. В мае 1938 года мы с ним сфотографировались, а в июне он уехал в отпуск к мамаше, приехал оттуда, как-то не так долго он побыл, и уехали они в Абинские лагеря. Затем ихнюю часть перевели со Славянска в Краснодар, и оттуда его послали учиться на младшего лейтенанта, а до этого он был старшиной, писал письма мне с училища. Зимой, не то в декабре 1938 года, не то в январе 1939 года, он приезжал на похороны своей сестры и заезжал ко мне, ночевал он у Шуры Цыбулиной, ее общежитие было напротив нашего, она меня туда позвала, так мы с ним день провели, потом в 1939 году, 1 мая, приезжал, но меня не было, я уехала домой к матери, не знала, что он приедет. А потом уже приехал в июне, в конце, я заканчивала сдавать экзамены, но он уже заходил ко мне днем в общежитие, и вместе с ним шли сдавать зачеты. Он был очень внимательный ко мне, чуткий, он никогда меня со двора не выпустит, не проверив, как я одета, обвернет меня со всех сторон, где какая пылинка, собьет. И вот перед моим выпускным он со мной поехал к моей мамаше, засватал меня, как говорят, побыли мы один день у моей мамаши и опять уехали в Славянск. Числа 27/VI он поехал к своей мамаше, а приехал от мамаши 29/VI, вечером у нас был выпускной вечер. Он все рассказывал, как он побывал у мамаши, как отдыхал под кроватью, как там хорошо, прохладно и мух нету. A 30/VI—39 года мы с ним зарегистрировались, и вечером я его отправила на вокзал, он уехал в лагеря в станицу Абинскую. А мне сказал он, так ты на работу не едь, я осенью получу в Краснодаре квартиру, затем поедем в Тимашевскую, там сыграем свадьбу, у меня братья музыканты, они нам хорошую свадьбу сыграют. А тебя я переучу, ты будешь еще учиться там, где я хочу, а медсестрой ты не будешь, я не хочу, чтобы ты была медсестрой.
Но на кого он хотел меня переучить, он так и не сказал, а мне было стыдно его спросить, я была очень скромная, застенчивая, постеснялась его спросить.
Свидетельство о браке осталось у него, так как по нему он хотел получить квартиру. Но так и не пришлось ему ее получить. 10 июля 1939 года он написал мне письмо, чтобы я не беспокоилась, он едет туда, куда требует Родина, жив буду — вернусь и будем жить, а ты, говорит, если скучно тебе, работай пока. И вот я уехала работать в Ачуев по направлению.
Письмо получила одно с дороги и одно с города Кяхты, затем последнее после первого его боя. Он писал, что много нового и интересного он видит, жив будет, приедет все расскажет и чтобы плохо я о нем ничего не думала. И больше я не стала от него получать писем, написала мне Шура Цыбулина, затем Валя, что его нет, он 20 августа 1939 года убит.
Он хорошо отзывался о матери, часто рассказывал за Илью, что он тоже учится в военной школе, за Василия, Николая. Рассказывал, что он был конюхом, был комсомольцем, был общественником, да разве все упомнишь, что он говорил, ведь прошли годы».
Федя погиб 20 августа. Это было воскресенье. Именно в этот день комкор Жуков начал наступательную операцию советских и монгольских войск. Операция была тщательно и умно подготовлена, начата в выходной день, когда японские офицеры и генералы отправились на отдых в ближайшие города.
Сражение длилось непрерывно 12 суток, Шестая японская армия была окружена и полностью уничтожена.
Разгром отборной японской армии имел далеко идущие последствия. Японцы после такого поражения не решились поддерживать Гитлера в войне против Советского Союза, а это сыграло огромную роль. Неизвестно, как бы могла кончиться война на два фронта — против Германии и против Японии.
В безлюдной жаркой монгольской степи навеки улегся в братской могиле Федя.
Осенью на хуторе получили казенный конверт с отпечатанной на машинке бумагой, где фамилия, имя и отчество Феди были вписаны от руки. Это была первая военная похоронка Епистиньи.
«Дорогие!
Ваш сын Степанов Федор Михайлович подлинный герой РККА. В боях за неприкосновенность границ нашей могучей социалистической Родины проявил себя честным, мужественным патриотом, беззаветно преданным Родине, делу коммунизма.
Он лично участвовал в боях. Был примерным отличным бойцом и чутким товарищем.
С глубокой скорбью сообщаем Вам, что он погиб 20 августа 1939 года как Герой в боях против врагов нашего великого народа.
Его подвиги, вся его Героическая жизнь вдохновляли и вдохновляют всех на борьбу, на новые подвиги.
Сейчас враг наголову разбит, и в этой победе немалую долю ума и сердца вложил Ваш сын.
Мы гордимся его подвигами, мы скорбим, мы вечно будем хранить память о нем.
Мы выражаем Вам свое соболезнование.
По всем вопросам обеспечения пенсии обращаться в отделы по командно-начальствующему составу и через свои военкоматы.
Командир полка — майор Беляков.
Комиссар полка — батальонный комиссар Мурашов».
Указом от 17 ноября 1939 года Степанов Федор Михайлович награжден посмертно медалью «За отвагу».
Епистинья заметно становилась другой: больше седины появилось в ее русых волнистых волосах, плавнее, неторопливее стали движения, добрей, печальней, ласковей взгляд. От потерь она не ожесточилась, не замкнулась, не стала неприступно мрачной; потери привели ее в состояние мудрой печали.
Теперь она уже не пела любимые свои песни, не смеялась. Проговорит лишь строчку когда-то так радующей песни и заплачет.
Ваня «на той войне незнаменитой»
На Халхин-Голе еще шло сражение, а в Москве 23 августа был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, который, по мнению некоторых историков, открыл путь ко Второй мировой войне. Англия, Франция и Советский Союз не смогли договориться о совместном противодействии Германии, Гитлер расчетливо и быстро воспользовался этим. Заключив договор с Советским Союзом, Германия 1 сентября 1939 года напала на Польшу, Англия и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война.
Призрак новых несчастий для Епистиньи висел в сгустившейся, тревожной атмосфере времени, ведь в армии были Ваня, Илюша, Павлуша. Словно бы некая зловещая машина ухватила ткань жизни и тянула к своей зубастой пасти, чтобы изорвать, размолотить.
Друг Вани Андрей Иванович Рыбальченко написал:
«С Иваном Степановым были друзьями с детства. Вместе были призваны в армию в город Тирасполь, вместе окончили полковую школу, вместе подали рапорт и поступили (то есть были направлены командованием) в военное училище в город Орджоникидзе, которое окончили в 1939 году и получили назначение в Ростов-на-Дону. 15 декабря были направлены из Ростова в Ленинградский военный округ в 8-ю армию, которая была в то время расквартирована в Петрозаводске. Тут я был направлен в 5-ю дивизию на должность командира роты, а Ивана направили на командную должность в добровольный Карело-Финский округ, который в то время только организовывался. Отбирали туда на командные должности коммунистов, а я еще был комсомольцем. Так впервые за много лет нас разлучили…»
Из рассказа Андрея Ивановича не сразу и догадаешься, что уже шла советско-финляндская война, и два друга прибыли к месту боевых действий. Об этой войне долго не принято было у нас говорить, и дело совсем не в том, что ее затмила своими масштабами Великая Отечественная.
Война была на редкость неудачная, ненужная, даже позорная для нашей страны.
При заключении Договора о ненападении с Германией Молотов и Риббентроп подписали и секретный протокол, по которому были разграничены сферы влияния двух стран в Восточной Европе. В сферу влияния Советского Союза вошли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Советский Союз указал также на свою заинтересованность в территориях Западной Украины, Западной Белоруссии, входивших в состав Польши, и Бессарабии, входившей в состав Румынии.
После нападения Гитлера на Польшу и начала Второй мировой войны Советский Союз присоединил к себе издавна принадлежавшие нашей стране земли Западной Украины, Западной Белоруссии, затем Бессарабии. С государствами Прибалтики были заключены пакты о взаимопомощи, по которым Советский Союз получил право создать в каждом из них свои военные базы. Используя в качестве моральной опоры и поддержки наши войска, левые силы в Латвии, Литве, Эстонии свергли свои буржуазные правительства, установили советскую власть, а затем эти республики вошли в состав Советского Союза.
Финляндия от наших военных баз у себя решительно отказалась. Тогда Советский Союз предложил Финляндии отодвинуть ее границу на Карельском перешейке, которая близко подходила к Ленинграду, а в качестве компенсации обменять земли около Ленинграда на территорию в два раза большую в нашей Карелии. Но финляндская земля была экономически хорошо освоена, и на ней располагались оборонительные укрепления линии Маннергейма, а земли в Карелии были пустынны. Понятно, что Финляндия на обмен не пошла.
Финляндия давно вызывала раздражение Сталина еще и тем, что вела независимую политику. В газетах Финляндии правдиво и точно описывались ход и последствия нашей коллективизации, многочисленные репрессии, все, что у нас происходило.
В нашей печати раздули сильнейшую антифинляндскую кампанию, в ходе которой всех уверяли, что финский народ стонет под гнетом буржуев и ждет не дождется освобождения. Красная армия начала подготовку к боевым действиям.
Финляндия не поддавалась ни на уговоры, ни на военные угрозы со стороны руководителей нашей страны. 30 ноября 1939 года Красная армия без объявления войны начала боевые действия против Финляндии на протяжении всей границы.
Тогдашний нарком обороны Ворошилов уверял Сталина, что победа легко будет одержана в несколько дней. В наших газетах писали, что цель военных действий — помочь народу Финляндии освободиться от власти буржуев, что народ этой страны жаждет обнять своих освободителей. Было образовано правительство «демократической Финляндии» во главе с О. В. Куусиненом, одним из организаторов компартии Финляндии, жившим в Москве.
Военные силы были неравны: против Финляндии действовали четыре наши армии, в два с лишним раза превосходившие ее вооруженные силы по количеству солдат и качеству вооружения.
Но народ Финляндии не встречал наши войска с распростертыми объятиями. Наоборот, нападение сплотило его на борьбу с агрессором, финляндские войска сражались отважно и стойко.
Наши же части действовали прямолинейно, необдуманно, на Карельском перешейке красноармейцы, изумляя финнов, в полный рост, с пением «Интернационала», шеренгами шли на укрепления линии Маннергейма, одной из самых мощных линий обороны в Европе. Финны скашивали их пулеметным огнем из дотов. Наши части в первые же дни понесли огромные потери, военные действия пришлось приостановить и начать подтягивать новые силы. В числе пополнения прибыл на фронт Ваня с другом Андреем Рыбальченко.
С дороги и с фронта Ваня писал письма домой и Ольге. Дома Ванины письма этого времени не сохранились; наверное, они лежат в той коробке, которую не удалось найти даже с помощью миноискателя. Ольга письма Ивана сохранила.
Похоже, что отношения Ольги и Вани оставались в какой-то неопределенной точке: брак свой они так и не зарегистрировали. Жила теперь Ольга вместе с родителями в станице Абинской.
По этим коротким письмам видно, как слетает с отношений Ивана к Ольге наносная шелуха и выявляется настоящее крепкое, хорошее чувство. Война не прогулка, не место для красивых книжных страданий и начетнической демагогии.
В одном из писем Вани в феврале 1940 года мелькнула строчка: «Привет из действующей народной армии Финляндии». Значит, наше командование и руководство страны все еще изображали дело так, будто мы всего лишь помогаем некой «народной армии Финляндии», народу этой страны свергнуть власть «ненавистных буржуев». Стойкость и единство народа Финляндии в сражениях с нашей армией несколько протрезвили Сталина, Ворошилова, Молотова. Однако через два года, когда начнется Великая Отечественная война, наши политорганы, следуя указаниям сверху, будут осыпать наступавших немецких солдат листовками, взывая к «солидарности братьев по классу», над чем немцы откровенно смеялись.
Расчет Сталина на быструю победоносную военную акцию в Финляндии не оправдался, Красная армия застряла среди укреплений линии Маннергейма на Карельском перешейке, хотя и обладала большим превосходством сил и боевой техники. К тому же выдалась суровая зима с морозами до 50 градусов. А на фотографии, сделанной в Петрозаводске, которую передал музею Андрей Рыбальченко, офицеры, в том числе Иван, стоят в длинных, до пят кавалерийских шинелях, кожаных сапогах, фуражках или буденновках. Среди солдат и офицеров было множество обмороженных. Выявились неспособность, бездарность Ворошилова, командовавшего нашими войсками.
С горем пополам, заменив Ворошилова на Тимошенко и еще более усилив армию, удалось победить финнов и отодвинуть границу от Ленинграда.
Но последствия войны были удручающими: по официальным данным, наши войска потеряли 289 510 человек убитыми, ранеными и обмороженными (потери финнов — 24 000 убиты, 44 000 ранены); вместо нейтральной Финляндии мы имели теперь на границе страну, которая нас ненавидела и жаждала отомстить. Война показала Гитлеру бездарность нашего военного руководства, обескровленного репрессиями. За нападение на Финляндию Советский Союз был исключен из Лиги Наций.
Когда Иван служил и воевал, Ольга с дочкой приезжала к Епистинье в гости. Епистинья приветливо встретила невенчанную жену Вани и внучку. Девочек-внучек она любила особенно. Сели за стол. Епистинья поставила огромную миску борща на всех, и тут новая внучка пролопотала: «Я из этого корыта есть не буду». Епистинья засмеялась и налила ей в отдельную мисочку… Да, дочка Ивана росла в иных условиях, где хуторское простодушие виделось по-другому.
Андрей Рыбальченко пишет о дальнейших событиях:
«После окончания финской кампании, которая закончилась 12 марта 1940 года, мы остались служить каждый в своей части, имели переписку, а в июне 1940 года во время отпуска снова встретились в станице Тимашевской как родные братья и весь отпуск провели вместе. Несмотря на то, что мы были верными друзьями, оба офицеры, Иван мне так и не сказал, на какой должности он служил. Я понимал, что это является военной тайной, не настаивал на этом, но понял, что он находился на какой-то секретной службе. По окончании отпуска мы разъехались по своим частям, я в составе своей дивизии попал в Прибалтику (Эстония, город Тарту), и наша связь была прервана…»
О том, что Иван находился на какой-то особой, необычной службе, говорит его «привет из действующей народной армии Финляндии».
Но служба эта оказалась для ее организаторов бесславной. Вот и не рассказывал Ваня о том, чем он занимался. Рыбальченко пишет, что был командиром роты, а младший лейтенант Иван Степанов после финской войны служил в Белоруссии всего лишь командиром пулеметного взвода. Что-то за этим кроется, но что — можно лишь догадываться.
«Весь отпуск провели вместе», — сообщает Андрей Рыбальченко. Значит, с Ольгой у Ивана опять что-то разладилось. Так и не стали они официально мужем и женой.
Павлуша в Киеве
Весной 1939 года Павлик готовился к выпускным экзаменам в педагогическом училище. И вот их, студентов-выпускников, стали часто вызывать в военкомат, где военком, грек, напористо уговаривал: «Это же женский работа — учитель! Идите в военный училище. Настоящий мужчина — офицер». Ребята не говорили ни «да», ни «нет», колебался и Павлик.
Федя, Ваня и Илюша в это время заканчивали свои военные училища, и Павлик знал от них, что это такое. Серьезной причиной, по которой три старших брата пошли в училища, было желание получить образование и профессию. Павлик же заканчивал педагогическое училище, был без пяти минут учитель.
Военком был настойчив, от него требовали выполнение плана. В списке училищ, которые он предлагал ребятам, было и Второе Киевское артиллерийское училище. Славный город Киев снял последние сомнения и колебания Павлика и его друзей — Леонида Грома и Александра Томилко. Поехали в Киев втроем.
Киев не разочаровал ребят. Красавец город над Днепром после пыльных кубанских станиц выглядел огромным, чистым, чудесным. До визита в училище зашли в Киево-Печерскую лавру, где Павлик, к возмущению и изумлению смотрительницы, поднял одно из тяжелых чугунных ядер, сложенных грудой у старинной пушки.
Павлика и Леонида приняли в училище без экзаменов, Александр не прошел медицинскую комиссию.
В конце августа, когда на Халхин-Голе шло сражение, когда погиб Федя, о чем никто из Степановых еще не знал, Павлик и Леонид надели форму курсантов. Зачислили их в разные дивизионы.
«Распорядок дня был тугой, — рассказал Леонид Гром. — Подъем, на конюшню — это в километре от училища. За каждым была закреплена лошадь. Так было до весны 1940 года, потом училище сдало лошадей, мы перешли на мехтягу.
С началом финской войны мы занимались по 8 и 10 часов. Финская война кончилась, а занимались по стольку же часов. Чувствовалось другое — Германия готовилась к войне с нами.
В выходные бывали и в городе, ходили в театры, нам давали бесплатные билеты. Но Павлик много времени проводил в спортзале. Особенно увлекался штангой и футболом. Был в сборной училища по футболу, участвовал в сборной Киевского округа. Любил ездить верхом, участвовал в скачках с препятствиями. Всегда был бодрым, жизнерадостным.
Когда после войны я узнал о его семье, о матери, был удивлен. Он никогда и словом не обмолвился о своих трудностях, о тяжелом положении матери. И в педучилище об этом не говорил. Всегда был верным и хорошим другом, хорошо играл на скрипке.
Как-то я ему сказал, что у меня кончилась карточка, куда заносятся благодарности, а он мне в ответ: «А у меня и вкладыша не хватает».
6 июня 1941 года наш генерал-майор, начальник училища, оформил в Москве в Министерстве обороны приказ на присвоение нам звания «лейтенант». А 8 июня мы стояли в строю в летнем лагере в лесу за Киевом, это от Броварей 2–3 километра. Нам зачитали приказ о присвоении звания. Присутствовал командующий Киевским военным округом генерал Кирпонос. Сразу на 2—3-й день, по мере готовности документов, нас направляли в воинские части. Мы не имели за два года каникул (отпусков). Я не знаю, куда был направлен Павлик. Все это было внезапно для нас и быстро. Экзаменов за училище мы не держали. Видимо, обстановка этого требовала».
Илюша в Литве
Илюшу любили все братья, все дружили с ним, у него не было таких явных душевных терзаний и сомнений, как у Вани или Феди. Он любил жизнь, ее земные радости, принимал жизнь такой, как она есть, и это притягивало к нему всех.
Окончил Илюша девять классов в Тимашевской школе имени Герцена и работал в колхозе. Одновременно с Ваней его взяли в армию, прослужил он год и поступил в Первое Саратовское автобронетанковое училище.
Курсантов, с которыми учился Илюша, найти не удалось, но откликнулся однополчанин. Подполковник запаса Пекарчик Антон Андреевич написал:
«Я знал Илью Михайловича по совместной службе в одном подразделении 18-й танковой бригады, дислоцировавшейся тогда в военном городке Баравуха-первая под Полоцком. Крепко сдружился с Илюшей в октябре 1939 года, когда наш переукомплектованный батальон направили в город Алитус в сметоновскую Литву по договору с литовским буржуазным правительством. В 1940 году принимал участие в оказании помощи литовскому народу в освободительной борьбе с ненавистным режимом Сметоны.
После принятия Литвы в состав Союза ССР нашим местом дислокации стала деревня Рукла в 12 километрах от города Ионава Литовской ССР, где была сформирована вторая танковая дивизия, в которую влился и наш танковый батальон».
В музее есть фотографии Илюши этого времени: в черной форме офицера-танкиста, в костюме при галстуке, групповые — с друзьями офицерами. Фотографии сделаны на фирменном картоне с надписью: Jonava.
Смотришь на офицеров — симпатичные молодые люди; как и Илюша, наверное, вчерашние деревенские и городские «простые» ребята… А лица все-таки как-то напряжены, озабочены, неулыбчивы. Что серьезно беспокоило офицеров, какие заботы мучили? Доносы и репрессии? Подозрительность? Холодное, а то и враждебное отношение литовцев, которых они помогли «освободить от ненавистного режима»? Или призрак грядущей войны?
Подполковник Пекарчик писал далее: «Личный состав нашего тяжелого танкового полка воинской части 4103 ровно за неделю до начала войны вышел с материальной частью, укомплектованной к этому времени в основном танками КВ, боекомплектом и всем необходимым для боя и жизни, из деревни Рукла на промежуточный сборный пункт..»
Пока оборвем на этом воспоминания Антона Андреевича.
Побудем еще хоть немного в мирных довоенных днях, которые вскоре будут казаться многим невозможно далекими и счастливыми после всего увиденного и пережитого на войне и во время войны.
Глава 11. БАБЬЕ ЛЕТО
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
Александр Пушкин
Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?
Н. В. Гоголь. Тарас Бульба
Душа не пела
Погреемся в последних теплых лучах уходящего времени.
Вот и за моим окном в деревне — бабье лето. Вчера шел дождь, холодный ветер рвал клочковатый дым над трубой бани, летели бурые листья с вяза. Да, ушло лето… Но вот сегодня ласково и тепло греет солнышко, заблестели на изгороди нитки паутины, застрекотали в траве кузнечики. Хорошо сесть в затишке у сарая, погреться… Чирикали неунывающие воробьи, обследуя свои любимые застрехи. Вот и пара скворцов опустилась на скворечник, согнав воробьев. Скворцы летают теперь большими быстрыми стаями, но изредка, как сейчас, пара навещает свой домик. Сидят, чистятся, ревниво отгоняют других скворцов, умиротворенно поглядывают по сторонам с довольным видом счастливых родителей: «Ну, ребят женили, девок замуж выдали, все, слава Богу, хорошо…»
А ветер все-таки холодный. Последнее, нестойкое тепло.
«Накидаю целый подол внуков и буду нянчить та и песни спивать…»
Внуки были: Женя и Жора в своей хате — у Фили, два мальчика у Васи, два у Коли, приезжала Ольга с Ваниной Алей.
Но петь Епистинье не хотелось. Душа не пела. Время не радовало. Изредка заходила старенькая монахиня, шептала о нашествии антихриста и близком конце света. Рассеялись по свету монахини, кто умер, кто пристроился на работу в больницы, молодые повыходили замуж, иных сослали на Север; сломали монастырь, сносили церкви по станицам. Сама Епистинья ходила в церковь в Тимашевку украдкой, тихонько, чтоб помянуть Верочку, Федю, Михаила, скромно и тоже как бы украдкой справляли теперь в хате Пасху. Пришла какая-то другая жизнь.
От той большой веселой, поющей и звенящей музыкой семьи, которой Епистинья еще недавно любовалась за столом, остались только она да Мизинчик. Филя жил здесь же, но у него своя семья, он тоже оторвался… После кончины Михаила Николаевича к Епистинье сватались. Ну, может, сватались звучит немного не так, но, скажем, предлагали «жить совместно». Сначала она отказала зажиточному вдовцу Верменику, позже нашла убедительные, необидные слова и для Фадея, потерявшего жену… Нет, в этой жизни у нее был свой путь.
Саша-Мизинчик
Саша для всех в семье был все еще маленьким. Старшие его братья женились, работали, уходили служить в армию, а Саша еще как бы сохранял тепло прежней семьи, счастье детства.
Он любил, обняв маму за шею, сидеть у нее на коленях. «Така велика дытына, а сидишь на коленях», — шутливо укоряла его Епистинья. «Не насиделся еще», — смеялся Саша. Что делать — младшенький, баловень, любимец.
«Хлеб Епистиния Федоровна пекла отменный, вкусный, — рассказала Евдокия Ивановна Рыбалко. — Вынет из печи, а он пахнет, пышет жаром. Чесноком по корявой краюхе потрешь, солью посыплешь и с водой — вот и была наша вкусная еда. Гулять бегали с кусками хлеба в кармане. У Саши была поговорка: «От ведьма такая». Он любил из кабака (тыквы) кашу с молоком. А из кабака большого вырезал пугало, и ночью в середине зажигалась свечка. Ставилось на дороге, чтоб напугать девчат.
Саша дружил с Лидой Лукашевой в станице Днепровской. Она очень его любила».
Ну, конечно, в семнадцать лет любовь не бывает обычной, она — очень большая, необыкновенная, и память о ней остается на всю жизнь, особенно если судьба не пожалеет влюбленных, не соединит их. «Какой бы мы счастливой были парой, мой милый, если б не было войны!..»
Начиналась юность у самого младшего сына Епистиньи, у Саши-Мизинчика, пора свиданий, обжигающей ревности, сумасшедшей радости.
Переезд на хутор Первое мая
Летом 1939 года колхоз вернул Филе взятый взаймы саман, и начали строить новую хату на хуторе Первое мая. Этот хутор стоял в двух километрах от Шкуропатского, тоже протянулся вдоль речки Кирпилей. Но если на Шкуропатском огород Степановых подходил прямо к реке, то теперь участок отвели в другом ряду хат, через дорогу.
Понятно, что в одно лето невозможно построить и хату, и сарай, и погреб, и колодец, и многое другое, без чего нельзя вести хозяйство. Но когда более-менее готовы хата и сарай, можно переезжать, а обживать, достраивать, ремонтировать придется всю жизнь.
Много дорогих воспоминаний, лучшая часть жизни остались там, на Шкуропатском. Остались там, рядом с хутором, на кургане, и дорогие могилы: Михаила, Верочки, Стени, Гриши, отца — Федора, Акулины, других близких людей. Но это все же недалеко, не за семью горами, а в двух верстах.
Стали обживаться на новом месте: огородили хату и сад камышовой изгородью, вспахали огород. Очередной Шарик занял свое место в конуре у сарая.
Насажала Епистинья, как и на Шкуропатском, много любимых ею цветов. Украшали хату, подворье, радовали глаз красные, белые, чайные розы, лилии, пионы, чернобривцы.
Летняя печка, похожая на паровозик, установилась на подворье под молодой, только что посаженной шелковицей.
Саша стал ходить в школу-десятилетку имени Герцена в Тимашевке, но что-то не оказалось у него настроения учиться дальше. Сказались на душевном состоянии Мизинчика и кончина Веры, с которой вместе ходили в школу, и гибель Феди, и переезд на другой хутор, и переход в другую школу. Не закончив восьмой класс, Саша оставил школу и стал работать в колхозе.
Может быть, его увлекла азартная работа на земле брата Филиппа.
Шура о работе мужа в колхозе, о тогдашнем житье-бытье написала: «Филя на бидарке приезжал очень редко, ставил за двором, потому что если на бидарке, то ненадолго. Домой он приходил больше пеша, тогда не очень разъезжали, больше ходили пеша. В обед приедет, пообедает, когда время есть — по хозяйству. Когда ляжет отдохнуть, то ему ребята не дадут, как накинутся на него, бывало. Бабушка скажет: «Уйдите, пусть папа отдохнет», а он говорит: «Маманя, пусть. Они нас и так мало видят». Поиграет он с ними, и пошли на работу. Тогда мы рано уходили и поздно приходили. Работали от зари до зари, в особенности в уборку, с пяти часов утра и до двенадцати ночи. Уйдем — дети спят, и приходим — тоже спят».
22 апреля 1941 года газета «Правда» опубликовала снимок на первой полосе: Филя в большущей своей кепке стоит на пшеничном поле, пшеница невысокая, ведь еще весна. Подпись под снимком сообщала:
«Прекрасный вид имеет озимая пшеница на полях колхоза им. 1 Мая Тимашевского района Краснодарского края.
На снимке: комсомолец, бригадир второй полеводческой бригады колхоза им. 1 Мая Ф. М. Степанов осматривает посевы озимой пшеницы. Фото А. Галаганова (ТАСС)».
Как же не иметь пшенице «прекрасный вид», если работали от зари до зари, даже детей не видели?!
Холодный ветер
Казалось — пронесет, не будет войны. А как может пронести, когда целой системой глобальных ошибок, просчетов, преступлений «вождей» народов за последние полтора десятка лет война была ими «выпестована». План «Барбаросса» уже подписан Гитлером.
Колю и Васю часто приглашали поиграть на свадьбах; оба играли замечательно, а Вася со своей скрипкой, умением заставить людей плакать был просто знаменит в районе. Поэтому его пригласили играть в кинотеатре станицы Тимашевской.
Кинотеатр был тогда самым притягательным местом в станице. Новый фильм всегда был событием. Чтоб все успели посмотреть, его крутили по многу раз круглые сутки. На быках и лошадях приезжали группы с хуторов, «в культпоход». Спали в фойе на лавках, ожидая очередного сеанса.
Но безжалостная машина уже была запущена и тянула жизнь ближе и ближе к зубастой своей пасти.
В мае 1941 года и Василия, и Филиппа взяли на военные сборы.
Дорога на сборный пункт в Тимашевской проходила как раз через поля бригады Филиппа. Пшеница уже заметно выросла после того, как корреспондент снимал тут Филю. К уборочной Филипп рассчитывал вернуться. Много было дел и на хуторе, и дома. Не достроена даже хата — входная дверь открывалась прямо на улицу, ни веранды, ни крылечка, ни хотя бы простого козырька над нею от дождя.
Наступило лето 1941 года. Хутор жил летними заботами.
Епистинья варила борщи, лепила вареники, ждала к обеду Шуру и Сашу. Ближе к обеду подходила к калитке, спрашивала проходивших обедать соседей: «Галю, а мои далеко?» — «Еще в бригаде. Скоро придут». — «А то у меня вода с укропом кипит, хочу вареники кинуть».
Николай со своей плотницкой бригадой ремонтировал коровники, пока стадо в лугах.
Но уже в Литве Илюша со своим полком выехал на танке с «боекомплектом и всем необходимым для боя и жизни» на «промежуточный сборный пункт». Павлуша в лесу под Киевом выслушал приказ о досрочном присвоении офицерского звания без экзаменов и отбыл к месту назначения в Белоруссию. А в Белоруссии в местечке Кольно стояла часть, где командиром пулеметного взвода служил Ваня. Уже Филя и Вася на сборах призывников надели военную форму. Оба попали в Крым, но в разные части. Пять сынов Епистиньи догадывались — скоро война.
Глава 12. ВОЙНА
Ах ты, милая моя,
Начинается война,
На войну меня угонят —
Ты останешься одна
Частушка
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство
Молитва за Отечество
Страшная весть
Хутор Первое мая, в два порядка хат ровно, как по линейке, на добрый километр протянувшийся вдоль Кирпилей, грелся на летнем солнышке: ярко белели хаты под бурыми камышовыми крышами; в садах зрели жерделы, вишни, малина; сыпали на землю свои пресноватые, темные ягоды шелковицы. Тягучая лень жаркого дня растекалась по земле. С речки доносился визг и смех ребят. На полях за огородами желтела пшеница, над ней дрожало знойное марево.
На нескольких участках месили верхом на лошадях и босыми ногами глину, готовили саман: переезжали с других хуторов, строились.
Епистинья обживала новую хату, новое место: полола и поливала в огороде, кормила кур, смотрела за маленькими внуками Женей и Жорой.
И вот проскакал по хуторской улице всадник:
— Война, люди! Война!..
Епистинья ахнула, услышав это, и запричитала:
— Ой, диточки, та шо ж то будэ! Илюша ж и Павлик там! Ой, горе, и Ваня, и все ж будут там!..
Ей страшно было и произнести слово «война».
Война заполыхала на западе, где как раз и находились Ваня, Илюша и Павлик. Но в армии были еще и Филя с Васей, и они «будут там».
Закрутились неуклюжие, кровавые жернова войны.
По хутору разносили повестки с призывом в армию. Призывали военнообязанных 1905–1918 годов рождения.
Николай был с 1903 года, Саша — с 1923-го, они пока оставались дома. Получили бронь председатель, бригадиры, заведующие фермами.
Мало кто еще представлял, какая война началась, что предстоит вынести. Одни тревожились, другие улыбались: «Да что вы! Да этих немцев за неделю разобьют! Не успеют наши призывники доехать, как война кончится».
Нечаянная радость
Вдруг — нечаянная радость: в июле приехал Илюша, бледный, с запавшими глазами, худой, в старом обмундировании без знаков различия, рука висела на перевязи. Оказалось, Илюшу ранило в первых боях у границы в живот и руку, в госпитале его немного подлечили, а так как госпитали были переполнены, то долечиваться направили домой, выдав первое попавшееся обмундирование.
Епистинье даже не верилось — просыпаешься утром, и сразу радость: «Дома Илюша!..» Епистинья, Шура, Саша захлопотали около Илюши, лучший кусочек — ему, но Илюша засмеялся и твердо сказал: «Особенное для меня не надо! Как всем, так и мне!»
Один из первых сокровенных вопросов Епистиньи был о Ване и Павлуше: не видел ли их «там»? Почему не пишут?
«Нет, мама, не видел. Вы не волнуйтесь. Там сейчас такое… Война все-таки, не до писем пока. Не пропадут!..»
Хотелось верить, что не пропадут ее мальчики, они же не рохли какие-нибудь. Но вот Илюшу все-таки ранило, и настроение у него не такое бодрое, как всегда…
Приходили к Илюше хуторские женщины и тоже с надеждой смотрели на него: наших не видел?
О войне Илюша рассказывал скупо, неохотно, отшучивался. А как о ней расскажешь простодушным женщинам, матери, когда и самому многое непонятно, а вблизи — все выглядело ужасным: мощный бомбовый удар немцев рано утром, в наших войсках неразбериха, танки быстро оказались без горючего, не было связи, склады взорваны, слухи, паникеры, неосведомленность командиров, угрозы окружения, убитые друзья. Все это в красках, яростных сценах, похожих на кошмарные сны. Попробуй расскажи все это, не будешь ли ты и сам выглядеть паникером и не поплатишься ли за это.
Друг Илюши Пекарчик Антон Андреевич много позже об этих первых днях пишет тоже очень осторожно:
«Великую Отечественную войну начали с утра 22 июня с бомбового удара авиации немцев по деревне Рукла и военному городку, в котором остались семьи военнослужащих.
22 июня 1941 года в 18.00 часов наш полк в составе 4-й тяжелой танковой дивизии с промежуточного сборного пункта вышел на марш по маршруту: Ионава — Кейданы — Россияны.
Утром 23 июня из района западнее города Россияны вступили в бой с танками немцев 6-й танковой дивизии — так признавались пленные танкисты и солдаты мотопехоты.
24, 25, 26 июня наш танковый полк беспрерывно вел успешные бои в районах: Виндукле — Немокчяй — Скаундвилье, а отдельные машины достигали окраин города Тауроген — это почти на границе.
Последний день, 25 июня 1941 года, я виделся с Ильей Михайловичем, уже будучи тяжело раненным, и он настаивал, чтобы я оставил автомобиль, в котором я сидел за пулеметом, так как ехать в бой на танках не мог, да, как он говорил, и нет горючего для танков. В ночь с 27 или 28 июня 1941 года я был эвакуирован в военный госпиталь южнее Шяуляя. Госпиталя к этому времени в Шяуляе не оказалось, и меня с другими ранеными офицерами доставили в Ригу, а на следующий день в Псков, а затем и дальше».
В этих первых боях вскоре ранило и Илью. Собственное ранение часто кажется случайным, нелепым; таким оно казалось и Илье, поэтому он говорил неохотно: «Бомба…» На его счастье, осколок прошел по животу неглубоко, другой — ударил в мякоть плеча, хорошо, что Илью тут же подобрали и успели отправить в госпиталь.
Замечая, что мать всегда настороженно вслушивается даже в коротенькие и бодрые его рассказы о войне, о происходящем «там», Илюша при женщинах вообще о войне не говорил. Повторял лишь: «Разобьем немцев».
Его тоже сильно тревожила судьба Вани и Павлуши, хоть он этого и не показывал матери. О Ване он написал письмо-запрос в его часть. Павлуша, окончив Киевское училище, уехал в часть, а в какую — неизвестно, и больше не писал. Оставалось ждать и надеяться.
Недолгой оказалась отсрочка у Николая. Вскоре забрали из колхоза всех получивших бронь бригадиров, заведующих фермами и председателя Туликова в казачий полк, взяли и Николая.
Мизинчик работал в колхозе, где на подростков все больше приходилось дел, а всякую свободную минуту проводил с Илюшей. Как же — старший брат, танкист, лейтенант, только что ранен в бою! Они тихонько вели с Илюшей более откровенные и суровые мужские разговоры.
Но вскоре Саше пришлось немножко отойти в сторону от брата: Илюша подружился с Таней. Таня Лиходедова приехала из Воронежской области с родителями и младшим братом в 1935 году после выселения казаков и голодного мора, сильно обезлюдившего кубанские хутора и станицы. Жили они на хуторе Ольховском, работала Таня секретарем в правлении колхоза и всегда была в курсе всех колхозных дел.
«Илюша заходил в правление — то позвонить, то газету почитать, новости узнать, то письмо отдать для почтальона, — рассказала Татьяна Михайловна Сердюк. — Подружились. Стали встречаться. Рука у него была уже без перевязи, но он еще был худенький, бледный. Играли как-то ребятишки в футбол, мяч подкатился к Илюше, он ударил ногой по мячу и сразу согнулся, сморщился от боли, схватился за живот… Выпало нам немножко счастья в то время. Господи, кто же знал тогда, что нас ждет! Никто в страшном сне представить не мог, что война будет четыре года, что немцы придут к нам на хутор, что мы увидим и переживем такое… Ходили с Илюшей на танцы в Тимашевку. Он в белой рубашке, коричневых брюках. У меня мама была портниха, она мне хорошее платье сшила, светленькое. Я туфли в руках несла, шла босиком по пыли, пыль на дороге мягкая. В Тимашевке ноги в реке мыла, надевала туфли, и шли в парк на танцы. Оркестр играл сборный: кто на скрипке, кто на баяне, на мандолине. Тогда танцевали тустеп, краковяк, польку-бабочку. Мы с Илюшей любили вальс. «Амурские волны» играли, «На сопках Маньчжурии»… Возвращаемся на хутор — ночь лунная, теплая. Опять босиком шла по теплой пыли. Тогда вдоль дороги кое-где лавочки стояли. Сядем с Илюшей, посидим. Тихо, сверчки, луна. Ребята и девчата идут с танцев, смеются, разговаривают… Спрашивала его про войну, что там, как? Он отшучивался, хмурился: «Не надо об этом, Таня. Тебе это не понять… Победим немцев!..»
В сентябре на Илюшино письмо в часть, где служил Ваня, пришел ответ:
«Младший лейтенант Степанов Иван Михайлович пропал без вести».
Илюша бодро утешал мать, уверял, что Ваня, конечно, жив, просто отстал от части. Как хотелось верить в это Епистинье!.. Почти три месяца не было никаких вестей ни от Вани, ни от Павлуши. Тут Ольга Колот прислала письмо — пишет ли домой Ваня, она давно не получала от него ничего.
С фронта шли недобрые вести: наши оставили Гомель, Херсон, Полтаву, Киев, подошли к Крыму. А в Крыму служили Филя и Вася.
Илюша засобирался:
— Все, хватит лечиться. Поеду на фронт!
В военкомате ему наотрез отказали с такой незажившей раной направить в свою танковую часть. Но и сидеть дома было невмоготу, Илюша добился все же, что его направили пока в военное училище в Майкоп, учить будущих командиров.
Епистинья выстирала, выгладила, подшила Илюшину форму. Таня отрезала от старой кофточки из черного бархата лоскуток, и Илюша пришил на воротник черные танкистские петлицы.
В музее сегодня есть фотография: Таня и Илюша, по грудь, склонили друг к другу головы на фоне каких-то листьев, Илюша все еще болезненно осунувшийся, в гимнастерке с черными аккуратными петлицами. На обороте фотографии надпись: «Фотографировались 15/IX — 41 г. (воскресенье). Лиходедова Татьяна Михайловна и Степанов Илья Михайлович. 23/IX. 41 г., в 4 ч. утра, час разлуки».
«Получил он известие о Ване, — рассказала Татьяна Михайловна, — что пропал без вести, и забеспокоился: «Хочу на фронт! Хватит». Однажды говорит мне: «Пойдем, Таня, сфотографируемся на память. Кто знает, что будет. Хочу, чтоб память была». В воскресенье пошли в Тимашевку. В фотографии выходной. Пошли к фотографу домой, по-моему, Федорков его фамилия, жена его вместе с ним работала. Он не отказался, вынес фотоаппарат во двор, около кустиков нас поставил, головы нам склонил друг к дружке… Пришел и час разлуки. Вечером Илюша простился дома с родными и пришел ко мне в правление, я как раз ночью дежурила. Тогда круглые сутки в правлении дежурили у телефона… В этот раз и надпись я эту сделала на фотографии. Одну фотокарточку, маленькую, Илюша взял с собой… Когда светать начало, он пошел. Я проводила его немного, он говорит: «Дальше не надо, Таня…» Я же от телефона не должна отходить. И пошел Илюша по той же дороге, по которой на танцы с ним ходили».
Проводы Мизинчика
Уехал Илюша.
Но вскоре и Саша прибежал домой, сияющий, возбужденный:
— Мам, иду в армию! В летную школу!
Епистинья ахнула и растерянно опустилась на стул.
Оказывается, Саша тайком от матери не раз ходил в военкомат. Брать Сашу не имели права, он — младший сын, кормилец, шесть его старших братьев уже на фронте, но Саша добился, убедив кого следовало, что мать не будет возражать.
Епистинья заплакала. Саша сел ей на колени, обнял за шею. Маленький еще, не насиделся на материнских коленях…
Епистинья собрала Мизинчику дорожный сидор — мешок, картофелины по углам, веревка из конопли, в него положила бельишко, кое-какие мелочи, пирожки на дорогу, от которых Саша со смехом отказывался, а позже написал — как же они в дороге пригодились!
Утром к правлению колхоза на краю хутора потянулись в который раз очередные новобранцы вместе с матерями, женами, невестами. Сашу провожали Епистинья с Шурой.
Первые проводы мобилизованных проходили весело, хвастливо: «Да мы этого немца! За неделю!..» Но с фронта пошли страшные вести, на хуторах стали получать похоронки, и на проводах стало больше слез и рыданий…
У правления представитель из военкомата сделал перекличку, построил новобранцев, отделив от толпы. Состоялся митинг, выступили старенький председатель колхоза, уполномоченный из района: «Разобьем фашистского гада… Под руководством великого Сталина…»
Южный сентябрь — благодатная пора. В садах гнулись ветки под тяжестью плодов. С пирамидальных тополей падали первые желтые листья, солнце ласковое, нежаркое. Поля стали просторными, хлеб скошен и обмолочен. Пожелтел высокий камыш у Кирпилей. На прикатанных до блеска черноземных дорогах, на колеях ее, на мягкой пыли насорена желтая солома. Орали петухи, лаяли собаки.
У всех много дел, и митинг был коротким. Новобранцы уже оторвались от родных, от этой жизни, от хутора, они уже «там», им уже неловко и больно видеть рядом лица родных, заплаканные и испуганные.
Епистинья и Шура видели, как мелькнуло в толпе Сашино лицо, затем все смешалось, и новобранцы колонной двинулись по дороге в Тимашевскую. По той самой дороге, вдоль которой стояли лавочки и по которой Илюша с Таней ходили на танцы. По которой прошел Филя мимо своих полей. По этой же дороге ушел Николай.
Епистинье крикнула знакомая женщина:
— Твоего Сашку уже командиром назначили! Он повел ребят.
Мизинчик такой же, как и братья, не может жаться в стороне, таиться, весь на виду, глаза живые, веселые, парень боевой. Еще бы, у него шесть братьев на войне, а трое из них — офицеры.
Постояли женщины у правления, посмотрели вслед ушедшим, помахали руками, поплакали. Растворилась колонна на степной дороге, превратилась в точку, растаяла. Ну что ж, и в колхозе, и дома много дел, надо идти… Когда все вместе — еще ничего, но дома, в опустевшей хате, увидев оставшуюся рубашку, пиджак Саши, Епистинья не выдержала. Слезы, горе, горе.
Только что один за другим ушли из дома, из новой, еще не совсем достроенной хаты три сына. Вот лежат оставшиеся от них еще теплые рубашки, кепки. Господи, спаси их и сохрани! Спаси и сохрани Филю, Сашу, Илюшу. А еше Ваню и Павлушу. А еще Колю и Васю!
Ушли Илюша и Саша. Ушли, но еще не совсем. Жизнь не любит красивых прощаний и расставаний навсегда, без всякой надежды.
«В начале октября Илюша опять приехал, — рассказала Татьяна Михайловна. — Не понравилось ему в училище. Приняли его там плохо, хоть он и раненый. Все за свои места держатся. Ни жилья Илюше не дали, ни обмундирования. «Нет, не могу там отсиживаться, тошно! Поеду искать свою часть». Побыл несколько дней, документы в военкомате выправил и уехал. Но вскоре опять я его увидела, приехал на денек: в новой форме, в теплом бушлате. Это уже в последний раз… И Саша приходил! Дежурила я в правлении как-то ночью. Кажется, в ноябре. Илюша уже уехал. Ночью вдруг входит военный, в шинели. «О, Танюша! Привет!» Господи, Саша!.. «Не хочу ночью мать тревожить, посижу с тобой». Вот и сидели с ним до утра, разговаривали, и про Илюшу, и про войну, про все. Вдруг у него слезы. Смутился, говорит: «Ты не подумай чего, это так…» Куда-то он ехал с товарищами, и вот отпустили его на один день. Утром пошел домой. Побыл денек и уехал. Навсегда».
Слезы Саши, неожиданные и для него самого, о многом говорят. Он рвался на фронт с романтическими, чистыми чувствами — защищать Родину, но вскоре своими глазами, вблизи увидел неразбериху, равнодушие, глупость, корысть в деле, которое считал святым, и был убежден, что так считают все. Много горьких прозрений ожидало Сашу и всех братьев.
Нежданные-негаданные приезды Илюши и Мизинчика на всю жизнь укрепили в сердце Епистиньи надежду — придут, придут ее сыны, придут ее мальчики. Вот мелькнет за окном фигура в шинели, стукнет калитка, услышит она четкие шаги, дверь распахнется: «Здравствуй, мама! Это я!..» Ведь так же не раз было!..
Ожидание
Теперь все семь сыновей: Коля, Вася, Филя, Ваня, Илюша, Павлуша и Мизинчик были «там». Где-то далеко в Алма-Ате находилась в эвакуации Варя с мужем Иваном. Хотела Валентина и мать взять в Алма-Ату, но не вышло: и нельзя было, и наотрез отказалась Епистинья.
Зачем уедет она в такую даль? А куда же будут приезжать сыновья? Кто будет ждать их, то и дело поглядывая в окошко или с подворья на хуторскую улицу, слушая чьи-то шаги?
Началось великое ожидание Епистиньи своих сынов, великое ожидание матерей и жен родных своих мужчин, вестей от них.
Хутор жил работой и вестями с войны. Вся радость, весь страх теперь — письма, с каким лицом подходит почтальонка, что несет — родной треугольник или казенный конверт?
Писем от сыновей было много, но перед приходом немцев Епистинья закопала их в том самом железном ящичке. Случайно сохранилось несколько писем, полученных до прихода на хутор немцев, и письма, полученные после их бегства.
Пожелтевшие листки бумаги, когда-то сложенные треугольником, вытертые на сгибах, исписанные чаще всего простым карандашом, открытки с портретами Александра Невского, Дмитрия Донского. Иногда письма написаны на голубых бланках итальянского, румынского военных ведомств, в письмах часто звучат просьбы: пришлите бумагу, нет бумаги, не на чем написать.
Как ждала эти письма Епистинья, сколько радости они ей принесли. Письма эти читали и перечитывали, обсуждали каждую строчку, каждое слово, грелись о них душой, чувствовали в них душу написавшего — как ему «там» живется, как воюется. Каждое письмо Епистинья держала в руках, знала наизусть, но просила вновь читать их, вслушивалась в строки, слыша живые голоса своих мальчиков.
Вася на войне
Самое раннее сохранившееся письмо военного времени — от Васи. На штемпеле — 13 октября 1941 года.
«Здравствуйте, мама, Шура, Жора. Мама, я хочу вам сообщить о том, что я жив-здоров, за мной не беспокойтесь. Видел Филю! Случайно встретился, но поздоровались, посидели, наверно, с час, поговорили. Он пошел. Вы мне напишите его адрес, а то я с ним говорил, говорил, а адрес забыл спросить у него. Он мне сказал, что Шура в летной школе. Это хорошо. Сейчас летчики в почете, и авиация играет в современной войне большое дело.
Но вот все.
Мой адрес: почтово-полевая станция 650, 553 арт. полк, 2-я батарея.
Степанов В.».
Письмо бодрое, радостное, удивленное. Оно как бы продолжение какого-то молчаливого разговора.
Такая радость — встретились на войне случайно два сына Епистиньи. О чем же разговаривали два брата? Да, конечно, о доме, о матери, братьях, о войне и боях, женах и детях; видно, горячо говорили и сильно были взволнованы, потому что говорили, говорили, а адресами обменяться забыли… В конце сентября, как мы знаем, уехал в Майкоп в военное училище недолечившийся Илюша и ушел «в летную школу» Саша, о чем Шура, конечно же, написала Филе. Наверняка написала она и о том, что пропал без вести Ваня и молчит Павлуша. Вася ничего о них в письме матери не говорит. Хорошо, что Мизинчик попал в летную школу, ведь это все-таки подальше от окопов, от пуль и снарядов.
«…Поговорили. Он пошел». Как растерянно, удивленно и тревожно звучит. Не мог не почувствовать Вася, что второй такой встречи с братом на войне уже, наверное, не будет.
Где встретились братья? Где-то в Крыму.
553-й артиллерийский полк, в котором Вася служил командиром отделения тяги, к этому времени уже побывал в боях. Каким образом увидели друг друга, в каком именно месте, о чем говорили — Василий не сообщает, в письмах не положено было писать лишнего. В сохранившихся письмах Филиппа о встрече с Василием не говорится, видимо, он писал об этом раньше, в тех письмах, которые закопали.
Сменив позиции, полк в начале ноября вел бои, а в середине ноября погрузился на пароход «Чкалов» в районе Керчи и, благополучно перебравшись через Керченский пролив, выгрузился в Тамани.
Тамань — это родная, еще свободная от немцев Кубань, но вестей от Васи больше не приходило. След его обнаружился лишь в 1944 году.
Где Ваня? Где Павлуша?
Вася подал голос из Крыма. Николай писал своей Дуне, она приходила к Епистинье, читала его письма. Писал домой Филя, просил писать почаще. Писали Илюша и Саша.
Ваня и Павлуша молчали с самого начала войны.
Приходили на хутор письма, братья спрашивали мать друг о друге, передавали друг другу приветы, в переписке между собой называли материнский дом «центральной почтой». Получив письмо из дома, каждый представлял хутор, хату, подворье, представлял, как мать и Шура вечером, уложив спать Женю и Жорика, садятся за стол на кухне и пишут письмо. Пишет Шура, мать напоминает, чтоб она чего не забыла. Если понюхать листок, то можно уловить и запах борща, хлеба, весь родной запах хаты, материнских рук.
Подошел к концу 1941 год, начался 1942-й. Давно стихли хвастливые речи о том, что через неделю война кончится; шли такие разговоры от бодрых уверений довоенных газет, что враг будет разбит в короткий срок на своей же территории.
Сталин полагал, что основной удар в возможной войне Гитлер нанесет на юге, чтобы захватить украинский хлеб, донецкий уголь и бакинскую нефть. Соответственно этому располагались и наши стратегические силы. Основной же удар был нанесен немцами в Белоруссии — отсюда в центр нашей страны, к Москве, ведут относительно хорошие железные и шоссейные дороги.
Механизированные части немцев прорывались через боевые порядки наших войск, окружали их, устраивали гигантские «котлы», в которые попадали целые армии, соединения.
Сотни тысяч наших бойцов и командиров оставались без связи, боеприпасов, горючего, попадали в плен. Не имея представления о положении целых армий, фронтов, Сталин, Генеральный штаб ставили задачи войскам обороняться, хотя тем грозило окружение, или даже наступать, ничего не зная о противнике. В результате все новые наши армии попадали в окружение. По некоторым данным, к концу 1941 года наши войска потеряли один миллион убитыми, четыре миллиона ранеными, три миллиона восемьсот тысяч попало в плен.
Как же не стихнуть бодрым разговорам, когда миллионы семей в стране получили или похоронки, или извещения «пропал без вести»? Или же не получали с начала войны никаких вестей.
Голос Фили
Сохранилось только два письма от Филиппа, хотя писал он часто, и Шура, чувствуя тревогу и тоску мужа, часто писала ему. Но письма Филиппа тоже попали в железный ящик. Два же его письма Шура хранила особо, а когда пришли немцы, она спрятала их под застреху хаты, где они пережили оккупацию.
Написал их Филя в начале мая 1942 года, когда на юге, где он воевал, предстояли крупные сражения. Разгром под Москвой, стойкость Ленинграда заставили Гитлера перенести наступление своих войск на юг с целью перерезать Волгу как артерию, питающую центр, захватить Кавказ с его бакинской нефтью, овладеть южными хлебными районами страны.
Сталин решил нанести на юге в районе Харькова упреждающий удар. Хотя Г. К. Жуков и начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников возражали и говорили о трудностях возможного нашего наступления, о его неподготовленности, о предпочтительности здесь обороны, Сталин настоял на своем. Это очередное непродуманное его решение дорого обошлось нашим войскам, определило и судьбу Фили.
Наши войска на юге готовились к наступлению, к боям. Филя написал в это время два письма, они оказались последними.
Вот небольшой, темно-желтый, весь затертый, читаный-перечитаный листок из тетрадки в косую линейку, старательно сложенный когда-то треугольником, повытертый на сгибах. Весь листок коряво исписан химическим карандашом, на всякое свободное место вновь и вновь ложились такие живые, такие тоскующие слова.
От письма веет невероятной, немножко смущенной тоской по дому, по близким людям, по привычным крестьянским заботам. Сколько смысла, сколько чувства вкладывал Филя в каждое слово, и как хорошо это понимали и Епистинья, и Шура. Их всех объединяла, согревала сердечная связь, и каждое слово в письме — знаки забот, тревог, любви, знаки их жизни, понятные и емкие при этой сердечной связи. Письма нельзя читать бегло, а лишь — по слову, тогда они скажут больше. В беглом чтении откроется лишь «плоское» изображение, а тут нужно «объемное», житейское, «сердечное» зрение.
Невозможно передать все чувства, когда держишь в руках уже ветхий листок. Хочется привести письмо целиком, с ошибками и описками, так хорошо передающими живое, настоящее.
«Здравствуй, Шура, мама, дети Женя, Жора и маленький Толя и другая мама. А также и все знакомые и родичи. Шлю я вам свой красноармейский горячий привет и желаю вам хороших успехов в вашей жизни. А еще проздравляю вас с праздником 1-е Мая выпить стакан водки или вина за меня. А я за вас буду стойко защищать нашу необъятную родину. Мы тоже будем встречать 1-е Мая, но в другой обстановке. Шура, пиши письмо, я жду ответ.
Пока до свидания. Целую крепко всех, но очен соскучился за вами. Пиши все новосьти какие у вас есть. Вы наверно сев кончили в колхозе, колосовые.
Шура нащет питания смотрите икономте, чтоб было чего кушать. Сейте в огороде кукурузу на зерно. Но и хозяйничайте. А то на меня пока не надейтесь.
Погода в нас холодная то исьть — нетепло. Пока до свидания.
Филипп Степанов. Пиши за братьев.
1 мая 42.
Степанов Филипп Мих.».
В каждом слове — живое, реальное представление о тех, к кому он обращается, и о том, о чем говорит. И никак, никак Филипп не оторвется от того родного мира, к которому он тянется душой сейчас, когда пишет. Ведь кругом — сырые окопы, смерть, кровь, безжалостный, наглый враг, а где-то — родные люди, весна, сев, разгар особенно желанных сейчас работ. Война же идет почти год, и конца-края ей не видно.
Вглядимся в письмо немножко повнимательней: что там, за словами?
«…Дети Женя, Жора и маленький Толя и другая мама». Сыну Жене было в это время пять лет, Жоре три годика. «Маленький Толя» родился уже, когда Филипп был на сборах. Он пожил восемь месяцев и умер; похоже, что Шура пока об этом Филиппу не писала, чтоб не расстраивать. «Другая мама» — это мать Шуры… Филипп — бригадир, прирожденный крестьянин, и смотрит он на мир широко, видит всех хуторских знакомых и родичей. Красноармейский привет, поздравление с Первым мая и обещание стойко защищать Родину — не пустая формальность. Филипп — весь общественная душа, он сам организовывал первомайские демонстрации, когда колхозники садились в большую арбу и трактор вез ее в райцентр. Позже появился в колхозе грузовик, и на демонстрацию в Тимашевку ездили на грузовике — с лозунгами, флагами, красными косынками. Сев к этому времени заканчивался, впереди лето, настроение у всех замечательное, можно расслабиться, выпить, спеть свою любимую «Ще третьи пивни…».
«Шура, пиши письмо, я жду ответ» — это уже строгий приказ жене, чтоб понимала, что ему плохо, тоскливо и дело это нешуточное. Но строгого тона Филя не выдерживает. «Очен соскучился за вами», говорит он доверчиво и просто. И тянется, тянется к родному миру: «Вы наверно сев кончили, колосовые».
Опять строгие, деловые, обдуманные наказы Шуре по дому, «нащет питания». И, чувствуя свою строгость, Филипп оговаривается: «Но и хозяйничайте». Мол, на мою строгость и советы не обращайте особого внимания, соображайте по тому, как жизнь подскажет.
Письмо это — разговор погруженных в сложную жизнь людей, разговор родных и близких душ о том мире, в котором они живут, о тех обстоятельствах, в которых они оказались. Родные, чистые, доверчивые сердца тянутся друг к другу.
Через четыре дня Филипп прислал еще письмо. Выдалась передышка перед большими боями, Филипп это знает. Письмо оказалось последним.
Написано оно 5 мая 1942 года. А в найденной после войны с помощью Красного Креста и Красного Полумесяца карточке военнопленного лагеря 326 в Германии Филиппа Степанова указано место и время взятия в плен: Харьков, 24 мая 1942 года.
«Здравствуй, Шура, дети Женя Жора Толя и мама и другая мама. Шлю я вам свой пламенный привет и желаю вам всего наилучшего в вашей жизни. Я пока жыв и здоров чего и вам желаю. Шура жеву пока хорошо, погода правда дождливая и сырая холодновато временами но ничего на то война надо пережить. Шура пиши письма почаще пиши все новосьти как в колхозе произошел росчет. Сколько получили денег за 1941 год и за 1942 год вобщим пиши все. Пока до свиданя. Жалей детей хотя пока маленькие необижай но когда они вырастут то пусть жалеют тебя и Бабушку, мое пожелание детям. Если может меня небудет то письмо береги покажеш детям когда они будут большие отец муж сын Филипп Степанов 5 мая 1942 года.
Действ, армия п/п 1415 699
1 бат. 1-я рота пулеметная».
После этого письма хочется помолчать.
Эта мысль «если меня не будет» часто встречается во многих фронтовых письмах. Смерть ходила рядом, погибали товарищи — был и нет его, особенно в пехоте. И всякий раз поражаешься спокойному мужеству писавшего это.
Филипп обращается больше к жене, с ней разговаривает. Если Филипп пишет Шуре, что скучает, то и она писала ему, как плохо ей без него. Они были хорошей парой: «Филипп и Александра Моисеевна работали в колхозе день и ночь. Пара была под стать. Александре Моисеевне дали в районе на слете ударников красную косынку. Это было большой славой, все завидовали…» — пишет о них Евдокия Ивановна Рыбалко. Работала Шура замечательно, как и Филипп. В молодости она была красивой женщиной: статная, плотная, женственная. После войны, когда пришла весть, что Филипп погиб в Германии в лагере, к ней сватались, хотя у нее было двое детей. Она не пошла.
Помнит, конечно, Филипп и о матери. Но Епистинья и сама тактично стоит в сторонке. Она неграмотна, не может написать Филе, как переживает за него, за каждого из сыновей, как каждый вечер, каждую минуту молит Бога пощадить ее мальчиков.
«12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступление в направлении на Харьков… — пишет Г. К. Жуков.
Утром 17 мая 11 дивизий из состава армейской группы «Клейст» перешли в наступление из района Славянск — Краматорск против 9-й и 57-й армий Южного фронта. Прорвав оборону, враг за двое суток продвинулся до 50 километров и вышел во фланг войскам левого крыла Юго-Западного фронта в районе Петровского…
23 мая 6-я, 57-я армии, часть сил 9-й армии и оперативная группа генерала Л. В. Бобкина оказались полностью окруженными. Многим частям удалось вырваться из окружения, но некоторые не смогли это сделать и, не желая сдаваться, дрались до последней капли крови».
Это был печально известный «харьковский котел», в который угодил и Филипп.
Наши войска не могли после этого поражения сдерживать наступление немцев на юге и покатились к Волге и Кавказу.
Немцы шли по Кубани. Приближались к Тимашевской, к хутору Первое мая.
Мизинчик на войне
Ну а где Саша, где Илюша? Куда занесла их сегодня военная судьба?
Сашиных писем, которые он писал домой до оккупации, не сохранилось, они там же, в железном ящике.
В «летную школу» Саша не попал. В первые месяцы войны, когда много наших самолетов немцы уничтожили прямо на аэродромах, не дав им взлететь, летчиков хватало, нужны были простые пехотные командиры.
И Сашу направили в Урюпинское пехотное училище. Курс обучения был ускоренный, сокращенный. Согласно архивным документам училища уже 3 мая 1942 года, то есть через шесть месяцев, лейтенант-выпускник Степанов Александр Михайлович убыл «для продолжения дальнейшей службы» в 339-ю Ростовскую стрелковую дивизию. Молодого лейтенанта назначили командиром взвода минометчиков. Дивизия сражалась на Кубани.
Немцы рвались к Кавказу, шли по Кубани к бакинской нефти. Бои проходили в родных краях, и в тех исчезнувших письмах Саши запомнилось родственникам чувство вины перед матерью, перед родными, что вот он допустил такое — немцы подходят к их хутору, к дому матери.
Илюша на войне
В третий, последний, раз простившись с родными на хуторе, Илюша с незажившей на животе раной уехал на фронт.
Немцы все ближе и ближе продвигались к Москве, дорог был каждый солдат для ее защиты. Илюша участвовал в боях под Москвой. Здесь он был еще раз ранен, на излечение его направили в госпиталь Сталинграда.
Илюша, Саша, Коля, Филя, Вася, Ваня, Павлуша были в числе многих сотен тысяч, даже миллионов наших бойцов и командиров, о судьбах которых некому рассказать подробно, отдельно, так, как они все этого заслуживают. Больше всего о братьях сейчас говорят их письма. Это живые голоса, которые после войны долго, до конца жизни любила слушать Епистинья.
Вот единственное сохранившееся письмо Илюши, написанное домой матери:
«Здравствуй, мама, Шура, Жора, Женя.
Живу я пока что в Сталинграде. Здоровье мое хорошее. Я за последнее время вам не выслал деньги, но я сейчас вам пошлю, они вам я думаю были не так-то нужны. Посылаю вам аттестат на 300 рублей, пойдете с ним в военкомат сдадите, а расчетную ведомость там вам отдадут, по которой и будете получать по указанный срок. Посылаю вам денег 500 рублей.
Ну вот и все. Я уезжаю на фронт, буду бить проклятую немчуру за Ваню, Павлушу, Васю, да за всех.
Привет Коле, Дуне, Вере и всем моим знакомым.
Привет напишите Шуре, Филе.
24.4.42. Илья».
Письма Илюши и Саши домой посдержанней, чем письма Фили, ведь их письма читала матери Шура, она и отвечала. И если для Фили Шура такой же близкий человек, как мать, то тут она все-таки посредник между ними и матерью, и самое нежное, сокровенное почему-то в таких случаях написать нельзя, неловко. Если бы мама читала сама, если бы сама отвечала — по-другому были бы написаны и письма.
«…буду бить… за Васю». Из дома, выходит, написали Илюше, что к пропавшим без вести Ване и Павлуше добавился Вася.
Странные вещи происходили с денежными переводами, которые посылали матери офицеры Илюша и Саша. Епистинья их не получала. Куда они девались, почему не доходили до нее, кто ими пользовался? Бомбежки ли виноваты, быстрое наступление немцев, их неожиданные прорывы или чье-то жульничество?..
Илюша пишет, что деньги «вам я думаю были не так-то нужны». Ведь он был дома, когда долечивался, и видел, что с началом войны купить на деньги было нечего. Можно было менять: продукты на товары, а товары на продукты.
Тане Илюша писал много. Пачку Илюшиных писем Таня хранила после войны до тех пор, пока не появилась возможность создать семью. Чтобы не раздражать мужа напоминанием о прежнем, Таня Илюшины письма сожгла; казалось, все прежнее ушло навсегда. А сегодня, когда муж умер, когда подошли годы, позволяющие мудро и спокойно оглядеть всю свою жизнь, те два месяца, что Илюша прожил на хуторе, залечивая свои раны, видятся самыми счастливыми и согревают жизнь: дорога на танцы в Тимашевку, вальсы, луна, скамейки у дороги, сверчки, голоса в лунном сумраке…
Что было в тех письмах Илюши к Тане? Разве вспомнишь сейчас точные слова?! «Скучаю… Разобьем фашистов… Если меня не будет, вспоминай обо мне… Пиши побольше обо всем…»
Таня написала ему, что ждет от него ребенка. Илюша обрадовался, но написал и о том, что, может, пока ребенок не нужен, ведь идет война, и неизвестно, вернется ли он живым, а Илюша знал, как непросто будет выйти замуж с ребенком.
Илюша, по дошедшим воспоминаниям, и домой писал матери: «Я, кажется, сделал Тане казака. Может быть, ей как-нибудь избавиться, ведь время тяжелое. А уж после войны…»
Избавиться от ребенка Таня не захотела, и в июне 1942 года, за два месяца до прихода немцев, Таня родила дочку. Война, подходят немцы, растет тревога, а тут — ребенок… Епистинья этой неожиданной внучке была очень рада, посетовала лишь, даже расстроилась: «Да что же это — назвали Светой, у Балгаловых так корову звали…» Чтоб угодить бабушке, не расстраивать ее, девочку стали звать Лидой. Так и росла вплоть до школы с двумя именами; когда пошла в школу, стала уже Светой, как и записано в свидетельстве о рождении.
Валентина Михайловна сохранила побольше писем Илюши и Саши, которые из всех братьев писали ей в Алма-Ату. Она оставалась для них старшей сестрой, с ней можно было пооткровенничать. К тому же в начале августа 1942 года немцы заняли хутор Первое мая и по февраль 1943 года, когда их прогнали, всякая связь с домом оборвалась.
Открытка Ильи сестре. На почтовом штемпеле — 10 июля 1942 года.
«Здравствуйте, Валя, Ваня.
Валюша, письмо я твое получил и был им очень доволен. Я рад за нашего Шурика, он молодец. Он у нас оторви да брось (сорвиголова) (отчаюга). Живу я хорошо, с Зоей думаю покончить. Любовь моя к ней испарилась и прошла как дым, как утренний туман. Из дому и от Шуры писем не получаю. Напиши мне его адрес. Взяла ли ты к себе маму или нет? Целую. Илья».
В сохранившихся письмах много сетований, жалоб, даже обид от Илюши, что Саша ему не пишет, и от Саши, что Илюша не отвечает на его письма. Связь с домом и с Валентиной помогала им хоть с большим опозданием узнавать друг о друге, о судьбе братьев.
Саша написал сестре, а она Илюше, что он теперь лейтенант, командир взвода минометчиков, и, конечно, у Илюши это вызвало такой восторг: их младший брат, Мизинчик, уже офицер, участвует в боях.
Зоя, о которой пишет Илюша, — медсестра в госпитале. Девушки-медсестры в госпиталях всю душу вкладывали в заботу о раненых: обнадеживали, утешали, успокаивали, подбадривали, говорили им добрые, ласковые слова, придававшие сил и желания жить, и кто из раненых не тянулся к ним всей душой, не влюблялся в них! Не избежал этого и Илюша. Но все же это — «сон и утренний туман», Илюша это понял.
Вот его письмо, посланное сразу вслед за открыткой:
«Здравствуй, Валя и любимая племянница Зина. Вы простите мою душонку грешную за мое молчание. Я оправдываться не буду и принимаю всю вину на себя. Но я не прерывал с вами связи или вернее не забывал о вас и каждый раз, когда писал письма в центральную почту (домой на хутор), я всегда просил их передавать вам мой самый горячий боевой привет и желать вам самых наилучших пожеланий. Я знаю, что ты, Валя, на меня обижаешься. Я этого заслуживаю, но ты убавь свой гнев, свою обиду, подумай, где я нахожусь и каким временем располагаю. Вот закончим с похоронами грабь-армии гитлера, тогда будем держать непрерывную связь и причем наша почта будет пересылать не одно письмо в три-четыре месяца, а 3–4 письма в этот срок. Валя! Не суди по моим письмам мое отношение к тебе. Я тебя ценю и люблю как сестру и за все очень благодарю: за заботу проявленную, оказанную мне, когда я был у тебя, а также и в детстве при нахождении в нашей большой веселой семье, еще живя на хуторе. Сочувствуй мне и не обижайся, ведь я не гуляю, а «работаю» и сейчас уже вышел вторично на «работу», которая очень опасна для жизни.
Валя, я получил из дому письмо, в котором сообщают, что ты якобы что-то знаешь о Ване-брате. Если знаешь, то опиши мне подробно все о какой-то награде, указано ли там звание и когда это было. Все, все, все.
Мои чувства предсказывают, что он жив, и я никак не могу помириться, что Вани и Павлуши нет. Изо всех моих братьев я с ними большую часть времени прожил и проучился. Ведь мы прожили все время вместе в хорошей дружбе и только в последние годы разошлись, и я никак не могу смириться, что это навсегда, что мы больше не встретимся. Валя! Напиши, как ты живешь, где Ваня-муж, с тобой там или на фронте, передавай ему от меня боевой привет. Как там Зина, поди уже большая барышня и, по всей вероятности, разговаривает как взрослая?
Что касается меня, то я живу хорошо. Здоровье мое окончательно поправилось. Настроение и дух приподняты. Дело идет хорошо. Как закончу дело с фрицами, тогда и погуляем, поговорим, а пока досвидание. Сестрица, отметь мой юбилей 25 июля, выпей и закуси за мое здоровье».
В июле 1942 года Илюше исполнилось двадцать пять лет. Письма братьев дышат живым чувством, сердечностью. Нет в них ни озлобленности, ни страха, ни паники, ничего показного.
Спрашивает Илюша о Ване-брате. Валентина в одной из газет в списке награжденных увидела Степанова И., но при внимательном взгляде выяснилось, что у него и отчество другое, и он рядовой солдат. Однофамилец. Степановых в России много.
Следующее письмо Илюши сестре написано уже осенью. И опять хочется напомнить, что читать фронтовые письма надо медленно.
«Здравствуй, Валя, Ваня, Зина.
Сегодня получил твое письмо, которое ты писала 10.10.42 и открытку от 1.5.42 или 1.10.42. Я с такой жадностью читал каждую строчку, букву и как никогда я был рад, когда узнал, что Шура жив и здоров. Моей радости не было предела. Большое тебе спасибо за это письмо, оно мне принесло много радости. Валя, ты понимаешь, черт возьми, наш «пацан», «киток» молчит себе и никому ни слова, «сопит в две дырочки». Видала таких! Жаль, что нет его около меня, я бы ему выговор влепил, даже строгий. Ты о нем переживаешь, беспокоишься, а он и в ус не дует. Ну и Шурик. Знаешь, я больше всех о нем, Павлуше, Ване беспокоюсь, ведь они, как и я, нисколько не пожили, а меньше всего Шура. Нет, рука пишет одно, а сердце говорит другое: «Жалко одинаково всех» — Филю, Васю, Колю. Всех пальцев жалко и больно, когда их отрезают.
Я ему сейчас написал тоже письмо, а теперь пишу тебе. Да, ты говоришь о яблоках, как бы я сейчас покушал их! Ведь я их в этом году и не видал, не только яблок, а и вообще никаких фрукт. Но ничего, побьем фрицев, тогда — жить! Хорошо жить будем!
Ну что касается меня, то я жив, здоров. Живу хорошо. Правда, выпить охота. Ну, это пройдет. Пусть там Ваня чикалдыкнет и за меня. Валя, ты знаешь, мы с Шурой хорошо погуляли, когда я был дома. Поэтому я больше всего за ним соскучился. А остальных я видел давно, как будто забыл. Но это как будто. А на самом деле не то. Поздравляю тебя с 25-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни. Привет Ване.
Целую тебя, Зину».
Шура радует Илюшу: за успешные бои на кубанской земле, в предгорьях Кавказа, ему присвоили звание старшего лейтенанта. Хоть это радость, опора для души среди несчастий: пропали без вести Павлуша и Ваня, не пишут больше Вася и Филя. И еще одна беда, которую Илюша обходит в письмах, — немцы заняли Кубань, немцы уже на родном хуторе. Что с матерью? Что с Таней?
Еще одно коротенькое письмо. Вскоре Илюша будет участвовать в разгроме немцев под Сталинградом, на что он и намекает, поэтому сейчас ему не до длинных писем.
«Письмо ваше получил, за что очень благодарю. Меня интересует также, где наш Шура и почему он не отвечает. Я ему написал разом с твоим письмом и как видишь, ответа еще не получил. Живу я хорошо. Нитки попались крепкие и живот держится крепко, правда, внутренний шов разошелся, но это не имеет большого значения. А вообще мне все это ерунда. Я себя чувствую так же, как и до ранения.
Да, скоро будем давать фрицам перцу».
Судя по всему, давняя рана на животе так и не успевала зажить. Илюша опять выписывался из госпиталя, садился в танк, воевал. В танке в бою и из здорового человека вытрясает душу; незаживший шов, конечно, вскоре расходится. Подлечит он его в госпитале и опять «на работу», ведь шла Сталинградская битва.
А Саша сражался недалеко от дома. По прямой от Сталинграда до Кубани не так уж и далеко, письма Илюши и Саши должны были бы доходить быстро, но эта прямая дорога перерезана немцами. Каким кружным путем шла почта, почему не доходили письма, что могло случиться? Тянулись братья душой друг к другу, к дому, к матери, к родным, а в ответ молчание.
Оккупация
Война подходила к хутору. С характерным завыванием пролетали немецкие самолеты.
Начались разговоры об эвакуации: то — всем готовиться к отъезду, угонять свой и колхозный скот, разбить все машины и даже сжечь все колхозное и свое имущество, то, наоборот, — всем работать на своих местах, прекратить всякие паникерские разговоры.
Уходить из родных хат неизвестно куда никому не хотелось. До последней минуты все не верилось, что немцы придут сюда, на кубанские степные хутора. Слышали, как издеваются они над народом, над колхозными активистами, женами и матерями командиров Красной армии, да и бои, если начнутся здесь — это не шутка, но все же надеялись — не дойдут немцы, остановят их.
Своя судьба мало волновала Епистинью, что будет, то будет. Другие тревоги давили на сердце: молчал Филя, давно не было письма от Васи, с самого начала войны молчали Ваня и Павлуша.
Коротенькие, бодрые весточки приходили только от Илюши и Саши, писал Дуне Николай.
В июле через хутор потянулись стада коров, овец, лошадей — гнали из тех мест, куда немцы уже подошли. Коровы были измученные, давно не доенные и голодные, жалобно ревели, надрывая сердца хуторских женщин, молоко само стекало у коров с сосков в дорожную пыль.
Стали готовиться и на хуторе к эвакуации: разбирали машины, детали закапывали, разбивали, колхозное стадо тоже погнали на восток. А куда девать колхозных кур, свиней, кроликов? В полях стоял неубранный хлеб, зрела кукуруза, конопля, сахарная свекла. Перед самой войной Филипп раздобыл где-то семена дыни, и она вдруг в это лето удалась в колхозе, на удивление, крупная, сочная. Куда это все девать, что делать?
В начале августа события закрутились быстро и страшно, как во сне.
Через хутор, поднимая пыль, догоняя беженцев и стада коров, потянулись колонны наших отступавших солдат: усталых, потных, с темными хмурыми лицами. Шли торопливо, их подгоняли командиры: «Быстрей! Быстрей!..» Солдаты кричали из колонны: «Пить дайте, женщины!» Епистинья побежала за ведром с водой. Пили на ходу, не останавливаясь. Женщины заметили, что у многих молодых, только что мобилизованных солдат вместо винтовок были палки, вилы, некоторые колонны вступали на хутор с одной стороны, другие — с другого края и шли навстречу. Путаница, неразбериха.
В Тимашевке наши войска, отступая, взорвали элеватор, склады, железнодорожный мост и станцию, дым пожаров плыл над районной станицей.
Ревел скот, выли собаки, голосили женщины.
Прошел через родные места и четвертый казачий кавалерийский полк, сформированный из местных жителей, в котором служил и Николай; кое-кто из них даже сумел заскочить в родные хаты на хуторе, повидать родных. Один из таких заехал домой на минутку, да и остался; когда пришли немцы, стал служить полицаем, хотя и не зверствовал. Позже отсидел тринадцать лет, жив и сейчас.
Николай домой не заезжал. Служил он в казачьем полку ездовым орудийного расчета.
Затем на один день все стихло.
Утром на краю хутора появились немецкие мотоциклисты, остановились у взорванного моста. Кто-то по ним выстрелил из камыша, стеной стоявшего у Кирпилей, и немцы долго строчили из автоматов по камышовым зарослям. Не обнаружив более ничего опасного, мотоциклисты уехали. Вскоре подошла колонна немецких грузовиков с солдатами и прицепленными пушками, сделали мост и прошли дальше. Видно, основные силы немцев двигались по другой дороге, потому что через хутор прошло их немного, но и те, что прошли, успели пострелять по дворам кур и поросят.
И все зловеще затаилось.
Полевые армейские части немцев прошли вперед, но продвинулись не очень далеко, оккупационные власти еще не утвердились повсюду и вели себя не очень уверенно. Стояла какая-то часть, состоявшая из немцев и румын, в Тимашевской, откуда они делали набеги на хутора.
Колхоз на хуторе Первое мая немцы официально не распустили, а назначили старосту, который считался старостой колхоза. На полях осталось много неубранного хлеба, кукурузы, свеклы, и немцы с помощью старосты и полицаев требовали обмолачивать хлеб и сдавать новым властям в Тимашевку.
Как жить дальше, к чему надо быть готовым? Пока немцы здесь, надо быть готовым к худшему.
Жительница станицы Днепровской Мишкова Татьяна Павловна рассказала комиссии, расследовавшей злодеяния захватчиков:
«По части расстрелянных мирных жителей около могилы Речка мне известно следующее. Примерно в конце августа месяца 1942 года мы работали в поле в бригаде № 4. Я лично видела, как немцы привезли две автомашины, груженные мирными жителями станицы Тимашевской. И там же расстреляли и зарыли в силосные ямы. Мы слыхали выстрелы и крики. Я на второй день ходила с гражданкой Меркуловой Акулиной к месту, где расстреливали. И я там видела в яме в земле белую повязку и шинель серую. Гражданка Овчарова Галина около ямы нашла с мальчика фотографию. Там были порватые документы с паспортов и одна обложка с партбилета».
Грабежи, расстрелы, обыски, неожиданные набеги на хутора продолжались всю зиму.
Немцы рассчитывали создать на Кубани казачьи полки с помощью известных белых казачьих атаманов — Шкуро, Краснова и других. Но где они — казаки? Одних давно уже сослали на Север, другие служили в Красной армии, а те, что были, не торопились на службу к немцам.
В действиях оккупантов еще не было системы и порядка, все это должно было прийти позже, когда закончатся бои за Кавказ. Тогда можно будет приниматься за осуществление и здесь, на Кубани, чудовищного гитлеровского плана «Ост» — уничтожение и выселение за Урал десятков миллионов славян, «азиатов» и онемечивание захваченных земель.
Но бои шли не так уж далеко, немцам приходилось туго, они застряли, выдыхались, к тому же загрохотала Сталинградская битва. Разгром под Сталинградом грозил окружением немецким и румынским дивизиям на Северном Кавказе, на Кубани.
Поэтому оккупанты пока действовали нервно, беспорядочно и неуверенно. Но шла подготовка и к более четкой оккупационной политике. После освобождения Тимашевского района были обнаружены длинные списки лиц, подлежащих уничтожению, в списках этих стояло и имя Епистиньи.
А что другого могла она ждать от фашистов? Все знали: и староста, и полицаи, что семь ее сыновей находятся в Красной армии и четверо из них: Ваня, Илюша, Павлуша и Саша — офицеры.
Пока же надо было все-таки как-то жить. По ночам тихонько рыли в углах сараев, амбаров, в зарослях бурьяна, в огородах укрытия для себя и детей, рыли ямы, в которые сыпали тайком намолоченную на колхозных полях пшеницу или кукурузу, свеклу, картошку, закапывали документы, фотографии, вещи. Подростки, девчата бежали в укрытия при появлении на дороге к хутору немецких грузовиков — могли похватать и отправить в Германию. Молодые женщины одевались в старушечью одежду погрязнее, мазали лицо сажей, не причесывались. На неубранных полях расплодилось множество мышей.
Повис страх над беспомощными хуторами и станицами, ползли слухи.
Потянулись мрачные осенние и зимние месяцы оккупации, оборвалась всякая связь Епистиньи с сыновьями.
Голос Илюши
Илюша и Саша писали сестре в Алма-Ату. Письма туда доходили точней и быстрей, можно было узнать что-то о других братьях, о доме, о матери.
Самих братьев не жаловала военная судьба, а все-таки голос их в письмах такой же родной, добрый, теплый.
Илюша пишет в январе 1943 года:
«Валюша, опишу тебе о своей жизни. Сейчас я нахожусь в госпитале 2 Рязани на излечении, ранен 12 декабря, пулевое ранение шейной области. Касательное ранение, страшного ничего нету, временное отсутствие движения обеих рук, но благодаря лечению одна рука уже пришла в действие, надеюсь в скором будущем будет и другая работать и я смогу снова защищать любимую Родину. Дорогая Валюша, я сознаю, что тебе очень трудно, но ведь, родная, все надо перенести и со всем мириться. Родная Валюша, я тебя прошу: не обижайся за то письмо, что я тебе написал, ведь пойми мое положение: ни одного абсолютно не получал писем в то время когда скука и ежедневно я живу, а мне никто не пишет и я просто, как бы грубо выражаясь, со злости сел и написал письмо. Валичка, прошу прости и не обижайся, ибо жизнь так складывается, что мы должны жить только миром и любить друг друга как брат сестру. Валюша! Обо мне не волнуйся, я чувствую себя гораздо лучше, чем после ранения. Основное, береги свое здоровье и береги свою дочь, а настанет время, мы опять встретимся. Это будет тогда, когда уничтожим всех немецких негодяев.
Если узнаете о Шуре, пишите все».
Читаешь, перечитываешь — сколько доброты в строчках письма: лежит в госпитале после горячих сталинградских боев, ранен уже не в первый раз и — утешает сестру, находившуюся с мужем в глубоком тылу, винится перед ней. Ну а то, что у него обе руки не двигались — «страшного ничего нету».
После разгрома под Сталинградом германское командование утратило стратегическую инициативу. На Северном Кавказе немецкие войска оказались под угрозой окружения, это придало сил частям, где сражался и наш Мизинчик.
Голос Саши-Мизинчика
Саша воевал в нескольких десятках километров от дома: 1133-й стрелковый полк, в котором он был командиром взвода минометчиков, с боями отходил по Кубани к предгорьям Кавказа. Осенью 1942 года за успешно проведенные бои у железнодорожной станции Холмский на ветке, соединявшей Краснодар с Новороссийском, Саше присвоили звание старшего лейтенанта.
Шли бои в родных местах. Саша пишет с мест боев. Его письма хранят другую интонацию, чем Илюшины, написаны в другом душевном состоянии.
«Добрый день, Валя, Ваня и племянница Зина, — пишет Саша сестре в январе 1943 года почти в тот же день, что и Илюша. — Валя, почему от Илюши ничего не слышно, он вам пишет письма или нет? Сообщите. Я ему писал писем несколько на его письмо, но ответа нет, разве еще рано. Валя, а также и ты молчать, долго не отвечать; разве не интересуешься? То что я замолчу и не буду писать. Ты если бы знала фронтовую жизнь, то писала Валя, живу по-старому, дела проворачиваю прежние. Напиши, где Илюша, на том же месте или уехал вперед и далеко? Валя, пиши письма, привет всем, ваш брат Сашка ждет ответ.
Привет Илюше».
Чувствуется, что он ощущает себя младшим братом, хоть уже и старший лейтенант. Так хочется ему почаще слышать подбадривающие родные голоса, и похоже, что такой голос слышит он только от Илюши и к нему тянется особенно. Илюша не только брат, он старший друг.
Письмо короткое, потому что маловата стандартная фронтовая открытка с портретом Александра Невского в уголке.
Да, наверное, и некогда: в январе 1943 года началось наступление наших войск из предгорий Кавказа. Началось освобождение Кубани.
Вот письмо от Саши побольше, листок сложен треугольником.
«Здравствуй, Валя, Ваня и племянница Зина. Во-первых, хочу сообщить тебе о том, что я твои два письма и открытку получил, за что очень благодарю, а во-вторых, пиши письмо домой, я ожидаю уже ответ. Вот не сегодня завтра получу. Валя, как же так, ведь я не пойму, я на твои письма даю ответ, а вот послал одно письмо, в котором обижался за письмо, на это ответа не получил, вот почему я так и тебе и написал. Я на Илюшу обижаюсь, он мне прислал одно письмо, я был очень рад, послал ему три, а от него ни слуху ни духу.
Валя, ты интересный человек и спрашиваешь, где ты есть, кто же тебе напишет и чего добиваться бесполезно. Если знаешь, где живет Ольга Колот, то узнаешь, где я. Я там нахожусь, понятно? Вот еще могу сообщить то, что я от своего дома недалеко, км 100, вот так. Валя, если я мальчишка, то ты совсем меня не понимаешь, как брата, и не изучила меня, ты пишешь, почему я молчу о маме, неужели я не беспокоюсь о ней. Валя, если ты хочешь знать, то я тебе скажу так, по-дурному нечего совать ногами. Вот освободим нашу Родину, теперь надо стучать во все двери, и стучать так, чтоб они открылись, а не тогда ты мне будешь писать слезить, а я тебя, чего я не люблю и другим не желаю. Если раздуматься, так и ты скажешь, что действительно так.
Я пока жив, здоров, отдыхаю в госпитале, только не думай ничего плохого, дней на 3–4, а потом опять пойдем. Пока все.
Брат твой. Привет всем. Ответ жду. 5.3.43».
Итак, Саша тоже ранен, лежит в госпитале и тоже успокаивает, что он тут «отдыхает».
Ранен Саша был в боях у станицы Абинской, в которой жила Ольга Колот, «невенчанная» жена Вани. Немцев уже гнали с Кубани, уже можно писать домой матери.
Валентина упрекнула Сашу в письме, что вот он недалеко от дома, а о матери совсем не беспокоится. Саша на это сильно рассердился: сидя в Алма-Ате, сестра совсем не имеет представления о войне, о боях, окопах, смерти и крови, не понимает, что у Саши вся душа изболелась о матери — он же видел, что несет война на кубанские хутора и станицы.
Освобождение
С приходом немцев жить на хуторе стали словно бы украдкой. На улице показывались как можно меньше, особенно боялись выходить за пределы хутора, в поле, к речке — проезжавшие немцы, румыны или полицаи могли принять за партизан и открыть стрельбу. Боялись зимой рубить камыш на реке: шуршанье камыша и жиканье рубалки далеко разносятся в воздухе — увидят и услышат издалека, обстреляют. Топились зимой всем, что оказывалось под рукой: рубили деревья на участке, ломали изгороди, жгли все, что горело. Хаты стояли сиротливые, оголенные.
В хате Епистиньи зимой несколько недель жил комендант с адъютантом, хата приглянулась им чистотой и опрятностью. Хозяев вытеснили в уголок на кухне.
В обязанности коменданта, очевидно, входило поддерживать германский порядок на вверенной территории, но так как бои шли всю зиму в нескольких десятках километров, то он пока рвения не проявлял, держался неопределенно.
Однажды комендант даже бросил на пол конфету Жорику, как собачонке. Маленький Жорик обрадовался и потянулся было к добрым дядям, к их столу, но комендант пинком отбросил его от стола. Шура подхватила сына на руки, унесла и строго-настрого запретила вообще появляться при «дядях» из отведенного уголка.
Какие чувства вызывали у Епистиньи два этих немца, два врага из многих, с которыми сражались ее сыновья? Не будем гадать — мы не знаем. Незваные гости не вызывали у нее симпатии, но она варила им иногда борщ и, судя по всему, не опаляла их взглядом ненависти и не задумывала подсыпать в борщ яду. В некоторых публикациях о ней пишется, что Епистинья якобы ругала «царизм, белогвардейщину, фашизм». Непохоже это на нее: она не разбиралась в политике, хотела со всеми, не заискивая, установить добрые отношения. Она бы подписала крестиком, так как неграмотна, просьбу жены атамана о помиловании его, виновного в казни Саши-старшего, если бы ее не остановили. Не хотела она зла ни в каких отношениях. Она мать, она любила своих сынов, она хотела мирно работать на земле, нянчить внуков, исполнять вековое назначение женщины-матери, хранительницы очага… И эти два немца, вернее всего, вызывали у нее горькое недоумение — зачем пришли они сюда, почему хотят убить ее Илюшу или Сашу, Филю или Васю, почему сыновья должны убить этих немцев?
Недолго прожили в хате два немца, постоянно куда-то уезжая. Перед тем как уехать, удрать совсем, адъютант тихонько сказал Епистинье и Шуре: «Скоро придут ваши мужья…»
В феврале 1943 года через хутор потянулись группы отступавших в беспорядке немцев и румын.
Конец зимы на Кубани — малоприятное время года: холод и сырость, дует сильный промозглый, холодный ветер, гудят тополя, с неба сыплется то дождь, то мокрый снег, дороги превращаются в жирное густое месиво, стаскивающее с ног сапоги, буксуют и не идут машины, невероятно тяжело идти пешком.
Забредавшие на хутор остатки разбитых немецких и румынских частей грабили все подряд, требовали есть и стреляли за малейшее сопротивление. Это были озлобленные толпы мрачных вооруженных грабителей, на солдатах кишели вши, иные сметали их с мундиров веником. Немецкие и румынские солдаты враждовали между собой и одни другим не доверяли.
Отступавшие забирали последних лошадей, подводы, хватали первых попавших подростков, стариков и ставили в ездовые.
Толпы немцев и румын попытались было кое-где закрепиться, рыть окопы, но затем исчезли без боя.
Пришли наши. Тоже голодные, тоже усталые, тоже просили и требовали есть. А что осталось у хуторян? Немного свеклы да кукурузы, спрятанных в укромных местах. Все разорено, разграблено, разбито.
Но надо было жить дальше. Подходила весна, надо сеять хлеб, а в колхозе нет ни машин, ни лошадей. Пришлось запрягать коров, тех, что чудом сохранились в колхозе и кое у кого в своих дворах. Собирали по дворам зерно, которое осталось от спрятанного в ямах, на некоторых полях хлеб так и остался неубранным с прошлого года, осыпался и теперь прорастал, словно бы посеянный.
Сеяли и вручную и кое-какими отремонтированными сеялками. Одевались кто во что. Ладно, ничего, переживем, все отдадим фронту, только бы били врага, только бы гнали подальше.
Жили тогда особенно дружно, не озлоблялись, не замыкались, держались вместе. Горе было у всех. Если кто из баб получал похоронку, к ней приходили всей бригадой, все бабы, вместе с несчастной и плакали, вместе причитали. Затем бригадирка говорила: «Ладно, бабы. Плачь не плачь, а работать надо». И шли в поле. Да еще и запевали.
Саше — двадцать лет
Редко, ненадежно, но пошли на хутор Епистинье письма: от Саши, от Илюши. Из этого времени сохранились только Сашины письма.
После госпиталя Сашу направили в 9-ю механизированную бригаду 3-го гвардейского Сталинградского корпуса, назначили теперь уже командиром стрелковой роты.
«Здравствуйте, родители: мама и все остальные. Я вам пишу письма, но не знаю, доходят они или нет. Я вам шлю деньги, получаете или нет? Если получите, то напишите, получаете или нет. Мама, пишите, кто дома, кого нет, где брат Илюша, Коля, а также и все остальные. Если не знаете, то пишите, а если знаете кого-нибудь, то сообщите адрес их мне и мой им. Пока все. Живу хорошо, обо мне не обижайтесь. Я сейчас там, где Илюша был, где Шура жила, наверное, на ее родине, только не знаю, где она жила точно.
Но все. Шура, Дуня и все, берегите маму, пусть меньше работает та за топкой ходит.
Пока все. Ваш сын и брат Сашка».
Письмо это не первое, которое он написал домой после освобождения. Посылал он и деньги. Но его переводы, как и те, что посылал Илюша, домой не доходили.
Саша обращается в письме главным образом к матери, зная, что она постоянно думает о нем, как и он о ней, наказывает беречь мать, быстро повзрослевшим сознанием своим отметив, что ей, слава Богу, уже шестьдесят.
Указывает Саша и место, где он сейчас находится: «где Шура жила». Александра Моисеевна приехала из Воронежской области, где-то там и находилась 9-я механизированная бригада после успешных сталинградских боев.
Однажды пришел Епистинье казенный конверт, сильно напугавший всех домашних, в таких конвертах приходили только черные вести. Но вчитались, разобрались — письмо оказалось неожиданно радостным.
«Здравствуйте, дорогая мамаша!
Епистиния Федоровна, передаем горячий боевой привет. Разрешите поздравить Вас с Великим праздником 1 Мая и пожелать самых хороших успехов в жизни. Дорогая мамаша, сообщаю Вам о том, что Ваш сын Александр жив и здоров. Разрешите от лица службы Вам, дорогая мамаша, вынести искреннюю благодарность за то, что Вы воспитали замечательного своего сына, Героя Александра, нашего славного любимого воина Красной Армии, командира, старшего лейтенанта.
Ваш Александр вел себя в боях как патриот нашей страны, беспощадно громил врага, за это он награжден правительственной наградой — орденом «Красная Звезда». Прошу передать от нас боевой привет всем родным и знакомым Александра.
До свидания.
Командир подразделения: старший лейтенант Лисица».
Письмо Лисицы Епистинья восприняла как награду. Ведь до этого никто никогда не говорил ей вот так, официально, каких хороших сыновей она вырастила. И главное, кто-то почувствовал все ее тревоги за сыновей и вот поддержал добрым словом… В старости, когда внуки читали и перечитывали ей сохранившиеся письма сыновей, она просила прочитать ей и это письмо: «Видно, добрый человек этот Лисицын, нашел время, написал…»
Письмо Лисицы написано 24 апреля, а 25 апреля у Саши день рождения, ему исполнилось двадцать лет. 9-я гвардейская механизированная бригада после Сталинградского сражения стояла на отдыхе, пополняла свои ряды. Вот тут на досуге офицеры, видно, разговорились, расслабились, вспоминая мирную жизнь, дом, всех родных — все, ставшее таким желанным и таким далеким. А у Саши — юбилей! Он, наверное, рассказал, что шесть его братьев тоже воюют, а на далеком хуторке живет мать. И командир Лисица, добрая душа, подумал о матери — каково ей сейчас там жить, ждать вестей от семи сыновей с фронта, вот и захотелось ему поддержать ее, подбодрить, сказать доброе слово.
На хуторе
Как о чем-то невозможном мечтала Епистинья увидеть кого-нибудь из сыновей. Почему же выпало ей такое — семь сынов у нее, и все на войне, со всеми может всякое случиться, как случилось уже с Сашей-старшим, с Федей.
Письма Саши-Мизинчика, Илюши, Коли были очень уж короткие, приходили так редко. Она знала, чувствовала, что и сыновья тоскуют о ней, о хате, хуторе, обо всей их прежней жизни на Шкуропатском. Значит, трудно им сейчас приходится, если они с такой радостью вспоминают бедную их прежнюю жизнь… Но почему они не напишут побольше, как они там живут, что делают, опасно ли им воевать, может ли с ними что-нибудь случиться, берегут ли себя? Чем их кормят? Что они надевают зимой?
Не знала Епистинья, как не знали многие матери и жены в селах и деревнях, городах и городках, аулах и кишлаках, что приходилось переносить их сыновьям и мужьям.
Не может же Саша, Илюша или Коля писать на небольшом кусочке бумаги, который с трудом удастся найти, как они роют и роют окопы и ходы сообщения, строят блиндажи и дзоты, как отбивают атаки и атакуют сами, как убивают и убивают их товарищей, солдат и командиров, как они идут по разоренной, сожженной, разграбленной своей стране, видя расстрелянных, повешенных, прячущихся по лесам женщин, детей, стариков. Не могут задать мучающий всех вопрос: почему так все получилось?
По хуторам украдкой, прячась от начальства, ходили гадалки и цыганки, ворожили или угадывали судьбу близкого человека по картам. Говорили гадалки неопределенно, иносказательно: «дальняя дорога, путь извилистый, казенный дом, чужая сторона…» Недобрых судеб гадалки не предсказывали, не обещали и райские кущи, но оставляли надежду. Бабы вздыхали, плакали, слушая шепот гадалки, смотрели на нее просящими глазами — помоги как-нибудь силой своей бесовской!
Епистинья отводила душу вечерами, когда стихало все в хате и на хуторе. Спали Женя и Жорик, засыпала намаявшаяся в колхозе Шура, бледной точечкой горела перед иконой Богородицы лампадка. Глядя на слабо освещенный, скорбный лик Божьей Матери с младенцем на руке, молилась Епистинья, вела долгий привычный разговор с Богородицей:
«Пресвятая Дева Мария, Мать Господа нашего, Заступница наша! Услыши мою теплую молитву. Спаси и сохрани православных воинов наших!.. На Тебя вся моя надежда. Ты тоже мать, все понимаешь. Ты видишь — изболелась душа моя о сынах моих… Не дай погибнуть им! Спаси и сохрани Сашу, Павлушу, Илюшу — они еще дети малые, им жить да жить надо, детей заиметь… Спаси и сохрани Ваню, Филю, Васю, Колю! Ведь у них детки малые, как им без отцов жить, сиротами!.. Почему не шлют весточки так долго, молчат сыны мои?.. Они не погибли! Не допусти этого!.. Разве я сильно нагрешила?.. Не замышляла я ничего плохого никому — Ты это и сама знаешь. Заступись перед Господом за сынов. Не пожили они еще на белом свете! Отведи от них стрелы огненные!..»
Тихо-тихо становилось в хате, на хуторе, во всем белом свете. Тихо становилось на душе Епистиньи, немного успокаивалась она. За окном — поздняя ночь. Ложилась и Епистинья, вздыхая: что-то принесет завтрашний день.
Летом 1943 года к Епистинье зашел друг Павлуши по школе и педагогическому училищу Александр Томилко. Из-за слабого зрения он воевал в обозе, затем был комиссован.
Его поразил вид хутора: деревья вырублены, исчезли изгороди; хаты, обычно утопавшие в садах, в разгар цветущего лета стояли оголенными.
Епистинья издалека увидела подходившего к хате человека и пошла к нему. У нее уже укоренилась привычка: занимаясь делами в хате или на огороде, то и дело посматривать на улицу или прислушиваться, не идет ли кто из сыновей, не стучат ли чьи-то твердые шаги.
«У калитки встретились. Она смотрит: ну, что-нибудь известно? Нет. И ей, и мне, — рассказал позже Томилко. — Стоим, как сошлись: она с одной стороны, я — с другой.
Я ругал себя, что вот неосторожно прикоснулся к ее боли, пусть даже из самых добрых побуждений. Лучше бы не тревожить и без того изболевшуюся ее душу.
Оставлять ее в таком состоянии было бессердечно, а утешить… Чем? Я в который раз извинялся за беспокойство и хотел было уходить, но мама забеспокоилась, спохватилась, открыла калитку. Видя мою нерешительность, сказала: «Заходь».
Мы прошли по дорожке вдоль домика к выходной двери. Дверь так и выходила на улицу, ничем не защищенная, не было ни веранды, ни крылечка, ни хотя бы легкого козырька над ней. Не успели достроить — война. Дверь была открыта всем ветрам, дождям и непогодам.
Окна домика были без ставен, но изнутри чем-то плотно занавешены, так что в комнате в приоткрытую на миг дверь проглянула густая темнота — спасение от солнцепека и от назойливых мух.
Приоткрыв дверь, мама достала из темноты комнаты маленькую низенькую скамеечку (все у нее на своих местах, в порядке, бери с закрытыми глазами) и подала мне. Добыла оттуда же другую такую скамеечку (видать, хлопцы мастерили). Поставила обе скамеечки одну против другой у противоположных стеночек крохотных сенцев — тамбура с квадратиком земляного пола, аккуратно вымазанного «доливкой», размером не более полутора метров, и села, расправляя на коленях светленькое опрятное легкое платье.
Напротив сел я, еще не понимая зачем, но, судя по этой неторопливой обстоятельности подготовки, чувствовал: разговор предстоит волнующий.
Мама Павлика все разглаживала свое платье на коленях: то на одном колене, то на другом, волновалась и все никак, видимо, не решалась, с чего начать.
Но вот обе ее ладошки остановились, каждая на своем колене, она вздохнула и попросила: «Расскажи про Павлушу…»
«Так ведь… это…» — пробормотал я. Но мама легонько коснулась кончиками пальцев меня, дескать, знаю: нету ни у тебя, ни у меня ни письма, ни строчки, ни слова весточки ниоткуда о Павлуше. Нету! А Павлуша — есть.
«Расскажи», — повторила она еще раз так просто, будто мы с Павликом только вот расстались за околицей, и наготовилась слушать, устремив на меня взгляд. В глазах ее, глазах Матери: мольба, тоска, отчаяние, боль, усталость и… надежда, и ожидание, ожидание, ожидание. Ждет она детей, ждет вестей от них, ждет слова о них.
И я, еще неуверенный, начал рассказ о том, как в первый раз пришел к нам Павлик в Тимашевскую школу в пятый класс и восхищал многих своей выносливостью, силой воли, трудолюбием и настойчивостью в учебе: шагал в школу вместе с хуторскими более взрослыми ребятами и в метель, и в снежные заносы, и в лютый холод, и в непролазную грязь степного бездорожья. Все преодолел! Шесть-семь километров пешком до школы изо дня в день, а после уроков все хуторские ребята должны были этот путь преодолеть еще раз, возвращаясь домой. Так Павлик окончил семь классов, не только наравне, но даже лучше многих тех, кто жил под боком у школы, кто прибегал в нее налегке, хорошо отоспавшись, со свежими силами.
Рассказывал и о том, как любил Павлика наш учитель музыки в Брюховецком педучилище.
Мама слушала. Не перебивала. Не вмешивалась. Ни о чем не спрашивала, только согласно иногда кивнет разок-другой, легонько так, чуть заметно, подбодрит и — молчит, пока я говорю. Только когда нить моего рассказа вдруг оборвется и я умолкну, припоминая что-то, она вставит свое коротенькое «так-так», легонькое, как ее кивок, — будто узелком свяжет кончики оборвавшейся моей мысли, заполнит неловкую мою заминку-паузу, выручит и снова слушает, то вздыхая, когда Павлуше ее приходится туго, то, гордая сыном, обронит: «Такой он и есть, такой и есть».
Обронит, чтоб не мешать рассказу. Легко, как лепестки цветов яблони, слетят эти ее слова, опустятся на поверхность ручейка рассказа и поплывут вместе.
Это был рассказ о юности Павла, юности его поколения, когда немногие были избалованы достатком, рассказ о юности нечасто сытой, в заштопках, в заплатках, но такой звонкой песнями, жизнерадостной, жизнелюбивой. Такая юность была у всех братьев Степановых.
Все рассказанное о Павлике маме было неново, многое было давно и хорошо известно. Но именно такой Павлуша, близкий, родной, понятный, о котором она много думала-передумала, и был особенно дорог Матери.
Хотя рассказ шел о былом, о прошлом Павлика, мама его ни разу не употребила безысходное «был». Проводив меня до калитки, она на прощанье еще раз повторила: «Такый вин и е. Такый и е».
Гибель Илюши
В музее на хуторе есть открытка, адресованная в «колхоз 1 Мая Степанову Н. М.», то есть Николаю, от 21 июля 1943 года.
«Дорогой тов. Степанов.
На днях мы вышлем Вашей матери официальное извещение о героической смерти Ильи Михайловича Степанова, погибшего 14 июля 1943 года, в бою с немецко-фашистскими извергами.
Письма, которые получены на имя Ильи Михайловича здесь от его родных, мы отсылаем обратно.
Ваш брат похоронен 14 июля 43 г. в северной окраине дер. Мелехово Орловской области.
Командир части 29404-6 полевой почты
21.7.43 г.
М. Щедогубов».
Почему открытка адресована Николаю, который сам был на фронте? Почему официальное извещение из части так и не пришло, не пришли и письма, полученные Илюшей от родных, а получено было в сентябре извещение из своего Тимашевского райвоенкомата?
Весточка об Илюше в архивах Подольска. Приказ по 70-й танковой бригаде от 1 мая 1943 года № 088 гласит: «Прибывший по излечении из госпиталя бывший адъютант штаба 262-го танкового батальона, старший лейтенант Степанов Илья Михайлович назначается командиром роты управления».
В приказе от 20 июня 1943 года сообщается, что среди других Илюше присвоено очередное воинское звание — капитан.
70-я танковая бригада в составе танкового корпуса в ночь на 23 марта 1943 года была выведена из боев в резерв Западного фронта. Сосредоточена была в районе деревни Брынцы, в семи километрах от Сухиничей, где до 10 июля 1943 года доукомплектовывалась и занималась боевой подготовкой.
Начиналась знаменитая Курская битва.
После разгрома под Сталинградом немецкое командование стремилось вернуть себе стратегическую инициативу в войне и вкладывало в сражение под Курском много сил и надежд.
70-я танковая бригада входила в 11-ю гвардейскую армию.
Маршал Иван Христофорович Баграмян, в то время командовавший 11-й армией, сообщает, что перед армией была поставлена задача прорвать оборону, выйти в район Волхова и разгромить совместно с 61-й армией болховскую группировку.
«Времени на подготовку операции было около 20 дней. Мы впервые в летнее время готовили крупную наступательную операцию с прорывом обороны, которая создавалась противником очень долго…
Участок от реки Жиздра до линии Медынцево, Ульянове, Дебри, глубиной 16–18 км, представлял собой открытую, непрерывно повышающуюся к югу местность, пересеченную большим количеством оврагов, лощин и высот, что обеспечивало противнику преимущество в выборе позиций и наблюдательных пунктов.
Противник отлично использовал все выгоды местности. Свою оборону в междуречье рек Рессета и Вытебеть он готовил более 10 месяцев.
Имевшиеся в составе армии средства вполне обеспечивали прорыв обороны противника на всю тактическую глубину.
Но мы понимали и трудность нашего положения, состоящую в том, что армия должна была самостоятельно прорывать довольно сильную оборону противника и одна развивать успех для достижения цели операции…»
Итак, 70-я танковая бригада, где находился Илюша, готовилась к жестоким наступательным боям, где танкам действовать трудно, неудобно, невыгодно.
Сотрудникам музея удалось найти в Ульяновском районе Калужской области женщину, Прасковью Васильевну Дееву, которая помнила Илюшу. Она сразу узнала его на фотографии, рассказала, что удалось вспомнить, о том времени.
«Я была эвакуирована в деревню Кутьково Ульяновского района. Там стояла танковая бригада, где мы и познакомились с Ильей Степановым. Ребята стояли в Кутькове месяца три. Мы все были молодые, дружили. У Ильи волосы были русые, стриженые, глаза карие, лицо белое, круглое, был полный, красивый, среднего роста, крепкого телосложения, плечистый.
Характер у него был веселый. Один он никогда не ходил, всегда его окружали товарищи, он всегда что-то рассказывал — все смеялись. Бывало, идут ребята, а Илья еще издали кричит: «Девчата, идемте в кино! Сегодня «Чапаев» идет». После кино мы с ним пошли домой, и он запел: «Командир герой Чапаев был все время впереди», а солдаты все ему подпевали. А потом он запел песню «Три танкиста». Он был хорошим запевалой. Часто танкисты ходили строем. Голос Ильи, как запевалы, был слышен далеко.
В начале июля 1943 года он пришел к нам и сказал: «Девчата, сегодня мы идем в наступление. Будем бить врага беспощадно, будем гнать его со своей русской земли. Ну и дадим же мы ему прикурить!»
Илья был очень находчивый. Когда он говорил, все смеялись. Веселый был парень.
«Иду я в бой, Паша. Если буду жив, сообщу», — сказал он на прощанье.
Подарил на прощанье две иголки, больше подарить ему было нечего…»
У Валентины сохранилось последнее письмо Илюши.
«Здравствуй, Валя!
Пишу письмо перед боем. Конечно, буду жив — напишу. Если ты имеешь связь с Шурой, то передавай ему горячий привет от меня и самых хороших пожеланий, если он учится, в бою, если он сражается на фронтах. Жаль, что он так и не написал мне письма
Где он? Вот и все, Валя.
Пока до свидания.
Крепко целую. Твой брат Илья Степанов.
Если что, обращайся в часть по адресу».
Не доходят, не доходят письма братьев друг другу. Один то и дело спрашивает: «Где Илюша?» Другой в каждом письме: «Где Шура?»
Последние живые слова Илюши. Дальше загрохотали бои. Шла Курская битва.
В Подольском архиве есть «Отчет о боевых действиях» 70-й танковой бригады. Вот и роковой для Илюши день 14 июля. Бригада столкнулась с хорошо организованной обороной противника, о которой писал Баграмян.
«14.07.43 г. в 1.00 час бригада получила приказ командира корпуса действовать в направлении Мелехово, Ягодная, Дворики, захватить переправу через реку Вытебеть в районе Ягодная, выйти в район Дворики. В 1 час 30 минут частями бригада выступила в направлении действия бригады. Противник в районе Мелехова организовал оборону и наступающие танки встретил организованным огнем. В строениях Мелехова засели группы автоматчиков, которые действовали против нашей пехоты.
Бригада после короткого боя за переправу на реке Полянка овладела северной частью Мелехова и по выходе на южную окраину была встречена сильным артогнем противника из района кустов и опушки леса из-за реки Вытебеть.
Части бригады после попытки пройти по дороге на Торицы, потеряв часть танков, обошли справа лощиной и к 17.00 вышли на южную окраину Торицы. Овладеть переправой через реку Вытебеть к Ягодная после двух попыток не удалось. Части бригады были сосредоточены в районе Торицы для приведения в порядок материальной части и дозаправки ГСМ и боеприпасами. Одновременно была организована разведка реки с задачей отыскать броды для переправы танков.
В течение ночи разведка отыскивала переправы через реку и вела разведку противоположного берега.
Потери за 14.07.43: танков Т-34 сгорело — 10, подбито — 5, застряло в реке — 1, танков Т-70 сгорело — 2, подбит — 1. танков Т-60 — сгорел 1.
Потери личного состава: убито 27 человек, ранено 32 человека.
Уничтожено у противника: 743 солдата и офицера, 58 лошадей, 103 винтовки, 29 пулеметов, 24 орудия, 10 танков, 4 легковые машины, 20 грузовых, 2 мотоцикла. Захвачено 27 пленных, 3 винтовки, 2 пулемета, 2 орудия, 1 легковая автомашина, 3 грузовых, 2 спецмашины.
После неудачи захватить переправу в районе Ягодная бригада переправилась по разведанному броду восточнее Торицы и к 13.00 вышла в район Ягодная с северо-востока. Противник после короткого боя отступил из Ягодной в направлении Дворики…»
Вела бои 70-я танковая бригада, сражалась 11-я армия, продолжалась Курская битва. Победив в ней, наша армия обеспечила коренной перелом в ходе войны в свою пользу. Шла война, а Илюши уже не было. Через два дня, 16 июля, ему исполнилось бы двадцать шесть лет.
В «Именном списке безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 70-й танковой бригады 5-го танкового корпуса с 12.7 по 3.8.43 г.» записано:
«3. Степанов Илья Михайлович, капитан, командир роты управления, беспартийный, 1917 г., кадровый, убит 14.7.1943 г. при бомбежке д. Мелехово Ульяновского района Орловской области. Похоронен в могиле оврага 1,5 км северо-западнее д. Мелехово Ульяновского р-на Орловской области. Имя, отчество и фамилия, адрес жены или родителей: Краснодарский край, Тимашевский р-н, колхоз 1 Мая. Мать Степанова Епистиния Федоровна.
Начальник штаба майор Фроленков».
Теперь кое-что становится понятно.
Очевидно, Илюша, зная, что предстоят тяжелые бои, попросил друзей-командиров в случае его гибели не посылать извещение сразу матери. Он, видимо, дал на такой случай адрес Николая, зная, что его Дуня, получив сообщение, прибежит к Шуре, и они вдвоем подготовят мать к скорбной вести.
Но шли бои. Друзья Илюши могли погибнуть сами или попасть в госпиталь, могло извещение и затеряться, ведь немцы постоянно бомбили железные дороги.
Конечно, получив эту открытку, Дуня сказала Шуре, но ничего они пока говорить Епистинье не стали. Стали ждать официального извещения, а в сентябре обратились в военкомат, который навел справки и прислал извещение о гибели Илюши.
Это было первое с начала войны извещение Епистинье о том, что ее сын погиб. Павлуша, Ваня, Вася, Филя «пропали без вести». Значит, оставалась надежда. Мало ли что могло быть, говорили ей знающие люди, получившие такие же сообщения: может, воюет в партизанском отряде, может, где-то пока скрывается, ждет, пока придут наши, может, находится в плену. Но не погиб ведь. Есть надежда.
А тут пришла похоронка, не оставлявшая надежд. Епистинья, обычно тихая, молчаливо носившая в душе свои тревоги и надежды, заголосила, зарыдала, закричала: «Илюшенька, родненький! Сыночек ты мой золотой! Да неужели я тебя больше не увижу! Неужели ты никогда не придешь домой!.. Господи, Господи! Да за что нам такое наказание!.. О-ой, Илюшенька!.. Родненький!..»
Епистинью уговаривали, успокаивали, поили водой и чем-то успокоительным. Ничего не помогало. Она сползала со стула на пол, вырывалась из рук, кого-то искала глазами среди окруживших ее, тоже плачущих баб.
Сообщили Тане на соседний хутор. Таня тоже получила коротенькое письмо Илюши, написанное перед боем, где он сообщал: «Буду жив, сразу напишу. Береги дочурку…»
Несколько лет назад Татьяна Михайловна Сердюк ездила на место последнего боя и гибели Илюши. Все погибшие, чьи одиночные могилки находились у деревни Мелехово, были к этому времени перезахоронены в братскую могилу в селе Афанасово Ульяновского района. Район входил теперь уже в Калужскую область.
Приехали фронтовики, воевавшие в этих местах, родственники погибших. Они расспрашивали фронтовиков, может, те помнят такого-то и такого-то, просили рассказать хотя бы, как погибали солдаты, как хоронили их «с отданием воинских почестей».
Старенький отставной полковник, который страшно разволновался, когда только приехал и увидел эти места, говорил, задыхаясь: «Женщины! Да вы не представляете!.. Какие почести! Тут же страшные бои! Бомбы, снаряды!.. Не то что от человека, от машины, от танка ничего не оставалось!..» Слезы душили его, он хватался за горло, махал руками, и Татьяна Михайловна боялась, как бы с ним чего не случилось.
Постояла Татьяна Михайловна у братской могилы, где в списке есть и имя Илюши. За могилой ухаживают школьники села Афанасова.
Затем был митинг, выступали фронтовики, старые партизаны. Стоя в толпе среди местных женщин, Татьяна Михайловна слышала, как одна из старушек сказала: «Партизанам теперь слава. Они придут из леса, взорвут чего-нибудь, постреляют немцев и опять в лес. А немцы сгоняют со всех деревень баб, ребятишек, стариков, заставляют рыть могилы и расстреливают. Партизанам-то слава, а бабам пулю в спину…»
Немцы много расстреляли здесь мирных жителей в отместку за действия партизан. В одном только селе Веснины расстреляли 250 человек, среди которых было 40 детей.
Татьяна Михайловна попыталась найти Прасковью Васильевну Дееву, которая знала и помнила Илюшу, которой он подарил две иголки. К сожалению, ее не оказалось дома, а времени ждать уже не оставалось. Встретиться с Прасковьей Васильевной не удалось.
Гибель Мизинчика
9 сентября 1943 года Саша написал в Алма-Ату одновременно два письма:
«Здравствуй, Илюша!
Где ты, что я уже сколько времени не получаю от тебя и ты от меня, в общем, у нас так получается. Я решил послать Вале, а она перешлет тебе. Илюша, я еще жив, здоров, воюем потихоньку. Илюша, как ты живешь, где находишься, чем занимаешься, как у тебя дела с ранами? Я слыхал, что ты другой раз поехал в госпиталь.
Илюша, писем я из дому и вообще ни от кого не получаю, потому что менялся адрес.
Илюша, пиши, как твое здоровье. Я пока еще не был в сан. части нигде.
Но желательно не быть там никому.
Илюша, мой адрес:
Полевая почта 28368 «И».
Пока, Илюша, все. Противника гоним, уже и ноги болят, а вот сейчас решил написать всем письма. Но все, Илюша. Пиши ответ. Я жду. Твой брат Сашка. 9/9—43 г.».
«Здравствуйте, Валя, Ваня и Зина!
Сообщаю о том, что я жив, здоров. В моей жизни происшествий не произошло. Извините меня за письма, которые не писал, а сейчас пишу. Пока все. Пишите, как живете, чем занимаетесь.
Твой брат Сашка.
Пиши письма, я уже не получал их с апреля от вас всех.
Письмо перешли Илюши от меня.
Пока все».
Сколько любви и нежности у Саши к брату Илюше! Вроде бы ничего такого Саша и не написал брату. Но так много говорит это короткое, такое сердечное письмо.
В этом же месяце, в сентябре, Саша пишет еще по письму сестре и домой. Эти коротенькие, торопливые его письма оказались последними.
Сестре в Алма-Ату:
«Здравствуйте, родные!
Сообщаю о том, что я жив и здоров. Новостей никаких нет. Но могу сказать, что я дошел до того места, где учился Павлуша, мой брат, ясно? Валя, пиши, какие новости, чем занимаетесь, где Ваня? Как муж, дочка как? Наверно, брешет на полный ход. Но ничего. Будьте здоровы, живите богато, а мы закончим, тогда приедем, если будет счастье. Пока все. Твой брат Сашка».
Саша намекает, что он находится уже в районе Киева. Крутой правый берег Днепра был сильно укреплен немцами, которые рассчитывали остановить общее наступление наших войск. Предстояло форсировать Днепр, вот и вырвалось у сдержанного Саши: «…Приедем, если будет счастье».
Коротенькое письмо домой. Видно, подвернулась какая-то оказия:
«Здравствуй, семья!
Сообщаю вам о том, что я жив, здоров, чего и вам желаю. Мама, писем от вас я не получаю. Очевидно, скоро получу, если вы не забыли меня. Пишите обо всем, о всех новостях, которые я буду ожидать.
Ваш сын».
Дома получили это торопливое письмецо. Епистинья порадовалась, что жив младшенький, жив Сашенька. Письмо пришло где-то в конце октября. Саше написали ответ, сообщили «все новости». Нерадостные, но все же вполне житейские, будничные новости хутора и колхоза затмила гибель Илюши. Но узнать об этом Саше было не суждено. Шли письма Саше от матери из дома и от сестры из Алма-Аты, приходили письма многим другим бойцам его стрелковой роты, но получать их было уже некому.
В декабре 1943 года пришло Епистинье письмо в казенном конверте, написанное незнакомым почерком. Читаешь его сейчас и чувствуешь, что оно будто еще пахнет порохом, и строчки его напоминают боевое донесение.
«30 ноября 1943 г.
Матери Степановой Епистинии Федоровне.
Сообщаю, что Ваш сын гвардии старший лейтенант Степанов Александр Михайлович, пребывая в воинской части полевая почта 28368, показал себя как храбрый, отважный и смелый офицер.
В боевых действиях, проведенных частью, умело и храбро командовал своим подразделением в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Исключительно отличился в боях на правом берегу р. Днепр, где сам непосредственно принимал участие в отражении ожесточенных контратак противника, несмотря на беспрерывные огневые налеты артиллерии, минометов и бомбардировки авиации противника.
Первым форсировал р. Днепр и ворвался со своим подразделением в с. Селище Киевской области, где и пал смертью храбрых.
Советское правительство, высоко оценив боевые заслуги и подвиги перед Родиной тов. Степанова Александра Михайловича, наградило посмертно самой высшей правительственной наградой — званием Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда (Указ Президиума Верховного Совета от 25 октября 1943 года).
Вся наша часть помнит его боевые подвиги и во главе со своими офицерами готовы отдать жизнь в уничтожении немецко-фашистских оккупантов — за Советскую Родину и за Вашего сына.
Вечная слава ему.
Командир воинской части п/п 28368 гвардии полковник Горячев».
Видеть, как рыдает, как бьется в горе Епистинья, родственникам и соседям было жутко. Она всегда была доброжелательной, ровной, всегда выслушивала всех и находила слова утешения, она, не жалуясь, несла всю тревогу, все черные мысли о молчавших, где-то запропастившихся на войне сыновьях. Она жила надеждой, жила верой, что они живы, что вот кончится война и они отзовутся, придут.
Она бы ждала Илюшу, она ждала бы Сашу, прислушивалась к шагам, смотрела бы в окно на проходивших мимо хаты людей, особенно вглядывалась бы в людей в военной форме. Она бы каждый день молила Бога вернуть сынов домой, жила бы мечтами и верой. Но похоронки отнимали даже надежду.
«Сашенька, родненький!.. Ты ведь совсем еще маленький! На коленях моих еще сидел — не насиделся!.. Как же ты не уберег себя! Ой, Сашенька!..»
В рыданиях Епистиньи рвалась к людям боль исстрадавшейся души. В глаза ее, которыми она обводила собравшихся, суетившихся баб, страшно было смотреть. Она не хотела, чтоб ее успокаивали, чтоб говорили то, что нисколько не утешало.
Лишь видя, как пугаются маленькие Жорик и Женя, как беспомощно переглядываются бабы, Епистинья брала себя в руки.
Но, когда оказывалась одна, силы оставляли ее, душу и сердце опять разрывала невозможная боль: нет больше и не будет никогда Илюши и Мизинчика! Их убили, они не придут! Она их никогда не увидит!..
Что делать с этой болью? Словно душу сдавил кто-то в черном кулаке, который удавалось разжать чуть-чуть, но ненадолго. Вскоре, днем или ночью, кулак еще сильнее сдавливал душу. Ужасало предчувствие, что судьба, кажется, подготовила ей что-то невиданное по жестокости.
Она пошла однажды в покрытую снегом степь за камышом для топки. Рубила камыш и вдруг вспомнила, как заботливо писал Саша, беспокоился о ней: «Шура, Дуня и все, берегите маму, пусть меньше работает та за топкой ходит…» Епистинья склонилась на охапку камыша и здесь, в белой степи, вдали от хутора, от людей, лежа на жестком камыше, зарыдала, заголосила, не сдерживаясь: «Сашенька-а!.. Илюшенька-а!..»
От слез, от рыданий и причитаний она обессилела. Но боль притупилась, черный кулак немного разжался…
Теперь, как только начинала сдавливать грудь невыносимая боль и рвался крик, Епистинья шла в степь за камышом и здесь, в пустой, заснеженной степи, выплакивала, выкрикивала свою боль, черное свое горе.
Как же счастье изменило Мизинчику?
В конце апреля 1943 года после легкого ранения и короткого лечения в госпитале Сашу направили в 9-ю гвардейскую механизированную бригаду, входившую в 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус. После успешных боев под Сталинградом корпус стоял в Воронежской области, где проходило пополнение личного состава и учеба. Саша писал домой, что он находится там, «где Шура жила», то есть в Воронежской области, и живет «как у бога за дверьми».
Но недолго продолжалась такая жизнь. Согласно «Журналу боевых действий» корпуса 11 июля 1943 года он перешел в оперативное подчинение Воронежского фронта и двинулся в район боевых действий в Сумскую область.
«25.8.43 г. корпус сломил сопротивление противника в районе Чупаховки, перешел в решительное наступление, преследуя противника по пятам. В то же время из материалов разведки и опросов захваченных пленных офицеров противника было установлено существование приказа ставки верховного главнокомандования германской армии, который гласил: «Во что бы то ни стало разгромить и физически уничтожить 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус». С этой целью немцы бросили в район боевых действий корпуса массу авиации, которая совершала в среднем 600–700 самолетовылетов в день. В районе Чупаховки немецкие изверги произвели чудовищные издевательства над захваченными тяжело раненными бойцами корпуса».
Захваченных раненых бойцов немцы бросали в горящие дома, вырезали на спинах звезды.
Но остановить наступление корпуса противнику не удавалось. «Немцев бьем, как сами слышите», — пишет Саша домой. «Противника гоним, уже и ноги болят», — сообщает он в письме Илюше, посланном в Алма-Ату. Это сентябрьские письма 1943 года.
Как вспоминает маршал Г. К. Жуков, наше главнокомандование требовало: «…принять все меры к быстрейшему захвату Днепра и реки Молочной, с тем чтобы противник не успел превратить Донбасс и Левобережную Украину в пустынный район.
Это было правильное требование, так как гитлеровцы, отступая, в звериной злобе предавали все ценное огню и разрушениям. Они взрывали фабрики, заводы, превращали в руины города и села, уничтожали электростанции, доменные и мартеновские печи, жгли школы, больницы. Гибли тысячи детей, женщин, стариков».
27 сентября 1943 года бойцы 9-й механизированной бригады вышли на левый берег Днепра. «Я дошел до того места, где учился Павлуша, мой брат, ясно?» — пишет Саша сестре.
Большие надежды возлагала ставка германской армии на Днепр, рассчитывая остановить здесь наступление нашей армии. Линию обороны, в которую входил Днепр, гитлеровцы называли «восточным валом», о который непременно разобьется Красная армия. Крутой правый берег Днепра был сильно укреплен немцами на большую глубину, вода в Днепре уже была холодной, кончался сентябрь. Льда еще не было.
Форсирование Днепра началось с ходу, без подготовки: Сталину хотелось взять Киев непременно к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции.
Части механизированной бригады, где служил Саша, получили задачу форсировать Днепр в районе Канева. В ночь на 30 сентября на рыбацких лодках, плотах, понтонах бойцы под огнем форсировали Днепр и заняли плацдарм на правом берегу. Среди бойцов был и Саша со своей стрелковой ротой. Немцы бросили на них крупные силы автоматчиков при поддержке танков, самолеты непрерывно бомбили с воздуха, вела огонь артиллерия. Немцы всеми силами хотели сбросить десант в Днепр.
Вот запись в «Отчете о боевых действиях» бригады о том дне, когда погиб Саша:
«2.10.43 г. противник 13 раз бросал свои отборные СС части в контратаки: танки «тигр», огнеметы, самоходные пушки «фердинанд», пьяных автоматчиков, огневые налеты артиллерии и минометов, до 200 самолетовылетов с бомбовым грузом. Все это было сброшено против наших частей, но гвардейцы-сталинградцы геройски сражались, отбивая контратаки противника, выстояли против натиска, геройски умирая в неравной борьбе, но не отошли.
В течение с 3 по 11.10.43 г. части бригады, прочно удерживая занятый плацдарм на правом берегу р. Днепр, артиллерийско-минометным огнем уничтожали огневые точки противника, отбивая ожесточенные контратаки противника, переходившие в рукопашные схватки».
О последних минутах жизни Саши не мог уже рассказать никто из бойцов его роты, все они погибли. Картину происшедшего восстановили немного позже, когда снова отбили этот участок обороны у немцев.
Но удалось найти человека, который видел Сашу в его последние дни, сражался вместе с ним в одном десанте. Это Михаил Евсеевич Сигало. Он рассказал:
«23 сентября 1943 года с большого острова на Днепре напротив села Селище была организована переправа через Днепр. Немцы в этом районе не ждали переправы, так как сторожевое охранение было снято группой наших разведчиков под командованием начальника разведки бригады капитана Буенко (награжден посмертно Золотой Звездой Героя).
Я тогда командовал группой артиллеристов — истребителей танков. Мой командный пункт был расположен недалеко от расположения роты автоматчиков, которыми командовал старший лейтенант Степанов Александр, очень молодой по возрасту, но волевой, смелый, крепкого сложения. Степанов пользовался огромным авторитетом у сослуживцев, командования и всех тех, кто был с ним знаком.
Участок, который занимала рота Степанова, был одним из самых ответственных. Под прикрытием массированного огня с левого берега наши десантные группы заняли первые траншеи фашистов и стали закрепляться в них».
Тут хочется перебить рассказчика, чтобы особо обратить внимание на следующий факт, который он сообщает дальше:
«Наше главное командование создало видимость, что этот район является главным местом переправы, и поэтому последовал строжайший приказ Гитлера о том, чтобы нашу группировку ликвидировать в кратчайшие сроки. (Это мы узнали при допросе пленных офицеров.)
Познакомился я с Сашей Степановым где-то 28 или 29 сентября, когда еще не начиналось лихорадочное контрнаступление врага. Мы получили распоряжение переправиться на левый берег (на остров) для получения партийных документов (кандидатских карточек).
Заявления наши были поданы до переправы. Ночью под прикрытием темноты мы переправились (несколько человек) на лодке. Днепр освещался непрерывно ракетами и обстреливался методически минометами и артиллерией. Получив документы, мы на следующий день вернулись на правый берег».
Последнее письмо Саши домой написано 30 сентября. Видно, когда получал на острове кандидатскую карточку, Саша успел написать коротенькое письмецо матери.
«Первого октября начались дни, которые никак не забыть всю жизнь. Сплошной огонь, не было места, которого не достигали бы осколки мин и снарядов. Фашисты предпринимали по 10–12 атак ежедневно. В бой бросили пьяных штрафников, бендеровцев, эсэсовцев. На участке, где находилась рота Степанова, больше всего было попыток прорыва, но стойко дрались гвардейцы во главе со своим командиром.
2 октября с раннего утра немцы уже бросили большую группу пьяных офицеров на участке Степанова. Из роты остались считаные бойцы. Трижды атака была отбита (наступал почти батальон!). Из пушек стрелять прямой наводкой не было возможности из-за специфики местности. Четвертую атаку уже некому было отражать, очень мало осталось бойцов. Все ранены, в том числе и Степанов. Когда фашисты ворвались на позиции роты, вдруг мы услыхали страшный взрыв — это Саша Степанов и двое его бойцов забросали противотанковыми гранатами прорывавшихся фашистов. После этого наступило страшное затишье. Когда мы на командном пункте пришли в себя, то уже все было кончено. Вокруг горстки наших героев валялись трупы фашистов, остальные бросились назад. Этот участок был укреплен, но молодого жизнерадостного Саши уже не было. Он был захоронен на берегу Днепра, недалеко от того места, где совершил свой подвиг (Тальбергова дача)».
Выходит, главная задача десанта, в который входила рота Саши, была «создать видимость» штурма, как можно больше нашуметь, как можно больше привлечь, оттянуть на себя сил немцев: самолетов, танков, артиллерии, резервов, чтобы под этот шум наши части начали форсирование Днепра основными силами в другом, ослабленном месте. Прием удался, но от первых участников десанта мало кто остался в живых.
Погиб и Саша.
29 октября поредевшая бригада передала свой участок свежей дивизии и отошла в тыл под Курск для отдыха и пополнения. Вот почему и сообщение Епистинье о гибели Саши послано лишь 30 ноября.
Весть о Васе
Уходя подальше за хутор или прячась в сарае от ребятишек и соседок, чтоб хоть немного выплакать боль, Епистинья подбадривала, оживляла себя надеждой. Конечно, надежда на то, что живы Илюша и Саша, была маленькая, но она и за нее держалась: мало ли что пришли какие-то бумажки: может, сыновья сильно ранены, но еще живы, а их по ошибке записали в убитые… Побольше надежд было на других сыновей: Николай, хоть и очень редко, но писал Дуне, передавал приветы матери, Павлуша, Ваня, Филя и Вася молчали, но ведь про них и не сообщили, что их больше нет. Значит, они живы.
Ночами Епистинья стояла перед иконой Божьей Матери. Страдающим, обожженным сердцем своим обращалась к Богородице, к Всевышнему с немой мольбой-вопрошанием: это ведь неправда, что нет больше Илюши, нет больше Сашеньки? Они не погибли! Живы и Филя с Васей, и Коля с Павлушей, жив и Ваня! Они пока воюют, им просто пока не до матери. Но они скоро напишут, они, конечно, вернутся домой! Убереги их в поле снежном, в лесу густом, убереги от пули, от врага! Спаси бедствующих детей моих, спаси всех воинов наших!
Укреплялась надежда, отпускал холодный, черный кулак, сдавливавший сердце. На все мольбы, вопрошания о судьбе сынов сердцу передавался теплый, обнадеживающий наказ: молись, верь, надейся и жди.
Редко-редко, но приходили на хутора колхоза солдаты с войны: одни долечиваться после ранения, другие — совсем, без руки, без ноги. Епистинья думала и об этом: пусть раненые, пусть хоть какие, только бы пришли.
Потянулся 1944 год. Наши войска наступали: освобождены Украина, Белоруссия, кончилась оккупация, схлынула фашистская нечисть. Открывавшаяся после оккупантов жизнь городов и деревень, жизнь и судьбы людей ужасали даже много повидавших наших солдат.
Эта жизнь принесла Епистинье новые страдания.
«Зачем мне присылают эти бумажки, я бы ждала сынов…» Но «бумажки» шли.
Летом жене Василия Вере в село Мадинино пришло письмо из Никопольского района Днепропетровской области от учительницы Марии Присохи. Отыскался след Васи, потерянный в Крыму. Мария сообщала, что она знала Василия по партизанской и подпольной борьбе в Никопольском районе и что в конце 1943 года Василия схватили немцы и расстреляли.
Это письмо, к сожалению, не сохранилось. Есть ее второе письмо от 20 августа.
«Здравствуйте, Вера Ивановна!
Выполняю обещание. Хотела описать за весь период времени нахождения Василия Михайловича в нашем районе. Написала письмо в ту деревню, где раньше находился Василий Михайлович. Но оттуда почему-то ответа нет, и я решила описать хоть последние дни его жизни.
Вера Ивановна, ваш муж, преданный воин Отчизны, искренний проповедник идей партии, правительства. Эта черта его, а не что другое сроднило нас. Первое время Василий Михайлович жил в деревне Катериновка. Его прямые, открытые, резкие выступления против немцев привели к тому, что на него донесли в гестапо. Его начали преследовать, решили отправить в Германию. Кто-то предупредил его об этом, и он ушел.
В Капуловке Вася скрывался от подлых жителей, конечно, катериновских. Жил он в Капуловке от ноября 1942 года. Вел себя осторожно. За этим следили мы все. Устроили его в колхозную сапожную. Вот сюда и нагрянул председатель с. Катериновки и доложил вторично в гестапо. Василий Михайлович на этот раз не ушел, ибо надеялся на другой выход.
В апреле 1943 года его арестовали, но благодаря нашим работникам дело окончилось тем, что Василия Михайловича отправили работать на мост в Никополь. На мосту работать, конечно, тяжело. На выходные приходил к нам в деревню. Во время развития партизанского движения мною он был первым включен в разведчики отряда. Работая на мосту, выполнял ряд заданий, а в июле 1943 года отправился в отряд, был в группе разведки. Во взводе разведки был одним из лучших бойцов, аккуратно выполнял задания. Но все же 2 ноября пойман заставой казачьей. До 9 ноября 1943 года сидел в Покровской тюрьме. Забрали и меня. 10 ноября несколько машин партизан вывезли в Никополь. Мне пришлось сидеть в одной камере с ним 12–15 ноября. В тюрьме Василий Михайлович мне напомнил свой адрес, просил написать вам и сыновьям о том, что сделал — не раскаивается, на допросах не предавал товарищей. Благодаря его партизанской выдержке остались в живых ряд работников, в том числе и я.
15 ноября его увезли из нашей камеры, и все жалели, что ушел от нас шутливый, веселый анекдотчик. Несколько раз еще видела его сквозь щелку. Он сообщил о ходе допросов.
1 декабря 1943 года 78 человек увезли на расстрел. На окраине Никополя похоронены все были.
Василий Михайлович не зачернил, умирая, своего имени. И мой долг — быть преклонной к его семье.
Вера Ивановна, погибших много, но за лучших мы хлопочем документы. Каковы результаты, буду сообщать вам вкратце.
Василий Михайлович похоронен в братской могиле в Никополе.
М. Ф. Присоха».
С письмом Марии Присохи Вера пришла к Епистинье.
Капуловка, Катериновка, партизанский отряд, Мария Присоха — все путалось в сознании Епистиньи. Безжалостно ударило главное — Васю расстреляли, его похоронили, нет еще одного сына. Нет больше Васи, нет веселого, улыбчивого сыночка, не заиграет он больше на своей любимой скрипке, не заставит печальной своей музыкой плакать неизвестно отчего.
Как же не уберег ты себя, сынок мой! Что же не подумал ты о матери, о маленьких своих детках? Как она будет жить теперь, зная, что никогда больше не увидит тебя, не услышит твоего голоса! Вася! Родной мой! Сыночек!..
«Мама! Я помню тебя…»
Осенью 1944 года почтальонка принесла Епистинье довольно толстый конверт.
Письмо оказалось из Белоруссии, в нем была весточка от Вани! Но прочитали все листки: оказалось — еще одна беда.
Екатерина Савицкая, жительница деревни Великий Лес Минской области, жена военного друга Ивана, сообщала, что Иван после окружения и побега из лагеря жил в их деревне. Немецкие каратели и полицаи схватили его. Его били, пытали, а затем в апреле 1942 года расстреляли.
Сообщала Савицкая, что Иван в их деревне женился, что его жена, Мария Норейко, родила от него дочку. Перед арестом Иван несколько дней жил у них, Савицких, скрывался, где и написал вот эти письма, которые она пересылает.
Вот что писал Иван:
«Родным и знакомым.
Так как вас будет интересовать, как и где я жил, в каких условиях, как это интересует многих родителей, то поэтому вкратце я вам опишу. А если этот весь мой памятник пойдет к вам и вы захотите узнать подробней, то об этом сообщит вам еще хорошо знакомая Савицкая К., жена моего товарища, адрес которой вам также пишу, да и она напишет. Итак, начинаю. В начале войны при отступлении наших отступал и я, откуда вам известно — из местечка Кольно. До самого города Минска, где приходилось попадать несколько раз в плен и окружения (точнее, до десяти раз) и откуда я все-таки уходил, пока что удачно. Войдя в Смолевичский район в деревню Великий Лес, я приписался по здешнему тогда правилу к этой деревне, где и работал сначала в качестве плотника, строил сараи, дома и т. д., а потом женился на жительке этой деревни или вернее хутора (отдельный дом в лесу невдалеке от этой деревни). Работал в колхозе рядовым всякие работы. Всех таких приписников начали забирать, ну должны были взять и меня, поэтому я и ушел с этого временно нагретого места. Что со мной дальше будет, знает один «бог». Пока что я чувствовал хорошо, настроение отличное, я закалился, смерти теперь не боюсь, хотя и с жизнью жалко прощаться. Но думаю, что дальше так же будет удачно, как до сих пор, но пока война, ясно, для меня покоя нет. Вот коротко все. Пишу как раз 23 февраля 1942 года, это будет мой юбилей. Будьте хотя бы вы так счастливы и мои братья, особенно Илюша, так как я с ним вырос, хотелось бы увидеть.
23.2.1942 года. И. Степанов.
Целую всех».
Ваня обращается в письме: «Родным и знакомым», пишет «Целую всех». Видно, он рассчитывал, что Ольга тоже прочитает это письмо, в нем нет отдельного привета ей и дочке Альбине.
Дальше Иван переписал несколько стихотворений Пушкина.
«Стихи на случай сохранились, я их имею, вот они:
Куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни?..»Стихи Иван, видно, переписывал по памяти, не избежал ошибок. Казалось бы, зачем ему переписывать в письме домой в эти смертельно опасные дни стихотворения Пушкина? Похоже, что до последних часов жизни мучило душу Вани так и не проклюнувшееся, не проросшее «зерно» его дарования, его какой-то другой судьбы, что-то по большому счету не сбывшееся, не состоявшееся в его жизни, с чем он еще никак не мог смириться и тянулся к миру литературы, держался около него, все ожидал встречи с серафимом.
«Пусть все эти стихотворения будут воспоминанием обо мне.
Жил в это время, адрес:
Минская область Смолевичский район Драчковский с/с или волость дер. Великий Лес Савицкая Катя Петровна.
Прошу покоить это как архив моей маленькой жизни». Но особенно поразили Епистинью строчки, обращенные к ней лично:
«К МАТЕРИ Помни, мать, детство наше В далеком хуторе глухом, Как мы делили горе наше Над речкой в домике своем. Семью веселую, большую, Друзей, соседей полон дом, Баян и скрипку удалую, Их нежный звук и патефон. Я детство наше не забуду. Его счастливы времена. И долго, долго помнить буду Тебя я, мать. Ты у нас одна. Люблю тебя я, мать родная. Твои ласкавые глаза. А сколько слез ты, дорогая, Страданий из-за нас перенесла. Не окончено.Мама! Ввиду ограниченности времени стихотворение, посвященное тебе, мною писанное, не окончено. Прости за невнимательность к тебе. Но знай, что я и до последнего дыхания своей жизни помню тебя, а в твоем лице и всю свою семью и знакомых, как самую родную мать, о которой я не забывал в самые плохие и опасные для меня моменты моей жизни, даже тогда, когда встречался со смертью.
Может, мы больше с тобой никогда в жизни уже не увидимся, то последняя моя надежда, что, может, хотя это письмо получишь ты и этот кусочек бумаги будет напоминать тебе о твоем сыне Иване и о его любви к тебе — родной матери и всей родне — семье!
Крепко целую. И. Степанов».
Как поразило Епистинью теплое, повинное письмо сына к ней, его слова, что он помнит и любит ее. Ваня, родной сынок, все время помнил, что когда-то обидел мать, сказал вдруг: «Мне Советская власть дороже, чем ты». А сердце ему говорило, что мать — это мать, она одна, она его любит, думает о нем. И перед своей кончиной не забыл об этом, попросил у нее прощения, боясь, как бы не осталась навек между ними эта обида. Сынок мой! Золотое твое сердце!..
Ванино прощальное письмо нанесло еще один удар Епистинье. Рушились последние надежды. Сбывались самые худшие предчувствия.
Переписки с Катей Савицкой не завязалось. Не писала Епистинье и Мария Норейко, жена Ивана, не напоминала о себе, о дочке Ивана. Епистинью оглушило сообщение о гибели Вани, еще одного сыночка, и все остальное было как в тумане, запутанно и непонятно. Лишь после кончины Епистиньи музей стал восстанавливать все связи, искать людей, объединять родственников. Нашел и Марию.
Что же произошло с Иваном в Белоруссии?
После войны в Финляндии Иван был направлен в 310-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии командиром пулеметного взвода. Полк стоял в Кольно, в Белоруссии.
После внезапного нападения немцев началось то же, что и у Илюши в танковой части. Жестокие бои, неразбериха, паника, нет связи, боеприпасов, беспорядочное отступление.
Как пишет сам Иван, до десяти раз попадал он в плен и окружение. В первые недели и месяцы войны немцы охраняли пленных кое-как, полагая, что они ни на что не способны; поэтому убежать из лагерей или с мест работы было несложно, и многие убегали. Убегал и Иван, пробираясь к линии фронта, догоняя своих. Но фронт двигался на восток еще быстрее.
Много солдат и офицеров, попавших в окружение, рассеялись по лесным деревням и хуторам Белоруссии, здесь их выдавали за родственников, многие тут переженились.
Иван и несколько его товарищей по полку оказались в деревне Великий Лес. Догонять фронт становилось все опасней, наступила осень, пошли дожди и холода, поэтому решили в деревне перезимовать. Иван поселился в доме Петра Иосифовича Норейко. Работал, плотничал. Все расселившиеся по деревням солдаты обязаны были раз в неделю отмечаться в местной немецкой комендатуре.
У Петра Иосифовича была дочь Мария, с которой у Ивана сложились хорошие отношения, и они поженились, а точнее — «стали жить совместно».
Но Ивана не покидала мысль: добраться к своим или готовиться к борьбе здесь. Он ходил в гимнастерке, в командирской фуражке, не допуская и мысли, что наши могут не прийти. Они скоро придут, и их нужно будет сразу же поддерживать с тыла. Вместе с братом Марии они нашли два пулемета «максим», несколько винтовок, патроны и закопали все это неподалеку в лесу.
Настроение людей в белорусских деревнях было сложным: здесь, как и всюду, грубо, безжалостно и бездарно провели коллективизацию. Веками сложившаяся жизнь белорусских крестьян была разрушена, много ни в чем не повинных крестьян арестовали и выслали на погибель за Урал, много осталось несправедливо обиженных; когда пришли немцы, всплыли озлобившиеся. В таких условиях действовать следовало обдуманно и осторожно.
Много неясного еще в гибели Ивана Степанова, какую-то роль сыграл в ней староста деревни. До войны он работал бригадиром в колхозе, в войну служил старостой, после войны опять стал бригадиром. Сын его был связным в партизанском отряде. Фамилия старосты известна, до недавнего времени он был жив, но так как прояснить эту историю сегодня просто невозможно, то будем называть его старостой. Похоже, что он работал на партизан, но прислуживал и немцам.
Началось с того, что полицаи однажды арестовали двух товарищей Ивана, с которыми он вместе выходил из окружения; они тоже жили в деревне Великий Лес. Арестованных отправили в Смидовичи, где стоял немецкий гарнизон. Оттуда им удалось написать письмо Ивану, где они просили передать их вещи родственникам и намекали на то, как можно их освободить.
Все письма прочитывал сначала староста. У них с Иваном состоялся разговор, и Иван просил его помочь освободить своих товарищей. Староста отказался. Разговор стал резким, и Иван пригрозил: «Запомни, гад, придут наши, мы тебе все припомним».
Мария позже вспоминала, что после разговора со старостой Иван сказал ей: «Погорячился я. Не надо было мне это говорить. Теперь могут убить…»
После этого Иван скрывался у Кати Савицкой, где и написал последнюю весточку матери, чувствуя, что дела плохи. По тону письма, по обращению к матери видно, как много он пережил, передумал.
Домой он писал в конце февраля, а в апреле его схватили.
Несколько немцев-карателей и местных полицейских застали его дома, у Норейко, за сараем полицаи нашли старую пулеметную ленту, неизвестно как туда попавшую. Марии сказали: «Собирай продукты на три дня». Ивану повесили на шею пулеметную ленту, а на грудь табличку: «Партизан» — и провели по деревне.
Допрашивали Ивана с Марией в доме старосты. Сначала завели Ивана, и похоже, что Иван прямо сказал и полицаям, и старосте, и немцам все, что он о них думает.
Затем вызвали Марию. Она умоляла простить Ивана, говорила, что он не партизан, что пулеметную ленту нашли где-то ребятишки. Ее пытались бить, Иван крикнул: «Не трожьте ее, у нее же скоро будет ребенок. Она ничего не знает».
Марию вывели на крыльцо. Вскоре из дома вышел полицай и сказал ей: «Беги и не оглядывайся». Она пошла. Вдруг услышала выстрел. Побежала обратно, но ее перехватили жители и не пустили туда.
Ивана расстреляли и повесили на сосне с пулеметной лентой на шее и табличкой «Партизан». Два дня к нему никого не подпускали.
Партизаны уже разворачивали свою знаменитую войну в Белоруссии, и теперь немцы и полицаи не церемонились, рассчитывая запугать всех.
Через два дня Мария похоронила Ивана. Обложила могилку еловыми ветками, на лицо положила его командирскую фуражку… После войны Ивана перезахоронили в братскую могилу.
В июне в местных лесах начал действовать партизанский отряд. Партизаны, по словам Марии, очень жалели, что Иван вел себя неосторожно, как кстати был бы в отряде офицер, недавний командир пулеметного взвода.
После войны Мария Норейко, а позже и подросшая дочь Ивана Катя Степанова много раз пытались привлечь старосту к ответственности за гибель Ивана. Но как доказать, что было в действительности? Нет свидетелей. Все переплелось, перепуталось, многие следы стерло время. Кто тут рассудит?..
Замолчали все
Поздней осенью 1944 года к Епистинье прибежала плачущая Дуня: «Коля погиб!»
Пришло извещение, где сообщалось, что Николай пропал без вести, но по судьбе Васи и Вани Дуня и Епистинья знали теперь, что значит «пропал без вести».
Все. Теперь молчали все сыновья. Не поступало больше весточек ни от кого и ни о ком.
Как ни старалась Епистинья сдерживаться, погрузиться в дела и хлопоты по хозяйству, отвлечься, но уйти от самой себя невозможно. На что ни посмотришь, все напоминало о сыновьях: фотографии в рамках на стене, одежда в шкафу, сам шкаф, иконы, внуки, сноха, вся хата, деревья в саду, огород, камыш, река, люди, хутор, земля и небо. Все напоминало о сыновьях, все напоминало невозможное, невероятное, невообразимое — погиб Илюша, погиб Мизинчик, расстреляли Васю, расстреляли, а потом еще повесили Ваню, погиб Коля А что с Павлушей? Что с Филей? Почему так долго молчат? И их уже нет?
Да что же это такое! Что же это за мир, где все это происходит! За что ей наказание такое и от кого? Чем провинилась она? Чем провинились дети ее? Сыны мои, вы не погибли! Вы придете! Я жду вас! Не верю бумажкам. Ведь этого не может быть, чтоб вас больше не было! Родные мои!..
На крик сбегались соседки: Тыщенчиха, Рая Буравлева, Бойчиха. А у каждой — свое горе. Поднимался общий плач, суматоха. Бабы сквозь слезы и рыдания уговаривали Епистинью не плакать. Что тут слова, когда в душе черно, когда грудь сдавило, и боль такая, что нельзя не кричать, не жаловаться кому-то — матери, отцу, людям, Господу Богу.
Глава 13. ГДЕ МОИ СЫНЫ?
Все ребята веселятся,
Что отвоевалися,
А девчата тоже рады —
Женихов дождалися
Частушка
Если ты смерть — отчего же ты плачешь сама,
Если ты радость — то радость такой не бывает
Анна Ахматова
«Бабка, война кончилась!..»
Война длилась так долго, что иногда казалось, время это было всегда, что оно никогда теперь и не кончится. Победу, окончание войны ждали как невозможное чудо.
Наступила весна. Солнышко согревало настывший за зиму хутор, настывшие души. Зацвели сильно поредевшие сады около сиротливых хат.
От каждой хаты, с подворий, огородов, замерев, внимательно смотрели женщины на проходящего мужчину, особенно — если он в военной форме: вдруг это к ним, вдруг это он, долгожданный!
В колхозе начался сев — на быках, уцелевших лошадях, на коровах, вручную. В стратегических расчетах Кубань твердо считалась сытым, хлебным краем, одним из тех, которые кормят фронт, всю страну.
Подошел «праздничный, ласковый май».
Война кончилась.
Епистинья об этом дне рассказывала:
«Шла я в станицу и встретила двух молодых. Они веселые такие, смеются. Они и говорят мне: «Бабка, война кончилась!» Я как услышала, корзинку из рук выронила, ноги мои подкосились, я упала наземь и говорю: «Земля, скажи ты мне, где же мои сыны?..»
Где сыны? Где Коля? Что с Филей? Где Вася и Ваня? Почему всю войну молчит Павлуша? Не может быть, чтоб погибли Илюша и Саша-Мизинчик! Не верю! Этого не должно быть!
Надо было сказать радостную весть всем. Епистинья заторопилась на хутор. Казалось, ей самой надо что-то немедленно начинать делать, чтоб сыны вернулись. А что? Опять оставалось только ждать их, надеяться, молить Бога.
На хуторе уже все знали долгожданную новость.
«У нас в правлении колхоза был телефон, — рассказала Татьяна Михайловна, — и в трубке не очень громко, но всегда звучало, пробивалось радио. Черные тарелочки по хатам заговорили уже после войны. Я дежурила в правлении и по возможности слушала радио в телефонной трубке. Вот по этому телефонному радио я и узнала, что война кончилась. Праздничная музыка звучала, диктор торжественно говорил… Но какой-то уверенности не было, что я правильно поняла. Вдруг это какое-то торжественное собрание, да мало ли что. Испуганные ведь все были тогда, лишнего боялись сказать… Потом пришел уполномоченный из райкома Яковлев, он у нас всегда займы собирал. Идет и кричит: «Женщины! Война кончилась!..» Ну, тут уж началось! Господи, кто плачет, кто смеется!.. И вот я подумала, что вроде бы чего-то не хватает, праздничного, веселого. Такой день, а все как всегда. Надо что-то сделать. Нашла я кусок марли. Чернила у нас были тогда почему-то красные. А ручки, какими писали, — перья к палочке нитками прикрепляли. Ну вот. Окунула я марлю в красные чернила, привязала к палке и залезла на крышу правления. Там свой флаг и установила. Помню, влезла быстро, прямо взлетела и сама не заметила как, а назад никак не могу слезть, боюсь. Смех и горе!..»
Весть понеслась по хутору. Четырехлетнее страшное напряжение спадало. Люди словно бы заново, словно воскрешенные, смотрели друг на друга, оглядывались вокруг.
А что вокруг? Усталые, измученные люди — женщины да подростки, серые, поникшие голые хаты, в каждой кто-то погиб или пропал без вести, нищета, голодные дети… Но теперь, когда война кончилась!.. Теперь все изменится! Теперь будет лучше!
Война кончилась.
На хутора стали возвращаться солдаты, но уж очень редко. В хату, куда возвращался солдат, набивались женщины, смотрели с завистью, смотрели умоляющими глазами, спрашивали: «Нашего не видел?..»
Нередко рассказывали случаи, когда человека считали погибшим, а он пришел. Ходили всевозможные слухи, что много наших пленных в Германии ждут отправки домой, что много пленных оказалось в Америке, но они тоже скоро приедут.
Епистинья, Шура, Дуня жадно слушали такое, пересказывали друг другу, обсуждали. Вдруг произойдет чудо, и один за другим Коля, Вася, Филя, Ваня, Илюша, Павлуша, Сашенька вернутся, придут. А может быть — придут все вместе, веселой гурьбой, плечистые, возмужавшие.
У Епистиньи была стойкая привычка: что бы ни делала в хате, то и дело взглядывала в окно, а если работала на подворье или в огороде, то поднимала голову и смотрела на каждого прохожего. Радостно выпрямлялась, замирала, когда мимо хаты шел человек в военной форме. Она спешила к калитке, выходила на дорогу. «Он, наверно, хату не узнал, давно дома не был. Хата старая стала, изгороди нету..» Епистинья долго смотрела вслед человеку, разочарованно убеждаясь, что это пока не сын.
Но ведь так было! Вот так же, нежданно-негаданно вдруг мелькал за окном военный в шинели или гимнастерке, стучали четкие шаги, распахивалась дверь и «Здравствуй, мама!..» Приходили в отпуск Федя, Ваня, приходил раненый Илюша. Приходил Саша. Не может быть, чтоб они не вернулись! Ведь так же было! Это так просто!
«Не видали моих сынов?..»
Вдруг дошел до Епистиньи и Шуры окольный слух: будто кто-то из солдат в проходившем через тимашевскую железнодорожную станцию эшелоне крикнул женщинам: «Передайте на хутор Первое мая, что Филипп Степанов умер в плену!..»
Как обожгло Епистинью и Шуру это сообщение!
Кто этот солдат? Почему не зашел? Почему не назвался, не сказал, где живет? Не передал письмо? Может, напишет? Когда и как умер Филя? А может, не умер?
Эта новость разбудила и усилила надежды. Казалось, Филя где-то рядом, надо только что-то сделать, и он объявится.
Епистинья с Шурой поспешили на железнодорожную станцию. Эшелоны с солдатами проходили редко. Поспрашивали солдат, которых удалось там увидеть. «Степанов? Нет, не слышал Не встречал. Не знаю». Поспрашивали станционных служащих. Да, что-то слышали. Кто-то рассказывал. Но сами не видели — кто крикнул.
Епистинья стала ходить на станцию к проходившим эшелонам: может, еще кто-то подаст весточку от сынов, а может, и сами они вдруг выйдут из распахнутых дверей товарных вагонов.
На станции, жаркой, пахнувшей паровозным дымом, собирались толпы женщин: с окрестных хуторов и местных, тимашевских. Пересказывали друг другу всякие слухи и счастливые случаи возвращения с войны. Говорили и Епистинье: да, было, крикнул один солдат, что Степанов умер в плену, но когда это было, кто лично слышал, оставалось неизвестным.
С приходом эшелона на станции закручивалась и гудела густая толпа. Кому-то везло — встречали мужа, сына. Сколько радости, сколько слез!
Солдаты ехали разные: молодые и немолодые, возбужденные, веселые и усталые, с орденами и медалями на гимнастерках. Солдаты перешучивались с девчатами, звали их с собой — прокатиться, спрашивали горилку. Епистинья ходила вдоль состава вместе с другими женщинами, вглядывалась в солдатские лица — ну где ты, сынок мой?.. Хотелось крикнуть им всем: не видели ли вы моих сынов — Филю или Васю, Ваню или Илюшу, Павлушу, Колю или Мизинчика? Не знаете, где они, когда придут домой?
Улыбались солдаты, переспрашивали: «Как? Степанов?.. Нет, мамаша, не встречали. Может, кто еще знает. Шукай, шукай, не стесняйся!..»
Уходил эшелон, затихала станция, женщины расходились до прихода следующего поезда. У всех были надежды.
Ведь всякое тогда бывало.
Отец Татьяны Михайловны воевал в казачьем полку, сформированном из добровольцев, в «казачьей дружине». Когда немцев прогнали с Кубани, он получил письмо из родных краев в ответ на свое, в письме сообщалось, что вся семья его погибла во время оккупации. С этим тяжелым чувством он и воевал. После войны хотел поехать в Воронежскую область, откуда приехал на Кубань, опустошенную голодом, но решил хоть взглянуть на могилки жены и детей. Оказалось, что все они живы!
Кто-то писал и такие письма на фронт. Но и это все тоже добавляло надежды Епистинье и всем, кто не хотел верить в гибель близких, кто ждал; мало ли что могут прислать по ошибке или по злому умыслу. Надо надеяться, надо ждать.
И дождалась Епистинья!
В начале сентября 1945 года прибежала радостная Дуня с письмом от Николая:
— Коля жив! Он в госпитале! Скоро приедет!
Какая радость! Коля живой! Какое облегчение принесла эта весть — вот ведь было известие, что погиб, а он жив! Слава Богу! Теперь будет полегче. Нести одной тяжкий груз потерь и надежд было невыносимо. А там, глядишь, и другие сыны объявятся. Она вызволит их из небытия своей чистой, горячей молитвой.
Коля вернулся!
У Николая трое детей: Валентин, Анатолий и Людмила. В их рассказах об отце много любви к нему и сожаления, как мало они все-таки понимали его, сочувствовали его душевным страданиям и физической боли. Были детьми, затем подростками, подошла юность, а понимание приходит, когда самим выпадут серьезные невзгоды. Понимание пришло, когда отца уже нет. Тогда же казалось — вот отец, он будет всегда, и жизнь будет такой всегда, только лучше и лучше.
Хорошо запомнилась Валентину поездка к отцу в госпиталь.
«Объявился отец осенью 1945 года. Мы получили приглашение посетить госпиталь.
В доме была устроена грандиозная баня. Мать мыла, скоблила нас, каждый получил свою белую рубашку, брюки, даже на ноги нашлось что надеть. Весь вечер мы говорили об отце. Кто он? Мать принесла фотографию, где он был снят с нею. Нам хорошо была понятна мать. И чужим, неизвестным казался отец. Он ушел на войну, когда мне было три года, брату — два, а Люда только родилась.
Как мы ехали, я не помню. Стояла золотая осень. Было часа два дня. Нас пропустили в сад с аллеями, скамейками. Сели на скамейку и теребили мать: «Когда же он придет?»
И тут я заметил, как насторожилась мать. Хотела встать, но лишь дернулась, и руки ее привычно оправили юбку, нехитрую блузку и остановились на тугом тяжелом клубке волос.
Я проследил за ее взглядом и в многолюдье выделил фигуру мужчины, одетого во все белое и халат. Он опирался на костыли, неуклюже волоча ноги. Черные, смолянистые волосы в беспорядке спадали на лицо, закрывая лоб, глаза. Когда я увидел пышные усы, которые комом гнездились у носа, я уже не сомневался, что это солдат, он участвовал в войне. Я запомнил нос, большой, костистый, горбатый.
Я чувствовал по напряженной фигуре матери, что идет кто-то свой. Виновато, растерянно улыбался и шедший к нам на костылях незнакомец.
— Ну, здравствуй, семья! — как-то вдруг неожиданно говорит солдат на костылях издалека.
Мать подхватилась со скамейки, обхватила лицо отца руками:
— Родной! Где же тебя носило?
Простота, с которой отец обратился к ней, вернула матери привычную простоту, которой отличаются деревенские жители.
Мать разглядывала его долго, пристально, забыв о нас, не чувствуя, что у ее ног путались наша сестра и мы с братом.
— Да все это ничего, ерунда! Все будет хорошо, — говорил отец. — Как же ты управилась с тремя и даже не изменилась?
— Они у нас уже большие! Помогают. Сама я бы не справилась, — сквозь слезы отвечала мать.
Разволновался и отец, начал говорить торопливо и сбивчиво, словно извинялся перед ней.
Сели на скамейку. Отец, вылавливая нас, тыкался в наши щеки усами и не отпускал…»
Из истории болезни Степанова Николая Михайловича:
«Диагноз: множественное слепое осколочное ранение мягких тканей обоих бедер, правого голеностопного сустава и стопы с повреждением костей. Ранен 8.Х — 44 г. Первая помощь оказана товарищем. 12.Х. сделана операция рассечения раны. Прошел четыре этапа эвакуации. В эвакогоспитале 2040 с 7.1.45 г., г. Кисловодск… Движения в правом голеностопном суставе ограничены. Движения в пальцах правой стопы ограничены. При нагрузке сустав значительно отекает. Опирается на правую ногу с трудом, передвигается с помощью палки. 23 августа 1945 года».
Похудевший, бледный, опираясь на палку, он появился на хуторе.
Свершилось то, о чем Епистинья так молила Бога: к хате, к калитке подошел человек в военной форме. И этот солдат — ее сын. Хоть и не бодры были его шаги, скромна и болезненна улыбка, но это сын, Коля. Родной, долгожданный. Вернулся.
Епистинья обняла сына, и оба почувствовали, как велико, как огромно их горе.
«Коля, что же ты не писал?»
«Не хотел обнадеживать, мама. Думал, не выдюжу».
Прошли в хату, сели, и Епистинья с Колей попытались спокойно посмотреть в глаза друг другу. А в глаза обоим страшно смотреть. Беда так велика, что остается только в нее не верить. Нет, нет. Это невозможно! Если поверить — боль сожжет, разорвет сердце… Коля пришел — придут и все другие сыны. Вот во что надо верить.
О ранении, как и вообще о войне, Николай говорил коротко, неохотно:
«Снаряд грохнул рядом. Очнулся в госпитале…»
Возвращение Коли сильно укрепило надежду Епистиньи: придут, вернутся и другие сыновья! Не напрасны ее горячие молитвы и ее призыв к сынам. Теперь она уверенней говорила: «Шура, ты не выходи замуж. Филя придет. Мало ли где он может быть. Может, где-нибудь пока в Америке. Заработает на дорогу и приедет…»
Новогодний праздник
В конце декабря на хутор к Епистинье приехала из Алма-Аты Валентина с мужем. Иван Коржов получил назначение на новое место службы в Прибалтику, и по пути туда они решили навестить хутор.
Вот и еще радость в хате Епистиньи.
Пришел Николай с Дуней и детишками, захватил баян. Собрали маленькое застолье. Валентина, Дуня и Шура немножко грустно попели. Да, как бы они спели, если б пришли все хлопцы!
На звук баяна прибежали соседские ребята, с любопытством, с завистью смотрели на двух сидевших за столом военных — Николая и Ивана Коржова.
Епистинья возилась у плиты, иногда подсаживалась к столу. Застолье, баян, песня, смех и возня детворы оживили ее, напомнили прежние, совсем вроде бы недавние годы, когда хата была полна веселых сыновей и их друзей, вся звенела от музыки, смеха, голосов. Но, возвращаясь душой в прежние годы, такие счастливые, она вспоминала, что сынов больше нет, и сникала. Тихие ее слезы действовали на всех сильнее, чем плач. Песня стихала.
Епистинья быстро вставала, виновато говорила: «Не буду, не буду!» — и хлопотала у плиты, угощала набившихся в хату ребятишек.
Как бы там ни было, приезд гостей, суета, толкотня детей внесли оживление в душу Епистиньи. Она и говорила поживей, и двигалась быстрей.
Заходили в хату соседи, и чувствовалось по всему, как хочется людям хоть немного, хоть глоток радости, чтоб отпустило душу тяжкое напряжение.
Четыре долгих, страшных года длилась война, и, пока она шла, горе объединяло всех, помогало держаться вместе. Вместе легче. Но вот война кончилась, кому-то повезло, и в дом вернулся муж, отец. Жена, мать, ребятишки, сама хата — все оживлялось, веселело. Каково было смотреть на это тем, кто уже не надеялся дождаться мужа или сына. Горе старались тащить все вместе, а радость на всех не делилась.
Заполнившие хату дети, соседи, приходившие на голос баяна, смотрели на хозяев и с завистью, и с сочувствием, и с ожиданием хоть глоточка радости себе. Вот тогда и возникла мысль: устроить по старой памяти в хате праздник для всех — встречу наступающего Нового, 1946 года.
Весть о празднике у Степановых быстро разнеслась по всему хутору. Вечером под Новый год к хате Епистиньи потянулись дети и взрослые, набились битком, облепили окна. Давно уже не было на хуторе никаких праздников, все уж и забыли, когда в последний раз ходили ребятишки на Рождество по хатам «со звездой».
Радость в хате Епистиньи не вызывала зависти, не поднимала в душе собственной горечи — уж слишком велико ее горе, и то, что она при таком горе делится капелькой радости со всем хутором, вызывало к ней, ко всем Степановым особенно хорошее чувство.
Полным-полна небольшая, низенькая хатка в три окна. Стояли, сидели, расположились на полу — где кто как сумел. В уголочке хаты стояла «елка» — куст акации, наряженный тряпочками, лентами, конфетными обертками. Открылся занавешенный рядном уголок хаты — сцена. В первом действии дети, которых подготовила Валентина, рассказывали стихи, плясали под баян Николая, а Дед Мороз, которым нарядился Иван Коржов, в шубе, шапке, с бородой, пел и плясал с ребятами, доставал из мешка конфетки. Сцена, баян, наряженная «елка», пляшущие с улыбкой дети. Господи, праздник!
Во втором действии под баян Николая пела Валентина. Она надела красивое платье, туфли, сделала прическу. На «сцену» вышла уверенно, держалась раскованно.
Пела Валентина и веселые, и грустные песни, пела русские и украинские: «Катюшу», «Землянку», «Ничь яка мисячна…». От песен, от музыки веяло дыханием довоенной жизни, которая сейчас виделась невероятно полной, веселой, счастливой. Как хлопали Валентине, как улыбались!
С уголочка крошечной «сцены» грустно смотреть в «зал», в лица набившихся в хату Епистиньи хуторян. Женщины, молодые вдовы и пожилые матери, немного мужчин, на полу — ребятишки. Ребята, которым не хватило места в хате, смотрели в окна с улицы, отталкивая друг друга… Все одеты в темное, старенькое: платочки, телогрейки, кожушки, на ногах что-то такое ношеное, что все прячут с глаз, поджимают ноги под лавки. На лицах и улыбки, и печаль, и слезы, которые, не скрывая, утирают натруженными ладонями. Восторженны лица детей. Праздник!..
Среди женщин в хате сидела и постаревшая Аня, украсть которую когда-то давным-давно в невероятно далекой и такой счастливой жизни не удалось Николаю. Муж ее погиб на войне.
Сильно похудевший, бледный, сидел на табуретке на маленькой сцене Николай, играл на баяне. Взгляд печальный; Николай погружен в себя. Раны его болели, мелкие осколки снаряда, сидевшие в теле, постоянно давали о себе знать ноющей, а иногда невыносимой болью… Непростой вопрос — почему же почти целый год Николай не писал домой из госпиталя, хотя раны его, судя по медицинским документам, не были смертельно опасными. Он говорил: «Думал, не выдюжу…» И дело тут не только в его ранах. Годы войны, гибель братьев, гибель фронтовых друзей, очевидно, наполнили его сокрушающей усталостью. Тут и грохнул рядом снаряд. И когда Николай пришел в себя, почувствовал, что жить не хотелось. Безразличен был этот мир. Не хотелось вновь впрягаться в лямку жизни и тащить немилый воз. И состояние это было хуже, опасней, чем раны… Услышал ли он молитвы матери, почувствовал ли, что смертью своей может совсем добить ее, осиротить детей, но Николай медленно-медленно ожил. Жизнь понемногу взяла свое, правда, не полностью. Ему сейчас нужна была сильная, оживляющая душевная поддержка, а где ее почерпнуть в этой жизни, здесь, на хуторе, где столько беды?
Сидела среди женщин в «зале» и Епистинья. Сын играл на баяне, дочь пела. Вот и все, что осталось у нее от большой семьи.
Вера вышла замуж
Валентина с мужем уехали в Прибалтику. Николай стал работать в колхозе плотником, хотя раны его не заживали; дела колхозные были так запущены, что председатель упросил Николая потихоньку, в меру сил «постучать топором». Скотные дворы, конюшни, арбы, повозки, сани — все надо было ремонтировать, обновлять, строить, изготовлять заново, а Николай был хороший плотник, замечательный столяр.
Николай жил на другом конце хутора, в километре от хаты Епистиньи. С его раненой ногой да после работы, которая выматывала его, да с его душевной усталостью навещать мать почаще он не мог. И у нее — дом, хозяйство, внуки. Вроде бы рядом Коля, а виделись не так часто, как хотелось.
Когда шла война, всем казалось: ну, вот кончится, тогда и заживем. «Тогда — жить! Хорошо жить будем!» — писал Илюша с фронта. Так и казалось — придут с войны бойцы, победители, орлы, как писали о них в газетах. Они пришли, но далеко не все. И как же они устали! Пришли в надежде отдохнуть, оттаять душой, отогреться у домашнего огонька. А огонек этот дома едва-едва горел. Великим напряжением сил победил наш народ фашистскую Германию, против которой не выстояла ни одна страна.
Потекла, потянулась послевоенная жизнь.
Два года после войны выдались неурожайными: сказались разорение, усталость, засуха. Радость и горе в хатах жили рядом: радость — война кончилась, «мы победили», кто-то вернулся с войны, игрались свадьбы, рождались дети, подростки становились юношами и девушками, пели песни вечерами; горе — вдовы, сироты, бедность до нищеты, покосившиеся хаты, «палочки» в колхозе, тяжелая работа. Благословенная Кубань была нищей, как и вся страна.
Исстрадавшиеся, измученные люди тянулись к праздникам, чтоб хоть немного забыться, начать новую жизнь. Устраивали бедные, но шумные свадьбы, крестины, праздновали Октябрьскую и Первое мая, Масленицу и Рождество. Николая с баяном то и дело куда-то приглашали — как же без музыки!
Жизнь шла.
Вышла замуж Вера, жена Васи… Мария Присоха писала ей из Никопольского района Днепропетровской области, сообщала, как она добивается от властей, чтобы имя Васи было написано вместе с именами партизан и подпольщиков на братской могиле. Письма были сбивчивые, путаные: Мария писала, что с Васей они были только товарищами по партизанской борьбе, а в том, что ее не расстреляли, выпустили из тюрьмы, ее вины нет. В чем-то она оправдывалась, что-то доказывала. Затем замолчала.
Вера рассказала все это Епистинье.
В сбивчивом рассказе, где перемешались немцы, партизанский отряд, предатели, местные жители, Епистинья узнавала Васю, веселого, улыбчивого, честного, родного, но слушать все это было горько и не очень хотелось. Если бы в рассказе светилась хоть небольшая надежда, что Вася жив и надо только ждать, искать его, Епистинья ни одного слова бы не пропустила, но Мария утверждала, что Вася «погиб как герой», «звери-фашисты расстреляли его в Новопавловской круче», что он «вместе с другими похоронен с почестями». Каково Епистинье слушать все это, если нет надежды!
Вера вышла замуж.
Судьба Васи
Что же было дальше с Васей, чей след потерялся в Крыму осенью 1941 года, после встречи с Филей?
Мария Присоха работала учительницей начальной школы в селе Капуловке Никопольского района, жила с двумя сестрами и матерью. Когда пришли немцы, она стала работать переводчицей в комендатуре села Покровского, как она говорила — по заданию подпольщиков. В селах района жили, скрывались по хатам наши солдаты, попавшие в окружение. В Капуловке некоторое время жил и Василий, другие солдаты, с которыми Мария познакомилась. Как Вася попал из Крыма в Никополь — неизвестно.
Положение в оккупированных селах было настороженным, неопределенным: большинство затаилось, ожидая, что будет дальше, кто-то пытался начать борьбу, кто-то пошел на службу к немцам. Молодых людей партиями отправляли на работу в Германию или на восстановление моста через Днепр в Никополе и другие работы.
Развернуть партизанскую войну, как в Белоруссии, на юге Украины было трудно, лесов в округе не было, а плавни скрывали ненадежно. В марте 1943 года наши сбросили в окрестности Никополя несколько парашютистов-десантников, чтоб организовать, оживить партизанскую и подпольную борьбу. В плавнях появился партизанский отряд, с которым Василий и его друзья установили связь. Теперь Мария и ее подруги собирали партизанам продовольствие и переправляли в отряд, Василий с одним из друзей ходил по селам, вербовал людей, собирал данные о немцах.
Жители некоторых сел помнили Василия. Уже в наши годы его узнавали на фотографии, рассказывали о нем с улыбкой, с любовью. Но многие из жителей и сейчас еще боятся рассказывать всю путаную правду о годах войны.
Василия арестовали вместе с другими товарищами в ноябре 1943 года. Взяли и Марию. Василий и Мария оказались вместе в одной камере никопольской тюрьмы.
В течение ноября арестованных допрашивали, пытали, а 1 декабря 60 человек немцы вывезли на окраину Никополя к Новопавловской круче и расстреляли. Марию и еще нескольких девчат выпустили.
Мария Присоха оказалась под подозрением: почему ее немцы выпустили, если она выдает себя за активную помощницу партизанам? Почему работала в немецкой комендатуре? Доказательств ее вины в провале партизан не было, а подозрение оставалось. Полицаи и предатели бежали с немцами, многие из своих расстреляны, жители сел говорили невнятно и путано, к тому же все они, как «проживавшие на оккупированной территории», сами были на подозрении. Вся ситуация запуталась, перекрутилась, Марии хотелось кому-то все рассказать, высказаться, хотелось оправдаться. Но всего она и сама не знала.
Судьба Фили
Никакой вести, письма, знака от человека, крикнувшего на станции о смерти Филиппа в плену, на хутор не приходило.
Очень ждали отца Жорик и Женя, особенно после того, как вернулся Николай. Они часто убегали на другой конец хутора, чтоб побыть около дяди Коли, поговорить с ним, посмотреть, как он что-то строгает на верстаке.
«Мама, — сказал как-то Жорик, — ты выйди замуж хоть на недельку, чтоб я мог кого-нибудь назвать папой…»
Однажды Епистинья узнала, что в Роговской кто-то вернулся из плена, и попросила Николая съездить с ней в станицу, вдруг тот знает что-то о Филе, о сыновьях.
Николай выпросил у председателя подводу. Поехали. Конечно, никого из братьев Степановых вернувшийся солдат не встречал, о войне и плене скуповато рассказал такое, что Епистинья, вернувшись домой, слегла и проболела несколько дней.
Епистинья, Шура, Жорик, Женя ожидали Филиппа. Сама хата ждала хозяина, надо было доделывать ее, ремонтировать. Колхоз ждал своего толкового бригадира. Земля ждала любящего ее работника. Но шло время — вестей от Фили не было.
И вот летом 1950 года на хутор пришло письмо из Москвы. Исполком Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщал: «По имеющимся у нас сведениям, гр. Степанов Филипп Михайлович умер 10 февраля 1945 года в Германии в лагере 326».
Позже Исполком переслал в музей карточку военнопленного, на основании которой он сообщил о смерти Филиппа.
Это квадрат плотной розовой бумаги с отпечатанными типографским способом вопросами и заполненными писарем от руки ответами на немецком языке. Вот некоторые данные из карточки Филиппа.
«Карточка военнопленного основного лагеря 326. Личный номер — 25944. Фамилия — Степанов. Имя — Филипп. Время и место рождения — 22.XII.1910, Краснодар. Вероисповедание — православный. Имя отца — Михаил. Государственная принадлежность — русский. Воинское звание — рядовой. Воинская часть — 699-й стрелковый полк. Гражданская профессия — крестьянин. Время и место пленения — 25.V.42, Харьков. Здоров или болен — здоров. Адрес родственников — Краснодарский край, деревня Тимошивская. Поступил 4.VI.44».
Карточка аккуратно перечеркнута и вверху написано по-немецки: «Умер 10.2.45».
Живы и до нашего времени некоторые узники лагеря 326, но не удалось найти ни одного, кто лично знал бы Филиппа. О братьях Степановых, в том числе и о судьбе Филиппа, несколько раз рассказывалось в центральных газетах, но не откликнулся никто, кто бы рассказал о Филиппе. Так и осталось неразгаданным, кто же крикнул тогда, сразу после войны, что Филипп умер в плену, какова судьба этого человека, почему он не объявился, не сообщил семье больше ничего?
Филипп совсем немного не дожил до освобождения: меньше чем через два месяца после его смерти, 2 апреля, к лагерю подкатили американские танки. И с этого дня уже никто из пленных лагеря не умер.
Надо хотя бы коротко рассказать историю лагеря 326, тогда понятней будет и растворившаяся в нем судьба Филиппа.
Наши солдаты и офицеры в первые месяцы войны хоть и дрались яростно, не могли дать немцам серьезный отпор — не было оружия, боеприпасов, связи, горючего. Рассекая клиньями, окружая наши части, немцы быстро двигались на восток.
Десятки, сотни тысяч солдат и офицеров разрозненными группами и поодиночке, скрываясь в лесах, оврагах, балках, пробираясь по открытым местам ночами, пытались догнать своих, пробиться к ним. Кому-то удалось, а большинству — нет: слишком быстро отходили наши части, оставляя один за другим города и села Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, России.
По дорогам потянулись колонны наших пленных. Как сообщают историки, уже к концу 1941 года 3 миллиона 800 тысяч военнослужащих Красной Армии было в плену. Но и в 1942 году целые армии наши попадали в «котлы». Опять — много пленных… Сначала немцы охраняли пленных не очень строго, и можно было бежать и снова пробираться к своим или пока осесть, затаиться где-нибудь в деревне или на хуторе, чтобы начать борьбу в тылу, как получилось у Василия и Ивана. Затем охрана лагерей усилилась, началось продуманное уничтожение пленных в душегубках и печах концлагерей или использование их как рабочей силы.
Пленных, как и многих наших юношей и девушек, повезли в Германию работать на фабриках, заводах, шахтах, у помещиков. Товарные вагоны набивали битком, не только лежать, но и сидеть было невозможно, а поезда шли по пять — семь дней, и все это время пленных не только не кормили, но даже и воды давали не всегда. В конце пути из каждого вагона выносили погибших.
Сотни тысяч, миллионы наших молодых людей оказались в Германии, которую покрыла густая сеть лагерей. Особенно много было их в земле Северный Рейн-Вестфалия, где располагался крупный Рурский промышленный район. Наряду с другими возвели здесь в 1941 году и лагерь 326 в местечке Форель-Круг. Сооружали его наши военнопленные. Пока строили, жили и спали на голой земле, обнесенной колючей проволокой. Некоторые нарыли себе в земле норы, где можно было спастись от дождя и холода. На день выдавали по 200 граммов хлеба с примесью опилок и сырую брюкву; от голода, тяжелой работы, избиений и унижений многие пленные умирали.
Наконец лагерь был построен: деревянные бараки, окруженные несколькими рядами колючей проволоки, сторожевые вышки с прожекторами и пулеметчиками на них. Каждые три барака отделялись от других дополнительными рядами колючей проволоки. В бараке темно, сыро, зимой холодно. Рассчитан барак на 140 пленных, а помещалось по 400–500 человек; спали на голых нарах в три этажа, на земляном полу.
Лагерь не считался концентрационным, в нем не было душегубок и крематориев. Это был обыкновенный лагерь. Пленные, поступавшие сюда, проходили карантин, проверку абвера, медицинскую комиссию и распределялись по рабочим командам на заводы, шахты, фабрики. В самом лагере пленные находились один-два месяца, но и за этот срок много пленных погибало, не выдержав голода, издевательств, побоев. Всего за неполных четыре года через лагерь прошло около 400 тысяч пленных, из них только на братском кладбище лагеря похоронено более 65 тысяч человек, а сколько таких лагерей, сколько безвестных могил и кладбищ было разбросано по Германии.
Филипп прошел через Шталаг-326 два раза. В первый раз, как указано в его личной карточке, 4 июня 1944 года. Вместе с другими пленными его доставили сюда из какого-то лагеря на территории нашей страны; через месяц, пройдя карантин, он был направлен из лагеря в рабочую команду.
Второй раз Филипп оказался в лагере в январе 1945 года. Узник лагеря Сильченко Владимир Семенович, работавший в нем врачом, рассказал об этом так:
«Наступил 1945 год. Гитлеровцы терпели крах. Жизнь в Германии ухудшалась и ухудшалась. Ощущалось это и в лагере. Хлеба стали давать вполовину меньше. Смертность от истощения возросла.
Я лечил пленных в 8-м заразном бараке, посещал больных в других бараках. Однажды ко мне в барак пришел фельдшер Мусатов и передал, что в амбулаторию привели группу пленных из команды 704 из Кракса и один из пленных передает мне привет от врача Мочалова. Это был наш условный пароль, по которому человеку надо было помочь. Мусатов и Мочалов были мои земляки, воронежцы, активные участники подпольной группы. Я поспешил к амбулаторному бараку.
Зима стояла «сиротская», без снега, но истощенные пленные, в изношенном обмундировании, без шинелей, мерзли и дрожали от озноба. Подошел пленный и обратился ко мне, повторив, что он от врача Мочалова. Я попросил его говорить скорее, так как должен был скоро прийти немецкий врач (штабс-арцт) и начаться прием больных. Без немца мы теперь не имели права принять в лазарет ни одного пленного больного. Пленный сказал, что его фамилия Степанов, он работал в Краксе, в команде на одном из небольших заводов, делал какие-то мелкие детали. Его товарищ спросил: «А ты знаешь, что помогаешь немцам готовить оружие, чтобы убивать советских солдат?» — «Я коммунист, понял свою ошибку и прекратил работу. Меня избили, но так как я не подчинился, лишили хлебного пайка. Постепенно я дошел до полного изнеможения, но работать не стал. Товарищи мне подсказали: просись в лазарет, там тебе могут помочь советские врачи, а здесь ты пропадешь. Я стал проситься в лазарет, но немец мне отказал. Врач Мочалов уговорил его, и меня привели сюда. Помогите мне хотя бы на неделю попасть в лазарет подкормиться и отдохнуть от работы». Научив пленного, как вести себя в амбулатории, я поспешил туда.
Пришел штабс-арцт, и начался амбулаторный прием. Очередь дошла до Степанова. Когда я сказал, что у него высокая степень истощения и его надо положить в лазарет, немец заглянул в посыльный лист и сказал: «Нет, его нельзя класть в лазарет, он должен работать, пленный — саботажник и не хочет работать на рейх». Осталось одно средство, к которому мы прибегали, когда терпели неудачу в попытке поместить пленного в лазарет. Я сказал немецкому врачу, что у пленного туберкулез. Он как раз надсадно закашлял. Немецкий врач закричал: «Шнелль, в седьмой барак». Этого мне только и надо было, его сейчас же увели в барак… Там работал очень хороший человек: молодой врач Гущин Николай Михайлович, из Иванова, он был членом подпольной организации и прятал у себя в бараке пленных, избавлял их от тяжелой работы и пытливого глаза абвера. В бараке было больше таких «больных», у которых туберкулеза не было. Их выдерживали некоторое время, затем переводили в другие бараки и выписывали в другие команды…
Я был очень загружен делами, ведь в лазарете находилось около полутора тысяч больных, и не мог часто бывать в 7-м бараке. Филипп выглядел очень плохо. Лицо было в отеках, пальцы напоминали крупные сардельки, на ногах большие отеки, в животе асцит, отечная жидкость. Он был очень слаб. При встречах он рассказал мне о своей жизни и работе, о своей семье. С большим теплом он говорил о своей матери. Он тоже жил надеждой, что отдохнет и дождется Победы.
Мы были бессильны помочь ему. Он не нуждался в медикаментах, ему были нужны покой, а главное — полноценное питание. Мы же могли дать ему лишний черпак баланды, а ведь это была, по сути дела, вода, которой и так в организме был большой избыток. Как-то он сказал: «Вот ведь странно, я столько давал стране хлеба, а теперь погибаю от того, что не могу получить хлеба».
В один вовсе не прекрасный день доктор Гущин сказал мне: «Владимир Семенович, твой подопечный Филипп Степанов сегодня умер». Его сосед передал мне, что с утра Филипп вел себя как обычно. Они разговаривали и мечтали о том, как вернутся домой. Вдруг Филипп тихо сказал: «Прощай, Кубань! Прости, мама!» Рука упала на грудь, и он замолк.
Сосед подошел к его нарам, а он уже не дышит.
Да, так умирали истощенные люди, без мучений, без длительной агонии, тихо, как бы засыпая. Мгновение — и жизнь окончена. Еще один «без вести пропавший» не вернется домой и не встретится со своими близкими и родными».
2 апреля к лагерю подошли американские танки. Пленные разоружили охрану, власть перешла в их руки. Американские танкисты бросали голодным пленным шоколад, фотографировали потасовку, которая из-за него возникала. Американцы ушли вперед. Около лагеря бродили остатки разбитых частей немцев, эсэсовцы. Нужно было наладить нормальную жизнь, охрану лагеря, возродить воинский дух, подготовить бывших пленных к службе в армии, к возвращению на родину. Штаб лагеря создал 16 батальонов, назначил опытных командиров; наладили полноценное питание, переодели всех в единое обмундирование, выдали каждому постельные принадлежности. Начали строевые занятия, больных поместили в госпитали. Смертность сразу же прекратилась.
Американская администрация пыталась вмешаться в жизнь лагеря, но командование заявило, что лагерь является воинской частью Советской армии и управляется своим штабом. Американцы оставили лагерь в покое.
В лагерь приезжали американский генерал Андерсен и английский бригадир Френкс; они удивились порядку в лагере, строевой выправке солдат.
Когда наши бывшие пленные пришли на лагерное кладбище у селения Штукенброк, открылась печальная картина: на пустыре протянулось 36 братских могил по 116 метров длиной и два с лишним метра шириной. Последняя могила была еще не заполнена, и в ней видны были трупы пленных, одни в бумажных мешках, другие совершенно голые, уложенные один на другой в шесть слоев по глубине. На кладбище лежало более 65 тысяч наших молодых, когда-то полных сил людей.
Солдаты привели кладбище в порядок, поставили памятник. На открытии памятника были бывшие узники лагеря, советские граждане из других лагерей, польские и югославские солдаты из соседнего лагеря, американские солдаты и немецкие жители селения Штукенброк. Андерсен и Френкс возложили к памятнику венки.
В июне эшелоны с бывшими пленными пошли на родину, где их ожидала строжайшая проверка «органов», новая служба, война с Японией или — опять лагеря, свои, советские… А лагерь 326 стал собирать молодых людей, во множестве вывезенных из наших городов и деревень и рассеянных по предприятиям, селам, фермам, мелким лагерям Германии, которые оказались в американской и английской зонах оккупации. Как страшно перемешались тогда судьбы многих наших людей! Сколько их рассеялось по странам Европы, Америки, боясь возвращаться на родину, боясь попасть в сталинские лагеря.
Позже в ФРГ была создана антивоенная и антинацистская организация «Цветы для Штукенброка». Каждый год 1 сентября она проводит массовые манифестации на кладбище у Штукенброка, сюда приезжают делегации из многих стран Европы.
В последней, тридцать шестой незаполненной могиле лежит наш Филя, не доживший двух месяцев до освобождения. Несколько лет назад, когда Епистиньи уже не было, но жива была Шура, с помощью нашего Красного Креста удалось доставить в музей на хуторе землю с его могилы в Германии, с той самой тридцать шестой, незаполненной.
Шура взяла гильзу с землей, занесла в хату: «Ну вот, Филенка, хоть так, а все же побывал ты в своем дому…»
Судьба Павлуши
С каждой новой вестью выяснялись судьбы сынов Епистиньи, их последние дни. В эти дни и часы жизнь ее сынов словно бы вспыхивала ярким пламенем и гасла: горячий бой в большом сражении, пытки врагов, расстрел. И все сыны до конца своей жизни помнили о доме, о ней — матери; живой, такой родной голос их раздавался совсем близко. Не верилось в то страшное, что происходило дальше. Вот их письма, теплые их голоса, приветы ей, матери. Зачем же эти казенные, чужие сообщения о ее сынах! Не хочу я их! Не верю я им!
«Бумажки» пришли теперь на всех, кроме Павлика. Павлик, родной! Отзовись. Приди домой. Хоть раненый, хоть усталый, хоть какой. Приди!
Но Павлик молчал всю войну, молчал и сейчас. Что с Павлушей? Где он?
По найденным документам, Павел в июне 1941 года в Киеве получил назначение на должность командира батареи в 141-й гаубично-артиллерийский полк, который в декабре 1940 года был переведен из Курска в Слуцк. Полк входил в состав 55-й стрелковой дивизии.
Красноармейцы 141-го полка, наводчик П. Макеев и командир разведки А. Корытин, написали о первых днях войны:
«В мае 1941 года полк вышел в летние лагеря, что в 25 километрах от Слуцка у села Уречье.
Днем 22 июня объявили о нападении фашистской Германии. Полк снялся с лагеря. Вечером, вернувшись на зимние квартиры в Слуцк, принимали пополнение, прибывшее из запаса, а также молодых командиров, лейтенантов, прибывших в полк из Первого и Второго киевских артиллерийских училищ. Лейтенанты были обмундированы в новенькую форму. Их было что-то больше 10 человек. Все рослые, физически подготовленные.
На другой день двинулись на запад с задачей оказать помощь защищавшемуся Бресту. Шли по Варшавскому шоссе. По пути следования то и дело налетали немецкие самолеты. На дороге встречались беженцы, раненые военнослужащие, женщины с детьми. У многих наших остались жены в военном городке.
Попадались провокаторы, немцы, переодетые в красноармейскую форму. Несмотря на активное действие немецкой агентуры, ракетчиков и авиации противника на пути следования, полк вошел в соприкосновение с немецкими войсками без потерь. Стали появляться мотоциклисты, замечены отдельные танки противника.
Поле предстоящего боя перерезала река Щара. На левом, восточном берегу стояла нескошенная рожь, а за нею лес. Сосновый лес в трех километрах за рекой скрывал немецкие войска. Авиация противника усилила активность.
К полудню 24 июня немецкие танки вышли из леса и устремились на переправу.
Залпы артдивизионов были прицельными. Теряя танки, немцы уходили в лес и снова более мощной волной шли в наступление. Но прорвать заградительный огонь артиллерии танки противника не могли.
Воздушного прикрытия у нас не было. Разведав расположение батарей, немецкая авиация приступила к массированной обработке наших боевых порядков. Усилились атаки танков, они приблизились к мосту. Был отдан приказ выхода части гаубиц на прямую наводку. Понеся потери в танках, противник на какое-то время покинул поле боя.
В воздухе непрерывно находилась авиация противника.
К исходу дня 24 июня полк, понеся большие потери, получил приказ об отходе с занимаемого рубежа. В бою погиб командир полка майор Серов.
При отходе дивизии к Слуцку по Варшавскому шоссе 141-й полк, идя в арьергарде, сдерживал танки противника, выставляя заслон из одной-двух гаубиц в местах, благоприятных к обороне. Последнюю гаубицу полк потерял в Слуцке 28 июня.
На реке Соже 55-я дивизия в составе 21-й армии вошла в состав Брянского фронта…
25 августа немцы стали обрабатывать передний край обороны, однако переправившийся на левый берег реки батальон немцев был уничтожен в рукопашной схватке.
Зная, что перед наступающими танками стоит 141-й артиллерийский полк, немецкое командование не рисковало наступать в лоб, а предприняло обходные маневры, используя свое превосходство в подвижности.
Ухудшилось обеспечение полка боеприпасами, горючим…
Примерно к 17–20 сентября 1941 года полк потерял основную материальную часть. Не хватало боеприпасов, кончилось горючее, прервалась связь с соседями, и полк потерял боеспособность».
Вот и все, что известно сегодня о последних днях Павла. Запомнили немногие оставшиеся в живых красноармейцы полка, что в первый день войны прибыли в полк молодые, сильные, крепкие, одетые в новенькую форму лейтенанты из Киева, и сразу же начались бои, где полк дрался мужественно и умело. Но без поддержки авиации, без снарядов и горючего, без надежных соседних полков — что он мог сделать?
В июле и августе, как видно из рассказа красноармейцев, полк отходил на другие позиции и не вел боев, у бойцов появилась возможность написать письмецо своим близким. Такой весточки Епистинья не получила. Значит, Павел погиб или в первых боях у реки Щары, или при отходе, когда одно-два орудия оставляли, чтобы прикрыть полк от наседавших немецких танков. Официально Павлуша «пропал без вести». Таких без вести пропавших за войну — около 6 миллионов.
Когда думаешь о судьбе Павлуши, представляешь извилистую речку Щара, желтеющее ржаное поле, зеленый лес, жаркое июньское солнце. Черные коробки танков с крестами выползают из леса. С воем пикируют на батареи немецкие самолеты. Вспышки огня, содрогается земля. Грохот выстрелов гаубиц. Крики, стоны раненых. Над ржаным полем ползет едкий дым. И около орудий своей батареи, в новенькой перепачканной, измятой форме — молодой лейтенант, Павлик.
Ничего про этот бой не узнала Епистинья. Знала лишь, что Павлик где-то «там», на войне; нет от Павлуши вести, но нет и казенного конверта, нет «бумажки». Надо ждать, и Павлуша вернется.
Окончание войны, сообщение о сыне со станции, возвращение Коли, возвращение других солдат с войны на хутор, слухи о наших пленных в Америке, в наших тюрьмах, слухи о сильно раненных, которые стесняются и домой приезжать, — все это взбудоражило состояние Епистиньи, родило реальные надежды: вот сегодня-завтра придут ее сыны.
Все казалось ей, что они где-то близко, еще что-то там доделывают, довоевывают, где не кончилась война, но со дня на день вернутся.
С какой надеждой, замерев, смотрела она на каждого прохожего, особенно военного — ну, это ты, ты, сынок! Она спешила, бежала к калитке с огорода, с подворья; но прохожие и военные шли мимо.
Письма, сообщения, извещения уменьшали надежды Епистиньи, но не лишали совсем. Все существо ее никогда и никак не могло принять нелепые утверждения «бумажек», укрепляясь тем, что и на Колю была «бумажка», а он пришел. Все-таки слышит Бог ее молитвы!..
Глава 14. ЧАША
Думы мои, думы мои,
Самые родные!
Хоть вы меня не покиньте
В эти годы злые…
Тарас Шевченко
Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ея, да будет воля Твоя.
Евангелие от Матфея
Думы
Жизнь на хуторе, возбужденная окончанием войны, возвращением оставшихся в живых солдат, слухами о невернувшихся, успокоилась, вошла в послевоенную колею и потянулась по ней дальше. Кому суждено было вернуться — вернулись домой или дали о себе знать. Погибших записали в поминальные книжки, и священник в станичной церкви пел им по праздникам «вечную память». Пропавших без вести ждали, еще на что-то надеясь. Но время постепенно заставляло всех смиряться с выпавшей судьбой.
Теплыми вечерами подросшие парни и девчата с песнями, смехом ходили по хутору. Мальчишки, еще довоенных лет рождения, гомонили на реке. На колхозных полях поднималась, желтела пшеница, стояла высокая кукуруза; с утра до вечера пропадали в полях, на токах и взрослые, и подростки.
По хуторской улице наставили столбов, и в каждой хате заговорили, запели черные тарелочки проводного радио, уверяя всех, что «с каждым днем все радостнее жить».
Черное, ужасное время войны медленно начало отодвигаться, уходить в прошлое.
Ушло и у Епистиньи возбуждение первых послевоенных лет, когда вернулся Коля и казалось, ну, сейчас, вот сейчас придет Филя, придет Павлуша, вернутся все сыны, не сегодня завтра увидит она их всех.
«Ну что же, родные мои? Где же вы?..»
Все в хате, на подворье, все на хуторе, все в мире напоминало о сыновьях.
Стоило утром лишь открыть глаза, как с фотографий на стенах смотрели на Епистинью ее сыны: стоял Ваня в длинной-длинной шинели и Вася в гимнастерке, перетянутой ремнями; играл на гитаре грустный Федя; будто спросив о чем-то, ждали ее ответа Илюша и Саша в белых рубашках и Павлуша в пиджаке с большим значком на отвороте; серьезный Филя в большущей кепке будто спрашивал, не забывает ли она «нащет питания». Смотрели сыны на мать и будто ждали, ждали от нее: мама кого-то попросит, куда-то съездит, сходит, что-то сделает, и они окажутся здесь, дома, заговорят, засмеются! Но что мне сделать для этого, сыны мои!.. Кого просить!..
Яблони на подворье напоминали о Ване и Саше, колодец — о Филе, двухпудовая гиря — о Павлуше и Феде, подвал — о «котике» Саше, швейная машинка в хате — об Илюше, граммофон — о Васе. Черная тарелочка радио запела любимые песни сынов, ее любимые песни, уносившие в счастливые дни.
За что ни возьмись, куда ни посмотри: хаты, сады, хуторская улица с прохожими, лошадь с повозкой, дорога, облака на небе, ребячий смех на реке — все напоминало о сыновьях. Сразу всплывала в памяти прежняя жизнь, звучали бодрые голоса сыновей, музыка, смех. Истосковавшееся по сыновьям сердце живо и радостно откликалось на это напоминание, на следы сынов, и тут же эту чистую радость пронизывало болью.
Забыться не удавалось никогда и ничем.
Не думать о сыновьях Епистинья не могла, и всякое воспоминание тотчас приносило боль и отчаяние. Боль и отчаяние ее были так велики, что долго она бы не смогла это вынести. Если бы не надежда.
Епистинья стала притихшей, погруженной в думы. С утра до вечера она постоянно занята была делом в хате, на подворье, в огороде и рада была тому, что дел этих в хозяйстве всегда много. Но что бы она ни делала: доила ли корову, пекла ли хлеб, готовила ли борщ, полола ли в огороде, главные думы ее были о сынах.
Думы были бесконечные, неопределенные, как степь в сумерки: и воспоминания о прошедшей жизни, о сыновьях, когда они были маленькими, о годах, когда в хате все пело и играло, о приездах сынов на каникулы и в отпуск, об их письмах; и мечты, что они придут, не могут не прийти, пусть даже раненые; и мысли о том, что надо что-то делать, чтоб найти пропавших сыновей; и страх, что их действительно больше нет; и обида на кого-то за такую великую несправедливость к ней, за жестокое наказание. И всегда — надежда, надежда. Все думы ее пронизаны были просьбой, мольбой: «Вернитесь, вернитесь, сыны мои! Я так жду вас!.. Помоги, Господи, сынам моим!..»
Белели ее волосы, гладко стянутые и уложенные аккуратным узлом на затылке; Епистинье уже скоро исполнится семьдесят. Лицо ее стало спокойным и усталым, взгляд печальным, ожидающим, движения неторопливые, плавные… Эта сдержанность вдруг прерывалась слезами, рыданиями, криками невыносимой боли. Чаще всего это случалось, когда дома никого не было: Епистинья позволяла себе немного поплакать, и вдруг не удерживала отчаяния — да что же это за судьба у нее такая! Холодный кулак вдруг стискивал ее изнывшееся сердце, всю ее охватывало могильным, равнодушным холодом безнадежности, и от ее криков вздрагивали ребятишки на улице, женщины-соседки.
Надо жить
Никогда, ничем не могла она отвлечься, забыться. Словно бы на донышко души Епистиньи поставлена была тяжелая, холодная чаша на срубленной, острой ножке, переполненная горьким, обжигающим горем. Чаша резала ее живую, нежную душу, постоянно кренилась, горе плескалось от всякого неловкого движения, неосторожного слова, от теплого воспоминания и жгло раны. Приходилось со всей осторожностью, бережно нести чашу, всеми силами снимать ее тяжесть, ровнять. Уравновешивала и облегчала чашу надежда. Уменьшалась надежда — и чаша остро резала, качалась, плескалась и жгла. Горькое горе в чаше не иссякало ни на каплю.
Приходила мысль о своей смерти: лучше бы умереть поскорее, ведь так жить невозможно, смерть прекратила бы все ее муки, все бы уравновесила, все примирила. Но тут же поднималось чувство протеста, даже возмущения. Без сыновей вся ее жизнь получалась сломанной, незавершенной, словно на полуслове оборвал кто-то ее лучшую песню. В душе Епистиньи с самого детства сложилась высокая гармония — любовь к этому миру, к людям, доброта, желание жить со всеми в любви и согласии, жить честным трудом. Это чувство приносило ей высшую радость, приносило и муки, обжигаясь о житейские несправедливости. Ей хотелось с помощью детей своих, а затем внуков распространить шире эту гармонию, внести в грубую жизнь больше доброты, согласия, любви. Добрые ее сыновья, мучаясь и сами, уже начали это самое важное ее дело в этом мире. И вдруг все обрывалось, все рушилось. Не завершалось главное… Нет, не может этого быть! Не может она уйти из этого мира, не завершив своего главного дела. Она дождется сыновей, и они продолжат его. Если она не хочет жить, значит, смирилась с гибелью сыновей, с недопетой песней. Если она перестанет верить, что они живы, значит, они погибнут, не вернутся. Если она перестанет ждать их, они не придут. Останавливало и чувство вины перед Михаилом — вот осталась жить и не смогла без него сберечь детей, растеряла их всех. Нет, нет, она будет ждать, она будет жить, она допоет свою песню.
Она не любила и не носила черных платков, черной одежды. Не любила с детства, не надевала и сейчас.
Вместе с привычкой то и дело смотреть в окно из хаты или поднимать голову на каждого прохожего, работая во дворе или огороде, у нее появилась привычка приберегать, не есть лучшее яблоко, красивую конфету, пирожок, лучший кусочек за столом: вдруг сегодня придет кто-то из ее мальчиков, а у нее и угостить нечем. В укромном уголке всегда стояла у нее бутылочка «Московской» водки.
Сердечность, внимательность Епистиньи притягивали к ней соседок, хуторян, родственников. Она всегда была и оставалась доброй, приветливой. Но горе ее, чаша ее, напряжение изболевшейся души выделяли ее из всех, из будничной жизни хутора. Решиться подойти к хате, к калитке, поговорить с Епистиньей мог не каждый, не всякому это было по силам. Нельзя было сидеть с ней на лавочке, щелкать семечки и, позевывая, сплетничать. Она этого и раньше не любила, а сейчас и вовсе была на это неспособна.
Люди простые сердцем тянулись к ней: и поддержать ее, и почувствовать, как малы свои несчастья, как мало свое горе рядом с ее горем. Заходили знакомые, заходили прохожие, заходили нищие, собиравшие по хуторам милостыню. Епистинья всех встречала приветливо, для всех находила угощение. Она и дочь, и внуков всегда наставляла: «Гостя накорми обязательно. Все, что есть, на стол поставь. А нет ничего, так хлеб да соль — и то угощение. Главное, чтоб видел он, что ему рады в нашем доме».
«У бабушки всегда находились люди, родственники, — рассказала дочь Николая Людмила, — мне кажется, что ее душевная простота, чистота, безобидность и большое горе привлекали людей. В те годы были свежи раны от войны, и все старались как-то отвлечься другими разговорами, но неизбежно касались и этой темы. Мне кажется, что только отец мог душевно, чутко подойти к бабушке, поговорить и успокоить ее.
Хата бабушки стояла так, что никто мимо не проходил, всегда задерживался, просили просто попить воды, немного отдохнуть, и бабушка всегда с удовольствием принимала знакомых и незнакомых людей.
Мне всегда казалось, что она ждала вестей, а вдруг кто-нибудь слышал что о ее сыновьях…
Бабушка часто выходила за калитку и все вглядывалась в проходящих мимо людей. В общении с людьми она черпала силу и мужество.
Я ежегодно весной, летом приходила помогать ей полоть, сажать огород. Бабушка любила делать все споро, быстро, красиво, хотя здоровье не всегда позволяло. Она мне всегда говорила: смотри, чтоб рядки были ровненькие и красивые.
У бабушки, кроме сада, был чудесный палисадник, и цветы цвели необыкновенные до поздней осени. Она делала мне красивые букеты из разных цветов, и когда я несла букет по Тимашевской, меня все спрашивали, где такой красивый взяла, и у меня была гордость за свою бабушку.
А какие вкусные пироги она пекла, ни у кого таких не было. Она любила угощать всех. Для этого она мне давала деньги и просила, чтоб я купила ей шоколадных конфет и чтоб обертка была красивая, а конфеты свежие, вкусные, для угощения брала «Московскую» водку. Так она всегда старалась «помянуть» своих детей.
И сама бабушка всегда была аккуратная, чистенькая, спокойно рассудит, я не помню, чтоб она повышала голос, кричала».
Сколько любви, сколько почтительности у внучки к бабушке!.. Маленькие внуки поддерживали Епистинью своей беззаботностью, своим желанием жить, несмотря ни на что.
Из прежней близкой, взрослой родни остался лишь Фадей. Покоились на кургане вместе с Михаилом Данила, Свиридон, Пантелей, все они как бы молча укоряли Епистинью за недостойную душевную слабость.
Надо было жить. Надо было ждать.
Кому нести печаль свою?
Главной опорой и поддержкой Епистинье стал Николай. Она всегда чувствовала присутствие рядом старшего сына.
Всем своим существованием, судьбой своей он придавал ее надеждам на возвращение сыновей, ее вере в чудо реальный смысл.
Жил Коля на другом конце хутора. У него своя семья, трое детей, хата, хозяйство, работа в колхозе без выходных. А он раненый. Поэтому часто навещать ее он не мог.
И ей непросто было пойти и навестить сына. Затягивали постоянные дела по хозяйству; но и не в них было дело. Епистинье хотелось прийти к Коле и посидеть вдвоем со своим старшим сыном Может быть, просто помолчать, может, тихонько поплакать, пожаловаться, послушать слова утешения и надежды. Ведь невыносимо нести одной тяжкий крест.
Но приходилось выполнять в гостях у Коли некую роль свекрови и бабушки. Что-то говорила, рассказывала Дуня, чем-то угощала, на что-то жаловалась; теребили бабушку внуки, что-то показывали, привыкшие к тому, что бабушка всегда внимательна к ним, ко всем их делам, к их жизни.
Конечно, среди этой суеты выдавалась минутка, когда можно и с Колей перекинуться взглядом, перемолвиться двумя-тремя словами. Но не минутку среди суеты хотелось побыть с сыном.
Епистинья видела, что и Коле жить непросто. Ноги его, иссеченные осколками, постоянно болели, на одной ноге никогда не заживала открытая рана, к которой прикладывали разные травы и примочки. И ходил он, опираясь на палку, почти не расставался с нею. Он никогда не жаловался на боли, на здоровье, но оно подтачивалось этой сочащейся раной. Много душевных сил истратил Коля за войну, и его подкосило известие о гибели братьев. Коля тоже не железный, он тоже нуждался в поддержке; им бы почаще видеться, разговаривать. Но как-то не получалось.
После войны, после великого напряжения, где была растрачена вся страсть объединенного горячего труда, когда стало ясно, что не придут, не вернутся на землю такие толковые, азартные бригадиры и рядовые трудяги, как Филипп, как Нестер Тупиков, другие Степановы, Рыбалко, Свенские, Цыбули, колхозная жизнь сникла и потускнела.
Обнажилась во всей бытовой неприглядности давняя истина: нет у крестьян земли, нет воли. Отняты, растоптаны все три согревавшие, укреплявшие их жизнь и быт веры. Запрещены старинные праздники и гулянья, разрушены храмы, хозяйственными делами, всей жизнью крестьян правили некие начальники, к назначению или снятию которых они не имели никакого отношения. В хозяйственных делах был потерян вековой крестьянский опыт. Принуждали беспрекословно подчиняться абсурду — пахать по команде из района, сеять по команде, выращивать не то, что выгодно, а то, что прикажут.
На трудодни в колхозе по-прежнему давали скудно. Хлеб и все, что росло на полях и в садах, минуя колхозные амбары, шло в заготовку. Денег не хватало даже на займы и налоги; из-за налогов на яблони, груши хуторяне стали вырубать и без того поредевшие в оккупацию сады около хат.
Порядки установились скользкие, неопределенные, колхозными делами самоуверенно управляло множество всякого начальства. Чтобы более-менее устроить свои домашние дела, надо было крутиться, вертеться, кому-то угождать, перед кем-то заискивать, а этого никто из Степановых особенно не любил.
Кормились тем, что собирали со своих огородов, что давал свой скот. А чем скот накормить? Ведь преследовали, даже сажали просто за несколько колосков, поднятых на колхозном поле.
Самой Епистинье с трудом, с помощью родственников удалось выхлопотать небольшую пенсию за «потерю кормильца» — за Героя Сашу.
Епистинье не приходило в голову идти к властям, к начальникам и чего-то просить, добиваться. Вернуть сынов они не могли. Районные власти же относились к существованию матери, у которой восемь сынов погибло, защищая Родину, настороженно, словно к недопустимой крамоле, вызову с ее стороны. Горе ее без слов говорило, кричало об огромной беде народа, невероятных потерях, ставило под сомнение победные речи, а также полководческий гений генералиссимуса, и власти боялись, что с них за это спросят другие власти. Поэтому о Епистинье не писали газеты, местные власти старались не замечать ее, одергивали, когда она робко напоминала о погибших сынах. Ведь даже маршала Жукова Сталин убрал с глаз народа и общества, услал из Москвы.
…Были планы и у районных властей — выслать Епистинью куда-нибудь подальше, на Север, куда ссылали казаков. Но не получилось: совесть ли проснулась, или опасались привлечь внимание к судьбе матери, а может, подумали — зачем же высылать ее с глухого степного хутора.
Луга, степь распахивали все больше, хотя сеять не торопились, и валы чернозема зарастали бурьяном; накосить сена для своей коровы, для овец становилось все труднее. Выходных в колхозе не было, работали дотемна.
«Косил отец в лунные летние вечера на каких-то полянах, которые удавалось найти, — рассказал Валентин. — «Накосить — это самое легкое», — говорил отец. Недели две после этого он каждый день ездил к своему сену: сушил, собирал от дождя в копны, опять разбрасывал для просушки. Лишь потом брал лошадку и вез сено домой».
Непросто, а кому-то и невозможно было уйти из колхоза; паспортов не было, никаких документов в сельсовете не выдавали, а без документов как появиться в городе? Но уходили все, у кого только появлялась возможность: ребята шли в армию и не возвращались, девчата поступали учиться и оставались в городах. Ростов-на-Дону, Азов, Краснодар, Ставрополь, Донецк, Таганрог, Мариуполь заполнялись ребятами и девчатами с кубанских хуторов и станиц. Потомки казаков и потомки иногородних двинулись в обратный путь с благодатной Кубани. Двухсотлетний поиск народом счастья здесь, на юге России, не стал удачным. Жизнь перекрутилась, запуталась и ушла далеко от народной мечты. Теперь народу хотелось просто отдышаться, набраться сил.
Ушел из колхоза и Николай. На счастье Епистиньи, он перешел работать на пенькозавод, недалеко от Тимашевской, с той стороны хутора, где стояла хата Епистиньи. На пенькозаводе Николай работал тоже плотником и столяром, но здесь платили твердую зарплату, были выходные, восьмичасовой рабочий день.
Теперь каждое утро и вечер Николай проходил пешком или проезжал на велосипеде мимо хаты матери. Епистинья подходила к калитке или к изгороди, Николай останавливался, и они теперь каждый день вдвоем хоть недолго разговаривали. Если матери у калитки почему-то не было, Николай заходил в хату узнать, не заболела ли.
Видеть каждый день сына было для Епистиньи большой радостью. Она то яблочко ему даст, то конфет, то денежку: «Попей пива». Николай смеялся: «Мама, я уж большой, а ты конфетками угощаешь». Епистинья улыбалась: «Ты мой сынок единственный. Для меня вы все дети».
Жди и надейся
С раннего утра и допоздна Епистинья все что-то делала и делала на участке, в огороде, в хате.
Огород-кормилец требовал много трудов, и он спасал, отвлекал Епистинью от отчаяния. Требовали постоянной заботы корова, поросенок, куры, кот Барсик, Шарик. Внуки Жорик и Женя ходили в школу, забота о них тоже на ней, ведь Шура дотемна работала в колхозе.
Очень любила Епистинья цветы. Лишь только начинало пригревать солнышко, высаживала она в палисаднике семена, и до поздней осени цвели, сменяя друг друга, чернобривцы, панычи, тюльпаны, пионы, розы. Уже иней по утрам окутывал деревья, а возле хаты цвели яркие астры, дубки. Стойкость цветов радостно поражала Епистинью: «Надо же. Мороз! А они цветут!..»
Заходили к ней соседки: Тыщенчиха, Буравлиха. Эти женщины были просты, душевны и доверчивы, у них тоже корявая, горестная жизнь. Завязывался вечный женский разговор о хозяйстве, погоде, снах и слухах.
Епистинья не любила, когда ее начинали утешать, она чувствовала, что ее хотят примирить с потерей, с тем, что сыновья погибли и не вернутся. От этого душа наполнялась нестерпимой болью; от утешений она плакала еще больше или уходила.
Жадно слушала она разговоры, всякие слухи о пришедших с войны пленных, об израненных и калеках, которые живут где-то в особых госпиталях, о вернувшихся из наших тюрем, куда были посажены после возвращения из плена. Слухи о причудливых судьбах солдат согревали надеждой не одно женское сердце.
Вот и Епистинья придумывала какие-то сложные истории, где сыновья долго боролись с выпавшими им на войне и после войны бедами, где переплетались раны, госпитали, лагеря, Америка, даже тюрьма. Но сыны помнили, всегда чувствовали, что дома ждет их мать, и потому одолевали все преграды, все невзгоды и пробивались, возвращались домой. Ах, как это согревало душу!..
Трудней было зимой. Дел по хозяйству поменьше, день короткий, быстро темнело, затихал уставший хутор, и тянулся долгий зимний вечер.
Тихо становилось в хате.
Давно спали внуки, набегавшиеся за день. Ложилась и Шура, ей по-прежнему доставалось на работе. Не спалось лишь Епистинье, погруженной в бесконечные думы. Думы помогали ей установить в душе равновесие и звать, звать сынов домой, подбадривать их в невзгодах.
Перед иконой Божьей Матери горела лампадка, освещая зыбким светом переднюю часть хаты, белые стены, шкаф, кровать, фотографии в рамках на стене и присевшую на краешек кровати пригорюнившуюся Епистинью.
Она подходила к окну. На широком открытом подворье белел снег и было тихо. Не слышно ничьих шагов, не мелькала ничья фигура. Спал хутор.
Епистинья осторожно отворяла скрипучую дверь шкафа. Протянув руку, брала беленькую рубашку Саши. В этой рубашке он ходил вечером на гулянье, у него уж и девушка появилась. В этой же рубашке прибежал он, радостный, из военкомата, сел ей на колени, обнял: «Не насиделся еще у мамы на коленях!» Конечно, маленький еще, младшенький…
А вот Илюшина рубашка. В ней он ходил на танцы с Таней, когда залечивал дома свои раны. А сейчас дочка Илюшина уже подрастает, прибегает в гости к бабушке.
Старенькую Васину косоворотку и Ваня носил, и Павлуша. Латаная-перелатаная. Епистинья сама ее когда-то шила.
В верхнем ящике шкафа лежала серая Филина кепка с большущими полями. Филя носил ее весной, летом и осенью, только на зиму расставался, надевал шапку. В этой кепке корреспондент перед войной сфотографировал Филю на пшеничном поле.
Казалось, одежда хранила еще тепло сыновей. Будто и не ушло время. Звучали их голоса, смех, кипела жизнь, звенела музыкой… Но рубашки на коленях, открытый шкаф, хата, освещенная робким светом лампадки, возвращали к жизни сегодняшней, к тому, во что никак не хотелось верить. Обжигала душу плескавшаяся горечь. Капали на одежду сыновей слезы.
Епистинья осторожно закрывала дверцу шкафа. Подходила к иконам.
Страдающими глазами смотрела на нее освещенная лампадкой Божья Матерь. Страдающими глазами смотрела на Божью Матерь Епистинья.
«Пресвятая Дева Мария, милосердная Божья Матерь. Жду я сынов моих. Не верю я и никогда не поверю, что их больше нету. Они ведь вернутся. Но скажи, сколько ж мне ждать их?.. Ведь я уж старая, уходят мои силы. Неужели уйду я из этого мира и не увижу больше сыночков моих?.. Они где-то близко, я разговариваю с ними, я зову их домой, смотрю и смотрю в окно, смотрю на улицу, а их все нет. Дождусь ли их?.. За что определил мне Господь такую судьбу? За что он так наказал меня?!.. Заступись перед Господом. Верни мне сынов. Мне бы только посмотреть на них, посмотреть на младшенького, Сашеньку, на Илюшу, на Филю, его и Шура ждет, плачет, и дети все глаза проглядели. Мне бы на Ваню посмотреть, на Васю, на Павлушу. Посмотреть бы, а потом на все я готова, на все муки, какие определит мне Господь. Помоги сынам прийти домой, укажи им дорогу… Ведь не так уж сильно провинились мы все перед Господом… Что же за грех на мне такой?..»
На все свои вопросы, обиды, раскаяния и недоумения Епистинья получала ответ:
«Так надо. Жди и надейся».
Но кому это «так надо»? На что надеяться? Сколько ждать?.. На это Богородица не давала ответа.
Епистинья не могла взбунтоваться против воли Бога или подавленно, смиренно покориться судьбе, сложить всю тяжесть потерь, все случившееся с нею и сынами на Всевышнего — раз такова воля Божья, ничего не поделаешь. Нет, она не устранилась, не умаляла своей воли, сама отвечала за сынов, звала их, верила, что они живы; сыны были ею самой, и от Бога она просила помочь ей, помочь сынам прийти домой. Великую тяжесть она несла сама, не перекладывала ни на кого, не устранялась. Мужественно, строго и благородно старалась держаться Епистинья перед всемогущей волей, насколько хватало сил.
Долго-долго тянулась зимняя ночь.
Внуки
Приходила весна. Исчезал снег, солнышко тепло касалось щеки или руки, над хутором, над степью свежо голубел обновленный купол неба с белыми, упругими кучевыми облаками. Волновал запах оттаявшей земли, родного чернозема. Короче становились немилые ночи.
Появлялись заботы, которые хоть и не уводили совсем от сосредоточенных дум, но ненадолго отвлекали, и Епистинья погружалась в весенние и летние хлопоты по огороду и хозяйству.
Огород был кормильцем, и работать на нем приходилось с утра до вечера. Надо было заранее хорошенько обдумать, обговорить с Шурой, где, чего и сколько сажать, вырастить рассаду, замочить и прорастить семена.
Картошка, капуста, кукуруза — это основное, без чего вообще не прожить семье. Ну а как же обойтись без свеклы, лука, укропа, огурцов? Приедут внуки. Значит, нужно посадить горох и бобы, да так, чтоб к их приезду они как раз поспели. Чеснок, помидоры занимали особые грядки, тыкву можно посадить по краешкам любых грядок. На любом свободном месте можно насажать подсолнухов, зато как они украшали огород, как по-доброму смотрели из-за плетня. На все хватало сил у могучей черноземной земли…
Епистинья планировала: приедет зять — починит сарай, изгородь, почистит колодец.
Наступало лето, кончались занятия в школе. Валентина с Иваном, перебравшиеся из Прибалтики в Ростов-на-Дону, привозили к бабушке своих детей, Вову и Зину. В один из таких приездов зять Иван и попробовал поднять вязанку хвороста и кукурузных стеблей, принесенную Епистиньей с поля, да не поднял.
«Каждое лето мы выезжали на хутор к бабушке, — рассказала Зина. — Она встречала нас так, как никто никогда не встретит. Часто приезжали «сюрпризом», бабушка только всплеснет руками, вскрикнет от радости и бежит навстречу, роняя слезы. Тогда мне было невдомек, что от радости тоже можно плакать. Нами с братом Володей она всегда руководила без окрика, но так, что не ослушаешься. Несмотря на возраст, неутомимость и подвижность бабушки поражали даже нас, детей. Целый день бегает, хлопочет, в хату заходит только спать. И все успевает: и сготовить обед, и полить огород, нарвать траву животным, накормить их всех, слазить на горище по вертикальной лестнице, несколько раз на день спуститься в подвал, быть всегда при этом доброжелательной и спокойной, не отмахиваться от наших бесконечных вопросов, отвечать нам».
Городские внуки вместе с Жориком и Женей вносили в жизнь дома летнее оживление. К ним прибегали с другого конца хутора дети Николая: Валентин, Толя и Люда. Приходила Илюшина и Танина Лида-Света. Вот уже и восемь внуков. Шум, гам, смех, слезы, беготня.
«Накидаю целый подол внуков…» Сколько бы внуков было у нее, если б пришли все сыны. Какая большая была бы у нее семья. Больше было бы в этом мире доброты, которую несли бы людям ее дети, внуки, правнуки.
«Когда я приходила к ней в гости, она первым долгом старалась накормить, — рассказала дочь Илюши Светлана. — Расспросит, как дошла, не устала ли, как дома, никто не болеет, что получаю в школе, что нового мама купила к празднику.
Пообедав, мы убегали с Жорой и Женей в сад, где были такие вкусные яблоки. А потом бежали в огород, где горох, морковь, арбузы.
Бабушка тем временем пекла блинчики (блинцы)…
На следующий день, когда я уходила от бабушки домой, провожая меня, бабушка говорила, чтобы я «шла по стенке», на дорогу не выходила, а если кто шел в мою сторону, поручала довести до дома».
«Бабушка любила нас, встречала с радостью, в ее карманах всегда находились гостинцы, которыми она щедро нас наделяла, — рассказала Людмила. — Мы лазили по деревьям, рвали вишни, сливы, абрикосы, яблоки, все было в саду, и малина, и горох.
Никто не запрещал рвать, всего было много. Нам в саду всегда было приятно бывать, а бабушка любила сад по-своему, он напоминал ей о сыновьях, и она часто находилась с нами в саду.
Изредка она говорила: смотри ветку не обломи, эту яблоню сажал Ваня. И стояла она возле дерева грустная и спокойная и смотрела, как мы лазили по деревьям, лишь изредка делая замечания, спокойно, неторопливо, что нам нравилось, мы чувствовали ее большую любовь к себе и тем же платили ей. И меня сейчас коробит, кто без уважения относится к пожилым людям, к бабушкам. Мне жаль в чем-то этих людей».
Если закрыть глаза, присев на скамеечку в хате, то доносившиеся с подворья голоса внуков уводили в то время, когда сыновья были еще маленькими и так же вот бегали, шумели, смеялись, то и дело обращаясь за чем-нибудь к матери. Вот забегают в хату, голоса, топот ног. Сыночки мои!..
Но, открыв глаза, видела внуков, а сыновья смотрели с фотографий на стенах. Сколько раз так было: лишь забудется ненадолго, только лишь удастся поверить на минутку, что не ушло время, что сыновья живы и не было войны, как возвращение к сегодняшнему еще больней жгло душу до физической нестерпимой боли. Епистинья плакала.
Дети, думая, что бабушка плачет из-за их шума и беготни, сразу замолкали и тихонько, разговаривая шепотом, шли к двери.
Епистинья улыбалась им, утирала слезы, начинала расспрашивать, вникать в их детские забавы и развлечения.
«Бабушка, вы не из-за нас плачете?» — спрашивали более деликатные девочки.
Вместе с Николаем
В 1951 году Николай решил переехать с семьей в районную станицу Тимашевскую. На хуторе была лишь начальная школа, окончив которую, дети ходили в станичную школу, а это пять-шесть километров. Тяжело было и самому Николаю, особенно зимой и в распутицу, ходить на пенькозавод. Рана не заживала, он по-прежнему ходил с палочкой; набегали годы.
Домик в станице он присмотрел на берегу Кирпилей, а через речку, на другом берегу, стоял завод, перерабатывавший коноплю. В общем-то это не так уж далеко от хутора.
Епистинья сильно огорчилась, когда узнала о замысле Николая. Она привыкла каждый день видеть сына, разговаривать с ним, заботиться о нем.
Николай думал и о матери. Он предложил ей переехать с ними и жить вместе.
Епистинья понимала, что Николаю непросто было предложить ей это. Домик маленький, в семье и без нее пятеро; но дело даже не в тесноте, Николай рассчитывал сделать пристройку. Непростыми всегда складываются отношения снохи и свекрови. Епистинья — мать, Дуня — жена, и у каждой были свои отношения с Николаем. Дуня ревниво относилась к Епистинье, видя, как бережно обращается Николай с матерью, и поэтому не выражала радости и желания жить с нею вместе. Николай настойчиво уговаривал жену.
Не хотелось, неловко было Епистинье уезжать из своей хаты, оставлять Шуру и внуков Жорика и Женю. Ведь она же сама уговорила Шуру не выходить замуж, а тут бросает ее. Да и к хате привыкла, к подворью, соседкам, к хутору.
Но и зимние вечера и ночи стали все более длинными, невыносимыми. Одна, без поддержки сына сможет ли она нести свою ношу, крест свой?
Посоветовались, поговорили, обсудили и решили так: зимой она будет жить у Николая, на лето возвращаться на хутор.
Николай продал на хуторе хату, корову и переехал с семьей в Тимашевскую. А как наступили холода, собрала Епистинья в чемодан вещички, письма сынов с войны и пошла зимовать к Николаю.
«Осенью бабушка приезжала к нам, — рассказала Людмила. — Мне помнятся долгие зимние вечера, когда все собирались дома, потрескивал огонь в печке, тепло, уютно.
Бабушка любила перебирать в это время фронтовые письма в своем чемодане. Любила просто подержать письмо в руках, затем неторопливо, осторожно передавала мне и говорила: «Люся, почитай, это от Фили… последнее…», «А это — от Васи…», «А это от командира Лисицына… Видно, хороший человек, нашел время написать и поблагодарить за моего сыночка».
Бабушка почти каждое письмо знала наизусть, но всегда просила почитать, а иногда попросит повторить понравившуюся строчку.
Обычно после письма бабушка немного помолчит, а затем начнет вспоминать, как тяжело было жить, не в чем в школу ходить, да и на улицу по очереди бегали: то валенок не было, то сапог.
Вспоминала, как Павлик приехал зимой на каникулы по грязи, на одной ноге галош, а на другой — какой-то тапок, и оба перетянуты веревкой. Наш папа был старший в семье, поэтому то, что он покупал себе новое, осенью, после урожая, всегда отдавал братьям, а маме говорил: «Они на людях находятся, пусть носят, а я и так красивый, ты меня и так любишь».
Часто чтение писем заканчивалось тем, что мы с бабушкой плакали вместе.
Особенно тяжело было для бабушки, когда садились обедать за стол. Бабушка окинет стол взглядом, нет детей, и слезы на глазах, а иногда не сдержится, зарыдает. Папа в такие минуты был очень чуткий к бабушке. Он беседовал, подолгу разговаривал, приводил примеры, и бабушка потихоньку затихала. Слово «мама» отец произносил как-то трепетно, ласково и душевно: «Вы, мама, не расстраивайтесь, нельзя же так терзать сердце…»
Коля, сын мой! Ведь совсем недавно сидели вы все, сыны мои, за большим столом вместе с вашим отцом, и я смотрела на вас, любовалась вами, как будто шептал мне кто: смотри, смотри, недолго осталось тебе видеть их. Не я терзаю сердце свое, это горе мое, беда моя изводит меня днем и ночью.
Деликатная Епистинья чувствовала себя у Николая как бы в гостях и совсем не претендовала на роль хозяйки. Ей хотелось лишь чувствовать рядом присутствие сына, его мужскую поддержку, в скромных заботах о нем хоть ненадолго забывать свое горе, не давать переполненной горечью чаше крениться и плескаться.
Дом Николая стоял так, что мимо него хуторские жители проходили на базар в станицу. И в базарные дни земляки заходили навестить Николая, Дуню, навестить Епистинью, поговорить, попить чайку, рассказать хуторские новости.
Епистинья и сама ходила на хутор, навещала Шуру, внуков, хату. Конечно, в хате что-то менялось: передвигали кровати, по-другому ставились столы и стулья, на ее кровати спал кто-то из внуков, по-своему хозяйствовала Шура. Епистинья и тут, в своей хате, начинала чувствовать себя как бы в гостях. Что делать! Жизнь шла, остановить ее никто не может.
Умер Сталин. Умер человек, олицетворявший недобрые силы, с которыми всю жизнь боролась Епистинья, боролась за души своих детей. В борьбе этой она победила — дети не изменили ей, но… где они?..
При Хрущеве истощенная, зажатая страна, вся жизнь в ней оживились, задвигались, повеселели. С заметным облегчением вздохнули деревенские люди: налоги отменялись, платить стали получше, хоть и по-прежнему не давали крестьянам ни воли, ни земли.
В газетах стали больше писать о фронтовиках, о бедах войны, о том, какой высокой ценой заплатил народ за победу. Житель Тимашевки Никита Матвийчук написал про необычную судьбу Епистиньи, про ее сыновей и разослал заметку во многие газеты.
Написал Матвийчук в героических тонах, как и принято было тогда писать о войне, но жизнь Епистиньи, гибель ее сыночков, горе старенькой матери поражали всякого, больно обжигали и сквозь возвышенные строки. Епистинье стали приходить письма от незнакомых людей из городов и деревень всей страны. Люди хотели чем-то помочь ей, поддерживали, сочувствовали, ободряли. Людмила читала письма бабушке, а потом, поплакав, они вместе писали ответы.
Приходила весна. Епистинья возвращалась на хутор.
Побелели ее волосы, в глазах стояла непроходящая печаль. Ей шел восьмой десяток.
«Сыграйте на баяне маршик…»
Оживившаяся вокруг жизнь подбодрила Николая, куда-то потянула, позвала. Повеяло временем молодости, смелых замыслов, увлечений, и душа молодо откликнулась. «Эх, махнуть бы на целину или на какую-нибудь великую сибирскую стройку!..»
Но не сбросишь с плеч годы, никуда не денешься от болевших ран, от забот о семье, о матери.
«Особое место в жизни отца занимала музыка, — рассказал Валентин. — Помню его слова: «Музыку я люблю с детства, как помню себя». Музыке он не обучался, она жила в нем. Мне иногда казалось, что баян для него как одухотворенное существо. Отец доверял баяну свои невзгоды, огорчения, все несостоявшееся. Баян дарил ему и радость, будил в нем желание радоваться жизни».
Николая по-прежнему нарасхват тащили на свадьбы и гулянья, хотя и он, и особенно Дуня соглашались неохотно, потому что на всякой свадьбе, повинуясь непонятному нашему закону, стараются непременно напоить гармониста; смертельно, агрессивно обижаются на его отказы. Николай всегда играл на демонстрациях, шел по площади районной станицы в колонне пенькового завода, «веселил коллектив». Дуня несла скамеечку, чтобы он мог поиграть сидя или просто отдохнуть.
Любил Николай поиграть на баяне тихими летними вечерами, сидя на лавочке около дома. Садилось солнышко, затихала многострадальная станица Тимашевская, хаты освещались теперь электричеством, а не каганцом, в каждой звучало радио, появились телевизоры, а не допотопные «волшебные фонари», но если бы посмотрел на Тимашевку наш знакомый незнакомец Г. Бурко, то и сейчас мог бы только вздохнуть — нет, не прибавилось счастья в прежней «захолустной станичонке»…
Над рекой в вечерней тишине плыли протяжные мелодии баяна. Все печали, тоску-кручину, горечь такой странной своей жизни вкладывал Николай в эти вечерние мелодии; где-то далеко-далеко брезжило золотое, короткое времечко, когда отец купил ему коня, и он, чубатый, бравый молодец, гарцевал на нем, участвовал в скачках. А затем все сбилось — неудавшееся ночное похищение Ани, женитьба на Нине Павловне, Лушка, Грузия, еще женитьба, война, раны, горе, — и словно ушли куда-то силы жизни, с трудом заставил он себя жить дальше…
К Николаю тянулись все — шли соседи посидеть вечерами на лавочке, послушать баян, поговорить, шли за плотницкими инструментами, за советом, за помощью. Тянулись к нему все родственники. Он просто и естественно объединял всех, около него было спокойно, надежно.
Собирались иногда гулянья, у Николая или на хуторе у Епистиньи. Приходили Фадей, Коржов Иван, Валентина, другие родственники — остатки когда-то такого пышного, но так безжалостно порубленного рода Степановых, рода Рыбалко. Николай играл, кому пелось — пели.
Несмотря на огромную усталость от жизненных бед, у Николая не угасала, проблескивала молодость души. «Он всегда был чем-то занят, — рассказала об отце Людмила, — плотничал, занимался фотографией, читал книги, газеты. Любил охоту, рыбалку. Приезжал с охоты, весь увешанный зайцами, даже волка застрелил… Я помню случай, когда мы строили дом, то наняли цыган месить глину. Вот с этого момента цыгане почему-то в отце души не чаяли. Мама его ругала несколько раз за цыган, а он смеялся и говорил: “Дуня, да ты посмотри, это же прекрасные ребята, смотри, какие они хорошие!..” По цыганскому обычаю стал жениться знакомый цыган, он привез к нам невесту свою на несколько дней, к дяде Коле, чтобы спрятать. Затем состоялась помолвка. Отца пригласили на цыганскую свадьбу. Дружба продолжалась очень долго. Отец играл им на баяне».
Как же могло не увлечь Николая цыганское отношение к жизни — любовь к песне, к воле, мудрое почтение к судьбе, к обычаям и обрядам. А похищение невесты возвращало в юность, оживляло всю жизнь. От цыган веяло молодостью, чем-то настоящим, до боли родным. Стихия цыганской жизни взламывала скучный, заземленный, такой тусклый быт тех дней.
Неохотно рассказывал Николай о войне, невнимательно слушали дети и родственники его скупые рассказы. И о том, где и как он воевал, где и в каких боях был ранен, известно сейчас еще меньше, чем про других братьев.
Как ни тянулся Николай к чему-то свежему в жизни, необычному, веселому, силы его подтачивались ранами, той же усталостью, годами. Он стал чаще болеть, плотничать больше не мог, перешел в сторожа. А затем пришлось оставить и эту работу. Болезнь одолевала.
Николай понимал, что надо бы ему подержаться, надо бы побыть еще на этом свете рядом с матерью, нельзя оставлять ее. Но где взять силы? Их сожгла война, беда, остатков хватило лишь вот насколько.
Теперь сил едва набиралось, чтоб пройти к калитке да посмотреть на улицу или вечером просто посидеть на лавочке, уже без баяна.
Понимая, что дни его сочтены, Николай, грустно улыбаясь, просил: «Будете хоронить — не плачьте, а сыграйте на баяне какой-нибудь маршик…»
Осенью 1963 года Николай умер. Ушел от Епистиньи последний сын.
На традиционной в таких случаях фотографии Епистинья смотрит на уснувшего вечным сном сына горестно, но без отчаяния. Жизнь Николая, единственного из всех сынов, вышла более или менее завершенной; были детство и юность рядом с отцом и матерью, была любовь, семья, есть дети, пришел с войны живой, пожил на свете шесть десятков годков и умер среди своих, близких людей.
Но Епистинья лишилась главной своей опоры. Теперь надо было вновь одной нести пригибающий к земле крест. Нести в душе тяжкую, обжигающую чашу свою. Силы ее иссякали, ей шел восемьдесят первый год.
И все же нельзя было перестать ждать сынов, постоянно думать о них, просить кого-то вернуть их домой. Без этого жизнь теряла смысл. Тогда она словно бы обрекала сынов на забвение, отдавала их кому-то. Если уж она не будет ждать их, думать о них, они не придут никогда.
Глава 15. КЛАНЯЙСЯ ЛЮДЯМ
…Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
М. Ю. Лермонтов. Молитва
Как жить дальше?
Ушел от Епистиньи Коля. Разъехались и дети Николая: Людмила вышла замуж, Анатолий и Валентин поехали учиться в Ростов-на-Дону.
Епистинья и на зиму осталась теперь в своей хате на хуторе с Шурой.
Судьба Епистиньи, горькое ее горе, поражающая своим размером беда и ее стойкое, великое ожидание сынов западали в душу всякого, кто слышал об этом, тревожили совесть, рождали смутное чувство вины. Люди хотели знать больше.
К старенькой Епистинье приходили корреспонденты районной газеты, расспрашивали ее, читали и переписывали письма сынов, а затем появлялись заметки. Неутомимый Никита Матвийчук, придумавший и самому себе громкую биографию, писал о Епистинье и сыновьях героические статейки и рассылал по всей стране, по всему миру. Сквозь громкие фразы и фантастические домыслы пробивались ее горе, ее любовь и страдания. Приходили письма с разных концов «необъятной Родины». Наши хлебнувшие горя соотечественники писали ей теплые письма.
Но и заметки, и письма все-таки слабо поддерживали Епистинью. Сочувствие людей было, конечно, дорого, но всякий видел ее горе по-своему, обращался не к хорошо знакомой им Епистинье, а к какой-то неведомой им женщине. Никто не мог заменить Колю с его душевным, ласковым голосом: «Вы, мама, не расстраивайтесь, нельзя же так терзать сердце…»
К тому же в заметках звучало: «погибли, погибли», и в письмах люди сочувствовали тому, что больше нет и не будет у нее девяти сынов. А с этим душа ее не могла примириться никак. Хоть сама Епистинья и говорила иногда: «А мои сыночки погибли за Родину», это было только внешнее согласие, потому что не было явственных знаков для реальной надежды. Но душа не могла принять, не могла согласиться, что Федя, Вася, Филя, Ваня, Илюша, Павлуша и Сашенька погибли, что их больше нет и не будет. Все они словно бы смотрели на нее откуда-то и ждали от нее помощи, слова, призыва, чтоб вернуться домой. И она никогда не перестанет их звать, не перестанет ждать, не перестанет призывать Бога помочь им.
Ни на кого не могла она переложить свой зов, ожидание свое, надежду, чашу свою — ни на Бога, ни на людей.
Ничего не менялось и в быте Епистиньи оттого, что о ней стали писать в газетах. Словно бы корреспонденты рассказывали о какой-то другой женщине, героической матери, грозе фашистов, вылитой из бронзы, а не живой, старенькой, изболевшейся Епистинье, которая теперь, после потери последнего сына, не знала, где и как ей жить дальше…
Жорик и Женя выросли, закончили школу и уехали работать в Ростов, некому было привить им отцову любовь к земле. Хата, построенная Филиппом до войны, состарилась, обветшала, зимой в ней становилось холодно — не натопишь, текла крыша. Ветшали, кренились сарай, амбар, колодец. Неблагополучие в душе крестьянина, в судьбе его всегда сразу же отражается на окружающем его мире — все скудеет, дичает: исчезают коровы, овцы, куры, рушится хата, зарастает огород, поля, дороги, дичает сад, дичает земля.
Мужчин не хватало на хуторе, мужиков. Тех самых, которые навек легли в воронках от бомб и снарядов, в старых окопах или братских могилах «в шесть слоев по глубине».
Долго ходили Шура и Епистинья к разным начальникам и у себя в колхозе, и в станице Тимашевской, просили помочь отремонтировать хату матери, у которой все девять сыновей погибли, защищая Родину, отстаивая эту власть. Наконец приехала машина, привезла немного кирпича; грудка кирпича так и осталась лежать у хаты, зарастая травой. Больше никто не появился.
Жорик женился, родился ребенок, и Шура вынуждена была отправиться нянчить внука. Епистинья осталась совсем одна.
Может, пожила бы еще Епистинья и одна в хате на хуторе, но в хате теплой, исправной.
Жорик предложил продать хату, внести деньги за кооперативную квартиру и жить в ней всем вместе.
Епистинья посоветовалась с Варей — с Валентиной Михайловной, жившей тоже в Ростове. Решили так: хату продать, Шура едет жить к Жорику, Епистинья — к Валентине.
И вот потянулись тихие дни солнечной осени, дни, когда еще все можно изменить, остаться здесь, но уже и что-то делалось для отъезда: прикидывали, что взять, что оставить, искали покупателей хаты.
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом…»
Епистинья всегда, до последнего дня была хорошей хозяйкой: все у нее знало свое место, все шло в дело. Она и сейчас деловито прикидывала, как распорядиться не бог весть каким имуществом, что продать, кому что подарить. Этим деловитым умом хорошей хозяйки она и рассудила, что одной на хуторе в такой хате ей жить нельзя, лишь заготовка топлива замучит, чтоб обогреть хату зимой. Да и кто знает, насколько хватит сил, не сляжет ли она однажды в холодной хате так, что не сможет встать, а рядом — никого. Ведь ей шел уже восемьдесят второй год.
Но жил в ней словно бы и другой человек, другая женщина, мудрая, добрая, страдающая. С печальной улыбкой этой другой женщины оглядывала Епистинья свою хату, огород, вещи в хате. Все родное, все памятное, все срослось с ее жизнью. Вот металлическая кровать, которую сделал еще в своей кузнице сам Михаил. Их брачное ложе. На этой же кровати и рожала она своих сынов, своих дочек. На ней Михаил умер. Теперь такие кровати и на хуторе не держат. Значит, что же — выкинуть куда-то в бурьян?.. Или вот это большое, в деревянной резной раме, потускневшее от времени зеркало в простенке между окнами. Его привез Михаил с рынка из Краснодара. В него смотрелись все дети: и когда были маленькими, и когда готовили представления для клуба, и когда шли вечерами на гулянья, и когда в военной форме уходили из дома насовсем… Двухпудовая гиря. Не повезешь же ее с собой в город. А ведь эту гирю крепыши-сыновья каждое утро поднимали над головой, покрякивая, перебрасывали из руки в руку, хвастаясь и подшучивая друг над другом. Всех сильней был Павлик… Нельзя везти в Варину квартиру иконы. А ведь икона Богородицы — родовая, ее подарила ей еще мать. Сколько молитв сотворила она перед нею, сколько дум передумала и просьб высказала, сколько раз мольбу свою выплакала: «Помоги вернуть сынов!..» Теперь передать родовую икону некому — дочь и внуки неверующие, от икон отмахиваются.
Все вокруг было сплавлено с ее жизнью, с сынами: хата, печка-«кабыця», огород, калитка, яблони, Шарик в конуре, речка, хутор, вот это небо над головой, степь. С собой-то все это не возьмешь.
Она надеялась, что там, вдали от всего этого, потише будет ее боль, поменьше будет терзать она старое свое сердце. Но и укоряла себя тем, что отъездом своим она как бы уже и примиряется, что сыны не придут, что их больше нет. Ведь если придут, то они придут сюда. Ждать их надо бы здесь…
Потерянно ходила Епистинья по хате, по подворью или подолгу сидела на скамеечке.
В Ростове-на-Дону
Продали хату. Купила ее семья цыган. Кочевать цыганам теперь было негде — степь распахивалась, исчезала. Не кочевать же по асфальтовым дорогам, вдыхая запах бензина. Цыгане оседали, начинали жить по-новому, ломая прежние свои обычаи и нравы.
Епистинья переехала к Варе, к Валентине Михайловне.
У нее была двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме «сталинской» архитектуры. Дом стоял не в центре города, но и не на глухой окраине. Рядом проходила трамвайная линия, неподалеку находился парк. Жили они вчетвером: Валентина преподавала в школе химию, муж ее только что вышел в отставку со службы из «органов», дети, Володя и Зина, учились сначала в школе, затем в институте. Епистинья стала пятой.
Началась ее жизнь в городе.
И самое трудное в этой жизни оказалось, что делать было нечего, ни зимой, ни летом.
Конечно, хорошо, что рядом была Варя, внуки, зять Иван Иванович, который относился к Епистинье с уважением, почтительно. Теперь он читал ей приходившие из самых разных городов и деревень страны письма, отвечал на них.
Но не было простора, степи, хутора, хаты с подворьем, огорода, неба не было. «У вас и света всего — что в окне…» Почему-то нельзя оказалось повесить на стену фотографии сыновей в рядок, как они висели над ее кроватью на хуторе.
Внуки предложили обучить ее грамоте, она отказалась: «Да зачем мне…» Это отвлекало ее от сосредоточенных дум о сынах, от молитв.
Епистинья не дичилась в квартире, не жалась в уголок. Когда приходили в гости друзья Валентины и Ивана или молодые люди к внукам, она приветливо вступала в беседу, расспрашивала о жизни, о делах, чем-нибудь угощала. Держалась со всеми ровно, деликатно, никого не подавляла своей тоской, своим горем, не навязывалась, не претендовала на особое внимание. Смущалась лишь своего «деревенского» говора да громоздкого имени. «Зовите меня Федоровна. А то такэ имя поп дал…» Когда надо, в ее речи появлялось больше «правильных», «городских» слов.
Но чаша, полная горя, стоявшая на донышке души… Она кренилась, плескалась. Епистинья постоянно возвращалась от обычных дел к думам о сынах, всех обласкивала, со всеми разговаривала, всех звала, помнила все о них. Вспоминала и Ванино прощальное письмо, и Васины сокрушенные вздохи, оттого что жить приходилось в примаках, и замерзшего Павлика, пришедшего пешком по шпалам из станицы Брюховецкой, и Филины хозяйственные наказы, тоску по дому, и Илюшин радостный приезд, и заботу Мизинчика о ней, чтоб она меньше за топкой ходила, меньше работала, побольше отдыхала.
Порой ее вдруг обжигала вина перед сынами: не уберегла, всех растеряла. Может, не так растила, не тому учила? Может, будь они похитрей, потише, не стремись они так на войну, на борьбу, на бой — и остались бы живы?..
Иногда ночью Валентина просыпалась от стонов, плача матери.
«Что такое?»
«Ты только подумай, Варя! Ваню расстреляли да еще повесили…»
Или в другую ночь:
«Варя, подумай только: Васю ведут расстреливать, и он знает, что его никто не защитит…»
Душа Епистиньи все летала в давние времена, в дальние края, к сыночкам. Она была рядом с ними в их последние часы, в последних боях, поддерживала сынов, подбадривала, утешала, спасала.
Днем она выходила иногда посидеть на скамеечке во дворе с местными бабушками. Но мелкие пересуды, жалобы, равнодушие охладили Епистинью, и она с грустью вспоминала своих хуторских подруг: Тыщенчиху, Буравлиху — они проще, сердечней.
«Там я выйду, мне всякий скажет: «Здравствуй, Степаниха». А тут никто и не отвечает. Даю конфету — не берут. «Я поснидала». Та хиба я даю вам есть? Чтоб помянули моих сынов…»
Телевизор ее удивил, понравился. Тут можно было увидеть солдат, услышать любимые сынами и ею песни, и хоть она чаще плакала, услышав их, но это были слезы облегчения, кроткие, тихие. Правда, все, кто видел эти слезы Епистиньи, не могли выдержать, плакали сами. Великое горе стояло в тихих слезах… Епистинья быстро спохватывалась, брала себя в руки, виновато улыбалась; не любила она тяготить людей своим горем, собою.
Но это не всегда было в ее силах. Она не могла отвлечься надолго, беззаботно заулыбаться. Горькую чашу на донышке души могли снять только сыновья. Забыть о чаше было невозможно, ее все время надо было уравновешивать; нельзя было не думать о сыновьях, не звать их. А для этого нужно сосредоточенное, тихое одиночество. В комнатах же постоянно работал телевизор, приходили гости или друзья к молодым внукам, «бубнило» пианино Зины, учившейся в музыкальном училище.
Спокойней было на кухне среди привычных запахов варившегося борща, картошки, среди мисок, тарелок, кружек. Здесь можно тихонько посидеть в уголке наедине с собой, наедине с сынами. Можно развязать узелок с фотографиями сыновей, посмотреть на них, перебрать письма, которые она знала наизусть, и послушать голоса Фили, Васи, Вани, Илюши, Павлуши, Мизинчика. Услышать успокаивающий голос Коли. Откуда-то издалека улыбался тихий добрый Федя. Прощально махал рукой, отъезжая на лошади в степь, Саша-старший. Плакала маленькая Стеня. Сидела на скамеечке задумавшаяся бледненькая Верочка. Скромно, про себя улыбался Михаил.
Лучше всего это делать ночью, когда все спят, когда никто не войдет неожиданно и не будет что-то спрашивать, теребить. Но для этого приходилось вставать, пробираться на кухню, нести узелок.
Епистинья робко попросила дочь поставить ее кровать на кухне: ей спокойней тут, и она не будет мешать гостям и молодежи. Кухня была довольно просторной, и в ней нашлось место для опрятной кровати Епистиньи.
Узелок с фотографиями она держала под подушкой. Теперь удобно стало достать его, разложить фотографии, поговорить с мальчиками, поплакать, покаяться перед ними за что-то. Хорошо бы все фотографии повесить на стену, чтоб сыны всегда были перед глазами, но прибивать фотографии на стену Варя не разрешила. Нельзя было и открыто держать маленькую иконку.
Варя была партийной, как и зять Иван. Внуки, Володя и Зина, с комсомольским задором того времени и снисходительностью к доброй, но неграмотной бабушке доказывали ей очевидную для них истину, что Бога нет. Космос, Гагарин, физика, обезьяна, происхождение человека…
На все это Епистинья говорила милым своим внукам:
«Вы не верьте, но не говорите, что Бога нет».
«Дорогие сыночки, сидайте за стил…»
Недалеко от дома, в уютном закоулке стояла действующая Александрийская церковь, небольшая, скромная. Сюда по праздникам сходилось много стареньких женщин, повязанных белыми и темными платочками. Как же досталось в жизни всем этим женщинам! Все кровавые события нынешнего века выпали на их долю. Ничем не выделялась среди них и Епистинья.
Когда здоровье ее слабело, Епистинью провожал до церкви зять Иван Иванович, нес ей маленькую скамеечку, на которой она отдыхала во время долгой службы. Шли к церкви рядом святая и грешный — мать девяти погибших на войне сыновей и отставной офицер НКВД, «провоевавший» всю войну в Алма-Ате.
Приходил любимый праздник Епистиньи — Пасха, светлое Христово Воскресение. Чудо воскресения убитого Христа по-особому отзывалось в душе ее, оживляя надежды на чудесное возвращение сынов.
К этому празднику Епистинья готовилась заранее. Испекала красивый кулич. Взбитым белком с сахаром намазывала его сверху, делала «лампасы». На кулич любо-дорого посмотреть. Пекла она и маленькую «пасочку», такой же кулич, но поменьше, чтоб оставить его в церкви для нуждающихся. Затем варила и красила в отваре луковой шелухи десяток-другой яичек. Часть яичек она тоже оставит в церкви. В беленькую тряпочку насыпала соли, в другую тряпочку заворачивала сальца.
Затем она расстилала чистый белый платок, ставила на него тарелку «величеньку», а не «великую», то есть не самую большую. На тарелку укладывала куличи, яйца, соль и сало. Связывала сверток крест-накрест.
В церковь шла рано-рано, еще в темноте. Черной одежды Епистинья не любила никогда, надевала светлую кофту, сборчатую юбку, на голову — белый платочек. Если было холодно, надевала пальто.
Большая гудящая толпа около церкви, теснота внутри, общее возбуждение создавали ощущение большого праздника, радуя и утомляя.
Возвращалась она, когда сияло утреннее солнышко, оно всегда сияло на Пасху. Лицо усталое, но не унылое и будничное, а торжественное, праздничное. Епистинья христосовалась с Варей, с Иваном Ивановичем.
В квартире пахло пирогами, стол застилался белой скатертью. На верх большого шкафа с одеждой Епистинья ставила в рядок фотографии Николая, Васи, Фили, Феди, Вани, Илюши, Павлуши, Верочки, Мизинчика. Фотографий Саши-старшего и Михаила не было, но все равно вся большая семья Епистиньи оказывалась как бы в сборе, как раньше, и она чувствовала себя хлопотливой хозяйкой, матерью.
Епистинья развязывала белый узелок и ставила посреди стола освященный в церкви кулич, крашеные яички, соль, сало. Ну а затем ставились на стол тарелки с наваренным и нажаренным к празднику. Стол становился праздничным, ярким. Праздничным было и настроение, все даже немножко волновались.
Но вот подходила минута — надо садиться. Епистинья обращалась к детям, смотревшим с фотографий на шкафу: «Дорогие сыночки, сидайте за стал с нами отметить, сегодня великий праздник…» Голос ее срывался. Ведь, кажется, совсем недавно усаживала она за большой стол большую свою семью — живых, красивых сынов и мужа, любовалась ими.
Заплачет она, вскрикнет, но быстро возьмет себя в руки. И обратится к дочери, зятю, внукам тоном вины и любви:
— Ой, сидайте, сидайте!..
Выпьет рюмочку. И угощает всех ласково, деликатно, сперва тем, что из церкви, а там и всем остальным.
День особый — разговоры, воспоминания. Поминовение. Словно бы побыли хоть недолго опять все вместе, всей семьей.
К Мизинчику на Украину
Отыскали и здесь Епистинью газетчики, расспрашивали, читали письма сыновей, записывали ее рассказы про них. То, что потом писали в газете, мало интересовало Епистинью, очень уж это было далеко от состояния ее души, от боли ее.
Она согласна была с Шурой, которая, вздохнув, сказала о корреспондентах и писателях: «Пишут и пишут, а хлопцев-то нет…» Не утешали газетные статьи, потому что там было: «погибли, погибли».
Пытались приглашать Епистинью на «тематические вечера», «встречи». Но на этих встречах надо было произносить складные речи, ругать фашизм, прославлять героизм, говорить что-то вроде: «Пусть мои сыновья погибли, но дело, за которое они отдали свои жизни, живет и процветает». Нет, дети мои, не могу, это вы сами. Сыночки мои не погибли, пока я жива…
Приехали однажды москвичи снимать фильм о ней. Епистинья твердо отказалась сниматься.
Она поделилась с дочерью впечатлением о москвичах:
— Смотри, Варя, какие люди: зашли тихонько, встали у порожка, заговорили вежливенько, глядят в глаза. А то вот приходили из газеты — прут в комнату, горланят, руками машут…
Но и вежливые москвичи далеко не сразу почувствовали ее состояние, поняли всю невозможность прямой передачи ее горя: посадить перед камерой и заставить рассказывать про войну и про сынов. Епистинья наотрез отказалась даже записывать свой рассказ, свой разговор на магнитофон.
— Ой, я так плохо говорю, по-деревенски. Вы запишете та будете смеяться.
Как ни убеждали ее, не согласилась. Пришлось магнитофон прятать под стол, а микрофон маскировать бумагами.
Не «деревенского» своего языка смущалась Епистинья, а того, что самое горькое, долю свою, крест свой, надо выставлять напоказ, поневоле жаловаться всем людям и перекладывать на них свою ношу. Надо было бы говорить всем вслух, что ее сыны погибли. Нарушалась бы тогда, путалась ее сосредоточенная молитва, зов ее к сынам — возвращайтесь, я жду вас!.. Да и не высказать ей никакими словами свою любовь к сыночкам, великую свою беду. Не может передать она и грустного удивления своей судьбой, начиная от грубых крестьянских простынок, в которых привезли ее крестить в церковь, и до сегодняшнего дня… А люди потом что будут говорить? Судить-пересуживать? Нет, не надо.
С москвичами договорились все же так: сниматься, изображать чего-то, складно ругать войну и рассказывать о беде своей она не будет, но не возражает, если они будут снимать ее в жизни. Как уж они это будут делать — им видней.
Вот и придумали авторы фильма Борис Карпов и Павел Русанов поездку Епистиньи на могилу Саши на Украину, ведь Саша — Герой Советского Союза, и поездку на хутор.
В начале мая поехали на Украину — в село Бобрицы на берегу Днепра, где похоронен Саша. Хорошей выдалась поездка.
Весна, цвела сирень, блестел, искрился под солнцем широкий Днепр. Утром с воды дул холодный ветер, а затем стало тепло, даже жарко.
Место боя и гибели Саши у села Селище, само село и «Тальбергова дача» были затоплены при возведении Каневской ГЭС. Павших солдат, а их на плацдарме погибло две тысячи, перезахоронили повыше. За братскими могилами ухаживают ребята Бобрицкой школы.
К месту захоронения на крутом берегу Днепра собралось много народу: женщины в белых платочках, еще свежо помнившие бои, войну, мужчины с орденами, ребятишки. Звучала родная украинская речь. Вот и могилка Саши за железной оградой, поросший травой бугорок… Саша, Саша. Вот куда тебя занесло, вот где улегся ты навеки, младшенький мой!
Любительские фотоснимки передают всю трагическую простоту происходившего в тот майский день. Металлическая оградка вокруг братской могилы, где стоит на пьедестале белый солдат с автоматом. У оградки множество деревенского народа: бабы, мужики, ребятишки. На бугорке могилки лежат пирожки, крашеные яйца, конфеты, стоят бутылки с вином. И перед могилкой, стоя на коленях, глубоко склонилась, опираясь на руки, Епистинья в стареньком легком пальто, так как дуло с Днепра. «Сынок, Сашенька, дети мои, сыночки мои! Илюша, Вася, Коля, Федя, Павлуша, Филя, Ваня, Верочка, Саша-старшенький! Неужели вас нет больше, а я еще жива? Неужели было у меня такое счастье, когда вы все были живы и жив был ваш батько?.. Почему так случилось? Сколько еще нести мне мое горе?.. Чем провинилась я перед Господом? Почему выпало мне такое?..»
Фильм вышел, короткий и сильный. Одно лишь прикосновение к великому горю Епистиньи переворачивало души. На Пятом международном кинофестивале в Москве в 1967 году фильм получил серебряный приз, а на Восьмом международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло в 1968 году фильм завоевал первое место — «Золотую нимфу».
К сожалению, после того как фильм был готов, все не вошедшие в фильм записи голоса и изображения Епистиньи были уничтожены. А фильм небольшой, и вошло немного. Голос ее, лицо ее, вся она в этом фильме — поразительны.
Снова одна
Трогательный, сильный фильм сделал Епистинью знаменитой: нам, к сожалению, и сейчас еще нужно, чтоб кто-то со стороны, желательно из-за границы, указал — смотрите, как это сильно, как это прекрасно.
Зачастили гости: приходили военные, в том числе генералы, приходили писатели, неизменные корреспонденты, много других гостей. Епистинья со всеми держалась ровно, приветливо, с достоинством, как будто всю жизнь принимала в гостях генералов и писателей. В старости она оставалась такой же красивой, а страдания добавили еще больше благородства чертам лица, движениям, жестам. Рядом с нею всем хотелось быть лучше, добрей, даже красивей и элегантней.
Один из гостей сказал, что к Епистинье хотелось обратиться: «Ваша светлость…»
Гости удивлялись, что знаменитая мать живет на кухне.
Начались хлопоты об улучшении ее житья. Городские власти Ростова выделили наконец Епистинье однокомнатную квартиру в другом районе города, хотя лучше было бы ей жить в более просторной квартире вместе с дочерью, зятем, внуками. О соображениях, по которым старенькой Епистинье дали все-таки однокомнатную квартиру, не хочется говорить.
Епистинья не стала возражать против переезда: у Вари подросли Володя и Зина, не сегодня завтра обзаведутся семьями. А она со своим горем все-таки не располагает к веселью и счастью. Да и ей часто хочется побыть одной… На хутор путь теперь заказан: хата продана, имущество раздарено, не то здоровье, что прежде.
Какое счастье бы — на старости лет жить с Филей, или Колей, или Сашей-Мизинчиком в хате на хуторе, нянчить внуков, варить борщи в кабыце, возиться на огороде. Но Бог не дал ей такого счастья.
В однокомнатную квартиру Епистинья переехала жить не одна. Когда ездили на могилку к Саше на Украину, познакомились Епистинья и Валентина с семьей Крамаренко в селе Бобрицы, у них ночевали. Дочка Крамаренко, Катя, вскоре приехала в Ростов, поступила в институт. Катя и стала жить вместе с Епистиньей.
Над кроватью Епистинья повесила фотографии. Откроешь глаза утром, и вот они, сыночки, смотрят на тебя. Только молчат. Но это кажется, что молчат. Епистинья всегда с ними разговаривала, жаловалась им, винилась перед ними, звала. Только молча. Разговаривала и со всеми вместе, и с каждым отдельно.
И все-таки стало еще более одиноко. Катя училась вечером, а днем работала в столовой, целый день ее не было. Епистинье хотелось поговорить с живым человеком, услышать живой голос, о ком-то позаботиться. Заезжали в гости внуки, дочь, но не так часто, как хотелось.
Нет, и в отдельной квартире было плохо. Епистинья понимала, что плохо ей будет везде. Бывает, разболится голова или заболит ушибленная или обожженная нога, рука, как ни укладывай, как ни держи — болит. Невозможно и ей как-то так «уложить» свою душу, чтоб она не болела. Вылечить ее могут сыны, если вернутся, если придут все до одного.
В переднем углу Епистинья повесила маленькую икону. Перед нею она, как и раньше, вела долгие безмолвные разговоры, неустанно умоляла, спрашивала, недоумевала, каялась… «В чем моя вина? Что же я такого сделала, почему такое жестокое наказание? Ведь я даже не оговорила никого! Какой грех на моей душе?..» Ответ был тот же: «Так надо. Терпи, жди и надейся».
А надежды истаивали с годами. Кругом все говорили, писали, подтверждали: «Погибли, погибли».
Епистинья все чаще стала побаливать. Около года пожила она в отдельной квартире, и осенью 1968 года заболела сильно, не могла ходить, паралич.
Пришлось переезжать обратно к Варе.
«Где девался тот цветочек…»
Она отошла, поправилась.
Но после поездки на могилку Саши, юбилея, почестей жизнь все больше теряла смысл.
Состояние души ее уже много-много лет, с войны, было раздвоенным. Она получила похоронки и письма о судьбе сыновей и не могла не думать о том, что их и правда больше нет. Но все в душе протестовало против этого, жила великая надежда, что они не убиты, что придут, что она вызволит их мольбой своей, молитвой, призывом своим, как вызволила Колю. Шли годы. Так она и жила. Реальные надежды уменьшались, таяли. Она говорила случайно встреченным, уцелевшим в войне приятелям сыновей: «А мои сыночки погибли за Родину». Но вера в чудо жила: Николай своим чудесным возвращением сильно укрепил эту веру. Не ждать сынов, не звать их она не могла.
Время шло. Вот она уже и состарилась, волосы ее стали белыми. Кругом твердили о сыновьях ее: «Погибли». А по-сле поездки на могилку Саши, после плача над поросшим травой бугорком в далекой стороне, где на памятнике написано имя ее Саши, веры, что мальчики живы, что они придут, не могло не убавиться. Сыны, кажется, действительно погибли. И она не дождется их.
Это чувство все больше стало овладевать ею. Звать становилось некого, не о чем молить Бога. Перестала остро давить душу и плескать горечью чаша. Епистинья поняла, что пришло время кончины. Она донесла свое горе людям, теперь о нем знают все, весь мир. А ее силы кончились.
Она поправлялась после болезни, паралич отпустил ее. И однажды, лежа в постели, вдруг запела:
Где девался тот цветочек, Что долину украшал? Где девался тот дружочек, Что словечками ласкал?..Валентина похолодела. Боже! Мать не пела уже с той самой довоенной поры, когда умерла Верочка.
Епистинья оглядывала свою жизнь с какой-то новой точки, конечной точки своего бытия. Вся ее жизнь, прошедшая в трудах там, на степных кубанских хуторах, среди казаков и иногородних, была перед нею. Грубые холщовые простынки, суровое имя, смерть отца в дороге на Кубань — были первые знаки ее особой судьбы. Она оказалась одна среди народа, и жизнь ее, судьба ее будто впитали все народное горе и страдания. Судьба ее определялась во времени мощно и твердо, будто осуществлялся чей-то замысел. Мгновения радости, любви даны ей были словно для того, чтобы больней чувствовала она потери: казнь Саши-старшего, смерть Михаила, Верочки, гибель Феди, Илюши, Павлуши, Вани, Фили, Васи, Мизинчика, смерть Коли. Кому нужно, чтобы так было, — она, Епистинья, «Знающая», не знает. Только известно ей: «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо».
Жизнь завершалась. Были недолгие мгновения счастья, были. Было — пела душа. Но судьба посмеялась над нею. Ну что ж, видно, так надо Богу, и укорять Его, бунтовать она не может. Теперь она ничего не может сделать. Лишь может усмехнуться над насмешливой, грозной, безжалостной силой, определившей ей такую судьбу.
Епистинья поправилась, стала ходить. Но сделалась еще более задумчивой, тихой. Была где-то далеко-далеко.
Однажды сказала дочери:
— Варя, я умираю…
Валентина побледнела, округлила глаза.
— Да не сейчас!.. А скоро. Но ты не плачь. Вспомни мое горе, и — что твое горе. У тебя такого горя нет и не будет… Як умру, поховайте не здесь, а на кургане, рядом с Верочкой и Михаилом… Останешься одна, навещай братьев, ухаживай за могилками. Кланяйся людям, что приходят до их могил и ухаживают за ними. Будешь стоять у могилы одного, а кланяться будешь от меня им всем. Земля ж покрыла их одна…
Как хорошая хозяйка оставляла она этот мир заботам дочери.
Мысли о смерти все чаще посещали ее. Но она никогда не говорила, что уходит к сыночкам, что увидит их «там». Может, не могла смириться, поверить окончательно, что они погибли. Может, так и жила еще в ней вера, что они где-то «здесь». Или считала, что нельзя ей верить в то, что сыны погибли, нельзя. Им жить надо. Слишком мало пожили они на белом свете.
О смерти своей пожелала:
— Хочу умереть сразу. Не лежать. За мной ухаживать, всякое там — не хочу.
Бог исполнил это ее последнее желание.
Наступил февраль 1969 года. Дули холодные, сильные ветры. Простудилась Валентина, лежала с температурой.
Вечером, перед сном, Епистинья подошла к дочери, посидела. Тихо поговорили о том о сем. Епистинья поправила одеяло, пожелала дочери спокойной ночи, поцеловала и ушла спать.
Ночью Епистинье стало плохо. Она застонала, заметалась. Все проснулись.
Сознание оставило ее. Она кого-то искала глазами, руки метались по одеялу.
Вызвали «скорую». Врач сделал укол. Она успокоилась, закрыла глаза, дыхание стало ровнее. Врач ушел. Когда ей поправили ноги, она внятно сказала: «Тише!..» Во что она вглядывалась, кого уже слышала, от чего отвлекали ее?
Епистинья лежала спокойно… И не сразу поняли, что она уже умерла. Принесли зеркало, подержали у рта. Чистое.
За окнами еще темно. На часах три часа то ли ночи, то ли утра. На календаре 7 февраля 1969 года.
«Тише!»
Валентина болела и не поехала с матерью на Кубань, чтоб исполнить там ее волю, похоронить на кургане.
Но это было теперь уже и невозможно. Епистинья перестала быть старенькой исстрадавшейся женщиной, Степанихой, Федоровной; она стала знаменитой солдатской Матерью с таким суровым и внушительным именем и должна быть символом, утверждать героическое.
Место ее последнего упокоения теперь определяли могущественные силы, власти. Перебирали разные варианты, где о кургане не было речи. Решили похоронить Епистинью у братской могилы погибших солдат в станице Днепровской, где символически захоронены и все девять ее сыновей.
Много народу пришло проводить бабушку Епистинью, Степаниху. В некоторых очерках и статьях пишут, что «похоронили ее с воинскими почестями». Но было не до почестей.
Призрак беды, великой катастрофы повис над хуторами и станицами, над кубанской степью: на Кубань обрушились пыльные бури. Ураганный ледяной ветер поднимал в небо тучи чернозема со степей, распаханных уже до последнего клочка; черные сугробы вырастали у дорог, лесополос, у рек, изгородей и садов. Словно бы со смертью старой труженицы-крестьянки лопнула в природе последняя преграда и загуляли расхристанные ветры-разбойники по уничтоженной, бывшей ковыльной степи. С таких черных бурь, похоже, и началось превращение цветущих долин Средней Азии в сегодняшние пустыни.
У земляков Епистиньи, собравшихся проводить ее, ледяным ветром секло лица, выбивало слезы, сводило губы. Женщины укутались теплыми шалями, мужчины опустили на шапках уши. Грозно гудели, гнулись высокие метлы тополей, ломались сучья.
Притягивало взгляды светлое лицо старенькой Епистиньи, которое осталось добрым, горестным и после кончины. Тонкими пальцами прижимала она к груди большой медный крест. Грубо тесанные, толстые, со следами топора доски небольшого постамента, на котором стояло печальное ложе Епистиньи, большой крест, светлое, необычное лицо ее напоминали последние проводы святой в каком-то северном монастыре, лежащей в дубовой колоде среди зеленых пахучих еловых лап.
Толстый, вековой пласт чернозема принял в свои недра любившую его старенькую крестьянку.
Эпилог. ПЕЧАЛЬНОЕ СКАЗАНИЕ
Вот и кончилась жизнь Епистиньи, Пести Рыбалко.
«Где девался тот цветочек, что долину украшал?..»
Вот из каких миров, из каких веков пришла к нам эта женщина. Разразилась катастрофа и обнажила слом глубокого основания.
В честь Епистиньи и ее сынов построили музей. Музеем стали и ее хата, сад, колодец, конура Шарика. Поставлен памятник в районном городке Тимашевске, где она сидит на скамеечке, смотрит вдаль, ждет сынов. В жизни Епистинья сидела мало, не любила — полно дел, а она хорошая, моторная хозяйка. И сыновей своих ожидала, всматривалась в прохожих, в даль дорог стоя. Но пусть посидит хоть здесь, пусть отдохнет.
Всякий, кто рассказывает о жизни Епистиньи, взрослым или детям, невольно начинает говорить поэтично, слагать красивую легенду или печальное сказание.
Коротко это звучит примерно так:
«Жила-была в начале двадцатого века на степном хуторе среди других крестьян большая семья Степановых: мать-Епистинья, отец-Михаил и девять их сыновей — Саша-старший, Коля, Вася, Филя, Федя, Ваня, Илюша, Павлуша и Саша-Мизинчик. Нестойкое крестьянское счастье легким крылом опахивало временами беленькую хатку у речки.
На маленький хутор накатились великие события: война Гражданская, коллективизация, Великая Отечественная. Уходили на войну защищать Родину сыновья Епистиньи. Она благословляла их на битву и собирала им котомки: мешок, картофелины по углам да веревка, а в котомку клала вкусных пирожков на дорогу. Храбро сражались ее сыны, не жалели жизней… Еще шла война, а почтальонка молча отводила глаза от взгляда Епистиньи — ничего.
Кончилась война, разбили фашистов, задумавших покорить весь мир. Оглянулась Епистинья на свою молчаливую хату и упала на землю, зарыдала: «Земля, скажи, где мои сыны?..»
Много лет еще прожила Епистинья и не уставала вглядываться в даль дорог. Ждала до последнего своего часа все откладывала лучшее яблочко, конфету, лучший кусочек — вот придут ее мальчики… Так и застыла она, уже в бронзе, на широкой площади районного городка — присела на скамеечке и смотрит, смотрит вдаль. Ждет».
Даже короткий рассказ о Епистинье, услышанный или прочитанный, переворачивает душу.
Мы теперь знаем о ней побольше. Но ведь недаром говорится в старой книге: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
Все же не только печали добавляет нам знание жизни старой крестьянки. Открываются таинственные животворные глубины народной жизни, добавляется уверенности, стойкости духа, легче определить главное в жизни для себя и для народа.
Известна мудрость: под каждым надгробным камнем покоится история народа, история человечества, Вселенная. Сразу понятной становится эта мудрость, когда подумаешь о жизни и судьбе Епистиньи.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЕПИСТИНЬИ СТЕПАНОВОЙ
1882, ноябрь (?) — В большой крестьянской семье Рыбалко в неизвестном селе под Мариуполем родилась девочка, которую при крещении назвали Епистиньей.
1890 (?) — Переселение семьи Рыбалко на Кубань. Смерть Федора Рыбалко.
1890–1898 — Епистинья работает наймичкой на хуторе.
1898 — Выходит замуж за Михаила Степанова.
1899 — Родила дочь, Стеню, Степаниду.
1901 — Родила сына, Сашу.
1902 — Умерла Стеня. Построили с Михаилом свою хату, отделились от родителей Михаила.
1903, декабрь — Родила сына, Колю.
1908, июль — Родила сына, Васю.
1910, декабрь — Родила сына, Филю.
1912, март — Родила сына, Федю.
1914, декабрь — Родила дочь, Варю.
1915, август — Родила сына, Ваню.
1917, июль — Родила сына, Илюшу.
1918, июль — Белоказаки расстреляли Сашу.
1919, февраль — Родила сына, Павлушу.
1921, январь — Родила дочь, Веру.
1923, апрель — Родила сына, Сашу, Мизинчика.
1930 — Женитьба Василия. Женитьба Николая. Варя уезжает в Краснодар
1933 — Голод. Смерть Михаила Николаевича
1935 — Федя уходит служить в армию.
1936 — Павлуша поступает в педагогическое училище.
1937 — Женитьба Филиппа. Ваня и Илюша уходят служить в армию.
1938 — Вышла замуж Валентина
1939 — Умерла Вера. Павлуша окончил педучилище и поступил в военное училище. Погиб Федя на Халхин-Голе. Ваня направлен на советско-финляндскую войну. Переезд на хутор Первое мая.
1941 — Ушли на военные сборы Василий и Филипп. Началась Великая Отечественная война. Приезжал раненый Илья Проводы на войну Николая и Саши-Мизинчика. Пропали без вести Павлуша, Ваня, Вася.
1942 — Пропал без вести Филя.
1943 — Погибли Илья и Саша
1944 — Вести о расстреле Васи и Вани. Пропал без вести Коля.
1945 — Весть о смерти Филиппа в плену. Вернулся Николай.
1963 — Умер Николай.
1964 — Переезд в Ростов-на-Дону к Валентине.
1966, май — Поездка на могилу Саши-Мизинчика на Украину.
1969, февраль — Епистинья умирает в Ростове-на-Дону. Похоронена в станице Днепровской Тимашевского района Краснодарского края.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Ключевский В. О. Курс русской истории. Т. 1–5. М., 1987.
История крестьянства в Европе. Т. 1–3. М., 1985–1986.
Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Т. 1–2. Екатеринодар, 1910–1913.
Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. Киев, 1956.
Попко И. Д. Черноморские казаки в их военном и гражданском быту. СПб., 1858.
Короленко П. П. Черноморские казаки. Киев, 1877.
Полуян Я. В. Очерки гражданской войны на Кубани. Краснодар, 1921.
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1970.
Песни казаков Кубани. Краснодар, 1966.
В книге использованы материалы музея семьи Степановых, воспоминания, письма, фотографии, устные рассказы родственников Епистиньи, односельчан, сотрудников музея, жителей Тимашевского района Краснодарского края. Общими силами по крохам воссоздавалась жизнь большой семьи. Сердечное вам спасибо, дорогие друзья!.. Благодарен судьбе за возможность выразить в этой книге чувства сыновней признательности, преклонения всем женщинам старшего поколения (и моей маме — рязанской крестьянке Коновой Анне Федотьевне), которые все отдали Отечеству и нам, детям, верно ждали с войны своих близких, да не дождались.
Автор
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Епистинья.
Михаил (портрет выполнен И. Сущенко со слов).
Саша-старший (рисунок выполнен А. Яр-Кравченко со слов).
Коля.
Вася.
Филя.
Федя.
Ваня.
Илюша.
Павлуша.
Саша-Мизинчик.
Кубанские казаки разных полков.
Печальный курган.
Справа казачка Елена Чоба. Под видом казака участвовала в Первой мировой войне.
Организатор «Всемирной Дружбы» казак Федор Караух.
Женский монастырь святой Марии Магдалины.
Колхозники на уборке хлеба.
Молодежь хутора. В первом ряду сидит Федя, во втором справа — Варя и Филя. Стоит вторая справа — Вера Осадчая.
Перед началом голода. «Отроем все кулацкие ямы!»
Вася с любимой своей скрипкой и его приятель.
Федор Алексеевич Палкин.
Комсомольская ячейка хутора. Лежит второй справа — Николай, во втором ряду, в центре — учительница Нина Павловна, второй справа — Федя, стоит в середине — Филя.
Варя-Валентина с мужем Иваном Ивановичем Коржовым.
Справа — Пантелей Степанов.
Федя с гитарой. Верочка и Саша-Мизинчик.
Ольга Колот, слева, с сестрой.
Ваня, второй справа, во время войны с Финляндией.
Наши офицеры в Литве Стоит второй справа — Илюша.
Студенты Педагогического училища. Сидит — Павлуша.
Сослуживцы. Слева — Федя.
Федя.
Епистинья с Сашей-Мизинчиком и Илюшей (справа). Снимок сделан, когда раненый Илюша приехал домой.
Хутор Первое мая.
Хата Епистиньи на хуторе Первое мая.
Последнее письмо Фили с фронта.
Вася на военных сборах, лежит слева.
Павлуша — курсант Второго Киевского артиллерийского училища.
Илюша с Таней. Сентябрь 1941 года.
Прасковья Деева с дочкой.
Мария Норейко с внучкой Светой.
Кладбище Шталага-326, где похоронен Филя.
Карточка военнопленного Филиппа Степанова.
Мария Присоха.
Праздник в послевоенные годы. Справа с баяном — Николай.
Коля за любимым занятием.
С внуками, Варей, зятем Иваном и снохой Шурой.
В селе Афанасове Калужской области в братской могиле похоронен Илюша.
Илюша с сослуживцем.
Ушел от Епистиньи последний сын — Коля. Слева от нее — Фадей.
С детьми в школе.
У Саши-Мизинчика на берегу Днепра.
Епистинья с Гаяне Давиташвили.
Александра Моисеевна с внучкой. Держит гильзу с землей с могилы Филиппа в Германии.
Хата и подворье. Музейная чистота. Не пахнет борщом и пирогами…
Пришли в хату-музей хуторяне.
Слева направо: Татьяна Сердюк. Никита Матвейчук, Шура, бывший узник концлагеря Борис Наумец.
Родственники — Степановы. Рыбалко…
Во время «черной бури»…
Место упокоения Епистиньи в станице Днепровской.
Праправнучка Епистиньи Таня Рыбченко у памятника «бабушке».



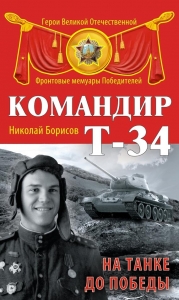

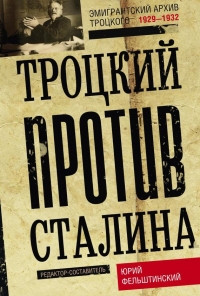

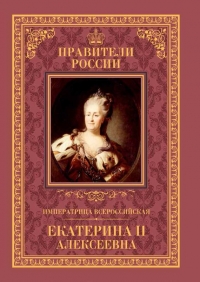
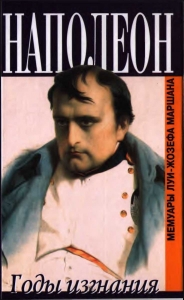

Комментарии к книге «Епистинья Степанова», Виктор Фёдорович Конов
Всего 0 комментариев