Некрасов
ГЛАВА ПЕРВАЯ
I
Николай Алексеевич Некрасов возвращался на родину. Он ехал в коляске, и лошади неторопливо бежали по мягкой дороге. Зеленые луга сменялись густыми березовыми рощами, над мелкими, тихими речками висели растрепанные, полуживые мосты, по берегам оврагов шуршали дрожащей листвой тоненькие осинки, густо зеленели ольшаники. С лугов тянуло запахом сырости и чуть подсохшего сена, издали доносился протяжный скрип коростеля, — знакомые звуки, запахи, краски, — все это было родное, всегда любимое и никогда не забываемое.
У ног Николая Алексеевича на мягкой подстилке лежала собака. Она спала, утомленная долгой, непривычной дорогой и только изредка взвизгивала во сне. Некрасов недовольно поглядывал на ее рыжую голову: заморская эта покупка принесла ему много хлопот в дороге.
Сколько раз мошенники-кондуктора делали вид, что не имеют права везти собаку в казенном экипаже. Сколько трешек, пятерок, «красненьких» пришлось раздать для того, чтобы избавиться от их разговоров. Все складывалось по русской пословице: «Не было у бабы заботы, так купила себе баба порося».
Николай Алексеевич почувствовал, что нога у него затекла, он хотел сесть поудобней, но собака спала, положив голову на ботинок. Она блаженно вздыхала во сне, и Некрасову стало жаль тревожить эту рыжую бестию. В конце концов не будь всех этих мелких треволнений, кто знает — доехал бы он до родины? Может, окончательно завладели бы им думы о том, что жизнь пуста, тягостна и не нужна ему, и не слышал бы он сейчас поскрипыванья коростеля, не видел бы вон того озера, над которым поднялся легкий туман, не подпрыгивала бы его коляска по высохшим колеям дороги.
Николай Алексеевич осторожно прислонился к спинке коляски, стараясь не пошевельнуть ногой. И собака, точно чувствуя эту заботу, благодарно всхлипнула во сне. В сущности это была чудесная собака: породистая, нервная, преданная. Николай Алексеевич протянул руку и тихонько погладил пса по шелковистым длинным ушам.
— Спи, спи, — прошептал он, когда собака слегка шевельнула хвостом. — Спи, друже, я тоже буду спать.
Хорошо спать в коляске, когда ночь спускается на притихшую землю, когда, чуть позвякивая сбруей, ровно бегут лошади, когда ночная прохлада обвевает лицо. Но сон не приходил к Некрасову. Закрыты глаза, а из тьмы выплывают какие-то замки и горы, пестрая толпа людей на парижских улицах, лица мимолетных знакомцев — случайных спутников на пароходе, людей, с которыми встречался в гостиницах за табльдотом. Выделялось лицо женщины с черными глазами, с тонко очерченной линией губ. Оно придвигалось все ближе, сначала грустное и укоризненное, потом сведенное гневной гримасой. В ушах звучал ее голос — в нем был и упрек, и ненависть, и подавленные слезы.
Он до боли стиснул веки, и лицо исчезло, и казалось, что дремота уже касается его своими теплыми пальцами. Уснуть, уснуть! Во что бы то ни стало сохранить эту черную пустоту в глазах! Но нет, — она начинает клубиться, как туман над Темзой, и из тумана выплывает тусклое небо Лондона, небольшой домик со стенами, поросшими плющом, в окнах домика приветливые огни, рояль, смех, чьи-то голоса. Некрасов вздохнул глубоко, протяжно и открыл глаза.
Пожалуй, лучше было не спать: темное, ласковое, родное небо, силуэт ямщика на козлах, неясные очертанья деревьев, — все это прогоняло мучительные виденья. Лучше было не спать и чувствовать, как в прохладном тихом воздухе появился чуть уловимый теплый запах — непередаваемый и несравнимый ни с чем запах нагревшегося за день ржаного поля. Слушать, как шуршат где-то совсем близко около крыльев коляски колосья, и, протянув руку, стараться схватить хотя бы один из них, почувствовать тяжесть зерен и щекочущее прикосновение усиков. Вот она, родина! Никуда он не поедет больше, никуда!
Ямщик дремал, опустив вожжи, и лошади шли тихой, укачивающей рысью. Николай Алексеевич снял шляпу и тихо прикорнул в уголке коляски — он задремал, наконец, и во сне ему казалось, будто рядом сел близкий и родной друг и крепко пожал ему руку.
II
В Петергоф он приехал вечером. Погода была серая, скучная, днем моросил дождь, да и сейчас в воздухе висела сырость. Вода залива издали казалась грязной, ветер теребил мокрые деревья. Только теперь, подъезжая к дому, почувствовал Николай Алексеевич, как измучила его дорога, как хочется ему, наконец, оказаться дома, в своей кровати, в комнате, где можно запереться от всех на ключ.
Встретили его Панаев и слуга Василий, — оба возбужденные, веселые и, видимо, искренне обрадованные его приездом.
— Ну вот и вернулся. Ну вот и доехал, — повторял Панаев, обнимая его в десятый раз. — Ну, говори — здоров? Избавился от недугов? А я, брат, видишь — сдаю…
Вид у Панаева действительно был неважный, он похудел, опустился и не выглядел таким франтом, как прежде, но лицо его сияло радостью. Некрасов, растроганный встречей, крепко поцеловал его в губы.
Началась суматоха с разбором вещей, хлопоты об устройстве заморской собаки. Панаев помогал и суетился, хвалил собаку, рассматривал привезенные из Парижа обновки. Поздно вечером уселись за стол — не на веранде, потому что было не по-летнему прохладно, а в темноватой, необжитой столовой.
— Ну, теперь рассказывай, — заявил Панаев, налив стаканы.
Но вышло так, что рассказывать начал он сам. Петербургские новости, сплетни, слухи распирали Панаева; он спешил сообщить обо всем. Некрасов слушал с удивившим его самого вниманием; он снова окунался в привычный, знакомый до мелочей, мирок. Василий стоял, прислонившись к стене, почти невидимый в темноте столовой. Он тоже вставлял в разговор замечания, и все это было занятно и интересно.
— В Петербурге сейчас никого нет, — говорил Панаев. — Ну, никого решительно, а особенно — литераторов. Все путешествуют, все — за границей, все пишут «впечатления», наблюдения, так сказать, с птичьего полета. Кажется, только ты и не присылал «впечатлений». Да ты пей, чего ты не пьешь? Разучился, что ли, за границей? Я вот, действительно, скоро одну содовую пить буду — недуги замучили.
Панаев осторожно налил коньяку в свою рюмку и понюхал его с видимым удовольствием.
— А у нас как обстоит дело с «впечатлениями»? — спросил Некрасов. — Пополняем бреши в карманах плавающих и путешествующих?
— А как же? Фет намедни прислал послание из Парижа. Ну, хоть бы одно новое словечко! Хоть бы один уголок новооткрытый! — все то же: Марсово поле, Елисейские поля, гробница Наполеона, Инвалидный дом — стоило за этим ездить в Париж! Нет, я решил поехать из Петергофа в соседнюю чухонскую деревню и тоже написать впечатления, — ей богу, больше найду неизведанных прелестей.
Василий неожиданно фыркнул в углу и поспешно поднес ладонь к носу.
— Ты что? Подавился? — спросил Некрасов.
— Нет-с, смешно стало, — хихикнув, ответил Василий. — Уж Иван Иванович, действительно, скажут, — чухонская деревня прелестней Парижа. Какие там можно описать прелести?
Иван Иванович грозно посмотрел на Василия.
— Прелести можно найти везде, — сурово сказал он. — На скотном дворе можно найти прелести, если иметь глаза и мозги в голове. О чем пишут эти путешествующие? Что они видят? Только собственную персону и ее интимные ощущения. «В Гамбурге зашел в писсуар и нашел, что он много удобней супротив наших» — вот что пишут! Один сообщает, что за границей задешево купил панталоны, жилет и галстук. Другой делится с читателями впечатлениями, полученными в Бреславле: он вкусил там суп с клецками, спаржу с бараньими котлетами, форель со сладкой подливкой и остался недоволен, — желудок, дескать, не сварил эти блюда!
Иван Иванович совсем рассердился и заявил, что людям с таким воображением он навсегда запретил бы путешествовать.
— Пусть держат дома свои куриные мозги и бараньи чувства!
Некрасов засмеялся и сказал, что не все так «впечатляются». Вот написал же Боткин свои чудесные впечатления о Испании.
— Так то, Васенька! — воскликнул Панаев. — Милейший человек, эстет, умница. Уж он, я уверен, не ходил бы в Париже на Наполеоновы могилы и в Инвалидные дома — нашел бы местечки повеселей. Париж! О, Париж!
Он сокрушенно помотал головой и налил себе еще рюмочку. Некрасов посмотрел на него и подумал, что в сущности Ванечка неплохой человек. Пока что все казалось хорошим, милым сердцу, — и эта полутемная, прохладная комната, и шум ветра за окном, и даже монотонный стук дождя по железной крыше веранды. Он оглянулся и заметил темную фигуру Василия, прислонившегося к стене.
— Ну, а ты какие мне новости расскажешь?
— Да какие же у нас могут быть новости-с? — охотно ответил Василий. — Такие же, как у всех. Вот, дорогу железную в Петергоф проложили, скоро открытие будет с большим торжеством. Недавно первые пробные поезда пошли, — кадетов в лагеря вывозили. Час с небольшим, говорят, от Петербурга-то ехать.
— А ты не ездил еще?
— Нет, не пришлось…
— Скажи, — нетерпеливо перебил его Панаев, — как Тургенев? Сюда доходят невероятные слухи: то, что он собрался жениться, то, что Толстого на дуэль вызывал, — неужели правда?
— О дуэли — все это пустяки. Не было и не могло быть дуэли. Да и жениться он, по-моему, всерьез не собирался. Можешь ты представить себе Тургенева женатым, в кругу семьи, детей и приживалок? Я не могу, хотя он на меня как-то обиделся и заявил, что склонность к семейной жизни у него есть, что он не физический урод, а нормальный человек с нормальными потребностями в семье и детях. Но это так, фраза, он, я уверен, так и умрет холостяком. Ну, пойду спать — ломает меня всего с дороги. Ты уж прости…
— Да что ты, что ты?! — засуетился Панаев. — Идем, я провожу тебя.
Он взял со стола свечу и пошел впереди Некрасова.
Около его комнаты он вдруг, смущенно замявшись, спросил тихо и нерешительно:
— А как здоровье Eudoxie? В каком настроении ты ее оставил?
Он виновато взглянул на Некрасова, свечка пошатнулась в его руках, и нескладные тени заметались по стенам коридора.
— В очень плохом, — угрюмо ответил Некрасов. — Ничего у нас не получается, все по-старому: на каждый светлый день приходится неделя ссор и упреков. Вероятно, я один виноват в этом…
— Она столько надежд возлагала на эту поездку, — сказал Иван Иванович грустно. — Ей казалось, что вдали от дома, от Петербурга, вам обоим будет легче.
— Разве можно десять неслаженных лет исправить совместным турне по курортам? — невесело усмехнулся Некрасов. — Мы слишком стары для этого. Страшно признаться, но мне кажется — мы давно в тягость друг другу и только стесняемся сказать это вслух.
— Ну, ну, что ты говоришь, бог с тобой? — испуганно забормотал Панаев. — Ты не скажи этого при ней. Это убьет ее, уверяю тебя. Да ты и сам не думаешь так, — просто устал с дороги, не выспался, может быть, заболел. Иди спи, — и я пойду. Спокойной ночи, приятных тебе сновидений.
Он ушел, и где-то в конце коридора скрипнула дверь его спальни. Некрасов огляделся — в комнате было открыто окно, в саду шумели деревья. Ночь была светлой, зыбкой, — летняя петербургская, пасмурная ночь. В комнате пахло осенью. Он зябко поежился и сел на стул около кровати. Василий, войдя вслед за ним, зажег на столе лампу.
— А как собака? Не скучает? — внезапно забеспокоился Некрасов. — Ты смотри, Василий, чтобы не убежала, столько я с ней намучился в дороге, что жалеть буду, если пропадет.
— Спит ваша собака, Николай Алексеевич, напрасно изволите себя беспокоить. Дозвольте спросить — какая у нее кличка? Завтра встанет — не знаю, как и величать.
— Назвал я ее Нелькой. Хорошо? Ну, давай раздеваться будем, да рассказывай, чего еще тут нового.
— Да разве все новости сразу упомнишь? Николай Гаврилович все работают, себя не жалеют, Иван Иванович тоже стараются — только у них, как я замечаю, между собой особого согласия нет. Супруга Николая Гавриловича и детки хворали что-то, господин Вульф коляску себе купили новую.
— Да ну! И хорошую коляску? — заинтересовался Некрасов. — Ишь ты, как раскутился.
Он засмеялся, велел Василию закрыть окно и идти спать. Но Василий не уходил; он мялся около двери.
— Ну, что там у тебя? — сказал Некрасов. — Чего стоишь?
— Николай Алексеевич, — прошептал таинственно Василий. — Знаете, кругом все говорят, что вас, как вернетесь в Петербург, сразу же в крепость посадят.
— Как в крепость? За что?
— За ваши стихи, что Николай Гаврилович с Иван Ивановичем в журнале пропечатали. Большие неприятности из-за них вышли, да ждали, дескать, вас, когда вернетесь…
Некрасов поморщился: история со стихами, действительно, наделала много неприятностей. Он уже не думал о том, как это отразится на нем лично, но «Современник» мог сильно пострадать.
— В крепость, я думаю, меня не посадят, — сказал он. — Иди, спи, Трус Иванович…
Василий загасил лампу и вышел. Николай Алексеевич закрыл глаза, и в них поплыли поля, деревья, мосты, речонки, перелески. Он засыпал, как вдруг из-за туманного леса отчетливо вырисовался оплетенный плющом лондонский домик с освещенными окнами. Некрасов застонал, повернулся к стене и крепко прижался лицом к подушке.
III
Под утро Некрасову привиделся сон: он идет с Тургеневым по бульвару в Париже. Тургенев приехал только что из Лондона, в руках у него дорожный баул, а на плечах почему-то охотничий пыльник.
— Я привез тебе письмо от Герцена, — говорит он. — Вот куда только я его положил? В карман? В бумажник? В баул?
Они останавливаются посреди бульвара, и Тургенев начинает искать письмо. Он выворачивает карманы, перебирает бумажки в обширном портмоне, наконец, раскрывает баул и высыпает все свои вещи на траву. Вот и письмо. Большой, плотный конверт из сероватой бумаги. Некрасов протягивает руку, но тут налетает ветер, подхватывает письмо и несет его вдоль бульвара. Некрасов бежит за ним, задыхаясь и обливаясь потом, бульвар кончается, и вот уже набережная Сены, несколько шагов, несколько мгновений, и конверт будет в его руках, но порыв ветра сметает письмо в воду. Не останавливаясь ни на минуту, он перелезает через парапет набережной, прыгает в воду и просыпается.
— Все пропало, — бормочет он, еще не очнувшись как следует. — Все пропало. Я так и не узнаю, что он мне хотел сказать, — второй раз он не напишет…
Николай Алексеевич открыл глаза и сбросил с себя одеяло.
— Фу-ты, безумие какое, — сказал он себе. — Черт знает, какие сны снятся! Так можно с ума сойти, нервы, что ли, лечить надо…
Он встал и в одном белье подошел к окну. В саду на скамеечке сидел Василий — он «прогуливал» собаку. Нелька лежала около его ног на песке и уныло смотрела по сторонам. Небо с утра было ясным, влажная трава и листья зеленели особенно ярко, радостно пели и свистали птицы. Утро было так прекрасно и солнечно, что Некрасов почувствовал прилив бодрости.
Он свистнул собаке. Нелька с визгом бросилась к окну и начала подпрыгивать, стараясь достать до подоконника. Приказав Василию подать завтрак и приготовить платье, Некрасов накинул халат и, сунув босые ноги в туфли, вышел в сад. Нелька визжала, крутилась около ног, ложилась на спину и умоляюще смотрела в глаза. Собачья преданность радовала и трогала, и Некрасов трепал и гладил мягкую рыжую шерсть. Потом он пошел по дорожке в глубь сада, отметил, что вблизи не видно других дач, что невдалеке есть лес, что здесь, очевидно, можно будет прожить лето, пользуясь настоящими деревенскими удовольствиями.
Из-за деревьев навстречу ему быстро шел Иван Иванович. Доброе его лицо светилось приветливой улыбкой; он был еще не брит и не причесан; халат, довольно неряшливый, развевался на нем, как парус; туфли спадали с ног.
— Чуть свет — уж на ногах, — произнес он, здороваясь с Некрасовым. — Как спал? Что рано поднялся, почему меня не приказал разбудить? Идем, выпьем кофею…
За кофе Иван Иванович поведал Некрасову об очередных неприятностях в «Современнике»: цензура по-старому вымарывает в статьях целые листы. С первой по седьмую книжку около двенадцати листов вымарали. Задерживают статьи за всякие пустяки, — хотя бы за «мрачное впечатление», которое они якобы могут создать. Материала для очередных номеров нет, то есть есть, да сероватый, нечем завлечь публику; господа литераторы совсем от рук отбились, все врут, все обманывают, никто не болеет за журнал.
— Что делает Тургенев? Что делает Толстой? Что думают эти наши «обязательные» и «исключительные» сотрудники? — с возмущением вопрошал Панаев. — Ты же их видел, путешествовал там с ними, — неужели у них нет ничего для журнала?
Он пожаловался также и на Чернышевского. Этот рьяный семинарист совсем загнал в угол изящную литературу и загромождает журнал тяжелыми статьями.
— Даже повести он выкапывает какие-то особые — с нравоучениями, с разоблачением взяток и прочего. Если так будет продолжаться, то наиболее просвещенные подписчики откажутся читать «Современник».
Эти разговоры омрачили настроение Некрасова. Выпив кофе, он ушел в свою комнату, сел к столу и положил перед собой лист бумаги. Он еще не знал что будет писать; он чувствовал, что ему нужно действовать, что дела снова обступают его со всех сторон, что личные горести, обиды и разочарования вытесняются заботами о любимом детище, ради которого следовало еще жить и бороться.
Он сидел у стола задумавшись. Дверь осторожно скрипнула.
— Уже работаешь? — благоговейно спросил Иван Иванович. — Пиши, пиши, — я не буду мешать.
Дверь прикрылась, и Николай Алексеевич начал письмо Тургеневу.
«Я тебя прошу, — для меня, для самого себя и для чести дела, к 9-ой книге «Современника» напиши статью «Гамлет и Дон-Кихот» и уведомь сейчас Толстого, чтоб к этой книжке он приготовил повесть. Это, господа, необходимо. Через месяц от этого письма рукописи ваши должны быть здесь…»
IV
Еще за границей до Некрасова доходили слухи, что в России началась подготовка к отмене крепостного права. Слухи были неясны и неопределенны, упорно говорилось о том, что царь решил освободить крестьян и уже объявил о своем решении представителям дворянства.
Эти слухи чрезвычайно волновали Некрасова и, приехав домой, он ждал, скоро ли заговорит о них Панаев? Но Панаев молчал, а спрашивать первому Некрасову не хотелось из-за какой-то детской боязни услышать, что все это — пустые разговоры и ничем необоснованные мечты.
Сейчас он с нетерпением ждал Чернышевского. Чернышевский должен был приехать к вечеру, но Некрасову не сиделось дома, и он вышел встречать его. Он пошел через парк к Петербургскому шоссе, поеживаясь от ветра, налетавшего с залива. Воздух опять похолодал, серая муть затянула небо, того и гляди — мог пойти мелкий, осенний дождь.
Некрасов тихонько бродил по парку. Скорей бы уж приезжал Чернышевский! Неужели и у него нет отрадных новостей? Неужели за долгое время, что он провел за границей, здесь ничего не шелохнулось? Какие громы пронеслись над Европой, а тут нет даже ряби на воде?
Он вспомнил дорогу, по которой ехал домой, — убогие, нищие деревни, мужиков, поспешно сдергивающих шапки, мужицкие подводы, торопливо сворачивающие в канаву перед его коляской. Вспомнил, как на одной из почтовых станций приезжий помещик пленился его Нелькой и умолял продать ее, обещая дать за собаку целую крестьянскую работную семью со стариком дедом и малыми внуками в придачу.
— Нет, нет, никаких признаков отмены рабства не видно в России, — думал Некрасов, боясь поверить теплившейся в глубине сознания надежде. — Вот сейчас приедет Чернышевский и назовет меня мечтателем и фантазером, который, путешествуя по Европам, забыл о горестной судьбе своего отечества.
И это будет неверно, потому что он ничего не забыл! Где бы он ни был, душа его все время находилась здесь. Даже в Риме, воспетом столькими художниками, он писал поэму о России и опускал шторы, чтобы южное солнце не мешало ему видеть закованного в кандалы героя и снежный сибирский пейзаж.
Что же, однако, не едет Чернышевский? К вечеру приедет… Невидимый, похожий на туман дождь оседал на пальто. Некрасов сел на скамейку, под раскинувшейся, как шатер, елью. Пахло сырой землей, плесенью, грибами — и это почему-то напомнило ему детство: неряшливое семейное гнездо на почтовом тракте между Ярославлем и Костромой, грубого и властного отца, перед которым дрожали и крепостные люди, и собственные дети, огромную свору собак, с которыми отец ездил на охоту. Вспомнился осенний дождливый день, мокрое серое крыльцо, на котором стоит озябший и испуганный мальчик, слушая, как рядом в сарае порют провинившегося в чем-то мужика. Мужик воет. Кто-то топочет ногами, гремит упавшая скамейка, с криком вылетает из дверей сарая распустивший крылья петух. В доме бушует разгневанный отец — он ругается и хлопает дверями, кажется, он идет сюда, и маленький Некрасов опрометью сбегает с крыльца. Он бежит, шлепая ногами по лужам, бежит, боясь оглянуться, все равно куда — только бы подальше от дома.
Вот он, добежав до канавы около тракта, садится и переводит дух. Мимо него гонят партию арестантов, — бритые головы, серые халаты, серые, суровые, озлобленные и несчастные лица. Он часто видел в детстве арестантов, — много гоняли их по этапу мимо некрасовского Грешнева, — сколько раз он бегал провожать, слушал их песни и рассказы.
Николай Алексеевич вздохнул и задумался, закрыв глаза. Что еще было у него в детстве? Он мучительно старался припомнить что-нибудь светлое, ребячье, — нет, упорно выплывал в памяти тот серый дождливый день, крик мужика в сарае, глухой топот десятков ног по дороге и монотонный, заунывный мотив арестантской песни.
— Веселое дело, братец, — сказал он себе. — Выходит, больше ничего у тебя не было в ту «золотую» пору.
Однако были у него настоящие друзья — деревенские мальчишки, голодные и оборванные, но верные и бесстрашные. Правда, отец много раз бил его за дружбу с «холопами», но мать умела сразу же утешить его, умела прятать и покрывать его младенческие грехи. Как много значит друг в жизни человека. Был ли у него когда-нибудь настоящий друг? В молодости было несколько товарищей, но скоро кончалась дружба, и исчезали из его жизни бывшие друзья.
Где они сейчас — спутники его юности? Почему ни один из них не оказался настоящим другом, почему у него нет своего Огарева, с которым он, как это делает Герцен, вспоминал бы молодость, делился своими радостями, которых у него очень немного, и горестями, которых могло бы быть меньше. Таким другом мог бы стать Белинский. Но перед Белинским он всегда чувствовал себя мальчишкой. Белинский был слишком велик и чист для него.
А Тургенев — милый Тургенев, седовласый юноша с нежной женственной душой? Но почему-то всегда получалось так, что Тургенева не оказывалось рядом в тяжелую минуту: то он был за границей, то его поглощали собственные неурядицы, то он просто не понимал и не разделял тревог своего друга. Несколько однобокая дружба, и, пожалуй, Тургенев не очень ее бережет.
Он совсем разжалобился на свою одинокую, грустную судьбу, и вдруг он вспомнил одного мужика, с которым когда-то ходил на охоту. Мужик этот был беден, многодетен, всегда голодал и все-таки никогда ни на что не жаловался.
— Мне себя жалеть некогда, — говорил он. — За меня поп в церкви жалится, а я должен вертеться, жизнь сохранять. Кабы не вертелся — помер бы с голоду или с мыслей, что жизнь моя ни мне, ни людям совершенно даже ни к чему. Вот я и не жалею об себе, и живу, и польза от меня кому-то идет, и даже вам, барину, удовольствие доставляю — на охоту вас вожу. Вы меня добром помяните, а доброе слово — оно большая сила и заслуга для каждого человека. Воспоминание об этом мужике почему-то утешило Некрасова; он усмехнулся, встал и начал шагать по аллее.
V
Николай Гаврилович Чернышевский вздохнул с облегчением, узнав о возвращении Некрасова. Дела «Современника» действительно шли неважно, и нужны были ловкость и энергия главного редактора для того, чтобы бороться с мелкими и крупными неприятностями. В практические способности Некрасова Чернышевский глубоко верил.
Некрасов писал из-за границы, что выходящие без него номера «Современника» ему совсем не нравятся. Кое в чем он и сам был согласен с Некрасовым, — журнал, действительно, несколько посерел. На это было много причин. Маститые писатели, пользуясь отсутствием Некрасова, не давали обещанных повестей и романов; цензура, с которой Чернышевский не умел ладить, давила с особым сладострастием. Иван Иванович, почуяв свободу действий, проталкивал в набор всякую дрянь и пакостил «Современник» стишонками своих приятелей. Денег в конторе почему-то все время было мало. С приездом Некрасова — Чернышевский был в этом уверен — положение сразу изменится. С таким редактором можно работать. Он и цензоров умеет укрощать, и авторов заставляет работать, и всякое дело в его руках кипит, живет, сверкает.
С такими мыслями собирался Николай Гаврилович в Петергоф. Он одевался, весело насвистывал и шутил с женой, которая уговаривала его надеть что-нибудь потеплей. Ольга Сократовна сидела закутавшись в меховую мантильку, ей нездоровилось, она сердилась на плохую погоду и вообще была не в духе.
— Ты обложи меня, Оленька, ватой, закутай теплой пеленкой и выпусти потом на улицу. Вот люди-то будут смеяться! Сколько мальчишек за мной побежит! Все закричат: смотрите, смотрите, вон идет знаменитый журналист Чернышевский, он забыл дома стеганую юбку.
Ольга Сократовна сердито отвернулась к окну, и, заметив это, Чернышевский подошел к жене.
— Перестань ты, право, Оленька, хлопотать и беспокоиться обо мне. Я ведь не такой слабый, как ты, я двужильный, и на меня дождь действует благотворно. Помоги-ка мне лучше повязать галстук, а я за это расцелую твои милые ручки.
Николай Гаврилович сел рядом с женой, он терпеливо и старательно вытягивал шею и поднимал кверху подбородок, пока она возилась с его галстуком.
— Собираешься к своему Некрасову, как жених на свиданье, — ревниво сказала Ольга Сократовна. — Ты узнай хоть у него, куда делись огаревские деньги. Весь город об этом шепчется, только мы ничего не знаем.
— Что ты, дружочек, — с возмущеньем воскликнул Николай Гаврилович. — Зачем это я буду оскорблять человека такими расспросами? Я в его честности уверен, и для меня эти разговоры не существуют.
Николай Гаврилович разволновался, снял очки, протер стекла и, глядя на жену близорукими и по-детски расширившимися глазами, сказал серьезно:
— У Николая Алексеевича много слабостей, а ты помнишь, как это сказано: «Несть человека, аще не согрешит». Но зато он человек действительный, не поддельный, и не старается казаться лучше, чем есть на самом деле.
— Ты просто влюблен в него, я не знаю, чем он тебя приворожил, — сказала с досадой Ольга Сократовна. — Что-то я все больше об этих самых слабостях его слышу, а не о тех достоинствах, которые ты в нем находишь.
— А я, запомни это раз навсегда, Оленька, люблю его. И рад, что увижу сегодня после долгой разлуки этого благороднейшего человека и гениального поэта.
— Ну и беги скорей к нему. Не теряй времени, назначенного для разговора с гениальным Некрасовым, на беседу со своей неразумной женой.
— Ты у меня разумная, радость, сокровище, — запротестовал Николай Гаврилович. — Была бы еще ко всему этому — здоровая, и тогда я оказался бы самым счастливым мужем на земле.
Радостное, возбужденное настроение не покидало Николая Гавриловича всю дорогу. Увидев Некрасова, шагающего по дорожке сада, он быстро соскочил с дрожек и побежал ему навстречу. Некрасов — он это заметил сразу — выглядел плохо, он не поправился, как видно, за границей, или Чернышевский отвык уже от его болезненного вида, но лицо его показалось Николаю Гавриловичу желтым, фигура — согбенной. Сейчас Некрасов улыбался, но суровая складка не сходила с уголков рта, и глаза оставались грустными. Одет он был щегольски, опирался на красивую трость, рядом с ним бежала прекрасная породистая собака.
Неожиданно для обоих они крепко поцеловались и, взявшись под руку, пошли в противоположную от дома сторону.
Некрасова самого, видимо, удивило волнение, охватившее его при встрече. Казалось, он стеснялся, стыдился, свистнул отбежавшей в сторону собаке, сбил тростью с куста несколько листьев, прищурил глаза и улыбнулся.
— Сядем, Николай Гаврилович? — указал он на низенькую скамейку.
Они сели, но разговор не завязывался. Некрасов молчал, будто ожидая вопросов, а взволнованный Чернышевский начинал говорить и обрывал себя на полуслове. Потом и он замолчал. Над ними шумело колеблемое ветром дерево, вокруг был пустой и тихий парк. Чернышевский откинулся на скамейку и смотрел на небо, на широко развернувшиеся ветви сосны, по которым бесшумно перепрыгивали какие-то пичужки. Некрасов положил руки и подбородок на трость, сгорбился и сидел, закрыв глаза, казалось, он ни о чем не думал, а дремал, убаюканный шорохом листьев. Темные его веки вздрагивали на глубоко запавших глазах, тонкие пальцы крепко сжимали набалдашник трости.
— Ну, а как ваше здоровье, Николай Алексеевич? — спросил Чернышевский.
Некрасов вздрогнул и открыл глаза.
— Здоровье? — Что же, здоровье ничего. Доктора на мне немало денег нажили. В Париже я лечился у знаменитости, у доктора Райе, — весьма любезный и умный господин. Лекарства выпил целое море. Как видите — живу, перемогаюсь кое-как, видно, так и будет до конца моих дней. Но эта скучная материя для разговора, — не об этом хотел я с вами побеседовать. Идемте-ка закусим — для вас сегодня имеются щи и каша.
Они поднялись со скамейки, снова взявшись под руку, пошли к дому. Дорогой говорили о журнале, о плане ближайшего номера, о том, что Толстой, Тургенев и Островский — «обязательные сотрудники» — не дают ничего для журнала.
— Нажмем, нажмем на них, — говорил Некрасов. — Я уже написал письмо Тургеневу, надеюсь, что оно подействует на его совесть.
Теперь разговор шел легко и непринужденно. Они шагали не торопясь; впереди них, шныряя по кустам и нюхая траву, бежала собака. Иван Иванович стоял на крыльце веранды, махал рукой и кричал что-то; рядом с ним, на ступеньке, сидел Ипполит Александрович Панаев. Василий выглянул в окно и взмахнул салфеткой. Стол был накрыт парадно, даже букет живых цветов возвышался среди бутылок.
— Ну, что же вы? Что же вы? — отчаянно простонал Иван Иванович. — Ведь все пригорело, остыло, выкипело. Скорей идите. Василий! — подавай на стол.
VI
Ипполит Александрович Панаев был инженером по образованию и литератором по влечению души. Иван Иванович Панаев приходился ему двоюродным братом, но вряд ли можно было найти более непохожих людей. Насколько легкомыслен и беспечен был Иван Иванович, настолько серьезен, молчалив и положителен был его двоюродный брат.
В «Современнике» Ипполит Панаев во всех хозяйственных делах был вторым лицом после Некрасова. На нем лежали сложные денежные расчеты с авторами, типографиями, переплетчиками, книгопродавцами. От его глаз не ускользал ни один рубль, ни один счет. Некрасов глубоко уважал его и, собираясь после своего возвращения обсудить дела журнала, пригласил его одновременно с Чернышевским.
После ужина, когда Василий убрал посуду и зажег высокую лампу под зеленым абажуром, Ипполит Александрович разложил перед Некрасовым ведомости и сводки. Все сделано было аккуратно, и Некрасов с удовольствием перелистал тщательно разграфленные страницы. Он пересматривал их, слушая, что говорит Ипполит Александрович, и задаваемые Некрасовым вопросы показывали, что, несмотря на долгое отсутствие, дела журнала ему известны до мелочей.
Чернышевский не вмешивался в разговор, — он, видимо, и не интересовался им, зато Иван Иванович неоднократно перебивал Ипполита едкими шуточками и замечаниями. Он был обижен на своего двоюродного брата, который решительно отстранил его от всякого участия в распоряжении деньгами и много раз отменял его договоры с авторами и книгопродавцами. Сейчас Иван Иванович обвинял Ипполита в скаредности и крохоборстве, уверяя, что у него нет размаха, необходимого в издательском деле, сравнивал контору «Современника» с мелочной лавкой, где торгуются за каждую копейку.
Некрасов несколько раз нетерпеливо обрывал рассуждения Ивана Ивановича, но тот не прекращал своих нападок.
— Что ты его-то обвиняешь? — сказал вдруг резко Некрасов. — Ты не знаешь разве, что он действовал по моим указаниям, что это я просил его не допускать тебя близко к денежным расчетам? Я просил показать тебе мое письмо, в котором давал распоряжения на этот счет. Где это письмо? Почему оно тебе неизвестно?
Ипполит Александрович смущенно улыбнулся.
— Я не находил нужным показывать его Ивану, потому что, как мне казалось, мы всегда с ним договаривались к общему удовлетворению.
— Напрасно деликатничал, отец мой, — недовольно возразил Некрасов. — В делах не должно быть места для глупого деликатничанья. Так вот, Иван Иванович, имей в виду, что полгода назад из Рима я писал Ипполиту буквально следующее: не доверяй денег Ивану Ивановичу, не позволяй ему их получать, не плати по его обязательствам с авторами и имей в виду, — если допустишь его хозяйничать, так потом окажется столько неоплатных долгов, что нам ввек не расплатиться. Я просил его показать это письмо тебе, для того чтобы между вами не было никаких недоразумений. Ты не должен обижаться. Что мне, своих денег разве жалко? Не в них дело, а в добром имени «Современника», в аккуратном отношении к деньгам, которые принадлежат не только нам с тобой.
Иван Иванович побледнел от обиды.
— Ты что же, за жулика меня почитаешь после стольких-то лет знакомства? — спросил он почти шепотом.
— Не за жулика, ты это и сам прекрасно знаешь, а за человека легкомысленного и безответственного, — жестко сказал Некрасов. — Сколько я имею доказательств этим твоим качествам, сколько неприятностей и позору имел я из-за них! Мое доброе имя втаптывают в грязь по твоей милости, понимаешь ты это или нет? Надо, наконец, стать взрослым человеком, Иван Иванович, нельзя до старости лет оставаться мотыльком. Да что там — мотыльком, от мотылька никому вреда нет, а от твоего легкомыслия людям впору в прорубь бросаться. Ты знаешь, о чем я говорю.
Некрасов с досадой захлопнул лежавшую перед ним папку с бумагами.
— Все в порядке, Полинька, — сказал он. — В твоем-то благоразумии я вполне уверен. А тебя, Иван Иванович, позволь за все поблагодарить, особенно за медвежью услугу с перепечаткой стихов. Премного обязан за заботы о моей славе.
— Николай Алексеевич, — быстро отозвался из своего угла Чернышевский. — Вы прекрасно знаете, что за стихи вам должно благодарить меня, а не Панаева. Я их перепечатал, я и вводную статью написал, а он имел за них неприятностей не меньше, чем вы.
Спокойный его голос вернул Некрасову самообладание. Он достал сигару, аккуратно обрезал и закурил ее, встал из-за стола и подошел к окну. Ему стало неприятно и совестно за резкость, он рад был бы загладить ее, да не знал — как. Бедный свистун! И так его бьют все, кому не лень, а обижать его — все равно, что ребенка: вон он сидит, опустив голову, весь поникший, точно больной. Кок его, когда-то франтоватый и напомаженный, поредел, развился и повис, усы опустились, под глазами старческие мешочки. А ведь он героем держал себя в цензурном комитете, не струсил, когда на него кричал и топал сам министр просвещения Норов. Бедного Панаева трясли не только в цензурном комитете, — его таскали даже в III отделение, а он, Некрасов, автор неугодных начальству стихов, в это время спокойно прогуливался в Риме.
Некрасов, думая об этом, с ожесточением грыз сигару и дергал себя за кончики усов.
— Ладно, Иван Иванович, ты уж не сердись… Знаешь мой проклятый характер — желчь во мне всегда кипит; на своих начинаю бросаться.
Он быстро подошел к Панаеву и начал рассказывать о том, как напугала его история со стихами.
— Понимаешь, сижу далеко, письма идут медленно, а тут со всех сторон получаю известия, что на «Современник» посыпались кары именно из-за моих стихов. Признаюсь тебе — труса спраздновал. Ну, думаю, конец, — журнал непременно закроют. Поверишь ли, так на меня это подействовало, что поэму писать перестал, над которой просидел почти месяц! Все равно, думаю, печатать не дадут, а писать только для собственного удовлетворения я не любитель. Ну, простил, что ли, Иван Иванович?
Панаев был незлобив и незлопамятен.
— Простил, простил, — сказал он смущенно, — ладно уж, я понимаю, что тебе было обидно. Прекратим этот разговор, я не сержусь и ты не сердись, и все будет хорошо.
Он побежал к буфету, стал что-то доставать, уронил стакан, засуетился, захлопотал. Всем стало сразу легко. На столе шумел большой «дачный» самовар, Ипполит Александрович разливал чай, Некрасов рассказывал о своей поездке, о встречах с знакомыми. Потом разговор опять перешел на дела журнала. Некрасов сказал, что Тургенев и Толстой ругают «Современник» за сухость, за серые, скучные повести, и прибавил, что и он сам согласен с ними.
— Правда, те, кто мог бы дать наиболее блестящие вещи, — тот же Тургенев и тот же Толстой, — пока ничего не дают, но надо заставить их работать, надо беспокоить их, стыдить, укорять. А потом надобно искать молодых, а не надеяться на двух-трех корифеев. Вот мы с вами, Николай Гаврилович, просмотрим другие журналы и, если увидим там что-нибудь свежее, яркое, талантливое, — отобьем.
Вечер прошел незаметно, и Ипполит Александрович, взглянув на часы, вскочил и заторопился в город. Иван Иванович отправился спать, а Чернышевского Некрасов уговорил остаться и повел его в свою комнату. Они легли, не зажигая света, — один на кровати, другой на широченном низком диване. Некрасов заботливо собрал на диване мягкие круглые подушечки и устроил из них изголовье своему гостю. Маленький, худощавый Чернышевский, даже вытянувшись во весь рост, не занимал и половины дивана.
— Диван у вас богатый, — сказал он, — мне не по росту. Вот Тургеневу, наверное, только-только. Где вы его видели в последний раз?
— Во сне, — ответил Некрасов. — Сегодня ночью видел. А наяву в последний раз я видел его в Лондоне.
— В Лондоне? — переспросил Чернышевский. — А разве вы были в Лондоне? Мне об этом никто не говорил.
— Никто не говорил, потому что никто не знает, что я туда ездил. Никто и не должен знать, кроме вас. Плохая получилась прогулка, Николай Гаврилович. Я вам когда-нибудь о ней все расскажу.
Некрасов закурил. Вспыхнувшая спичка на миг осветила лицо его и снова погасла. Он молча курил и думал о том, что хорошо было бы, пожалуй, поделиться с Чернышевским всем тем, что тяжелым гнетом лежало на душе. Но Чернышевский не задал ему никакого вопроса, а он первый не мог начать этот разговор.
Докурив папиросу, Некрасов перебрался на диван, сел рядом с Чернышевским и, стараясь разглядеть в темноте его лицо, спросил осторожно и нерешительно:
— Николай Гаврилович, вы слышали что-нибудь о том, что крепостное право будет отменено?
Чернышевский ответил не сразу, и по его молчанию Некрасов понял, что вопрос этот не показался ему нелепым и неожиданным. Сердце его вздрогнуло и, ободренный, он добавил смелей:
— Понимаете, еще в Париже до меня дошли слухи, будто бы Александр наконец-то всерьез собрался освободить крестьян. Я боялся верить — так это неожиданно и радостно.
— Вы можете верить этому, — сказал Чернышевский, — это правда. Очевидно, наступил момент, когда ждать и откладывать больше нельзя, и правительство, к счастью, поняло это.
Он вскочил с дивана и зашагал по комнате.
— Понимаете, — продолжал он, — все говорит о том, что отмена крепостного права — реальна и недалека. Создан секретный комитет, в котором председательствует сам император. Комитету предложено начать подготовку к освобождению крестьян. Все это так. И все это как будто отрадные признаки. Но кроме этого я ничего не знаю, и никто не знает из тех людей, которые сейчас наиболее взволнованы. Когда будет проведено освобождение? В этом году, в будущем? Или, может быть, пройдут годы, прежде чем исчезнет рабство? Какую форму примет освобождение? Получит ли крестьянство возможность сносного существования в новых для него условиях? Все это тревожит меня и не дает возможности вздохнуть спокойно и облегченно…
— Можно ли задумываться над этим? — перебил его Некрасов. — Важно, чтобы люди перестали быть рабами, которых продают и покупают, как лошадей на ярмарке, а остальное уже легче будет образовать.
— Неверно это, Николай Алексеевич, — живо возразил Чернышевский. — Личная свобода, разумеется, важнейшее дело, но рабство имеет и другую форму, не правовую, а материальную. Одновременно с личным освобождением крестьян должен быть разрешен выгоднейшим для них образом вопрос об устройстве их быта. В этом вопросе — соль крестьянской реформы, и мы не можем стоять в стороне от его обсуждения.
Некрасов не в силах был слушать внимательно, слова «свобода», «освобождение» гудели в ушах, он готов был выбежать из комнаты, разбудить Панаева, пить шампанское за здоровье Александра и без конца говорить о том, что в России не будет крепостного права, что русский крестьянин станет свободным! Помещик не сможет пороть мужика на конюшне, продавать, сдавать в солдаты, распоряжаться им, как скотиной.
— Николай Гаврилович, дорогой, — сказал он горячо. — Мы все будем делать, все будем учитывать, за всем следить, но давайте сегодня будем просто радоваться! Позвольте мне вас обнять. Спасибо, родной, за радостную весть!
Чернышевский засмеялся. Они обнялись крепко, как обнимаются близкие люди после долгой разлуки. Чернышевский почувствовал на щеке Некрасова слезы и сам торопливо полез за носовым платком.
— Да, — сказал он, сняв очки и вытирая глаза. — Что бы там ни было, мы стоим накануне великого события.
Смущенные своим волнением, они оба закурили и подошли к окну. Белая ночь незаметно переходила в утро, и Чернышевский опять увидел болезненно-желтое и усталое лицо Некрасова.
— А вас все-таки что-то гнетет, Николай Алексеевич, — сказал он, всматриваясь в его лицо. — Что? Или вам трудно об этом говорить?
— Когда-нибудь я расскажу, — ответил, глядя в сад, Некрасов, — когда-нибудь, только не сейчас. Я, действительно, получил такой удар, какого врагу не пожелаю, плевок в лицо, оплеуху, глубокое оскорбление. Но хватит об этом, в другой раз…
Чернышевский с досадой почувствовал, что спугнул своим вопросом умиленное, тихое настроение, и начал прощаться.
— Мне надо ехать, — сказал он. — Вам пора спать, а меня жена ждет и тревожится. Спокойной ночи вам и радостных, светлых сновидений.
Они вышли на крыльцо дачи. Было тихо и ясно; на небе, чуть розовея, чуть голубея, таяли нежные, прозрачные облака; птицы еще спали, и только где-то далеко-далеко, точно спросонья, отрывисто и неровно куковала кукушка. Воздух был свеж и душист, на клумбе нестерпимо благоухали цветы табака, широко раскрытые, как белые звезды.
За калиткой, сонно шевеля ушами, стояла запряженная в дрожки лошадь. Она шумно вздыхала и фыркала, и звуки эти особенно громко раздавались в прохладной утренней тишине. Чернышевский и Некрасов спустились с крыльца и пошли к калитке. Они молча пожали друг другу руки. Николай Гаврилович сел на дрожки, и лошадь тронулась. Кучер, сокращая дорогу, поехал через лужайку, и колеса оставили на сырой от росы траве длинный темный след.
Николай Алексеевич остался стоять около калитки. Он облокотился на легкий забор и смотрел вслед уезжавшему экипажу. Вот лошадь осторожно ступила на легкий мостик через канаву; коротко протарахтели колеса по бревнам; дрожки выехали на дорогу, завернули за поворот и скрылись между деревьями. Еще несколько мгновений слышны были удары копыт о землю, и снова все стало тихо. Резко пискнула завозившаяся в кустах птица, да, видно, почувствовав, что солнце еще не взошло, снова уснула.
Некрасову не хотелось возвращаться в дом. Он подошел к низенькой широкой скамейке, лег на нее, подложив под голову руки, и вздохнул глубоко, протяжно, во всю силу легких. Прохладный утренний воздух освежал, как вода в жаркий день. Казалось, он мог утолить жажду, — такая кристальная чистота и влажность были в нем. Как прекрасно было это утро и эта заря, поднимающаяся над миром!
ГЛАВА ВТОРАЯ
I
Когда Николай Алексеевич впервые после возвращения из-за границы поехал в город, он почувствовал, что не один Василий предполагал, будто в казематах Петропавловской крепости для него уготовано местечко. Оказалось, это предположение охватило довольно широкие круги общества, и появление Некрасова в Петербурге для многих было полной неожиданностью.
Он шел пешком по солнечной стороне Невского, одетый, как иностранец, в модное заграничное пальто и высокий цилиндр. Его запряженная породистыми лошадьми коляска шагом ехала рядом с тротуаром; в коляске сидела собака — каштановый сеттер. Некрасов шел не торопясь, останавливался около витрин, заглядывал в книжные магазины и учтиво отвечал на поклоны неизвестных ему людей.
Его узнавали многие, он слышал, как за его спиной говорили:
— Смотри, вон идет Некрасов!
— Некрасов на свободе? А мне говорили, что он арестован.
— Некрасов идет… А я слыхал, что он допрыгался до Петропавловской…
Голоса звучали разно: одни — радостно, другие — разочарованно, а кто-то проговорил громко и злорадно:
— Ходит еще… и каким франтом… ну, недолго ему придется здесь ходить.
Напротив Публичной библиотеки Некрасова окружила компания студентов. Молодые люди, взволнованные и смущенные, сняв фуражки, приветствовали его восторженно и несвязно.
— Мы рады, мы счастливы видеть вас, Николай Алексеевич. Здравствуйте, поздравляем вас с возвращением на родину.
Некрасов, приподняв цилиндр, с улыбкой отвечал на приветствия молодежи. Он был взволнован этой встречей, взволнован и смущен, так как не любил обращать на себя внимание публики.
— Да здравствует на многие годы певец народной скорби! — выкрикнул вдруг звонким голосом самый юный студент.
Некрасов оглянулся. На тротуаре остановилось несколько прохожих, приказчики выглядывали из магазина, дворник медленно направлялся к студентам от ворот соседнего дома.
— Благодарю вас, господа, — сказал Некрасов и решительно пошел дальше. Студенты двинулись за ним, но он быстро открыл дверь книжной лавки и исчез в ней. Несколько любопытных остановились около витрины, стараясь заглянуть внутрь, но дворник потребовал, чтобы публика разошлась.
Знакомый книготорговец провел Некрасова в заднюю комнату магазина, стряхнул пыль с большого кожаного кресла, достал из шкафа коробку сигар, ухаживал и хлопотал вокруг дорогого гостя.
— А мы уж и не надеялись вас увидеть, Николай Алексеевич, — говорил он. — Весь город твердил, что вас посадят в крепость; ходили слухи, что вас чуть не по этапу гонят из-за границы.
Некрасов смеялся и уверял, что ехал он вполне удобно, в хорошей коляске, и возвратился по собственному желанию, а не по приказу.
— Да и за что меня стали бы в крепость сажать, отец мой? Я государственные основы не подрываю.
— Что вы, что вы, Николай Алексеевич! — замахал руками книготорговец. — Упаси меня бог сказать что-нибудь такое про вас. Но книжка ваша много наделала шуму; такая книжка опасней бомбы, если хотите знать. Вы бы видели, как за ней бегали! Весь Петербург точно взбесился. После поэм Александра Сергеевича и после «Ревизора» и «Мертвых душ» ни одну книгу не хватали так, как эту. Первый транспорт разобрали за несколько дней, а за вторым ходили задолго до того, как он прибыл. До сих пор у меня лежит списочек людей, которым я обещал найти вашу книжку. А сколько о ней разговоров, какое сочувствие вызывает она в публике! Чем вы еще порадуете нас, Николай Алексеевич?
— Пока что ничем, — нехотя отвечал он. — Лучше вы меня порадуйте чем-нибудь редкостным.
Некрасов встал, и книготорговец подвел его к небольшому шкафчику, стоявшему около окна. Это был старинный пузатый черный шкаф с тяжелыми резными дверцами. В нем хранились книжные редкости, прекрасные старые издания, рукописные фолианты, уникумы, припрятанные для знатока, для постоянного, уважаемого покупателя. Хозяин гостеприимно распахнул дверцы шкафа.
— Смотрите, Николай Алексеевич, выбирайте все, что вам понравится, все — ваше.
Некрасов долго, со знанием дела, с удовольствием копался в книгах. Он отложил для себя несколько томов, попросил подобрать последние номера всех журналов и вышел из лавки. Хозяин провожал его до коляски, приказчик вынес сверток с книгами. Некрасов сел и приказал кучеру ехать в контору «Современника». На сиденье, рядом с собакой, он обнаружил небольшой букет с приколотой к нему запиской:
«Николаю Алексеевичу Некрасову — поэту и гражданину от русских студентов».
Некрасов смущенно повертел букет и сунул его за спину: смешно было ехать по Невскому с цветами в руках. Но букет этот его почему-то умилял, — недорогой букет, купленный, очевидно, в складчину студентами, приветствовавшими его полчаса назад. Он старался не помять цветы и сидел на краю сиденья, не прикасаясь к спинке; тонкий аромат заглушал запах кожи от коляски. Николай Алексеевич оторвал один цветок и, зажав его в кулаке, поднес к лицу. Так он и ехал по Невскому, точно закрывая нос от уличной пыли.
В конторе «Современника» его ждали. Сотрудники с шумными приветствиями двинулись к двери, когда на пороге появился Некрасов.
— Господа, — сказал он, слегка приподняв цилиндр. — Я приглашаю вас обедать. Стол накрыт, шампанское заморожено. Нас ждут друзья и добрые знакомые, нас ждут устрицы и прочие яства, — не будем же их задерживать.
II
В ресторане было по-летнему пусто и неуютно. В одной из зал хозяин решил устроить зимний сад, и сейчас оттуда раздавался стук и грохот, — там шел ремонт, и сырой запах штукатурки просачивался сквозь запертые и занавешенные двери. Официанты скучали около пустых столиков, за гостеприимно распахнутыми дверьми кабинетов сияли нетронутой белизной скатерти и сложенные затейливыми бантами салфетки. Буфетчик, насупившись, смотрел в окно.
Только в конце коридора в одном из кабинетов слышались голоса и звон посуды, да в общем зале за столиком около окна неторопливо обедали два молодых человека.
— Сейчас, братец, если хочешь выдвинуться, надобно писать о мужиках, — говорил один, утирая салфеткой вспотевшее лицо. — Сейчас это самое модное дело, а на чистой поэзии много не заработаешь. Самые сладкозвучные поэты хиреют и гибнут в неизвестности, не поняв этого веянья времени, а такой дубовый стихотворец, как Некрасов, знаменит и богат, как дай бог нам с тобой быть богатыми через двадцать пять лет. Сейчас народные слезы приносят хороший барыш.
— А Некрасова вы хорошо знаете, Сергей Васильевич? — почтительно спросил другой, по всему облику провинциал.
— Ну, еще бы не знать. Я у него и дома бывал, и в редакцию к нему хаживал, — он ведь мои рассказы первый начал печатать. Живет, брат, царем, купцом живет, капиталистом. Квартира какая, какие лошади, любовница — первая красавица по Петербургу! Да, брат, у него жизнь не чета нашей.
В голосе говорившего звучали зависть и недоброжелательство. Мелкий литературный неудачник, он считал деньги в карманах всех видных литераторов, и деньги эти в его воображении вырастали до колоссальных сумм.
Закончив обед, приятели двинулись к выходу. Официант, которому Сергей Васильевич дал на чай весьма экономно, с презрительным видом начал смахивать крошки с освободившегося стола. На Сергея Васильевича это не произвело впечатления, — он шествовал по коридору, с достоинством выпятив начавшее округляться брюшко. Вдруг в конце коридора открылась дверь кабинета и на пороге ее показался Некрасов. Он посмотрел по сторонам, видимо, ожидая кого-то, и хотел уже вернуться в кабинет, как Сергей Васильевич кинулся к нему:
— Николай Алексеевич, дорогой, уважаемый! Когда же это вы приехали? Как я счастлив, что вас вижу, дайте пожать вашу руку.
Все его достоинство сразу исчезло, злобно-завистливое выраженье лица сменилось подобострастным, брюшко подобралось, он униженно согнулся, схватив обеими руками руку Некрасова.
— А, это вы… — почти без улыбки, с разочарованием в голосе сказал Некрасов. — Заходите, мы здесь обедаем небольшой компанией…
— Я-с не один, я с приятелем, — пролепетал Сергей Васильевич.
— Ну, пусть и приятель зайдет, — вина и места для всех хватит.
Он повернулся и вошел в кабинет, где за большим столом сидела шумная компания. Все подвыпили, громко разговаривали и не обратили внимания на вошедших.
— Кто это? — шепотом спросил провинциал.
— Тссс… это Некрасов, — тихо ответил его приятель. — Садись к столу и будь как дома, — это все сотрудники «Современника», я всех их знаю.
С сияющей улыбкой он обошел стол, здороваясь с присутствующими, и, взяв стул, сел рядом с Некрасовым.
— Разрешите к вам поближе, Николай Алексеевич. Соскучились все по вас, а я, признаюсь, больше всех…
Некрасов сидел за столом мрачный и молчаливый. Хорошее настроение, вызванное вниманием студентов, рассеялось. Он злился на то, что Чернышевский не пришел; его раздражали шуточки Ивана Ивановича, самодовольный вид Вульфа, разглагольствования цензора Бекетова. Бекетов, хвастаясь своей либеральностью, рассказывал о том, сколько выговоров получает он от высшего начальства за послабления, которые оказывает господам литераторам.
— Признайтесь, господа, что при таком цензоре, как я, вам стало куда легче. Я не отрицаю, что сейчас вообще в цензурном комитете много послаблений по сравнению с бутурлинскими временами, но все же личные качества цензора и теперь имеют влияние.
Бекетов немного подвыпил, и мысли, которые он обычно носил в глубине своей души, так и рвались наружу. В трезвом состоянии он делился ими только с женой. Жена, впрочем, не сочувствовала ему, говоря, что его прогонят со службы, и тогда он опомнится, да будет поздно. Сейчас он хотел признания своих заслуг, но никто не восхищался его смелостью.
Напротив, Иван Иванович Панаев совершенно некстати начал вспоминать все случаи и анекдоты, связанные с деятельностью цензуры:
— Знаем мы это свободомыслие цензоров, — кричал он, привлекая к себе общее внимание. — В каждой запятой видят крамолу. Цензор Ахматов наложил запрещение на учебник арифметики за то, что там в одной задачке было поставлено многоточие. «А нет ли тут подрывания основ?» — спросил он составителя.
— Вы приводите старые анекдоты, — завопил Бекетов. — По одному глупцу вы судите всех. Есть примеры, когда цензоры вылетали со службы, да и подальше, за сознательно пропущенные ими двусмысленные статьи.
— Такие примеры мне неизвестны, — возразил Панаев. — Я знаю много обратных. Вы говорите, что Ахматов исключение? А Елагин? Почему он вычеркнул в учебнике физики выражение «силы природы»? Какое здесь подрывание основ? При мне вы лучше о цензуре не говорите — я ее либеральность на собственной шкуре испытал. Акафист божьей матери и то подвергают сомнению. Цензура и в нем нашла крамолу, хотела вымарать слова «радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных».
Панаева поддерживали все, кроме Некрасова. Некрасов сидел молча и раздражался все больше и больше.
«Экий неисправимый свистун, — думал он. — Дразнит гусей, неизвестно зачем. С Бекетовым легче сговориться, чем с другими, так нет, и с этим надо отношения испортить».
Он налил вина и потянулся с бокалом к Бекетову.
— Пью за ваше здоровье, — сказал он громко. — Не слушайте Панаева; он говорит все это в шутку, а на самом деле вместе со мной глубоко уважает и ценит вас. Предлагаю, господа, всем выпить за здоровье Бекетова — самого либерального, свободомыслящего и любящего литературу цензора.
Сергей Васильевич, поднявший вслед за Некрасовым бокал, толкнул в бок своего приятеля.
— Слышишь? — прошептал он. — Слышишь, каков хитрец? Подольстится к самому сатане, а потом будет печатать свои стишки безо всяких затруднений… Виват, Бекетов, виват! Разрешите и мне чокнуться с вами!
Некрасов, чокнувшись с Бекетовым, показал ему на место рядом с собой, потеснив Сергея Васильевича. Он начал расспрашивать цензора о неприятностях, пережитых им за последнее время, спросил о здоровье его жены, рассказал несколько заграничных новостей. Через полчаса Бекетов был совершенно умиротворен. Он гордо посматривал на Панаева, но тот, забыв о недавних спорах, блаженно улыбаясь, декламировал что-то на ухо соседу.
В кабинете было жарко, дымно и шумно. На разгромленном столе темнели пятна пролитого вина, разговор стал бестолковым, несвязным. Кто-то уже спал, прикорнув на диване. Сергей Васильевич знакомил в десятый раз своего приятеля с Панаевым. Тот, обнимая будущего поэта, восклицал:
— Новый поэт приветствует новейшего…
Некрасов угрюмо смотрел на своих гостей. Он тоже был нетрезв, но хмель у него был тяжелый, злой, невеселый. Он встал из-за стола и нетвердой походкой пошел к двери. Никто не заметил, как он ушел. Официант в коридоре подал ему счет, и он, не глядя, сунул ему деньги. У дверей ресторана его ждала коляска. В коляске спала собака, положив лапы на смятый, увядший букет. Николай Алексеевич столкнул собаку себе в ноги и велел кучеру ехать в Петергоф.
III
Вот и Авдотья Яковлевна вернулась из-за границы, и сразу на даче стало многолюдно, шумно и тесно. Началась небывалая уборка, с мытьем окон, дверей и полов; по двору заметались слуги и чужие бабы, с утра у крыльца стояла заложенная в дрожки лошадь. В мезонине зазвенели девичьи голоса, — это приехали племянницы Авдотьи Яковлевны. В коридоре нагромоздились сундуки и картонки с заграничными нарядами и шляпами, зажужжала швейная машинка домашней портнихи. Дом ожил. На веранде парусом надулись белые занавеси, в саду появилась плетеная мебель, стол в хорошую погоду накрывали в цветнике, под кустами сирени.
Авдотья Яковлевна приехала тихая и умиротворенная. Она спокойно встретилась с Некрасовым, всплакнула, увидав, как плохо выглядит Иван Иванович, и начала жить своей собственной, обособленной жизнью. Она ходила купаться, много времени проводила в лесу, занималась хозяйством и к столу выходила в обществе своих племянниц. Казалось, она приняла твердое решение оградить себя от неприятностей и наладить с Некрасовым ровные отношения, отношения близких друзей, живущих под одной крышей, но не зависящих друг от друга. Она нарочно привезла с собой племянниц и не оставалась с Некрасовым с глазу на глаз. Некрасов тоже был рад появлению посторонних людей, а в особенности приезду Толстого. Толстой заехал не надолго, по дороге в Ясную Поляну, да захворал и застрял у них на даче.
Он был много моложе Некрасова; статный, ловко затянутый в офицерский мундир, он заполнял своим звучным голосом невысокие комнаты дачи. Некрасов проводил целые дни в его комнате. Они до позднего вечера говорили о самых разнообразных вещах: о школах для крестьян, которые Толстой собирался открыть в своем имении, о картах, о дружбе, об охоте, о религии, о людях, которых оба знали и к которым относились по-разному.
Толстой прожил на даче целую неделю. В день отъезда он поднялся рано, разбудил Некрасова и потащил его на взморье купаться. На пляже было пусто; длинные тени тянулись от кустов, песок еще не согрелся, над гладкой спокойной водой низко летали чайки. В удивительно чистом и прозрачном воздухе ясно был виден противоположный берег; на острове, замыкающем залив, как нарисованный, стоял Кронштадт, лучи солнца сверкали в окнах его домов.
Толстой и Некрасов прошли в конец длинных досчатых мостков, к которым были привязаны белые и голубые лодки. Они сели на край мостков, продолжая разговор о школе, начатый еще накануне.
— Все это очень хорошие, светлые планы, Лев Николаевич. Счастливы вы, что любовь к народу чувствуете не только умозрительно, а действенно. Выполнив свою мечту, вы почувствуете огромное удовлетворение. Но должен вас предупредить, сокол мой, что вам придется повоевать за осуществление этой мечты. В нашем отечестве даже такое выражение любви к народу не особенно поощряется.
— Зря вы это говорите, Некрасов, — нетерпеливо возразил Толстой. — Экое в вас сидит предубеждение против правительства. Вы настолько уверили себя в его тупоумии, что заранее готовы каркать. А кроме того, я начну устраивать школы у себя, в своем имении, сам буду учить, — кто мне может запретить хозяйничать в своем доме?
— Ваша наивность прямо восхищает меня! — сердито сказал Некрасов. — Вы что? — забыли, где вы находитесь? Вы в России, друг мой, в крепостной России. Вот вам случай, о котором мне недавно рассказывали: где бы он мог произойти? В Москве компания студентов собралась отпраздновать какое-то семейное торжество — именины приятеля, кажется. Сидели они в своей квартире тихо и мирно, вдруг врывается к ним квартальный надзиратель с подчаском и с оравой полицейских и заявляет, что в их квартире прячется мошенник. Студенты возмутились, но все было тщетно — их забрали, избили палашами, отвели на съезжую и держали там чуть ли не две недели. Четверо так пострадали, что опасались за их жизнь. А вы говорите — у себя дома.
— Ну, я-то не студент, а дворянин, помещик и офицер армии его императорского величества — мне с подчасками дела иметь не придется, — нетерпеливо ответил Толстой, — нельзя по одному дураку приставу судить о правительстве.
— Я не говорю о правительстве — многое будет прощено императору за его намеренье освободить мужиков, — но о системе управления государством. Тут дикости хоть отбавляй, и вам самому придется в этом убедиться.
Он замолчал и начал следить за тем, как маленькая рыбешка, недалеко от мостков выпрыгивала навстречу солнцу и, сверкнув в воздухе, снова исчезала под водой. Большие, ровные круги спокойно расходились по гладкой воде и разбивались о край голубой лодки. В стороне, на большом сером камне, сидела чайка, — она внимательно смотрела черными круглыми глазами на всплескиванья рыбешки, потом взмахнула крыльями и с писком улетела прочь.
— Сыта — вот и не тронула, — сказал Николай Алексеевич. — А человек никогда сыт не бывает.
— Зачем вы напускаете на себя злость? — живо спросил Толстой, схватив Некрасова за локоть. — Зачем вы берете пример с тех, у кого, кроме злости, ничего за душой нет? Вы поддаетесь моде на желчность, а желчность это не нормальное состояние, а болезнь.
Толстой с досады толкнул ногой привязанную к мосткам лодку, так что она зачерпнула бортом воду, и продолжал, искоса посмотрев на Некрасова.
— Не знаю, когда вам верить, — когда вы повторяете гадкие слова, перехватив их с чужого, тоненького, неприятного голоска, или когда вы сами говорите: «замолкни, Муза мести и печали!» Я предпочитаю верить вам лично, вашим стихам, особенно этим, которые я очень люблю. Он вскочил и начал во весь голос читать:
Умолкни, Муза мести и печали! Я сон чужой тревожить не хочу, Довольно мы с тобою проклинали. Один я умираю — и молчу.Он медленно отчеканивал каждое слово. Некрасов слушал, опустив голову, и насмешливая улыбка кривила его губы.
— Хватит, хватит, Лев Николаевич. Нехорошо упрекать человека в его слабостях, а стихи эти написаны именно в минуту слабости. Я бы почитал вам кусочки из поэмы, которые мне цензура печатать не дает, только не сейчас, а то вон идет Авдотья Яковлевна со своими племянницами. Если вы не хотите оказаться в дамском обществе — нам надобно удирать.
— Предпочитаю удрать. И не потому, что боюсь дамского общества, а потому, что чувствую, что Авдотья Яковлевна ко мне весьма не расположена, — сказал Толстой.
Он церемонно раскланялся с Панаевой и с присевшими перед ним девочками.
Авдотья Яковлевна загородилась от солнца большим ярко-желтым зонтиком, который, как подсолнух, раскачивался над ее красивой, гладко зачесанной головой.
— Вы приказали подать пораньше вашу коляску, граф, — сказала она, протягивая ему руку, — так она давно готова. Прощаюсь с вами здесь, потому что обещала девочкам поехать с ними на лодке.
— Всего хорошего, — сказал Толстой. — Благодарю вас за ваше гостеприимство и прошу простить меня за хлопоты, которые я вам принес.
— Охотно прощаю, тем более, что они были невелики… Девочки, мы возьмем вон ту, крайнюю лодку… Прощайте.
Она быстро пошла по мосткам, аккуратно подбирая свое белое, нарядное платье. Некрасов, улыбаясь, смотрел ей вслед. Толстой тоже следил за ней глазами, — он, видимо, хотел что-то сказать, но, кинув взгляд на улыбавшегося Некрасова, смолчал и пошел с пляжа. По дороге они не продолжали своего разговора, и Толстой, только усевшись в коляску и пожимая руку провожавшему его Некрасову, сказал:
— Мы с вами еще поспорим, Николай Алексеевич, хотя бы в письмах. А лучше — приезжайте ко мне в Ясную Поляну, будем ходить на охоту, бить дупелей и разговаривать о жизни. Приедете?
— Обязательно, — сказал Некрасов. — Наш с вами разговор еще не кончен. Мы с вами, я думаю, будем друзьями.
Коляска тронулась, и Толстой, помахав рукой, откинулся на спинку и запахнул плащ. Николай Алексеевич посмотрел ему вслед и пошел к себе в комнату.
Вечером после ужина, когда девочки ушли спать, Авдотья Яковлевна завела разговор о Толстом.
— Что вам за охота приваживать к дому каждого нового автора? Ну чего вы, например, нянчитесь с этим офицером? Он талантлив, я с этим не спорю, пусть его литературные таланты украшают «Современник», а в дом-то зачем его вводить?
Она энергично смахнула со стола несуществующие крошки и начала без нужды оправлять скатерть. Она не любила Толстого: его решительные выпады против Жорж Занд, поклонницей которой она была, несколько высокомерное отношение к Чернышевскому, — все это выводило ее из себя.
— И так не дом, а проходной двор какой-то, литературное подворье. Да пусть хоть бы в городе, а то и на даче покоя не дают.
— Толстой, кажется, не очень докучал тебе своим присутствием, — примирительным тоном сказал Панаев. — Всю неделю из своей комнаты не вылезал. Или, может, ты этим и обижена, что внимания должного тебе не оказывал?
— Ах, оставь, пожалуйста, свое остроумие. Очень мне нужно его внимание. Какой-то нескладный урод, да еще с самомнением.
— Вы кривите душой, нападая на внешность Толстого, — вмешался в разговор Некрасов. — Он не красив, но лицо у него приятнейшее, энергическое и вместе с тем мягкое, благодушное. И потом — он очень талантлив. Он спорил с вами больше из упрямства, по причине молодого задора, а для русской литературы он уже много сделал и сделает еще больше. Он понимает, что в нашем отечестве роль писателя есть прежде всего роль заступника за безгласных и приниженных. Толстой таким писателем останется — я в этом уверен.
Некрасов замолчал, досадуя на свое многословие. Стоило тратить красноречие: Панаев давно не слушает, а дремлет, а Авдотью Яковлевну все равно не убедишь. Он встал и потянулся.
— Пойду спать, — и вам советую, сегодня все рано поднялись. А завтра пойдем в лес — говорят, малина поспела.
Он ушел в дом, и Авдотья Яковлевна внимательно посмотрела ему вслед. Оглянется в дверях или нет? Не оглянулся, медленно закрыл за собой дверь, и слышно было, как распахнул окно в своей комнате. Иван Иванович, сонно пожелав спокойной ночи, тоже ушел к себе. Она осталась одна, набросила шаль на плечи и спустилась в сад. В саду было тихо и прохладно; она долго бродила по дорожкам, досадуя на себя за откровенно высказанные мысли.
— Разве мало у нас и без того бывало ссор? — упрекала она себя мысленно. — Только еще не хватало — начинать их опять из-за Толстого. И так у нас отношения натянутые, а что мне останется, если он совсем от меня отойдет?
Она посмотрела на освещенное окно некрасовской комнаты. Конечно, он сидит дома, а она бродит тут одна!
Стало вдруг очень обидно за себя, и она неожиданно всхлипнула. Но сразу же вытерла глаза, обругав себя мысленно бабой и тряпкой, и пошла домой. Проходя по коридору мимо комнаты Некрасова, заметила полоску света над дверью и замедлила на минутку шаг.
— Зайти? — Нет, не зайду, — подумала и тут же тихонько стукнула согнутым пальцем в дверь. Дверь распахнулась — и на пороге появился полураздетый, встрепанный Некрасов. За его спиной она увидела свечу на столе и разбросанную бумагу.
— Работаете? — спросила она равнодушным голосом.
— Нет, тебя жду, — ответил он, взяв ее за руки. — Пришла все-таки, милая, а я уж думал, что ты совсем от меня отказалась.
Он обнял ее покорно склонившуюся голову, притянул к себе на грудь и закрыл дверь.
IV
В городе настроение было тревожное, и слухи о самых мрачных происшествиях ежедневно доходили на дачу. Говорили о пожаре около Думы, на котором погибло двенадцать человек, о том, что на Неве, около Охты, потонул пароход, шедший из Шлиссельбурга; потонул потому, что шкипер был пьян, не зажег фонарей и наткнулся на другое судно. Погибло много пассажиров, и среди них — почтенные и уважаемые в городе люди.
Но главной темой разговоров было освобождение крестьян. Без конца повторяли, обсуждали и расшифровывали фразу царя, сказанную еще в прошлом году: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того времени, когда оно само начнет отменяться снизу». Говорили, что это время уже настало, что мужики во многих губерниях бунтуют, что ополченцы, вернувшиеся с войны, требуют земли и воли, будто бы обещанных им перед мобилизацией.
Казалось, призрак Пугачева появлялся то в одной, то в другой губернии. Говорили о том, что в Малороссии разоренные войной мужики и бывшие ополченцы убили многих помещиков и сельских старшин, разгромили несколько поместий и отказались повиноваться местным властям. В одну только Киевскую губернию для расправы с бунтарями послали батальон пехоты, шестнадцать эскадронов кавалерии, саперов и даже артиллерию. Говорили, что правительство весьма озабочено всем этим и что освобождение крестьян будет объявлено в самом непродолжительном времени.
Все эти слухи привозили на дачу и слуга Василий, и повар, ездивший в город на рынок, и сотрудники «Современника», и Иван Иванович. Некрасов выслушивал их недоверчиво. Сам он в город не ездил, по ночам сидел за работой, и утром из его комнаты выметали груды окурков и порванной бумаги.
Однажды вечером Иван Иванович вернулся из города крайне возбужденный и напичканный по самое горло новостями: в столице праздновалось бракосочетание великой княжны Ольги Федоровны и по этому случаю торжества и увеселения шли подряд несколько дней. Иван Иванович, к его большому огорчению, не мог, разумеется, попасть на бал в Зимний дворец, но все доступные зрелища посещал непременно.
— Вы бы видели, как разукрашен город! — рассказывал он, развалясь в качалке на веранде. — От дебаркадера Петергофской железной дороги и до Зимнего дворца все улицы убраны разноцветными щитами, флагами, гирляндами цветов. С балконов и с окон домов свисают ковры, словом, невозможно узнать наш серый Петербург. А Невский! Он особенно великолепен! Бракосочетание было третьего дня, а вчера — парадный спектакль в Большом театре. На это стоило посмотреть!
— А на что именно стоило посмотреть? — угрюмо спросил Некрасов.
— Ну, прекрасно были разыграны сцены из «Жизели»… Но главное — публика! Какой блеск, какое великолепие! Военные и гражданские чиновники — в полной форме, дамы в головокружительных туалетах, сияющие брильянтами. Когда царь и вдовствующая императрица подвели, как говорится, высоконареченных к перилам ложи, все так закричали ура, что впору целому полку солдат.
— Сколько шума по поводу того, что еще одна девица легла в постель с мужчиной, — проворчал Некрасов.
— Ах, оставь, она, право, очень мила. И на ней было прелестное платье! Представь себе, Дуся, бледно-розовое, вот отсюда пять воланов из кружев, а на шее — замечательные брильянты. Празднества еще не кончились: через два дня бал в большом Петергофском дворце, а в нижнем и в верхнем садах — гулянье, фейерверки, иллюминация, двенадцать оркестров полковой музыки.
— Этого еще не доставало! Придется и отсюда бежать! — воскликнул Некрасов. — Уеду на охоту — подальше от торжеств. Завтра же уеду, давно собирался.
На другой день с утра начались суета и сборы. Он сам чистил ружье, проверял запасы пороха и дроби, чинил ягдташ и охотничью сумку. Два часа все в доме искали какой-то затерявшийся, но совершенно необходимый нож; повар готовил огромный запас провианта; встревоженные собаки с лаем носились по саду и грызлись на веранде.
В последнюю минуту Авдотья Яковлевна тоже решила ехать, но Некрасов посмотрел на нее так кисло, что она покраснела от негодования и ушла к себе, хлопнув дверью. Николай Алексеевич вздохнул с досадой, — ну вот, наладившийся мир дал трещину из-за пустяка.
Наконец, все было готово, и тарантас подан. Некрасов, проходя через цветник, покосился на окно Авдотьи Яковлевны, — оно было закрыто, белые шторы опущены.
— Авдотья Яковлевна! — крикнул он заискивающим голосом, — до свиданья, я уехал.
Белая штора не шевелилась, зато из окна в мезонине высунулась голова Ивана Ивановича.
— Уже готов? Ну, поезжай, будь здоров, удачной охоты, ни пуха, ни пера.
— Иван Иванович! — в ужасе закричал Некрасов. — Ну что ты мне всю охоту портишь! Тысячу раз я просил тебя не желать мне удачи!
Он быстро пошел к тарантасу, вскочил в него, лошади с места взяли хорошей рысью. Василий, сидя на козлах, крепко прижал к себе погребец; переходившие дорогу гуси с гоготаньем шлепнулись в канаву. Дача исчезла из глаз, все осталось позади.
Ну вот и уехал… Можно думать об охоте, о том, где придется ночевать, какова окажется в поле новая собака, доедут ли засветло, будет ли погода удачной. Некрасов вспомнил, что у мужика, который прошлый раз водил его на охоту, было много ребят — белоголовых, чумазых, с интересом и ужасом смотревших на барина.
— Василий, — окликнул он, — ты не знаешь, положили нам конфет?
— Конфеты-с в маленькой корзине сверху, — ответил Василий. — Авдотья Яковлевна сами их укладывали. И орехов целый тюрюк. Прикажете достать?
— Нет, не надо, разве только ты орехов захотел?
— Орехи — детское баловство, — обидчиво ответил Василий. — Я их не кушаю.
— Ну, не кушаешь, и не надо, а я и рад бы кушать, да в горле у меня от них першит. Придется нам с тобой угощать кого-нибудь орехами.
— Да уж известно, домой не повезем…
Тарантас, подпрыгивая, катился лесом по мягкой проселочной дороге. Глубокие колдобины с грязью на каждом шагу преграждали путь. Лошади осторожно переходили их; иногда приходилось сворачивать в лес, и тогда колеса утопали в легком мху или тарахтели по толстым, узловатым корням. Ехали шагом, и слепни упрямой назойливой тучей кружились над спинами лошадей. Василий длинной березовой веткой тщетно пытался их отгонять, но они не отставали, только лошади испуганно дергались, прижимали уши.
Некрасову надоело сидеть в тарантасе; он вылез и пошел рядом с дорогой по узенькой тропинке, сшибая ногой ярко-красные мухоморы и белые осклизлые поганки. Он нагнулся за большим крепким боровиком и долго нес его в руках, с удовольствием нюхая коричневую прохладную шляпку. Василий тоже соскочил с козел, он нашел заросли лесной малины, сделал туесок из бересты и набрал в него темных душистых ягод.
Но вот дорога раздвинулась, стала шире и суше, между деревьями засветились просветы. Некрасов и Василий уселись в тарантас и выехали в поле. Широкое, бескрайное, с небольшими пригорками, оно расстилалось впереди; легкая пыль клубилась за колесами; маленькие, тяжелые пичуги вылетали чуть не из-под ног лошадей и комками падали в рожь.
Сумерки начали спускаться, в потемневшем небе вспыхнули первые звезды, и луна медленно выплыла из-за горизонта. Лошади шли ровной хорошей рысью, прохладный воздух ласкал лицо.
В деревню, где Николай Алексеевич решил остановиться, приехали ночью. Голодные шершавые собаки кидались под ноги лошадям, бежали за тарантасом, оглашая пронзительным лаем тихую пустую улицу. Кучер остановил тарантас у последней избы, стоявшей несколько на отлете, почти у самого леса. Въехали во двор; из избы выбежал заспанный мужик; распрягли лошадей, устроили Некрасову постель в сарайчике, набитом сеном, привязали собак у колодца. Некрасов велел разбудить себя пораньше и с наслаждением растянулся на своем ложе. Он слышал, как разговаривали тихонько Василий, кучер и хозяин избы, как что-то шелестело и шевелилось в сене, — видно, потревоженная мышь пробиралась в свою нору; где-то на дальнем конце деревни залаяла собака, ей лениво ответила другая, и заворчали псы около колодца. Потом сон, внезапный и крепкий, смежил его веки, и он провалился в небытие.
…Разбудил Некрасова петух. Он кричал совсем рядом, видимо, у самых дверей сарая. Скрипучий пронзительный голос его покрывал все другие звуки, и только во время коротеньких промежутков, когда он переводил дух, слышно было, что на соседних дворах ему вторили еще несколько петушиных голосов. Что-то глухо ударило в стенку сарая, и петух с криком побежал через двор. Некрасов посмотрел в широкую щель — невдалеке стоял Василий и кидал вслед петуху комья земли. На бревнах сидело четверо ребятишек; кучер поил около колодца лошадей, собаки играли и валялись посреди двора. Утро было прекрасное, солнце светило в щели сарая, в косых лучах беззвучно плясали мелкие мушки. Некрасов сполз со своей высокой постели и, щурясь на солнце, остановился в дверях сарая.
— Счастливо проснуться, Николай Алексеевич! — весело закричал Василий. — Как изволили спать?
— Спал изрядно. Перина уж больно хороша.
— Перина крестьянская, — каждая пушина три аршина. Умываться подавать?
Некрасов с наслаждением облился водой у колодца, причесал еще пахнувшие сеном волосы и присел на бревна, рядом с ребятишками. Они, как стайка воробьев, шарахнулись в сторону и остановились, прячась друг за друга.
— Чего испугались? — спросил Николай Алексеевич. — Я не медведь, в лес не утащу. Ну-ка, красавица, скажи, как тебя зовут? — обратился он к маленькой, испуганно моргающей девочке.
— Варька, — баском ответил за нее старший.
— Варька? Хорошее имя — Варька. А ты, Варька, конфеты любишь? А орехи?
Варька застеснялась и спряталась за братьев. Она была маленькая, серьезная, с тонкой косичкой, в длинной широкой рубахе. Братья отодвигались и выталкивали ее вперед, но она упорно пряталась за ними.
— Она конфетов не едала, — опять ответил старший. — И немного подумав, прибавил оправдывающим тоном: — маленькая еще. А орехов у нас много в лесу есть, орехи она едала.
— Ну, таких, какие в моем лесу растут, наверно, не едала, — сказал Некрасов. — Василий, принеси-ка мне маленькую корзиночку.
Василий снял с тарантаса корзинку с провиантом и неодобрительно смотрел, как Некрасов вытащил мешочек с орехами, конфеты и коробку с печеньем.
— Вот у меня какие орехи, — сказал он, достав из мешка грецкий орех. — Такие у вас, поди, не растут.
Ребята подвинулись поближе, Некрасов разгрыз орех и, вынув половинки его ядра, протянул их на ладони Варьке.
— На, попробуй, слаще вашего или нет?
Варька быстро юркнула за братьев. Но Степка решительно вытолкнул ее вперед и солидно сказал:
— Не бойся, глупая, бери, коли барин дает.
Девочка быстро схватила орех и крепко зажала его в кулак.
— А теперь подставляйте подолы, получайте гостинцы, — сказал Некрасов и, поделив на равные части угощение, высыпал в протянутые подолы рубах.
— Что это вы, полоротые! — закричала вышедшая из избы женщина. — Чего выстроились, барину спокоя не даете. Благодарите за гостинцы и чтобы духу вашего здесь не было.
Босые пятки затопали по земле, и через мгновенье звонкие голоса уже раздавались из-за сарая. Хозяйка подошла к улыбающемуся Некрасову и низко ему поклонилась.
— Кушать-то вам где приготовлять, батюшка-барин? В избе или на двор столик вынести?
— Лучше бы на двор…
— И я так думаю, — в избе-то мух много и воздух тяжелый.
Стол и широкую скамейку поставили на холодок, под кустом бузины, раскинувшей размашистые ветки около колодца. На стол хозяйка постлала серую домотканую скатерть, зафырчал зеленоватый, медный самоварчик. Василий вытаскивал из корзинок и погребца промасленные свертки, судки и коробочки.
Пришел откуда-то хозяин и остановился, прислонившись к колодцу. Был он высок и худ, длинная реденькая бородка росла у него клочками и кустиками, как трава на песке, — небогатая бороденка, под стать впалой груди, узким плечам и глазам, чуть подслеповатым и бесцветным. Некрасов расспрашивал его об охоте, много ли дичи в нынешнем году, попадаются ли дупеля, есть ли тетеревиные выводки.
— Дупелей нонче маловато, Николай Алексеевич, а тетеревов, думаю, найдем. Мне еще тоже охотиться не пришлось.
Неторопливый охотничий разговор, видимо, не интересовал мужика, что-то другое занимало его мысли. Некрасов вдруг заметил, как высох, почернел и постарел его знакомец, как помрачнело его и без того невеселое лицо.
— Что с тобой, Иван Андреевич? — мы два года не видались, а ты на десять лет постарел?
— Жизнь больно лютая, батюшка-барин, — вяло ответил мужик, — мучаешься-мучаешься, страдаешь-страдаешь, а облегчения никакого нету. Зиму с голоду пухли, весну — еще дюже припухали, как живот сохраняли — невдомек.
— Скоро легче будет, Иван Андреевич, — сказал Некрасов. — Скоро крестьянам волю дадут. Слыхал ты об этом?
— Слыхал, как не слыхать, — безучастно ответил крестьянин. — Давно уже об этой воле болтают, из веры мы вышли, видать, не будет ее совсем. У нас в деревне, когда мужиков в ополчение брали, сулили, что после войны всем ополченцам свободу дадут. А что вышло? И война кончилась, и с войны вернулись, которые пораненные, которые изувеченные, а опять в помещичьи крестьяне попали, да и на барщине шею ломят.
Он невесело усмехнулся и кивнул головой в сторону избы, где на крылечке сидел совсем дряхлый, выживший из ума отец его.
— Вон и тятя надеялся на волю-то, меня поедом ел: пишись и пишись в ополчение, волю дадут. Я не пошел — куда мне от ребят-то, туча ведь их. При мне правда оказалась — других поубивали на войне-то, а я вона — жив!
Иван Андреевич подошел ближе к Некрасову; жена его, поставив на землю ведра, остановилась у колодца; Василий и кучер сели на траву и тоже прислушивались к разговору.
— Знаете, какую награду получили ополченцы-то? — спросил Иван, наклоняясь к Некрасову, — плети да палки. Вот ейный брат, — кивнул он на жену, — польстился, пошел в солдаты, всю войну воевал, ядром пальцы ему на руке оторвало, спасибо, что на левой. Вернулся он домой, обрядился, справился, пошел к барыне. Так и так, мол, пожалуйте мне вольную, как сулили. Барыня его, заместо вольной, на конюшню послала, за дерзость, значит. Потом вышла на крыльцо и говорит: я тебе благодетельницей была, старика-отца твоего в своей дворне содержала, запрошлый год жене твоей платье справила, а ты мне за эти благодеяния — дерзость учинил. Уходи, говорит, вон, чтобы духом твоим здеся не пахло, а отца твоего я на оброк пошлю. Вот ужо доделает мне зимний сарай для свинок и пусть идет себе со Христом…
Жена Ивана, стоявшая молча у колодца, вдруг всхлипнула и, закрыв лицо руками, опустилась на колоду.
— Убивается по отце-то до сих пор, — вздохнул Иван, — помер он, замерз в поле, как барыня его на оброк-то послала. Стар был, без того чуть ходил, а тут заставили его в стужу сарай ладить, а как кончил, проводили до ворот и велели идти куда хочешь. До деревни-то далеко, мороз дюжий, метелица, а он валенок у барыни, в дворовых-то состоя, не заработал. Пошел в худых лаптишках, да, видать, с дороги сбился, занесло его снегом, только весной обнаружился… Вот она какая воля вышла ополченцу.
Некрасов зябко повел плечами, — страшные вещи творится на земле! Какое счастье, какое благодеяние, что этого не будет больше…
— Ты поверь мне, Иван Андреевич, — горячо заговорил он. — Теперь уж взаправду свобода будет объявлена. Сам царь обещал, приказал своим министрам подготовить все для этого дела, не будет больше у нас крепостного права.
Мужик ничего не ответил. Он стоял, уныло опустив голову, и поглядывал искоса на жену. Она вытерла глаза подолом сарафана и, тяжело перегнувшись над краем колодца, потащила из него ведро. Руки ее дрожали, и ведро, расплескивая воду, стукнулось о стенки сруба. Когда она вытащила, наконец, ведро, Иван поднял голову и сказал Некрасову:
— Многие нынче говорят про волю, особенно солдаты, что с войны пришли. Говорят, объявлена уже воля, да помещики бумагу-то от народа спрятали. Как найдут, будто, мужики тую бумагу — помещикам крышка будет. Другие говорят, что господа не дают царю бумагу написать, грозятся, улещивают. Мало ли чего говорят, я уж и слушать перестал.
Он махнул безнадежно рукой и, увидав, что Некрасов кончил завтракать, велел жене убирать со стола. Некрасов встал и поклонился смутившейся женщине.
— Спасибо, хозяйка, спасибо, милая, за угощение. Напои теперь чайком ребятишек, — самовар-то горячий. Как они у тебя, учатся ли?
— Бегали старшенькие два прошлую осень, да доходить не пришлось. Бедность наша, одежонки нет, ноги босые, — в морозы-то жалко пускать. Далеко школа-то от нас, лесом идти, неровен час, и волки задрать могут. Волков эту зиму много было — по деревне, как собаки, бегали, осмелели…
— Вам бы, Николай Алексеевич, зимой приехать, на волков, — сказал Иван. — Из саней не вылезая били бы их. Управитель барский, бывало, положит в мешок поросенка, бросит его в сани и едет под вечер в поле. Поросенок визжит, а волки и сбегаются — только бей их.
— Я такой охоты не люблю, — ответил Некрасов. — Я люблю походить по лесу, по болоту, выследить птицу, погоняться за ней. А так что за радость… Ну, что же, Иван Андреевич, пойдем, что ли?
Василий вытащил из тарантаса охотничье снаряжение, Иван вынес из избы старый дробовичок, собаки запрыгали около охотников.
— Ни пуха, ни пера-с, — сказал Василий, проводив их до ворот.
Впереди приветливо кивал вершинами лес, птицы заливались, солнце светлыми пятнами разузорило тропинку. Кругом было так тихо, мирно и прекрасно, что Николай Алексеевич вдруг вздохнул с облегчением и замурлыкал под нос какую-то песенку.
V
Когда совсем стемнело, охотники нагнали в лесу маленького сухого старичка-побирушку. Шел он тихонько, неторопливо, босые ноги его осторожно ступали по сырой тропинке, новенькие лапти болтались, привязанные к суме. Был он похож на лесного духа — седой, волосатый, с шапкой седых курчавых волос, с бородой, росшей у него чуть не от самых глаз. Черная, погасшая трубочка торчала как клюв изо рта.
— Здравствуй, дед, — сказал Некрасов. — Куда это ты на ночь глядя путь держишь?
— Иду я, мил человек, до людского жилья, — охотно и смело ответил старичок, вынув изо рта свою трубочку. — Где домик увижу — вот, значит, и пришел.
— До жилья отсюда верст десять будет, — сказал Иван. — Куда ты ночью-то придешь, людей булгачить?
— А долго идти — так я и в лесу заночую, — спокойно молвил старик. — Дойду, может, до речки, разложу костерок и заночую. Вона у меня и котелок есть — чаевничать буду…
Старичок приветливо смотрел на охотников светлыми детскими глазами. Он погладил собак, которые с внезапным доверием завозились у его босых, черных от пыли ног, достал из кармана маленький пузатый кисет, набил трубочку темным, похожим на мох табаком. Горьковатый дым, пахнувший горелой соломой, облаком повалил из трубочки, и в лесу, темном и пустом, сразу стало уютней, запахло жильем, русской печкой и точно бы печеным хлебом.
Некрасову очень захотелось провести ночь в лесу, около костра, вот с этим приветливым дедом. Он нерешительно взглянул на Ивана, — может быть, он торопится домой? Но и Иван с улыбкой смотрел на старика, видно, и ему он понравился.
— А что, Иван Андреевич, не заночевать ли и нам в лесу? — просительно сказал Некрасов. — Давай заночуем, а то у меня ноги что-то здорово устали, не хочется дальше топать.
Речка оказалась совсем близко. Она тихонько журчала под горой, за вырубками; на берегу ее росла мягкая трава, темные кусты склонились над водой. На том берегу раскинулся луг, там стоял низкий легкий туман, над которым спокойно и тихо светила маленькая белая лупа.
— Ишь, благодать какая, — сказал старичок, опускаясь на землю. — Уж вы потрудитесь, люди молодые, соберите веточек для костра, а я посижу, ноженьки помою, устал, издалече иду.
На вырубке лежали большие кучи валежника; он высох и ломался со звонким треском, как на морозе. Белая, свернувшаяся в трубки береста хорошо была видна на темной траве. Некрасов собирал бересту и валежник, стараясь не отставать от Ивана. Когда они вернулись к реке с большими охапками валежника, старичок сидел на камне около реки и тер пучком травы себе ноги. Он снял суму, достал из нее котелок, сырую картошку, горбушку хлеба. Все это лежало на чистом холщовом полотенце, разостланном на траве, приготовленное, очевидно, для общей трапезы.
Костер запылал сразу, высоко выбрасывая языки пламени. Иван притушил его слегка травой и песком, и огонь стал гореть ровно и спокойно. Некрасов растянулся около костра, слушая, как трещит на огне сухая береста, как булькает, закипая, котелок, подвешенный над огнем на мокрой длинной коряге, вытащенной из воды. Старик раскопал около костра ямку в золе и высыпал туда картошку. Некрасов достал свои охотничьи припасы, — в сумке его нашлась даже бутылка водки, на которую дед посмотрел с видимым одобрением.
— А стопочки-то у вас есть, охотнички? — спросил он, повертев в руках бутылку.
Узнав, что стопочек нет, он начал мастерить их из бересты, ловко орудуя небольшим ножиком с черным черенком.
— Чай из них пить не придется, — говорил он, вырезая круглые маленькие донышки, — чай протекет, а водка, если побыстрей опрокидывать, вполне возможно. Сделаю вам по стопочке, а у меня бокал есть, из него что чай, что водку, все можно пить.
Покопавшись в суме, он вынул «бокал» — высокую, черную, глиняную кружку с отбитой ручкой. В бокале лежала завернутая в тряпку соль — крупная, мокрая, желтая, она заняла почетное место на полотенце рядом с горбушкой хлеба. Старик с удовлетворением посмотрел на расставленное угощение, налил себе полкружки и опрокинул ее в свою седую бороду.
— Со свиданьицем, охотнички, — сказал он, закусив коркой. — Шел я по лесу один-одинешенек, не чаял-не гадал вас встретить, ан люди-то везде есть, даже в лесу дремучем. Вот и сидим мы, не хуже, чем в избе, огонек божий нас греет, водку мы пьем, скатерть самобранная перед нами расстелена… Вон и картошка испеклась — выкатывайте да кушайте.
Картошка покрылась коричневыми пузырями, сморщилась и пропахла дымом, но Некрасов ел ее с удовольствием, проголодавшись за долгий день ходьбы по лесам и болотам. Ели молча, выпили по берестяной стопке водки; старик налил в свой бокал кипятку, бросил в него какую-то травку и начал пить, заедая булкой.
Иван обернул Голову зипуном и заснул около костра, а Некрасов, подбросив в огонь сухих веток, завел разговор со стариком.
Старик оказался занятным собеседником. Давно ходил он по свету — бобыль, неудачник; жизнь упорно старалась стереть его в порошок, да никак не могла с ним справиться. Крепок был старичок — мужицкий сын, ничему не поддался — ни холоду, ни голоду, ни битью, ни гневу божьему, только крепче стал, как дубленая кожа.
— У меня, милок, жизнь соленая, я, как гриб в бочонке, — насквозь просоленный, — говорил он посмеиваясь. — Меня и в могиле ничто не возьмет, червь глодать откажется, и буду я лежать, как нетленные мощи. У меня жена померла — на другой женился, вторую бог прибрал — я третью взял. Третья долго скрипела, да все одно меня пережить не смогла, — вот я какой живучий.
Старичок охорашивался, как тетерев на току, и не понять было, бахвалится он или верно гордится собой. Он рассказывал и о своих детях, которые — «кто их знает — все перемерли или живут еще где?» — о людях, которых видел на своем веку, об их горькой доле. Побывал он во многих местах, жил милостыней, да еще из этой милостыни помещику оброк платил:
— Помещик-то мой, батюшка, ничем не брезгает. Ему копеечка, Христа ради поданная, поперек глотки не встает, — вздохнув, сказал он.
Был он недавно в деревнях, где мужики бунтовали, и рассказывал об этом одобрительно.
— Красный петушок да дубовый обушок — вот и вся мужицкая орудия, — говорил он, лукаво посмеиваясь. — Большая была б в нем сила, кабы все зараз за нее взялись. А то у нас как? В одном конце мужики помещика жгут, в другом — помещики мужика бьют, — вот и нет порядку на земле. Не могут мужики промеж себя сговориться. Да ведь надо сказать — середь мужиков тоже дураков немало. Другой до такой дурости доходит, что своего же мучителя-помещика жалеет, — он-де у нас ничего, не больно лютый. А я так иначе думаю: хвали траву в стогу, а барина — в гробу. А пока жив — кто его угадает, как он повернется…
Николай Алексеевич невольно полез в карман за записной книжечкой и карандашом.
— Что это ты, мил человек, записываешь? — вдруг забеспокоился старик.
— Не бойся, дедушка, это я для памяти, — ответил Некрасов. — Я книжки пишу, стихи сочиняю, вот и запишу твои слова — таких самому не выдумать.
Старик заволновался, достал свою трубочку, разжег ее угольком и с уважением посмотрел на Некрасова.
— Так вот ты кто, — сочинитель, — сказал он почтительно. — А я и то сижу — думаю: что ты за человек? Видно, что не крестьянин, да и на барина не похож. Барин нашим братом брезгует, себя выше нас почитает, а ты — нет. Святое дело — стихи сочинять. А ну, прочти мне какой-нибудь стих, дакось я послушаю. Стих должон до сердца доходить, как песня, а если от него слеза не пойдет, — значит, и стихом его назвать нельзя.
Некрасов задумался на минутку и прочитал «Власа», потом «Забытую деревню», потом «Несжатую полосу».
…Руки, что вывели борозды эти, Высохли в щепку, повисли как плети. Очи потускли и голос пропал, Что заунывную песню певал, Как на соху налегая рукою, Пахарь задумчиво шел полосою.Он читал, закрыв глаза, тихим, взволнованным голосом. Кончив одно стихотворение, начинал другое, казалось, забыв о своем слушателе.
Старик сидел как неживой. Он не видел, что костер догорел, что трубка его погасла и упала в траву, что небо начало светлеть на востоке. Он беззвучно шевелил губами, повторяя за Некрасовым слова, и, когда тот кончил читать, не сказал ничего, точно боясь нарушить охватившее его очарованье.
Некрасов поднялся, подбросил веток в костер и спросил:
— Ну как, дед, настоящие мои стихи или нет?
Старик тоже встал и неожиданно поклонился поэту в пояс.
— Спасибо тебе, — сказал он ласково. — Спасибо, что не погнушался нищим бродягой. Прости меня, старого дурака, что вольно с тобой разговаривал. Не ведал я, кто ты за человек. Сделай еще одну милость: спиши мне стих, что про пахаря. Я пойду по деревням — петь его буду; пусть люди узнают, какие про ихнюю горькую долю песни есть…
— А ты разве грамотный? — спросил Некрасов.
— Грамотный, мил человек, Грамотный, только от грамоты пользы мало вижу, книжек-то хороших, про нашу крестьянскую жизнь, нет, а про разбойников или про божественное я читать не охотник.
Николай Алексеевич вырвал несколько листков из записной книжки, написал «Несжатую полосу», стараясь писать как можно разборчивей. Старик бережно спрятал в карман маленькие листки, закурил трубочку, поправил костер и снова уселся около огня.
— Спать-то не будем, что ли? — спросил Некрасов.
— Какое тут спанье, — ответил дед. — Вон уж солнышко всходит, птицы божий просыпаются… Ты ложись, отдохни, а я тебя постерегу напоследок, — знать, не встретимся больше с тобой. Вон ты какой желтый да худой — больной, что ли?
— Больной, дед, помирать скоро…
— Ну, нет, помирать тебе нельзя. Помирать тебе совсем даже не следовает. Ты человек богу угодный, народу надобный, тебя смерть не тронет, не посмеет. Тебе от жизни и от людей почет большой быть должен.
Некрасов рассмеялся и покачал головой:
— Вот ты и ошибся, дед, почету мне ни от кого нет, ни от жизни, ни от людей. Особенно от людей — не больно они меня уважают.
— Так ведь надо сказать — какие люди, — серьезно заметил старик. — Ежли нестоящие люди, так тебе на них наплевать, а хороший человек тебя всегда уважать должен. Может, конечно, хорошие люди не все тебя знают, а ты думай: вот кабы знали — уважали бы. На плохих ты вниманья не обращай, что они тебе? Так, пузырь на воде, лопнул — и нет его, а хороший-то человек умер, в земле сгнил, а слава об нем все одно жива. Ну, ты поспи, а я огонек покараулю.
Николай Алексеевич благодарно посмотрел на старика, — хорошо, что они его встретили — сел поближе к костру, подбросил в него сухую бересту и рассказал старику о подготовке к освобождению крестьян. Старик слушал его внимательно и кивал головой.
— Ну, что ж, это все правильно, — сказал он уверенным тоном. — Опамятовались, стало быть, убоялись мужицкого гнева. Однако и царь-то после войны вроде послабже стал… и побили его малость, и народ на войне разбаловался. Дай бог, дай бог.
Он перекрестился и, взглянув на Некрасова, неожиданно добавил:
— А про Власа у тебя тоже хорош стих. Прочти-ка его мне еще разок, сделай милость!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
I
Некрасов вернулся с охоты веселый и сразу же засел за работу. Поэма, которая его мучила, вылилась, наконец, на бумагу. Право же, неплохая поэма.
Он расхаживал по комнате в халате и в туфлях и повторял несколько нравящихся ему строк. Снова оживали в душе чувства, сопутствовавшие во время пути на родину, — светлое умиленье при виде убогого деревенского храма, братская любовь к мирному хлебопашцу, тихо бредущему за сохой, ощущение глубокого покоя, охватившее его родину после жестокой и бессмысленной войны.
Правда, потом эти чувства поколебались. Идиллическая тишина, которой он любовался из коляски, оказалась обманчивой. Россия, пожалуй, не была такой. Все в ней бродило, все было в напряженном ожидании, — нельзя, может быть, сейчас посвящать ей такие строки.
И все-таки ему не хотелось расставаться с первыми впечатлениями. Пусть живет его «Тишина»!
Он задумался над строчками, посвященными царю. Не слишком ли сильно? Конечно, начатое им дело поражает величием, но до Петра ему, пожалуй, далеко.
И быстро царство молодое Шагает по пути добра, Как в дни великого Петра…Николай Алексеевич прочел вслух эти строки. А что, собственно, в них неправильного? Пусть они остаются, пусть останутся и другие с пожеланием здоровья и покоя тому, кого он назвал «защитником» и «главой народной».
Пред коим частные труды Как мелководные пруды Перед Невою многоводной.«Защитник» и «народный глава» — это, может быть, чересчур?
Некрасов остановился у окна, выходящего в сад, и посмотрел на Панаеву. Она сидела на широкой скамейке, закрывшись большой кружевной шалью. Желтый зонтик, привязанный к спинке скамьи, бросал золотистые, теплые тени на ее загорелое лицо. Книжка валялась на песке. Авдотья Яковлевна, низко нагнувшись, с интересом рассматривала что-то на дорожке.
— Что вы ищете? — крикнул Николай Алексеевич, высунувшись из окна.
Авдотья Яковлевна вздрогнула.
— Фу, как вы меня напугали! Я ничего не потеряла, я просто смотрю на муравьев.
— И что же вы видите интересного?
— Очень много. Во всяком случае, больше, чем вы, сидя у себя в комнате.
Она начала царапать по земле тоненьким прутиком.
— Авдотья Яковлевна, — умоляюще сказал Некрасов. — Бросьте это занятие, перепишите мне, ради бога, одну вещь, которую я хочу сегодня же отвезти в город.
— Вы потащитесь в город по такой жаре? Что с вами? Пошлите лучше Василия.
— Нет, нет, я поеду вечером, жара схлынет. Ну, не ленитесь, идите сюда.
Авдотья Яковлевна нехотя поднялась со скамейки. Кружевная шаль потянулась за ней, да зацепилась за траву и паутиной повисла на кусте. Авдотья Яковлевна не подняла ее — она медленно шла к даче, и Некрасов загляделся на ее ленивые, плавные движения. Бог мой, какая она все-таки еще красивая! Кто это выдумал, что она похожа на итальянку? Ничуть не бывало! Итальянки грузные и грубые, а она настоящая русская красавица, степенная, вальяжная и вместе с тем страстная. К тому же чудесный друг, прекрасный товарищ, — когда захочет, конечно.
Он протянул ей исписанные вкривь и вкось странички Вставки и переделки расползлись по полям — получился довольно сложный узор.
— Разберете? — спросил он, с сомнением глядя на рукопись.
— Разберу, — ответила она, не посмотрев на бумагу.
Авдотья Яковлевна ушла к себе, а он позвал Василия и попросил подать одеваться. Плеща в лицо холодной водой и завязывая галстук, он прислушивался к разговорам Василия.
— Собачка новая утром курицу задавила, — радостно сообщал он. — Выдержки не имеет-с, очень беспокойная собачка.
— Да, собачка оказалась никуда, — согласился Николай Алексеевич. — Придется натаскивать. В следующий раз не возьму ее на охоту.
— Да уж известно, молодые собаки, — со старенькими способнее. Охотка-то нынче вышла не больно удачна, — продолжал он. — Надо вам, Николай Алексеевич, другого мужика для этого дела подыскать, а тот мужик — горе-мужик; ему удачи не бывает.
— Почему же это не бывает?
— Это мне неизвестно-с. Таланту нет.
Василий подал Некрасову жакет, провел еще раз щеткой по светлым панталонам и положил на стол перчатки и цилиндр. Николай Алексеевич посмотрел в зеркало, поморщился и пошел к Авдотье Яковлевне. В ее комнате было светло и весело. Белые шторы пронизывало заходящее солнце, букеты цветов стояли на столе, на окнах, на туалете, на тумбочке около кровати. Портрет Некрасова, в красивой овальной раме, осеняли длинные гроздья левкоя.
Николай Алексеевич понюхал цветы, поцеловал Панаеву в голову и смирно уселся около стола.
Авдотья Яковлевна кончала переписывать. Лицо ее было серьезно и немножко грустно. Она с недоумением взглянула на Некрасова и снова опустила глаза на бумагу.
«Не нравится», — подумал Некрасов, наблюдая за ее быстрой рукой.
— Ну как? — спросил он, когда она кончила.
— Хорошо, только не все… Нет, не все хорошо, — решительно сказала она, — тебе самому не все нравится.
— Нет, мне все нравится, — упрямо ответил он, пряча исписанные листки в карман. — Вот покажу Чернышевскому и напечатаю.
— Печатай. Многие будут довольны… Ты сегодня вернешься?
— Не знаю, — сухо сказал он, чувствуя, что настроение начинает портиться. — Не знаю, вероятно, сегодня.
Он спустился вниз и сел на дрожки с мыслью о том, что оппозиция новым стихам уже началась.
— Глупая, — пробормотал он сквозь зубы, чувствуя, что это неправда, что она совсем неглупая, что ему просто обидно, что будут еще больней обиды, и что они будут обязательно.
II
Чернышевский был в городе один. Ольга Сократовна с детьми жила на даче в Павловске, в квартире было по-летнему неуютно: мебель в чехлах, картины завернуты в газеты, люстры окутаны кисеей.
Только маленький кабинетик хозяина не менялся от времени года. В просторной квартире Чернышевских он всегда выглядел, как каморка для слуги: тесный, неуютный, убранный без заботы об удобствах. И сейчас, как и зимой, корректуры, гранки, рукописи загромождали стол, диван и подоконник, книги стопками лежали всюду — даже на полу. А сам хозяин в халате и домашних туфлях читал что-то, стоя около конторки.
Некрасова всегда удивлял образ жизни Чернышевского. Он не раз говорил ему об этом, пеняя на его неуменье жить.
— А я пользуюсь всем тем, что мне требуется, — отвечал Николай Гаврилович. — Мне для себя ничего такого особенного не нужно. Я привык так жить.
Некрасов знал, что это не было фразой. Действительно, Николай Гаврилович никогда не испытывал огорчений из-за отсутствия удобств. Он совершенно добродушно относился к тому, что его рабочая комната была худшей комнатой во всей квартире. Он находил вполне естественным, что во время вечеров, устраивать которые Ольга Сократовна была большой охотницей, его кабинетик превращался в буфет или в дамскую туалетную. Чернышевский спокойно выставлял тогда свою конторку в прихожую и работал там под звуки танцев, долетавших из зала.
Он искренне удивлялся, когда кто-нибудь из молодых гостей выражал смущение по этому поводу.
— Да что вы, голубчик, — уговаривал он какого-нибудь студента. — Мне здесь прекрасно, вы совершенно напрасно огорчаете себя. Идите, веселитесь, я вот кончу корректуру и тоже к вам приду.
— В монахи метите, батенька, — говорил ему Некрасов с усмешкой.
— Нет, Николай Алексеевич, до монахов мне далеко, — отшучивался Чернышевский. — Монахи истязают свою грешную плоть в надежде на загробную жизнь, а я живу так, как мне нравится. Я эгоист, Николай Алексеевич, отчаянный, убежденный эгоист, меня напрасно считают добреньким.
Сейчас Некрасов вошел в его комнату и остановился в дверях, глядя, как Николай Гаврилович ерошит одной рукой волосы, а другой быстро и сердито листает книгу.
— Какую пошлость пишут люди! — возмущенно сказал он Некрасову вместо приветствия. — Какую пошлость пишут, да еще печатают, да еще читателей находят. Нет, воля ваша, Николай Алексеевич, я рецензиями на этот мусор засорять журнал не буду.
Некрасов повертел в руках книгу и положил ее на конторку. Он сам прислал ее Чернышевскому вместе с целой связкой таких же «легких» романов, брошюр и сборников.
— Вам совсем не надобно самому заниматься писанием отзывов на этот сорт литературы, — спокойно сказал он. — А отзывы на эти книжки давать надо.
— Кому это надо?
— Нам, как редакторам журнала, которые обязаны помнить о читателе. А читатель, к сожалению, такими книгами интересуется не меньше, чем серьезной литературой.
Чернышевский горячо возразил Некрасову. Он считал, что в настоящий момент перед журналом стоят более высокие задачи, чем разбор легоньких пьес и романов; распространение просвещения среди народа, благоприятное разрешение крестьянского вопроса и ликвидация бюрократического управления. Эти «три кита» должны были, по его мнению, лежать в основе всех отделов «Современника»; им необходимо было подчинить содержание беллетристических произведений, а тем более публицистических статей.
— Ежели я разбираю какую-нибудь книгу, — говорил он, — то никогда не забываю о своей главной задаче: бороться за эти существеннейшие вопросы. Мне и книга-то нужна часто как отправная точка для развития интересующей меня темы. Вот в «Трудах» Вольного экономического общества появилась статейка Бланка «Русский помещичий крестьянин». Я эту статейку не упущу, она мне здорово пригодится для сугубого издевательства над господами крепостниками.
Некрасов пожал плечами и сказал, что хотя он тоже считает это полезным, но сомневается в том, чтобы читателям «Современника» попали когда-либо в руки труды Бланка.
— А вот эти, как вы называете, «легкие» брошюрки многие читают и портят себе литературный вкус, — с досадой сказал он, подняв со стола пачку книг. — Я не буду с вами спорить. Делайте, что находите нужным, навязывать свое мнение я вам не хочу, но напомню только вам, Николай Гаврилович, что Белинский не пренебрегал подобного сорта литературой.
Имя Белинского было последним козырем. Он прекратил спор и подумал, что, может быть, Тургенев и Толстой кое в чем правы, когда говорят о Чернышевском как о человеке узком и одностороннем. Он решил новое стихотворение Чернышевскому не показывать.
Разговор перешел на другие темы. Чернышевский расспрашивал Некрасова об охоте, о деревенских встречах и разговорах; он оживился, бледное лицо его порозовело, тонкий голос окреп.
— Сейчас надо держать ухо востро, Николай Алексеевич, — говорил он, дергая кисти халата. — Помяните меня, я уверен, что пройдет некоторое время, и вокруг реформы поднимут шум люди, отнюдь не болеющие за нужды крестьянства. И под шумок обделают свои делишки наивыгоднейшим для себя образом… А для отвода глаз — будут благовестить вокруг имени царя. Сейчас царю многие благовестят, — тихо закончил он, — а я все больше и больше ему не верю, черт знает почему, а не могу верить.
Некрасов невольно положил руку за борт сюртука, где во внутреннем кармане лежала его «Тишина». Что это такое? — точно сквозь сукно увидел Чернышевский строчки его поэмы, бьет прямо по ним, по тем словам, которые у него самого вызывают-сомнение.
Чернышевский подсел к Некрасову на диван и продолжал тихим, взволнованным голосом.
— Чем дальше думаю, тем больше убеждаюсь, что прав был Добролюбов, написав два года назад в своей оде на смерть Николая: «Один тиран исчез, другой надел корону, и тяготеет вновь тиранство над землей». Пророческие это строки. Молод Добролюбов, да умен, умнее нас, стариков.
Некрасов слушал, опустив голову. Что-то очень правильное было в словах Чернышевского и вместе с тем, что-то неприятное, слишком сухое, рассудочное, излишне недоверчивое.
«Нет не покажу ему стихов», — решил Некрасов, поднимаясь с дивана и протягивая Чернышевскому руку.
— Будьте здоровы, Николай Гаврилович, я поехал, у меня еще дела в городе. А о стихах Добролюбова должен сказать вам, что, как прогноз, они может и хороши, но как стихи — слабоваты. Пусть он лучше статьи пишет — пользы больше будет.
Он попрощался и вышел на улицу. Тихий летний вечер завладел Петербургом. Веселые люди в светлых одеждах шли по тротуарам, небо было розовым и ясным, цветочники продавали свежие пахучие букеты.
Некрасов отпустил коляску и пошел пешком. На душе у него было скверно, собственные стихи камнем лежали в кармане.
III
Вот и пришло письмо из Лондона. И совсем не так, как было во сне. Не Тургенев его привез, а Дружинин, и даже не сам привез, а прислал со слугой. И конверт был не из серой плотной бумаги, а обыкновенный белый конверт. Василий подал письмо со словами:
— Ответа дожидаться не велели-с…
Лицо у Василия было обычное, будничное, точно принес он гранки из типографии или ежедневную деловую почту.
Николай Алексеевич повертел в руках конверт, не решаясь его вскрыть. Закурил папиросу, прошелся по комнате, разорвал конверт и разом пробежал письмо. Кровь прилила к щекам его… письмо кончалось фразой:
«В ожидании этого объяснения позвольте мне считать себя незнакомым с Вами».
Он перечитал письмо еще раз. Оно было оскорбительное, но нестерпимо вежливое.
Только сейчас он заметил, что Василий принес ему два письма. Второе было от Тургенева. Милый Тургенев! Зная, видимо, какое письмо посылает Герцен, он решил подбодрить приятеля.
Увы! Его письмо было не лучше. Выдержать еще и это было невозможно. Засунув оба письма в карман, Некрасов выбежал из комнаты. Он постоял на веранде, глядя перед собой помутившимися, точно ослепшими глазами, и, заметив Панаева, направлявшегося через цветник к дому, быстро пошел в парк. Он не мог оставаться в комнатах, не мог видеть людей, слышать их голоса, отвечать на вопросы.
В парке он долго ходил по дорожкам, быстро, без остановок, не глядя, не видя ничего. Он пытался привести в ясность события, нагромоздившиеся за последнее время. Был ли он действительно так виноват, чтобы получать подобные письма от людей, которых уважал и любил? Неужели он в самом деле стал настолько ничтожен, так опустился морально, что заслужил эти пощечины.
Он сел на скамейку и вытер пот с лица. Над головой деловито постукивал дятел; налетевший откуда-то овод с гудением описывал около него широкие круги — он не замечал ни дятла, ни овода. Мысли громоздились и путались, старые, давно забытые обиды оживали и выползали наружу. Было очень тоскливо и одиноко на сердце. Во рту пересохло, хотелось пить, но идти домой было невозможно. Николай Алексеевич сорвал листок березы и пожевал его. Листок был горьковатый. Почему-то вспомнилось, как в детстве, весной он вместе с деревенскими ребятами пил сок из березы. Они сверлили в стволах берез дырки и подвешивали под ними берестяные туески. Сок был сладкий, душистый, как мед.
А из сосны сок не капал. С сосны нужно было осторожно содрать верхнюю грубую кору, и под ней, на белом стволе был прозрачный, мягкий, как разогретая смола, слой. Слой этот снимался с дерева суровой ниткой. Он тоже был сладкий и вяжущий, как ягоды черемухи.
Николай Алексеевич вздохнул. Почему он теперь никогда не пьет березового соку и не снимает прозрачные ленты с сосновых стволов? Почему так горек клейкий березовый листочек? Он достал из кармана письмо Герцена и еще раз перечитал конец его:
«…Причина, почему я отказал себе в удовольствии вас видеть, — единственно участие ваше в известном требовании с Огарева денежных сумм, которые должны были быть пересланы, а потом, вероятно, по забывчивости, не были пересланы, не были даже возвращены Огареву… В ожидании этого объяснения позвольте мне считать себя незнакомым с Вами…»
Некрасов сложил письмо и засунул его в конверт.
«Сильно же вы восстановлены против меня, Александр Иванович, — думал он, — очень сильно, хотя и не справедливо. Вы, очевидно, сказали Тургеневу: «Вот какой он мерзавец, твой Некрасов, ты хлопочешь, чтобы я его принял, а он недостоин даже взгляда честного человека». Вы, безусловно, сказали это, или что-нибудь похожее. Ну что ж, вы добились своего. Тургенев прислал мне письмецо тоже довольно выразительное…»
Некрасов встал со скамьи и пошел по дорожке. Вынырнувшая откуда-то Нелька весело помчалась впереди. Он вышел на шоссе, оно было пусто в этот тихий полуденный час. Только маленькая тележка чухонца из соседней деревни медленно тарахтела по камням. Лошадь шла шагом, а чухонец спал, прикорнув за большими бидонами, которые бренчали на каждой выбоине. Николай Алексеевич позавидовал чухонцу, он не мог бы спать под бренчанье бидонов, вот так, скорчившись на тележке. Вероятно, сегодня он не сумеет уснуть в своей удобной постели, в прохладной комнате, где на ночь опускаются шторы.
«Вы можете, Александр Иванович, считать меня кем хотите, — вором, похитившим огаревские деньги, шулером, обыгрывающим своих друзей, спекулянтом — я не буду перед вами оправдываться, — думал он, глядя вслед удаляющейся тележке. — Вы хотите, чтобы я назвал имя женщины, вина которой уже искуплена страданьем и раскаянием. Я не назову его — вы сами знаете, что не назову. Но Тургенева я вам не уступлю, я буду воевать за Тургенева и добьюсь, чтобы он поверил больше мне, чем вам. Надо сегодня, сейчас же писать ответ, надо разом кончить с этим недоразумением!»
Он повернул обратно в парк и пошел к даче. В уме уже складывался ответ Тургеневу и письмо, которое он пошлет Герцену. Возможность действовать, бороться приподняла, как всегда, его настроение. Он даже начал насвистывать и ласково заговорил с собакой:
— Домой, бестия, домой, Нелечка. Зачем ты курицу задавила? Разве это достойно охотничьей собаки? Охотиться ты не умеешь, а гулять, задрав хвост, умеешь?
Собака, счастливая от того, что ее, наконец, заметили, прыгала, стараясь лизнуть хозяина в лицо, ставила лапы ему на плечи, мешала идти. Ее мокрый красный язык почти касался лица Некрасова, желтые веселые глаза смотрели на него с восторгом и преданностью.
Некрасов повеселел немного, глядя на славного пса. Он пошел быстрее, взбежал по ступенькам террасы и вошел в свою комнату. Чернильница на столе была полна до краев. Он сел к столу, положил перед собой лист бумаги и начал писать:
«Любезный Тургенев. Письмо твое о деньгах Огарева огорчило меня больше, чем бы следовало огорчаться такими вещами…»
Он писал, стараясь как можно ясней, детальней объяснить Тургеневу, что он не виноват; перо быстро бегало по бумаге, а в душе с новой силой поднималась обида на то, что должен он оправдываться в поступках, которых не совершал. Он с раздражением захлопнул чернильницу и позвал Василия.
— Одеваться, — сказал он, — и лошадь до пристани. Поеду в город. Пароходом.
Одеваясь, он подумал о том, что в городе займется делами, и что, может быть, удастся сыграть в карты. Не нужно торопиться с ответом, лучше сперва успокоиться окончательно, а потом писать.
Он спрятал в карман неоконченное письмо, письма Герцена и Тургенева и торопливо, точно убегая от кого-то, уехал в город.
IV
Цензор Мацкевич вернул «Тишину» с помарками, вычерками и закорючками на полях. Красные чернила разливались по аккуратно переписанным страничкам, — нужно было вносить серьезные изменения во многих местах.
Некрасов поехал к цензору объясняться. Цензор вышел ему навстречу, протянув обе руки и приветливо улыбаясь:
— Николай Алексеевич, уважаемый, какая радость! Бесконечно счастлив вас видеть, — говорил он, усаживая Некрасова и хлопотливо подвигая к нему ящичек с сигарами. — Чему обязан столь большим удовольствием встречи с вами?
Статский советник Мацкевич, невысокий толстенький человечек, был большим трусом, хотя этот свой недостаток умел прятать от окружающих. Он боялся Некрасова, боялся Чернышевского, боялся даже «нового поэта» — Ивана Ивановича Панаева, писавшего в «Смеси» фельетоны о петербургской жизни. Он проклинал день и час, когда его назначили следить за этим беспокойным «Современником».
«Подведут, — думал он, — обязательно подведут, и сделают это так ловко, что я и не замечу».
Он перечитывал материалы «Современника» по нескольку раз, прежде чем подписать их. Перед ним постоянным предостережением стоял образ цензора Бекетова, перенесшего крупные неприятности из-за «Современника». Мацкевич опасался оказаться в положении своего предшественника.
— Если говорить правду, — говорил он ближайшим друзьям, — то Бекетов в этом случае пострадал совершенно напрасно. Я подчеркиваю — в этом случае, потому что он вообще подыгрывался к господам литераторам и любил полиберальничать. Но в данном случае он просто попал впросак, я тоже мог бы так попасться. Что он сделал? Подписал к печати несколько стихотворений Некрасова из уже вышедшей книжки. Книжку эту разрешил печатать сам председатель цензурного комитета. А что оказалось? Оказалось, что председатель цензурного комитета разрешил, а в придворном аристократическом кругу, увидав книжку, возмутились и подняли вокруг этого дела целую бурю.
Буря эта не осталась безрезультатной. Сам министр в особом предписании председателю цензурного комитета назвал стихи Некрасова «грубым и озлобленным политическим памфлетом на коренное устройство общества». Он писал о «злонамеренности» поэта, о карах, которые следовало бы наложить на Бекетова, об обязательном отстранении Бекетова от цензурования «Современника».
— Бекетов-то приходился председателю комитета родственником по жене — вот ему и сошло все это с рук сравнительно благополучно, — говорил Мацкевич. — А у меня жена из поповен, от ее родственников мне пользы немного.
Опасения, что Некрасов обязательно «подведет», ярко вспыхнули в сердце цензора, когда принесли ему «Тишину». Он прочел ее сначала всю, целиком, и удивился ее благонамеренности.
— Полно, всерьез ли он это пишет? Нет ли какого скрытого подвоха? — подумал цензор и прочитал стихи еще раз.
Нет, в целом пьеса была совершенно безвредная, напротив, чувства патриотизма, уважения к религии и к деяниям царя были высказаны как будто искренне.
— Одумался, — решил Мацкевич. — Притих, испугался. Ну, и слава богу. И ему будет лучше, и мне спокойнее.
Уверившись в безвредности пьесы, он начал читать ее по строчкам, по словам, вдумываясь в каждое выражение. Тут кое-что нашлось.
Цензор с удовольствием вымарывал явно непристойные строки. Например, в описании минувшей войны было сказано так:
…За караваном караван Тянулся к месту ярой битвы — Свозили хлеб, сгоняли скот. П р о к л я т ь я, стоны и молитвы Носились в воздухе…Почему «проклятья»? Кому проклятья? Ежели неприятелю, то так и скажи, что ему, потому что может получиться двусмысленность, а двусмысленность, когда она относится к высшим лицам, в литературе недопустима.
Он основательно потрудился над «Тишиной» и выпустил ее из рук, уверенный в том, что теперь она совершенно безопасна. Он хорошо подготовился к защите своих исправлений, потому что был уверен, что Некрасов будет протестовать. Так и случилось: вот он сидит и курит сигару, этот известный каждому поэт и литератор, лицо у него желтое, глаза злые, и вежливая улыбка кажется натянутой и неестественной.
— Так чем же обязан вашему посещению? — спрашивает цензор, спрятав свою настороженность под чрезвычайной любезностью. — Знаю, что без серьезной причины не посетили бы вы меня в моей берлоге.
Но Некрасов не сразу ответил на этот вопрос. Сперва он заговорил о делах посторонних, спросил о том, какое впечатление создается от последних книжек «Современника», посетовал, что отдел беллетристики мало чем радует читателя, рассказал об ожидаемых произведениях Тургенева и только после этого вынул, наконец, из кармана цензорский список «Тишины».
Лицо Мацкевича растаяло от улыбок:
— Чудная, прекрасная вещь, — воскликнул он, схватив за руку Некрасова, — поздравляю вас с истинным произведением искусства; оно исторгло у меня слезы умиления, а слезы умиления у цензора — это дорогая и редкая вещь, — закончил он шутливо.
— Однако эти слезы не помешали одновременному пролитию и красных чернил? — так же шутливо сказал Некрасов. — Огорчили вы меня, отец мой, весьма огорчили; так трудно переделывать мне эту пьесу, что и сказать не могу.
— Для вашей же пользы прошу переделать, — ласковейшим голосом сказал цензор. — Для вашей же пользы, поверьте честному слову. Скажу, между нами, прелестная эта пьеса должна произвести благоприятное впечатление на всех благомыслящих людей. Так зачем же портить его несколькими необдуманными фразами?
Он взял в руки листок со стихотворением и быстро пробежал его глазами.
— Ну вот, смотрите сами, уважаемый: с такой нежностью описываете вы свою родину, с таким христианским смирением говорите о скромном деревенском храме и вдруг — такое сравнение: в этом мирном храме, оказывается, раздаются стоны, тяжелее которых не слыхали ни римский Петр, ни Колизей.
Цензор умоляюще посмотрел на поэта и сразу же принял внушительный вид и заговорил нравоучительным тоном.
— Неверное это сравнение, неверное и противоестественное. С Колизеем сравниваете наш деревенский храм! С Колизеем, где христиан отдавали на растерзание хищным зверям… Где же, каких зверей видите вы в мирном сельском храме? Уж если и приводить сравнение с Колизеем, ежели он так понравился или для рифмы нужен, так скажите, что молитвы, возносимые в простой деревенской церкви, горячей, чем молитвы христиан в Колизее.
Некрасов рассеянно вслушивался в слова цензора. Он и без его объяснения прекрасно понимал, почему были вымараны некоторые слова и целые строчки. Ему было скучно, и когда он хотел возразить, то голос его был настолько вялым и нерешительным, что цензор перебил его и перешел к другому, на его взгляд, неподходящему месту.
Николай Алексеевич перестал вслушиваться в слова Мацкевича. Сейчас ему было обидно не за вымаранные строчки. Другая, более глубокая обида точила его сердце. Не вычерки, а похвалы впивались в душу — иная похвала бывает хуже самой резкой брани.
— Хорошо, любезный друг, — перебил он цензора, насколько мог, приветливо, — вы меня почти убедили, я подумаю, как это все исправить.
Он потянулся за шляпой и хотел идти, но цензор упросил посидеть еще полчасика, «продлить драгоценные минуты встречи со столь знаменитым поэтом». Пришлось посидеть, даже выпить чаю, даже пригласить цензора на один из ближайших обедов.
— Буду польщен присутствовать, — сразу же согласился цензор. — О великолепии ваших обедов и о блестящем литературном обществе, собирающемся у вас, говорит весь Петербург.
Некрасов улыбнулся и сказал, что самый главный представитель литературного общества — Иван Сергеевич Тургенев, — к сожалению, не будет, так как находится за границей.
— Ах, как жаль! — воскликнул цензор. — Мечта моя — лично познакомиться с гордостью отечественной литературы.
— Ну, мечта эта не так уж неосуществима, — сказал Некрасов вставая. — Приедет Тургенев — познакомим вас с ним.
Он распрощался с цензором, проводившим его до двери, быстро сбежал по лестнице и уехал.
V
Вот и еще весточка от Тургенева: Фет приехал. Он вошел в контору «Современника» в полной уланской форме, загорелый, сверкающий здоровьем. Он вернулся из-за границы, из свадебного путешествия, и выглядел, как подобает молодожену.
— Прямо с парохода к вам, — сказал он, пожимая руку Некрасову. — Безумно рад, что застал вас в городе. Шел наугад — по вашим письмам Тургеневу знал, что вы на даче.
Некрасов подхватил его под руку и потащил на городскую квартиру.
— Едем, едем! Василий здесь, он устроит нам закуску и выпивку. Мы должны спрыснуть ваше бракосочетание, — радушно уговаривал он Фета.
Фет передавал ему приветы от знакомых, рассказал о здоровье Тургенева:
— Да, впрочем, вы знаете все от Дружинина, — перебил он себя, искоса взглянув на Некрасова.
— Дружинина я еще не видел, — ответил Некрасов, заметив косой взгляд Фета. — Не пришлось повидаться, — я ведь, действительно, сижу все время на даче.
Неприятная мысль о том, что Тургенев мог посвятить Фета в историю лондонской поездки, уколола его.
«А может, и нет? Черт знает, чего только я не думаю о Тургеневе», — отогнал Некрасов от себя подозрение и продолжал беседу непринужденно и приветливо.
Дома они уселись на широченном диване. В комнате было прохладно — опущенные белые шторы не пропускали жару и пыль. Огромная светлая комната тонула в приятном сумраке, уходить из нее не хотелось. Василий проворно и бесшумно подал сюда на маленьком столике закуску. Первый тост был провозглашен за молодую супругу Фета, второй — за него самого, третий — за Тургенева. Потом — за старых друзей, за встречу, за многие другие приятные вещи.
Вино разогрело Фета, он стал откровенен и рассказал историю своей женитьбы. По его словам, все было очень поэтично, — он привез в Москву из деревни больную сестру для лечения:
— Между нами — она больна головой, — покрутил он пальцем около лба. — Не совсем, но знаете, находит…
В Москве у него не было никого. Никаких родных, никаких добрых знакомых, которые, могли бы помочь в тяжелую минуту. Один Василий Петрович Боткин, в семье которого он и нашел себе невесту.
— Вы понимаете — ранняя весна, страстная суббота, голубое московское небо, капель с крыш, голуби на подоконнике, звон колоколов и запах куличей в доме. «Она» в бледно-палевом платье, с букетом, который подарил я, с лицом таинственным и немножко грустным… Мари. …Какое хорошее имя Мари… Вам оно нравится?
Некрасов вместо ответа налил еще раз бокалы:
— Выпьем за женщин, носящих это имя, — предложил он.
— Я пью за одну из них, — ответил Фет.
Он выпил и продолжал рассказывать. В рассказе смешалось все: и заутреня, после которой он христосовался с невестой, ночь, когда он разговлялся, сидя рядом с ней за убранным цветами столом, и визит Аполлона Григорьева, который явился утром поздравить с праздником, облаченный в какую-то фантастическую венгерку, расшитую золотыми шнурами, и в сапоги, вырезанные сердечком, и сватовство его к Мари, и снова церковь, и слабый огонек свечи, которую Мари оберегала ладонью.
— Ладонь у нее была прозрачная и розовая. Кажется, именно в этот момент я решил окончательно, что буду свататься.
Николай Алексеевич слушал с интересом и сочувствием. У него самого, пожалуй, не было в молодости таких поэтических минут. К заутрене он ходил только в детстве, в церкви ему всегда было душно. И скучно, потому что за спиной стоял насупившийся отец. Он не христосовался с чистой и милой девушкой под сводами уютной московской церкви. Он не был так счастлив, как Фет, — у него была совсем другая жизнь, чем у многих писателей: без дворянских гнезд, без добродушного Карла Ивановича с кисточкой на ночном колпаке, без поэтического сватовства и нежного романа с юной невестой.
Николай Алексеевич растрогался, он обнял Фета и начал говорить ему о своей любви к Тургеневу, о глубоком огорчении, которое испытал он, получив его письмо, вызванное глупым, нелепым недоразумением. Потом вдруг прочитал свою «Тишину», чувствуя, что она должна ему понравиться.
Фет слушал, закрыв глаза и откинувшись на подушки дивана. Он не любил стихи Некрасова; они казались ему издевательством над тем возвышенным и изящным, что он привык считать истинной поэзией. Но эти стихи ему понравились, он слушал их с волнением, они доходили до его сердца. Когда Некрасов кончил читать, Фет бросился к нему на шею, пожимал ему руки, целовал и говорил, что это прекрасно, что эти кроткие, светлые и нежные строки потрясли в нем и поэта и человека.
Николай Алексеевич был растроган. Собственные сомнения, недоуменная усмешка Панаевой, сладкие слова цензора, — все отступило куда-то вдаль. Он был благодарен Фету, ему хотелось отплатить чем-нибудь за облегчение, которое принесли его слова. Он вспомнил, последнее, понравившееся ему стихотворение Фета — «У камина» — и сказал, лукаво улыбаясь:
— Постойте, Фет, прекратите ваши похвалы. Я хочу прочесть вам одну прелестнейшую вещицу, которая сразу же затмит мою «Тишину». Слушайте:
Тускнеют угли. В полумраке Прозрачный вьется огонек, Так плещет на багровом маке Крылом лазурный мотылек. Видений пестрых вереница Влечет, усталый теша взгляд, И неразгаданные лица Из пепла серого глядят. Встают ласкательно и дружно Былое счастье и печаль, И лжет душа, что ей не нужно Всего, что ей глубоко жаль.Правда, прелестно? Ну, не скромничайте, признавайтесь, что это шедевр.
Фет рассмеялся, но не успел ничего ответить, — Василий доложил о Чернышевском. Это было, пожалуй, некстати. Фет вскочил с дивана, подтянул шарф и пригладил волосы. Николай Гаврилович вошел и, сощурив близорукие глаза, протянул ему руку:
— Здравствуйте, Афанасий Афанасьевич, надолго ли к нам?
Фет по-военному щелкнул каблуками и сказал, что завтра уезжает в Москву. Он сразу изменился, заговорил сухим и несколько раздраженным тоном. Некрасову жаль было прерванного разговора, — старые «современниковцы» не любили нового сотрудника журнала, и Фет не будет продолжать своих лирических рассказов.
Но Николай Гаврилович точно не заметил некоторой неловкости, какую вызвал его приход. Он заговорил о путевых впечатлениях Фета, печатавшихся в «Современнике», отозвался о них с большой похвалой, расспрашивал о заграничных новостях, о здоровье Тургенева, о дальнейших планах Фета. Разговор перешел на темы литературные и общественно-политические. Фет, любезно улыбаясь, сказал, что Боткин был польщен рецензией на его «Письма из Испании».
— Рецензией, которая принадлежит вашему перу, уважаемый Николай Гаврилович…
К разговорам на тему об освобождении крестьян Фет отнесся совершенно равнодушно. Он молчал, пока Чернышевский говорил об этом, и, скучая, начал рассматривать развешенное по стенам охотничье снаряженье Некрасова.
Чернышевский явно хотел выслушать мнение Фета о грядущей реформе. Он говорил, обращаясь только к нему, точно забыв о Некрасове. Некрасов насторожился. Он смотрел то на оживленного энергичного Чернышевского, то на равнодушно-корректного Фета Наконец Фет был вынужден ответить на прямо поставленный вопрос: как он расценивает настроение крестьян в настоящий важный для них момент?
Он задумался на минуту и сказал нехотя:
— По-моему, сейчас многие склонны преувеличивать стремление крестьян к освобождению. Никаких особых настроений у них нет, ничего они толком об этом не знают, да и не могут знать. Если хотите, мне нынешнее состояние крестьян напоминает состояние ребенка, которого отправляют в школу. Жил этот ребенок с родителями, под родным кровом, ни о чем не задумывался, в будущее не заглядывал. Отец за него думал, и если ребенок был послушен и трудолюбив — отец поощрял его, если своеволен и ленив — наказывал. Наказывал, любя и желая добра ему…
Некрасов беспокойно завозился на диване и посмотрел украдкой на Чернышевского. Чернышевский совершенно серьезно слушал Фета, наклонив набок голову и постукивая слегка пальцем по столу. А Фет, увлекшись собственной речью, расхаживал по комнате и развивал дальше свою мысль.
— Так вот и жил этот ребенок… И вдруг в так называемом просвещенном обществе заговорили о необходимости «прогресса», «образования» и прочих вещей, якобы необходимых для дитяти. Засуетились, зашумели эти духовные опекуны, болельщики за чужое счастье, и начали уговаривать ребенка, что ему необходимы воля, свобода, прогресс. Встревожились родители, заплакали мать и бабка, обнимая ребенка, которого чужие люди захотели увести из-под родного крыла, задумался и отец… А ребенок? Что же может думать ребенок? Он не хочет и не может обсуждать своего будущего положения, он, конечно, немного взволнован, он смутно чувствует, что приближается изменение его судьбы, но он не радуется и не грустит, — мне думается, что ему просто страшно от перспективы уйти из-под родительского крова…
Некрасов вдруг с шумом вскочил с дивана, задел стул, который с грохотом опрокинулся на пол, и, путаясь ногами в полах накинутого на плечи халата, побежал к двери.
— Василий! — закричал он хриплым голосом, — Василий, почему ты свечи не зажигаешь? Сидим тут впотьмах, как в бреду, давай огня, пожалуйста!
Он вернулся в комнату, снова сел на диван и со злостью посмотрел на Чернышевского. Николай Гаврилович, мягко улыбаясь, взял со стола гранки, которые принес с собой, и встал.
— Я с вами тут заболтался, а меня в типографии ждут, — сказал он. — Уж вы меня извините, что я обрываю наш интересный разговор, но я побегу. Вот и свечи несут. Напрасно вы, Николай Алексеевич, так разволновались из-за темноты в комнате. Посумерничать иногда приятно, в сумерки и говоришь как-то задушевней…
Он крепко пожал руку Некрасову, распрощался с Фетом и ушел. Фет посмотрел ему вслед и сказал, брезгливо поджимая губы:
— Я понимаю Тургенева, который не любит этого господина. Он как-то не располагает к себе, и мне удивительно, признаюсь прямо, ваше к нему расположение. Он теперь первое лицо в «Современнике», а это не может никому нравиться.
— Очень сожалею, что это многим не нравится, — сухо ответил Некрасов. — Чернышевский очень умный, дельный и полезный для журнала человек.
Он замолчал и налил вина себе и Фету, но никакого тоста не мог придумать. Молча чокнувшись, они выпили, не глядя друг на друга и не продолжая разговора. В комнате разлилась напряженная тишина, слышно было, как тикали большие часы, как на улице цокали копыта лошадей, как катились по мостовой проезжающие мимо кареты. Некрасов угрюмо постукивал вилкой, лицо его было мрачным и скучным.
Фет первый нарушил тягостное молчание:
— А я ведь к вам по делу, Николай Алексеевич, — сказал он. — Хочу у вас призанять немного денег. С этими свадебными делами я влез в долги. Василию Петровичу Боткину должен две тысячи; без денег в Москву явиться мне невозможно. Очень был бы обязан, если бы вы дали мне авансом эти две тысячи.
Некрасов мрачно посмотрел на него.
— Мне помнится, вы и так должны журналу, Афанасий Афанасьевич, — сказал он нелюбезным, сухим тоном. — Переводы ваши из Гейне мы взять не можем, за стихи собственные вы просите по двадцать пять рублей, — это цена неслыханная, а денег у нас в кассе нет. Все старые сотрудники вперед забирают, а обязательства свои выполнять не хотят. Нет, милейший друг, денег я вам дать не могу.
И он встал из-за стола, показывая, что считает разговор о деньгах исчерпанным. Мысль о том, что Фет, если бы не деньги, не зашел бы, внезапно появилась и еще больше испортила настроение. Ну да, все они смотрят на него только как на издателя, и разговоры о лирическом сватовстве были не чем иным, как подходом к просьбе о деньгах. Черта с два даст он ему денег! «Дитя», которое хотят вырвать из-под опеки нежного отца! А не хочешь «красного петушка» и «дубового обушка», которые готовит ребенок своему любезному папаше? Он не высказал этой мысли вслух, он просто подошел, к окну, отодвинул слегка штору и выглянул на улицу.
— Ого, стемнело совсем, ночь на дворе, — сказал он, не глядя на Фета.
Фет вскочил и начал прощаться. Некрасов снова стал любезен, проводил его до передней, просил не забывать «Современник», присылать стихи, передать привет Боткину. Дверь за Фетом захлопнулась. Николай Алексеевич пошел в свой кабинет, сел за стол и придвинул к себе гору рукописей. Он читал их быстро, как читает опытный редактор, привыкший налету схватывать содержание, чувствовать дух вещи, ее язык. Стакан крепкого чая остыл, сигара погасла, свечи догорели до самых розеток. Он зажег новые, разогнул занывшую спину и улыбнулся: ловко все-таки вытянул Чернышевский у Фета эту расчудесную речь! Вот тебе и замоскворецкие куличи, голуби и невесты! Он засмеялся тихонько и потянулся всем телом. Потом вспомнил о «Тишине» и о том, что ее нужно исправлять; достал из кармана исчерканные чернилами страницы и положил их перед собой.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
I
Вот и кончилось лето. Надо было перебираться в город.
Холодно и неуютно становилось на даче, особенно по вечерам, когда не хотелось не только выходить в сад, а даже смотреть на него в темное, запотевшее окошко. Иван Иванович все чаще и чаще оставался ночевать в городе, говоря, что ему нужно собирать материал для статей о начавшемся сезоне. Некрасов тоже неохотно приезжал на дачу, а Авдотья Яковлевна, проскучав целый вечер в пустой и холодной столовой, спозаранок забиралась в постель, вооружившись книгой потолще.
Иван Иванович уже подготовил статью к следующему номеру «Современника».
«Зимний сезон начался, ярмарка петербургского тщеславия — Невский проспект — почти в полном своем блеске», — писал он, вспоминая наиболее яркие свои впечатления. — «Шарлотты Федоровны, Армансы и Луизы уже летают взад и вперед от Полицейского до Аничкина моста, перегоняя друг друга и щеголяя шириной своих юбок, быстротой своих рысаков, роскошью своих туалетов. Большой свет начинает переселяться с дач, из-за границы, из деревень. Маленький «свет» давно покинул свои карточные летние домишки… По всем улицам развозят и разносят мебель из вощеного ореха с резьбой, обитую репсом или шелком».
Иван Иванович описывал кипучую деятельность строителей, новый дом княгини Юсуповой на Литейной, возмущался дороговизной жизни и неблагоустроенностью города и сравнивал Петербург с нарумяненной красавицей, у которой под роскошным платьем — грязная нижняя юбка.
— Нет, жить сейчас по-человечески можно только в деревне! — восклицал он и тут же, попав ногой в лужу около веранды, начинал проклинать дачу и требовать немедленного переезда в город.
Сборы начались сразу, после одного, особенно серого и дождливого дня. В доме укладывали последние узлы и чемоданы, на дворе, около кухни, девушки доглаживали выстиранные и выбеленные на солнце занавеси с балкона, начищали песком медные кастрюли, выбивали ковры и половики. В комнате были настежь распахнутые окна, сквозняки гоняли по полу обрывки бумаги и неизвестно откуда появившиеся засохшие ветки. Как всегда не хватало веревок и рогож; кто-то уронил в темном коридоре целую стопку тарелок, и осколки хрустели под ногами.
Авдотья Яковлевна срезала все цветы на клумбах и связала их в большой, яркий, пахнущий осенью букет. Букет она оставила на веранде вместе с зонтиком и сумочкой, а сама, ужо одетая для дороги в город, пошла в последний раз побродить по парку. Она смахнула со скамьи прилипшие к ней желтые листья, села и с грустью посмотрела кругом Вот и еще одно лето прошло, не принеся с собой ничего хорошего и нового. Она стала еще немного старше, морщинки сделались глубже, — никакой массаж, никакие заграничные средства не могут вернуть молодость.
Авдотья Яковлевна сдернула перчатку и посмотрела на свою руку. Рука была еще молодая, холеная, тонкая с розовыми ногтями и обручальным кольцом на безымянном пальце. Она повертела кольцо вокруг пальца и подумала о том, что если бы этот золотой ободок связывал ее не с Иваном Ивановичем, а с Некрасовым, то она чувствовала бы себя куда лучше и спокойней.
С возвращением в город, снова обострялась двусмысленность ее положения. Здесь, на даче, они жили все вместе; она чувствовала себя полной хозяйкой дома, в котором главой был Некрасов, а не Панаев. Здесь было проще и свободней, а в городе сняли две квартиры, правда в одном доме, правда, на одной площадке, но все-таки две, и она будет жить на половине Панаева и, как ехидно говорят ее приятельницы, «заведовать хозяйством Некрасова».
Какое ложное, фальшивое положение! Она могла бравировать им несколько лет назад, когда была моложе, когда Некрасов был влюблен в нее без памяти… А сейчас она предпочла бы спокойное положение законной жены любимого, но — увы! — охладевшего к ней человека.
Авдотья Яковлевна поднялась со скамейки, стряхнула с платья увядшие листья, которыми осыпала ее береза, и тихонько пошла по дорожке. Земля под ногами была влажной, маленькие лужицы, не просыхая, стояли в каждой выбоине, плотные гроздья брусники розовели у самой дорожки.
Она, присев на корточки, сняла перчатки и начала обрывать мокрые, холодные ягоды. Увидела подосиновик на высокой стройной ножке, пошла за ним, но подол платья сразу сделался тяжелым и мокрым от росы, а в тонких туфлях захлюпала холодная вода.
«Испортила туфли», — озабоченно подумала она, разглядывая ногу, бросила в траву бруснику, вытерла носовым платком руки и пошла к дому. Все равно Некрасов никогда не женится на ней, даже если она будет совершенно свободна.
В городе поселились в доме Краевского, что на углу Литейной и Бассейной. Некрасов велел поставить в своей передней медведицу с двумя медвежатами — трофей его охотничьей страсти — и купил огромный биллиард. На его половине было три комнаты: зала, спальная и комната, служившая туалетной. Зала была так велика, что в ней можно было устраивать балы. На высоких окнах висели тяжелые оранжевые занавеси, от них на светлые обои падал тревожный отсвет, будто от зарева или от заката солнца. Огромный турецкий диван занимал целый простенок, кушетка стояла поблизости от него. Небольшой письменный стол на толстых резных ногах приткнулся к одному углу, в другом — чернел вместительный книжный шкаф.
Авдотья Яковлевна сама наблюдала за расстановкой мебели. Она велела постлать около письменного стола пушистую шкуру, купила новую корзинку для бумаги и кресло, обитое зеленым сафьяном. Когда кресло принесли, Некрасов был дома. Он лежал на диване, закутавшись в халат, у него болели горло и голова, — ночью он играл в карты и неудачно.
— Что это еще? — спросил он раздраженно, когда слуга с грохотом втащил кресло. — Я просил покупать? Просил мешать мне, когда я болен?
— Это Авдотья Яковлевна прислали-с, в подарок, — сказал Василий. — На новоселье.
Авдотья Яковлевна шла следом улыбающаяся и довольная покупкой.
— Сюда, Василий, к столу, — распорядилась она, быстро переходя через комнату. — А это старое, выставим в туалетную.
Некрасов раздраженно следил за ее хлопотами. Все ему было немило: и новая квартира, и возня с переездом, и Авдотья Яковлевна, и это зеленое кресло.
— Прошу вас оставить мое старое кресло, — прохрипел он. — Я к нему привык и менять его не собираюсь.
Авдотья Яковлевна вздрогнула, и веселое, возбужденное выражение исчезло с ее лица. Василий поставил обновку к стене и удалился. Некрасов лежал, закрыв глаза, вся его поза показывала, что он раздражен и нетерпеливо ждет, когда его оставят одного. Авдотья Яковлевна знала, что лучше всего так и сделать, что если она начнет разговаривать, он будет ей отвечать грубо, но уйти не могла. Она упрямо вдвинула старое кресло в угол, а новое поставила перед столом.
— Так гораздо красивей, — заявила она, усаживаясь в кресло. — И очень удобно, посмотри сам.
— Я никого не просил заботиться о моих удобствах, — ворчливо ответил Некрасов, поворачиваясь лицом к стене.
Авдотья Яковлевна была вспыльчива. Глядя на спину Некрасова, она почувствовала, как раздражение сразу же овладело ее чувствами. Желание ударить, оскорбить, бросить чем-нибудь в эту равнодушную спину. Она вскочила и быстро подбежала к дивану, красные пятна выступили у нее на шее и на щеках, руки дергали и рвали пояс платья, голос охрип от волнения. Она выкрикнула какое-то оскорбительное и несправедливое слово, ужасаясь и радуясь тому, что оно подвернулось ей на язык, — началось то тяжелое, что в последнее время повторялось между ними все чаще и чаще.
Через полчаса она выбежала с половины Некрасова вся в слезах. Василий, возившийся в передней, довольно ухмыльнулся, закрыв за ней дверь.
— Приходят и расстраивают только барина, — проворчал он вполголоса. — Подарок…
Авдотья Яковлевна быстро прошла в свою комнату, села перед туалетом и уронила голову на руки. Она долго плакала, думала о том, как тяжело жить, постоянно ссорясь и оскорбляя друг друга, вспоминала и никак не могла вспомнить — из-за чего они поссорились сегодня. И в конце концов решила: просто из-за того, что он перестал ее любить.
Она подняла голову и посмотрелась в зеркало. Заплаканное с опухшими глазами лицо ее показалось ей самой старым и некрасивым. Машинальным жестом она провела по лицу пуховкой с пудрой, пригладила гребенкой волосы, расправила сбившиеся кружева воротника.
В дверь постучали, и она, не глядя, сказала:
— Войдите!
В зеркало она видела, что вошел Некрасов. Он стоял у двери виноватый и смущенный и ждал, когда она заговорит с ним. Но она молчала и перебирала какие-то безделушки на туалете. Он заговорил первый, глухим, хрипловатым своим голосом:
— Прости меня, Дуся, за грубость и несправедливость. Право, пора нам перестать ссориться, мы уж стариками становимся, а все кипятимся, как в молодые годы.
Они помирились и долго сидели вдвоем, тихо разговаривая. Авдотья смотрела на поредевшие волосы своего друга, на его худое желтое лицо, усталые глаза, на морщины, пересекающие лоб.
«Действительно, старики, — подумала она. — Посторонние этого не замечают, а на самом деле это так… И несчастные, нелегко нам обоим жить».
Ей вдруг стало ужасно жалко себя, Некрасова, ребенка, который умер таким маленьким, и она снова тихонько заплакала. Некрасов не утешал ее. Он сидел молча и только ласково поглаживал ей руку, — ему и самому было невесело.
II
На половине Некрасова вторые сутки шла карточная игра. Оранжевые шторы были спущены, на столах горели свечи. Сам Некрасов не ложился совсем, а кое-кто из гостей вытягивался на часок на диване, а потом бегал в туалетную обливать голову холодной водой.
Сморенный усталостью Василий уже перестал следить за порядком в комнате, и на столах появились тарелки с остатками закусок, рюмки, куски хлеба. В пепельницах выросли груды окурков, табачный дым наполнил комнату, пепел серыми пятнами лежал на полу и на ковре.
— Как в кабаке, — брезгливо поморщилась Авдотья Яковлевна, заглянувшая сюда к концу второго дня.
Она вызвала Панаева для переговоров с человеком, пришедшим из типографии, и распекла Василия, задремавшего на стуле около медведицы.
Василий, встрепанный и бледный, мрачно посмотрел на нее и, нехотя взяв метелку, пошел убирать.
Некрасов играл удачно, — ни следа усталости не было заметно на его спокойном лице. Его партнер, молодой казанский помещик, нервничал и горячился, он спускал уже не первую тысячу, он был расстроен и с ненавистью посматривал на равнодушно обыгрывавшего его Некрасова.
Молодой помещик (звали его Петр Ильич) попал к Некрасову случайно. Он приехал в Петербург устраивать дела по опеке над поместьем малолетних племянников. Дальний его родственник оказался знакомым Некрасова, и Петр Ильич, заскучавший от хождения по присутственным местам, сказал, что с удовольствием перекинулся бы в картишки, привез его на Литейную.
Петр Ильич считал себя неплохим игроком. У себя в имении или в имении соседа, где в длинные осенние вечера собирались семейным кружком, он играл удачливей других. Правда, один раз его здорово обыграл офицер из стоявшего по соседству полка, но он считал это чистой случайностью и навсегда остался при убеждении, что офицер этот был шулер.
И сейчас, пристально глядя на руки Некрасова, Петр Ильич решил уже, что он передергивает, что у него наверное карты краплены. Но ничего подозрительного заметить он не мог; тонкие белые руки Некрасова легко тасовали и метали карты, движенья его были четки и спокойны, лицо серьезно и даже как будто доброжелательно.
Помещика все смущало в этой комнате: опущенные шторы и горящие свечи, — хотя на улице был день, — подозрительная профессия хозяина — писатель, редактор журнала, — незнакомая компания, нарядная красивая дама, появлявшаяся иногда в дверях. Родственник его, выигравший малую толику денег, давно ушел, а он остался, потому что в тот момент казалось, что счастье улыбнулось, что можно отыграться, да еще, пожалуй, и обыграть этого спокойного вежливого господина.
Некрасов прекрасно видел, как волновался и нервничал его партнер, он видел, с какой неохотой доставал он из кармана проигранные деньги, как боролись в его душе два непримиримые чувства — жадность и азарт. Ему не было жаль проигравшегося помещика. Напротив, растерянные его глаза, потное покрасневшее лицо, вздрагивающие руки, — все это было Некрасову противно. Сам он никогда не жалел проигранных денег, для игры у него были отложены специальные «карточные» деньги, которые он заранее обрекал на проигрыш и которые не имели значения в его бюджете. Конечно, выиграть было всегда приятно, но не из-за того, что денег становилось больше, а из-за ощущения победы, которое давал выигрыш. Это было приятно так же, как убить на охоте крупного, хитрого, доставшегося с трудом зверя.
Сейчас, заметя вороватые взгляды, которые исподтишка бросал на его руки казанский помещик, он понял его мысли и решил выпотрошить его без пощады. Он играл до тех пор, пока Петр Ильич сам не отложил карты и не заявил, что играть дальше он не в состоянии. Некрасов, любезно улыбаясь, предложил ему отдохнуть, выпить и закусить чего-нибудь.
— Премного благодарен, но кушать не хочу, — невнятно ответил Петр Ильич и, схватив шапку, торопливо вышел на улицу.
Некрасов попросил Василия дать умыться, переоделся в халат, побрился и, веселый, чуть возбужденный, вернулся к своим гостям. Тяжелый табачный дым неприятно ударил ему в голову. Он подошел к окну, поднял штору и широко распахнул раму. Сырой, прохладный осенний воздух начал вливаться в комнату, серый дневной свет разлился над столами, пламя свечей заколебалось и побледнело. Николай Алексеевич налил себе стакан крепкого чая, и тихонько подозвав Панаева, сказал ему, что неплохо было бы как-нибудь, деликатным образом выпроводить гостей.
Иван Иванович сделал это ловко и незаметно; игра сама собой стала потухать; игроки почувствовали, что они устали, и начали расходиться.
В комнату опять зашла Авдотья Яковлевна и сказала, что у нее сидит Чернышевский, что он уже хотел уходить, да увидев, как расходятся гости, решил дождаться Некрасова.
— Идемте, кстати и обедать пора, — сказала она Некрасову и Панаеву. — Или вы и есть не будете?
— Я, пожалуй, закушу, — ответил Иван Иванович и пошел следом за Авдотьей Яковлевной. Некрасов тоже поднялся с дивана; он с удовольствием подумал об обеде и почувствовал, что голоден, как после долгого хождения по лесу.
В столовой Панаевых было светло и ослепительно чисто. Как-то особенно сверкала посуда на столе, крахмальные занавеси на окнах, чехлы на мебели. Воздух был прохладный, свежий, пучки осенних веток пылали в высоком кувшине. Все это особенно бросилось в глаза Некрасову после его разгромленной, прокуренной комнаты.
Чернышевский, улыбаясь, поднялся ему навстречу.
— Два дня не могу с вами повидаться, Николай Алексеевич, — сказал он. — Ну, что, кончили избивать младенца?
Некрасов, садясь за стол и наливая себе водки, весело сказал, что «младенец» ушел ощипанный, как индюшка, и убежденный в том, что партнером его был шулер.
— Я сразу это понял, увидав, как он следит за моими руками, — смеясь говорил он. — Вероятно, хотел увидать, как я вытаскиваю карту из-за манжета.
Авдотья Яковлевна нахмурилась и сказала неодобрительным тоном:
— Теперь будут злословить о том, что у вас притон и что вы играете нечестно. Что вам за охота играть у себя дома с посторонними людьми?
— А с кем же мне играть из близких? — шутливо отвечал Некрасов. — С вами разве, Николай Гаврилович?
Чернышевский замахал руками и заявил, что он никогда в жизни не сядет за зеленый стол вместе с Некрасовым.
— У меня семья, я капиталов не имею, да к тому же я близорук и обязательно спутаю даму с валетом.
Чернышевский смеялся, рассказывая разные забавные эпизоды из своей скромной картежной практики и требовал от Некрасова, чтобы он открыл ему секрет своей удачной игры.
— Признайтесь, Николай Алексеевич, какая старая графиня назвала вам три карты и была вашей наставницей в этом искусстве?
— Это была не графиня, а профессор из духовной академии. Он пил горькую, ходил в полосатом рваном халате, подвязанный грязным полотенцем, и жил на Охте в развалющей хибаре. Трех карт он мне не назвал, а играть действительно выучил.
И Некрасов рассказал о том, как, готовясь в университет, поселился у профессора Успенского, который обещал заниматься с ним по-латыни. Он, собственно, не был настоящим профессором, но латынь знал в совершенстве, а главное — был отзывчив к нищей молодежи.
— А я тогда был нищ и гол, ел не каждый день и ходил подкреплять свои силы в ресторан на Морской. Был там такой благословенный ресторанчик, где можно было, ничего не заказывая, сидеть за столом, читать газеты, а главное — бесплатно съедать хлеб, поставленный на стол.
Некрасов понюхал ломтик хлеба, лежавший рядом с ним на салфетке, и заявил, что такого замечательного хлеба, как в ресторане на Морской, он с тех пор не едал.
— Так вот, мой профессор поселил меня за перегородкой, в темном чулане, и начал обучать латыни. Недели две дело шло великолепно, но на третьей профессор мой запил, да так, что я, по молодости, перепугался. Но ничего страшного не случилось, просто забросили мы с ним науки, и начал он обучать меня другому древнему искусству — игре в карты. Был у нас партнер — дьякон Прохоров, — мы больше у него играли, там был вечный картеж; когда он в церковь ходил — неизвестно. Играли зверски и меня обучили. А латынь, между прочим, я сдал на экзамене в университете на пятерку…
Некрасов поднял рюмку, предложил выпить за своего профессора Дмитрия Ивановича Успенского. Николай Гаврилович сказал, что с удовольствием присоединился бы к тосту, но так как вина он не пьет, а пить квас за здоровье такого симпатичного человека, вероятно, было бы для него оскорбительно, то он присоединяется к тосту мысленно.
— Да я и не допущу такого оскорбления моему учителю! — воскликнул Некрасов. — Он к выпивке и к картежной игре относился серьезно и меня научил уважать то и другое. Ведь карты — это искусство, это спорт, который требует к себе самого серьезного отношения.
— Еще бы не серьезного, — сказала Авдотья Яковлевна. — Вы так серьезно относитесь к игре, что совершаете ритуальное омовение перед поездкой в клуб.
— А что вы думаете? Это необходимо, — живо возразил Некрасов. — После ванны я чувствую себя помолодевшим, сильным, решительным. Нервы приподняты, мозг работает быстро, а садиться за зеленый стол можно только в таком состоянии. Я приезжаю в клуб свежий, бодрый, а там меня встречает измотанный бессонными ночами, кутежами и похмельем помещик. Он и без того туп, как сайка, а сейчас совсем ничего не соображает. «Сыграем», — предлагает. «Сыграем», — отвечаю. Садимся за стол, и я, конечно, его обыгрываю. И с большим удовольствием обыгрываю, без всякого сожаления. «Ага, думаю, ты пьянствовал? С женщинами кутил? Деньги сорил? А где ты эти деньги взял? У крестьян высосал? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе».
Некрасов хлопал салфеткой по столу, точно выбрасывая козырные карты. Чернышевский с деланным испугом отодвинул от него свою тарелку.
— Помилуйте, Николай Алексеевич, — закричал он. — Вы мне щи разольете, пощадите, я ведь не казанский помещик!
Обед прошел весело. Некрасов шутил и смеялся, Авдотья Яковлевна сияла, даже сонный, уставший Панаев встряхнулся и перестал зевать. Стемнело, и над столом зажгли большую яркую лампу и принесли самовар, который кипел, фыркал и стучал крышкой. Некрасов перебрался на диван и закурил. Он лежал и сквозь прищуренные веки смотрел на лампу, на длинные волокна табачного дыма; они медленно подплывали к абажуру и, тихо покачиваясь, таяли над столом.
В комнате было тихо. Панаев и Чернышевский разговаривали вполголоса. Авдотья Яковлевна, подперев голову руками, безмолвно вслушивалась в их разговор. Большие часы над диваном тикали глухо и медленно.
Николай Алексеевич почувствовал, что блаженная сладкая дремота начинает овладевать им; он положил в пепельницу папиросу, повернулся набок и устроился поудобнее. Диван был мягкий, теплый, шерстяной, под щекой лежала прохладная шелковая подушка — от нее пахло табаком и слабыми выдохшимися духами. В ногах, свернувшись клубком, спала Нелька. На улице шел дождь, и капли барабанили по стеклу, а в комнате было тепло, тихо и уютно. Николай Алексеевич сквозь сон вспомнил, что сегодня он собирался в театр и с удовольствием подумал, что все равно он опоздал, что никуда не поедет, и будет лежать здесь на диване, покуда не уснет. И уже совсем засыпая, увидел, как Авдотья Яковлевна тихонько встала из-за стола и бесшумно подвинула к дивану кресло так, чтобы свет лампы не падал ему на лицо.
III
Поздно вечером неожиданно приехал Добролюбов. Он явился к Чернышевскому прямо с вокзала, пыльный, уставший, с небольшой корзинкой в руках. Чернышевский сам открыл ему двери и, радостно вскрикнув, потащил его прямо к себе. Он отобрал у него корзиночку и поставил ее в угол, помог снять пальто и велел подать чай сюда, чтобы не тратить время на разговоры за общим столом. Он ходил вокруг молодого своего друга и точно оглаживал его ласковым взглядом.
— Поправились, поправились на родных воздухах, — говорил он шутливо. — Не обленились? Не переменили решения прочно вступить на стезю литературы?
Бархатный басок Добролюбова заполнил маленький кабинет. Возбужденный путешествием, встречей, усталостью, он готов был разговаривать хоть всю ночь. Земля плыла и качалась у него под ногами, он с удовольствием пил горячий чай, не замечая, как Николай Гаврилович заботливо пододвигает ему то сахар, то сливочник, то блюдо с горячими пирожками и пышками.
— Иду в журнал — это решено бесповоротно, — говорил он. — Педагогическая деятельность подождет, потому что у меня разные статьи и на педагогические темы намечены, но сейчас я буду писать, много писать, только подставляйте страницы…
Чернышевский довольно улыбался. Вот и кончился институтский искус этого талантища; теперь ему, не боясь испортить диплом, можно всецело браться за литературу. Это хорошо, это очень хорошо, надо подумать, как получше устроить его в «Современнике», чтобы он мог работать спокойно и свободно, имея возможность полностью развернуть свои силы.
— Я думаю, Николай Александрович, вам нужно будет взять на себя всю критику и библиографию, — говорил он. — Дать направление этому отделу журнала, самому писать елико возможно больше и людей подобрать подходящих. Это будет именно то, что вам нужно и что «Современнику» совершенно необходимо.
Добролюбов, усмехаясь, ответил, что ему это действительно будет очень интересно и приятно, но что он сомневается — будет ли это так же приятно старым сотрудникам «Современника» и самому Некрасову.
— Там у вас народ аристократический и барский. Я плохо придусь ко двору. Вы — другое дело, у вас имя, огромные знания, авторитет, они вас, может быть, и не любят, да побаиваются. А я что — вчерашний студент…
Чернышевский сердито замахал руками и постучал ложкой по блюдечку.
— Тссс… замолчите, батенька, глупостей говорить не надо. Имя… Знания… А у вас — талант и смелость. Можете, можете, я-то вас, слава богу, знаю. Что некоторые будут недовольны — верно. Очень будут недовольны. Еще бы им быть довольными. Но вам это должно быть безразлично. А вот Некрасов — тот будет доволен. Уверяю вас, доволен будет, будет вас уважать и предоставит вам свободу действий.
Чернышевский знал, что личные связи и некоторое несходство во взглядах на отдельные общественные вопросы не мешали Некрасову понимать, за кем должно быть первое слово в журнале. Он был уверен в Некрасове и старался передать эту уверенность Добролюбову. Он готов был сейчас же обсудить с ним ближайшие номера и уже перебирал корректуры и рукописи на столе. Беседа не прерывалась до рассвета. Ольга Сократовна несколько раз подходила к двери и, постояв минутку, возвращалась к себе. Потом она легла спать, и в в квартире разлилась чуткая ночная тишина. Во всех комнатах было темно, только в детской зеленым светом мигала лампадка. В кабинете тоже стало темно, в лампе выгорел керосин, ее пришлось загасить, и Николай Гаврилович зажег свечу. Но и свеча подходила к концу.
— Спать надо ложиться, — спохватился он. — Что же это я? Замучил вас. Пора, пора вам на покой, устали ведь. А завтра с утра — к Некрасову, и все устроим. Хорошо устроим, я уверен в этом. И будем работать вместе, и как работать!
Он заботливо уложил своего гостя, принес ему плед и подушки, поставил стакан холодного чая около дивана, занавесил окно, пододвинул кресло. А сам, забрав корректуры, тихонько пошел в столовую, зажег лампу и уселся работать.
Утром пошли к Некрасову. Авдотья Яковлевна встретила их радушно, напоила чаем, послала Василия за Николаем Алексеевичем. Она участливо расспрашивала Добролюбова о его родных, братьях и сестрах, которым он теперь должен был заменять отца, о том, где он думает жить, что делать, как работать.
— Вам бы надо, Николай Александрович, вытащить братьев в Петербург, — говорила она, — и устроиться по-семейному. Я вам помогу чем сумею.
— Братьев вытащить из Нижнего мне очень хочется, — ответил Добролюбов. — Особенно Володю — я ведь его у чужого человека, у купца Мичурина жить оставил. Вообще я себя чувствую отцом семейства. Не смейтесь, господа, честное слово, это довольно странно: чувствовать себя папашей подрастающего поколения, когда самому недавно минуло двадцать лет.
Авдотья Яковлевна, грустно усмехнувшись, сказала, что это все-таки менее страшно, чем не иметь никакого семейства к сорока годам.
— Не тужите и не мучайтесь, — продолжала она, — как-нибудь общими силами воспитаем ваше семейство, сестер замуж отдадим, а братьев — в люди выведем.
— Вы добрая женщина, Авдотья Яковлевна, — сказал Добролюбов. — На вас я надеюсь. Но все благополучие моей семьи будет зависеть от «Современника», от Николая Алексеевича.
— Что это будет от меня зависеть?
Некрасов стоял на пороге в домашних туфлях и в халате, встрепанный, видно, недавно поднявшийся с постели. Он, улыбаясь, протянул руку Добролюбову.
— Рад вас приветствовать, давно ли приехали?
Извинившись за домашний туалет, Некрасов пожаловался на головную боль, мешавшую ему всю ночь, и опустился на диван.
— Вы простите меня, но я что-то совсем расклеился. Ну, рассказывайте, что нового, а я вас буду слушать лежа.
Добролюбов сразу же заговорил о своем решении не начинать сейчас педагогической деятельности:
— Хотел бы работать в «Современнике», под руководством Николая Гавриловича, — сказал он. — Если вы, конечно, ничего не имеете против.
— Не только ничего не имею против, но всячески приветствую это похвальное желание, — ответил Некрасов. — С чего же вы думаете начать в ближайшее время?
Добролюбов вытащил из кармана записную книжку и, перелистав ее, начал говорить о планах ближайших статей. Некрасов слушал его молча, он ничем не выдавал своего отношения к слышанному, нельзя было понять — доволен он или нет. Чернышевский с беспокойством смотрел на обоих собеседников, он встал из-за стола и тихонько прошелся по комнате. Потом осторожно придвинул к дивану стул и сел рядом с Добролюбовым. Он точно готовился к защите своего молодого друга, но защищать его не пришлось, потому что, когда Добролюбов замолчал, Некрасов быстро сел и сказал улыбнувшись:
— Вполне одобряю ваши планы, дорогой мой. Вполне одобряю и очень радуюсь вашему желанию прочно обосноваться в «Современнике». Мы тут позакисли немного, и ваш приезд будет как нельзя более кстати.
Он поднялся с дивана, оживился, повеселел, потащил Добролюбова и Чернышевского к себе в кабинет, набросал на стол целую гору книг и журналов, разыскивая те, о которых собирался писать Добролюбов.
— Не мне учить вас, — говорил он, — но вы взгляните только на весь этот хлам, сколько глупости, сколько пошлости в этой куче!
Он взял книгу «Библиотека для дач» с романом графини Ростопчиной «У пристани».
— Вот, рекомендую вашему вниманию, — два тома писем, от бестолковости и пошлости которых голова идет кругом. Хотя это и «дачная литература», но надо и о дачнике позаботиться, нельзя его истязать так бессовестно.
Он перебирал книги и совал Добролюбову то одну, то другую:
— Вот это посмотрите, и это. И на эту обратите внимание.
Скоро около Добролюбова вырос целый холм книг. Он перелистывал их, одни откладывал в сторону, другие — к себе на колени, третьи — обратно в общую кучу. Томик стихов Бенедиктова он положил перед собой и начал перелистывать его внимательней, чем другие.
— Нет, вы послушайте! — вдруг воскликнул он. — Николай Гаврилович, идите сюда, смотрите, какая прелесть… Это называется «Плач остающегося в городе при виде отъезжающих на дачи».
И что за дерзкий вид! И стулья и столы Пред всею публикой (у них стыда ни крошки) Сцепились, ножки вверх, и ножки через ножки Продеты так и сяк, — трясутся, дребезжат…— Тьфу ты, пошлость какая! — сказал он брезгливо, захлопнув книгу. — Игра нечистого старческого воображения. Я с большой охотой напишу об этой книге, если позволите.
Некрасов сказал, что конечно позволит, но считает своим долгом предупредить: Владимир Григорьевич сейчас опять в большой моде, бывает в свете, посещает модные литературные салоны.
— Вы навлечете на себя гнев дамского общества, — говорил он.
— Не пугайте, не пугайте, — сказал Добролюбов. — Вы думаете, я в Нижнем был, так ничего не знаю? Наслышан от самых разнообразных лиц о его воскресшей славе. Все знаю и ничего не боюсь.
— Ну валяйте, если вы такой смелый, — засмеялся Некрасов. — Валяйте, терзайте бедного Бенедиктова! А потом за кого возьметесь?
— Рад бы за вас, Николай Алексеевич, да трудно. Трудно уже по одному тому, что вы не столь плодовиты, как Бенедиктов, — ответил, тоже смеясь, Добролюбов. — Нет, в самом деле, Николай Алексеевич, почему вы ничего не пишете в последнее время?
— Хотел бы писать, отец мой, да цензура не пущает. Если бы я себе волю дал — наплодил бы стихов больше, чем Бенедиктов. Только куда их потом девать? В стол складывать и надеяться, что потомки меня оценят, — я не так самоуверен. Ну, да хватит об этом. Мы с вами не сговорились еще об одном — о денежном вознаграждении за вашу работу. Дадим вам на первое время сто пятьдесят рублей в месяц. Это помимо гонорара, конечно. Ну, говорите, не стесняйтесь. Хватит ли? Если мало — подумаем, что еще можно сделав.
Добролюбов смущенно пробормотал, что на большее он не претендует, и быстро перевел разговор на другую тему. Он точно и не уезжал из Петербурга — все новости общественные были ему известны, он находился в курсе всех событий. Некрасов снова забрался на диван и, закурив сигару, с интересом слушал Добролюбова и Чернышевского, который тоже подсел к с юлу. Разговор шел о царском рескрипте, опубликованном недавно для всеобщего сведения. В нем очень глухо и туманно говорилось о крестьянском вопросе и совсем отсутствовали слова «свобода» и «отмена крепостного права». Зато Александр во всеуслышанье объявил, что он разрешает дворянам, согласно их просьбе, обсуждать вопрос об устройстве быта помещичьих крестьян. Этот документ сразу же определил тон и направление подготавливающейся реформы.
— Теперь все стало на свои места и все сделалось ясно, — говорил Добролюбов. — Вы заметили, как ловко все представлено: выходит, что благодетели — помещики сами возжелали освобождения крестьян. Почему бы не сказать и о том, что они этого пожелали только после того, как мужик им вилы под ребра поставил?
— Делается ясным, каких результатов можно ждать, — добавил Чернышевский. — Дело целиком передается в руки дворян, которым заранее сказано: вся земля принадлежит вам, а не крестьянам. Ждать, что при таких условиях они будут особенно озабочены улучшением быта крепостных, я, увы, не могу.
Он иронически отозвался о восторженной болтовне либералов, уверяющих, что в России настала эра неслыханного прогресса:
— Какой там, к черту, прогресс, когда в печати могут появляться статьи, ратующие за невежество? Совсем недавно известный филолог и писатель Даль опубликовал статейку, в которой высказывал мнения об опасности всеобщего распространения грамотности. В «Земледельческой» газете некий Давыдов — корреспондент Вольно-Экономического общества в Астрахани, печатно восхвалял розгу, как великое воспитательное средство!
Некрасов усмехался, слушая горячие слова друзей, и подумал о том, что, пожалуй, и он несколько поторопился и тоже впал в преждевременный восторг; но русская действительность успела основательно помять его иллюзии.
Он вмешался в разговор и неожиданно для себя сказал, рифмуя:
— Что и говорить… в печати уж давно не странность слова «прогресс» и «идеал» и слово дикое «гуманность» повторяет даже генерал.
— Николай Алексеевич, в вас заговорила муза, — воскликнул Добролюбов. — Дайте мне перо и бумагу — я буду записывать.
Некрасов развеселился и, смеясь, ответил, что чернила давно высохли в его чернильнице и перо покоробилось от длительного бездействия. Но Добролюбов быстро разыскал перо и чернильницу, вырвал несколько страниц из записной книжки и через полчаса, перебивая друг друга и вместе подбирая рифмы, они уже кончали стихотворение.
Всевышней волею Зевеса Вдруг пробудившись ото сна, Как быстро по пути прогресса Шагает русская страна!Некрасов декламировал, безжалостно пародируя свои собственные стихи. Он вскочил с дивана и расхаживал по комнате, заглядывая через плечо Добролюбова на бумагу, где появлялись строки нового стихотворения.
На грамотность не без искусства Накинулся почтенный Даль И обнаружил много чувства И благородство, и мораль…— Подождите, подождите, — закричал Добролюбов, бросая перо: — Я тоже чувствую приближение музы. Слушайте:
Мужик не вынут из-под пресса, Но уж программа создана.А дальше — ваше!
Как быстро по пути прогресса Шагает русская страна!Он снова схватил перо и, разбрызгивая чернила, начал записывать сочиненную строфу. Чернышевский, улыбаясь, смотрел на поэтов и сетовал на свою бесталанность.
— Вы не забудете господина Бланка, — говорил он. — Нельзя обойти его труды. Серьезно говорю вам — нельзя. Николай Алексеевич, Николай Александрович! Бланка, Бланка не оставляйте без внимания.
— Сейчас будет и Бланк, — ответил Некрасов. — Мы ему покажем, этому Бланку… Бланку — банку. Пишите, Николай Александрович…
Авдотья Яковлевна вошла в комнату и спросила удивленно:
— Что это за послание сочиняют три Николая?
— Осторожно, Авдотья Яковлевна, — не спугните музу, — замахал руками Чернышевский. — Она присутствует: следы ее пребывания уже запечатлелись на бумаге. Сядем в уголок — вдруг она испугается нас.
Он подвинул кресло к окну, а сам уселся на подоконник. Настроение у него было чудесное. Все складывалось как нельзя лучше: «Современник» получил замечательного сотрудника, Добролюбов — возможность плодотворно работать. Некрасов, видимо, полюбит этого нового товарища. Все было совсем хорошо. Можно приниматься за настоящую работу. Он весело посмотрел на Авдотью Яковлевну и сказал, продолжая свои мысли:
— Да, все будет очень хорошо.
— Что хорошо? — спросила она с недоумением. — О чем вы, Николай Гаврилович?
Он опомнился и засмеялся:
— Простите меня. Это я своим мыслям…
Некрасов и Добролюбов кончили писать. Некрасов прочитал все стихотворение вслух и отдал его Авдотье Яковлевне.
— Вы перепишете? Хорошо? Да, как вы сказали? Три Николая? И действительно — три Николая! Это знаменательный факт… А не дадут ли трем Николаям поесть? Они заработали славный обед сегодня. Знаете что? Поедемте обедать куда-нибудь в ресторан. В честь нашей встречи, в честь нового сотрудника «Современника», в честь союза трех Николаев. Авдотья Яковлевна, голубушка, одевайтесь скорей, зовите Панаева, пошлите кого-нибудь за Ипполитом Александровичем и за всеми, кто будет в конторе и кто попадется по пути…
IV
Вот уже несколько дней Некрасов аккуратно каждый вечер уезжал в Английский клуб. Он стал еще более неразговорчив, чем обычно, лицо его совсем пожелтело, глаза были безжизненны, движенья вялы. Он находился в состоянии какого-то тупого усыпления, и даже игра не взвинчивала его нервы, — он играл точно по обязанности, спокойно, без страсти, наводя на партнеров трепет своей безошибочной, точно механической игрой.
Он уверял себя, что жизнь, которую он ведет, именно то, что ему нужно.
— Да, я веду глупую и гнусную жизнь! — и ею доволен… — написал он Толстому.
Ему казалось, что он, действительно, доволен. Тупое, безразличное состояние лучше, чем тоска и беспокойство. Оно обволакивало, заглушало внешние впечатления, отшибало память и воображение, усыпляло боль и досаду. И только тревожила мысль: вот треснет это великолепное спокойствие, все полетит к черту, и ожившая, изголодавшаяся тоска набросится на него с новой силой.
В один из вечеров он почувствовал себя плохо, бросил игру, уехал домой и лег в постель. Жестокий озноб осыпал пупырышками тело, он никак не мог согреться, натянул до самых ушей одеяло, поджал ноги; старался не шевелиться, торопясь согреть холодные простыни. Постель казалась огромной и неуютной; он с тоской подумал о русской печке, об овчинном тулупе, мягкая шерсть которого была бы сейчас куда приятней холодка полотняных простынь. Он попросил Василия принести чаю с вином и затопить печку; он торопил его и сердился, глядя, как медленно разгораются дрова, как шипят и плюются пеной поленья, как неловко возится Василий, с треском ломая лучину.
— Не мог ты сухих дров принести, — сказал он с укоризной и спрятал голову под одеяло.
Через несколько минут дрова весело затрещали, огонь загудел в трубе и затряс дверцей печки. Некрасов, обжигаясь, выпил два стакана горячего чая, снова забрался с головой под одеяло и уснул. Спал несколько часов тяжело и крепко, без сновидений, не шевелясь, и проснулся оттого, что у него затекла рука, неловко подвернувшаяся под бок.
Был второй час ночи. Свеча догорала на столике около кровати. Накалившаяся печка пылала нестерпимым жаром. Тяжелое одеяло, как горячий песок, давило на ноги.
Некрасов открыл глаза, сбросил одеяло, потер занемевшую руку и хотел заснуть снова. Он перевернул на другую сторону нагревшуюся подушку, загасил свечу и лег, прислушиваясь к окружавшей его тишине.
В комнате было совсем тихо, только чуть слышно тикали часы на стене около кровати да слабо гудела в ушах приближающаяся головная боль. Он несколько раз повернулся с одного бока на другой, с досадой чувствуя, что спать ему больше не хочется. Он лежал, открыв глаза, все еще ни о чем не думая и смутно различая чуть светлеющие окна на темной стене. Ему было жарко, губы и язык пересохли; казалось, что раскаленная печка заполнила собою всю комнату, что именно из-за жары он не может уснуть. Он разыскал в темноте халат, набросил его на плечи, подошел к окну и распахнул форточку.
На улице было тихо и морозно. Крупный мохнатый снег бесшумно падал на мостовую, тумбы около тротуаров были накрыты белыми шапками, воздух пахнул свежим огурцом или арбузом. Некрасов глубоко, с наслаждением вздохнул и подумал, что так пахнет зимой в лесу, когда снег еще не скован морозом, когда он, мягкий и легкий, ложится на деревья, не сгибая ветвей. Снег тогда падает быстро и бесшумно, и небо, сквозь сетку хлопьев, кажется низким и серым.
Он нехотя отошел от окна, зажег свечу на столике, перелистал, не читая, несколько страниц какой-то книги и сел на кровать, спустив босые ноги на пол. Спать совсем не хотелось. Стало досадно, что рано уехал из клуба, прервав удачную игру, потом вспомнил, что не просмотрел еще как следует отчеты, которые несколько дней назад принес Ипполит Александрович Панаев, и, разыскав их тут же на столе среди корректур и рукописей, забрался на кровать и начал просматривать столбцы цифр.
Он просмотрел дивиденды четырех «обязательных» сотрудников, с которыми велся особый расчет за их исключительное участие в «Современнике». Цифры показывали, что участие это было весьма невелико. Тургенев напечатал за год всего три листа пять страниц, Островский не дотянул и до трех листов, Толстой дал десять, Григорович — двенадцать. Это было очень, очень мало! «Обязательные сотрудники» все больше забывали о своем журнале.
Он сердито покачал головой и с раздражением подумал о том, что за такую оплату он еще должен вымаливать у «обязательных» каждую строчку. Правда, это лучшие писатели, но они пишут для «Современника» так мало, что читатель перестает верить в их обязательное участие и отказывается от подписки. Как пришлось изощряться для того, чтобы поддержать подписку на новый год! Как он и Чернышевский и Ипполит Панаев ломали голову над тем, чтоб привлечь подписчика! Хорошо еще, что выручила Бичер-Стоу — «Дядя Том» в виде бесплатного приложения к первому номеру спас положение. А кто из «обязательных» беспокоился об этом? Никто, ни один человек.
— Нет, надо расторгать этот кабальный союз! Он тяготит и связывает, он обращает всякий чрезвычайный расход в выгоду для «обязательных» и в неизбежный убыток журналу. А чрезвычайные расходы хотя бы такие, как бесплатные приложения вроде «Дяди Тома», совершенно неизбежны. Иначе можно зарезать журнал.
Он бросил расчет на стол, закурил и задумался. Как мечтал он когда-то, когда был беден и унижен, о деньгах, о богатстве, которое дало бы ему независимость, возможность плевать на тех, кто тогда им помыкал. Что ж, по сравнению с тем голым и голодным временем он богат. Но стал ли он счастлив? Испытал ли он то злорадное удовлетворение, о котором мечтал, слоняясь по ночлежкам, обедая в грязных трактирах, сочиняя за гроши водевили на бенефисы средних актеров? Получил ли он возможность писать, что хочет, говорить людям то, что он думает, поступать так, как считает лучше? Ничего этого не дали ему деньги. Он остался так же несчастлив, как был. А может быть, стал еще несчастней.
Он вздрогнул и почувствовал, что в комнате стало холодно. Снег перестал падать, мороз крепчал, ветер засвистел за окнами. В открытой форточке колыхалось туманное пятно холодного воздуха. Некрасов вскочил с кровати, захлопнул форточку, плотно задвинул шторы. Он прислонился на минуту к печке, обжигая об нее ладони, и снова забрался под одеяло. Он чувствовал себя больным и одиноким; никому не было дела до того, что он нездоров, что ему не спится, что мрачные мысли снова овладевают им.
Да, одиночество его становится более ощутимым. Старые друзья — хотя какие это друзья? просто старые спутники жизни — становятся все более чужими, отходят все дальше и дальше. Они не могут простить ему Чернышевского, они рады были съесть его с самого начала, да он оказался им не по зубам. Тот же Дружинин, с которым связывали Некрасова годы общей работы, личного знакомства, пожалуй, дружбы, обвиняет его в измене «идеалам» и мечтает о создании нового журнала. Говорят, он советует графу Толстому откупить «Библиотеку для чтения» и переманить туда из «Современника» всех корифеев изящной литературы.
Эх, Дружинин, Дружинин, любитель и поклонник «изящной» жизни! Сколько чернил пролил он в защиту «чистого искусства», сколько он хлопочет, оберегая это искусство от Чернышевского. Он энергичный человек, милейший Александр Васильевич, он умеет поддерживать связи, разжигать страсти, убеждать, уговаривать, стравливать людей. Он ведет деятельную переписку с Тургеневым, с Боткиным, с Толстым и, надо думать, не жалеет яду, рассказывая о «Современнике».
Некрасов беспокойно завозился на кровати, представляя себе, какие письма получает сейчас Тургенев. Ведь Дружинин, Боткин и Фет пишут ему много и часто. Они рады выкопать яму между Тургеневым и «Современником». Интересно, как относится к этим письмам Тургенев? Заступается ли он за Некрасова? Нет. Тургенев не будет ссориться со старыми друзьями, он тоже не любит Чернышевского и всех, кто идет вместе с ним.
Как по-разному живут они все сейчас — Тургенев, Фет, Боткин и он сам… Фет — в Москве, на своей новой квартире в Замоскворечье наслаждается семейным патриархальным уютом. В его кабинете по вечерам собираются гости, они ведут беседы на возвышенные, прекрасные темы — о любви, об искусстве, о красоте. Позже, после вечернего чая за круглым столом, за рояль садится какая-нибудь московская тихая девушка с тяжелой русой косой и играет Шопена; вдохновенный скрипач ласкает смычком свою скрипку. На эти дуэты приезжает Лев Толстой, его сестра, его брат Николенька, Аполлон Григорьев и члены семейства Боткиных. Они сидят в уютных мягких креслах и слушают, полузакрыв глаза, музыку. Тихое, спящее Замоскворечье тонет в сугробах, и никакие тревоги не проникают за двери теплого фетовского дома.
Боткин и Тургенев сейчас за границей. Тургенев бродит среди величавых развалин Колизея и, конечно, мечтает о России. Он мечтает о своей России — о лете, которое проведет в Спасском, о теплых ясных вечерах, когда из соседних поместий съезжаются в гости друзья. Он представляет себе, как на широком балконе будут читать они вслух стихи, предаваться воспоминаниям, умным разговорам и спорам. Он мечтает о спокойном и сладостном творчестве в своем деревенском кабинете, темном и прохладном от приникающих к окнам деревьев, обо охоте, о душистых березовых рощах.
Что общего и в образе жизни, и в мыслях, и в чувствах у них и у него, у Некрасова? Как могут они понимать друг друга? Чужие? — ну конечно же, совсем чужие…
Господи, как медленно тянется время и какие нехорошие мысли лезут в голову! Надо погасить свечку, думать о чем нибудь хорошем и постараться уснуть. В детстве, когда ему не спалось, когда было жутко в темной комнате, мать говорила, гладя его по голове:
— А ты закрой глазки, ни о чем не думай и представляй себе широкое, широкое поле, по которому гуляет ветер. Небо над полем голубое, поле все желтое, ходят по нему волны от ветра, как на реке. Ты смотри на эти волны, смотри и уснешь.
Может быть, попробовать и сейчас ни о чем не думать и представлять себе поле? Некрасов приподнялся, задул свечку и снова лег, натянув одеяло. Желтое поле возникло перед глазами, над ним — бледное жаркое небо, знойная зыбь над колосьями. По узкой тропинке бредет старичок-побирушка. Вот он подходит все ближе и ближе, видны заплаты на его серых, как пыль, штанах, вот и сума, вот и лапти за спиной, вот палка-посошок… Он стал совсем маленьким, не больше куклы, вот он уже сошел с тропинки и стал на краю ночного столика, опершись спиной о подсвечник:
— Не спишь? Маешься? — спрашивает он усмехаясь. — Или совесть нечиста? Или обидел кто? А ты спи, не тужи — все перемелется. Хочешь, я тебе сказку скажу?
Он садится на край столика, и Некрасов видит его совсем ясно, хотя в комнате темно. Пот выступает у него на лбу.
«Это я брежу… — думает он. — Не надо было открывать форточку, у меня сильный жар. Кыш, уходи», — дует он на старичка.
Но старичок не уходит. Он усаживается поудобней, зажигает свою трубочку и начинает что-то рассказывать. Он шепчет так тихо, что ничего невозможно понять. Он кивает в такт своим словам и пристукивает рукой по коленке.
Тук-тук-тук-тук… стучит он ровно, как маятник.
«Да ведь это часы тикают, — думает Некрасов и ищет их на столике. — Вот они лежат — и стрелки показывают, что скоро пять часов. Слава богу — скоро утро…»
Он опять закрывает глаза и вслушивается в тишину спящей квартиры. Где-то со стуком чешется собака, вот она взвизгнула — может, и не чесалась вовсе, а просто перебирала во сне ногами, думая, что бежит? Василий закашлял и снова затих. Спит, и не беспокоится о том, что хозяин болен. А мог бы встать пораньше, согреть самовар, напоить его чаем, прибрать в комнате. Некрасов хватает со стола колокольчик и начинает звонить. Звонок дребезжит жалобно, как надтреснутый. Василий слышит его и босиком, со свечкой в руке появляется в дверях.
— Что угодно? — говорит он хриплым со сна голосом. — Да вы никак заболели? Я побегу, Авдотью Яковлевну разбужу.
Некрасов не протестует. Он с удовольствием откидывается на подушки, закрывает глаза и замирая ждет, когда начнется вокруг него сладкая, участливая суета.
V
Болезнь затянулась. Проходили дни, а Некрасов все не показывался из своей комнаты, часами молча лежал на диване, лицом к стене, или бродил также молча из угла в угол и зябко кутался в халат. Это была, пожалуй, уже не болезнь, а обычная хандра, тоска и раздражительность, вспыхнувшие с новой силой после удивительного спокойствия последних дней. Он никого не хотел видеть, морщился, когда кто-нибудь заходил в комнату, и поворачивался лицом к стене, когда Авдотья Яковлевна пыталась чем-нибудь занять его.
Однажды Авдотья Яковлевна зашла к нему утром, еще до завтрака и, быстро двигаясь по комнате, начала наводить в ней порядок. Потом подошла к окну, поправила смявшуюся штору и сказала не оборачиваясь:
— Чем лежать и смотреть в стенку, встань и погляди, что творится у тебя под окном.
Некрасов нехотя поднялся с дивана, сунул босые ноги в туфли и подошел к окну. На улице шел дождь пополам со снегом, грязная мокрая каша лежала на мостовой и на тротуарах, люди проходили быстро, подняв воротники, натянув низко шапки, закрываясь от мокрого холодного ветра. Они торопливо обходили неподвижную группу мужиков, которые, не обращая внимания на дождь и ветер, стояли около подъезда большого богатого дома.
Мужики, очевидно, пришли издалека. Стоптанные лапти, котомки за плечами, худые потрепанные армяки — все говорило о долгом, длинном пути. Они стояли, сняв шапки, спутанные волосы их намокли, по бородам стекала вода. Они пришли, вероятно, с какой-то просьбой к министру государственных имуществ, который жил в этом доме. Мужики кланялись раззолоченному швейцару, стоявшему на высоком парадном подъезде; один даже пытался что-то подать ему, но дворник столкнул мужика с первой же ступеньки. На помощь дворникам подошел городовой, он закричал, размахивая руками; дворники смелей начали наступать на мужиков, они толкали их в сторону и в плечи и, наконец, оттеснили от подъезда. Мужики ушли, дворники посудачили несколько минут, принялись сгребать с тротуара тяжелый серый снег, швейцар ушел за стеклянную дверь; в одном из окон поднялась белая штора, и молоденькая горничная в наколке, прижав лицо к стеклу, посмотрела на улицу.
Авдотья Яковлевна исподтишка взглянула на Некрасова. Он стоял, дергая себя за усы, и не мигая смотрел в одну точку. Губы его были сжаты, брови нахмурены, злая сосредоточенность застыла в глазах.
— Бедные! — сказала Авдотья Яковлевна, тихонько дотронувшись до его рукава.
Некрасов даже не посмотрел на нее. Он отвернулся от окна, подошел к дивану и лег лицом к стене.
— Интересно, придут они еще раз или так и вернутся в деревню? — продолжала Авдотья Яковлевна.
Некрасов ничего не ответил.
Авдотья Яковлевна пожала плечами, забрала со стола пустой стакан и ушла, с раздраженьем хлопнув дверью.
Вот парадный подъезд. По торжественным дням Одержимый холопским недугом, Целый город с каким-то испугом Подъезжает к заветным дверям…Эти строки, точно написанные когда-то давным-давно, пронеслись в его мозгу. Он оглянулся — в комнате никого не было — быстро поднялся с дивана и зашагал из угла в угол.
Ему казалось, что уже десятки раз видел он понурых мужиков у подъезда, дворников, которые гонят их с тротуара, равнодушных прохожих, торопливо бегущих по своим делам. Сколько подъездов мужики обошли, прежде чем добрались до Петербурга, до этого дома с усатым швейцаром?
Он поежился, представив себе, как идут сейчас мужики по городу, вот добрались они до заставы, идут христовым именем… Страшно! Как страшно жить, когда кругом — над дорогами и полями, над темными острогами, над соломенными крышами изб, над всей землей — раздается протяжный, за сердце хватающий стон. Кажется, даже сюда, в эту тихую комнату просачивается он сквозь крепко закрытые окна.
Стонет в собственном бедном домишке, Свету божьего солнца не рад, Стонет в каждом глухом городишке, У подъездов судов и палат…Зубы у Некрасова стучали, ему было смертельно холодно… Бессильная, жалкая злость, бессильное, жалкое сочувствие, — как все это противно и бесполезно!
Он сел к столу и придвинул к себе лист бумаги, но не мог написать пи строки. Дождь скучно барабанил в окно, осенний, колючий дождь. Плохо сейчас идти полем! Ветер леденит мокрую одежду, студеная вода пропитывает сапоги, тоска сжимает сердце. Одна ли тоска? Может быть, гнев? Может быть, ненависть, жгучее желание отомстить? Хорошо, если так.
Медленно тикали на стене часы, раскачивался длинный тяжелый маятник. Дождь перестал, ветер высушил капли на стекле. Сумерки выступили из глубины комнаты, подкрались к окнам, закутали их серой пеленой. Когда совсем стемнело, в дверях появилась Авдотья Яковлевна. В руках она держала горящую лампу. Некрасов еще сидел за столом, но бумага, лежавшая перед ним, была все так же чиста. Он поднялся из-за стола, лег на диван, закрыл глаза и попросил Авдотью Яковлевну записать то, что ему сейчас пришло в голову. Диктовал он медленно и бесстрастно, — казалось, вся сила, все чувства покинули его.
Авдотья Яковлевна писала быстро, несколькими буквами обозначая слова.
— Это очень хорошо, — сказала она тихо. — Но цензура не позволит это печатать.
Некрасов ничего не ответил. Он взял со стола книжку и сделал вид, что читает; ему хотелось остаться одному. Он чувствовал себя совсем разбитым, сердце билось слишком сильно, нервы были напряжены до крайности. Он попросил Авдотью Яковлевну, чтобы она прислала ему коньяку или наливки.
— И не пускайте ко мне никого, слышите? Кто бы там ни пришел.
Печатать стихотворение, действительно, не позволили. Добролюбов, которому Авдотья Яковлевна показала стихи, в тот же день прибежал к Некрасову, крепко пожал ему руку и сказал, что они — прекрасны.
— Ну и возьмите их себе, — кисло ответил Некрасов. — Очень раскаиваюсь, что написал, — печатать все равно не позволят, только зря день убил.
— Когда-нибудь кто-нибудь напечатает, — уверенно сказал Добролюбов. — Для потомства эти стихи не пропадут… Цензура? Эко, подумаешь, препятствие, — русский народ и не такие рогатки ломал… Вы послушайте лучше, какую я вам новость принес. В Москве начали обсуждение крестьянского вопроса — и как начали, с каким блеском! Московское дворянство устроило в честь Александра обед, на котором произнесены были разные восторженные речи по поводу предстоящей реформы.
— Эпидемия обедов вообще разрастается до угрожающих размеров, — мрачно сказал Некрасов. — Сотни голодных мужиков можно было бы кормить в течение года на те деньги, что сжираются господами в честь освобождения крестьян. Мне Анненков рассказывал на днях о таком обеде. Тоже в Москве. Собралось сто восемьдесят гостей — купцов и помещиков с литературным образованием. Обед этот именовался «обедом литераторов». Жрали и пили до треска в брюхе, а потом, с бокалами в руках, голосили гимн перед царским портретом. Катков и Кавелин произносили речи и размазывали слюни по галстукам и жилетам. Анненкову это, кажется, нравится. Он бы не прочь и здесь устроить такое же слюнотечение….
Добролюбов тоже слышал об этом обеде и о том, что литераторы «Русской беседы» отказались от участия в нем.
— Они заявили, что меру, обновляющую Россию, надо встречать молитвой, а не пиром. «Мера, обновляющая Россию»! Сколько блеску пускают! — восклицал он. — А дело — ни с места. И куда оно двинется и когда — никому не известно. Вы знаете, до чего доходит смятение умов? Мне недавно, как совершенно серьезную весть, передавали, что все планы реформы идут от великого князя Константина Николаевича и что он по этим вопросам обращается за советом к Герцену.
— А появлением хвостатой звезды реформы еще не объяснили? — проворчал Некрасов. — Подождите, объяснят и этим, — у нас всего дождешься.
— Для того, чтобы этого не было, нужно серьезней и больше говорить на эту тему, — сказал Добролюбов. — Николай Гаврилович начал работать над новой, замечательной вещью. Она будет называться «О новых условиях сельского быта» и несомненно привлечет внимание очень и очень многих.
— И в первую очередь внимание третьего отделения.
— Бросьте вы, Николай Алексеевич, пугать! Чернышевский так напишет, что внимание обратят и поймут именно те, кто нужно.
Некрасов с досадой посмотрел на Добролюбова. Сегодня его раздражала самоуверенность молодого сотрудника «Современника». Скажите, какая смелость! А если закроют журнал? Но он сдержался и только пробормотал сквозь зубы:
— Посмотрим, что выйдет, а потом будем говорить…
— Я не знаю, что вы будете «смотреть», если пишет сам Чернышевский, — возмущенно сказал Добролюбов. — Я уже смотрел и считаю, что эти статьи должны стать нашей программой по крестьянскому вопросу. Я даже думаю, что нам следует, напечатав эти статьи, опубликовать специальное обращение, в котором сказать примерно вот что: сейчас, дескать, когда все внимание России устремлено на отмену крепостного права, мы будем постоянно помещать статьи на эту тему. Наша программа выражена статьями Чернышевского и сводится вкратце к следующему: крепостные должны быть освобождены с землею. Конечно, придется еще указать, что помещиков нужно вознаградить за эту землю, — иначе цензура и третье отделение могут обидеться. Я уверен, что такое обращение, с призывом писать на эту тему, вызовет поток статей в редакцию.
— Поток слюней — вы хотите сказать? — едко спросил Некрасов. — И в виде плевков по нашему адресу и в виде слезливых умилений?
— Вы сегодня какой-то ворчливый, Николай Алексеевич, — сказал Добролюбов рассердившись. — Я уйду лучше — бог с вами. Стихи ваши я себе перепишу, если позволите. А к вам я Николая Гавриловича пришлю, пусть он вас изругает, хватит уже валяться ни больным, ни здоровым. Так разрешаете списать ваш парадный подъезд?
— Сделайте одолжение, списывайте, — все так же раздраженно сказал Некрасов. — Только у меня его нет, а на память я читать не буду. Возьмите у Авдотьи Яковлевны, если желаете.
Добролюбов пожал вялую, холодную руку поэта и вышел из комнаты. За дверью он вздохнул с облегчением: «Фу, какой тяжелый все-таки человек! Когда он хандрит, его настроение давит на окружающих, как черная туча. Ну и характерец! Попробуй дружить с таким человеком. Ну его к черту!»
Он тихонько постучал в комнату Авдотьи Яковлевны и заявил ей, что Некрасов его прогнал.
— Вернее, не прогнал, но так явно тяготился моим присутствием, что я предпочел сам удалиться. Я к вам за стихами, которые вы мне давеча показывали. Он разрешил их списать.
Авдотья Яковлевна сидела за своим небольшим рабочим столом. Она разбирала какие-то письма, записные книжки, заметки; чистый лист бумаги лежал перед ней, вверху листа было аккуратно выведено заглавие: «Русские в Италии».
Панаева была одним из сотрудников «Современника». Ее участие в журнале началось большим романом «Три страны света», который она писала вместе с Некрасовым. Вместе же они работали над другой большой вещью «Мертвое озеро»; потом она начала писать самостоятельно, ее рассказы и повести печатались с произведениями корифеев современной литературы. Цензура теснила ее с ожесточением. Первую ее большую вещь «Семейство Тальниковых» запретил сам Бутурлин. Председатель цензурного комитета начертал на полях рукописи резолюцию: «Не позволяю за безнравственность и подрыв родительской власти». Ничего безнравственного, разумеется, в повести не было. Она просто обличала систему воспитания детей и крепостнические нравы, но печатать ее так и не позволяли.
Авдотья Яковлевна, как большинство женщин-писательниц, печатала свои произведения под мужским псевдонимом, и имя литератора Н. Станицкого хорошо было известно читателям «Современника». Последнее время личные неурядицы, плохое настроение отвлекли ее от работы, и она сейчас неуверенно вывела на листе бумаги заголовок: «Русские в Италии».
Она вздрогнула, когда в комнату вошел Добролюбов, хотела спрятать листок в стол, закрыть его чем-нибудь, да не успела, и острые его глаза заметили заглавие издали.
— Что это вы собрались творить, писатель Станицкий? — спросил Добролюбов, взглянув на бумагу. — Путевые впечатления? Почему с таким запозданием?
— Нет, не впечатления, а рассказ. Он у меня давно задуман, да все собраться не могла засесть за него. А сейчас рассказов в «Современнике» нет, и Станицкий может блеснуть своим талантом, — смущенно сказала Панаева.
Добролюбов придвинул кресло и сел. Ему не хотелось уходить, ему было приятно бывать в обществе этой женщины — такой красивой и вместе с тем умной и наблюдательной, насмешливой и злой с теми, кто ей не нравился, и такой чуткой и отзывчивой к тем, кого она любила. Она была намного старше его и она была подругой Некрасова, а то бы… Добролюбов с нежностью посмотрел на ее маленькое ухо, на чуть сдвинутые брови, на опущенные вниз глаза.
— Ну, поговорите со мной, Станицкий, — сказал он, отнимая у нее письмо, которое она держала в руках. — К вам пришел гость, а вы читаете. Вы скоро станете синим чулком, — это вам не идет.
— Нет, я слишком люблю наряды и я очень ленива, — улыбнулась Панаева. — Из меня никогда не выйдет синего чулка. Я недостаточно самоотверженна, чтобы отказаться от милых радостей жизни. Хотя бы от этих, — пользуйтесь и вы. — Она придвинула к Добролюбову большую нарядную бонбоньерку с конфетами. — Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, — это очень вкусно.
Она сама выбрала конфету в кружевной бумажке и протянула ее гостю. Добролюбов налету поцеловал ее красивую, украшенную кольцами руку и, смеясь, сказал:
— Эта ручка слаще всяких конфет. Смотрите, какой я опытный комплиментщик, совершенно, как кавалер в Гостином дворе. Не сердитесь, Станицкий, вы хороший товарищ и, ей-богу, неплохой писатель. Ваши читатели и не подозревают, кто пишет эти мужественные рассказы, — в них нет ничего дамского. Расскажите же, что вы хотите писать об Италии?
Авдотья Яковлевна взяла со стола смятый листок с набросанным на нем планом рассказа. Она написала его еще в Италии, но потом затеряла среди бумаг и только сегодня нашла засунутым в старое портмоне. Она быстро пробежала его глазами и сказала, помолчав минутку:
— Знаете, о чем мне хочется записать? О хамстве русских помещиков, попавших за границу. Не смейтесь и не удивляйтесь. Красота Италии уже много раз описана перьями более сильными, чем мое. А вот гнусное обличие богатых дворянчиков на фоне итальянского пейзажа — ждет своего барда. Если бы вы видели, Добролюбов, как отвратительны эти тщеславные глупые люди! Как чванливы, как идиотски расточительны, расточительны только из хвастовства, а не потому, что им действительно хочется получить побольше удовольствий во время путешествия.
— Я не знаю, почему вы только там это заметили? — перебил Добролюбов. — Все эти качества совсем не следствие итальянского климата, — они и дома не лучше.
— Не знаю, может быть и так, но я здесь с ними мало сталкиваюсь, — сказала Панаева. — И — потом там они кристаллизуются совершенно самостоятельно, а здесь растворяются в общей массе русского общества. Русское общество в целом благородно, в России весь этот аристократический сброд тонет, в глаза не бросается. Но ведь в Италию-то ездит главным образом аристократия. Там только этих «представителей» и видишь, а в концентрированном состоянии — они невыносимы. Да и климат тоже действует, особенно на барынь. Вы бы видели, какими бесстыжими становятся там чопорные русские аристократки! На каждого смазливого итальянца готовы бросаться. «Ах, серенады, ах, гондолы, ах, жгучие глаза!» — передразнила она кого-то. — Мне было стыдно, бесконечно стыдно за границей! Ведь по этому сброду судят обо всех и говорят: русские — это дикари. Конечно, те, кто ездит по Римам и Миланам, в значительной части своей — дикари. Знаете, на римском карнавале, на этом народном веселом празднике не было больших дикарей, чем наши помещики. Я сама видела, сгорая от стыда, как компания богатых путешественников, сидя на балконе, выдумала себе такое развлечение: привязали на веревку игрушку, спустили ее вниз и, когда к ней подбегал ребенок, дергали веревку к себе, а ребенку в лицо бросали известь и твердые шарики из муки. Ребята с плачем убегали от балкона, и с каким презрением смотрел народ на эту «веселую» компанию богатых бар!
Авдотья Яковлевна с шумом отодвинула кресло, встала из-за стола и быстро заходила по комнате.
— Нет, лучше не вспоминать все это, — сказала она, остановившись перед Добролюбовым. — Напрасно я вытащила свои записные книжки, — пусть бы себе пылились в столе.
— Нет, нет, дорогая Авдотья Яковлевна, — сказал Добролюбов, взяв ее за руки. — Нет, обязательно вспоминайте, со злостью, как сейчас, и напишите об этом в своем рассказе. Это очень хорошо, все что вы увидели. Позвольте мне поцеловать вас за это, дорогой писатель Станицкий!
Он быстро и неожиданно поцеловал ее в губы и, сам растерявшись, выбежал из комнаты.
— Николай Александрович! Добролюбов! — крикнула Панаева. — Куда вы? А стихи-то некрасовские забыли?
Но он ничего не ответил. Авдотья Яковлевна улыбнулась и села к столу. Она открыла чернильницу, задумалась на минуту и начала писать.
VI
Некрасов продолжал сидеть взаперти. Он никого к себе не пускал и нехотя отворил дверь Чернышевскому, который зашел к нему как-то поздно вечером.
Чернышевский остановился на пороге и, близоруко прищуриваясь, оглядел комнату. В комнате был беспорядок. Некрасов, желтый, растрепанный и хмурый, валялся на диване, вокруг него были разбросаны книги и журналы — он, видимо, пытался читать, да бросал книгу, едва пробежав глазами первую страницу. На столе, с рукописями и корректурами, стоял графинчик коньяку и маленькая серебряная стопка.
Чернышевский, поздоровавшись и спросив, кончил ли он уже хворать, сел в кресло, поближе к печке. Они сидели так некоторое время, не разговаривая, не зажигая свеч, и молча смотрели на веселый и яркий огонь. Василий недавно подбросил целую охапку сухих дров, и они пылали, дружно потрескивая. В соседней церкви звонили ко всенощной, и Некрасов подумал, что в деревне вот так монотонно звонят только на панихидах. Далеко разносится этот однообразный, унылый звон, и мужик в поле, услыхав его, непременно снимет шапку, перекрестится и пожелает неведомому покойнику вечного покоя и вечной памяти.
«Вечный покой — это хорошо, а вечной памяти не бывает, — думал Некрасов. — Да она и не нужна покойнику, эта вечная память. Он все забыл, отмучился, отсуетился и лежит строгий и важный в своей последней домовине».
Некрасов постарался представить себе свои собственные похороны. Что ж, вероятно, все будет очень прилично: проводить его явится десяток знакомых литераторов, над могилой произнесут торопливую скучную речь, а потом, сидя за поминальным столом, переберут все его грехи, настоящие и мнимые, и чего только не наговорят о мертвом, если и живого не щадят.
Ему было не совсем безразлично сознавать, что после его смерти может подняться целый рой сплетен, грязных историй, скверных анекдотов, сочиненных с особым усердием.
«Хорошо было бы написать автобиографию. Написать сейчас, правдиво, честно, так, чтобы близкие люди могли бы легче отличить истинные проступки от вымышленных».
Он посмотрел на Чернышевского, который, согнувшись, ворошил в печке пылающие поленья. Вот хотя бы для Чернышевского написать — пусть не думает о нем плохо.
Чернышевский поколотил кочергой полено так, что из него посыпались красноватые искры, и осторожно прикрыл дверцу. В комнате стало совсем темно, только сквозь круглые отверстия дверцы светился розовый огонь.
Некрасов испугался, что Чернышевскому надоест сидеть в потемках и он уйдет, и начал занимать его разговором.
— Получил сегодня письмо от одного знакомца из Москвы, — сказал он. — Пишет о разных чудачествах, которые выкидывает Левушка Толстой.
— Да? — безучастно сказал Чернышевский.
— Да, мой знакомый пишет со слов его брата Николая, что Левушка усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми пока что знаком весьма поверхностно. Устроил у себя под окном кабинета бар для гимнастики и упражняется. Гимнастика, дескать, хозяйству не помешает. Но староста его в ужасе: придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; не то приказание слушать, не то на него дивиться.
Чернышевский, распахнув дверцу, снова принялся колотить по полену. Полено выстрелило, точно в него был засунут патрон, и Николай Гаврилович вздрогнул, уронил кочергу и рассмеялся.
— Фу ты, как напугало! — сказал он, отодвигаясь от печки. — Так что вам пишут о Толстом? Простите меня, я не расслышал.
Но Некрасову не захотелось больше говорить о письме.
— А ничего, так, разные сплетни, которых и здесь много. Вы счастливый человек, Чернышевский, до вас не доходят эти сплетни, а ко мне они липнут, как мухи к меду. Вот я сижу тут один и все думаю: почему это обо мне можно сказать любую дрянь и все поверят?
Говоря это, он думал об огаревском деле. Вот поверил же Герцен, что он деньги Огарева украл? Да что там — Герцен! Тургенев, друг, старый знакомец, не нашел нужным опровергнуть это обвинение.
— Николай Гаврилович, — неожиданно обратился он к Чернышевскому. — Верите вы, что я могу украсть чужие деньги? Не из кармана, конечно, вытащить, а так, присвоить их путем разных нечестных сделок и пустить, таким образом, по миру обманутого друга?
Чернышевский посмотрел на него с недоумением.
— Бог с вами, какие глупости вы говорите! Я даже отвечать не желаю. У вас, наверно, жар начинается и вы бредите?
— Нет, я серьезно. Поверили бы вы, если бы вам сказали, сказали лица уважаемые, что я ограбил своего приятеля и нажил на этом целый капитал?
Мрачный и нетерпеливый голос Некрасова вывел Чернышевского из состояния теплой дремоты, которое навеяли на него тепло от печки и тишина комнаты.
Он сразу понял, что имеет в виду Некрасов, и ответил твердо и спокойно:
— Нет, Николай Алексеевич, не поверил бы. Таким сплетням могут верить только люди, не заслуживающие вашего внимания. И поэтому бросьте вы думать об этом.
— Люди, не заслуживающие моего внимания? — зло усмехаясь, сказал Некрасов. — А Герцена можно разве отнести к таким людям? Помните, я вам говорил летом, что ездил в Лондон? Так он меня именно по этой причине отказался принять. Не принял, потому что был уверен в том, что я — вор. И я совершенно напрасно проделал тогда этот утомительный вояж.
Он взял папироску, зажег ее и сел, подобрав под себя ноги.
— Я ехал к нему, воображая, что сумею разубедить его в этом. Специально поехал, узнав, что он обо мне так думает, оправдываться поехал, спокойный и уверенный, что десятиминутного разговора достаточно будет для этого. Был в Лондоне, стоял около калитки дома, в котором живет Герцен, но так и уехал, не увидав его самого.
Он вспомнил туманный лондонский вечер, набережную Темзы, на которой бродил он несколько часов, шатаясь, как пьяный, и привлекая к себе внимание прохожих. Это был, пожалуй, самый страшный вечер в его жизни. Не дай бог никому пережить такую тоску и злобу, какую пережил он тогда.
Он встал с дивана и быстро прошелся по комнате. Папироса его погасла и, не найдя в темноте спичек, он достал из печки уголь, и, обжигая пальцы, прикурил от него.
— Знаете, Николай Гаврилович, — сказал он, — как началось все это дело? Десять лет назад Марья Львовна Огарева убежала от своего мужа, пожила некоторое время в Петербурге, потом получила паспорт и уехала за границу. Она сама и ее дела с Огаревым очень мало интересовали меня в то время. У меня и без Огаревой находилось забот более чем достаточно, и я, вероятно, никогда не вспомнил бы о ней. Но я, действительно, оказался втянутым в ее расчеты с Огаревым, втянутым невольно, потому что она была подругой Авдотьи Яковлевны, Авдотья же Яковлевна взяла на себя роль посредника между Огаревым и его бывшей женой. Она взялась получать с Огарева деньги, которые тот обещал выплачивать Марье Львовне и пересылать их ей за границу. Напрасно она взялась за это дело, и, пожалуй, единственной настоящей моей ошибкой было то, что не отговорил я ее от роли посредника!
Огарев был неаккуратен в уплате обещанных денег, и Авдотья Яковлевна обратилась к услугам третьего лица — Шанишева. Она сделала его своим поверенным, а за честность его я не поручусь. Он затеял тяжбу с Огаревым, получил его именье, взялся его продавать и… оказался его владельцем. Все ли деньги за это именье передал он Авдотье Яковлевне? Все ли, что попадало в ее руки, переслала она Марье Львовне? Очень возможно, что и не все. Она не вела счет этим деньгам, и, как женщина, склонная к широкой жизни, очень скоро оказалась запутанной в неоплатный долг. Но долг не волновал ее — они были подругами с Огаревой, и она тратила ее деньги, веря, что сможет их вернуть. Она надеялась, что Марья Львовна вернется в Россию, и они тогда вместе разберутся во всех этих делах.
Так, вероятно, и было бы, если бы Огарева не умерла. Но это, увы, случилось, и Авдотья Яковлевна оказалась лицом к лицу с ее наследниками, которые требовали денег, а не объяснений…
Некрасов замолчал и начал искать на столе портсигар. В комнате стало совсем темно, печка догорела, фигура Чернышевского слилась с креслом. Что-то с грохотом упало со стола. Некрасов нашел, наконец, спички и портсигар, закурил, налил коньяку и, выпив его, сел рядом с Чернышевским. Быстро нагнувшись, он подбросил несколько поленьев, и, когда огонь разгорелся, Чернышевский увидел, как дрожат у него руки и каких, видно, усилий стоила ему эта спокойная, ровная речь.
Он сидел согнувшись и глубоко затягивался папиросой. Глаза его были устремлены на огонь; лицо, освещенное неверным, колеблющимся пламенем, казалось осунувшимся и потемневшим. Он бросил папиросу в огонь и повернулся к Чернышевскому:
— Все это я хотел рассказать Герцену. Убедить его в том, что я-то совсем не виноват в этом деле, что ни одна огаревская копейка не попала в мой кошелек, и что если я в чем виноват, так только в том, что слишком мало вмешивался. Да время я, видно, выбрал неудачное. Огарев только что приехал из России, приехал больной и разоренный, как он считает, по моей вине. Они ведь не могут себе представить, чтоб я не нажился на этом деле — я, признанный делец и практик! И вот слава обо мне, как о подлеце и воре, начинает катиться все дальше. Уже и Тургенев, как мне рассказывали верные люди, повторяет, что я нагрел руки на огаревском наследстве, уже и другие друзья готовы поверить этому. И я, когда задумываюсь об этом, только удивляюсь, как это я только живу до сих пор, как я могу еще дышать, работать, встречаться с людьми. Тяжело все это, отец мой.
Некрасов замолчал и опустил голову.
Чернышевский почувствовал, как нуждается сейчас Некрасов в поддержке и доверии.
— Слушайте, Николай Алексеевич, — сказал он своим по-детски тонким голосом. — Не слишком ли много переживаний по такому, я сказал бы, не совсем серьезному поводу? Герцен имел неосторожность высказать свое мнение и свое недоброжелательное отношение к вам? А ведь с делом-то он не ознакомился? Это его ошибка, а не ваша. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что его мнение, хотя и ошибочное, бросает серьезную тень на вашу репутацию. Но истина может быть достовернейше узнана, и она узнана будет непременно. Герцен ошибся. Вы это знаете наверное. Знаю это и я. Узнают со временем многие люди. История не даст вас в обиду, Николай Алексеевич, я в этом твердо уверен.
Трезвый и ясный голос Чернышевского заставил Некрасова поднять голову. Он был мрачен и желт, глаза его запухли, усы уныло опустились. Чернышевский ласково улыбнулся, положил руки ему на плечи:
— Я уважаю вас, Николай Алексеевич, за то, что вы всегда со стоической твердостью переносите недоброжелательство, с которым относятся к вам некоторые люди. Будьте же тверды и теперь, хотя это гораздо трудней, потому что здесь недоброжелательство исходит от такого человека, как Герцен. Вы хотели рассеять это роковое для вас и для Герцена недоразумение — вам не удалось это сделать. Это уже не ваша вина. Нужно перестать думать об этом, золотой мой. У вас есть на что растрачивать чувства и силы. Поберегите их. Поберегите для тех, кто в них нуждается. Для своей родины поберегите, для русского народа. Для борьбы, которую вам приходится вести… А сейчас поговорим о чем-нибудь другом — забудем навсегда эту беседу.
Чернышевский подошел к двери, позвал Василия и попросил его зажечь лампу.
— Надо прогнать этот мистический полумрак, — сказал он шутливо. — Он совсем не подходит для трезвых, деловых разговоров.
Но когда Василий зажег лампу, он взглянул на часы и заторопился домой.
— У меня еще очень много дела, — сказал он. — Очень много. Вы не обижайтесь я побегу.
Некрасову не хотелось с ним расставаться. Страшно было остаться одному в этой комнате, где, казалось, еще витали тяжелые мысли, ночные кошмары, собственные жалкие слова. Он быстро поднялся с дивана и сказал, что тоже хочет выйти на улицу.
— Или, знаете что? — давайте прокатимся куда-нибудь за город? Пока я одеваюсь — нам заложат санки, и через час вы будете дома, освеженный и отдохнувший. Вам тоже нужно проветриться, Николай Гаврилович, смотрите, какой у вас утомленный вид.
Они вышли на улицу и остановились на тротуаре, дожидаясь, пока подадут лошадь. Литейная тонула во мраке. Темно было в доме министра напротив, только в парадном подъезде, за стеклом дверей, слабо светила лампа. Спиртовые фонари хороши были бы разве для иллюминации в каком-нибудь парке, а здесь они совсем не рассеивали темноту. Некрасов чиркнул спичку и зажег папиросу, — чудовищно большая тень от его бобровой шапки на минуту закачалась на стене дома.
Скрипнули ворота — и легкие сани, заложенные парой лошадей, медленно выехали на улицу. На лошадей была наброшена длинная сетка с кистями, они ступали осторожно, точно танцуя, и отфыркивались от мороза. Пахло теплым запахом конюшни, где они стояли еще несколько минут назад, погруженные в тихую дремоту.
Некрасов подсадил Чернышевского в санки, сел сам и на вопрос кучера — куда ехать? — ответил:
— Поезжай прямо… Куда-нибудь.
На сердце у него было легко и пусто: чистый запах снега, темное небо, тихие сияющие улицы — все показалось ему необыкновенно прекрасным, совершенно новым, никогда невиданным. Они ехали по набережной Невы. Река еще не замерзла и была особенно темной и суровой в своих белых, заснеженных берегах. Санки легко скользнули через горбатый мостик у Летнего сада, снежная пыль ударила в лицо, — Некрасов улыбнулся и распахнул на груди шубу.
Чернышевский снял очки и засунул руки в рукава. Он устал, его немного знобило, он, пожалуй, лучше поехал бы прямо домой, да не хотелось огорчать Некрасова, который, видимо, искренне наслаждался поездкой. Набережная была совсем пустынна, особняки стояли темными громадами, только в подъездах чуть теплились фонари. Чернышевский подумал, что до утра, видно, осталось очень немного времени.
— Так поедем дальше? — спросил Некрасов. — Правда, замечательная ночь?
— Ну что ж, поедем, — ответил Чернышевский. — Поедем. Ночь действительно очень хороша.
ГЛАВА ПЯТАЯ
I
Все мы стареем и к старости делаемся неприятными. Разные недуги набрасываются на нас с остервенением, и от лежанья в постели, от ночных потов приобретаешь кислый, стариковский запах. Ты не замечал этого на себе? А я все время принюхиваюсь к собственным запахам, и мне кажется, что от меня воняет псиной…
Тургенев взял со столика склянку с духами и вылил чуть не половину себе на руки. Духи лились по белым красивым пальцам, расплылись темным пятном на шелковом одеяле, на рукаве халата, на подушке. Тургенев потер руками серебряные свои волосы, открытую шею, плечи. Нежный запах какого-то южного цветка разлился по комнате.
Диван, на котором лежал Тургенев, укрытый белоснежными простынями, занимал целый простенок между двумя дверями. Около дивана, на полу, на большой подушке спала укрытая шелковым одеялом собака. В комнате было жарко, но Тургенев жаловался, что в петербургских квартирах никак не спасешься от сквозняков, и даже в постели не снимал тонкую шерстяную фуфайку, которую носил и зимой и летом.
Он недавно приехал из Спасского и сразу же захворал. Ему казалось, что если бы он остался в деревне, болезнь не прилепилась бы к нему; он был уже недоволен тем, что приехал, и ругал Петербург. В деревне он писал новую повесть; сейчас она была закончена, прочтена и отдана в «Современник». Всякий, кто слышал ее или сам читал в рукописи, говорил, что это новый алмаз русской литературы, и Некрасов был счастлив, что ее не перехватил никакой другой журнал. Он очень боялся этого: Тургенев, при своем неумении сопротивляться чужой настойчивости, мог, сам того не желая, отдать повесть кому-нибудь другому.
Но сейчас она была уже в типографии, ей было оставлено место в первом номере журнала, и Некрасов мог не беспокоиться. Он чувствовал, что в последнее время Тургенев все дальше и дальше отходит от «Современника», и глубоко от этого страдал. Он очень любил Тургенева и был бесконечно рад, что новую повесть приняли с сочувствием, называли ее «отходной» по старой дворянской Руси и многозначительно цитировали заключительные ее строки, с призывом к молодому поколению.
Сидя около дивана, на котором лежал Тургенев, Некрасов теплыми улыбающимися глазами смотрел на больного и без всякого раздражения слушал его ворчанье по адресу новых сотрудников «Современника». Он не мог обижаться на Тургенева, особенно сейчас, когда он был тут, рядом, когда он отдал ему свою превосходную повесть, когда он перемежал свое ворчание стонами и жалобами на болезнь.
— Мне жалко тебя, понимаешь ли, искренне жалко! — вздыхая говорил Тургенев. — Ты идешь по неверному пути и не хочешь замечать этого. Это не твоя среда — все эти семинаристы в очках и в длинных сюртуках, застегнутых на все пуговицы. От них пахнет постным маслом — неужели ты этого не чувствуешь?
Некрасов, улыбаясь, ответил, что ему не приходило в голову обнюхивать Чернышевского или Добролюбова, а что касается длинных сюртуков, то это уж не такой большой грех.
— Ох, — застонал Тургенев, — с тобою стало совершенно невозможно разговаривать. Сюртук, разумеется, не самое главное. Но это же показатель того, к какому кругу людей принадлежит его обладатель. Ведь эти длинносюртучные семинаристы ненавидят все изящное: поэзию, искусство, все, что дает эстетические наслаждения. Они стремятся установить на земле грубые материалистические принципы. И ты поддаешься им. Да что там поддаешься! Поддался окончательно и предоставил журнал для высказываний этих гнусных всеотрицателей. Раньше еще кое-как можно было это терпеть, но сейчас, когда правительство само, по собственной воле, взялось за осуществление великого дела, шипеть, как твои семинаристы, просто возмутительно. Ненавижу этих литературных Робеспьеров, — смотри, они еще и тебе отрубят голову.
Некрасов молчал. Он почти не вслушивался в слова Тургенева. Сколько раз он слышал совершенно то же самое от Боткина, Анненкова, Дружинина. Как дружно, как одинаково относились они к новому направлению «Современника» и к тем, кто был его выразителем! Спорить было совершенно бесполезно, — они не могли принять Чернышевского и Добролюбова. Дело было не в сюртуках и очках — они и сами это прекрасно сознавали.
— Отрубят тебе голову, отрубят, — упрямо повторял Тургенев. — Казнят тебя, ярославский помещик, твои постные семинаристы, хоть ты и пригрел их на груди своей.
— Мне их пригревать не приходится, — сказал Некрасов. — Они умней и сильней меня…
Тургенев, забыв о болезни, быстро сел на кровати, — большой, широкий, возмущенный, с серебряным ореолом волос вокруг могучей головы.
— Сильней? — воскликнул он своим тонким голосом, так не шедшим к его крупной фигуре. — В чем ты видишь их силу? В отрицании всего, чему лучшие представители русского общества поклонялись годами? В семинаристских статьях о сельском быте, которые ты провозглашаешь программой своего журнала? В критических рассуждениях господина Добролюбова, который каждое явление литературной жизни взвешивает на политических весах. Он забывает, что литература — это прежде всего искусство, призванное давать эстетическое наслаждение человеку. Не говори о силе там, где ее никогда не бывало; яд, отрава — вот их сила.
— Слушай, Тургенев, ты повторяешь слова Дружинина, — с досадой перебил его Некрасов. — Но если Дружинину это простительно по узости мировоззрения и по причине малого таланта, то тебе стыдно. Ты не видишь, что эти, как ты называешь «семинаристы», передовые люди нашего времени, истинные патриоты. Вот ты ругаешь их, а ведь они жизнь свою отдают тому же, что и тебе дороже всего — родине, русскому народу. Пойми ты, умоляю тебя! Русскому народу служите вы — ты, Чернышевский, Добролюбов, а не Дружинин с его мелким и, право же, пошлым эстетством. Очень прошу тебя — кончим этот разговор. Он ни к чему не приведет. Перестань попрекать меня Чернышевским. Я ведь не попрекаю тебя твоими великосветскими знакомыми, с которыми ты носишься, прости меня, только из тщеславия…
— Ну и черт с тобой, — погибай со своими семинаристами вместе, — заворчал Тургенев, натягивая на себя одеяло и поспешно застегивая фуфайку. — Проклятые сквозняки! Я обязательно простужусь из-за семинаристов. Ну зачем я сел, когда доктор велел мне лежать совершенно спокойно… А тебя мне жаль, — ты погибаешь окончательно.
Он уютно устроился на своем ложе, подоткнув со всех сторон одеяло и подложив под локоть маленькую подушечку. Собака, обеспокоенная резкими движениями своего хозяина, села, широко зевая, и подмяла под себя покрывало.
— Закрой, закрой ее скорей, — заволновался Тургенев. — С полу ужасно дует, и она простудится. Хватит уже, что я лежу и, вероятно, из-за нее: несколько раз вставал ночью закрывать ее одеялом и застудил ноги на ледяном полу.
Собака заворчала, когда Некрасов потащил из-под нее одеяло, но потом легла и позволила закрыть себя. Ее белая с желтыми ушами голова выглядывала из-под одеяла. Она недоверчиво смотрела черными умными глазами на человека, который вот уже целый час сидит с ее хозяином и, видимо, раздражает его своими дерзкими речами.
— Бубулька, спи, Бубулька, куш. Куш, мое сокровище, — нежно приговаривал Тургенев, глядя, как Некрасов укутывает собаку. — Красавица моя, умница, душенька. Ты знаешь, — обратился он к Некрасову, — какая она неженка? Если ночью ей станет холодно, будит меня, тычась носом в лицо. Ну как после этого не встать и не закрыть ее.
Собаку эту подарила ему Виардо — единственная, прекраснейшая его женщина. Она ласкала щенка своими изящными ручками и нежно приговаривала «бубуль-бубуль». Тургенев назвал собаку Бубулькой и не расставался с ней ни на минуту. Даже ночью она спала на тюфяке около его кровати.
— Ты не можешь себе представить, какая она умница, — сказал Тургенев, когда Некрасов снова уселся в кресло. — Тысячи раз она доказывала, что мозг ее достиг предела собачьей сообразительности. Она не глупей человека, серьезно тебе говорю.
Тургенев с увлечением начал рассказывать об охотничьих подвигах своей Бубульки. Некрасов слушал его с интересом, — он сам очень любил собак, он мог часами возиться с ними, часами обсуждать их достоинства. О своей подохшей собаке он горевал как об утраченном друге, и ему приятно было видеть в Тургеневе свои собственные слабости.
— Представь себе, — говорил Тургенев, — какую исключительную сообразительность она показала нынешним летом. Вот ты, может быть, не поверишь, а я, ей-богу, не вру. Афанасий Фет был свидетелем — проверь у него, если хочешь.
Тургенев снова уселся на диване.
— Как-то осенью, к вечеру, после обеда нам с Фетинькой скучно показалось сидеть дома, и мы решили побродить за куропатками. Взяли Бубульку, натянули сапоги и отправились. Денек был серый, тоскливый, поле — скучное; бродили мы долго без толку, — все куропатки точно убежали куда-то. Я уж хотел идти домой, да Фет, неугомонный, заупрямился: походим, да походим, может, наткнемся на выводок. Добрели мы до самого конца поля. Дальше — овраг, в овраге — мелкий кустарник, а за оврагом — уже опушка леса. Вдруг, представь себе, почти из-под ног выскакивает целый выводок куропаток и шмыг — прямо в овраг, в кусты. Что тут делать? Я замер на месте, стою, как столб, и смотрю на Бубульку. Ну, думаю, сейчас она за ними бросится, угонит их в овраг, и уйдут они, не услыхав ни одного моего выстрела. Бубулька вытянулась вся, напряглась, хотела, видно, броситься в кусты, но вдруг взглянула на меня и бросилась не за куропатками, а вдоль оврага, совсем в другую сторону. Я чуть на землю не сел от удивления. С ума сошла, думаю, собака, куда это она мчится? Что это она увидела в той стороне? Хотел было пойти за ней, да слышу — лает моя Бубулька где-то передо мной, совсем недалеко, на дне оврага. Что бы ты думал? Она, оказывается, кругом обежала, зашла куропаткам с тылу и выгнала их прямо на меня! Каков стратег? Ты слыхал когда-нибудь о таком уме собаки? Целовать ее мало только за одну эту историю. А сколько их было еще и ничуть не худших! Бубулька, красавица моя, целую тебя, умница.
Собака лениво постукала хвостом об пол и снова опустила голову на тюфяк. Некрасов посмотрел на нее с уважением, — действительно, умная собака, хоть и избалована, как комнатная болонка.
Разговор о собаках и об охоте развеял досаду, которая появилась было у Некрасова. Все-таки ни с кем из новых друзей не поговоришь так, как с Тургеневым, о делах бесполезных, но приятных и интересных обоим.
Ему хотелось продлить эту беседу. Безмятежным спокойствием веяло от воспоминаний Тургенева об охоте, о жизни в деревне, от тургеневского, такого сейчас добродушного, милого голоса. Хорошо было сидеть здесь, в комнате, отгороженным от беспокойного Петербурга широкой фигурой старого приятеля. Не хотелось прощаться, выходить на улицу, возвращаться в свой тревожный и неустроенный мир.
— А как ты вообще провел лето? — спросил он, подвигая кресло поближе к дивану. — Не сидел же неотрывно над «Дворянским гнездом»? Расскажи о всех интересных охотах. Я хоть и много походил это лето, а вот интересного что-то ничего не было. Ты, говорят, с Фетом много охотился. Куда вы ездили?
— Ездили много, но лучше всего провели время в Жиздринском уезде да в моем заглазном имении Топки, знаешь его? — ответил Тургенев. — В Жиздринском набили кучу тетеревов и претерпели тысячи приключений. Дай мне, пожалуйста, сахарной водицы вон с того столика, — горло першит, а рассказ будет длинный.
Тургенев выпил воды, устроился поудобней и с удовольствием начал рассказывать.
— Итак, в одно прекрасное утро уважаемый Фет с супругой прибыли в Спасское. Приготовления к охоте уже были кончены. Мой Афанасий с поваренком на передней тройке уехали раньше, а мы с Фетинькой в крытом тарантасе двинулись на другой день. От Спасского до Жиздринского полесья верст пятьдесят, а может и больше; ехали мы не торопясь, наслаждаясь природой и душевными разговорами, и не заметили, как за нашей спиной развернулась огромная черная туча…
Тургенев развел руками, показывая, какая это была колоссальная туча, и с ужасом вспомнил, как внезапный ветер поднял с дороги целые клубы пыли, как быстро потемнело кругом, и только молния, сверкавшая почти непрерывно, освещала им дорогу.
— Мы гнали лошадей, но туча оказалась проворней нас. Она разорвалась над нашими головами, и полил такой дождь, что дорога через несколько минут превратилась в липкую грязь, прорезаемую бурными ручьями. Пришлось ехать шагом, и прошло, по крайней мере, часа два, прежде чем мы увидели спасительные огоньки ночлега. Это была усадьба Онухтиных, с которыми я давно знаком и у которых не раз ночевал во время поездок на охоту… Налей мне еще водички — ужасно сохнет во рту, — сказал он, озабоченно трогая себя за голову. — Наверное, опять жар… пощупай — я не очень горяч?
Некрасов, улыбаясь, взял руку Тургенева и, сжав слегка запястье, вынул из кармана часы.
— Пульс совершенно нормальный, — сказал он, похлопывая эту нежную белую руку. — Просто ты, наверно, соленого или сладкого наелся. Пей воду и рассказывай дальше.
— Ну, так вот. Мокрые и измученные, вступили мы на гостеприимное крыльцо Онухтиных, привели себя в порядок с дороги в любезно предоставленном нам мезонине и спустились вниз. Предупредительности хозяев не было конца, нас не знали куда посадить и чем угостить. На ужин подавали пять блюд, начиная с супа и кончая желейным Колизеем с горящим огарком внутри. Фет, разумеется, ел так, что мне страшно было смотреть, а я сидел и думал о том, что его непременно хватит холера от такого неумеренного обжорства. И, представь себе! — он после такого ужина не постеснялся утром накинуться на не менее плотный завтрак: пикули, грибки, жареная в сметане печенка, молодой картофель, телячьи котлеты, — он все это проглотил с утра, запивая каждый кусок Редерером!
Тургенев и сейчас еще сердился на Фета за то, что он подбил его пить с утра Редерер и есть маринованные грибки.
— Ведь это же верная холера! — говорил он, широко округляя глаза. — Что только не делает наше русское гостеприимство!
— Но ты же остался невредим! — смеясь, сказал Некрасов. — Сколько уже лет ты боишься холеры, портишь себе жизнь этой боязнью и остаешься жив и здоров.
— Ну, знаешь ли, если я до сих пор, как ты говоришь, жив и здоров, так только благодаря тому, что берегусь. Но разве с Фетом возможно от чего-нибудь уберечься? Вон и аптечка моя чуть не пострадала из-за онухтинского гостеприимства…
Тургеневская аптечка представляла собой объемистый сундучок в прочном кожаном чехле. Здесь хранились всевозможные лекарственные снадобья, к которым Тургенев относился с трогательным благоговением. Сундучок этот и сейчас стоял неподалеку от дивана.
— Ты посмотри, что стало с чехлом, — огорченно сказал он. — Нет, ты встань, посмотри как следует, это же черт знает что такое! Чем бы мне вывести эти пятна?
Коричневый кожаный чехол имел, действительно, жалкий вид. Темные сальные пятна расплылись по его блестящей поверхности, они стекали с крышки по бокам, до самого пола.
— Это соус от котлет! — с негодованием воскликнул Тургенев. — От телячьих котлет, целое блюдо которых поставили гостеприимные хозяева нам в тарантас, на дорогу. Когда нас тряхнуло как следует на какой-то горке — блюдо накренилось, и моя аптечка погибла. Я хотел выбросить эти проклятые котлеты, да обжора Фет не позволил.
Поругавши еще раз сельское гостеприимство и обжорство, Тургенев начал рассказывать уже о самой охоте. Он вдохновился, и то тенором, то высоким фальцетом с волнением описывал, как поднимала Бубулька выводки тетеревов, как рассаживались тетерева на низком можжевельнике, как тяжело падали старые черныши и молодые пестрые «рябки». Знойный июльский день, пылающие жарой открытые гари, запах переспелой земляники и горячей хвои — все это, такое знакомое и милое сердцу, заполняло улицу на Конюшенной и уводило Некрасова из сырого, промозглого Петербурга. Он с наслаждением слушал Тургенева и точно сам, своими глазами, видел и груды убитых тетеревов, которых потрошили проводники, и фетовского пса Непира, замершего на чистом прогалке между кустами, и тоненькую, изнемогающую от жары березку, в тени которой Фет и Тургенев попивали херес из серебряных стаканчиков.
— Эх, дурак я, что не приехал, — сокрушался он, слушая Тургенева. — Вот дурак! Простить себе не могу.
«Милый Тургенев! — думал Некрасов. — Как жаль, что он не может сойтись с «семинаристами»! Как это было бы полезно для него самого, такого талантливого, такого большого и умного, но слишком мягкого и, пожалуй, отставшего от быстро текущей жизни». Некрасов снова с нежностью посмотрел на Тургенева и, крепко обнимая его на прощанье, сказал:
— Ну, будь здоров! А к тебе Анненков идет. Я видел, как он мелькнул мимо окна. Прощай, поправляйся, и не очень верь всяким сплетням обо мне и о Чернышевском. Ты ведь судишь о нем главным образом с чужих слов, а эти слова в значительной степени несправедливы.
Он взял со стола шапку, погладил по дороге Бубульку и вышел, столкнувшись в передней с Анненковым.
— Как, вы уже уходите? — спросил Анненков, отряхивая с усов капли от растаявшего снега. — А я, увидев ваши сани у подъезда, надеялся на веселую совместную беседу. Идемте обратно, погода — ужас, прямо страшно выходить на улицу.
Но Некрасов пожал руку Анненкову и вышел.
II
Домой ехать не хотелось. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось лежать в своей комнате на диване. Нужно было уйти куда-то, побыть совсем одному, как бываешь в лесу на охоте среди чужих, незнакомых людей.
— Поезжай домой — я пешком пройду, — сказал он кучеру, отпахнувшему полость саней.
— Что вы, Николай Алексеевич! Разве можно пешком по такой погоде? — возмутился кучер. Но Некрасов повернулся и пошел. Он шел сгорбившись, засунув руки в карманы шубы, шел быстро, точно торопясь по делу.
Снег и дождь хлестали ему в лицо. Воротник сразу намок, и вода с шапки потекла на шею. Под ногами хлюпала мокрая снежная гуща, ветер, то стихая, то налетая из-за угла, заворачивал полу шубы.
С Большой Конюшенной он вышел на Невский, постоял в нерешительности и повернул в сторону, противоположную дому, к Неве. Проезжавшая мимо коляска окатила его грязью. Он не заметил этого. Ему было очень грустно. Он чувствовал, что дружбе с Тургеневым приходит конец. Скоро, пожалуй, будет невозможно разговаривать даже так, как говорилось сегодня, — они совсем перестают понимать друг друга. И какое он имеет право возмущаться тем, что Тургенев оказался не с ним.
Но, боже мой! Разве он возмущается? Он слишком любит Тургенева без всяких требований и претензий. Для него Тургенев всегда останется хорош и дорог.
Некрасов поднял голову, — он стоял на набережной, лицом к Неве, к серой беспокойной воде, в которую падали редкие, белые хлопья снега. Маленький хлопотливый буксир тащил к тому берегу груженную кирпичом баржу. Волны качали баржу, и казалось, она не двигается с места. Человек с мешком на голове стоял у борта.
…Разве Тургенев должен был идти с ним? Нет, Тургенев не давал ложных обещаний. Он был честен во всем, даже в оценке стихотворений Некрасова, а прямота — редкое явление в среде литераторов. Тургенев отвергал его поэзию и не по мелочам, а в принципе.
Некрасов вспомнил их споры о литературе, о поэзии, — какими жаркими были они когда-то!
— Надеюсь, ты поймешь, что я для твоей же пользы высказываю свое искреннее мнение, — говорил Тургенев. — Темы твоих стихов, грубая их реальность, их дубовая, прости меня, форма — все это профанация самого понимания поэзии, нарушение эстетических канонов, установленных нашими великими поэтами.
— Я никогда не мог и не могу понять, чтобы искусство интересовалось чем-нибудь, кроме красоты, — поддерживал Тургенева Фет.
— Поверь, высшая красота и поэзия всегда достояние только самого малого меньшинства, а не масс, и поэт это должен всегда помнить, — присоединялся к ним Боткин.
Тургенев уверял, что ни один человек с хорошим вкусом, ни один подлинный ценитель изящного не станет читать стихи с такими строчками:
Завязавши подмышки передник, Перетянешь уродливо грудь, Будет бить тебя муж-привередник, И свекровь в три погибели гнуть…— Что это такое? — восклицал он. — «Подмышки», «передник», «перетянешь уродливо грудь» — разве это поэзия? Нет, милый, ценители поэзии этого читать не будут!
— Так я не для них и пишу.
— А для кого же? Не для русского ли мужика, который не знает грамоты? — насмешливо вопрошал Боткин. — Россия не Франция, где Беранже мог быть народным поэтом, не забывай этого. Русский народ, для которого ты пишешь, не способен читать тебя, а остальные, отдав дань твоим благим порывам, забудут тебя очень скоро. Только подлинное искусство вечно, а в твоих стихах его, увы, нет.
…Некрасов почувствовал, что у него замерзли ноги, и пошел дальше. Через Исаакиев мост тащилась убогая погребальная процессия: простой, крашеный гроб вздрагивал на дрогах, сзади брела старушонка, в короткой, заношенной кацавейке.
Он снял шапку и пошел за гробом. Старуха с любопытством взглянула на него и спросила:
— А ты кто такой, батюшка? Не из сослуживцев его будешь?
— Нет, — ответил Некрасов.
— Просто так, значит, из уваженья к покойнику? — спросила старуха и, получив утвердительный ответ, с удовлетворением кивнула головой.
— Уважь, уважь его, барин. Хороший человек был, смирный, а горя немало натерпелся.
Старуха оправила платок на голове и зашагала быстрее, догоняя дроги. Некрасов пошел с ней рядом, глядя, как дождь со снегом стучит в крышку гроба, как спотыкаются старые клячи, как тщетно старается подогнать их кнутом возчик. Старуха монотонно рассказывала о не известном ему, лежавшем в гробу человеке. Обычная, простая история: неудачник-чиновник, бедняк, одинокий, как перст, в этом большом, многолюдном городе.
На кладбище было пусто. Только около церкви стояли крышки трех гробов, да молодая женщина с ребенком убивалась на паперти. Глухие ее рыдания были похожи скорее на брань, чем на плач. Она грозила кому-то кулаком, стукалась головой о ступеньки, и маленькая, закутанная в платок девочка смотрела на нее с испугом.
Некрасов пошел по мокрым, прогнившим мосткам в глубь кладбища. Он хотел найти могилу Белинского, но забыл к ней дорогу и долго плутал между крестов и памятников.
— Писатель, говоришь? — с раздумьем спросил сторож, которого он встретил около новой, с неуспевшими еще завять цветами, могилы. — Писатель? Не знаю такого. Здесь все больше господа офицеры лежат, ты отойди к краешку, может, там найдешь.
Но в сумраке, окутывавшем кладбище, найти что-нибудь было трудно. Некрасов вышел за ворота, взял извозчика и поехал домой. Он трясся в мокрых неудобных санях и думал о том, что вот так и его могилу когда-нибудь нельзя будет даже найти. Да и некому искать будет, — уж если Белинского забыли, так его-то и подавно никто не вспомнит. Он озяб, съежился в санях и сам не мог понять, отчего мокро его лицо — от слез или от дождя, или от тумана, который окутал город.
— На Литейную? — спросил извозчик. — В какой конец-то — к мосту или к Невскому?
— К Сампсоньевской, к дому Краевского, — ответил Некрасов, стуча зубами от озноба. — Да быстрей поезжай, не с покойником едешь, я еще пока что не помер.
III
Он чувствовал себя совсем разбитым всеми событиями сегодняшнего, такого длинного и тяжелого дня. Хотелось лечь, забиться с головой под одеяло, ни о чем не думать, ни с кем не разговаривать. Но в соседней комнате сидел Добролюбов и работал над очередным номером журнала. Надо было помочь ему, надо было побороть усталость, надо было закончить эту работу к завтрашнему утру.
— Василий, подай-ка воды умыться, — сказал он, выглянув в коридор.
Но в коридоре было пусто, только собака радостно замахала хвостом и, потягиваясь, поднялась со своего тюфяка. Он пошел на половину Панаева, но и там никого не было. В столовой слабо горела лампа с прикрученным фитилем, на столе чуть попискивал заглохший самовар.
Он подошел к буфету, налил водки, выпил и поискал чем бы закусить. Ничего подходящего не было, только в высокой вазе лежали яблоки, большие, желтые, пахучие антоновки. Он высыпал их все в полу халата и вернулся на свою половину. В ванной он облил себе голову холодной водой и, с радостью чувствуя, что усталость его исчезает, пошел к Добролюбову.
Добролюбов читал сидя за письменным столом и, не поднимая головы, помахал ему рукой в знак приветствия. Гранки нового номера лежали беспорядочной кучей. Длинные узкие полосы бумаги свешивались со стола, как полотенца. Добролюбов рылся в них, разыскивая какую-то статью, все перепутал, и теперь найти что-нибудь было невозможно. Некрасов высыпал перед Добролюбовым яблоки и тоже уселся за стол.
План номера был готов. Его обдумали давно, каждую вещь обсудили и выбрали заранее, — первый номер в году должен был получиться интересным и содержательным. «Гвоздем» было, конечно, «Дворянское гнездо». Некрасов радовался, что с первого же номера дает читателям такой подарок.
— Это поднимет подписку, — говорил он Добролюбову, откладывая в сторону гранки повести. — Вот увидите, — после выхода этой книжки мы получим сразу же несколько десятков новых подписчиков.
«Дворянское гнездо», статья Чернышевского об устройстве быта помещичьих крестьян, статья Добролюбова о Роберте Оуэне, стихи Фета, «Свисток» и все остальное было, честное слово, высококачественным литературным товаром. Некрасов довольно насвистывал, пробегая глазами стихи Фета о нимфе и сатире. И стихи тоже были хороши. Молодец Фет, умница Фет, настоящий поэт Фет!
Иль страсть, горящая в сатире молодом, Пахнула и в тебя томительным огнем…громко прочел он последние строки, протягивая гранку Добролюбову. — Прочтите стихи, Добролюбов, ну, прочтите, прошу вас, чудесная вещь.
— Я читал уже, — ответил Добролюбов, исправляя что-то в одной из заметок «Свистка». — Читал, читал, умоляю вас не загромождать мне голову стихами. Я занят своим драгоценным детищем, своим Лилиеншвагером, который пишет хоть не так звучно, но зато остро.
— Вы безнадежный хвастун, — сказал Некрасов. — Это давно известно, что критик, сам имеющий склонность кропать стишки и печатающий их под псевдонимом, всегда уклоняется от чтенья хороших чужих стихов, если ему не надо писать о них рецензию. Ладно, не читайте Фета, правьте свои вирши.
Он тоже взялся за гранки «Свистка». «Свисток» был новостью для «Современника»: сатирический отдел, состоящий из небольших статей и стихотворений. Первый номер освистывал ретивых «обличителей», которых расплодилось великое множество в современной прессе. «Обличения» направлялись главным образом против незначительных или общеизвестных фактов и не представляли никакой опасности для тех, против кого были направлены.
Руководители «Современника», сами не мало напечатавшие обличительных повестей и рассказов, хорошо чувствовали, что пользы от этих обличений очень мало.
— Все обличают, все ставят «вопросы», — возмущался Добролюбов, просматривая номера журналов и газет. — Сколько лет это идет? Да и вопросы-то все какие мудреные: красть или не красть? Бить в рожу или не бить? И если кто скажет — не красть, пред ним все сразу же становятся на колени. Ах, как ты умен, как ты благороден, как ты велик! Чудная, великая мысль, — не надо таскать платки из чужих карманов!
Для первого номера «Свистка» Добролюбов написал специальное стихотворение: «Хор литературных обличителей». Смысл его заключался в том, что одно сознание греха, без решимости избавиться от него, никакой цены не имеет.
Некрасов читал гранки этого стихотворения и сокрушенно качал головой, видя, как беспощадно расправился с ним цензор.
— Черт бы их драл, — повторял он, — черт бы их драл. Вот свиньи, настоящие свиньи! Выкинуть половину стихотворения — это уже форменное издевательство.
— Ладно, — добродушно сказал Добролюбов, грызя яблоко, — и этого хватит, поймут, кому надо. Хорошо, что хоть это оставили:
Слава нам! В грехах сознанье Мы творим смеясь, И слезами покаянья Мы разводим грязь. Гордо, весело и прямо Всем мы говорим: Знаем мы, чем пахнет яма, В коей мы стоим…Он подправил какую-то строчку и, отложив гранку, взялся за следующую. Некрасов снова нагнулся над столом, — он читал статью Чернышевского и восхищался каждым ее словом. О, если бы можно было по-настоящему «обличать»! Разве о выкупных платежах писал бы Чернышевский? Он сказал бы тогда о том, что сейчас сквозит между строчек, о том, что крестьяне должны быть освобождены с землей, без всякого выкупа за землю. Некрасов чувствовал, как рвались эти мысли из-под пера Чернышевского и как упорно он их подавлял, зная, что, все равно, им не увидеть света. Что ж, и в таком виде статья ярче, сильней и справедливей всего, что было написано по крестьянскому вопросу.
Внизу стукнула дверь. Наверное, это Панаев вернулся из театра или с какого-нибудь «светского» приема, где он черпал по старой памяти материал для своих фельетонов. Так и есть — это его голос, вот он стучит ногами, сбрасывая калоши.
— Не кончили еще? — спросил Панаев, вбегая в комнату. — А я застрял в одном местечке…
Он взялся за гранки, но, проглядев быстро свой новогодний фельетон, бросил работать и начал рассказывать новости. В университете — скандал, студенты страшно волнуются, пишут протест против произвола военщины и полиции: на днях на пожаре солдаты и полицейские избили студентов, помогавших спасать имущество.
— Студенты утверждают, — рассказывал Иван Иванович, — что в этом доме жили их товарищи и что они бросились им на помощь. А солдаты, составлявшие около пожара цепь, не только не пустили их туда, но, отталкивая, еще били их прикладами. Солдат поощрял офицер, командовавший цепью. «Бей этих канальев!» Теперь студенты написали протест и ходят по профессорам — подписи собирают.
— И что же профессора? Подписывают? — спросил Добролюбов. — Какая мода пошла на организованные протесты! Просто противно. Неужели русское общество до такой степени низко пало, что нужно протестами доказывать такие очевидные каждому вещи, что нельзя бить людей прикладами?
Он потряс над головой гранками «Свистка» и торжествующе посмотрел на Некрасова.
— Ага, Николай Алексеевич, ага, мы вовремя освистали это позорное явление. Свисти, «Свисток», свисти, милашка, против протестов! Свисти, как соловей, как городовой на улице, как благонравный юноша в знак сердечного удовольствия! Что вы скажете, Николай Алексеевич?
Некрасов буркнул себе под нос что-то невнятное, — он сам был повинен в протестах, сам поддался этой моде и подмахнул вместе с Чернышевским один из них. Это был протест против антисемитской выходки «Иллюстрации». Протест подписали 150 человек — литераторов, профессоров и прочей культурной публики. Добролюбов подписываться не захотел. Мало того, он не только устно возмущался нелепостью этого протеста, но написал об этом едкую статейку в «Свисток». Сейчас он размахивал этой статейкой и уговаривал Панаева и Некрасова бежать в университет подписывать протест студентов.
— Да не забудьте захватить с собой Чернышевского, — серьезно говорил он. — Нельзя допустить, чтобы он потерял такой замечательный случай.
Иван Иванович с ужасом смотрел на Добролюбова. Его восторженное и доброе сердце не могло принять таких насмешек над поступками, диктуемыми благородными чувствами. В поисках сочувствия он повернулся к Некрасову, но тот только улыбался и, видимо, в душе соглашался с Добролюбовым. Во всяком случае, Некрасов не возразил ему, а взял гранку «Свистка», расхаживал по комнате и читал ее с явным удовольствием.
— Слушай, Иван Иванович, — сказал он, остановившись перед Панаевым. — Слушай и поучайся. Это и к тебе тоже относится. Ты ведь подписывал протест против «Иллюстрации»?
Он поднял палец и прочитал нравоучительным тоном:
«Зачем это русские ученые и литераторы ополчились в крестовый поход для доказательства того, что клевета гнусна? Неужели они полагают, что это еще тезис неизвестный или спорный для русского общества?.. Неужели наше общество упало так низко, стало так развратно, дошло до такой шаткости в своих нравственных понятиях, что лучшие люди литературы должны, наконец, писать к нему воззвания и руководящие статьи, имеющие целью доказать гнусность печатной клеветы?»
— Вот и ты, Иван Иванович, тоже хлопочешь. И с кем вместе ты выступаешь? — С Фаддеем Булгариным, с братьями Милеант? Кстати, кто такие братья Милеант? Первый раз в жизни слышу эту пышную фамилию.
Добролюбов был очень доволен всей этой сценой. Он хохотал и искренне веселился, слушая, как Иван Иванович возмущенно кричал Некрасову:
— Не только с Фаддеем, а и с тобой и с Чернышевским. И не вижу в этом ничего ужасного. И не понимаю, чему ты радуешься? Тому, что тебя, и Николая Гавриловича, и меня освистывают наравне со всякой сволочью?
— А что же мне делать? — спросил Некрасов. — Вызвать Добролюбова на дуэль? Или, пользуясь правом редактора, запретить ему печатать эту статью? Пусть свищет — это правильно, я не обижаюсь, когда ругают за дело.
Иван Иванович пожал плечами и снова взялся за свой фельетон. Нет, очевидно, он отстает от века! Разве можно делать такие вещи — освистывать самих себя в своем же собственном журнале? Конечно, надо признаться, что от «обличений» пока что пользы мало. Чиновники взятки дерут так же, как драли, городовые морды бьют и вообще прекращения злоупотреблений что-то не видать. Но нельзя же не согласиться, что обличать зло — благородная задача для каждого честного человека…
Од хотел сказать об этом Добролюбову, но промолчал, вспомнив, как едко высмеивал Добролюбов защитников «гласности», вздохнул и искоса посмотрел на него. Хороший человек, умный, талантливый, но откуда в нем такая суровость? Вот оно, новое поколение, беспощадное к себе и к своим друзьям. И Чернышевский такой же, только помягче, чем этот. Недаром Тургенев зовет Чернышевского «просто змеей», а Добролюбова — «змеей очковой». И вместе с тем, пожалуй, эта «очковая змея» менее опасна, чем многие милые и добрые его знакомые. Сколько гадостей говорят они за глаза, а этот выступает открыто. Это куда приятней.
«Очковая змея», заметив косые взгляды Панаева, улыбнулась и бросила в него яблоком.
— Не хмурьтесь, Иван Иванович, ешьте яблоко, чудесно освежает и утоляет голод.
«Конечно, змея, — подумал Панаев, — и яблоком соблазняет, как прародительницу Еву!».
Подумав так, он сам рассмеялся и высказал эту мысль Добролюбову.
— Вы уже почти изгнаны из рая, — ответил Добролюбов. — Ешьте, вам это не опасно, вы уже зачислены в лагерь «молодых», несмотря на ваш возраст. Вам на уйти от нас, Иван Иванович, да вы, пожалуй, и сами не захотите вознестись на райские парнасы от милой земли.
Некрасов, подняв глаза от гранок, заворчал, что ему мешают работать и что он не намерен до утра слушать остроты и пререкательства.
— Пора кончать, — сказал он. — У меня и так глаза совершенно слипаются. Вы можете говорить ваши комплименты друг другу утром.
— Так уж и так утро, Николай Алексеевич, — раздался у двери голос Василия. — Уже из типографии, пришли, и кофий готов, Авдотья Яковлевна ожидают в столовой.
Он подошел к окну и поднял штору.
Серое мокрое утро неприветливо заглянуло сквозь стекла. Василий задул лампы, и в комнате сразу наступил день. Работа подходила к концу, готовый к печати номер — плод стольких трудов, мучений, сомнений и споров — отправлялся в печать. Добролюбов аккуратно сложил и связал веревочкой гранки, перекрестил их и, шутливо сказав, «Господи, благослови», отдал их посыльному из типографии.
IV
Вот и новый год подошел. Застучали сапогами в прихожей появившиеся с черного хода первые «визитеры», поздравляя «с наступающим» и опуская в карманы мелкую мзду. Управляющий типографией Мельницкий прислал записочку с просьбой произвести расчет к новому году. Ипполит Александрович Панаев роздал мелким служащим и «нужным» людям некоторую сумму денег на новогодние расходы.
В магазинах — суета и оживление. Корзины с вином, закусочную снедь, коробки сладостей выносят приказчики и складывают в коляски покупателей или, взгромоздив тяжелый сверток на голову, рысцой бегут по адресу, указанному в записочке. Модистки с огромными картонками мчатся на извозчиках во все концы города. Новый год стоит у порога!
Некрасов накануне нового года получил приглашение на обед к Тургеневу. Иван Иванович, тоже получивший приглашение, говорил, что готовится что-то грандиозное, что вина для обеда выписаны из-за границы, что купец Елисеев по специальному заказу тургеневского Захара уже несколько недель тому назад послал требования своим заграничным поставщикам.
— Захар покажет пример истинного искусства кулинарии, — говорил Иван Иванович. — Будьте уверены, что обед окажется отменным.
Захар был важной персоной в хозяйстве Тургенева. Этот гений кулинарии долгое время был крепостным у какого-то невероятно жестокого помещика. Тургенев выкупил Захара, хотел дать ему вольную, но тот отказался и преданно служил новому владыке. Тургенев чрезвычайно гордился своим поваром, и имя Захара с почтением произносили все приятели знаменитого литератора.
На обед были приглашены многие литературные известности: поэт Полонский, Дружинин, Боткин, Анненков и Никитенко. Никитенко — профессор Петербургского университета, давний деятель цензуры, человек близко знакомый всем литераторам, сейчас представлял особый интерес для писательских кругов; ходили слухи, что его прочат в новый литературный комитет, который правительство собиралось организовать для «упорядоченья» прессы.
Когда Некрасов с Панаевым приехали, все были уже в сборе. Небольшая квартира Тургенева, ярко освещенная, теплая и уютная, показалась им особенно приветливой после темной, сырой и холодной улицы. Тургенев встретил их в передней. Он был одет как для великосветского приема, сиял белизной своей седой гривы и широкой улыбкой радушного хозяина.
— Опаздываете, друзья мои, — говорил он укоризненно, — Захар не простит вам этого, — произведения его искусства могут пострадать от вашей неаккуратности.
Панаев быстро осмотрел туалет Тургенева и подумал, что сам он, пожалуй, оделся небрежно для такого торжественного случая, — хороший костюм был одной из маленьких слабостей Ивана Ивановича.
Обед, действительно, был роскошный. Захар, ослепительный в белоснежных колпаке и блузе, сам подавал уху из стерлядей и, священнодействуя, разлил ее по тарелкам. Прозрачный пар поднялся над столом и обдал гостей тонким и нежным ароматом.
— Нектар! — заявил Анненков, отведав первую ложку. — Нектар! — повторил он, протягивая руку за кулебякой.
Первое время за столом было тихо. Тургенев внимательным хозяйским оком следил за тем, чтобы гости не пропустили ни одного блюда. Он руководил обедом с серьезностью жреца, и кушанья и вина сменялись одно за другим, составляя гармоничное целое. Боткин потихоньку расстегнул нижнюю пуговицу жилета, чопорный Дружинин раскраснелся и слегка вспотел, Панаев восторженно приветствовал каждое новое блюдо, даже сухой, педантичный Никитенко оживился. Только Некрасов был мрачен и молчалив. Ему было не по себе, и сегодняшний обед казался ему тризной, поминками на чьих-то похоронах. Он не мог заставить себя есть и уже поймал несколько недовольных взглядов Тургенева. Странно, он чувствовал себя чужим в этой когда-то близкой ему компании и с тоской думал, что лучше было бы, пожалуй, сегодня не приходить сюда.
За столом стало оживленно. Дружинин произнес несколько тостов, Боткин рассказывал что-то Никитенке, Полонский требовал, чтобы в столовую вызвали повара.
— Ваш Захар, действительно, волшебник, — говорил он. — Позвольте произнести ему хвалебную речь.
Тургенев велел позвать Захара, и тот со спокойным достоинством принял произнесенные хором комплименты. Тургенев сиял, пожалуй, куда больше, чем он.
Подняться из-за стола было не легко. Тургенев предложил гостям выпить «для освеженья» коньяку и занять место на «самосоне», радушно распахнувшем свои широкие объятья. Некрасов подвинул к печке кресло и сел там, немного в стороне, в углу, куда не попадал свет затененной абажуром лампы. Он закурил и молча вслушивался в то, что говорил Никитенко. Тот рассказывал, какие претензии имеет к литературе правительство.
— Граф Блудов, хорошо осведомленный о мнении государя, говорил, что правительство насчитывает у нас три рода литераторов. Одни злонамеренные и упорные в своих крайних желаниях, на этих трудно чем-нибудь воздействовать. Другие — не думающие ни о чем и желающие только набить себе карман. И третьи — люди благородные и даровитые, которые действуют только по убеждению. Последних правительство может привлечь на свою сторону, сделав их участниками своих благих видов.
— Этим соображениям нельзя отказать в справедливости, — сказал Дружинин, метнув взгляд на сидящего в тени Некрасова. — К сожалению, некоторые из нас не понимают, что упорное увлечение крайними идеями далеко не всегда приносит пользу обществу.
Некрасов поднял голову и подумал о том, что Дружинин себя, вероятно, относит к третьей категории — даровитых и благородных. Снова откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, Некрасов вслушивался в спокойную и профессорски уверенную речь Никитенко.
— Теперь создается особый комитет, который должен любовно и разумно направлять нашу литературу, особенно журналистов, на путь истинный.
— Это что же, нечто на манер вечной памяти бутурлинского комитета? — хрипло спросил Некрасов.
— Нет, зачем же такие мрачные предчувствия, — ответил Никитенко, вглядываясь в скрытую тенью фигуру Некрасова. — Это совсем другое. Комитет этот не должен стеснять литературу посредством правительственных мероприятий, он должен, по воле государя, наблюдать за движением умов и направлять к общему благу общественное мнение. Опасения, что он превратится в бутурлинский комитет, мне думается, не основательны.
Никитенко начал излагать свои мысли по поводу необходимых для России улучшений.
— Я верую, — заявил он, — если выразиться модным словом, в необходимость прогресса, но я понимаю прогресс иначе, чем апостолы крайних направлений. Есть два рода прогресса: один можно назвать прогрессом «сломя голову», — им увлекаются те, кому свойственен мальчишеский задор. И есть прогресс умеренный, постепенный, медленно, но верно идущий к цели. Я, разумеется, за второй прогресс.
Некрасов открыл глаза и внимательно посмотрел на всех. Интересно, как воспринимают они эти умеренно-либеральные речи? Дружинин и Боткин слушают с явным сочувствием, Панаев дремлет, Полонский мечтательно смотрит на лампу. А Тургенев? Лица Тургенева ему не видно. Что выражает оно сейчас?
— И я уверен, что это мое мнение разделяется лучшими людьми России, — продолжал Никитенко. — Я имел счастье недавно представляться государю, и вот какой разговор был между нами по поводу назначения моего в этот комитет: «Желательно, — сказал государь, — чтобы вы влияли на литературу таким образом, чтобы она действовала для блага общего. Стремления, несогласные с видами правительства, надо останавливать, но не стеснительными мерами. Все важные вопросы надо рассматривать научным образом и добиваться, чтобы статьи, касающиеся политики, были умеренны». Я, разумеется, заверил государя, что лучшие умы не питают никаких враждебных правительству замыслов. …Я, должен признаться, был очарован государем, — это действительно монарх, исполненный любви и благости…
Никитенко замолчал и растроганно вытер глаза. Никто не сказал ни слова, на мгновение воцарилась тягостная тишина, которую нарушило легкое похрапывание Панаева. Он всхрапнул сладко и протяжно и сам вздрогнул и проснулся. Все рассмеялись. Тургенев захохотал громче всех, и Некрасов почувствовал к нему благодарность и нежность за этот смех. Патетический тон Никитенко был бы неуместен после этого комического инцидента.
Разговор перешел на новости литературы, на последние номера журналов. Полонский после долгого отнекивания прочел свое новое стихотворение об Италии.
Я по красному щебню схожу один К морю сонному, Словно тучками, мглою далеких вершин Окаймленному. Ах, как млеют вдали, замыкая залив, Выси горные! Как рисуются здесь, уходя в тень олив Козы черные…Он читал, высоко подняв свою небольшую голову и откинув назад начавшие редеть волосы. «Эолова арфа» — называли его, этого романтического, мечтательного поэта, находящего успокоение от житейской пошлости в фантастическом, им самим выдуманном мире. И Италия, о которой он сейчас читал, звучала эоловой арфой — тихой, нежной и немного грустной.
Некрасов слушал с удовольствием. Эти стихи так не походили на его собственные и очень нравились ему. Он не присоединился к шумным одобрениям остальных, ему не хотелось говорить и нарушать словами тихое очарование.
— А что вы нам прочтете, Николай Алексеевич, — обратился к нему Никитенко. — Ждем и от вас такой же услады, как от нашего нежнейшего Якова Петровича.
— Вы знаете, что я не умею писать так, как Яков Петрович, — хрипло ответил Некрасов. — Но я могу прочитать стихи, написанные на днях. Знаешь, когда они написаны? — обратился он к Тургеневу. — В тот день, что я был последний раз у тебя.
Слава богу, стрелять перестали! Ни минуты мы нынче не спали,начал он читать глухим, тихим голосом, и сразу же перед ним встали все картины того мутного, ветреного дня. И та же тоска сдавила его сердце.
Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Мы глядим на него через тусклую сеть, Что, как слезы, струится по окнам домов, От туманов сырых, от дождей и снегов!Он читал монотонно, почти без всяких оттенков в голосе, и от этого еще тоскливей казалось все, что было описано в стихотворении. Нежная, грустная Италия Полонского бесследно исчезла из комнаты, — мрачный, как кошмар, туманный Петербург, с убогими дрогами на длинном мосту, с несчастным чиновником, с нищей старухой, с забытой могилой великого критика, который был учителем всех сидящих здесь, заполнил комнату. Все притихли, никто не смотрел друг на друга, — глаза были прикованы к темному углу у печки, откуда раздавался глухой голос.
— Прекрасно… — прошептал Никитенко и вытер глаза. — Прекрасно…
Некрасов кончил. Невеселая усмешка была в последних строках стихотворения. Полонский подбежал и обнял его.
— Это очень хорошо, — пробормотал он. — Очень хорошо, — я не умею так писать…
Боткин, похвалив все стихотворение в целом, начал разбирать неудачные рифмы и выражения. Дружинин вяло сказал несколько слов. Панаев хвалил шумно и многословно. Тургенев не сказал ничего, — он подошел к окну и встал там, повернувшись спиной к комнате. За окном была темная новогодняя ночь. Шел дождь, и по стеклам струились потоки воды. Вот в такую же погоду ушел от него Некрасов в то утро.
— Ну, что вы все захандрили? — сказал Дружинин. — В новогоднюю ночь полагается веселиться. Иван Сергеевич, ты намерен угощать нас шампанским? Если нет — мы немедленно покинем твои чертоги.
— Конечно, намерен, — ответил Тургенев, быстро отходя от окна. — И шампанским, и ужином, и всем, что вам будет угодно.
Он говорил весело, он снова стал радушным светским хозяином.
Никитенко поднялся и сказал, что он должен ехать, потому что семья ждет его в театре. Удерживать его бесполезно — у него была прочная слава образцового семьянина.
Никитенко уехал, и в комнате начался беспорядочный, шумный ералаш. В передней захлопали двери, начали появляться гости, приглашенные к ужину. Кто-то забренчал на рояле, кто-то пел, кто-то декламировал. Панаев притащил из столовой бутылку вина и заявил, что он не может дожидаться ужина, не подкрепившись.
Некрасов продолжал сидеть в своем углу около печки. Он раздражался все больше и больше, но не уходил, а наблюдал за присутствующими. Почти все они казались ему сегодня неприятными, он с каким-то радостным удовлетворением ловил их недостатки, смаковал отрицательные черты каждого.
Вот Анненков, сладко улыбаясь, говорит что-то Тургеневу. Боже мой, какое «кувшинное» рыло, какие бессмысленные глаза, какое круглое брюхо! И за что только его зовут «наш добрый», «милейший», «отзывчивый», «чуткий»? И совсем он не добрый, совсем не милейший…
Его можно было бы описать в фельетоне. Во-первых, чем он известен? Главным образом тем, что он — «друг Тургенева» и вообще всех более или менее знаменитых лиц. С незнаменитыми он не друг. С незнаменитыми он совсем не «добрый» и не «отзывчивый». Пусть незнаменитые сдыхают у него на глазах — «чуткое» его сердце не шевельнется.
«Литературный сочувствователь» многих крупных писателей. Был спутником Гоголя, сейчас бегает по поручениям Тургенева. Собирает по городу слухи, которые могут Тургенева заинтересовать, рекламирует написанные и не написанные еще произведения своего великого друга.
Некрасов вспомнил, как совсем недавно, в этой комнате, Анненков читал вслух собравшимся литераторам «Дворянское гнездо». У Тургенева болело горло, и он просил Анненкова оказать ему эту услугу. О, как счастлив был «спутник» этим доверием, как ревностно взялся за дело, с каким старанием оттенял наиболее удачные фразы и перебивал себя восклицаниями: «слушайте, слушайте, сейчас будет замечательное место».
Тургенев не очень-то уважал своего спутника. Некрасов вспомнил сочиненные Тургеневым стишки:
И Анненков, чужим наполненный вином, Пред братцем весело виляет животом…Тургенев высмеивал слабости Анненкова, хотя бы чрезмерную любовь к чужим обедам. «Гостеприимный гость» — звали Анненкова за то, что, скуповатый на угощенье, он на чужих обедах старательно потчевал других приглашенных. Все слабости своего «комиссионера» знал Тургенев и продолжал держать его около себя. Даже просил напечатать в подзаголовке «Дворянского гнезда» посвящение Павлу Васильевичу Анненкову.
«Черта с два напечатаю я такое посвящение, — злорадно подумал Некрасов. — Не доставлю этого удовольствия нашему «доброму». А он поди звонил уже всему свету, что «Дворянское гнездо» посвящено ему».
А Дружинин, длинный, обрюзгший, с подслеповатыми, вечно потупленными глазками, сейчас он весьма оживлен и с вдохновением читает нескольким юнцам какие-то, очевидно, «чернокнижные» вирши. Юнцы изнемогают от удовольствия, и Некрасов с отвращением отвернулся от их потных физиономий.
И Полонский сухой, с волосами и бородой, висящими, как сухие водоросли. «Полевой цветок, подрезанный сохою», — как называет его Панаев. Всю жизнь трется около великосветского общества, а попасть туда как равный не может из-за бедности. Вот поистине ни пава, ни ворона, ни к какому берегу не пристал. «Эх, братья писатели! — думал Некрасов. — Злословите, хвастаетесь, завидуете. С звериным любопытством копаетесь в чужой жизни. Не подкрепляется ли ваша ненависть к Чернышевскому еще и тем, что он сам никогда не сплетничает, и в свою жизнь никого не пускает?»
— Ты что-то скучен сегодня, — сказал Тургенев, подойдя к Некрасову. — Что тебя мучает?
— Сейчас — желание приступить к питию.
— Счастлив, что могу удовлетворить это естественное желание, — сказал Тургенев, взяв его под руку. — Пойдем — проводим старый год и вместе с ним — все наши недоразумения и споры.
Они пошли в столовую и сели рядом. Хлопнули пробки, часы пробили полночь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Год начинался тихо. События, которых все ожидали, еще будто находились под спудом, все было неясно и зыбко, общество питалось слухами и сплетнями. Говорили, что «плантаторские комитеты» закончили предварительную разработку крестьянской реформы и передали свои проекты в редакционные комиссии. Говорили, что петербургская бюрократия, засучив рукава, тоже принялась за составление планов и проектов. Говорили, что между явными крепостниками и представителями гуманного передового дворянства начались ожесточенные стычки.
Некоторые восторгались либеральными петербургскими сановниками, вступившими в бой с крепостниками. В чем заключался этот бой — никому не было досконально известно, но ругать «крепостников» и «плантаторов» стало модным в каждом петербургском салоне.
Лишь очень немногие — в том числе руководители «Современника» — относились скептически к возне в редакционных комиссиях. Чернышевский не раз говорил, что ему становится все противней и противней смотреть на эту возню. Ведь цель во всем этом одна: составить проекты освобождения крестьян таким образом, чтобы помещики остались безубыточными во всех своих награбленных у народа доходах и безнаказанными за угнетения и злодейства, которые они творили в течение стольких лет.
А когда ему говорили, что между программою крепостников и либералов колоссальная разница, потому что первые предлагают освободить крестьян без земли, а вторые — с землею, он приходил в величайшее негодование.
— Нет, не колоссальная, а ничтожная, — возражал он. — Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь, или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее — все равно.
Он утверждал даже, что план крепостников лучше, потому что он никого не вводит в обман и его не прикрывают разными красивыми фразами.
— Честному человеку, слушая этих болтунов и хвастунов, становится противно. Это же настоящие враги народа, все эти либералы и прогрессисты.
Такие речи все чаще стали звучать в кабинете Некрасова, в столовой Панаевых во время «редакционных обедов». Некрасов не вступал в споры между защитниками либералов и Чернышевским, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Он с удовлетворением замечал себе, насколько умнее, честней, ближе к истине Чернышевский, чем хотя бы тот же Дружинин.
Когда разговоры о грядущей реформе разгорались в отсутствии Чернышевского, Некрасов чувствовал себя обязанным защищать его точку зрения. Однажды — это было у Тургенева — Дружинин и Анненков начали славословить «гуманные» начинания правительства и предрекать великую благодарность, которую выразит ему крестьянство за его деятельность. Некрасов, не выдержав, сказал, что напрасно Дружинин берет на себя роль толкователя крестьянских чувств.
— Вам, любезнейший, так же неизвестны чаяния мужиков, как тем комиссиям, которые разрабатывают проекты. Уверяю вас, мужик никого не станет благодарить, увидав, что его ободрали, как липку. А именно к этому и ведет вся деятельность этих редакционных господ.
Он хотел было сказать о рассуждениях Фета, который сравнивал крестьянина с дитятей, а помещика — с опекающим его добрым папашей, но, взглянув на Тургенева, замолчал. Тургенев играл с Бубулькой и на лице его было презрительное, брезгливое выражение. Не стоило продолжать разговор. Да и Фет ведь приятель Тургенева…
Разделение общества на два лагеря сказывалось и в литературе. Это было неравное деление, — на стороне одних было большинство газет и журналов, а программу вторых выражали наиболее ясно только «Современник» и новорожденная «Искра». С нового года это деление стало особенно очевидным. Оно проявлялось во всем, начиная с такой мелочи, как объявление на подписку. «Старые» литераторы, корифеи изящной литературы не стояли в объявлениях «Современника», как бывало, на первом месте. Не сообщалось об «исключительном сотрудничестве» Тургенева, графа Толстого и Григоровича. А Фет, Майков и Полонский, об участии которых в прошлом году говорилось отдельно, упоминались только в общем перечне сотрудников.
С первого же номера журналы начали метать стрелы друг в друга. Дружинин со страниц «Библиотеки для чтения», не называя имен, напал на «Современник» и его направление. Иван Иванович Панаев в январской книжке разразился фельетоном и против реакционного дворянства, которое он назвал «китайщиной», и против либералов, им он советовал «не заноситься» и помнить, что их роль уже сыграна и им пора уступить место новому поколению.
В «Отечественных записках» с первого же номера начал печататься новый роман Гончарова. Осторожные критики пока что рассматривали его только с точки зрения литературных достоинств. Но очень скоро почувствовалось, что роман этот имеет глубокий социальный смысл. Особенно остро чувствовал это Добролюбов; он с наслаждением читал роман, ждал выхода каждой следующей книжки «Отечественных записок», испещрял их пометками и готовился выступить с большой статьей по поводу романа.
Перестрелка продолжалась и в следующих номерах. Она выплескивалась со страниц журналов и все ощутимей проникала в личные отношения. Это «личное» острей всех чувствовал Некрасов. Ему было тяжело, и он, чтобы ни с кем не встречаться, почти ежедневно ездил в Английский клуб. Он много играл, почти ничего не писал, избегал парадных встреч и обедов.
В карты ему везло. Он много выигрывал, но деньги не держались в руках. Журнал процветал и приносил хороший доход, но он видел, что доход можно еще увеличить. Он стремился это сделать не для себя. Он чувствовал себя ответственным перед сотрудниками: перед своим «дольщиком» Панаевым, перед Чернышевским, который работал, не разгибая спины, и сутками не выходил из своего кабинета. В хлопотах о материальных интересах журнала он находил забвение личных неприятностей.
Так проходила зима. Могла бы она быть совсем иной, — ведь Тургенев жил в Петербурге! Он, по старой привычке, заходил иногда с самого утра к Некрасову, валялся на диване, проводил время до вечера. Но ему было здесь неуютно. Добролюбов и Чернышевский мешали ему, он начинал с ними спорить, раздражался и уходил.
Некрасов ждал какого-то объяснения, взаимных признаний, слов, которые разрушили бы стену, вырастающую между ними. Слова эти не были сказаны, и стена поднималась все выше.
Наступала весна. Тургенев собирался за границу, визиты его к Некрасову прекратились. Они встретились на обеде в честь Мартынова и даже не подошли друг к другу — длинный стол разъединил их. Это был немного грустный обед: замечательный русский комик, которому приходилось из-за грошового жалования играть сверх сил, заболел чахоткой и уезжал на юг умирать. Некрасов очень любил Мартынова и сейчас с болью смотрел на его осунувшееся, серое лицо.
Ему захотелось сделать Мартынову что-нибудь приятное на прощанье. Он положил рядом со своим прибором меню и незаметно начал набрасывать стихотворение — тост. Когда отзвучали первые приветствия, он встал и, поднимая бокал, прочел взволнованным голосом:
Со славою прошел ты полдороги, Полпоприща ты доблестно свершил. Мы молим одного: чтоб даровали боги Тебе надолго крепость сил…Он читал и думал о том, что это — ложь, что Мартынов прошел уже всю дорогу, что он не вернется в Петербург. Хорошие люди не заживаются долго на земле! Но он не хотел, чтобы кто-нибудь угадал его мысли, и поэтому, кончая свой тост, сказал почти веселым тоном:
Мы знаем все: ты стоишь большей чести, Но мы даем, что можем дать!Мартынов вскочил из-за стола и горячо поцеловал его. Остальные кричали «браво» и приветствовали их обоих. Некрасов внезапно нахмурился и сел, — ему показалось, что Боткин, насмешливо улыбаясь, говорит что-то Тургеневу, а тот сочувственно кивает головой. Но он ошибся. Стихотворение им понравилось. Боткин, издали поднимая рюмку, крикнул, что они в восторге от его очень удачного тоста.
Но хотя даже и таких встреч было мало, присутствие Тургенева в Петербурге беспокоило Некрасова. Ему было бы, пожалуй, приятней сознавать, что Тургенев далеко и что они не могут случайно встретиться на улице, в театре или на обеде. Пускай бы уж отправлялся скорей в Париж.
Тургенев этой зимой стоял на вершине своей славы. «Дворянское гнездо» имело небывалый успех; им зачитывались буквально все, первый номер «Современника» был самой ходкой книгой, книгопродавцы до весны получали на него требованья и от столичных и от провинциальных читателей. Но сам Тургенев, как ни баловали и ни восхваляли его в Петербурге, торопился во Францию. Чемоданы давно стояли посреди комнаты, как символ временности пребывания его в России. И в этом тоже было что-то обидное…
II
Ну, вот уехал Тургенев, и неизвестно, когда вернется назад. Его провожали торжественным обедом в ресторане Дюссо, произнесли много тостов, выпили много вина, пролили много слез. Он был растроган и крепко обнял каждого. Даже Панаева, который залил слезами его костюм.
На другой день Некрасов проснулся с тяжелой головой и с пустотой в сердце. Ему казалось, что вчера он был не на проводах, а на похоронах Тургенева. Это ощущение было так сильно, что ночью он несколько раз просыпался от страшных видений.
Он долго лежал в постели и передумывал все их встречи за эту зиму. Вспомнить было как будто нечего. Теплая интимность исчезла из их отношений, они ни разу не поговорили по душе.
Распался старый крут «Современника» и не соберешь его, как бывало, вместе. Тяжело терять друзей на старости лет.
Некрасов нехотя встал и подошел к зеркалу. Покрасневшие, тусклые, точно бы не свои глаза взглянули ему навстречу. Желтое лицо, поредевшие волосы, худая длинная шея, впалая грудь, сутулая спина — старик, хоть и лет еще не много.
Он перевел глаза на портрет Тургенева. Милый седой юноша, — он всегда будет молодым. Ему куда легче переносить разрыв со старым другом, да и страдает ли он вообще от этого? Он остался в кругу тех, с кем был близок всю свою жизнь, у него почти ничего не изменилось.
Шлепая туфлями, Некрасов побрел на половину Панаевых. Там была подлинная семейная идиллия: на полу, на ковре сидела Авдотья Яковлевна и строила из кубиков сложное сооружение с колоннами и башнями. Младший братишка Добролюбова с восторгом следил за ее руками, боясь дохнуть и пошевелиться. Второй мальчуган, лежа животом на столе, усердно разрисовывал цветными карандашами толстый альбом из библиотеки Ивана Ивановича. А сам Иван Иванович вместе с Добролюбовым сидели на другом конце стола и исправляли какую-то рукопись.
В комнате было очень светло и по-праздничному чисто; лица всех находившихся в ней — спокойны и веселы. Особенно Авдотья Яковлевна, нарядная и красивая, казалась ласковой и доброй.
Такое лицо было у нее всегда, когда она играла или просто смотрела на детей. Она очень любила их и, не имея своего ребенка, тянулась к каждому малышу. Сейчас всю силу нерастраченных материнских чувств она отдавала братишкам Добролюбова. Мальчуганы весь день проводили в ее квартире; она сама их кормила, водила гулять, играла с ними, укладывала спать. Добролюбов жил теперь рядом, в одной квартире с Некрасовым, и его братья гораздо больше любили играть в комнатах Авдотьи Яковлевны, чем в своих.
— Мир честному семейству, — сказал Некрасов, входя в комнату. — Оказывается, уже белый день и все трудятся, и только я предаюсь праздным размышлениям.
Он осторожно обошел башню из кубиков и, присев на корточках, начал критически ее осматривать.
— Что же это такое? — спросил он. — Вокзал? Или дворец? Или церковь? А почему крыши нет? Разве бывают дома без крыши? Пустите-ка меня, я вам покажу, как надо строить.
Он толкнул одним пальцем башню, и она рассыпалась. Мальчуган хотел было заплакать, но Некрасов усадил его рядом с собой и начал разбирать кубики.
— Мы с тобой выстроим деревню, — говорил он, откладывая в сторону кубики и очищая место на ковре. — Мы с тобой выстроим много-много избушек, сарай, ригу. Здесь, где на ковре голубая полоса, мы сделаем мост — это будет река. А сзади у нас вырастет лес. Мы у Авдотьи Яковлевны цветы с окон снимем и кругом расставим, — это будут деревья.
Авдотья Яковлевна, улыбаясь, поднялась с ковра, оправила шумящее платье и поставила на пол несколько горшков с цветами.
— Мало, мало, — сказал Некрасов. — Дайте нам еще вон ту елочку, и вон тот кустик, да еще у вас в комнате есть лимонное деревцо, — оно нам очень пригодится, мы его посреди улицы поставим, а под ним скамеечку сделаем.
Второй мальчуган бросил карандаш и тоже уселся рядом с Некрасовым. Деревня из кубиков широко раскидывалась на ковре. В стороне, под деревом, выросла школа; она была из голубых кирпичиков, с красивой крышей и высокой трубой. Некрасов вырезал из бумаги маленьких человечков и рассадил их около школы.
— Это ребята пришли, — говорил он, — и дожидаются, пока сторож школу отопрет. А вот это — сторож; дайте-ка мне карандаш, мы ему бороду черную нарисуем.
Ребята с восторгом следили за руками Некрасова, а он уже вырезывал пастуха и коров и даже собачонку с задранным хвостом.
— Может быть, и волка вырежем? — спросил он. — Он будет к стаду подбираться…
— Не надо, не надо волка! — закричали мальчики. — Лучше уток, пусть они по реке плавают.
— Ну, давайте уток, — согласился Некрасов. — Можно и гусей в реку пустить.
Он с увлечением строил, вырезывал, раскрашивал, попутно рассказывал мальчуганам разные истории. Панаев и Добролюбов несколько раз неодобрительно посматривали в его сторону, потом собрали свою работу и потихоньку убрались из комнаты. Авдотья Яковлевна тоже ушла, тихонько притворив за собой дверь.
— Ну, ребята, теперь мы здесь хозяева, — сказал Некрасов с удовольствием, оглядев пустую комнату. — Хватит строить, переселяемся на диван, — будем играть в путешествие.
— А ты будешь наш отец? — деловито осведомился младший. — Маленькие без отцов не путешествуют, а я еще маленький.
— Буду, буду, — ответил Некрасов, ласково потрепав его по волосам. — Обязательно буду, и если на нас кто-нибудь нападет, я за вас обоих заступлюсь.
На диване было уютно и мягко, как в старинной дорожной коляске. Некрасов сел в середине, ребята — по бокам, и он обнял их обоих за плечи. В самом деле — почему бы им не быть его сыновьями? Почему у него нет своих собственных сыновей? Это, вероятно, очень радостно — иметь вот таких двух мальчуганов, растить их, любить и знать, что они-то тебя любят совершенно бескорыстно и искренно. Может быть, он был бы плохим отцом? Нет, кто сам пережил тяжелое суровое детство, тот лучше должен понимать ребят и справедливей к ним относиться.
Некрасов задумался и молчал, похлопывая мальчуганов по плечам.
— А мы уже начали путешествовать? — шепотом спросил младший.
— Нет еще, — сказал Некрасов, — но сейчас начнем… Ну, поехали!.. Хотя нет, нет, остановите лошадей, — вот идет еще один наш спутник.
В дверях, потягиваясь и зевая, стоял большой пес.
— Раппо, сюда! — позвал его Некрасов, показывая на диван.
Пес подошел, лениво переваливаясь, обнюхал ноги мальчуганов и, тяжело вспрыгнув на диван, улегся в стороне, поблизости к валику. Раппо был чистый английский пойнтер — черный, коротконогий, с длинным гладким хвостом. Ловкий и сухопарый в охотничьи сезоны, он за зиму разжирел и обленился, едва перебираясь в обеденный час со своей подушки в столовую. Пообедав, он уже не уходил на свое место, а лежал в столовой на полу, дожидаясь ужина и не желая тратить силы на вторичное путешествие. И сейчас он пришел, очевидно, думая, что уже садятся обедать.
— Ну вот, теперь мы можем трогаться, — сказал Некрасов. — Мы поедем с вами далеко-далеко в лес, на охоту. Ружья у нас за плечами, ягдташи — на боку, все прочие принадлежности сзади привязаны. Едем мы ранней весной, в одну деревеньку. Поставь-ка, Володя, перед нами три стула, — это будут у нас лошади…
Путешествие началось. Ваня с увлечением понукал «лошадей» и подпрыгивал на диване. Володя держал за ошейник Раппо, а Некрасов рассказывал. Он описывал места, по которым они проезжали, людей, с которыми они встречались, придумывал разные приключения, прерывающие их путь. В одном месте — коляска увязла в болоте, потом ехала по лесной дороге, потом остановилась на берегу разлившейся в половодье реки. Время шло, в комнате сгустились сумерки, слуга зашел и хотел зажечь лампу, но Некрасов не позволил. Авдотья Яковлевна, тихонько подошедшая к двери, услышала, как Некрасов с увлечением говорит:
— Смотрите, смотрите, как разлилась вода. Кругом — настоящее море воды, вон как она затопила лес, только верхушки деревьев видны. Смотрите — над водой летят птицы: гуси, журавли, чибисы, кулики. Как они шумят! Слышите, какой серебряный звук производят утки своими крыльями?
— Слышим… — как завороженные, ответили мальчики.
— А вон рыболовы — красноносые птицы, — продолжал Некрасов. — Они падают в воду и хватают мелкую рыбешку… А вон журавли сели отдыхать на зеленый островок, — это, наверно, было поле, видите — озимь зеленеет. Мужики пахали, сеяли, сколько семян извели, сколько труда положили, а река все затопила!.. Ну, нам на лошадях дальше не проехать, надо ботик искать, — вплавь дальше двинемся.
В столовой затопали, загремели стульями, и Авдотья Яковлевна тихонько отошла от двери. Давно надо было бы накрывать к обеду, но она замахала руками и зашикала на слугу, который шел со стопкой тарелок по коридору.
— Назад, назад идите, — шепотом сказала она, — туда нельзя, Николай Алексеевич занимается с мальчиками. Я скажу, когда можно будет.
Она побродила по квартире, заглянула в людскую, выбранила прислугу за какой-то беспорядок в коридоре. Скучая и не зная, куда деваться, зашла в комнату Добролюбова. Его не было дома, разбросанные книги, рукописи и корректуры указывали, что он побежал куда-то, бросив работу.
Она подошла к столу и увидела около чернильницы большую нарядную конфету в виде пылающего сердца. Рядом валялась развернутая записка:
«Я вас жду, Добролюбов; уже половина седьмого, а вас все нет. Если можно, придите. Целую вас».
Внизу были две приписки:
«Скорее! Скорее! Скорее! Посылаю вам сердце с пламенем».
Подписи не было, но Авдотья Яковлевна сразу угадала автора, — молоденькая сестра Ольги Сократовны Чернышевской совсем покорила сердце свирепого критика. Он ходил за ней по пятам, как большой неуклюжий пес, а она — кто знает, что чувствовала она? Верней всего просто кокетничала по привычке, забавляясь внезапной и горячей любовью этого серьезного юноши.
Авдотья Яковлевна, скривив губы, бросила записку на стол. Кругом любовь, горячие страсти, пылкие надежды. У нее давно не осталось никаких надежд, и любовь, доставшаяся ей, не похожа на конфету. Со злорадством, она развернула конфету и съела ее. Ничего особенного — конфета как конфета, только бумажка оригинальная, — дурак Добролюбов.
Она еще раз внимательно осмотрела письменный стол. Последние номера «Отечественных записок» были заложены множеством закладок. Авдотья Яковлевна открыла страницу и прочла абзац, отчеркнутый карандашом. В нем рассказывалось о том, на какие высокие помыслы и общечеловеческие скорби был способен иногда Илья Ильич Обломов и как неизменно гасли без всякого применения эти стремления к возвышенному и благородному. Она усмехнулась, думая о том, сколько общего с этими чувствами видит она у очень многих своих знакомых.
«Да и сама я не Обломов, что ли? В своей собственной жизни плыву по течению, вздыхая и ахая. Всем завидую, даже Добролюбову, который млеет около своей красотки, даже Некрасову, которому сейчас интересно играть с мальчиками…»
Авдотья Яковлевна захлопнула книгу и ушла на свою половину.
— Зажгите свет в столовой и накрывайте к обеду! — крикнула она слуге. — Что же мы сегодня до ночи сидеть голодными будем?
III
Уже несколько минут за дверью слышалась тихая сдержанная возня. Чуть слышно поскрипывали половицы, робко звякнула дверная ручка, чьи-то голоса ожесточенно шептались и, видимо, спорили. Некрасов, не разжимая век, крикнул:
— Кто там? Входите, все равно разбудили.
Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появились Ваня и Володя. Они были чисто умыты и гладко причесаны, мокрые волосы еще сохранили следы гребенки.
— Вы обещали рассказать, как вы были маленький. Вы сказали, что расскажете утром, и вот мы пришли…
Он, действительно, обещал. Вечером, когда их отправляли спать, он, глядя на их огорченные лица, обещал, что утром расскажет о том, — «как был маленький», но сейчас ему хотелось спать, и он был недоволен, что его разбудили. И, как назло, ему снилось что-то приятное…
— Но ведь еще очень рано, — жалобно сказал он. — Я совсем не выспался.
— Так вы поспите, а мы тихонько тут посидим, — сказал Володя, решительно направляясь к дивану.
Они уселись рядом, чинные и торжественные, — ноги их не доставали до полу. Некрасов закрыл глаза и попытался задремать, но через несколько минут они завозились на диване и встревоженно начали шептаться. В соседней комнате послышались легкие шаги, и Авдотья Яковлевна заглянула в комнату.
— Вот вы где! — сказала она. — А завтрак? Сейчас же в столовую без разговоров.
Некрасов, приоткрыв глаза, смотрел, как неохотно сползали они с дивана. Ага, попались маленькие негодники! Теперь он запрет дверь на ключ и будет спать сколько ему угодно. Но у мальчиков были такие огорченные лица, что ему стало их жалко.
— Вы ешьте скорей и приходите, — сказал он, — а я пока что оденусь.
Но они не были уверены в том, что Некрасов выполнит свое обещание. А вдруг оденется и уедет? А вдруг, придет кто-нибудь? А вдруг его кто-нибудь рассердит, и он станет хмурым и молчаливым, каким бывает очень часто, и скажет, чтобы они шли в свою комнату? Их мучили эти сомнения, и еда не шла им в горло.
Авдотья Яковлевна сидела напротив ребят и зорко следила, чтобы они ели хорошо. Она была обижена, — столько внимания уделяет она детям, а они готовы в любую минуту променять ее на Некрасова. Он возится с ними только тогда, когда ему скучно. Сейчас он хандрит из-за отъезда Тургенева и ищет себе развлечения в беседах с детьми, а завтра они будут ему совершенно безразличны. А она всегда помнит о них.
Она сделала им по второму бутерброду, хотя мальчики смотрели на нее умоляющими глазами. Конечно, им интересней слушать рассказы Некрасова — о псовых охотах, на которые его брал отец, о Волге, о бурлаках, о рыбной ловле, о похождениях в лесу.
Рассказы Авдотьи Яковлевны занимали их куда меньше. Жизнь в городе, театральная школа, комнатная возня с братьями и сестрами, — она сама понимала, что все это было бесцветно. Ребята охотно слушали только ее рассказ о наводнении в Петербурге, которое она видела, когда была еще совсем маленькой девочкой, и о стареньком докторе Марокетти. Доктор Марокетти жил в одном доме с ее родителями, лечил ее в детстве, и она до сих пор помнила песенку, которую распевали все его пациенты:
Доктор Марокетти Хилый и больной, Все болезни в свете Лечит камфарой.Когда Ваня и Володя простужались и она начинала натирать их камфарной мазью, они распевали эту песенку и называли ее доктором Марокетти.
Некрасов все еще лежал, но мальчики забрались к нему на постель — он же сам велел им прийти после завтрака.
— Ну, рассказывай, — потребовал Ваня. — Только страшное, про чертей.
— А я ничего про чертей не знаю, — сказал Некрасов, — я их никогда не видал.
— Тогда про что хочешь рассказывай, — великодушно разрешил Володя. — Только не про взрослых, а про то, как был маленький.
— Я, пока вы завтракали, вспомнил одну историю, — начал Некрасов. — Она не про чертей, но страшная, грустная история про одного мальчика-крепостного. Вот я вам ее и расскажу… Случилось это давно-давно, когда я был совсем маленький, даже еще не учился, а только бегал и играл на улице. Жили мы тогда в деревне, и у меня было много товарищей, деревенских мальчиков, с которыми мы играли в разные интересные игры. Дружил я и с этим мальчиком — звали его Сеня — и очень его любил, он был смелый и ничего на свете не боялся. Я старался не отставать от него и нарочно придумывал разные страшные игры, чтобы показать, что я тоже храбрый. Мы с ним под новый год ночью бегали к церкви послушать — не поют ли там вечную память, — это нам нянька моя сказала, что если послушать ночью у церкви, можно узнать свою судьбу: запоют вечную память, значит умрешь в этом году, запоют что-нибудь радостное, значит весь год у тебя пройдет счастливо. Очень страшно было зимой, в полночь, бежать через кладбище к пустой темной церкви, и никто из мальчиков не захотел узнавать свою судьбу. Только Сеня не испугался, и мы с ним вдвоем, в холодную вьюжную ночь подбежали к церкви и прислушались у дверей. Мы, конечно, ничего не слышали: ночью в церкви было пусто и никто не мог там петь, но я ужасно трусил и только стыд перед товарищем удерживал меня на паперти. А Сенька не боялся, — он даже крикнул в скважину двери: «Эй, вы, запевайте, мы иззябли вас дожидаться!» — и голос его глухо прокатился по пустой темной церкви.
Выдумывали мы с Сенькой и другие игры. Один раз зарезали у нас свинью, а голову ее положили в сенях на полку. Мы стащили эту голову, воткнули ее на палку и вечером, когда спустились сумерки, пошли пугать ею людей. Подойдем к дому, бросим в окно комок снега и прижмем к самому стеклу свиную голову. Человек услышит стук, подойдет к окну, старается разглядеть впотьмах, кто это стучит, увидит оскаленную свиную морду и шарахнется в испуге. А мы бежим со всех ног, пряча свиную голову под полой тулупа.
Летом мы с Сенькой играли в разбойников, выкапывали пещеры и подземелья, приводили туда своих пленных, прятали там добычу, — наворованные на огородах яблоки, горох, морковку. Сенька умел делать из тростника разные свистелки и дудочки, и мы вместо разговоров пересвистывались условным, разбойничьим свистом. Он раздавал дудочки всем мальчикам, и мы поднимали иногда такой свист, что нас выгоняли со двора куда-нибудь подальше.
И вот однажды с этим моим другом Сенькой случилось несчастье, которое разлучило нас навсегда. Дело было поздней осенью, когда по утрам уже появлялся иней, а лужи затягивал тонкий, как пленка, ледок. К нам в гости приехал соседний помещик с целой сворой злых охотничьих псов. У моего отца тоже было много собак, но они нас знали и никогда не трогали. Мои приятели — деревенские мальчишки — тоже не боялись наших собак, и мы спокойно бегали и играли на дворе, не обращая внимания на их лай и рычанье. Но собаки соседа нам были не знакомы, и когда мы шумной ватагой выбежали на двор, они с лаем и с визгом кинулись на нас. Мы бросились врассыпную, полезли на забор, на крышу сарая — кто куда смог. И только один, самый маленький мальчишка, нигде не мог спрятаться. Он подпрыгивал возле забора, стараясь залезть на него, кричал, плакал и с ужасом оглядывался на собак, которые уже настигали его.
Мы все сидели на заборе ни живы ни мертвы от страха и не знали, что делать. Никто из старших не шел к нам на помощь, ни матери моей, ни няньки поблизости не было, а псари, увидев нас на заборе, только хуже науськивали на нас собак. Казалось, еще одно мгновенье — и бешеные псы растерзают мальчишку.
И вдруг Сенька, засвистев в свою самую пронзительную свистелку, скатился с забора, схватил с земли несколько камней и начал кидать в собак. Собаки сразу же повернули к Сеньке; вздыбив шерсть, оскалив белые, острые, как у волков, зубы, они прыгали вокруг него, не смея подойти ближе, а он все швырял и швырял в них камни и кричал тому мальчишке, чтобы он удирал скорей куда-нибудь.
Вдруг одна из собак завизжала и, хромая, кинулась в сторону. Из лапы ее текла кровь, и она через несколько шагов свалилась набок и начала зализывать свою рану.
— Мерзавец! — заорал вдруг кто-то на весь двор, — мерзавец! Запорю, засеку! Испортил мою собаку!
Мы, вздрогнув, повернули головы. Через двор, размахивая арапником, бежал помещик, а за ним, топая ногами, неслись псари. Мы сразу же спрыгнули на другую сторону забора, увидели, как над забором на мгновенье показались руки и голова Сеньки и, не оглядываясь, помчались к лесу. Не переводя дух, толкаясь и торопясь, заползли мы в наше подземелье и упали там друг на друга, ничего не видя и не соображая от ужаса. Нам казалось, что псари и собаки гонятся за нами, что их топот уже слышен около наших пещер, что вот-вот в узком проходе появятся ощеренные, клыкастые собачьи морды.
Так прошло несколько минут, показавшихся нам вечностью. Потом мы начали успокаиваться, подняли головы, прислушались, — за нами никто не гнался, все было тихо, только далеко на нашем дворе, все еще заливаясь, лаяли собаки. Мы сели, оглядываясь в полутьме пещеры, и вдруг увидели, что Сеньки среди нас не было! Значит, он не успел перескочить через забор? Значит, его схватили за ноги собаки? Может быть, они растерзали его в клочки? Может быть, уже нет на свете нашего смелого атамана?
Что нам было делать? Испуганные, сидели мы, прижимаясь друг к другу, и долго думали о том, как нам поступить. Наконец, решили так: двое из нас — я и мой брат — проберемся домой, узнаем, что случилось с Сенькой, и вернемся сюда рассказать.
— Только скорей приходите, — просили нас мальчишки, — а то нам боязно здесь сидеть.
Бегом, не чуя под собой ног, кинулись мы к дому. Вот уже крыша его показалась из-за деревьев, вот забор, вот и калитка, — сейчас мы будем дома и все узнаем, и, может быть, увидим Сеньку.
Но не успели мы подбежать к калитке, как из ворот с шумом и с гиканьем выскочили верховые. На передних лошадях сидели мой отец и сосед-помещик, следом скакали псари, в ногах у лошадей, завывая и визжа, крутились собаки. Кто-то трубил в рог, кто-то кричал на собак, грязь брызгала во все стороны из-под копыт коней. Мы прижались к забору, стараясь, чтобы нас не заметил отец, и дрожа при мысли, что собаки, унюхав нас, бросятся и выдадут наше присутствие.
Но нас никто не заметил, и кавалькада промчалась мимо. Успокоенные, мы хотели кинуться к воротам, как вдруг брат уцепился мне в рукав и прошептал с ужасом:
— Смотри, Сенька…
Я взглянул вслед верховым и увидел, что на седле ехавшего сзади всех псаря лежит наш приятель. Он лежал поперек седла, уцепившись руками за седло; босые ноги его беспомощно болтались в воздухе. Я не успел крикнуть, не успел сказать ни одного слова, как отставший от охотников псарь хлестнул лошадь и скрылся за поворотом дороги.
— Куда это его повезли? — спросил брат, лязгая зубами от страха.
Мы стояли, не зная, что нам делать, — идти домой и постараться узнать, куда повезли Сеньку, или бежать к ребятам и рассказать им о том, что мы видели. Но не успели мы принять какое-нибудь решение, как калитка хлопнула и из нее с криком выбежала босая простоволосая женщина, а за ней следом — моя мать. У матери с головы сползал белый платок, глаза ее были широко раскрыты, лицо побледнело.
— Куда они поехали? — крикнула она, увидев нас.
— Туда, — махнул я рукой вслед охотникам. — А зачем они повезли с собой Сеньку?
Но мать ничего не ответила, а подобрав юбку, бегом побежала по дороге. Босая баба, крича и плача, кинулась за ней.
Мы почувствовали, что смертельная опасность нависла над нашим другом, и, громко заревев, побежали за матерью. Мы хватались за ее юбку, мы хотели узнать, куда она бежит, но она молча отталкивала нас и, задыхаясь, бежала по дороге. Я видел, как ее легкая домашняя туфля завязла в грязи и соскользнула с ноги. Я крикнул: «Мама! Туфля упала…», но она не остановилась, не оглянулась, а продолжала бежать, схватив за руку рыдающую бабу.
Вдруг мы услыхали далекий лай собак, звук рога и крики псарей. Кусты, густо растущие вдоль дороги, стали реже, и мы сквозь голые их ветви увидели поле, а на нем вдали маленькую фигурку в белой рубашке, стрелой летящую в нашу сторону. Это был Сенька. Он бежал прямо по жнивью, рубаха его развевалась, штаны спадали, и он судорожно подхватывал их руками. Он бежал, еле касаясь босыми ногами земли, а за ним, догоняя его, мчались собаки. Следом за собаками, размахивая арапниками, скакали псари.
Я услышал рядом с собой тихий стон и увидел, как простоволосая женщина — это была Сенькина мать — схватилась за сердце и упала на землю. В ту же секунду мама, продираясь сквозь кусты и оставив на них свой белый платочек, кинулась навстречу Сеньке.
— Мама! Собаки, собаки разорвут тебя! — закричали мы и, вцепившись в мать, упали на жнивье, сбив и ее с ног.
Она хотела оттолкнуть нас, но силы оставили ее, и, задыхаясь, вся дрожа от ужаса, она впилась глазами в ноле.
Собаки настигали Сеньку, но в ту минуту, когда бегущая впереди схватила его за рубаху, псари захлопали арапниками, выскочили вперед и один из них подхватил Сеньку и поднял его на седло. Они были уже совсем близко около нас. Я видел, как Сенька бессильно повис на руках псаря, видел, что рубаха его висела клочьями, что из носу у него текла кровь, а глаза смотрели дико и бессмысленно. Вдруг он забился и закричал, начал вырываться из рук псаря, а тот крепко притиснул его к себе.
Собаки с недовольным визгом и ворчаньем повернули обратно, псари тоже поскакали к лесу, и только тот, что вез Сеньку, шагом поехал к дороге. Наша мать, вскочив на ноги, побежала к нему навстречу, а мы, дрожа и плача, остались сидеть на земле. Мы видели, как псарь, все еще прижимая к себе Сеньку, спрыгнул на землю, и, сняв шапку, шагнул к маме. Мы видели, как мама, вырвав у него из рук Сеньку, что-то сказала, показывая на дорогу. Псарь прошел мимо нас, ведя на поводу лошадь, а мама зашагала к дому, неся на руках безжизненное тело Сеньки.
Псарь поднял с земли Сенькину мать и положил ее на лошадь. Она тяжело повисла, уронив руки, и сразу же начала сползать, касаясь вытянутыми посиневшими ногами земли. Псарь поддерживал ее рукой и тихонько говорил нашей маме, что барин велел только попугать Сеньку за то, что он зашиб ногу собаке, а им приказал отогнать собак, когда они догонят мальчишку.
— Мальчонка дюже спугался, — говорил псарь виновато, — и, видать, сомлел со страху. А матка его, боюсь, не померла ли совсем…
Забыв о приятелях, которые ждали нас в пещере, испуганные, притихшие, доплелись мы до дома и спрятались в своей комнате. Никто нас не искал, никто не заходил к нам, и мы, забившись в угол за кроватью, просидели одни до сумерек. Мы слышали, как вернулись охотники, как в спальне плакала и кричала мама, как ругался и хлопал дверьми отец. Когда совсем стемнело, пришла к нам нянька и уложила нас спать. Но мы не могли уснуть, мы плакали до тех пор, пока к нам не пришла мама и не легла с нами, сдвинув наши кроватки.
На другой день мы узнали, что Сенькина мать умерла, а сам Сенька от страха помутился разумом. Через некоторое время мы его увидели, — он стал дурачком, ничего не мог говорить, а только лопотал что-то непонятное… Вот, ребята, какую страшную историю пережил я в детстве.
Некрасов замолчал и обнял притихших, взволнованных мальчиков. Он и сам был взволнован, — словно наяву, встал перед ним этот ужасный день его детства. Он ничего не прибавил к тому, что было на самом деле, он умолчал только об одном: о том, какую дикую сцену устроил его отец, узнав, что мать хотела вступиться за мальчишку, повредившего ногу собаке. Он с невероятной болью вспомнил сейчас об этой сцене и, чувствуя, что слезы готовы брызнуть из глаз, встал с кровати и хотел отослать мальчиков. Но в эту минуту в комнату с шумом ворвался Добролюбов и, не замечая ничего, начал требовать, чтобы все немедленно шли гулять.
— Гулять, гулять, сейчас же гулять! — кричал он, распахивая форточку. — Я только что с улицы, — сегодня настоящее лето. Безобразие — сидеть дома. Мальчики — марш одеваться! Николай Алексеевич, снимайте халат. Я все равно вытащу вас на улицу…
Некрасов, опешив от такого натиска, покорно пошел переодеваться, а Добролюбов постучал в комнату к Авдотье Яковлевне. Но она не впустила его, сказав, что еще не одета, а на приглашение принять участие в прогулке сердито ответила, что семейные выезды ее не прельщают и она предпочитает остаться дома.
— А вас, вероятно, кто-то не пригласил на прогулку по Невскому, и потому вы стали вдруг таким нежным братом, — язвительно добавила она.
Добролюбов постоял минутку перед закрытой дверью, развел сокрушенно руками и пошел к Некрасову.
— Авдотья Яковлевна в меланхолии и идти не хочет, — объявил он. — Мои мольбы остались тщетными.
— Напрасно звали, — сказал Некрасов. — Гулять в мужской компании в тысячу раз приятней.
Погода, действительно, была теплая и солнечная, все искрилось и сверкало: и светлое голубое небо, по которому бежали тонкие прозрачные облачка, и окна домов, и непросохшие от вчерашнего дождя лужи. Почти летняя теплынь на солнечной стороне улицы, свежий холодок в тени, смеющееся лицо девушки в первом выставленном окне и потеплевшие, добродушные лица прохожих.
В Летнем саду, куда привел их Добролюбов, было почти пусто. На серой прошлогодней траве дымились костры, пахло сырой землей и прелыми листьями, на голых прозрачных деревьях кричали вороны. Гуляющих не было, только сторожа хлопотали около статуй, снимая с них деревянные футляры, да маляры красили скамейки ярко-зеленой краской.
Они вышли на набережную. Здесь было холодно. Совсем не весенний ветер теребил полы пальто, забирался за пазуху, подгонял светлую холодную Неву. Она неслась мимо, быстрая и бурная; высокие, длинные волны набегали друг на друга, бились о берег и пенились около моста. Мальчики перевесились через гранитный парапет набережной, и старший закричал, глядя на воду:
— Смотри, смотри, Коля, река радуется, что освободилась ото льда! Она торопится куда-то убежать. Она ведь никогда не бежит так быстро, как весной?
— Я думаю, она всегда течет одинаково, — ответил Добролюбов. — Это от ветра так кажется. А может быть, просто воды в ней больше становится весной. Однако, идемте отсюда, здесь холодно, вы простудитесь.
Но мальчики с удовольствием подставляли раскрасневшиеся лица ветру, смотрели на чаек, которые носились над рекой, заметили около того берега лодку рыбаков. Разглядеть рыбаков было невозможно: лодка казалась маленькой скорлупкой, видно было, что ее несет и качает, что людям, сидящим в ней, трудно грести против течения. Мальчики долго наблюдали за лодкой, но потом тоже озябли и сами попросились в сад.
В саду они нашли еще не окрашенную, облупившуюся скамейку, освещенную солнцем и загороженную от ветра толстым деревом. Здесь было совсем тепло, и Некрасов даже зажмурился от удовольствия.
— Эх, здорово! — проговорил он, потягиваясь всем телом. — Весна! В деревню надо ехать, на охоту, а не здесь сидеть. Помещички, уж, поди, давно постреливают, а у меня ружье паутина оплела. Поедем, Добролюбов, в деревню? Плюнем на все и закатимся недели на две? Не хотите? Предпочитаете гулять «по тропинке бедствий»?
— Предпочитаю, — улыбаясь ответил Добролюбов. — Присох сердцем к этой тропинке. Да что вы смеетесь? Ей-богу, серьезно. Вот женюсь, тогда увидите.
— Женитесь? В двадцать-то лет? Да что вы, с ума сошли? — с ужасом воскликнул Некрасов. — Да еще на сестре Ольги Сократовны! Вы что же, считаете семейную жизнь Чернышевского идеалом?
— А чем плоха жизнь? — надувшись, сказал Добролюбов. — Он ей не мешает, она — ему. Он ей — развлекаться, она ему — работать. И потом я ведь женюсь не на Ольге Сократовне…
Некрасов промолчал, прекрасно зная, что еще два месяца назад Добролюбов был влюблен именно в Ольгу Сократовну. Прогулки по Невскому, до которых Ольга Сократовна была большая охотница, совместные посещенья театра и поездки за город помутили было сердце молодого литератора. И то, надо сказать, — Чернышевская кокетничала с ним безудержно, а при ее красоте и бойкости и не такому юноше могла она вскружить голову. Только глубокая любовь и уважение к Чернышевскому отрезвили Добролюбова, и он уклонился от этой опасной игры. А тут, кстати, приехала сестра Ольги Сократовны, и он перенес на нее свои симпатии.
— Я не понимаю, — продолжал Добролюбов, — как это вам хочется сейчас уехать в деревню и ходить с ружьем по болотам. Я бы никуда сейчас не уехал, и вовсе не из-за «тропинки бедствий», — право же, и без этого есть в жизни интересы, которые могут украсить наше темное житьишко.
Он поднялся со скамейки и зашагал перед ней по дорожке, высокий, широкоплечий, с упрямой складкой на красивом молодом лбу. Очки и борода делали его старше и солидней, но до чего же он был еще молод! Некрасов любовался им, посматривая из-под полей шляпы. Он полюбил Добролюбова особенно сильно в последнее время, полюбил за зрелый не по годам ум, за смелость, за талант, за деловитость, которые нисколько не засушили его, не убили в нем способности увлекаться, буйствовать, делать разные глупости. Он был ему как-то ближе и понятней, чем Чернышевский.
— Я не понимаю, что опять с вами творится? — говорил Добролюбов, остановившись перед скамейкой. — Вы закисли, на вас неприятно смотреть. Писали бы лучше стихи, чем распускаться, как нервная барыня. Что у вас, дела разве нет?
— Разумеется, нет, — ворчливо ответил Некрасов. — Отодвиньтесь, вы мне солнце загородили. И перестаньте читать мне нотации — терпеть этого не могу. Что это все сговорились, что ли, поучать меня?
Добролюбов усмехнулся и сел на скамейку, протянув вперед свои длинные большие ноги. Он чувствовал себя сейчас великолепно: прекрасный день, солнце, ветер; вернувшись домой, он будет писать интересную статью; вечером, может быть, пойдет к Чернышевским, — ей-богу, нет оснований для хандры. Конечно, можно было бы жить интересней, работать лучше, иметь более широкое поле деятельности, но ведь борьба за возможность такой деятельности тоже не плохое дело? А Некрасов закис, черт его знает почему!
Он решил немного раззадорить его и заговорил о последних статьях против «Современника», появившихся опять в печати.
— Читали «Московские Ведомости»? — спросил он. — Они страшно недовольны нами — называют «Свисток» балаганным отделом, обвиняют нас в литературном мальчишестве и паясничанье. Надо будет состряпать соответствующее послание.
Некрасов с интересом повернул голову:
— Что такое? — спросил. — Я не читал этой статьи. О чем еще там пишут?
«Клюнуло», — подумал Добролюбов и начал подробно рассказывать содержание.
Некрасов чертыхался и даже ругнулся нехорошим словом, посмотрев предварительно, нет ли поблизости мальчиков. Он оживился, заговорил о московских знакомых, вспомнил Фета, Боткина, Толстого и неожиданно для себя излил Добролюбову причину своей сегодняшней хандры: уехал Тургенев, уходят старые друзья, надвигается полное одиночество. Собственные стихи не радуют, — вероятно, правы те, кто считает их грубыми и непоэтичными.
Добролюбов вцепился в последнюю фразу и начал горячо спорить. Он не говорил о стихах Некрасова, он протестовал против такого отношения к поэзии.
— Я категорически расхожусь с приверженцами так называемого «искусства для искусства», — говорил он. — Глупо полагать, что превосходное описание древесного листочка столь же важно, а то и важней изображения характера человека. Я никогда не соглашусь, что поэт, тратящий свой талант на описание листочков и ручейков, может иметь одинаковое значение с тем, кто воспроизводит явления общественной жизни. Надо прежде всего выяснить — на что употребляется талант, а потом разбирать все остальное…
— Ну, пошли опять «семинарские» рассуждения, — шутливо сказал Некрасов. — Благодарите бога, что Дружинин вас не слышит, он бы тут же предал вас анафеме.
Защитники «чистого искусства» действительно не могли без скрежета зубовного говорить о Добролюбове. Дружинин потратил не мало страниц «Библиотеки для чтения» на гневные статьи против «новосеминарского», как он выражался, взгляда на литературу, против «дидактического» направления в поэзии.
«Отрицать законы чистого искусства — значит ничего не понимать в деятельности поэтов и в законах поэзии», — патетически заявлял он.
Эти восклицанья сопровождались обычными восторгами перед «нашим счастливым, прогрессивным временем», когда общество вступило на широкую стезю плодотворных реформ.
«Поэзия сейчас свободна, — утверждал Дружинин, — и тот, кто толкает ее от чистого искусства в объятья дидактики, сатиры и обличенья, является чумой для поэтов».
Некрасов, поэзия которого никак не соответствовала требованиям Дружинина, всей душой был на стороне Добролюбова. Но он редко высказывался на эти темы, предпочитая слушать и внутренне радоваться, что вот как ярко и умно высказывает кто-то другой его собственные мысли. Он и сейчас ждал, что еще скажет Добролюбов, но тот замолчал, прислушиваясь к взволнованным детским голосам, доносившимся из глубины сада. Он вскочил со скамейки и пошел навстречу братьям, которые бежали по дорожке, предшествуемые собаками. Мальчики еще издали начали оправдываться, — их светло-серые весенние поддевочки были вконец испачканы зеленой краской. Широкие полосы разукрасили спины и полы поддевок, зеленые пятна были на лицах и руках, и даже собаки выпачкались в краске, — очевидно, и они сидели на непросохшей, только что окрашенной скамейке.
Пришлось идти домой. Мальчики смущались и шли около взрослых, собаки присмирели, солнце опускалось за крыши домов.
Добролюбов всю дорогу говорил об «Обломове», восхищаясь огромным общественным значением этой вещи. Он заканчивал сейчас статью об Обломове и был благодарен Гончарову, который своим замечательным романом дал ему возможность высказаться. Статья далеко вышла за рамки обычной рецензии: пользуясь материалом романа, Добролюбов еще и еще раз говорил о столь ненавистных ему либералах. Он доказывал полную никчемность российских обломовых, устанавливал их непосредственную связь со всевозможными представителями современного либерализма, воспетыми во многих художественных произведениях, и утверждал, что эти прекраснодушные люди, вскормленные на труде крепостных, являются злейшими и опаснейшими врагами народа.
Некрасов слушал его молча. Он был вполне согласен с Добролюбовым, ему тоже очень нравился «Обломов», — обидно, что он оказался напечатанным не в «Современнике». Что ж делать! Зато лучшая критическая статья об этом произведении появится в «Современнике».
Дома Василий, снимая с него пальто, сказал, что недавно заходил Чернышевский.
— Он оставил мне что-нибудь?
— Нет, ничего не оставили. Только сказали, что напрасно вы и его гулять с собой не позвали. Еще Ипполит Александрович заходили, — они вас дожидаются, у Авдотьи Яковлевны сидят.
Некрасов пошел на половину Панаевых и остановился, услышав за дверью Авдотьи Яковлевны всхлипыванья и дрожащий от слез голос:
— Я очень, очень несчастна… — говорила она, — мне так плохо живется в последнее время, так плохо, так плохо…
Лицо Некрасова потемнело, он сжал кулаки и хотел уйти. Но Авдотья Яковлевна заговорила о нем.
— Никто не знает, как он меня мучает, как много у меня горя… У него такое жестокое сердце, такой тяжелый характер… Я теперь стала старая, никому не нужная, у меня никого нет, и я все время одна, одна…
Ипполит Александрович заговорил успокаивающим голосом. Разобрать слова его было невозможно, и Некрасов быстро ушел к себе. Глаза его пожелтели, он тяжело дышал и шумно захлопнул за собой дверь.
Любовь их никогда не была ровной. Раньше, вслед за короткими жестокими ссорами, наступали дни страстного, нежного примиренья. Сейчас этого не было, — усталость и скука овладевали Некрасовым при виде заплаканного лица и укоризненных глаз Авдотьи Яковлевны, а бурные истерики, угрозы и проклятья вызывали в нем глухое озлобление. Он старался сдерживаться, но это не получалось. Часто на ее попытки помириться он отвечал раздраженно и грубо, и начавшая было затихать ссора вспыхивала с новой силой.
Кто был виноват в этой мучительной для обоих жизни? Он был склонен взять всю вину на себя, но иногда ему казалось, что виноват кто-то третий, посторонний, исковеркавший их отношения, поставивший их обоих в фальшивое, ложное положение. Но кто бы ни был виноват — жить вместе им становилось все трудней, и он с нетерпением ждал лета, когда Панаевы уедут на дачу, когда можно будет отправиться на охоту, а пустая городская квартира будет приютом в моменты, когда хочется полного одиночества.
IV
Весна проходила довольно однообразно, если не считать разных житейских мелочей, заставлявших хлопотать, волноваться, радоваться и грустить. Во-первых, Краевский затеял перестройку дома и собирался ломать флигель, в котором жил Добролюбов. Добролюбову приходилось выбираться с «литературного подворья», а пока что он поселился в комнате Некрасова, спал на его диване и мрачно браковал все квартиры, которые ему предлагали. Некрасов каждый день собирался уехать на охоту в Ярославскую губернию, да все не уезжал, а вместо охоты аккуратно посещал Английский клуб, возвращался только к утру, а днем или спал, или отправлялся к Чернышевскому.
Семья Чернышевского уже перебралась на дачу, на Петровский остров; собирался с ними и Добролюбов, но в последнюю минуту вдруг остался в городе. Напрасно уговаривал его Чернышевский провести лето на даче и пока бросить поиски комнаты, — Добролюбов стоял на своем и не хотел объяснить причину своего отказа. Наконец, признался, что не хочет ехать из-за сплетен. До него, дескать, дошли слухи, что кое-кто утверждает, будто он без памяти влюблен в Ольгу Сократовну, а за сестрой ухаживает для отвода глаз.
Чернышевский поднял его на смех, уговаривал, ругал, стыдил — все было тщетно.
В городе было тихо. Различные комиссии и комитеты, сморенные летней жарой, ослабили свою деятельность, даже цензура как будто стала не столь придирчивой, даже третье отделение размякло. Летние настроения овладели всеми, и, казалось, июньское безоблачное небо не предвещает больших громов и молний.
Но гроза все-таки разразилась. Она ударила в «Современник» совсем не с той стороны, откуда ее можно было бы ожидать, ударила внезапно, сильно и жестоко. Гроза пришла с Запада, из-за границы, со страниц герценовского «Колокола» в виде большой статьи с сурово предостерегающим названием: «Очень опасно!!!»
Первым узнал о ней Некрасов. Это было глубокой ночью в Английском клубе, в перерыве между двумя партиями. К нему подошел, сочувственно улыбаясь, один клубный знакомый, из числа тех окололитературных людей, которые всегда в курсе всех «историй» и сплетен о писателях.
— Вы видели последний номер «Колокола»? — многозначительно спросил он, пожимая руку Некрасова.
— Нет, — ответил Некрасов и хотел пройти мимо. Но внезапно встревожился и остановился. — А что в нем интересного?
— Большая статья о «Современнике» и, говорят, весьма недоброжелательного характера, — быстро зашептал его собеседник, видимо, радуясь, что он первый сообщает эту новость. — Я еще не читал ее, я только видел заголовок, — статья называется «Очень опасно», заглавие набрано крупным шрифтом и рядом помещен указующий перст.
У Некрасова задрожали ноги. Он отошел к окну, отодвинул тяжелый пыльный занавес и облокотился на широкий подоконник. Окно было распахнуто, и светлая ночь дышала за ним, спокойная, тихая и безмятежная. Некрасов почувствовал, как прохладный воздух нежно скользнул по его лицу. Он вытер внезапно вспотевший лоб и спросил небрежным и равнодушным голосом:
— А что же в ней есть еще, кроме интригующего названия? Надеюсь, вы смотрели не только на заголовок?
Его собеседник, несколько смутившись, залепетал, что он только «просматривал», не дочитал до конца, не вдумался в отдельные положения.
— Но я твердо знаю, — это мне говорил верный человек, — что Искандер смертельно ругает «Современник» и в частности «Свисток» за издевательства над гласностью, за глумление над полезной и светлой деятельностью общества. В статье есть недвусмысленный намек на то, что «Современник» подкуплен некиим государственным учреждением и надеется получить награду за свою деятельность.
Выпалив все это залпом, человек с любопытством впился в лицо Некрасова. Некрасов был совсем спокоен, лицо его не выражало ничего, кроме обычной замкнутости и скуки. Он как будто даже не слушал, а смотрел на улицу, где, покачиваясь и хватаясь за стены, медленно брел пьяный.
— Это все? — спросил он, не поворачивая головы. — Интересно… Вы собираетесь еще играть сегодня? Вероятно, уже составляется партия, надо идти, желаю вам всего хорошего.
Сказав это, Некрасов быстро отошел от окна. Занавес, задев по лицу его собеседника, упал, закрывая ночь, улицу и пьяного, уже свалившегося на тротуар. Клубный литератор, широко открыв глаза, смотрел Некрасову вслед. Некрасов спокойной походкой направился к дверям зала; шел быстро, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, и только спина его немножко согнулась, точно он боялся, что его подстерегает неожиданный удар сзади.
Он догадывался, кто торопится разнести весть о неблаговолении «Колокола» — это один бывший сотрудник «Современника», ушедший из журнала вскоре после появления Добролюбова. Бездарное и мелкое существо, он затаил обиду на «не оценивших» его руководителей «Современника» и с величайшей радостью ловил все слухи о неприятностях, случавшихся в журнале. Сегодня Некрасов уже видел его мельком, он перебегал от одного стола к другому, лицо его сияло сдерживаемым восторгом, а поздоровавшись с Некрасовым, он так торжествующе блеснул глазами, что Некрасов сразу подумал: не случилось ли чего с очередным номером журнала?
Войдя в зал, Некрасов не подошел к столам, а прищурился, разыскивая сплетника глазами. Он увидел его посреди группы людей на другом конце зала, что-то оживленно рассказывающего. Видно было, что его слушали внимательно, — никто не отходил, не оглядывался, лица всех горели любопытством. Глубоко вздохнув и поправив ставший вдруг тесным галстук, Некрасов решительно направился к группе. Его заметили только тогда, когда он подошел вплотную. Рассказчик замялся на полуслове. Все оглянулись и, расступившись, дали дорогу Некрасову.
— Говорят, почтеннейший, вы читали последнее произведение Искандера, в котором он сулит нам ордена и награды? За какие же это заслуги?
«Почтеннейший» смутился. Он долго тряс руку Некрасову, рассыпаясь в изъявлениях своего почтения, уважения и сочувствия.
— Крайне прискорбный факт, уважаемый Николай Алексеевич, крайне прискорбный, — говорил он, сочувственно заглядывая Некрасову в глаза. — И не только для вас лично — для всей русской журналистики, для всего передового русского общества. Такая пощечина, такой удар по наиболее, можно сказать, видным представителям отечественного радикализма.
Некрасов, молча слушавший всю эту тираду, осторожно высвободил свою руку.
— Очень благодарен за изъявляемое вами сочувствие, но никак не могу понять — почему вы так взволнованы этой статейкой? Нас так часто ругают в последнее время, что мы уже привыкли к этому.
Сочувственное выражение мигом сбежало с лица собеседника. Ему и так трудно было удерживать это выражение — слишком сильно он ликовал.
— А вот вы прочтете «Колокол», уважаемый Николай Алексеевич, тогда увидите-с… Увидите-с, что она представляет для вас лично, уж не говоря о господине Добролюбове и господине Чернышевском. Лично-с, лично-с для всех вас троих! — воскликнул он, и торжествующее злорадство откровенно зазвучало в его голосе. — Померкнет ореол-с! Потускнеет-с. Скандальчик получается, и какого масштаба! — на всю Европу.
Некрасову стало противно. Он скользнул глазами по окружавшим его людям — они молча стояли вокруг, слушая с напряженным любопытством. Некрасов круто повернулся и вышел из круга, снова молча расступившегося перед ним. Он быстро сбежал с лестницы, вышел на улицу и, подозвав ожидавшую его коляску, поехал домой.
Он сидел, забившись в угол, сгорбившись, опустив голову. Его знобило, он поднял воротник пальто и засунул руки глубоко в карманы. Отчаяние и гнев боролись в душе, сменяя друг друга. Отчаяние, пожалуй, было сильнее, к нему примешивался страх перед этой неизвестной статьей; в ней могло быть все что угодно, — он не имел оснований ожидать милосердия от Герцена.
Все это были звенья одной и той же цепи — и эта статья, и обвинение в похищении огаревских денег, и разваливающаяся дружба с Тургеневым, и недоброжелательство старых друзей. Все они были из одного клана — могущественного и замкнутого, а он оказался изменником, перебежчиком в чужой лагерь. Они не простят измены и всегда будут относиться к нему злее, чем к тем, на чью сторону он перешел, потому что он «свои», а изменивший «свой» ненавистнее, чем чужие.
Он почувствовал, что зубы его стучат от озноба, и оглянулся по сторонам. Коляска повернула на Литейную, прохладный ветер подул в лицо, на улице было пусто, белое перламутровое небо казалось необычайно высоким. Он был совершенно один в этом сияющем городе; никто не беспокоился о нем, никто не ждал его с тоской и тревогой, никому не было до него дела.
Он вдруг с нежностью и тоской вспомнил Белинского. Как тяжела для него потеря этого человека! Он увидел его ясно, как живого: выпуклый лоб, ясные глаза, мягкие светлые волосы. Он вспомнил то светлое, возбужденное состояние, в которое впадал он, выходя от Белинского после долгих ночных бесед. Тогда он долго бродил по опустелым улицам, вот под этим же самым белым, высоким небом. У него не было коляски и он бродил пешком, в худых сапогах и потрепанном пальтишке, но насколько спокойнее, чище, радостней было у него на сердце.
И все те, которые сейчас оказались в другом лагере, были тоже друзьями Белинского. Как тепло и дружески приветствовал Герцен появление «Современника», как потянулись к журналу Тургенев, Дружинин, Григорович, Боткин, Анненков. Это был крепкий, дружественный кружок, и если б не он — не бывать бы на свете «Современнику». И вот теперь с ними со всеми порвано — и навсегда.
Он вспомнил первое помещение редакции, находившееся на Невском, наискосок от Надеждинской, как раз против деревянного надворного дома, в котором жил Булгарин. Вспомнил, как в зимние вечера все сходились в тесных, бедно обставленных комнатах, как дружно и весело проходило время в серьезных литературных прениях, в чтении стихов и пародий, дружеских шутках и анекдотах.
Лошади стали, и кучер, перегнувшись с козел, отстегнул фартук коляски. Некрасов сошел на тротуар и поднял глаза. Шторы на окнах его квартиры были опущены, парадная дверь закрыта, никто не ждал его, все спали, всем было хорошо и спокойно. Кто мог бы сейчас его утешить, понять, пожалеть, посидеть рядом? Никто.
Быстрая мысль промелькнула в мозгу его: дома был Добролюбов. Он спал на диване или сидел за его столом, спокойный, насмешливый, не знающий сомнений юноша. Некрасову сейчас не хотелось его видеть. Вряд ли поймет его Добролюбов. Некрасов долго стоял на тротуаре, мрачно думая о том, куда же сейчас поехать, потом махнул рукой и вошел в дом.
Добролюбов не спал. Он сидел у стола, согнувшись над работой; свеча, догорая, трещала в подсвечнике и казалась бледнее света, пробивавшегося сквозь занавески. Увидев Некрасова, он бросил перо и потянулся, распрямляя затекшие руки.
— Почему так рано? — спросил он, взглянув на часы. — Я не ждал вас раньше пяти часов.
Некрасов молчал, раздраженно стаскивая перчатки.
— Что с вами? — сказал Добролюбов, взглянув на его осунувшееся серое лицо. — Вы проигрались? Или больны?
— Не то и не другое, — случилась гораздо большая неприятность. «Колокол» выступил против нас с большой статьей.
Он сел и рассказал все. Добролюбов слушал его с недоверием.
— Не может этого быть, — заявил он решительно. — Это какое-то недоразумение или очередное вранье клубных сорок.
Некрасов ответил, что он совершенно уверен, что все обстоит именно так, как ему рассказывали:
— Какая-то статья, обличающая «Современник», существует — это не подлежит никакому сомнению. Может быть, кое-что передано мне в искаженном свете, но общее ее направление изложено правильно, — это неоспоримо. Вы, дружок, забыли разве, как оценивает Герцен существующее положение? Вот и выступил против нас так, как выступают в полемике с противником.
— Нет, и еще раз нет! — горячо возразил Добролюбов. — Не верю, не хочу верить! Ведь это же Герцен, а не Кавелин или Боткин. Не мог он окончательно пришибить в себе всякое чутье.
— Ну, если не окончательно пришибить, то временно притупить мог. И я не обвиняю его в этом: трудно, живя так далеко от России, правильно чувствовать все, что у нас происходит. Откуда он узнает о наших событиях? Из писем друзей, от того же Боткина и Кавелина. Он им верит больше, чем нам, — вот и все.
— Если это так, — запальчиво сказал Добролюбов, — то плевал я на эту статью. Пусть себе пишет! На тех, кому дороги передовые идеи, это не произведет никакого впечатления.
Добролюбов говорил не для того, чтобы утешить Некрасова. И Некрасов подумал, что, пожалуй, эта уверенность в правоте дела, в правоте общих их взглядов гораздо приятней, чем самое нежное, самое тонкое сочувствие. Это был, если не друг, то соратник.
— Людей, способных оценить выступление «Колокола» так, как вы говорите, очень мало, — сказал он немного спокойней. — Вы забываете о значении Герцена для лучшей части нашего общества. Вы даже представить себе не можете, какие последствия принесет нам это выступление.
— Прежде всего надо, конечно, самим увидеть «Колокол», потом уже думать о последствиях, — твердо сказал Добролюбов. — Если намек на то, что «Современник» подкуплен, есть — надо немедленно ехать в Лондон объясниться. И я с удовольствием готов ехать хоть завтра. Герцен обязан будет печатно от него отказаться.
— Объяснения не помогут, — возразил Некрасов. — Герцен никогда не станет отказываться от собственных мнений. Ехать надо, но не вам, а мне, и не для объяснений, а для дуэли.
Добролюбов посмотрел на Некрасова, широко раскрыв глаза, и вдруг разразился веселым хохотом. Он смеялся громко, на всю комнату, вытирая выступившие от смеха слезы.
— Дуэль! Да что вы, Некрасов, с ума сошли? Такие средневековые способы для разрешения идейных разногласий? Бой на рапирах между представителем литературного дворянства и мужицким поэтом Некрасовым! Не смешите меня больше, а то я немедленно примусь за соответствующую поэмку для «Свистка». Дайте мне лучше вашу коляску, и я немедленно отправлюсь разыскивать «Колокол». Поеду к студентам на Васильевский остров — у них он непременно есть.
Через несколько минут он ехал по тихим, еще не проснувшимся улицам. Лошади бежали рысью, мягко ударяя подковами по мостовой. Кучер свернул с набережной в узкую Миллионную улицу. Особняки слепо смотрели на небо белыми четырехугольниками занавешенных окон. Краснощекий усатый городовой дремал у въезда на Дворцовую площадь.
Дворцовая площадь была величественна и пустынна. Красная подкова Главного штаба отгораживала от улиц Зимний дворец; легкая туманная дымка клубилась над мостовой, темной от утренней росы. Купол Исаакиевского собора висел в воздухе, как опрокинутая золотая чаша, и первые лучи солнца вспыхивали на нем, не освещая улиц.
— Красота! — сказал Добролюбов кучеру. — Красота! Как ты полагаешь?
— А я ее и не вижу, Николай Александрович, — мрачно ответил кучер. — Потому что не спавши еще. То барина у Аглицкого клуба дожидался, то вас теперь везу.
— Не спал еще? — сказал Добролюбов. — А я и не знал. Вот что, мне теперь недалеко, ты поезжай домой, а я пешком дойду. А если кто спросит — скажи, что довез до места и я там ночевать остался.
Он выпрыгнул на ходу из коляски и зашагал к Неве. Он шел быстро, с удовольствием прислушиваясь, как громко раздаются звуки его шагов в тихом воздухе. Разговор с Некрасовым не нарушил его хорошего настроения. Если статья действительно существует, если все это не простое недоразумение, то и тогда не из-за чего вешать нос. Борьба есть борьба, и чем горячее она ведется, тем ощутимее ее результаты.
Он засвистал какую-то песенку и быстро вошел в ворота большого, темного, неуютного дома.
V
К сожалению, все это не оказалось недоразумением. «Колокол» лежал перед ними, раскрытый на странице со статьей «Очень опасно». Все было так, как говорили: и указующий перст, и ряд восклицательных знаков, и не намек, а прямое предположение о грядущих орденах для сотрудников «Современника». Статья была несправедливая и злая, полная личных выпадов и против Чернышевского, и против Добролюбова, и против Некрасова.
Руководители «Современника» собрались в кабинете Некрасова обсудить положение. Совершенно убитый Некрасов все перечитывал статью. Добролюбов бегал по комнате и ругался, Чернышевский был серьезен и молчалив. Даже Иван Иванович Панаев, случайно приехавший в город, не вернулся ночевать на дачу и сидел рядом с Некрасовым, расстроенный и обескураженный. В последнее время он окончательно перешел на сторону «молодого поколения», и сейчас никак не мог отделаться от чувства стыда за «старых», от странного ощущения виноватости перед Чернышевским и Добролюбовым.
Содержание статьи не оставляло места для сомнений: Герцен дал бой «Современнику» не по какому-то отдельному, конкретному поводу — он брал под обстрел всю его линию, все направление. Он считал его деятельность враждебной интересам народа, мешающей обществу. Он оценивал текущий момент диаметрально противоположно «Современнику», отсюда и содержание и весь тон статьи: Герцен верил Александру II и его реформам — «Современник» в них разочаровался. Герцен не видел революционных настроений народа — «Современник» был уверен в их существовании. Герцен был убежден, что Россия, которая при Николае-вешателе томилась в остроге, вышла при Александре на свободу, а «Современник» каждым своим словом стремился показать, что двери острога до сих пор крепко замкнуты, и надо думать не о том, как бы сделать этот острог получше, а о том, как его разрушить. Герцен был далеко от России, он не знал, что в ней происходит, он жил старыми представлениями о русском обществе, и поэтому ошибался.
Именно так думал Чернышевский, глядя на пристыженного Панаева, на мрачного Некрасова, на пришедшего в неистовство Добролюбова. Ему особенно было жаль Добролюбова: до последней минуты Добролюбов надеялся, что разговоры о статье преувеличены, до последней минуты он благоговел перед Герценом, не замечал, что Герцен все больше и больше становится идеологом тех самых либералов, которых Добролюбов ненавидел. Сейчас ему было очень тяжело… И он бегал по комнате, требуя, чтобы его послали в Лондон, объясняться.
— Мне как-то стыдно и неловко, — вдруг сказал он, остановившись перед Чернышевским. — Ужасно неловко, точно кто-то обнаружил у меня в кармане чужие деньги, а я, ей-богу, не знаю, как они могли туда попасть.
Он сказал это неожиданно жалобным голосом, точно несправедливо обвиненный честный и правдивый ребенок. Лицо его стало растерянным и жалким, и он, быстро отвернувшись, подошел к окну.
Чернышевский понимал, как тяжело сейчас Добролюбову, — молодость особенно болезненно переживает крушение авторитетов.
О том, что, пожалуй, больней всего Герцен задел лично его самого, Чернышевский почти не думал, — он был уверен в своей правоте. «Колокол» сурово осудил его высказыванья о Поэрио и других неаполитанских изгнанниках, но по этому вопросу у него уже было столько столкновений с различными либералами, что он совсем не удивился нападкам Герцена. Дело заключалось в том, что Чернышевский на страницах «Современника» без малейшего снисхождения рассказал о неаполитанских либералах, которые в 1848 году, доверившись королю Фердинанду и пойдя на компромисс с ним, предали таким образом революцию и спасли Фердинанда. Фердинанд в трудную для него минуту призвал либералов на министерские посты, а когда реакция восторжествовала, заключил их в тюрьму. И только спустя десять лет бывшие политические деятели неаполитанского королевства вырвались из тюрьмы и прибыли в Англию.
Чернышевский, в отличие от либералов всех национальностей, утверждал, что Поэрио и его товарищи сами были виноваты в своих несчастиях, компромиссы к добру не приводят. А о Фердинанде Чернышевский писал, что со своей точки зрения он поступил совершенно правильно: подавив революцию с помощью либералов, он восстановил старые неаполитанские законы. Глуп тот, кто доверяет королям, как глупа была бы овца, помогающая волку выбраться из капкана. Но как взбесились российские либералы, славословящие сейчас своего императора! Поток разъяренных посланий обрушился на «Современник». Чернышевского обвиняли в жестокости, в оправдании тиранов, в отсутствия сочувствия к пострадавшим за свои убеждения людям. Ему советовали надеть жандармский мундир, всего более соответствующий его образу мыслей.
Герцен в своей статье еще раз повторил то же самое, — мог ли он сказать что-нибудь другое? Ведь он тоже восхищался сейчас Александром и его реформами и звал все мыслящее русское общество поддержать благие начинания монарха. Ему тоже не совсем приятно было считать, что неаполитанские либеральные деятели оказались попросту в дураках.
Чернышевскому жалко было Некрасова. Герцен намекал на него, говоря о тех, кто сделал себе «ремесло из мрачных сочувствий со страждущими». Ему душевно жаль было Панаева, о фельетонах которого, не называя, правда, фамилии, Герцен пренебрежительно отзывался, как о «болтовне о всех петербургских камелиях и аспазиях, которые, во-первых, во всем мире похожи друг на друга, как родные сестры, а во-вторых, имеют то общее свойство с котлетами, что ими можно иногда наслаждаться, но говорить о них совершенно нечего».
Бедный Иван Иванович совершенно не заслуживал такого презрительного отзыва. Он давно перестал писать о петербургском полусвете, и его фельетоны в этом году были остры, злободневны и продолжали общую линию «Современника» — линию борьбы с либеральными разглагольствованиями. Кто знает, если бы он не переменил тематику своих фельетонов, Герцен, может быть, и не пустил бы в него ядовитую стрелу!
Но больше всех Чернышевский болел душой за Добролюбова. Его любимое детище, его «Свисток», назвал Герцен «особым балаганчиком», созданным для освистывания «первых опытов свободного слова литературы». Его статья об Обломове вызвала брезгливые рассуждения о микроскопе, в который Добролюбов якобы изучает «гной» и «физиологические описания невских мокриц», которые Герцен не может читать без зевоты и отвращения. Каждое положение добролюбовской статьи вызывало возмущение и осуждение редактора «Колокола».
Чернышевский хорошо понимал, какие горькие чувства вызвала у Добролюбова эта статья — статья того, кто до вчерашнего дня был его учителем и героем. Все их поколение выросло и воспиталось на произведениях Герцена, но вот наступил момент, когда ученики ушли дальше учителя. В этот острый момент Герцен, давно оторванный от родины, не видел и не знал того, что знали они, не чувствовал новых сил, которые выросли за последние годы. Он жил старым представлением о России, и в этом была его трагедия.
Сейчас вопрос стоял о том, что делать дальше, как доказать Герцену ошибочность его обвинения, как обелить себя в глазах русского общества. Нужно было ехать в Лондон объясняться и требовать реабилитации «Современника» в «Колоколе»: на этом особенно настаивали Панаев и Некрасов.
— Надо ехать, Николай Гаврилович, — говорил Некрасов. — Ничего не поделаешь — придется поговорить с Герценом прямо и резко.
— Герцен должен понять, что он не прав, — тихо промолвил Панаев. — Я верю, что при личной беседе многое станет ему ясней. Он до сих пор слушал одну сторону: мы никогда не пытались с ним сблизиться.
— Панаев прав, — поддержал его Некрасов. — Мне тоже кажется, что одностороннее освещение деятельности «Современника» сыграло тут решающую роль.
Чернышевский хмурился и молчал. Ему совсем не хотелось ехать в Лондон, он считал бесполезными всякие объяснения с Герценом. Убеждать Герцена в том, что русская действительность не так радужна, как он полагает? Но Герцен не юноша, не увлекающийся мальчик, а человек с сложившимся политическим мировоззрением, и он не изменит свою точку зрения. Ехать затем, чтобы спорить из-за отдельных слов и выражений? Эта мелочная торговля не даст существенных результатов, и если даже удастся вырвать что-нибудь вроде извинения за допущенные в статье грубости, это не разрешение вопроса об основных разногласиях. Разногласия все равно останутся, а именно они-то и решают все дело. Неужели не видят этого Некрасов и Панаев?
— Дайте я поеду в Лондон, — сказал Добролюбов, отойдя от окна. — Пошлите меня, я могу с ним померяться силами, если на то пошло. Чернышевский не может ехать, бог с ним, не будем уговаривать, — я сумею постоять за «Современник».
Некрасов опустил глаза. Он понимал, что не такой парламентер нужен для разговоров с Герценом. Нужен был человек, равный ему по силе, знаниям и авторитету. Добролюбов был слишком молод и горяч — из его поездки не могло получиться ничего, кроме дополнительных неприятностей.
— Не хотите? — насмешливо спросил Добролюбов. — Ну и черт с вами, — я сам поеду, от себя лично, на это я, кажется, имею право.
— Никуда вам не надобно ехать, Добролюбов, — спокойно сказал ему Чернышевский. — Зачем вам ехать и объяснять, что вы не украли чужие деньги и что вы не просите себе Станислава на шею. Это ниже вашего достоинства, вы плохо о себе думаете, если считаете необходимым это делать.
— Верно, верно, Николай Александрович, зачем вам ехать? — встрепенулся Панаев, с тревогой слушавший страстную речь Добролюбова. — С Герценом нужно говорить осторожно; дерзость и грубый нажим его не переубедят. Вы слишком горячи и несдержанны, вы можете только повредить, а не помочь нам.
— Кланяйтесь, Чернышевский, — насмешливо сказал Добролюбов. — В вас, вероятно, предполагаются другие качества — смирение и почтительность.
— Не смирение и почтительность, а трезвость и хладнокровие, необходимые при таком объяснении, — резко возразил ему Некрасов. — Никто из нас, кроме Чернышевского, не может ехать. Только он, а не вы, не я, не Панаев. Это мое глубокое убеждение, и я буду на нем настаивать.
Добролюбов вспыхнул, снова отошел к окну и больше не вмешивался в разговор. Он распахнул раму и, перевесившись через подоконник, долго смотрел на улицу. Был солнечный и яркий день. К ставшему знаменитым «парадному подъезду» одна за другой подъезжали коляски, из которых с трудом вылезали поддерживаемые лакеями сановные старцы. Рядом с тротуаром, балансируя всем телом, прошел разносчик с большой корзиной на голове. В корзине, блестя чешуей на солнце, лежала еще влажная, свежая рыба. Хорошенькая девушка в светлом платье, с круглой картонкой в руках, вероятно модистка, подняла голову и улыбнулась из-под полей своей соломенной шляпки. Добролюбов ответил ей таким мрачным взглядом, что она от неожиданности даже запнулась о камень.
Он перестал смотреть вниз и уже хотел закрыть окно, как кто-то окликнул его по имени. Группа знакомых студентов махала ему фуражками, стоя на другой стороне улицы.
— Добролюбов! — кричал один, приложив к губам свернутую в трубку тетрадь. — Добролюбов! Идемте с нами! Едем кататься на яликах!
Он отрицательно покачал головой и отошел от окна. Спор в комнате кончился. Чернышевский просматривал какую-то книгу; Панаев, закрыв глаза, лежал на диване; Некрасов писал, сидя за письменным столом. Вопрос о поездке в Лондон был решен.
— Сейчас я пошлю Василия к Ипполиту Александровичу за деньгами, — сказал Некрасов вставая, — а сам отправлюсь улаживать всякие формальности, связанные с вашей поездкой. А вы, Николай Гаврилович, займитесь своими личными делами, предупредите Ольгу Сократовну, собирайте вещи. Надо быстро, очень быстро все это сделать.
Он посмотрел на Добролюбова и улыбнулся ему виноватой, извиняющейся улыбкой.
— Не сердитесь, дорогой, — сказал он, взяв его под руку. — Честное слово, так будет лучше. Вы знаете, как я вас люблю и как тяжело мне причинять вам малейшее огорчение, но сегодня я не мог поступить иначе.
Чернышевский уехал в Лондон. Сидеть в городе, ждать его возвращения, ждать хоть какой-нибудь весточки от него — было очень тяжело и трудно. Подготовив материал для июльской книжки «Современника», Некрасов, наконец, отправился охотиться в Ярославскую губернию. Охота не дала ему обычного успокоения, — тревога и тоска не покидали его и здесь.
Он заехал к отцу, но встреча с родными еще больше расстроила его. Грубый, жадный, сластолюбивый отец, опустившийся, заискивающий перед ним брат — Некрасов давно уже отвык от них, они стали ему чужими и неприятными. Он бродил по окрестностям Грешнева мрачный и молчаливый, не узнавая в униженно кланяющихся старых мужиках своих былых товарищей и сверстников.
Только воспоминания о покойной матери бросали слабый свет на эти когда-то родные места. Однажды вечером, сидя в своей комнате у окна, за которым темнел пустой запущенный сад, он набросал несколько стихотворных строк:
Увижу ли уединенный сад — Вновь, молодость моя, ты предо мною. Листы дерев уныло так шумят, И мать моя с поникшей головою Задумчива, болезненно-бледна, С платком в руках, обмоченным слезами, Дорожкой крайней тихими шагами Проходит молча…Стихотворение не удавалось. Он бросил его, не окончив, и спрятал листок с криво набросанными строчками. Его ничто не удерживало здесь, и он собрался уезжать. Отец и брат просили денег и долго говорили о своем тяжелом положении. Отец намекал, что он «вывел в люди» сына и поэтому имеет право на поддержку. Некрасов отдал все, что у него было с собой, обещал прислать из Петербурга еще и уехал.
Вернувшись в Петербург, он узнал от Добролюбова, что Чернышевский уже в Саратове и что поездка в Лондон, как видно из письма, не дала ощутительных результатов.
— Он не описывает мне Герцена, и отказывается его характеризовать, — сказал Добролюбов Некрасову. — Он говорит, что вы это сделаете лучше. Вот, послушайте, что он пишет.
Вытащив из кармана письмо, он прочел из середины:
«Попросите Николая Алексеевича, чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет, он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучше, нежели сказал бы я об этом предмете».
Некрасов нахмурился и пожал плечами, — он не желал беседовать на эту тему. Статья в «Колоколе», как-никак, была уже прошлым. Новые неприятности, может быть, гораздо меньшего масштаба, но тем не менее требующие немедленных действий, волновали его сегодня.
Неприятности эти доставляла цензура. Очухавшись после весенне-летнего благодушия, она, как злая осенняя муха, набросилась на «Современник». Не было, кажется, ни одной статьи, повести, стихотворения, которое не заставляли бы переделывать, подчищать, переписывать почти заново. За август запретили около пятнадцати листов, то есть половину всей книжки. Приходилось в последнюю минуту думать о том, чем бы заменить выброшенное, — комбинировать, выкручиваться, кроить из оставшихся обрезков.
Это была тяжелая и неблагодарная работа. Только энергия Некрасова, в периоды подобных затруднений вспыхивавшая с особой силой, позволяла «Современнику» выходить в свет. Приехавший из Саратова Чернышевский тоже сразу впал в сутолоку редакционной работы и на вопросы о поездке только досадливо отмахивался:
— Очень скучно было. Так скучно, что знал бы — ни за что не поехал бы. Герцен? Что ж, Герцен, конечно, очень умный человек, только отстал от жизни ужасно.
В яростной борьбе с цензурой, в хлопотах о своевременном выходе журнала, в постоянных и трудно осуществимых заботах о том, чтобы он, несмотря на все, сохранял свое направление, прошло почти незамеченным появление в «Колоколе» небольшой заметки с извинением. Таков был результат поездки Чернышевского.
«Нам бы чрезвычайно было больно, если бы ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек», — писал Герцен, уверяя дальше, что «мы не имеем в виду ни одного литератора, мы вовсе не знаем, кто писал статьи, против которых мы сочли себя вправе сказать несколько слов…»
Некрасов брезгливо бросил «Колокол», прочитав это «опровержение». Как мог Герцен дойти до этого? Сначала обвинять людей в том, что они подкуплены, а потом спокойно заявлять, что это была «ирония». Зачем он лгал, что не имел в виду никого лично, хотя совершенно явны были выпады именно против определенных лиц? Он отнес «Колокол» Чернышевскому и зорко наблюдал за его лицом, пока он читал заметку.
— Колоссальную глупость я сделал, что поехал, — сказал Чернышевский, отложив «Колокол».
— Как глупость? — возмутился Некрасов. — Ведь если вы не сумели заставить его переменить взгляды на существующее положение вещей, то все же это заявление снимает с нас позорное обвинение. Я не могу сказать, что вполне удовлетворен, но все же…
Но Чернышевский досадливо отмахнулся и не стал разговаривать на эту тему. Его интересовало сейчас совсем другое: ему передали, что государь сильно не расположен к литературе и что нужно ждать еще больших репрессий со стороны цензуры.
— Надо учиться писать так, чтобы те, кому надо, нас понимали, а те, кому не надо, ничего бы не поняли, — говорил он. — Это же преступление! Два номера подряд попадаться так, как мы попались. Вы знаете, что цензора Палаузова хотят отставить от цензурования «Современника»?
Некрасов ответил, что знает. Ему передавали, что министр просвещения Ковалевский поднял целую бурю по поводу напечатанных в журнале статей. Одна статья, вызвавшая гнев министра, принадлежала Добролюбову, вторую писал Иван Иванович Панаев.
— Да, Николай Гаврилович, жмут нас, — сказал он. — С двух сторон жмут: Герцен за то, что к начальству подлаживаемся, а начальство — черт его дери — не ценит нас с вами. Придется нам или совсем закрывать свое заведение, или перейти на выпуск журнала дамских мод.
— Что ж, дамские моды тоже необходимая вещь, — серьезно ответил Чернышевский. — Вот Ольга Сократовна говорила мне, что читательницы обижаются, зачем мы перестали парижские картинки печатать… Нет, закрываться нам, я полагаю, не нужно. Учиться нужно. Учиться работать во всяких условиях, извлекать уроки из всякого инцидента, помнить, что на то и щука в море, чтобы карась не дремал.
Он говорил весело и спокойно, как всегда. Казалось, нет ничего такого на свете, что может вывести его из равновесия, ввергнуть в панику, заставить сложить руки. Некрасов слушал его с завистью и восхищением. Нет, с такими помощниками не пропадешь, они не дадут утонуть, хотя бы ты сам захотел утопиться!
— Так значит не дремать? — засмеялся Некрасов прощаясь. — Щука-то уж больно зубаста, да и щурят кругом много — как бы не слопали?
— Подавятся! Обязательно подавятся, — убежденно ответил Чернышевский. — Не могут не подавиться — нас ведь много, одного заглотаешь — другие останутся.
Он проводил Некрасова до передней и сам закрыл за ним дверь. Некрасов постоял минутку на крыльце, блаженно улыбаясь своему удивленному кучеру. Нет, честное слово, приятно, хоть и непривычно это чувство! Чувство, что ты не один, а в стае. В стае хороших, смелых птиц, которые знают, куда летят, и у которых такой вожак, как Чернышевский. Правда, стайка пока невелика, но, кто знает, может уже расправляют крылья и догоняют их верные товарищи?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
I
В «Колоколе» появилось стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Это было событием. В русской печати его публиковать не позволили, и доселе оно ходило по рукам в списках. К стихотворению было прибавлено примечание от редакции:
«Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихи нет возможности не поместить».
Некрасов, разумеется, не посылал стихов Герцену и не знал, как они к нему попали. Может быть, через Тургенева? Он был очень взволнован и тронут, сразу же побежал к Чернышевскому и торжествующе развернул перед ним «Колокол».
— Я рад лишний раз убедиться, что Герцен стоит выше всяких личных и литературных дрязг, — сказал Чернышевский. — Он очень правильно поступил, напечатав это стихотворение. Жаль, что оно столько времени пролежало в бездействии. Вы обязаны больше писать, Николай Алексеевич! А вы в последнее время совсем ничего не пишете!
Чернышевский разгладил примявшуюся страницу «Колокола» и добавил улыбаясь:
— Видите, какая у вас возможность печататься, вопреки желаниям нашей цензуры.
— Это такая случайность, что ее совсем не приходится брать в расчет, — ответил Некрасов. — Это трибуна на один раз и потом не та, которая мне нужна. Я хочу писать для тысяч читателей, а скольким людям в России попадает в руки «Колокол»?
Он с оживлением начал излагать Чернышевскому план, недавно пришедший ему в голову. Он задумал издать серию книжек для народа, для крестьянина, для ремесленника, дешевых, доступных каждому, выпущенных большим тиражом.
— Я назвал бы их «красные книжки», пустил бы в продажу не дороже, чем по три копейки за штуку, и распространение поручил бы не книгопродавцам, а деревенским офеням. Такой офеня с иголками, нитками и прочим «красным» товаром забирается в самую глушь и имеет возможность продать книжку тому читателю, для которого она предназначена.
Он сразу точно и деловито подсчитал все расходы, связанные с изданием «красных книжек», — бумагу, печатанье, распространение. Расходы эти он намерен был взять на себя, заявив, что может позволить себе такую прихоть.
— Выпуская такие книжки, будешь знать, для кого пишешь, — сказал он. — А то сейчас черт его знает, кто тебя читает.
Он просидел у Чернышевского до вечера, обдумывая вместе с ним, как бы скорей и лучше осуществить этот план. Главное затруднение представляла, конечно, цензура, крайне неблагосклонная к Некрасову. Вот уже четвертый год не разрешала она ему переиздать книжку его стихов. Книжка ходила из одной инстанции в другую, ее читали, изучали, рассматривали чуть ли не в микроскоп, но печатать все не позволяли. Некрасов старался не думать о ней — так обидно ему было видеть, что десятки поэтов печатали свои книги, а он мог только изредка после бесконечных придирок и поправок помещать стихи в «Современнике». Но для «красных книжек» он надеялся придумать какой-нибудь способ обойти цензуру.
Веселый и добрый, вернулся он от Чернышевского и уселся за письменный стол. Он вытащил из ящика свои записные книжки, старые черновики, наброски стихов, планы будущих больших произведений. Он придирчиво рассматривал каждую бумажку, — нет, для «красных книжек» все это не годилось! Надо было написать что-то совсем другое, написать от всего сердца, открыто и горячо поговорить с новым своим читателем.
Эх, если бы можно было выпустить эти книжки без цензуры, — он бы знал, что нужно в них рассказать!
Он снова начал рыться в ящике и в дальнем углу нашел старые письма Чернышевского. Он получал их еще за границей, и в них, помнится, были отзывы на первую книгу его стихов.
Он развернул пожелтевшие листки и сразу же наткнулся на памятные ему строчки:
«…По моему мнению, Вы сделаете гораздо больше, нежели сделали до сих пор, — Ваши силы еще только развиваются. Вы — как поэт — человек еще молодой. Что выйдет из Вас со временем, я не могу сказать, хотя имею основания предполагать разные приятные вещи…»
Некрасов подумал, что за прошедшие после этого письма годы он ничем особенным не оправдал предсказаний Чернышевского. Удивительно пустыми, бесплодными были они, особенно последний год, в течение которого, кроме шуточных безделок для «Свистка», ничего не написалось. Правда, образы, рифмы, звуки все время бродили в голове, но он сам не давал им воли, содрогаясь от мысли, что о каждой строчке придется беседовать в цензуре. Видеть прикосновение цензорских пальцев к собственным стихам всегда гораздо мучительней, чем объясняться по поводу чужих произведений.
Так что же написать для первой «красной книжки»? Вспомнились лубочные книжки, которые он видел на деревенских базарах и ярмарках, — все это было совсем не то, что нужно. А ведь этот мусор представляет собой единственную литературную пищу, какой господа издатели кормят мужика! Гоголя нужно посылать в деревню, Белинского, Пушкина, Тургенева. Кто сказал, что мужик не поймет их? Великолепно поймет. Некрасова поймет, но сам-то Некрасов палец о палец не ударил для того, чтобы начали его читать в мужицкой избе.
Он вдруг рассердился на себя, бросил в ящик стола все вытащенные из него бумаги и взялся за первую подвернувшуюся под руку книгу. Но читать не стал, вспомнив, что завтра предстоит тяжелый день — первое публичное чтение на вечере в пользу Литературного фонда. Читать он должен был «Блажен незлобивый поэт» и «Еду ли ночью по улице темной».
«Мрачно, пожалуй? — подумал он, — Ну и пусть мрачно. Чувствительные там и без меня найдутся!»
Он зевнул, посмотрел на часы и пошел спать. В пустой темной спальне было холодно и неуютно. Василий даже постель не приготовил. Некрасов поморщился, хотел пойти разбудить его, но потом сорвал с кровати покрывало, бросил его в угол и забрался под одеяло.
II
Первое публичное чтение в пользу Литературного фонда было настоящим событием. Оно проводилось в зале «Пассажа», на нем должны были выступить самые известные писатели — приехавший из-за границы Тургенев, Некрасов, Майков, Полонский, Бенедиктов. И не только литераторы, а вся просвещенная часть петербургского общества ждала с нетерпением этого вечера.
Литературный фонд — иначе «Общество пособия нуждающимся литераторам и ученым» — организовался совсем недавно. Руководителями его были известные и почтенные люди: брат министра просвещения Ковалевский, издатель «Отечественных записок» Краевский, известный ученый публицист Кавелин и не менее известный литератор Дружинин. Литераторы с большим сочувствием встретили мысль о создании такого общества и считали себя обязанными всеми силами помогать ему.
Некрасов приехал в «Пассаж» довольно рано, прошел в комнатку позади сцены и начал искать глазами Тургенева. Его еще не было, в комнате суетились взволнованные, захлопотавшиеся устроители. Бенедиктов быстро шагал из угла в угол, да у окна, съежившись, как от холода, сидел бледный, изможденный Полонский. Он сегодня первый раз после тяжелой, долгой болезни вышел из дома, оставив жену у кровати умирающего сынишки. Он сидел никого не замечая, погруженный в печальные мысли.
Некрасов хотел пойти в зал, но в дверях, окруженный толпой поклонников и поклонниц, появился Тургенев. В комнате сразу стало тесно, шумно и оживленно; кто-то торопливо начал зажигать бра на стенах, кто-то кричал, что на сцену забыли поставить графин с водой, кто-то, брякая зажатым в кулак колокольчиком, спрашивал Тургенева, можно ли уже начинать.
Мощная фигура Тургенева возвышалась над суетящейся вокруг него толпой. Его седая красивая голова казалась сегодня особенно белоснежной; он был серьезен и действительно выглядел учителем, «мэтром» среди окружавших. Увидав Некрасова, он дружелюбно протянул ему руку и, оттеснив своих спутников, подошел вместе с ним к Полонскому. Полонский безучастно выслушал высказанное им сочувствие и поблагодарил Тургенева за то, что тот вступил ему свое место в программе вечера: Тургенев должен был читать первым.
— Мне, действительно, очень нужно скорей вернуться домой, — сказал он, растерянно озираясь по сторонам. — Нельзя ли уже начать?
Зазвенел колокольчик; публика, давно занявшая места, начала аплодировать, и Полонский быстро пошел на сцену.
— Не везет ему, бедняге, — сказал Тургенев. — Странно, по людям с нежной чувствительной душой судьба, как назло, посылает особенно много испытаний. Черствые и сухие люди не встречают на своем жизненном пути столько ударов. Судьба бережет их, зная, что она не получит злорадного удовлетворения, насылая на них несчастья, — они перенесут эти несчастья с циническим спокойствием.
— Может быть, тот, кого ты называешь черствым, страдает не меньше, — глухо сказал Некрасов. — Только предпочитает молчать о своих переживаниях.
Он отошел к двери, ведущей на сцену, и прислушался к голосу Полонского. Он читал стихотворение «Иная зима»; читал медленно, тусклым, безучастным голосом:
…Но та зима ушла от нас с улыбкой мая, И летний жар простыл — и вот, заслыша вой Осенней бури, к нам идет зима иная, Зима бездушная — и уж грозит клюкой.Когда он кончил, ему много аплодировали, и он как будто ободрился, чуть-чуть выпрямился, и тень улыбки мелькнула на его лице. Но читать больше не стал и торопливо направился к выходу. Некрасов вышел вслед за ним и через боковую дверь попал в зал. Там, после минутной тишины, снова раздались шумные аплодисменты. В последних рядах вскакивали с мест, хлопали, кричали; первые ряды вели себя немногим спокойней и тоже аплодировали, не жалея рук и перчаток, — зал встречал кого-то овацией. Некрасов, отойдя от двери, взглянул на сцену, — там стоял и, улыбаясь, раскланивался с публикой Тургенев.
— Милостивые государыни и милостивые государи! — начал он, когда аплодисменты утихли. — Первое издание трагедии Шекспира «Гамлет» и первая часть сервантесовского «Дон-Кихота» явились в один и тот же год, в самом начале XVII столетия. Эта случайность показалась нам знаменательной; сближение двух названных нами произведений навело нас на целый ряд мыслей. Мы просим позволения поделиться с вами этими мыслями и заранее рассчитываем на вашу снисходительность…
Некрасов оглядел зал. В глубокой, благоговейной тишине, боясь кашлянуть или пошевелиться, сидела публика. Глаза всех с одинаковым восхищением, не отрываясь, смотрели на сцену; кое-кто приложил рупором руки к ушам, стараясь услышать каждое слово; у многих от напряженного внимания полуоткрылись рты и лица приобрели бессмысленное выражение.
Сколько знакомых было здесь! Вон, рядом с Ольгой Сократовной Чернышевской, разодетой в ослепительный наряд, сидит Добролюбов, серьезный и строгий, со скептической складочкой около крепко сжатого рта. Он слушает очень внимательно и не замечает, что головка его соседки придвинулась к нему очень и очень близко. Вон Иван Иванович Панаев сидит, откинувшись на спинку кресла, и глубокомысленно смотрит куда-то вверх. Вон Авдотья Яковлевна, вся в черном, эффектная и красивая, но что-то очень грустная и бледная. Из всей публики, пожалуй, одна она не слушает и думает о чем-то своем.
Знакомые лица литераторов мелькали в каждом ряду: вон маленький, вертлявый Щербина, известный всему Петербургу своими желчными эпиграммами; вон Дружинин, тихонько поглаживающий свои великолепные усы; вон, похожий на министра, сухой, подтянутый Краевский, вон редеющая шевелюра Григоровича; вон Майков, который тоже выступает сегодня.
В первых рядах сидели «меценаты». Некрасов узнал жену придворного архитектора Штакеншнейдера и рядом с ней ее миловидную, горбатенькую дочь Елену. У Штакеншнейдеров, в их роскошном доме на Миллионной, был литературный «салон», который посещали очень многие литераторы. Рядом с мадам Штакеншнейдер сидел Бенедиктов — ее любимый поэт и личный друг.
В зале было жарко, ярко горели настенные бра и люстры, дамы тихонько обмахивались веерами, пахло духами и еще будто бы ладаном, точно в церкви. Яркие огни, духота, тишина — все это напомнило Некрасову заутреню; казалось, вот-вот выйдет могучий протодьякон и провозгласит что-нибудь рыкающим басом, а вслед за ним запоет детский или девичий хор ликующее «Христос воскресе». Но вместо хора зал заполнял голос Тургенева.
«Что за странная мысль выйти на сегодняшний вечер со статьей? — думал Некрасов. — Его слушают так почтительно, потому что он — Тургенев. Если бы это читал кто-нибудь другой, публика давно начала бы чихать и кашлять…»
Он недружелюбно посмотрел на Тургенева и вышел из зала, довольно громко шаркая подметками. Все последние дни он не мог без чувства обиды думать о Тургеневе. Тургенев на деле показал, что не желает ничего общего иметь с «Современником»: новый свой роман, который публика ждала с таким нетерпением, он отказался дать «Современнику». Некрасов до сих пор не мог простить ему этого! Как он просил его, какие блестящие условия предлагал ему за эту вещь, — все оказалось напрасным!
Некрасов еще не читал этого романа, но кое-кто уже говорил ему, что «Накануне» вызовет разноречивые мнения. Это было слабым утешением. Да, еще год назад «Современник» открывал свой первый номер «Дворянским гнездом», а теперь «Накануне» украшает первую книжку «Русского Вестника»!
Некрасов прошелся по пустому фойе, выпил в буфете бокал фруктовой воды и, закурив сигару, опустился в кресло. Пробегавший мимо на цыпочках юноша с распорядительским бантом остановился и посмотрел на него с удивлением.
— Вам нехорошо, Николай Алексеевич? — спросил он встревоженным шепотком. — Вы не заболели? Сейчас ваш выход.
— Не беспокойтесь, — хрипло ответил ему Некрасов. — Я совершенно здоров, просто в зале слишком жарко.
Юноша, беззвучно скользя но паркету, побежал дальше, а Некрасов, услышав, что в зале снова начались крики и аплодисменты, пошел в комнату за сценой…
На эстраду он вышел сгорбившись и опустив голову. Аплодисменты вспыхнули и стихли, легкий шорох пробежал по рядам, точно люди усаживались поудобней, приготовляясь слушать долго и внимательно. Некрасов пробежал взглядом по рядам, но лица, как белые пятна, мелькали, не запоминаясь. Вон, кажется, улыбнулся ему ободряюще Добролюбов, вон Щербина зашептал что-то на ухо сидящему перед ним человеку… А зачем явился сюда вон тот, точно отекший от водянки толстяк? Он явно собирается спать, он, вероятно, и раньше спал, — такие сонные, опухшие у него глаза.
Почему-то именно на толстяке остановился взгляд и к нему, выбранному из всей публики, полетели первые слова:
Еду ли ночью по улице темной, Бури ль заслушаюсь в пасмурный день…Голос поэта звучал глухо, напряженно, точно какая-то тяжесть лежала на груди его и мешала читать. Шорох в зале давно прекратился. Люди сидели, точно завороженные этим голосом, горькими словами, угрюмой картиной, нарисованной поэтом. Люди забыли, где они, забыли о своих соседях, обо всем, что слышали только что. Некрасов почувствовал это, и страшная связанность, которую он ощущал в момент выхода, исчезла…
Вечер прошел с большим успехом. Всех выступавших встречали и провожали рукоплесканиями и криками «браво». В конце чтения торжественно было объявлено, что государь прислал Литературному фонду тысячу рублей и просил передать, что это его ежегодный взнос. Словом, все казалось необычным и праздничным; настроение у присутствующих в зале было приподнятое, и публика, отхлопав себе ладони, разошлась довольная и взволнованная.
Когда Некрасов натягивал шубу, к нему подбежал запыхавшийся Добролюбов и, схватив его за рукав, зашептал умоляюще:
— Николай Алексеевич, милый, прекрасный, прошу вас, проводите домой Ольгу Сократовну. Мне нужно поехать в один дом. Ну что вы улыбаетесь? — в семейный, почтенный дом, где я обещал быть. Там есть девушка… я вам потом расскажу. Так проводите? А мне дайте вашу лошадь — я ужасно опоздал…
— Ветрогон вы и изменник, — с шутливой укоризной сказал Некрасов. — Сваливаете на друзей своих дам. Ну, где она, ваша бывшая пассия? Провожу ее, из уважения не к вам, а к Николаю Гавриловичу.
Он разыскал Ольгу Сократовну, сказал ей, что Добролюбову нужно немедленно ехать работать, и предложил себя в провожатые.
Из Пассажа они вышли втроем. К ним присоединился внезапно оказавшийся в одиночестве Тургенев. Они галантно поддерживали под руки даму, которая весело и оживленно болтала, поворачивая то к одному, то к другому красивую головку в белой меховой шапочке.
Некрасов почти не вслушивался в ее слова. Сталкиваясь с Ольгой Сократовной, он всегда старался разгадать — что связывает Чернышевского с этой женщиной? Легкомысленная, чуждая всему, что близко и дорого ее мужу, — чем могла она привязать его? И ведь он ее, действительно, любит, верен ей, предан, не смотрит ни на одну женщину, волнуется, если она чихнет или заболеет флюсом. Как мог Чернышевский, такой проницательный, видящий людей насквозь, не замечать недостатков своей подруги?
А может быть, он их прекрасно видит? Может быть, страдает от них, но в силу раз принятого на себя обязательства считает, что не имеет права даже намеком показать, что не все ему нравится? Некрасов вспомнил рассуждения Чернышевского о бесправии женщин в современном обществе: «Женщин у нас так долго и так сильно угнетали, что для равновесия было бы справедливо не просто уравнять их с мужчинами, а даже, если хотите, дать им больше свобод. Перегнуть, так сказать, палку в другую сторону». Может быть, это он проводит на практике свои теоретические соображения?
Некрасов искоса посмотрел на Ольгу Сократовну.
«Ну, уж ты-то, матушка, — подумал он недоброжелательно, — совсем не подходящий объект для подобных опытов. Пользуешься «свободами» вовсю…»
Ольга Сократовна с увлечением рассказывала, в какую неожиданную историю попала она на последнем катанье:
— Понимаете, дело было к вечеру, — быстро-быстро говорила она. — Я каталась за городом, одна, уже домой возвращалась. Вечер был такой славный, небо красное, а снег синий-синий и под полозьями пищит, — так, знаете, — взз-зз-ззы. Ехала я быстро, — я обожаю быструю езду, — вдруг слышу: кто-то меня догоняет. Оглянулась — маленькие санки об одну лошадь; лошадь белая, а в санях — офицер, и воротник у шинели поднят. «Ах ты, думаю, негодяй какой, обогнать меня хочет! Не бывать этому». Кричу кучеру: «Гони!» Он погнал. А офицер — тоже ходу прибавил. Мы еще быстрей, а он не отстает. Мы мчимся, как угорелые, ветер с меня шляпку срывает, а он все ближе да ближе. Вижу, у меня над плечом уже пар от его лошади вьется, вот-вот в спину меня лошадиная морда ткнет. Я разозлилась, вскочила в санях, выхватила у своего рохли-кучера вожжи и — ну погонять! Гоню, кричу, кнут выхватила, а он, офицеришка-то, обгоняет меня! Задел полозом мои сани — чуть в снег не вывалил. Ух, как я, обозлилась! Чуть с ума не сошла, кнут изломала, а обогнала-таки его. Обгоняю, а сама гляжу на него с торжеством. Батюшки! Да это сам великий князь! Давай я от его санок удирать… И, что вы думаете? Всю дорогу он по моим пятам ехал, только в городе отвязался!
Ольга Сократовна весело расхохоталась и добавила с гордостью:
— Говорят, он потом узнавал, кто это его обогнал, и сказал: «А она хорошенькая и ездит лихо и лошадь у ней прекрасная». А уж какая хорошенькая… шляпку-то ведь я потеряла, волосы растрепаны, лицо от мороза красное…
Тургенев, снисходительно улыбаясь, осведомился, как смотрит на подобные приключения супруг Ольги Сократовны. Не сердится за такую лихость?
— Николя? — удивилась она. — Что вы, он на меня никогда не сердится. Он только радуется, когда мне весело.
Они остановились у подъезда Чернышевских, и Ольга Сократовна пригласила их к себе.
— Зайдем, Тургенев? — лукаво спросил Некрасов.
— Что ты, что ты! — замахал тот руками. — Ты же знаешь, я никуда вечером не хожу, уже поздно, время визитов кончилось…
Он растерянно-умоляюще смотрел на Некрасова. Действительно, только того недоставало — идти в гости к «семинаристу», да еще после полуночи. Достаточно, что его супругу проводили, хотя, надо признаться, она прехорошенькая особа.
Они распрощались с Ольгой Сократовной, и она, помахав им ручкой, исчезла за дверью.
— Пойдем, теперь я тебя провожу, — сказал Некрасов, взяв Тургенева под руку. — Мне спать еще что-то не хочется.
Снег скрипел у них под ногами; редкие легкие снежинки блестели, падая около фонарей; высоко над крышами домов светили мелкие звезды.
Но прогулка вдвоем не получилась. Тургенев торопился домой, взял извозчика и всю дорогу зябко кутался в шубу. На вопросы Некрасова он отвечал жестами, показывая, что не хочет раскрывать рот на улице. И только около дома, выбравшись из саней, он сказал, закрывая рот рукой.
— Я рассчитываю на положительную критику в твоем журнале… Не дашь меня на растерзание семинаристам за то, что я напечатался в «Вестнике»? Прощай, милый, и перестань сердиться; всему виной эта несчастная моя бесхарактерность. Они пристали — отдай да отдай, я и не мог отвязаться.
III
Ему самому было смешно: в тоске об утраченной дружбе с Тургеневым взял и написал стихотворение. Да какое! Его вполне можно было бы посвятить женщине. В нем было все: и море, и звезды, и туча туманная, и намеки на возможность самоубийства. Он спрятал его подальше в стол вместе с восьмистишием, тоже написанным в минуту ночной тоски и одиночества:
Что ты, сердце мое, расходилося? Постыдись! Уж про нас не впервой Снежным комом прошла-прокатилася Клевета по Руси по родной. Не тужи! Пусть растет, прибавляется. Не тужи! Как умрем — Кто-нибудь и об нас проболтается Добрым словцом.«Доброе словцо» после смерти — довольно слабое утешение. Он был бы очень рад услышать его сейчас, но никто не хотел им обмолвиться. «Добрая слава лежит, а дурная бежит», — эту народную мудрость он великолепно чувствовал на собственном опыте.
Сейчас его волновал один щепетильный вопрос: как отнесется Добролюбов к новому роману Тургенева? Добролюбов прочитал роман и заявил, что будет писать о нем статью. Какую? Об этом он молчал и только улыбался, когда Некрасов пытался узнать его мнение. Некрасов нервничал и сердился, стараясь, впрочем, чтобы Добролюбов этого не заметил.
А тут еще, как назло, Тургенев не уезжал из Петербурга и уже несколько раз справлялся о статье.
— Надеюсь, ты мне ее покажешь, прежде чем будешь печатать? — говорил он. — Я, как старый и постоянный сотрудник журнала, имею право на эту небольшую привилегию.
Некрасов обещал показать.
И вот, наконец, статья была готова и лежала перед ним на столе. Добролюбов сам привез ее, но Некрасов не стал читать при нем и с нетерпением ждал, когда он уйдет. Он с деланным равнодушием отложил ее в сторону: она была уже набрана и, если судить по гранкам, не отличалась лаконичностью.
— Второй экземпляр корректуры уже у цензора, — сказал Добролюбов. — Он обещал прочесть завтра к утру.
Некрасов с безразличным видом кивнул головой и разыскал в пачке корректур роман Станицкого, тоже предназначающийся для третьего номера.
— Позови-ка Авдотью Яковлевну, — сказал он Василию. — Скажи, что я прошу прийти сюда поработать, корректуры принесли.
— А мою статью после будете читать? — спросил Добролюбов.
— После, — коротко ответил Некрасов, не поднимая глаз от корректуры.
— Тогда я не буду ждать, — сказал Добролюбов вставая, — а зайду к вам вечером.
Некрасов промолчал. Он нетерпеливо постукивал пальцами по столу, и Добролюбов, не понимая его волнения, нехотя вышел из комнаты. Некрасов, подняв голову, прислушался к его шагам, потом запер дверь на ключ и начал торопливо рыться в гранках. Вот она, статья о «Накануне»! Боже мой! Какой многозначительный заголовок: «Когда же придет настоящий день?» И эпиграф из Гейне: «Бей в барабан и не бойся…» Кто же это должен бить в барабан? Не Тургенев ли? Какой невероятный совет!
Он придвинул к себе корректуру, лег грудью на стол и начал читать. Руки нервно щипали бороду, лицо покраснело, в горле пересохло. Не глядя, он налил воды из графина, — вода перелилась через край стакана и облила рукописи и корректуры.
Он читал быстро, задерживаясь на некоторых строчках, перечитывая их по нескольку раз и вдумываясь в их скрытый смысл. Что это? Что это? Ведь это же совсем нельзя печатать! Разве можно так писать о Тургеневе! Он с ума сошел…. Видно, забыл, с кем имеет дело…
В дверь постучали, потом задергали ручкой, нетерпеливо, требовательно.
— Кто там? — спросил он. — Я занят.
— Откройте. Это я. — Это был голос Панаевой. Она не переставала дергать за ручку, думая, очевидно, что дверь просто слишком плотно захлопнулась.
— Я занят, — повторил раздраженно Некрасов.
— Но вы же сами за мной присылали.
Он оторвался от статьи и с ненавистью посмотрел на дверь. Ну что ей нужно? Он вовсе не звал ее. Ах, да, ее роман… Он сгреб со стола всю груду мокрых, залитых водой гранок, и, открыв дверь, сунул их ей в руки.
— Вот. Тут и ваш. Посмотрите, — пробормотал он, потянув к себе дверь.
— Для этого не нужно было меня звать. Вы могли прислать гранки с Василием, — сказала она раздраженно.
Но Некрасов не слышал, — он быстро закрыл дверь и снова запер ее на ключ…
Кончив читать, он долго сидел за столом, уставив глаза в одну точку. Да, напечатав эту статью, он навсегда потеряет расположение Тургенева! Мало того, он наживет в его лице жестокого врага. При неизменной благожелательности тона, статья содержала в себе ряд высказываний, которые должны были привести в ярость Тургенева. Особенно сейчас, когда неприязнь его к «семинаристам» накалена до последней степени.
Разве снесет Тургенев любезные добролюбовскому сердцу, но не свойственные ему, Тургеневу, утверждения, что герои прошлых его произведений уже сделали свое дело и не вызовут сейчас симпатии русского общества? Или прозрачные намеки на то, что Тургенев не способен изображать широкие общественные настроения? Или заявление, что образ центрального героя — Инсарова — не вполне удался?
И он обещал Тургеневу показать эту статью! Некрасов даже вздрогнул, представив себе, в какое негодование придет Тургенев. Ясно, он будет требовать, чтобы ее не печатали. Ясно, что он поднимет целую кампанию и против статьи, и против Добролюбова, и против «Современника». Ясно также, что на его стороне окажутся очень и очень многие.
Но все равно — показать эту статью ему придется, а там видно будет, что делать дальше. Стараясь не думать о том, что произойдет через час, он положил гранки в большой конверт и, не приписав ни строчки, отослал их с Василием на квартиру к Тургеневу.
— Скажи, чтобы читал сейчас, что ты подождешь ответа, — сказал он Василию. — Да возвращайся прямо домой — я буду дожидаться.
Отослав Василия, он через минуту готов был вернуть его. Он подумал, что лучше было бы сначала поговорить с Добролюбовым, смягчить наиболее резкие места, выправить, пригладить эту колючую статью. В таком виде ее, конечно, не удастся печатать, так зачем же понапрасну волновать Тургенева? Но было поздно — Василий ушел. Некрасов подумал было, что можно еще самому пойти сейчас к Тургеневу, потом махнул рукой и лег на диван.
Василий вернулся через два часа. Он принес обратно корректуру и маленькую записочку от Тургенева.
«Убедительно тебя прошу, милый Н., не печатать этой статьи: она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка, — я не буду знать, куда бежать, если она напечатается. Пожалуйста, уважь мою просьбу. Я зайду к тебе. Твой И. Т.»
Некрасов посмотрел корректуру — в ней не было ни одной пометки. Значит, вопрос шел не о частных исправлениях, а о всей статье целиком. Будь он неладен, этот Добролюбов, — заварил кашу, теперь не расхлебать!
Каша, действительно, заварилась крутая. Вечером прибежал взволнованный и злой Добролюбов и заявил, что цензор не желает пропускать статьи, что он уже вымарал чуть ли не половину и требует дальнейших поправок.
— Он говорит, что статья эта обратит внимание на «бесподобного», как он выражается, Ивана Сергеевича, на самого цензора, на меня и на вас. Ничтожество! Трус и подхалим!
Добролюбов бегал по комнате, задевая столы и стулья, ругался, проклинал цензуру, Тургенева, себя за то, что взялся писать эту статью.
— А вы-то, вы — что скажете, Николай Алексеевич? — сказал он внезапно, остановившись перед Некрасовым. — Будете воевать с цензурой за статью или нет?
— За тот текст, что вы мне дали, не буду, — сухо ответил Некрасов.
— Почему это? — оторопело спросил Добролюбов.
— Потому что о Тургеневе так писать нельзя. Потому что это лучший, талантливейший наш писатель, и с этим нужно считаться.
— Талантливость Тургенева я, кажется, никогда не отрицал и в этой статье тоже не отрицаю.
— Еще бы вы попробовали это делать! Да мы с вами гордиться должны, что живем в одну эпоху с ним! Я глубоко убежден, что «Накануне» будут читать и тогда, когда наши имена ни один человек помнить не будет.
Некрасов придвинул к себе гранки, показывая, что разговор закончен. У него было очень нехорошо на душе — Добролюбов еще не знал, что Тургенев читал статью и, конечно, был бы оскорблен этой дополнительной цензурой. Сказать ему? Но это вызовет новый взрыв возмущенья, а спорить и вообще разговаривать у Некрасова совсем не было сил.
Он украдкой посмотрел на Добролюбова, — тот стоял внешне спокойный, нахмуренный, с крепко стиснутыми губами. Скептическая гримаса застыла на его лице. Он молчал и смотрел в пространство. Потом внезапно, точно решив что-то про себя, молча кивнул головой и вышел.
«Ну, началось! — с тоской подумал Некрасов. — Теперь пойдут дела».
Несколько дней Некрасов жил как на вулкане. Все дела были брошены, все неприятности забыты для одной, главной, всепоглощающей заботы. Статья правилась, резалась, смягчалась сразу в восемь рук. Над ней работал и Некрасов, и цензор, и Чернышевский, и сам Добролюбов, несколько успокоившийся и примирившийся с необходимостью поправок.
В кабинет Некрасова то и дело являлись посетители с разговорами по поводу статьи. Приходил цензор, утверждавший, что статья в таком виде не только оскорбительна для Тургенева, но и нетерпима с точки зрения охраны государственного строя.
— Помилуйте, — с ужасом говорил цензор. — Это же не статья, а прокламация, призыв к революции. Что это за «настоящий день», которого так жаждет господин Добролюбов? Этот заголовок я ни в коем случае не могу пропустить.
Приходил Панаев и рассказывал, с каким возмущением обсуждается в литературных кругах возможность помещения в «Современнике» «ругательной» статьи о Тургеневе.
— Анненков кричал на весь театр, что мы проявляем черную неблагодарность, позволяя, как он выразился, этому «нахальному и ехидному мальчишке» писать ругательства на Тургенева.
Прибегали сотрудники других редакций, пытаясь узнать, что это за статья, по поводу которой поднялся такой шум. Все бурлило, как в кипящем котле, и Некрасов совсем замучился, стараясь найти какой-нибудь выход.
Он переделал статью и снова послал ее Тургеневу. Ответ был краток: «Выбирай — я или Добролюбов». Тогда он заикнулся о возможности совсем не печатать рецензии о «Накануне» — и Добролюбов немедленно заявил, что уходит из журнала. Нужно было, действительно, выбирать, а сделать это оказалось совсем не так просто.
После долгих и жестоких сомнений Некрасов решил печатать статью. Теперь вопрос несколько упростился — нужно было только приспособить ее к требованиям цензуры. За эту работу взялся сам Добролюбов, — он почти наново переписал первую половину статьи, обдумывал каждое слово, каждое выражение, стараясь сохранить основную мысль, но сказать ее так, чтобы к словам трудно было придраться. Основная мысль была проста: время «прекраснодушных» Лаврецких и Рудиных кончилось; возвышенные рассуждения об отвлеченном «добре» и «зле» никого больше не удивляют и не восхищают; приблизился новый день — день действия и борьбы. Пришла пора новых героев, пока еще слабо очерченных в художественных произведениях, героев, прообразом которых является тургеневский Инсаров, человек с решением «освободить свою родину».
Было трудно сказать это так, чтобы каждый понял, в чем дело, а цензура не поняла бы. После долгих и мучительных операций статья, сильно обесцвеченная и приглаженная, была, наконец, подписана к печати.
— Я сегодня напьюсь как сапожник, — мрачно заявил Некрасов, когда все было кончено. — Я сегодня, друзья мои, потерял самого дорогого и близкого для меня человека.
— Вы потеряли его не сегодня, — сказал Добролюбов. — Он давно перестал быть вам близким, и вся эта история — лучшее тому доказательство. А напиться, действительно, не вредно после такой пертурбации.
— Напиться всегда вредно, — возразил Чернышевский. — А уж по такому поводу и совсем не стоит. Пойдемте лучше гулять, дорогие мои Николаи. Вы оба с честью прошли через очень серьезное испытание. Но, уверяю вас, таких испытаний будет еще очень много. И если вы начнете каждое заливать алкоголем, то, я боюсь, вы совершенно сопьетесь.
IV
Они очень подружились после этой истории. Пережитая вместе буря заставила ближе узнать друг друга. Некрасов долго не мог перебороть скрытого ощущения виноватости за тот короткий момент, когда он готов был уступить требованиям Тургенева, и все приглядывался к Добролюбову, стараясь угадать — наложили ли на него отпечаток минувшие события? Но Добролюбов говорил с ним с такой неизменной симпатией и искренностью, что чувство вины само собой отпало.
Они теперь встречались ежедневно, даже тогда, когда работа этого не требовала, когда, казалось, не было никакого повода для встречи. Если Добролюбов почему-нибудь долго не приходил, Некрасов, прождав все утро, отправлялся его разыскивать. Он шел к нему на квартиру и вместе с дядей Добролюбова, Василием Ивановичем, — деятельным, шустрым старичком, приехавшим «управлять хозяйством» племянника, — начинал гадать, куда мог уйти «Николаша» и скоро ли он вернется домой. Когда «Николаша», наконец, появлялся, Некрасов тащил его к себе и, завладев им, не отпускал его до вечера.
Они вместе работали, вместе сочиняли стихи для «Свистка», вместе воевали с цензурой, продолжавшей проявлять особое внимание к «Современнику». Некрасов нашел в Добролюбове неутомимого и изобретательного помощника в борьбе с цензурными притеснениями. Там, где у него самого не хватало больше терпения спорить, просить и уговаривать, Добролюбов умел выцарапать нужное ему решение. Он делал вид, что соглашается с цензором, и так «исправлял» статью, что основная мысль бывала сохранена, но только высказана в совсем другой форме.
Некрасов был совершенно влюблен в Добролюбова.
— Эта такая светлая личность, — говорил он Панаевой, — что мы все должны краснеть перед ним за свои слабости. Вот увидите, Тургенев еще устыдится, что так отзывался о нем, поймет, какой честный, смелый и умный это человек.
— Никогда ваш Тургенев этого не поймет, — раздраженно отвечала Авдотья Яковлевна, — хорошо хоть вы поняли, а то готовы были променять Добролюбова на Тургенева.
— Никогда не собирался этого делать, — с возмущением говорил Некрасов. — Вы это знаете лучше, чем кто-нибудь другой.
— Нет, не знаю. А знаю, как вы посылали добролюбовскую статью на цензуру к Тургеневу. Вы уже успели забыть об этом?
Подобные разговоры повторялись довольно часто. Авдотья Яковлевна ревновала Некрасова. Ей казалось, что после размолвки с Тургеневым он будет искать утешения в ее обществе, но вышло не так, — Некрасов нашел себе нового друга, и она опять осталась одна. К Добролюбову она относилась не хуже, чем Некрасов, но ей хотелось, чтобы они больше нуждались в ней, чем друг в друге. Этого не случилось, и ей пришлось перенести свою любовь и жажду домашней, чисто женской деятельности на маленьких братьев Добролюбова.
Но это не могло заполнить ее жизнь. Она опять начала писать и часто целый день не выходила из своей комнаты. Она уже не пыталась больше оживить угасшую любовь Некрасова. Иногда ей казалось, что она состарилась на десять лет, что ее женская жизнь кончилась, и ей остались только работа и суровое одиночество.
Но думая так, она не могла примириться с подобной участью. Поэтому она все чаще и чаще старалась чем-нибудь отомстить Некрасову, которого считала единственным виновником своего несчастья, и ссоры между ними вспыхивали постоянно: и в столовой за многолюдным обедом, и в редакции, и в его кабинете.
— Она становится прямо невыносима, — жаловался Некрасов Добролюбову. — Ну что она меня точит изо дня в день?
Семейные неурядицы гнали его из дома, он с удовольствием уехал бы куда-нибудь, но надо было сидеть в Петербурге и работать в журнале. Он старался поменьше бывать у себя на квартире, — часто по вечерам уходил к Чернышевскому или, забрав Добролюбова, отправлялся гулять по городу. Они ходили пешком, забираясь на окраины города, в глухие улочки, населенные беднотой, или на Васильевский остров, где жили студенты. На Васильевском острове у Добролюбова было много знакомых, и иногда у ворот какого-нибудь дома он вдруг вспоминал, что давно собирался зайти сюда навестить земляка, и исчезал, оставив Некрасова одного. Некрасов садился в коляску, которая шагом ехала вслед за ними, и возвращался домой, досадуя и вместе с тем завидуя, что у Добролюбова везде и всюду друзья.
Но скоро этим прогулкам пришел конец. Добролюбов заболел и как ни старался сделать вид, что ничего особенного с ним не происходит, не мог обмануть ни себя, ни окружающих. Весна точно съедала его. Жестокий кашель, лихорадка, непреодолимая слабость по утрам не оставляли его ни на день. Он худел на глазах, и сюртук болтался на нем, как на вешалке, щеки его ввалились, лицо сделалось серым; он быстро уставал и вынужден был во время прогулок часто присаживаться где-нибудь на скамеечке.
Никому не хотелось поварить, что болезнь его действительно серьезна. Некрасов уговаривал себя, что Добролюбов просто переутомился за зиму. Он ревниво следил за тем, чтобы Добролюбов вовремя ел, вовремя ложился спать и не отлынивал от ежедневных прогулок. Но весеннее солнце действовало на Добролюбова расслабляюще, он еще больше бледнел, холодный пот каплями выступал на его широком лбу; он уверял, что не в состоянии дальше двигаться, и, вернувшись домой, долго не мог прийти в себя.
Несколько раз болезнь его обострялась. Он не вставал с постели, и навещавший его доктор требовал, чтобы он немедленно ехал лечиться за границу, на теплые воды. В эти дни у постели Добролюбова, сменяя друг друга, сидели Чернышевский, Некрасов, Авдотья Яковлевна. Тихо бродили по комнатам растерявшиеся Володя и Ваня, на них поминутно шикал дядюшка Василий Иванович. Василий Иванович сам был растерян не меньше, чем мальчики, и всякий раз, провожая Некрасова, спрашивал, утирая слезящиеся глаза:
— Что же будет, Николай Алексеевич? Что же будет? Ведь помрет Николаша-то, не встанет, кашель его совсем одолел, сил нет слушать, как бьет его по ночам.
— Бросьте вы каркать, Василий Иванович, — раздражался Некрасов. — Помрет, помрет… Не помрет он, поедет за границу, поживет там год — другой, и выздоровеет.
— Да ведь капиталов нет за границей-то жить. Еле-еле из долгов выпутываемся, а расходов кругом не оберемся: мальчиков учить, сестер замуж выдавать, — где же здесь на теплые воды ехать?
— Деньги у Николая Александровича есть, столько, сколько ему понадобится. И на год, и на два, и на пять лет хватит. Вы уговаривайте его, заставляйте ехать, потому что здесь он, действительно, помереть может.
Уговорить Добролюбова ехать за границу было очень трудно. Напрасно Авдотья Яковлевна расписывала ему прелести Италии, напрасно Чернышевский заявлял, что он не даст ему ни одной корректуры, ни одной книги и попросту выгонит его из редакции, если он вздумает продолжать работу, — Добролюбов упорно заявлял, что никуда он не поедет и просит прекратить разговор на эту тему.
Однажды Некрасов зашел к нему рано утром. Добролюбов чувствовал себя лучше; накинув летнее пальто вместо халата, он, насвистывая, расхаживал по комнате. На столе лежал лист бумаги с начатой статьей, чернильница была открыта, разбросанные кругом книги и журналы свидетельствовали, что он давно встал и принялся за работу.
— Ну, поздравляйте, — весело встретил он Некрасова. — Отпустила меня скрипучая ведьма, ночь спал хорошо и проснулся свежий, как младенец.
— Вот и хорошо, — серьезно сказал Некрасов. — Теперь можно и в дорогу собираться.
Он достал из кармана пачку крупных ассигнаций и положил их на стол.
— Это долг редакции «Современника», — объяснил он, заметив недоумевающий взгляд Добролюбова. — Вчера Ипполит Александрович подводил какие-то итоги и выяснил, что мы должны вам довольно много. Он сам хотел занести, да я все равно к вам собирался, вот и взял.
— Какой долг? — удивился Добролюбов. — Какой, к черту долг, когда я авансов набрал и еще не расквитался? Это все вы выдумали, чтобы меня спровадить за границу. Так что же вы думаете — я из-за денег не еду? Деньги — дело десятое, я с вами не стал бы особенно долгами считаться. Вы же знаете, не один раз уже было говорено.
Он с жаром начал доказывать, что без работы, без журнала, оторванный от всякой деятельности, от России, интересами которой живет, он погибнет, зачахнет окончательно.
— Вы говорите — не вылечусь. Ну и что же из этого? Лучше дожить до тридцати лет, да работать, чем влачить до глубокой старости жалкое, бездейственное существование.
Некрасов хотел ответить на эту страстную речь, но на пороге появился Василий Иванович. Он, видимо, слышал весь разговор и нашел необходимым в него вмешаться.
— Стыдно, стыдно, Николаша, произносить такие слова, — нравоучительно начал он. — Не мы сами, но бог отмеряет нам положенное для жизни время. Как смеешь ты определять срок твоей кончины, — никому, кроме бога, не дано этого знать.
Он не мог дальше продолжать в том же тоне. Голос его задрожал, слезы покатились из глаз.
— Николашенька, дружочек ненаглядный, — всхлипывая, забормотал он. — Послушай Николая Алексеевича, поезжай! Помрешь ты в этом проклятущем Петербурге. Я тебе каждый день писать буду. Товарищи, может, забудут писать, а старый дядька не забудет. Все новости буду писать, все журналы посылать, — ты и не заметишь, что за границей живешь…
Василий Иванович совсем расстроился, — пришлось его успокаивать, поить водой, усаживать в кресло. Добролюбов, смеясь, сказал, что если такие наводнения будут повторяться часто, то он не только в Италию — в Африку убежит пешком. Некрасов завел с Василием Ивановичем деловой разговор о расходах, связанных с поездкой, о том, сколько понадобится денег на обучение мальчиков, на содержание квартиры и прочие надобности.
Через несколько минут они сидели за столом, с увлечением обсуждая примерную смету, а Добролюбов, лежа на диванчике, с интересом прислушивался к их словам. Выходило, что поездка за границу стоила не так уж дорого!
И вот наступил день, когда Добролюбов вынужден был уступить уговорам друзей. Вопрос о поездке был решен, начались хлопоты о получении паспорта, устройство домашних и журнальных дел. Некрасов, используя свои разнообразные знакомства, старался как можно скорей получить все необходимые для отъезда документы. Авдотья Яковлевна готовила баулы и чемоданы и приходила в ужас от намерения Добролюбова ехать с корзиночкой.
— Вы еще в узелок свои вещи завяжите и повесьте за плечами на палочке, — возмущалась она. — Обязательно нужно лапотником явиться за границу.
Накануне отъезда вечером все собрались у Некрасова. Суета сборов кончилась, все было сделано, все собрано, все решено. Грустные и молчаливые, сидели они за столом. Говорить было не о чем, но и расходиться по домам не хотелось.
— Скучно будет без вас, — сказала вдруг Авдотья Яковлевна, и слезы полились у нее из глаз. — Простите меня — я уйду, не могу тут сидеть, точно на похоронах. Попрощаемся…
Она обняла Добролюбова, крепко поцеловала его и перекрестила.
— Поправляйтесь, голубчик, выздоравливайте. Не забывайте нас.
Некрасов почувствовал, что у него тоже щиплет в горле и слезы подступают к глазам. И Чернышевский был грустен и молчалив, и Иван Иванович подозрительно сморкался и вытирал глаза.
— Дальние проводы — лишние слезы, — сказал Добролюбов, решительно направляясь к двери. — Надо расходиться, а то я, глядя на ваши лица, передумаю и никуда не поеду. Хороши же вы, нечего сказать, — сами гнали, а теперь киснете.
Он быстро обнял Некрасова и Панаева, подхватил под руку Чернышевского и вышел на улицу.
V
Дверь захлопнулась за ними, и в доме сразу стало необычайно тихо. Некрасов услышал около себя какой-то звук, — это пес Раппо, стоявший до сих пор неподвижно, потянулся, зевнул и, глядя на хозяина, замахал хвостом. Значит, не все еще исчезли из этого дома.
Он присел на корточки, погладил пса и прижался щекой к его гладкой, теплой голове. Пес обрадованно лизнул его в щеку.
— Ну, ну, без нежностей, — проворчал Некрасов, оттолкнув Раппо, — пошел на место, слюнтяй.
Раппо, опустив хвост, побрел по коридору. Он толкнул лапой дверь в комнату и оглянулся на пороге, точно приглашая последовать за ним.
В столовой на диване, лицом к степе, лежала Авдотья Яковлевна. Некрасов посмотрел на нее неприязненно и подошел к столу, оттолкнув ногой попавшееся на пути кресло. Она вздрогнула и подняла голову, — лицо ее было заплакано, волосы растрепаны, руки сжимали мокрый носовой платок.
— Ушли? — спросила она, всхлипнув.
— Ушли, — ответил он раздраженно. — Конечно, ушли.
Он начал наливать себе чай, опрокинул стакан, уронил на пол ложечку.
— Что ты злишься? — спросила она жалобно. — Ну, что ты все время злишься на меня? Нам надо поговорить, объясниться, так не может дальше продолжаться.
Она снова заплакала:
— Все хорошие люди исчезают, вот и Добролюбов уехал и не вернется больше. Я чувствую, что он не вернется, у него чахотка, он умрет там, — бедный, бедный, такой молоденький. Боже, боже мой, какие мы несчастные!..
Некрасов стиснул зубы, и желваки заходили у него на щеках под кожей. Что она мучает его своими переживаниями? Ей тяжело? А ему легче, что ли? Она всегда, всю жизнь думала только о себе, о своих чувствах, о своих желаниях, о своих настроениях. Ей хочется, чтобы ее утешали, уговаривали, убаюкивали. А он не нуждается в утешении? Почему она никогда не думает о том, каково ему?
— Ты влюблена была в него, что ли? — спросил он, прекрасно зная, что этим вопросом оскорбляет ее. — Поздравляю с новым увлечением.
Авдотья Яковлевна побледнела и вскочила с дивана.
— Стыдись, он мне в сыновья годится, — крикнула она в ужасе. — Стыдись так издеваться над чистыми и хорошими отношениями.
— В сыновья? — язвительно усмехнулся он. — В вашем возрасте любят именно юношей.
Возраст! Это было самое больное, самое чувствительное место. Сколько раз, сидя перед зеркалом, она со страхом рассматривала лицо, шею, плечи. Она ощущала приближение старости каждый день — и в легких недомоганиях, которые появлялись все чаще и чаще, и по внезапной усталости, охватывавшей ее по утрам, и в скуке, которая мешала ей наслаждаться оперой или балом. Раньше она никогда не думала о жизни в деревне, о спокойном, безмятежном существовании. Сейчас, напротив, часто мечтала об этом. Уехать! Уехать от этих улиц, по которым ходит столько юных и красивых женщин, от людей, которые знали ее молодой, от Некрасова, который ее разлюбил. Ей совсем не трудно будет расстаться с ним, она, кажется, тоже его не любит.
— В моем возрасте? — крикнула она, подбегая к столу. — В моем возрасте? Ты, может быть, думаешь, что уколол меня этим? А кому я отдала свою молодость, кто отравил ее ревностью, хандрой, упреками?
Она выкрикивала это задыхаясь, слезы высохли на ее лице, волосы распустились и упали на плечи. Она видела, как в холодной гримасе каменеет его лицо, как дрожит веко левого глаза, — она все видела и не могла, не хотела остановиться.
В коридоре зашлепали мягкие туфли, — это Иван Иванович подошел к двери и, не открыв ее, повернул обратно. Ему было не по себе, он хотел взять в буфете бутылку вина, но, услышав голос Авдотьи Яковлевны, не зашел в столовую.
«Ну что она пилит его, — сочувственно подумал Иван Иванович. — Человеку и так не сладко, а она все требует и требует от него неизвестно чего».
Он с удовольствием отметил преимущество своего положения; пусть люди болтают, что он — брошен женой и обманут товарищем. Какая чепуха! Жену он сам начал обманывать на первом же году после свадьбы. Он жил и живет, пользуясь почти всеми удобствами семейного человека. А что касается женской ласки — ее можно найти в изобилии и на стороне у милых прелестниц.
Иван Иванович с удовольствием оглядел свою холостяцкую комнату.
«Крепость, — подумал он. — Монастырская келья. Никакого женского запаха, а посему — уют, тишина и спокойствие. Однако бутылка вина сделала бы сей приют еще более сладостным. Как бы это устроить?»
Он снова выглянул в коридор. Голос Авдотьи Яковлевны доносился приглушенно. Она кричала что-то громко и тоненько, на самой последней ноте, после которой начинается истерика. Нервический хохот уже чувствовался в ее голосе. Иван Иванович вздохнул и снова, как улитка, тихонько спрятался в свою комнату.
«Не такая ему нужна подруга! — с сочувствием подумал он. — Некрасов человек нервный, больной, раздражительный, подруга ему нужна тихая и спокойная, чтобы умела утешить вовремя. А так — какая же это жизнь! Оба прекрасные люди и оба мучают друг друга».
Он уселся за письменный стол, решив дождаться того момента, когда можно будет пойти в столовую. Этот момент наступил очень скоро. В столовой что-то упало, зазвенело, с треском захлопнулась, точно выстрелила, дверь, Авдотья Яковлевна быстро прошла по коридору. Иван Иванович подождал еще несколько минут, прислушался — все было тихо — и направился в столовую.
Некрасов сидел за столом, подперев голову. Глаза его блуждали, лицо осунулось, рука, потянувшаяся за папиросой, дрожала. Рубаха на груди расстегнута, сорванный галстук валялся посредине стола.
Иван Иванович достал из буфета бутылку хереса и два бокала, молча налил их и поставил один перед Некрасовым. Некрасов выпил не глядя и снова придвинул бокал к себе, когда Иван Иванович опять налил его. Он курил, глубоко и часто затягиваясь, и, бросив одну папиросу, зажег вторую. На него было жалко смотреть — стыд, горе и отчаянье были на его лице.
Молча они допили бутылку, но когда Иван Иванович поднялся за второй, Некрасов, точно очнувшись, сказал:
— Не надо больше.
Он встал, положил руки на плечи Панаева и добавил:
— Спасибо тебе. Хороший ты человек, Иван Иванович!
Сердце Ивана Ивановича стиснула такая острая жгучая жалость, какой он, кажется, никогда ни к кому не испытывал. Он хотел что-то сказать, чем-то утешить, что-то посоветовать. Он уже начал говорить бессвязные слова, но Некрасов, не слушая его, повернулся и вышел из комнаты. Иван Иванович сокрушенно покачал головой, задул лампу и пошел к себе.
VI
Первые дни после отъезда Добролюбова Некрасов нигде не мог найти себе места. В редакции его раздражали сотрудники, — они оказывались тупыми и бездарными при попытках хоть отчасти заменить отсутствующего Добролюбова. Дома он ссорился с Авдотьей Яковлевной. Прогулки по городу прекратились, работа не ладилась, в клуб ехать не хотелось, — он прямо не знал, куда девать себя.
Хуже всего, пожалуй, было дома. Подходя к дому, он заранее со злостью смотрел на окна, где за опущенными занавесями ему мерещилось заплаканное лицо. Странно… увидеть Авдотью Яковлевну веселой и довольной он, пожалуй, тоже не хотел бы. Однажды он подумал о том, что было бы, если б она умерла? Эта мысль ужаснула его. Нет, нет, это было бы катастрофой. Смириться с сознанием, что никогда больше не увидишь ее, он не мог. Но и видеть ее ежедневно не мог тоже.
Эти первые после отъезда Добролюбова пустые дни он пытался заполнить встречами с близкими к уехавшему другу людьми. Один день он провел с Василием Ивановичем, который тоже слонялся, как ошалелый, по квартире, сразу сделавшейся слишком большой и тихой. Василий Иванович рассказал ему много интересного о «Николаше» — о его детстве, о смерти матери, которую тот нежно любил, о нелепой гибели отца, скончавшегося в один день от холеры.
— Их осталось семь человек ребят, нищих и голодных, а Николаша, сам-то еще мальчик, нуждающийся в помощи и опеке, оказался главной опорой для всех младших братьев и сестер. Вы бы знали, как они его любят! Ну, да его и нельзя не любить, — уверенно заявил Василий Иванович.
Суровая, горькая молодость! Добролюбову все время приходилось чувствовать, что младшие сестры и братья живут на попечении «благодетелей», что для сестер единственный выход — замужество. Замужество не по любви, не по сердечной склонности, а именно как выход из унизительного положения «облагодетельствованных». Две сестры оказались избавленными от этой участи: самая младшая умерла от жестоких ожогов; другая — от мозговой горячки. Если бы жили не у «благодетелей», а у родителей, возможно, что это и не случилось бы с ними.
При Николашиной гордости тяжело ему было терпеть это. Ну, да надо сказать, сам-то он копейкой ни у кого не одолжился. Босой ходил, черный хлеб кушал, а никому не поклонился. А кончил учиться — видите, что вышло: братьев к себе взял, всем сестрам приданое справил, сам гол как сокол, а сестры обеспечены не хуже, чем отцовы дочки.
Некрасов слушал Василия Ивановича и думал, что вот Добролюбов сам никогда не рассказывал ему обо всем этом. И это умалчиванье о самом тяжелом периоде жизни происходило не от недоверия. Нет, Добролюбов был с ним совсем откровенен, но он не хотел, видимо, чтобы его жалели.
Прощаясь, Василий Иванович сказал не без гордости:
— Хотя и добр Николай и ласков, а уж если видит, что человек недостойный, не пощадит его. Вы посмотрите, как насолил кому-то, всю дверь, подлецы, в отместку испакостили.
Он вышел вместе с Некрасовым на площадку черной лестницы и показал на дверь. На ней огромными буквами было написано «безнравственный семинарист». Буквы были неровные, срывающиеся, падающие, — видно, писавший их торопился, вздрагивал от каждого стука и воровато озирался по сторонам.
— Я нарочно не смываю надпись, — шепотом сказал Василий Иванович. — А то еще подумают, что испугались. Видно, уколол его Николаша в чувствительное место…
По вечерам Некрасов направлялся к Чернышевскому, ложился на диван и лежал молча, стараясь не мешать ему работать. Чернышевский или писал что-нибудь своей быстрой, легкой рукой, или читал книгу, делая пометки на полях, или обрабатывал чужую статью, изуродованную цензурой. Глядя на него, Некрасов испытывал угрызения совести. Человек, действительно, работал за всех: и за себя, и за уехавшего Добролюбова, и больше всех за него.
— Вы очень ругаете меня, Николай Гаврилович, — спросил он однажды, — за то, что я так распустился и все свалил на вас?
— Нет, не очень, — улыбаясь ответил Чернышевский. — Не очень, потому что знаю: это не надолго. Вас скоро обстоятельства заставят работать. У журнала есть много дел, с которыми я совершенно неспособен справиться.
Дни полные меланхолической созерцательности, действительно, очень скоро кончились. Цензурные шквалы, обрушившиеся на «Современник», были настолько свирепы, что Некрасов должен был немедленно броситься в бой. Главное управление цензуры мертвой хваткой вцепилось в журнал. Придираясь к каждой строчке текущих номеров, цензура задним числом оценивала все вышедшие с начала года книжки и приходила к выводу, что «Современник» — журнал опасный и крамольный, заслуживший если не закрытия, то, во всяком случае, самого сурового предупреждения.
Выяснять создавшееся положение Некрасов отправился к Никитенке. Никитенко встретил его сухо и с первых же слов начал упрекать в том, что журнал, который начал свою деятельность так благородно, имея в числе своих сотрудников блестящее созвездие лучших русских литераторов, дошел до столь вредного направления:
— Я должен вам прямо сказать, Николай Алексеевич, правительство очень и очень недовольно «Современником». И, нужно признаться, имеет все основания для недовольства.
Некрасов пожал плечами и промолчал. Спорить было бессмысленно, да и не для споров он сюда приехал. Правда, менторский тон Никитенко чрезвычайно его раздражал, но Никитенко в последнее время всерьез вообразил себя охранителем чистоты русской литературы и ревностно предавался своей деятельности. Нужно было дать ему высказаться, а потом постараться выведать, что может грозить «Современнику», какие обвинения выдвигаются против журнала.
Поэтому Некрасов, стараясь сохранить спокойное и внимательное выражение лица, не вслушивался в рацеи Никитенки. Он скользнул глазами по его кабинету, — скучная, какая-то пасторская комната. Неуютный, наверное жесткий, диван с прямой высокой спинкой. А кресла? — в них не сядешь развалившись, они подпирают спину, как деревянный барьер. Ого! Над письменным столом — вся императорская фамилия. Это новость. Какие пышные, новенькие рамы, как «видно» они повешены, — каждый, входя в комнату, должен обязательно их заметить.
Ровный профессорский голос Никитенки на минуту отвлек внимание Некрасова от его наблюдений.
— В настоящее время, когда правительство само по своей доброй воле, по благороднейшему побуждению идет на великую реформу, гласность обязана поддержать государя и помогать ему. В чем же должна выражаться эта помощь? — Никитенко посмотрел на Некрасова и, не дожидаясь ответа на вопрос, ответил сам, многозначительно подняв палец:
— Эта помощь прежде всего должна выражаться в разумном обсуждении проблем, связанных с проведением реформы. Подчеркиваю: разумном и благонамеренном, потому что только при этом условии…
— Простите, — перебил его Некрасов. — Могу я закурить?
— Курите, пожалуйста, — ответил несколько недовольным голосом Никитенко. — Так вот, повторяю: при разумном и благонамеренном развитии этих вопросов наша печать может принести помощь правительству. И, уверяю вас, благосклонность правительства к полезной деятельности литераторов будет…
Некрасов с наслаждением затянулся папиросой. Он не слушал дальше Никитенку: раз начались рассуждения о благонамеренности в литературе — конец им наступит, увы, не скоро.
Никитенко много хворал в эту зиму, он высох, и желтая кожа, казалось, прилипла к острым костям его лица. Эта сухость была не только физической — она распространилась и на его душевные качества. Он стал еще педантичней, скучней, благонамеренней: все живое, острое, выходящее за рамки общепринятых понятий раздражало и беспокоило его.
Визит Некрасова тяготил его. Позиция «Современника» все больше и больше вызывала в нем неприязненное чувство. Он считал совершенно недопустимой ту враждебность к существующим порядкам, которая сквозила в подавляющем большинстве публикуемых в журнале материалов; ему казалось, что Чернышевский считает себя первым умником не только в России, но и в Европе; он чувствовал скрытую, но жгучую оппозицию в каждом слове, сказанном Некрасовым, и считал себя обязанным с этим бороться.
— У ваших соредакторов, Николай Алексеевич, нет чувства скромности, нет уважения к авторитетам. Они берутся поучать, не имея для этого ни достаточных знаний, ни должного чувства ответственности за каждое сказанное слово.
Услыхав эту фразу, Некрасов насторожился. О ком это он говорит?
— Если вы имеете в виду моего главного соредактора — Николая Гавриловича Чернышевского, то я считаю, что он вправе поучать очень и очень многих, — сказал он решительно. — У Николая Гавриловича для этого все данные: и необычайный ум, и глубокие знания по самым разнообразным отраслям наук. Мне очень прискорбно, что у вас о нем ложное понятие.
— Я не отказываю господину Чернышевскому в уме и даровании, — сухо возразил Никитенко. — Но знания его далеко уступают знаниям многих просвещенных людей в России. Я отдаю ему должное, и вы сами должны помнить, что когда Николай Гаврилович защищал в Университете свою диссертацию, я не был в числе его противников, а поддерживал его по мере моих сил и влияния. Но я никогда не взялся бы защищать правильность его убеждений и действий. Он сейчас всеми силами старается обострить восприятие существующих у нас недостатков, а не лучше ли, не правильней ли притупить по возможности жало того, что есть, чем усиливать зло обострением ощущения его?
Некрасов, усмехнувшись, ответил, что в убаюкивании и успокоении нуждаются обычно дети и больные, а человек, способный к борьбе и к сопротивлению, должен как можно ясней видеть все, с чем ему надлежит бороться.
— Мне кажется, Александр Васильевич, что народ наш вполне заслуживает доверия. Его не нужно успокаивать и усыплять; он имеет право на то, чтобы видеть и сознавать свою судьбу и принимать участие в ее устройстве. А только этого и хочет Чернышевский: он направляет свою деятельность на благо народа.
— Чернышевский не знает народа и не знает его интересов, — перебил Никитенко голосом не допускающим возражений. — Что дает ему право на выступления от имени народа? Я сам вышел из народа, мой дед и отец были крепостными графа Шереметева, я плебей с головы до ног, но я не допускаю мысли, что народ способен обсуждать и выносить решения. Народ должен быть управляем, а не управлять, — ему всегда будет недоставать тех элементов, которые делают власть справедливою, мудрою и просвещенною. И поэтому социальные идеи, проповедуемые господином Чернышевским, вредны, ядовиты и обманчивы. На земле не может быть ни всеобщего довольства, ни всеобщего образования, ни всеобщей добродетели. Преступно доказывать, что это осуществимо, и подобными иллюзиями смущать покой малых сих.
Никитенко, поднявшись из-за стола, начал, шагая по кабинету, развивать свою мысль. Его сухая фигура, утопающая в широком коричневом халате, держалась прямо, как на параде, и халат выглядел так благопристойно, что казался вицмундиром. Во всем его обличье не было ничего «плебейского» — типичный петербургский чиновник, даже не просто чиновник, а личность, облеченная властью, саном, значением.
«Плебей», «сын народа», — с насмешкой думал Некрасов, — «крепостной графа Шереметева». Отец Никитенки, как говорят, с детства пользовался благосклонностью своего владыки: был обучен пению и французскому языку, из графского хора попал на должность старшего писаря, а потом даже управителя в одном богатом помещичьем семействе. Он был, несомненно, человеком незаурядным, дал хорошее образование своим детям, но нужды, интересы и чаяния народа, из среды которого он вышел, давно перестали быть его интересами и чаяньями.
«Где ты видел этот самый, народ, сыном которого себя считаешь? Из окна кареты? Или из-за решетки парка у себя на даче? Или из кабинетов министров, где ты бываешь очень часто?»
Думая так, Некрасов тщательно сохранял внимательное и спокойное выражение лица и терпеливо ждал момента, когда можно будет перевести разговор на менее отвлеченные, но более интересующие его темы. Рассуждения же Никитенки о народе, о его интересах и способностях были для него до такой степени не новы, что он заранее знал обо всем, что может быть сказано дальше. Он с тоской посмотрел на часы, — сколько драгоценного времени прошло с тех пор, как он уселся в это неудобное кресло! Сколько часов, дней, месяцев тратит он вообще на ненужные и неинтересные разговоры! Эта бесполезная трата времени — один из элементов его редакционной работы — будь она трижды проклята и трижды благословенна…
Ждать дальше было невыносимо. Он решительно погасил папиросу и, поймав кончик какой-то фразы, прервал монолог Александра Васильевича. Это не совсем вежливо, но иного выхода не было, и при помощи нескольких словесных маневров ему удалось навести Никитенку на разговор о «Современнике».
— Вы знаете, что о вашем журнале составлены два специальных доклада главному управлению цензуры? — спросил Никитенко. — Не знали? Ну, так знайте об этом и имейте это в виду.
Никитенко снова уселся за стол и, перебирая бумаги, сказал, не глядя на Некрасова:
— Надеюсь, что разговор наш будет строго конфиденциальным. Вы не хотите навлечь на меня неприятности разглашением его содержания?
Он достал из черной кожаной папки два мелко написанных доклада и положил их перед собой. Сначала он быстро пробежал их глазами, потом задумался на минуту и, наконец, нерешительно протянул их Некрасову.
— Прочтите сами, — сказал он холодно. — И бы увидите, что основания для недовольства неоспоримы.
Некрасов, пряча охватившее его волнение, неторопливо придвинул к себе доклад и, сразу охватывая взглядом всю первую страницу, прочел вводные строки:
«Газеты обыкновенно имеют непродолжительный, так сказать, дневной интерес; известия следующего дня уже вытесняют впечатления предшествующего; не такое значение имеют журналы. Проникаясь одною системой, служа органом для обсуждения важнейших интересов современной жизни и науки, журнал оставляет прочные следы в памяти современников и несомненно влияет на направление мыслей и действий своих читателей».
Так несколько отвлеченно и почти научно начинался этот документ — плод верноподданнического и шпионского усердия.
Некрасов усмехнулся, прочитав первые строчки доклада. «Ого, — подумал он, — какой полет мысли, какая благородная отвлеченность рассуждений…» Но следующие фразы, в которых ученый доносчик брал, что называется, «быка за рога», показали, что этот теоретический экскурс лишь обосновывал доказательства особой вредности «Современника».
«Современник» вполне обнаруживает свое преобразовательное направление, выражающееся в безотрадном отрицании всех принятых начал в области политической, юридической, семейной, философской…»
— Ну, это уж слишком! — раздраженно сказал Некрасов. — Надо все-таки меру знать. Надо же иметь основания, заявляя, что мы порочим все старое, все приветствуемое благомыслящим обществом. Где критерий «благомыслия»? А может быть, именно нам сочувствует лучшая часть общества?
Никитенко посмотрел на него недовольно. Кислая улыбка скривила его рот, углы губ опустились, глаза сощурились.
— Потрудитесь читать дальше, — сказал он. — Может быть, вполне конкретный разбор отдельных статей покажет вам, что автор этого документа действовал не совсем бездоказательно.
Некрасов пожал плечами и снова углубился в чтение. Разбор, действительно, был «конкретный», — в рубрику «вредных» статей относилось более половины всех материалов «Современника». Статьи Чернышевского, Добролюбова и Михайлова, «Свисток», роман Панаевой — все подвергалось детальному разбору и решительному осуждению. На одной странице он наткнулся на цитату из собственного стихотворения «Первый шаг в Европу». Стихотворение это признавалось вредным, «имеющим целью уронить достоинство помещиков, порочащим отечество и его порядки».
Особую ненависть у составителя доклада вызывали статьи Чернышевского. Он разбирал их со знанием дела, приводил массу цитат, расшифровывал темные и запутанные места. Докладчику нельзя было отказать в проницательности, — он довольно правильно понимал подлинное значение нарочито запутанных фраз. В заключительной части доклада делались выводы: там говорилось, что материалы «Современника» ставят себе задачей потрясение основных начал монархической власти, отрицание безусловных законов и возбуждение ненависти одного сословия к другому.
Все это было совершенно правильно, но соглашаться с подобными выводами было бы безумием. Некрасов положил на стол прочтенный доклад, помолчал минутку и сказал спокойным и даже небрежным тоном.
— Бред. Совершеннейший бред. Плод больного воображения одержимого манией человека. Вольно так толковать каждую фразу, не имеющую никакого отношения ни к России, ни к монархической власти. При некоторой ловкости рук можно любой лирический сонет подвести под призыв к революции. Надеюсь, что это рукоделие не рассматривается серьезно?
— Напротив, — сердито ответил Никитенко. — Вам следует знать, что цензор получил строгое внушение за допущение всех этих статей. Журнал ваш будет отныне под самым бдительным наблюдением, и если он и в дальнейшем не изменит свою линию, последствия для него будут печальные.
Никитенко спрятал доклад в черную папку, встал, показывая, что деловой разговор окончен, и, любезно улыбаясь, пригласил Некрасова в столовую выпить чаю. Но Некрасов, извинившись, сказал, что его ждут в редакции. Его миссия была выполнена, — он узнал все, что ему хотелось узнать.
— Надеюсь, наша беседа не получит огласки? — сказал Никитенко. — Я рискую иметь неприятности за ознакомление вас с этим документом.
Некрасов пожал ему руку, заверив, что будет молчать и встревоженный и огорченный уехал домой.
На прощанье Никитенко, несколько смягчившись, доверительным гоном посоветовал ему распрощаться с Добролюбовым и Чернышевским:
— Душевно рекомендую вам очиститься от них. Это — зажигатели и демагоги, они не однажды доказали свою незрелость и неспособность управлять общественным движением. Сделайте это пока не поздно.
— Я не могу и не нахожу нужным это делать, — устало возразил Некрасов. — К чему мы будем спорить? Мы с вами не сходимся в мнениях. Я считаю их обоих честными, преданными народу и родине людьми. Прощайте, Александр Васильевич!
Дома, запершись вдвоем с Чернышевским, он подробно рассказал ему о содержании доклада.
— Война объявлена, Николай Гаврилович, и серьезная, — сказал он. — Теперь берегитесь, громы будут греметь беспрерывно.
Чернышевский внимательно и словно бы испытующе посмотрел на него, и, помолчав минуту, спросил:
— Что же вы думаете делать дальше? Может быть, лучше спрятаться под крышу? Или избавиться от предметов, способных притягивать молнии?
— Ну уж нет, — весело ответил Некрасов. — Уступать мне что-то неохота. Интересно, Николай Гаврилович, какой это сукин сын проявляет усердие, сочиняя на нас пасквили?
Они просидели до глубокой ночи, разбирая рукописи и обдумывая темы необходимых журналу статей. Они не говорили больше о Никитенке, о цензуре, о грядущих опасностях. Вопрос этот был исчерпан, он не мог иметь никакого значения для предстоящей деятельности «Современника».
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
I
На дачу Чернышевские решили ехать в Любань. Это было очень далеко от города, но один знакомый, у которого был там собственный дом, уверил, что только в Любани отличный деревенский воздух, хорошее купанье и настоящий лес.
Ольга Сократовна вначале и слышать не хотела о Любани.
— Я там умру со скуки, — решительно заявила она. — Чего ради тащиться в такую глушь? Речка, деревенский воздух, — подумаешь, невидаль! А люди? Слова молвить не с кем будет. Ты-то, я знаю, в городе будешь неделями торчать, да и на даче носа от книжки не поднимешь, а я что буду делать?
Но Николай Гаврилович вдруг заупрямился и захотел обязательно ехать в Любань.
— На модной даче ты не отдохнешь, голубочка, — твердил он. — А тебе надобно отдохнуть и поправиться. Сердись на меня — я буду очень огорчен, но я не уступлю тебе, — ты же знаешь, какой я упрямый человек.
Ольга Сократовна и впрямь рассердилась и не хотела даже поехать взглянуть на дачу. Потом положила гнев на милость, отправилась в Любань и вернулась совершенно очарованная. Ей понравилось все: и дом, и сад, и живописные окрестности. Она успела узнать, что по соседству есть несколько помещичьих семейств; живут они весело и шумно и рады будут принять в свое общество молодую хорошенькую дачницу.
— Ну вот и хорошо, — обрадованно сказал Николай Гаврилович, выслушав ее отзывы о Любани, — напрасно ты боялась скуки, дорогая моя Лялечка, такой веселенькой умнице везде будет хорошо.
Ему и самому хотелось немножко отдохнуть этим летом, пожить в деревне, поваляться на солнышке. Правда, обстоятельства складывались так, что надеяться на длительный отдых было трудно. Добролюбов лечился за границей, Некрасов собирался уехать на все лето в деревню. Панаев все прихварывал. Но Чернышевский надеялся заготовить материалы для журнала заблаговременно и приезжать в город только раз в неделю для объяснений с цензурой — буде в этом окажется необходимость, — да для общего наблюдения за выпуском номера.
Некрасов хотел побывать в Ярославской и Костромской губерниях, поохотиться и отдохнуть. Но обещал в середине лета заехать в Петербург. Он был совершенно измучен своими семейными неприятностями, рвался в деревню и советовал Чернышевскому тоже выбраться из города.
— Нигде не отдыхаешь от всех неприятностей так, как в деревне, — говорил он. — Только там, вдали от шума городского, забываешь все, дышишь по-настоящему, любишь по-настоящему и по-настоящему работаешь.
Он уехал, и Чернышевский почувствовал вдруг непривычное одиночество. Все кругом было не так. Добролюбов не желал больше оставаться за границей и писал разные глупости — собирался возвращаться, не кончив леченья. Ольга Сократовна опять заколебалась и заговорила о модной даче, и от ее разговоров в глазах у него вставали пыльные дорожки в пригородных парках или унылое шоссе, по которому разгуливают визгливые, затянутые в корсеты девицы и кавалеры в разноцветных панталонах. Не так, как хотелось бы, воспитывались дети: старший сын — Саша — жил в Саратове у деда, средний — Виктор — был худ, бледен и неразвит для своих трех с половиной лет, младший — еще младенец — всецело находился на попечении кормилицы. Не так хотел бы он растить своих детей!
Он не привык говорить с кем-нибудь о своих личных делах. Он старался всегда быть ровным, спокойным и веселым, и это ему удавалось, — никто не догадывался, что у него очень тоскливо на душе. По правде сказать, некому было и задумываться над тем — хорошо ему или плохо, — у каждого находились собственные заботы и волнения. Самый близкий человек — жена и в обычное время не очень приглядывалась к его настроениям, а сейчас у нее и совсем не было для этого времени. Ее сестра Анна — бывшая пассия Добролюбова — нашла себе жениха и поручила Ольге Сократовне закупать приданое. Ольга Сократовна занималась этим со страстным увлечением, и все другие дела и заботы отошли у нее на второй план. Некрасов сам переживал личные огорчения. Добролюбов был далеко, да и не ему же, юноше, стал бы Чернышевский выплакивать свои обиды на судьбу. Нет, надо было собраться с духом и ждать, когда все перегорит само собой.
Так он и делал: Добролюбову писал то шутливые, то грозные письма, клялся порвать с ним всякое знакомство, если он вздумает раньше срока вернуться. С интересом рассматривал капоты и матине, которые Ольга Сократовна покупала для Анички. Торопил Некрасова с отъездом в деревню, помогая ему устраивать дела по журналу. Но в конце концов, почувствовал такую бесконечную усталость, так захотел вдруг уехать куда-нибудь, побыть в тишине и в одиночестве, что Любань начала казаться удивительно милой сердцу. Он очень обрадовался, когда Ольга Сократовна согласилась ехать, пытался помочь увязывать вещи, отобрал чуть ли не целый шкаф книг и потребовал, чтобы их обязательно отправили на дачу.
Ольга Сократовна в ужасе всплеснула руками:
— Ты с ума сошел! — закричала она. — Куда тебе это? Такую гору за год не прочесть, а ты на даче отдыхать должен. Ты что, на десять лет туда собираешься? Не возьму этот хлам — и не думай и не надейся.
— Но, голубочка, это же только самое нужное, — сконфуженно оправдывался Чернышевский. — Все это мне совершенно необходимо. Эти книги специально для отдыха, уверяю тебя, голубочка.
— Это для отдыха? — грозно спросила Ольга Сократовна, потрясая толстенным томом. — Для отдыха романы с собой берут, а не это. Не повезу — хоть убей меня!
— Ну что же, — кротко сказал Чернышевский, — придется мне на собственных плечах это таскать. Так и знай, Лялечка, никаких поручений в городе я выполнять не смогу — буду вместо покупок возить свои книжицы.
Ольге Сократовне пришлось уступить. Даже на пригородных дачах, где он проводил очень мало времени, книги точно сами собой появлялись во всех комнатах, и при возвращении для них приходилось сколачивать специальный ящик. Прошлогодний до сих пор валялся на чердаке, и его теперь втащили в кабинет Николая Гавриловича. Он удовлетворенно осмотрел ящик, сколоченный из тяжеленных горбылей, попробовал — крепко ли держатся гвозди — и начал, не торопясь, укладывать книги. Кое-что пришлось все-таки оставить, — Чернышевский с сожалением отложил в сторону кипу журналов:
— Ничего, это я потом перетащу, — решил он и заявил, что вполне готов к переселению на дачу.
В Любани оказалось очень хорошо. После весеннего ненастья установились жаркие летние дни. В лесу пахло смолой и нагревшейся на солнце хвоей. Вода в Тигоде к вечеру становилась теплой, как будто ее подогрели в печке, и даже по утрам, когда на траве еще лежала сизая роса, купаться было приятно и не холодно. Николай Гаврилович ходил на реку по нескольку раз в день. Утром, когда Ольга Сократовна еще нежилась в постели, он выходил из дому босиком и без шапки, с полотенцем через плечо и мыльницей в кармане. Мокрая холодная трава щекотала его босые ноги; он шел, прищурившись и близоруко вглядываясь в тропинку. Наступив на камень или шишку, он подпрыгивал, тихонько чертыхался и шел дальше, еще пристальней смотря под ноги.
На берегу реки он облюбовал себе место, густо заросшее кустами. Только у самой воды оставалась небольшая песчаная прогалинка, в которой приходилось продираться сквозь частый ивняк и ольшаник. Зато здесь можно было раздеваться спокойно, как в собственной комнате: зеленая стена спускалась до самой воды, а старые ивы, росшие на берегу, склонялись так низко, что и вода, образуя маленький заливчик, была отгорожена от посторонних взглядов.
По утрам песок на прогалинке был сыроватым и холодным, с кустов за шиворот сыпались холодные капли росы, но Николай Гаврилович оставался верен раз выбранному месту. Он быстро раздевался, входил по пояс в воду и, приспособив мыльницу на сук ивы, долго с удовольствием мылся. Потом, надев очки, выплывал из своего заливчика и, откинувшись на спину, неподвижно лежал на воде, блаженно щурясь от солнца. Но стоило ему услышать голоса или увидеть человека, хотя бы это был пастушонок на том берегу, он быстро возвращался в тенистый заливчик и, торопливо одевшись, уходил домой.
На даче он работал немногим меньше, чем в городе. Правда, здесь он иногда уходил с книгой в лес или в поле, но очень скоро возвращался, потому что выяснялось, что ему нужна еще одна книга, или словарь, или какая-нибудь рукопись. Вернувшись, он уже оставался в своей комнате.
Опасения Ольги Сократовны, что ей будет скучно в Любани, оказались напрасными. Она очень скоро познакомилась со всеми соседями, и на даче у Чернышевских стало почти так же шумно, как на городской квартире. Правда, здесь этот шум был не так заметен, — вечерние сборища, игры и даже танцы переносились из дома в сад, почти ежедневно придумывались пикники и катанья, прогулки в лес или на лодках. Городские знакомые: студенты, офицеры и прочая молодежь — тоже быстро нашли дорогу в Любань; они приезжали большой компанией, восхищались лесом, садом и пейзанским нарядом Ольги Сократовны; веселились до позднего вечера и оставались ночевать на сеновале.
Когда Чернышевский собирался в город, Ольга Сократовна вспоминала, что у нее там тоже есть разные дела, и отправлялась вместе с ним. В городе она щеголяла своим свежим, зарумянившимся лицом, разыскивала, какие-то совершенно необходимые для дачи цыганские шали или плахты и рубашки с украинской вышивкой и, встречая знакомых, приглашала их в Любань.
— Приезжайте в нашу усадьбу, — говорила она. — Будем пить молоко и кушать ягоды. А спать я вас положу в сарае на сене.
Знакомые охотно соглашались: лето было таксе жаркое, раскаленный Петербург так непригляден, Ольга Сократовна так свежа и гостеприимна, что невозможно было отказать себе в удовольствии побывать у нее в Любани. А Николай Гаврилович все чаще и чаще оставался в городе, услыхав, что к ним на дачу нагрянет целая орава поклонников, друзей и приятелей Ольги Сократовны. Собираясь вместе с ними отправляться на дачу, он вдруг вспоминал, что у него накопилась куча дел по журналу, и тихонько говорил жене:
— Ты уж извини меня, Лялечка, но я не могу сегодня поехать. Мне еще к цензору надо сходить, да и в типографии не успел побывать. А Вульф что-то заленился, неаккуратно наш заказ выполняет. Не сердись, голубочка, я завтра обязательно приеду.
Ольга Сократовна возмущалась и кричала, что она тогда тоже не поедет, что сейчас в городе одни мухи остались, что здесь ему нечего есть: прислуга на даче, а послать сюда она никого не может — все нужны, потому что гости.
— А мне и не нужно никого, я очень люблю один побыть, — возражал Чернышевский. — Я пообедаю в ресторане, а вечером чай пить к Василию Ивановичу, — нужно узнать, нет ли у него письмеца от Добролюбова.
— Но чтобы завтра к обеду ты был на даче, — уступала Ольга Сократовна. — Да не забудь на ночь двери запереть, а то уснешь и не услышишь, все вещи вытащат.
Она уезжала со своей свитой, и в квартире наступала тишина. Право же, здесь было не хуже, чем на даче. В комнате Николая Гавриловича, выходившей окнами во двор, целый день держалась прохлада; вторая линия Васильевского острова, где они теперь жили, была тихой и не пыльной, на мостовой около тротуара росла низкая травка, вечером с Невы тянуло свежестью. Новенькая, только что отремонтированная квартира сверкала чистотой: сверкали желтые, недавно окрашенные полы, сверкали светлые «веселенькие» обои, сверкали, белоснежные потолки. А что мебели было маловато и занавеси до осени лежали убранными в корзину, так это даже было приятно, — по крайней мере, в комнатах стало светлей и просторней.
Николай Гаврилович провожал жену и ее гостей, советовал им обязательно выкупаться в любанской речке и побольше выпить молока, обещал завтра непременно приехать — и усаживался за работу. На дворе шумели ребятишки, кричали разносчики, заунывно распевал обитавший в подвале сапожник, — это Чернышевскому не мешало. Он работал до вечера, потом шел обедать в студенческую кухмистерскую, потом опять усаживался за письменный стол. К цензору выбирался только на другой день, а на дачу так и не ехал.
В июле он уже совсем редко попадал туда. Как-то само собой получилось, что в городе ему оказалось удобней, да и работы, действительно, было много, все то, что раньше делали трое, теперь свалилось на него одного.
А тут еще вернулся из Саратова его двоюродный брат и друг Сашенька Пыпин, и уезжать в Любань, оставляя его одного в городе, не хотелось. Сашенька много работал, целыми днями сидел в библиотеке, а по вечерам они иногда устраивали себе отдых — брали лодочку и отправлялись на взморье. Там, бросив весла, они ложились на дно лодки и вели длинные разговоры, которые могли быть интересны только им и еще двум-трем их приятелям.
Так кончилась его жизнь на даче. Приезжая туда раз в неделю, он находил в своей комнате несколько постелей для гостей. «Они ведь тебе не помешают? — спрашивала Ольга Сократовна. — Они только ночью будут здесь». Его укромный уголок на реке тоже был занят: поклонники Ольги Сократовны расчистили дорожку через заросли и соорудили около старой ивы шалаш вместо кабинки для раздеванья. Николай Гаврилович как-то утром направился было туда, да вспугнул из шалаша одного лялечкиного студента и какую-то девушку. Он был страшно смущен, долго извинялся перед студентом и больше на речку не ходил.
II
Добролюбов проводил лето в Швейцарии, в маленькой деревеньке Интерлакен. Но — странное дело — ни красота альпийских лугов, ни горы, которые он видел впервые, ни сверкающие ледники, любоваться которыми приезжали люди из других стран, не прельщали и даже не интересовали его. Он смотрел на них скорее враждебно, как на больничную палату, оторвавшую его от всего, что мило сердцу. Швейцария была для него лекарством, которое он принимал по необходимости, но без всякого удовольствия.
Единственными радостными событиями для него были письма, газеты и журналы из России. В маленьком почтовом отделении хорошо знали «русского студента», аккуратно являвшегося каждое утро за своей корреспонденцией. Если утром ничего не было, он приходил после обеда или вечером, и коренастый, жизнерадостный почтовый чиновник, издали увидев его высокую фигуру, сам выходил на порог и махал ему письмом или газетой.
Больные и здоровые отдыхающие смотрели с любопытством на этого «русского», столь похожего на своих путешествующих соотечественников, издавна знакомых европейцам. Было заметно, что он не богат, что живет скромно, много работает и тоскует по родине. Видно было также, что он тяжело болен, — землистое лицо его не свежело от швейцарского солнца и воздуха. Он сильно кашлял, и видно было, как тяжело ему подниматься в гору, когда он возвращался с почты. Врач говорил, что у русского чахотка, что вряд ли он поправится, особенно если вернется на свою холодную и туманную родину.
Сам Добролюбов не знал, насколько тяжело его положение. Он хотел скорей поправиться, и поэтому ему казалось, что несколько месяцев, проведенных за границей, значительно улучшили его здоровье. Его страшно угнетала перспектива провести зиму за границей, — нужно было осенью отправляться отсюда в Италию или на юг Франции купаться в море. Все это казалось ему блажью, докторскими выдумками, изобретенными специально для модных барынь.
Он упрямо продолжал работать, хотя и Некрасов и Чернышевский писали ему, чтобы он отдыхал и поправлялся. Он объяснял необходимость работы недостатком денег, но это было неверно: касса «Современника» да и личные средства Некрасова всегда были к его услугам. Иногда он даже обижался на Некрасова и Чернышевского, которые, видно, считали, что журнал ничего не проигрывает из-за отсутствия его статей. Но и этот аргумент рассыпался в прах, — каждая написанная им строчка немедленно сдавалась в набор, а если не появлялась в печати, то отнюдь не по вине редактора.
Европейские политические события, к которым он здесь был ближе, живо интересовали его. Он разыскивал и жадно читал брошюры и книги, запрещенные в России и редко туда попадающие. Внимательно следил за газетами, особенно за событиями в Италии, где народный герой Гарибальди мужественно сражался за освобождение своей родины. Он наблюдал за всеми перипетиями борьбы, которая разыгрывалась так близко, — радуясь, когда Гарибальди одерживал победы, негодуя, когда его предавали и преследовали. Ему очень хотелось передать читателям «Современника» свои впечатления, и он деятельно готовил номер «Свистка», посвященный итальянским событиям. Но, работая над статьями и стихами на неаполитанские темы, он ни на минуту не забывал о своей родине.
Молчаливый и обособленный, погруженный в мысли о политических событиях Европы и России, уходил он из Интерлакена в горы — худой, высокий, в пасторском черном сюртуке. Беззаботные путешественники и туристы с любопытством смотрели ему вслед. Бедный русский студент! Наверно у него произошла какая-нибудь любовная драма. Наверно он влюбился в богатую княжну, у которой тысячи крепостных и огромные поместья в необъятных казацких степях. Может быть, он был учителем в этом поместье, полюбил недоступную ему красавицу и от любви заболел чахоткой, а теперь уединенно доживает здесь свои дни, зарабатывая на хлеб писаньем каких-то статей. Сердобольные швейцарские девушки из Интерлакена и соседней деревеньки готовы были приголубить молодого русского, но он был всегда серьезен и молчалив. Влюбчивое сердце Добролюбова, так часто и так ярко вспыхивавшее под серым небом родины, совсем застыло от соседства прекрасных, но чужих ледников.
Странное дело, но из всех писем, получаемых с родины, меньше всего интересовали его послания бывших его приятельниц. Он совершенно хладнокровно прочитал известие о свадьбе Анеточки — сестры Чернышевской, на которой еще так недавно сам собирался жениться. Спокойно пробегал игривые записочки Ольги Сократовны, засунутые в один конверт с обстоятельными письмами Чернышевского; заботился, чтобы Василий Иванович аккуратно посылал деньги когда-то близкой ему девушке Терезе, которая училась сейчас на акушерских курсах в Дерпте, но сам не удосужился написать ей письмо поласковей. Нежные воспоминания не волновали его душу, и женские записочки небрежно валялись в уголке чемодана.
Самым аккуратным корреспондентом оказался дядюшка Василий Иванович. Он бегал по Петербургу, выполняя различные поручения племянника, вырезывал из газет нужные статьи, сообщал разные новости:
— Ай да дядюшка! — умилялся Добролюбов. — С таким дядюшкой можно жить как у Христа за пазухой.
Но, конечно, не дядюшкиных писем ждал он с таким нетерпением всякий раз, когда ходил на почту. Главной нитью, связывающей его с родиной, были письма Чернышевского и Некрасова. Он перечитывал их по нескольку раз, сначала проглотив целиком, а потом вдумываясь в каждую строчку. Иногда его брала досада: вдруг Николай Гаврилович с невероятным многословием начинает распространяться о какой-нибудь не стоящей мелочи, а о самом интересном обмолвится двумя словами. Но в конечном счете оказывалось, что эти два слова давали больше пищи для размышления, чем все остальные письма вместе взятые.
Получив очередное письмо Чернышевского с обязательными напоминаниями лечиться и жить за границей, он всякий раз испытывал такой приступ тоски, что впору было немедленно бежать на родину. В такие минуты он не мог думать ни о Гарибальди, ни о мужественных людях, сражающихся рядом с ним. Он думал только о России и в мыслях переносил европейские события на родину. Он так реально видел народное крестьянское восстание, — не под синим небом Сицилии, не на берегу лазурного моря, а в русской деревне, ощетинившейся лесом вил и топоров, озарившей пламенем идиллические дворянские гнезда. О, как ясно представлял он себе испуганных, смятенных, обозлившихся, точно крысы в западне, российских либералов.
«Все это должно произойти! — думал он. — Все это произойдет. Но когда? Только бы не без меня, не тогда, когда я сижу в этой проклятой Швейцарии».
Тоскуя о родине и стараясь быть ей полезным, он с особой любовью хватался за книги, в которых говорилось что-нибудь о русском народе. С огромной радостью написал он для «Современника» о книге рассказов из народного быта Марка Вовчок. Книга эта не обладала особыми художественными достоинствами; она скорее была даже слабой в этом смысле, но она говорила правду о русском простонародье, которое современные литераторы выводили либо в виде прилизанных оперных «мужичков», либо в виде дикой и грязной скотины, утверждая, что очень полезна ему палка и очень вредна грамота.
Цензура испортила, испакостила, общипала эту статью. Она не хотела вовсе допустить ее напечатанье, и Чернышевскому понадобилось затратить немало труда и хитрости, чтобы вытащить ее на страницы журнала. Сам он писал о борьбе за эту статью очень скромно: «Толкую с Рахманиновым». Об этом же сообщал и Василий Иванович, но Добролюбов приходил в бешенство от одной мысли, что кто-то копается, придирается к каждому его слову, а он сидит здесь, ничего не может сделать, не может защищаться, не может хотя бы сам ходить к цензору и вместо Чернышевского «толковать» с ним.
Словом — лето проводил он совсем не так, как надо бы. А тут еще погода испортилась, и когда он отправился во Францию, на теплые воды, купаться ему приходилось чуть ли не под дождем. Он все равно купался — черт с ним, не для удовольствия же все это проделывается! Может быть, скорей отступится проклятая чахотка, и он уедет домой. Домой! Домой, где, как пишут приятели, стоит сухое, жаркое лето, домой, где на письменном столе лежат гранки журнала, каждый номер которого — живое существо, если его делаешь собственными руками. Домой, в просторный летний Петербург, где можно работать, действовать, драться, где противника встречаешь прямо в лоб и можешь схватиться с ним не только в литературной, но и в словесной схватке. Ох, как хотелось ему домой и как зол он был на приятелей и доброжелателей, спровадивших его за границу!
Это безрассудное желание вернуться как можно скорей чувствовали все получавшие от него письма. Недаром Чернышевский грозил немедленным разрывом не только с ним, но и с Некрасовым, и что еще страшнее, с «Современником», если он вздумает приехать недолечившись. Недаром Некрасов с величайшей деликатностью обставлял финансовую сторону его путешествия, устраивая все таким образом, что журналу будто даже было выгодно возить своего критика по заграницам. Больше всех возмущался дядюшка Василий Иванович.
— Ты подумай только, — говорил он своему постоянному собеседнику — слуге Егору, — какое счастье и какой почет Николаю Александровичу, а он все недоволен. Изо всей нашей семьи один он удостоился за границами пожить. Сестры-то его, да и вся другая родня, из Нижнего никуда не выезжали, а он поди — по Швейцариям да Франциям разъезжает. И хоть бы слово о заграницах-то написал, нет, все о делах да о делах беспокоится. «Пишите мне, дядюшка, обо всем, что в Петербурге делается». Ну, я и пишу — с ног сбиваюсь, а все события сообщаю.
И, действительно, Василий Иванович ревностно собирал все новости, которые, по его мнению, могли интересовать племянника. Он частенько захаживал в контору «Современника» к Ипполиту Панаеву и, солидно усевшись за стол, начинал обстоятельную беседу. «Вот Николай Александрович интересуется, как у нас дела-с…» Не довольствуясь беседой с Панаевым, он зазывал к себе в гости служащего конторы «Современника» Семена Васильевича Звонарева, угощал его чаем и еще раз проверял полученные сведения. Он требовал, чтобы ему из конторы присылали газеты: «Мне из них вырезки нужно делать для Николаши», и по вечерам, вооружившись очками и ножницами, вырезывал все, что, с его точки зрения, имело особый интерес.
— Вот что значит родственные чувства-с, — льстиво говорил ему Егор — продувной, тертый питерский слуга. — Кто, кроме дяденьки, так порадеет о Николае Александровиче? Никто-с. Только вы.
— Ну, ну, не болтай лишнего, — возражал польщенный Василий Иванович. — Не мешай мне работать, возьми вот, пойди себе в портерную, освежись.
Когда Егор уходил и в квартире устанавливалась тишина, Василий Иванович придвигал к себе чернильницу, озабоченно осматривал перо — не пристала ли какая-нибудь дрянь? — и начинал, благословясь, письмо за границу дорогому племянничку Николаше Добролюбову.
III
Лето выдалось жаркое и сухое. Горячие ветры носились над растрескавшейся землей, трава побурела и посохла, листья на деревьях были мелкие и желтые. Колосья в поле торчали прямо, как пустые, они были легкие, с неналившимся зерном, и к земле склонились слегка только те, на которых уродливым черным рогом росла спорынья. Зато с небывалой силой росли в хлебах васильки. Их сухие синие цветы на длинных серых стеблях густо стояли на межах, расталкивали колосья, выбегали на дорогу. Они росли гуще, чем лебеда, чем другие сорные травы, и на стеблях некоторых из них плотно сидели блестящие черные тли.
Леса стояли, точно приготовившись для пожара. Казалось, брось уголек — и все кругом забушует страшным чудовищным огнем. Мох высох и рассыпался под ногами, речки обмелели, болота не хлюпали, а шелестели, как бумага. Обессиленные, с раскрытыми клювами сидели на дорогах вороны.
Но хуже всего было в деревнях. С ужасом смотрели мужики на высыхающие хлеба, на сгоревшую траву, на скотину, которую нечем кормить. Беспощадное злое солнце неумолимо совершало свой путь, и ни одно облако не выплывало ему навстречу. Напрасно из сельских церквей выносили хоругви и иконы, напрасно знающие старухи — деревенские ворожеи — наговаривали дожди и громы, — ни одна капля не падала с раскаленного синего неба.
А тут еще начали вспыхивать пожары. Они вспыхивали чаше всего ночью, и обезумевшие бабы, в одних рубахах, схватив голых, орущих от страха младенцев, с воем выбегали на улицу. Бороться с огнем было бесполезно — он набрасывался на соломенные крыши, на сухие ветхие избы, он охватывал в одно мгновенье даже старую черемуху у колодца, даже колодцы, на дне которых, казалось, закипала последняя, еще не высохшая вода.
— Кара божия! — говорили люди и, надев суму, уходили на богомолье, собирать куски по дороге, слезно взывая к людям и к божьей матери.
Охота в такое лето никуда не годилась, но Некрасов упорно ходил по лесам и болотам, ночуя в деревнях, в лесных сторожках, в шалашах, которые устраивали на берегу рек плотовщики. Он высох и загорел, усы его порыжели, глаза выцвели на солнце. Он до крови сбил себе сапогами ноги, почти ничего не убивал, но не хотел бросить бесполезное и тяжелое занятие. Он совсем не бывал в Грешневе, и отец, обиженно поджимая губы, говорил, что вот, дескать, столичный сынок брезгует родительским кровом, зато не брезгует валяться в грязной избе у серого мужика.
Жил он действительно в избе. Правда, в довольно опрятной, хоть и ветхой избе своего деревенского приятеля — охотника Гаврилы Яковлевича Захарова. Гаврила Захаров был крестьянин деревни Шода Мясковской волости. Некрасов познакомился с ним случайно несколько лет назад в Костроме на базаре, когда Захаров нес дичь к губернаторскому столу, и с тех пор почти каждое лето наезжал к нему погостить. Он привозил ребятишкам Гаврилы Яковлевича гостинцы и обновки, подарки его жене, охотничьи снасти ему самому. Он подарил ему хорошую собаку Юрку, и эта единственная на всю деревню породистая охотничья собака была предметом зависти всех соседних охотников. Однажды, управитель из соседнего именья вызвал к себе Гаврилу и начал просить, чтобы он уступил ему собаку.
— На что она тебе? — говорил он. — Ты и прокормить ее как следует не сможешь, и уходу у тебя за ней настоящего нет.
— Эта собака не продажная, ваша милость, — ответил Гаврила. — Эта собака — подарок, память от дорогого друга.
Через Гаврилу Яковлевича Некрасов быстро познакомился с крестьянами деревни Шода. Он знал почти всех по имени-отчеству, помнил, как у кого зовут ребят, чьи когда именины. Мужики давно перестали его стесняться, признали за «своего», и когда после нескольких дней, проведенных в лесу, Некрасов с Гаврилой возвращались отдохнуть в Шоду, двери захаровской избы не закрывались до рассвета. «Побалакать с барином» приходили старые деды, их сыновья — самостоятельные, женатые мужики; под окном, заглядывая в избу, толпились бабы и парни помоложе.
В прошлое лето, когда Некрасов был в Шоде, мужики долго расспрашивали его «про свободу». Уже тогда не знал он, что говорить, как отвечать на взволнованные, полные тревог и сомнений вопросы. Еще хуже было сейчас — всякие надежды на то, что реформа принесет крестьянам возможность человеческой жизни, угасала в его душе. Он переставал верить в благие намерения царя, в предполагаемое либералами облегченье участи русского народа, в то, что вообще наступят какие-то изменения в жизни вот этих самых, сидящих сейчас рядом с ним мужиков. Он чувствовал себя очень неловко и гадко — точно это он сам бессовестно обманывал народ. Он боялся и избегал разговоров об «освобожденье», больше сам слушал, чем говорил, и уклончиво отвечал на вопросы, когда ему их ставили прямо.
Однажды, в особенно душный и знойный день, когда о том, чтобы выйти на улицу, страшно было даже подумать, в избе Захарова собрались несколько человек для беседы.
— Не знаю, други мои, ничего не знаю, — говорил Некрасов в ответ на расспросы молодого кудрявого мужика. — Меня на совет не зовут, своими глазами я ничего не видел, а что люди болтают — повторять охоты нет. Знаю одно, что крепостное право решено отменить — вот и все.
— Отменить-то отменят, — уверенно сказал кудрявый мужик, — об этом у нас нынче сомненьев нет. Об другом сомневаемся, об землице. А ну не захочет помещик землю отдавать — что тогда с ней делать-то, с волей?
— Без земли, конечно, не может быть воли, — тихо ответил Некрасов. — А вот на каких условиях будет помещик землю отдавать, за чьи деньги, какую землю — я не знаю.
— Вот, вот, — заволновался кудрявый. — Это-то самое и беспокоит крестьянство. Мы так понимаем: вся земля должна быть крестьянину отдана. Ему она принадлежит, он ее работник, значит, и хозяин тоже он.
Он подвинулся ближе к Некрасову и продолжал взволнованно:
— Ты посуди, барин, какой хозяин земле помещик? Взять хотя бы нашего: он здесь годов пять уже не бывал, управитель да бурмистр всеми делами вершат, усадьба запертая стоит. А мы на этой земле родились и выросли — она нашим потом полита, нашими слезами упитана. Мужики так и говорят: землю помещику не уступим, наша она. Усадьба — хрен с ней, пускай ему остается, а землю не отдадим.
— И усадьбу не надобно отдавать, — вмешалась в разговор молодая бабенка. — Вот соседнего помещика мужики и усадьбу сговорились не отдавать, на кирпич, говорят, разберем, церкву выстроим. А нашему что за счастье? — У него именьев-то по всей России, а сам по заграницам живет, сюда и не ездит.
— Ишь, как ты проворно распорядилась, — проворчал дед, сидевший свеся ноги на печке. — Прямо не баба, а министр. Может, ты, к примеру сказать, и лошадей его заберешь и в карете кататься будешь?
— Нам карета ни к чему, — ответила молодайка. — А лошадей да коров куда ему? Если у него земли не будет, лошадей и коров — тоже крестьянству.
— Нет, вы послушайте, какая баба! — не унимался дед. — Она с помещика портки готова снять, а не понимает того, что помещик-то у батюшки царя — главная сила.
— Не бреши, дед, стар уж ты брехать-то, — перебил старика кудрявый мужик. — Какая в помещиках сила? Взять хоть нашего — болесть какая-то его заела, гниет заживо, ноги, как у опоеной кобылы, трясутся, с посошком ходит, а годов ему, поди, не больше моего. Нет, сила в мужике, ему все и принадлежать должно.
Некрасов с интересом смотрел на кудрявого.
«Послать бы тебя, — думал он, — в комиссию, которая подготавливает реформу. Да не одного тебя, а десять, двадцать таких, как ты. Поручить бы это дело вам, а не тем, кому поручено. Какими мудрыми и справедливыми были бы ваши решения… А сейчас — опутают мужиков, обманут, продадут с головой».
Он вздохнул и пожалел, что нет здесь рядом с ним Николая Гавриловича. Вот кто мог бы сказать мужикам то самое нужное слово, которого ждут они и которое сам он сказать им не умеет. Хотя — кто знает? — может быть, и Николай Гаврилович тоже молчал бы, слушал да записывал себе в книжечку разные свои и мужицкие мысли.
Он вспомнил вдруг один давнишний разговор с Чернышевским. Они гуляли тогда вдвоем по парку, на петергофской даче, и Николай Гаврилович рассказывал, как представляется ему жизнь будущего свободного общества, в котором все будут равны и счастливы. Он говорил о труде, радостном, как песня, о богатых, тучных нивах, о прекрасных стеклянных дворцах, полных воздуха и света, в которых будут жить свободные, счастливые земледельцы. Все богатства жизни, все сокровища культуры станут достоянием тех, кто пашет землю и выращивает хлеб.
Некрасов постарался представить себе эту картину. Тогда, гуляя с Чернышевским, он представлял ее довольно ясно, но сейчас? В этой избе? В этой деревне, где соломенные крыши растрепанными шапками нахлобучились на почерневшие избенки, где неподалеку помещичий управитель засек вчера мужичка чуть ли не до полусмерти, где грамоту знают только несколько школьников, а парни постарше уже успели ее забыть? Как трудно было здесь вообразить ту жизнь.
Шум на улице прервал его невеселые думы. В избу вбежал парнишка, размахивая руками, вытаращив светлые выцветшие глаза.
— Туча, туча! — кричал он, захлебываясь от волненья. — С леса заходит, полнеба закрыла. Черная, толстая, дождь сейчас пойдет.
— Услышит господь молитвы, — проскрипел дед, свесивший с печки белую голову. — Услышала, заступница крестьянская, матерь пресвятая богородица, умилостивила создателя своими слезами.
Он закрестился и начал торопливо слезать с печи, нащупывая лавку сухими, тонкими ногами. Мужики повалили вон из избы; небо сразу потемнело, ветер пронес по улице облако пыли. Старая береза на дворе задрожала всеми своими мелкими, пожелтевшими листьями, ласточки, с пронзительным криком пролетая мимо, зачертили крыльями по земле.
Туча шла из-за леса, низкая, темная, лиловая. Ее ровный, плотный, чуть выгнутый край уже закрыл солнце, но свет его, как позолоченная пыль еще дрожал на небе. На дворах тревожно кричали петухи, чья-то лошадь прибежала с поля, и, вздрагивая, остановилась около избы. Захаровская бабка выставила на окно образ: «Пролей, господи, дождь, не отведи милость твою мимо».
На одно мгновенье установилась тишина, потом, почти одновременно, белая молния расколола тучу и сразу ударил гром. Удар был сильный и короткий, он не рассыпался эхом, не расплылся постепенным рокотом. Гром ударил сухо и коротко, как выстрел, открывающий битву. И вслед за ним снова сверкнула молния, а за ней другая и третья, — ломаные зигзаги не погасали ни на одно мгновенье, и гром грохотал уже над самой головой.
Бабы бросились в избы, они заливали водой горящие в печках дрова, вытаскивали на двор дымящиеся головни и, стуча вьюшками, закрывали трубы. Сразу захлопнулись окна, куры забились под крыльцо, воробьи с гомоном спрятались под крышу. Дождь уже шел где-то в поле, белая пелена закрыла лес; она приближалась так быстро, что дождь обрушился, как лавина, на деревню, не предупредив первыми каплями о своем приближении. Люди кинулись к избам, и только простоволосый дед остался стоять посреди улицы. Он крестился, глядя на небо, и вода стекала по его плечам, по рукавам прилипшей к телу рубахи.
Дождь шел долго. Всю ночь слышал Некрасов сквозь сон как гремел, то приближаясь, то затихая, гром, как шуршали по крыше потоки воды, как барабанили капли по листьям деревьев. На рассвете он подошел к окну. Красная ослепительная заря залила небо, клочья лиловатых туч неслись, догоняя друг друга; их становилось все меньше и меньше, и дождь, крупный, но редкий, переставал и снова внезапно начинался.
Некрасов открыл окно. Запах теплой мокрой земли пахнул ему в лицо, влажная прохлада прильнула к его открытой груди. Он сел на подоконник, спустив босые ноги на улицу. Земля на завалинке была теплая и сухая — сюда дождь, видно, не попадал.
— Что рано проснулся, касатик? — сказал кто-то негромко.
Некрасов вздрогнул. Голос раздавался совсем рядом — у его ног, на завалинке сидел захаровский дед.
— Я так всю ночь не сплю, — прошамкал дед, подняв на него голубые глаза, — сижу, любуюсь. Спасла туча-матушка, выручила.
IV
Грозы пошли одна за другой. Не было дня, чтобы не бродили по небу темные тучи, не ворчал гром, не проливались на землю крупные светлые, точно стеклянные капли. Охотничья куртка Некрасова намокала и высыхала по нескольку раз в день, — много гроз настигало его в лесу или в поле; молнии, казалось, вонзались совсем рядом, а гром был как треск расколовшейся земли. Гаврила снимал шапку и торопливо крестился, опасливо посматривая на небо; собаки жались к ногам и дрожали, подобрав мокрые хвосты под брюхо.
Но дождь проходил быстро, и солнце снова сверкало на небе, а от земли поднимался теплый духовитый пар. Собаки стряхивали мокрую шерсть, и охотники двигались дальше. Записная книжка Некрасова заполнялась день ото дня. Он чувствовал, как звуки и образы толпятся в его голове, и знал, что достаточно будет сесть за стол, как они сами польются на бумагу.
Здесь, в костромских лесах, родилась у него мысль написать поэму «Коробейники» — поэму, которую можно было бы издать для народа в давно задуманной им серии «красных книжек». О коробейниках, убитых где-то здесь в лесу, ему рассказал Гаврила Яковлевич, и он был очень благодарен ему за это. Короткие напевные строчки будущей поэмы уже складывались в его голове, и он бубнил их себе под нос.
Гаврила Яковлевич был хорошим попутчиком и славным собеседником. Он как бы намеренно не касался «острых» вопросов, рассказывая о вещах всегда интересных, — о случаях на охоте, о деревенских событиях, о том, что сам слышал от бывалых людей. Пожалуй, даже с Тургеневым Некрасову было бы сейчас немногим лучше. А может быть, даже хуже? С Тургеневым возникали бы споры. А тут он просто слушал то, что рассказывал ему Гаврила.
Некрасов был благодарен Гавриле за осторожность, с которой тот оберегал его покой и отдых. Гаврила был спокойный, уравновешенный человек; речь его лилась неторопливо, движения были скупы и размерены, голос басовит, но негромок. Рыжеватая густая борода закрывала лицо почти до самых глаз; весь он был крепкий, мускулистый. «Добрыня Никитич» — называл его Некрасов. Он жил немного лучше, чем другие шодинские мужики, — нищета не выпирала дырами и лохмотьями, не вопила из каждого уголка избы. Был он мастером на все руки — и охотник, и немножко столяр, умел сложить хорошую печь, подбить сапоги, починить барскую карету. В молодости хаживал в офенях, а сейчас платил своему помещику оброк, промышлял всем понемножку.
Иногда Некрасову казалось, что вопрос об освобождении, о земле вовсе не волнует Гаврилу. Что куда больше он занят своим внутренним, собственным миром, — своей семьей, своей полоской хлеба, ружьем, собакой. Это вызывало в нем легкую досаду: «Вот, прости господи, за кого ломаем копья! Там страсти бурлят, а тут вода не шелохнется!» Но досада эта была минутной. Он очень любил Гаврилу.
Все в нем нравилось Некрасову: и могучая его фигура, и необычайная внутренняя честность, и уменье все делать, и врожденный, никем не привитый такт.
— Экий ты ладный… — не раз говорил он, любуясь ловкими неторопливыми движеньями Гаврилы. — Все у тебя в руках играет. Ты, поди, за всю свою жизнь заряда зря не выпустил: как стрельнешь — значит убил дичину?
— Мазать, верно, редко приходилось, — посмеиваясь отвечал Гаврила. — Мне мазать нельзя — порох даром в лавке не дают.
Он вскидывал ружье и стрелял, точно не целясь, и сразу же, задевая крыльями за ветки, падал быстрый дупель или тяжелая кряква.
Но однажды Некрасов увидел своего друга в совершенно новом свете. И это было так неожиданно и странно, что он долго потом вспоминал эту ночь.
Они возвращались с охоты в Шоду. Было совсем темно; на небе, закрывая звезды, бродили тучи, кругом шелестела рожь, а вдали, над лесом, вспыхивали беззвучные зарницы. Приближалась гроза, и в душную неподвижную ночь вдруг врывались откуда-то легкие порывы ветра и исчезали, прошумев ветками деревьев.
Они шли давно и присели на край дороги покурить. У Некрасова ныли ноги и слипались глаза. Хотелось стащить сапоги, опрокинуться на мягкую копну сена и заснуть в одно мгновенье, не успев ни о чем подумать перед сном. Он сидел, прислонившись к стволу дерева, и в темноте еле различал фигуру Гаврилы, который опустился на пенек и молчал, затягиваясь папиросой. Было душно, и земля даже сейчас, ночью, оставалась сухой и горячей.
Вдруг Гаврила кашлянул и заговорил неуверенным, хрипловатым голосом:
— Послушай, Николай Алексеевич, я давно хочу спросить тебя: ты взаправду душой веришь, что может быть у народа другая жизнь?
— Какая — другая? — сонно спросил Некрасов. — Какая другая? Жизнь всегда бывает другая, ничто на свете не остается неизменным.
Ему не хотелось разговаривать, — неясные, расплывчатые сновиденья уже начали пролетать в его мозгу. Но Гаврила не замолкал. Он продолжал спрашивать:
— Это, может, в городе не бывает, а у нас бывает. Как жил мой дед да отец, так и я живу. Неужели всегда такая жизнь будет?
«Вот некстати философия одолела! — с досадой подумал Некрасов, открывая слипающиеся глаза. — Молчал-молчал всю дорогу, и на тебе — разговорился».
Он уселся поудобней — какой-то сучок упирался прямо в спину — и ответил зевая:
— Ну, это тебе, поди, кажется, что все одинаково. Отец твой, вон, грамоты не знал, а ты знаешь. Подумать, так и еще что-нибудь найдется.
— Нет, я не про то, — нетерпеливо перебил его Гаврила, — я про другое, про полное изменение жизни. Вот после того, как освобождение получим — изменится тогда моя жизнь или нет?
Некрасов вздрогнул, и сразу исчезло сонное состояние. «Ах, вон он о чем! Разговор-то, оказывается, серьезный». Он посмотрел в сторону Гаврилы. В темноте видно было только, что он сидит ссутулившись и огонек папиросы, вспыхивая, освещает его бороду и большую тяжелую руку. Картуз низко надвинут на лоб, но под козырьком угадывались взволнованные, вопрошающие глаза.
Некрасов окончательно стряхнул сон, бросил еще тлевшую в пальцах папиросу, и она, описав дугу, упала на дорогу и рассыпалась красными искрами.
— Конечно, изменится, — сказал он уверенно. — Еще бы не изменится.
— И будет мне тогда полное счастье?
Голос его, обычно такой спокойный, чуть насмешливый голос бывалого мужика, звучал сейчас совсем по-новому — тревожно и неуверенно.
— Ну, относительно счастья ты у цыганки спроси, — попробовал отшутиться Некрасов. — Почем я знаю, будет ли тебе счастье?
Но, сказав так, он сразу же почувствовал угрызенья совести. Нельзя было шутить — Гаврила спрашивал его серьезно, видимо, он давно задумал спросить, да ждал подходящего случая:
— Как мне ответить тебе, друже, чтобы не обмануть тебя? — переменил он шутливый тон на серьезный. — Я надеюсь, что тебе будет лучше, а вот совсем ли хорошо — не знаю.
Он понял, что и этот ответ не удовлетворяет Гаврилу, начал было говорить о преимуществах личной свободы, да запутался, почувствовал, что говорит неубедительно, и замолк. Гаврила тоже молчал, и казалось — спина его ссутулилась еще больше и еще ниже съехал на глаза козырек. Кругом стояла тревожная предгрозовая тишина, — ни один лист не шевелился на деревьях, ни один колос не шуршал в поле, невысокой стеной темневшем через дорогу.
Некрасов забыл, что еще полчаса назад мечтал о крынке молока и о мягком стоге сена. Он перестал ощущать, что заскорузлые после хожденья сапоги натирают ноги, что какой-то упрямый сучок все еще подпирает ему бок. Он знал, что Гаврила ждет от него более определенного, более прямого ответа, и страдал оттого, что не может сказать ему ничего радостного.
— Мне самому, брат, очень хочется верить, что ты будешь жить счастливо, — сказал он виноватым тоном. — Мне очень хочется этому верить, да боюсь я, что мало чем изменится твоя жизнь. Ты не очень надейся на эту свободу, не надо слишком надеяться, чтобы потом не огорчаться.
Гаврила, все еще сидевший неподвижно, вздрогнул и всем телом повернулся к Некрасову. Его глаза заблестели под низко надвинутым козырьком, руки схватили какую-то палку и с хрустом переломили ее пополам. Он пересел с пенька поближе к Некрасову и стало слышно его тяжелое прерывистое дыханье.
— Я и не надеюсь, — сказал он глухо. — Кто нынче верит? Бабы, может, да ребята помоложе. Да старики, вроде моего отца. А я все хочу тебя спросить, да беспокоить не смею. Вижу, что и тебе это — как болячка на теле.
Некрасов с благодарностью посмотрел на него: насколько стоял он выше его городских друзей, которые с каким-то сладострастием ковыряли именно «болячки»! Эх, Гаврила, Гаврила, русский мужик, костромской серый крестьянин! Сам ты не знаешь, какое ты золото!
— Обидно мне подбавлять тебе мученья, — сказал он тихо. — Человек-то ты больно хороший, но только врать я тебе не буду. Ты знай, что нельзя ждать добра, — этого не бывает. Когда человек сам себе добывает счастье — он берет именно то, что ему нужно, а когда чужие люди дают — так дадут то, что им уже не годится. Так всегда получается.
Он сказал это и подумал, что Гаврилу этот вопрос интересует не теоретически, не отвлеченно, а как жизненное, сугубо личное дело. Ведь это именно его судьбу решают где-то совсем чужие, равнодушные и даже враждебные его интересам люди. Его ни о чем не спрашивают, и так, не спросив, все и решат сами, решат плохо, несправедливо, жестоко. Как он воспримет эти решения, если уже сейчас так взволнованно звучит его голос?
Он вспомнил, как один помещик в Английском клубе, проигрывая последние деньги, говорил с отчаяньем и злобой:
— Э, пусть летит все к черту! Все равно: дадут мужикам волю — спалят меня дотла. Так пускай — ни себе, ни людям.
Почти одновременно со своей мыслью он услышал голос Гаврилы:
— Обманут — спалим. Спалим все. Если не нам, так пусть и не барам.
В голосе его звучала глухая угроза. Казалось, тронь его — и он первый во главе разъяренных людей, двинется вперед, широкоплечий, бородатый, с беспощадным суровым лицом. Он будет поджигать барские скирды в поле, стога в лугах, надворные строенья, белый помещичий дом. Он не пощадит ничего, и когда казацкая сотня окружит мужиков, кинется сокрушать все на своем пути. Его схватят после долгой и упорной драки, изобьют, свяжут, будут судить и погонят потом по Владимирке на каторгу.
Это представилось Некрасову так ясно, как будто он уже видел Гаврилу когда-то в партии арестантов с бубновым тузом на спине и кандалами на ногах. Он содрогнулся от этого виденья и сказал неуверенно:
— А что будет потом? Ты думал об этом? Губернатор пришлет ни помощь барину войск, вас перепорют, зачинщиков погонят на каторгу, а землю отдадут помещиковым наследникам. Вот как кончится дело, Гаврила Яковлевич…
— Так что же нам выходит — терпеть? — вдруг злобно спросил Гаврила. — Как поп учит, — надеяться на загробную жизнь? Да нам, поди, и в раю места не хватит — мало свечек ставим, на церкву денег не жертвуем.
Некрасов вздрогнул, — он никогда не слыхал таких ноток в голосе своего приятеля.
— Нет, не надо надеяться на загробную жизнь. За гробом, брат, ничего нет — человека зароют в землю, а там его съедят черви. Но не надо также позволять, чтобы тебя сгноили в тюрьме.
Он призвал мысленно на помощь Чернышевского: «Ну, ну, Николай Гаврилович, пойдите сюда, помогите» и начал подробно излагать дело так, как сам понимал: погромом одного помещика ничего не добьешься, надо действовать всем вместе, целой губернией, краем, всей Россией. Действовать так, чтобы все мужики приставали к восстанию, чтобы испугалось правительство и сделало все, что от него требуют.
— А может быть, — добавил он раздумывая, — можно было бы и правительство сменить. Такие случаи бывали в других странах. Только это не легкое дело, — много надо жизней положить, чтобы этого добиться, и, может быть, только внуки твои увидят в конце концов настоящую жизнь.
— Ладно, пусть не нам, пусть внукам, — нетерпеливо сказал Гаврила. — Но когда же начинать-то? Кто кликнет клич, чтобы поднималися мужики?
Он сорвал с головы картуз, бросил его на землю и встал перед Некрасовым, нетерпеливый и возбужденный. Это было точно во сне, точно не на самом деле, — тихая предгрозовая ночь, таинственный лес за спиной, неподвижное, спящее поле перед глазами и необычный, волнующий разговор с Гаврилой, которого он знал столько лет и, оказывается, не понимал совершенно. Некрасов не видел его лица, но по напряженной руке, ухватившей затрепетавшую всеми листьями ветку, по сдавленному голосу, по всей его фигуре чувствовал, что лицо у него должно быть напряженное и застывшее.
На небе все чаще и чаще вспыхивали далекие молнии, не освещая землю, только на мгновенье заливая белым светом взлохмаченные облака. Тихо погрохатывал гром, какая-то ночная птица резко и пронзительно заплакала в лесу. Вот она беззвучно пролетела мимо, низко припадая к кустам и быстро трепеща крыльями.
— Вот вы, образованные люди, — глухо заговорил Гаврила, — ничем не можете помочь мужикам. А народ-то сейчас, что сухой порох — подложи уголек и вспыхнет, и все кругом подожжет. А уголька-то и нет… Эх, были раньше люди! Пугачев был, Разин… Где б теперь таких-то сыскать?
Он согнул ветку, и она, хрустнув, переломилась и повисла, держась на тонком лоскуте коры. Она висела, как перебитое крыло, задевая Некрасова за плечи, ее прохладные листья ласково касались его лица, и он прижал ее к щеке, как нежную женскую руку. Но Гаврила дернул ветку, и она оторвалась совсем, оцарапав Некрасову щеку. Он почувствовал, что по лицу его бежит кровь и, сорвав горсть листьев, приложил их к израненному месту.
— А вот ты сам начни — и будешь Пугачевым, — сказал он, вытирая лицо. — С меня начал кровь пускать, — гляди, всего раскровянил.
— Что ты, господь с тобой, Николай Алексеевич! — испуганно сказал Гаврила. — Как это я мог тебя раскровянить?
Он присел на корточки и, торопливо чиркая спичками, старался разглядеть лицо Некрасова.
— И верно, друг ты мой ненаглядный, — проговорил он огорченно, — видно, я веткой тебя корябнул. Погоди, я подорожничка поищу, он кровь унимает.
Он начал шарить руками в траве около дороги, подал Некрасову гладкий широкий лист.
— Залепи царапину-то, он чистый, росой обмытый, кровь и уймется…
Разговор, прерванный этим маленьким происшествием, снова вернулся к старой теме. Некрасов начал рассказывать о том, как представляют себе хорошие люди жизнь будущих, счастливых поколений. Рассказы эти, почерпнутые у французских утопистов, приобретали в его устах свой, русский, костромской характер. Все оставалось на месте: и белые березы, и леса, и болота, и кисловатые северные яблоки, и рожь-матушка. Только все это росло и цвело по-новому: широки и богаты были нивы, раскинувшиеся сплошным ковром, без межей, без полосок; гуще росли на них полновесные колосья, крупней были зерна. На десятины вытянулись яблоневые сады, сады с вишеньем, смородиной, крыжовником; широкие ровные дороги протянулись между деревьями и катились по этим дорогам крепкие телеги, запряженные добрыми лошадьми.
Он не говорил Гавриле о стеклянных дворцах, которые описывал ему когда-то Чернышевский. Не стеклянные дворцы, а крепкие, крытые железом избы с веселыми палисадниками, с резными коньками на крышах должны были появиться в новых деревнях. Большие дома, — все, что не было сейчас у родимой деревни, все, что даже в мечтах не снилось мужикам, хотел бы он видеть и почти что видел сейчас перед собой.
— Вот тогда, Гаврила, жизнь начнется по-настоящему. Не будет ни бар, ни помещиков, сами крестьяне станут хозяевами, общиной будут возделывать землю, общиной собирать урожай, поровну делить его между всеми. Все будут равны и свободны, никто никем не сможет помыкать и командовать.
Он замолчал, взволнованный и возбужденный своею речью, — так длинно он, пожалуй, никогда не говорил. Гаврила слушал, не прерывая ни одним словом, может быть, как сказку, а может быть — и веря в то, что все это сбудется.
— Да, — прервал он свое молчание, — много, я думаю, лет должно пройти, чтобы люди так зажили. Но если взаправду хоть внуки мои увидят такую жизнь, так не жалко и в каторге побывать за такое дело. А откуда ты знаешь про эту будущую жизнь, Николай Алексеевич?
— Есть у меня один друг, — ответил Некрасов. — Зовут его Николай Гаврилович Чернышевский. Он мне про нее рассказывал, а он все знает и не обманывает никогда. Хороший он человек, Гаврила, много делает для того, чтобы настала у народа счастливая жизнь, зато и не любят его наши власти, боятся его, потому что знают — правда всегда одолеет!
Он вспомнил Чернышевского с теплотой и нежностью. Вспомнил и страстно захотел услышать его голос, увидеть его, поговорить с ним в его маленьком, заваленном рукописями и книгами кабинете. Как-то он живет — вечный труженик? Один, в пыльном раскаленном городе, окруженный врагами и недоброжелателями? Большим эгоизмом было оставить его одного работать за всех в журнале. Как он там? Не попал бы в беду…
И точно подслушав его мысли, Гаврила спросил боязливо:
— А ну как одюжат его власти? Схватят да сгноят в тюрьме?
— Не схватят, — уверенно ответил Некрасов. — Не таков он, чтобы попасться.
Он достал портсигар, чиркнул спичку, и они оба, низко наклонившись, закурили от ее зыбкого огонька. Занялась заря. Красная и тревожная, она озаряла багрянцем сизые тучи, и стало видно, как их много и как быстро они бегут по небу. Гроза проходила стороной, и высоко над ними в светлом бесцветном небе теплились чуть видные звезды. Некрасов взглянул на дорогу. Собаки, до сих пор лежавшие, растянувшись в пыли, поднялись и стояли рядом. Они удивлялись — почему люди не идут домой, — и одна из них даже повизгивала тихонько от нетерпения.
— Пора нам к дому, — сказал Некрасов. — Ишь, как мы засиделись, — солнце скоро вставать будет. Пойдем, путь у нас длинный, — не доберемся, пожалуй, до жары.
Они поднялись и зашагали рядом по тропинке вдоль дороги. Собаки резво помчались вперед, обнюхивая на ходу траву и мелкий кустарник. На душе у Некрасова стало легко и спокойно. Они шли молча, но это молчание не было напряженным и тягостным.
На повороте, там, где дорога, отдаляясь от поля, спускалась к реке, они увидели убогий лагерь. Худая лошаденка, понурив голову, стояла около телеги; на телеге растрепанной кучей лежал домашний скарб; несколько человек, укрывшись дерюгой, спали на земле. Чуть в стороне тихонько стонала женщина, а около нее неловко и беспомощно хлопотала старуха в длинной черной юбке. Старуха то наклонялась над женщиной, то выпрямлялась и начинала причитать тоненьким голосом:
— И что же с тобой будет, сиротинка моя разнесчастная? Нет у нас над головами кровлюшки, наказал нас господь, не пожалела царица небесная…
Молодой мужик сидел около женщины, обхватив руками голову.
— Что это она? — спросил Гаврила старуху.
— Рожает она, миленький, — завыла старуха, — рожает горемычная. Погорели мы, кормилец, дотла погорели, ветошины худой и то не осталось…
Гаврила покачал головой и сочувственно посмотрел на женщину, на ее мужа, на спавших около телеги людей.
— Погорельцы из Иванькова, — сказал Гаврила. — Вот ведь горе-то лютое. Бредут куда-то люди, а куда — сами не знают.
Он порылся в кармане и вытащил корку хлеба.
— На, бабка, прими, Христа ради!
Старуха взяла хлеб и пробормотала что-то невнятное. Ее покорные, испуганные глаза не выразили ни удивленья, ни благодарности. Некрасов тоже сунул было руку в карман, но там ничего не оказалось. Он виновато улыбнулся и подошел к Гавриле. Оба быстро зашагали к дому. Но вдруг Гаврила остановился.
— Ты иди, Николай Алексеевич, теперь один, — сказал он. — А я вернусь к погорельцам, возьму молодуху к себе — не рожать же ей, как зверю, в лесу.
V
Погорельцев Гаврила поместил в пустом овине, за огородом. Там молодуха родила мертвого ребенка, там через несколько дней и сама умерла от горячки. Жена Гаврилы, Катерина, убивалась по погорелке, как по родной сестре. Она сама обряжала ее в саван, сама сняла с божницы маленькую темную иконку и вложила ее в холодные руки покойницы, сама надела новые лапти на ее застывшие ноги.
Хоронить повезли в соседнее село. Строгая, почерневшая лежала погорелка в гробу. Подбородок уперся в грудь, точно она нагнула голову и взглянет сейчас с досадой исподлобья на причитающую в голос мать.
Провожать погорелку пошла чуть не вся деревня. Медленно двигалась по дороге телега с гробом, около которого примостились чьи-то ребятишки, понуро шагала лошадь, отгоняя хвостом тучу мух и слепней, молча шли мужики и бабы. Солнце светило прямо в лицо покойницы, голова ее сползала все ниже, точно прячась от его жестоких лучей.
Некрасов тоже пошел провожать погорелку. Он шел рядом с женой Гаврилы Яковлевича. Она несла на руках младшего своего ребенка — мальчика, родившегося несколько месяцев назад.
Узкая и извилистая тянулась дорога через поле, мимо погоревшего Иванькова, где люди копошились около черных развалин. Никто не присоединился к процессии, только древний старик, лежавший в тени рядом с пустой телегой, с трудом поднялся на ноги и, сняв шапку, долго крестился и кланялся вслед. Дорога за деревней нырнула в неглубокий овраг, на дне которого бежала пересохшая мелкая речонка, и снова потянулось знойное широкое поле — тихое и безлюдное в этот душный полуденный час.
Ребенок на руках у Катерины начал плакать и выгибаться. Катерина шикала и трясла его, нагибаясь чуть не до земли, но он не умолкал.
— Покормить надо, — сказала Катерина. — Иди, Николай Алексеевич, а я сяду тут на холодке.
Она опустилась на землю в жидкой тени невысокого куста.
— Я тоже отдохну малость, — сказал Некрасов, сняв фуражку и вытирая потный запылившийся лоб.
Он свалился на перегоревшую, запорошенную пылью траву и закрыл лицо фуражкой. Сухие травинки щекотали ему шею, кузнечик верещал совсем близко около уха, и кроме этого резкого стрекотанья, казалось, не было кругом больше ни одного звука. Но нет, — что-то слабо, чуть слышно чмокало рядом, точно с легким шорохом лопались пузыри на воде, — это Катерина дала грудь ребенку, и он, притихший и умиротворенный, сосал и причмокивал губами.
Сдвинув с лица фуражку, Некрасов смотрел на Катерину. Она сидела чуть сгорбившись и уставив неподвижный взгляд в одну точку. Глаза были сухи, веки покраснели от слез, рот крепко стиснут.
— О чем задумалась, Катерина? — спросил Некрасов, дотронувшись до ее руки.
— Вот она, наша долюшка, — кивнула Катерина вслед похоронам, — из чужого овина в черную могилушку.
— Не горюй, милая! — сказал Некрасов. — Мы еще поживем. А тебе-то и вовсе стыд про смерть говорить. Вон у тебя ребят сколько — на кого ты их оставишь?
Он осторожно дотронулся до мягкой, покрытой легким пухом головки ребенка.
— Я сам сиротой рано остался и знаю, как без матери жить. А мать у меня была, Катерина, редкая женщина. Святая женщина, и всем, что есть у меня хорошего, я ей обязан… Хоронили ее, бедную, как мы сейчас молодуху хороним. Целая деревня провожала ее на кладбище.
Некрасов взглянул на строгое, замкнутое лицо Катерины и подумал, что она не слушает его. Ему стало обидно, и он промолвил, глядя в сторону.
— Конечно, она не в чужом овине умерла. Но вот эта погорелка в твоем овине больше ласки видела, чем моя мать в собственном дому…
Он закрыл глаза и постарался представить себе лицо матери. Русые волосы, грустные, словно всегда испуганные глаза, губы, которые, казалось, никогда не умели смеяться. Лицо расплывалось и ускользало из памяти.
И вдруг вся она, как живая, предстала перед ним. Он увидел ее в пустой неуютной столовой около стола, на котором мигая горит желтым огоньком свеча. Мать в темном платье, в серой большой шали сидит, устремив глаза на колеблющееся пламя. Белая тонкая рука ее сжимает носовой платок…
Он вздохнул и полез было в карман за папиросой, но издали донесся медленный и печальный звон колокола.
— К церкви, видно, подъехали, — сказала Катерина, торопливо убирая грудь. — Пойдем скорее, Николай Алексеевич, а то закопают без нас.
Она быстро поднялась с земли и поглядела на него с доброй жалостливой улыбкой.
— Поминаешь, значит, мамашу свою? Не гляди, что сам седой, а матери позабыть-то не можешь? Закажи панихиду по ней после похорон-то, — и ее душеньке ладно и тебе облегчение.
На отпевание в церкви они опоздали. Гроб уже несли по узенькой дорожке кладбища, вглубь, за деревья. Впереди шел священник, махая кадилом, сзади голосили и причитали бабы. Следом за ними от церкви ковыляли нищие и убогие.
Некрасов на кладбище не пошел; обойдя его, он очутился на площади. Там полукругом стояли женщины и ребятишки, а против них под оградой сидели слепцы. Их было восемь человек: три бабенки с некрасивыми рябыми лицами, маленький лысый старичок, высокий мужик с бельмом и три совсем молодых, тоже рябых парня. Один из них держал на коленях какой-то инструмент вроде гуслей и медленно дергал жалобно дребезжавшие струны.
Слепые пели духовную песню, и их негромкие приятные голоса похожи были на церковный хор. Мальчик-поводырь тоже подтягивал им тоненьким дискантом, и голос его вплетался, как яркая нитка, в монотонный протяжный мотив. Слепые сидели, высоко подняв головы, запрокинув лица к животворящему свету солнца.
— Хватит вам молитвенное-то тянуть, — громко сказал молодой веселый мужик в рваной на локтях рубахе без пояса, — чай по всему свету ходите, новые песни слышите. Спели бы чего-нибудь мирское!
Слепые тревожно повернули головы, и веки их мертвых глаз заморгали часто и беспокойно.
— Те песни не нами сложены, — густым басом ответил тот, что с бельмом, — и не нашим гласом поются. Мы до мирских песен не мастера.
— А ты не ври, — не унимался мужик. — Лонысь в Шанге вам водочки поднесли, так вы другие песни-то пели, сам слышал. Ты не бойсь — мы тоже поднести можем, если угодите.
Он подмигнул Некрасову и сокрушенно вывернул карман своих холщовых портов. Некрасов улыбнулся и полез за деньгами.
— Ну вот — теперь и водочка будет, — ударил по плечу слепого гусельника веселый мужик. — Захожий охотничек угощает. Я бы сам рад угостить, да беда приключилась: карман порвался, кошель потерялся.
За водкой побежал поводырь, а слепой с бельмом, постучав палкой по ограде, заговорил, глядя вверх и точно обращаясь к солнцу:
— Споем мы вам, православные, песню, из далеких стран принесенную. За градом Минском, в деревнях убогих спевают ее мужики бедные. Кто сложил ее — нам неведомо, а поется в ней про долю крестьянскую, про то, как царь-батюшка мужикам желает волю дать, а бояре-князья отговаривают, улещают его, запутывают…
Слепой замолчал и, вытянув шею, точно прислушивался, что скажут ему окружающие его люди. Но никто не промолвил ни слова, — напряженную, выжидающую тишину нарушали только пронзительные крики ласточек, носившихся черными зигзагами вокруг колокольни.
Тогда он толкнул в плечо парня с гуслями и запел приятным, чуть хриповатым голосом:
Говорят на свете, В голос все толкуют. Люди православные Одну думку чуют, Что волю им, бедным, Даст царь без откладу, Что только с панами Не найдет он ладу. Чего царь наш хочет, То всем им не мило, Лютая зависть Им душу залила. Сговорились паны И царю толкуют: «Царь ты наш яснейший, Что ж с этого будет? Дашь мужикам волю? Они нас погубят. Побьют, поколют, Спаси ты нас, боже, Нет, мужик на воле Жить никак не может».Быстро и сильно дергает струны слепой гусляр: низкие, угрожающие нотки слышатся в голосе певца. Он нагнул голову, обеими руками уперся в посох и, кажется, двинется сейчас вперед, белоглазый и страшный.
Убежим от пана, От жизни постылой, А возьмем с собою Мы топоры и вилы. А у пана в глотке Пирог костью встанет, Как мужик свободу Сам себе достанет.— Замолчите, охальники! — раздался вдруг грозный оклик. — Около храма, под образом пресвятые богородицы мерзопакостные песни поете! Прочь отсюдова, чтобы духу вашего не было, ежели в холодную угодить не хотите!
Песня оборвалась на полуслове. Испуганно поднимались с земли слепцы, растерянно хватаясь друг за друга. Мужики и бабы расступились, и на середину круга вышел высокий дьякон в белом засаленном подряснике. Он гневно размахивал руками, и, налетев на слепцов, начал толкать их в спины.
— Потише, потише, отец дьякон, — выступил вперед Некрасов. — Зачем толкаться? Они и так уйдут, а вы напрасно роняете достоинство своего сана.
Дьякон оторопело посмотрел на Некрасова и опустил руки.
— А вы кто такой, государь мой, чтобы мне указывать? — спросил он запальчиво.
— Прохожий охотник, — улыбаясь ответил Некрасов. — Да вы не волнуйтесь, — они все сейчас уйдут, вон и поводырь их бежит.
Он взял за руку слепого с бельмом и потянул за собой, остальные цепочкой, держась друг за друга, неуверенно двинулись следом.
…До самых сумерек просидел Некрасов на опушке леса, угощая слепых, слушая их песни и рассказы.
Когда на небе начали зажигаться первые дрожащие звезды, Некрасов распрощался со слепыми. Они дружно зашагали по мягкой дороге.
Дорога была пустынна в этот вечерний сумеречный час. Глубокая теплая тишина окутала землю.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
I
На вокзале Некрасова встретил Василий. Он вскочил в вагон и сразу же начал сообщать новости:
— У нас все больны-с, — говорил он, скорбно опустив голову к плечу. — У Авдотьи Яковлевны неприятности с судом. К Ивану Ивановичу родственники из деревни изволили приехать, помещики с детками. Ищут квартеру, а пока в угловой проживают. Николай Гаврилович вчерась сами заходили, а сегодня с утра слугу присылали спрашивать — не изволили ли вы возвратиться.
— Ну, ну, — неопределенно хмыкнул Некрасов, — бери чемодан и пойдем. Ишь, как ты раздобрел! Спал, поди, глаз не продирал.
— Никак нет-с! — обиженно ответил Василий, — я тоже болел. У меня сердечное стеснение в груди. А вы изволили похудеть и с лица почернели — пользы с вашей поездки я не вижу.
Он взял чемоданы и пошел к выходу. Некрасов засмеялся и двинулся за ним, глядя на его круглую спину и красный выбритый затылок. Вот и приехал домой! Ей-богу, это совсем не так неприятно!
II
У Авдотьи Яковлевны, действительно, были «неприятности с судом». Разбирательство старого дела с огаревскими деньгами закончилось, суд признал ее и Шаншиева виновными в исчезновении пятидесяти тысяч и постановил взыскать с них эти деньги.
В Петербург приехал поверенный Огарева — Сатин и привез с собой это решение Московского Надворного суда. Говорили, что он заявил о своем твердом намерении засадить в долговую тюрьму главную виновницу — Авдотью Яковлевну и даже представил уже «кормовые деньги» для ее тюремного содержания.
Сатин с Панаевыми еще не объяснялся, атмосфера дома была напряженная, и каждый звонок на парадной вызывал смятение и тоску. Исстрадавшаяся Авдотья Яковлевна то, как затравленная, металась по комнатам, то часами стояла около окна, вглядываясь в каждую проходившую мимо фигуру.
Так ее и застал Некрасов, когда в сопровождении Василия вошел в свой кабинет.
Услышав звук его шагов, она обернулась и ухватилась за портьеру.
— Ты! — проговорила она. — Ты! Боже мой, боже… Наконец-то!
Она нагнула свою, когда-то гордую голову и закрыла ладонями глаза. Слезы, не появлявшиеся во все эти дни, безудержно полились из глаз. Она шагнула навстречу, но бессильно опустилась на стул.
— Если бы ты знал, как я измучилась, — повторяла она, не отнимая рук от лица. — Если бы ты знал… Столько лет, столько ужасных лет…
Некрасов остановился посреди комнаты.
— Ну что ты, что ты, — растерянно проговорил он. — Ну полно расстраиваться, экое, подумаешь, несчастье!
Он свирепо посмотрел на Василия, который сунулся в дверь с каким-то вопросом, поискал глазами графин с водой и, не найдя его, подошел к Авдотье Яковлевне. Отвел ее руки от плачущих глаз и увидел горькие морщинки на лбу, в черных блестящих волосах несколько белых нитей, и его охватила нестерпимая жалость.
— Как тебя напугали, горемычная ты моя! — прошептал он, наклоняясь к ней. — Но теперь все кончилось, все прошло — никто тебя не тронет, ты ни с кем не будешь объясняться. Я буду с ними разговаривать, а тебя никто не посмеет беспокоить.
Он гладил ее по голове, по плечам, заставил ее подняться со стула, вытереть слезы, подойти к зеркалу и поправить прическу. Она повиновалась с почти механической готовностью. Он, намеренно бодрым голосом, начал рассказывать ей о дороге, передавал приветы московских приятелей, спрашивал о журнале, о Чернышевском и, не дождавшись ответа, продолжал говорить сам. А она, скованная единственной, всепоглощающей заботой, не слушала, а только все крепче сжимала его руку, точно боясь, что он вдруг исчезнет и она вновь останется одна.
В этот же день, не успев отдохнуть после дороги, Некрасов принялся выяснять положение. Авдотья Яковлевна не могла ничем помочь ему — она лежала в своей комнате с холодным компрессом на лбу, лицо ее передергивал нервный тик, и Некрасов сам дал ей снотворного, приказал спать и ни о чем не думать. Когда она покорно закрыла глаза, он вышел из комнаты, распорядившись, чтобы без его разрешения никто не смел ее беспокоить.
Вечером он приказал Василию разыскать и привезти Шаншиева. Шаншиев явился с портфелем, из которого высовывались папки с пожелтевшими от времени и истрепавшимися от хожденья по судебным инстанциям документами. Еще с порога, не успев поздороваться, он начал кричать, что его запутали, обошли, обманули, что на него взваливают чужие грехи, хотят пустить по миру, а он виноват только в том, что из уважения к Панаевым, взялся вести это совсем ненужное ему дело.
— Я не имел в этом деле никакого интереса, мое семейство разорено, мое доброе имя опозорено! Меня, как прощелыгу, таскают по судам и грозят упрятать в долговое отделение.
Он бросил портфель на стол, около которого, не поднявшись для приветствия, сидел, нахмурившись, Некрасов.
— Вот все документы этого проклятого дела, — нелицеприятные свидетельства моего благородства, — трагически заявил Шаншиев. — Смотрите, проверяйте, убеждайтесь. Вы давно имели возможность это сделать.
— Весьма сожалею, что не сделал, — сухо сказал Некрасов. — Не для того, разумеется, чтобы убеждаться в вашем благородстве… И сейчас желаю ознакомиться не для этого. Я намерен выяснить, наконец, какая часть долга должна быть уплачена лично вами и какая — Авдотьей Яковлевной.
— Я ни копейки не буду платить! — закричал Шаншиев, — ни гроша, ни полушки! Я только поверенный в деле, только выполнитель распоряжений, которые мне давала Авдотья Яковлевна.
— Давайте прекратим эти бесцельные препирательства, — перебил его Некрасов. — Я решил разобраться сам и разберусь — можете быть уверены. И разговоры о непричастности своей бросьте, меня вам опутать не удастся — я не Панаев и не Огарев. Будьте любезны сесть рядом и давайте говорить по-деловому.
Он подвинул к себе портфель Шаншиева и вытряхнул из него ворох документов. Быстро пробегая их глазами, он небрежно отбрасывал в сторону одни, внимательно перечитывал другие, откладывал в аккуратную стопку третьи. Шаншиев с тревогой следил за ним, пытаясь вмешаться в эту сортировку, но Некрасов не обращал на него внимания. Он весь ушел в работу, лицо его побледнело от напряжения, он не переставая курил, зажигая новую папиросу от догоревшей.
Давние, полузабытые годы, лица, события возникали перед ним из этих документов. Записки, набросанные неразборчивым беглым почерком покойной Огаревой, письма Авдотьи Яковлевны, доверенности, квитанции, бесчисленные справки, помеченные старыми-старыми датами. Как странно, что все это сохранялось, скапливалось, оставалось живым и неизменным в то время, когда люди, писавшие их, умирали и изменялись. Давно заросла травой, а может быть, и исчезла совсем могила Огаревой на парижском кладбище, давным-давно Авдотья Яковлевна перестала быть той беспечной и юной женщиной, которая так легкомысленно впуталась в дела между супругами Огаревыми, а дело все продолжало существовать и мертвой петлей затягивало эту, по существу совсем другую женщину. Петля обвилась и вокруг него самого, не имеющего ко всему этому никакого отношения. Сколько лет он с гадливостью ощущал ее прикосновение и из болезненной гордости, из нелепого чувства обиды на несправедливость не делал попыток рассмотреть пристальней — кто же все-таки виноват. Это было страшной ошибкой с его стороны — во всяких неясностях надо разбираться сразу и делать это решительно и беспощадно.
За окнами давно наступила ночь, и Василий уже несколько раз подавал крепкий чай. Утомленный Шаншиев потерял свою самоуверенность и, наскучив сидеть на жестком стуле, перебрался на диван и дремал, вздрагивая при каждом шорохе бумаги, при каждом движении Некрасова. Но сон, в конце концов, сморил его, и он повернулся лицом к стене.
Когда он проснулся — в комнате было светло. Василий, подняв шторы, убирал на столе и подметал пол, с шумной бесцеремонностью передвигая мебель. За дверью были слышны голоса — Некрасов рассказывал что-то, и хрипловатый его голос звучал весело и бодро.
— Я раз стреляю — он летит. Два стреляю — опять летит. Тут Гаврила как трахнет — он сразу кувырком. Я даже не огорчился — такой выстрел замечательный.
В ответ быстро заговорил тонкий голос — Шаншиев узнал Чернышевского. Некрасов засмеялся, и смех его был добродушным и беспечным. Услышав этот смех, Шаншиев почувствовал облегчение — он даже во сне видел мрачное и угрожающее лицо Некрасова.
— Сговоримся! — подумал он. — Гроза-то, видно, миновала. Он сел и начал карманным гребешком приводить в порядок расстроившуюся прическу. Василий, злорадно посмотрев в его сторону, забрал тряпку и швабру и вышел из кабинета.
— Изволил проснуться ваш гость, Николай Алексеевич, — сказал он ухмыляясь. — Красоту на себя наводят.
Некрасов прервал рассказ, и лицо его сразу стало злым и жестоким.
— Проснулся? — переспросил он. — Ну, значит, начнем сейчас разговор. Вы подождите меня здесь, Николай Гаврилович, — разговор будет крупный, но, надеюсь, короткий.
Чернышевский кивнул и взял газету. При первом же звуке голоса, доносившегося из-за двери, он удовлетворенно улыбнулся.
— Жуликов и прохвостов надо учить, — сказал он, обращаясь к Василию. — Вы согласны с этим, друг мой?
— Совершенно справедливо, — глубокомысленно ответил Василий. — Они иного разговору не понимают. Сколько неприятностев всем из-за этого дела, сколько огорченьев. Николай Алексеевич с дороги еще не прилегли, а он разлегся, как дома.
Он смахнул пыль с курительного столика и добавил пренебрежительно:
— Те, кто должен беспокойство иметь по этому делу, — только плачут да руками разводят, а нам хотя это дело с боку-припека, а разбираться приходится. Одним словом — беспомощность.
Чернышевский зашуршал листом газеты, показывая, что не хочет продолжать беседу на эту тему. Из соседней комнаты раздался полный бешенства голос Некрасова, стук отброшенного или опрокинутого стула.
— Помяните мое слово — Николай Алексеевич его изобьет! — радостно заявил Василий. — И вполне справедливо — не наживайся на чужом имуществе!
— Устройте мне, пожалуйста, горячего чаю, — точно не слыша происходящего в соседней комнате, сказал Чернышевский. — И подайте его в столовую у Авдотьи Яковлевны, — я сейчас туда приду.
Василий неохотно вышел из комнаты, а Чернышевский, отложив газету, плотнее задернул тяжелые портьеры на двери. Но голоса продолжали доноситься отчетливо, и он понял, что, оставаясь здесь, невольно станет свидетелем всего разговора.
— Огаревское поместье вы вернете! — услышал он голос Некрасова. — Зачем вы его забрали себе? Скажите, какой благодетель покинутых жен, — так я и поверю этому! Просто воспользовались удобным случаем округлить свои владенья.
Шаншиев что-то хотел возразить, но Некрасов с бешенством перебил его:
— Довольно ловить рыбу в мутной воде! — крикнул он, и опять что-то упало со стуком. — Довольно! Я имею достаточно доказательств тому, кто главный виновник исчезновения огаревских денег…
Чернышевский не стал дальше слушать. Он забрал газету и отправился на половину Панаевых, где и просидел в полном одиночестве около самовара довольно долго. Он уже решил идти домой, когда Некрасов появился в дверях.
— Все! — с облегченьем сказал он. — Уломал мерзавца. Сейчас пошлю за Сатиным — пусть приезжает подписывать мировую!
III
Мировая с Сатиным была подписана. Главную часть огаревского наследства — поместье — Шаншиев вернул владельцам. Оставшуюся сумму уплатил Некрасов и, покончив с этим, ринулся улаживать дела журнала, дела с собственной книгой и дела семейные.
Дела семейные заключались главным образом в утешении Ивана Ивановича. Бедняга совсем упал духом, не выходил из дому и не принимал никого. Он целые дни проводил в комнате Некрасова, так как из собственной квартиры его окончательно вытеснили приехавшие из деревни родственники.
Родственники расположились у него как дома, со своей дворней, сундуками, чадами и домочадцами. В передней громоздились корзины, по коридору шмыгали растрепанные девки с тазами и утюгами, в гостиной целыми днями бренчал рояль. Родственники приехали в Петербург переждать «тревожное время» и до приискания квартиры обосновались у Панаевых. Их нисколько не смущали несчастья, обрушившиеся на Панаевых, только девицы были оскорблены тем, что их не развлекают и не устраивают «приемов» в честь их приезда.
Некрасову было очень жаль Ивана Ивановича, — он выглядел таким напуганным, растерянным. Нечесаный и небритый, он целыми днями не снимал халата, валялся на диванчике около окна, вздрагивал при каждом звонке в передней. Отогнув край занавески, он пытался увидеть, кто это хочет попасть к нему в квартиру, и успокаивался, только услыхав, как слуга говорил посетителю, что господа больны и не принимают.
Когда мировая с Сатиным была подписана, Некрасов на обратном пути заехал в гастрономический магазин, отобрал целую корзину вин и закусок и притащил все это к себе в комнату. Он заставил Ивана Ивановича побриться и одеться, вытащил запершуюся у себя в спальне Авдотью Яковлевну и устроил, втайне от приезжих родственников, «тризну» по скончавшемуся огаревскому делу.
— Поднимите головы, друзья мои! — сказал он, наливая рюмки. — Надо радоваться, что болезнь, наконец, кончилась. Больше десяти лет она причиняла нам немало огорчений. Теперь ее нет — так забудем же о ней поскорее.
Авдотья Яковлевна посмотрела на него с благодарностью:
— Как это правильно — «друзья познаются в несчастье», — сказала она. — Сколько горя мы пережили за эти годы, и именно в горькие часы мы крепче всего держались друг за друга. Верней, мы оба держались за тебя, и ты всегда умел все устраивать.
На ее глазах выступили слезы, и она сердито вытерла их салфеткой.
— Это все нервы и годы, — попыталась она улыбнуться. — Мы все стали старые, и только один Некрасов к старости не раскисает, а делается точно тверже и крепче духом.
Некрасов послал Василия за Чернышевским, и они вчетвером праздновали, запершись от родственников. Они вспоминали Добролюбова и жалели, что его нет с ними, а Чернышевский с чувством читал вслух добролюбовские стихи.
На другой день в доме началась новая жизнь. Авдотья Яковлевна, вспомнив свои обязанности хозяйки, повезла днем родственниц кататься, а вечером устроила долгожданный «прием», на котором сама держалась в тени, чувствуя себя немолодой теткой при юных племянницах. Иван Иванович, проводив дам кататься, отправился в свою излюбленную кофейню Лоредо, где выпил две чашечки кофе с ликером, а после — набрал пакетик конфет. Вечером его увидели в театре; он с достоинством раскланивался с многочисленными знакомыми, а на вопросы об Огаревском деле отвечал небрежно.
— Я, право же, не ознакомился сам со всеми подробностями. У жены свои капиталы и свои поверенные, — они и занимаются этим скучным делом.
Безмятежное спокойствие Ивана Ивановича, присутствие Некрасова, распахнувшиеся для посетителей двери панаевской квартиры, — все это сразу рассеяло интерес любопытных. А когда стало известно, что дело кончилось «мировой», то общественное внимание сразу же перекинулось на другие дела.
Первой темой разговоров, главным предметом общественного внимания была, конечно, приближающаяся реформа. Ее обсуждали на все лады, строили самые разнообразные догадки, передавали из уст в уста сплетни, слухи, слова, оброненные тем или другим «осведомленным» лицом. Говорили, что мужики отдаленных губерний начали бунтовать, требуя «воли»; что они оказывают серьезное сопротивление войскам, присланным для усмирения; что граф Строганов — новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, столкнувшись с таким сопротивлением, составил проект закона о предании военному суду тут же на месте всех, кто отказывается повиноваться войскам.
— Разговоры о свободе совсем свели с ума мужиков, — рассказывали сбежавшие из своих имений помещики. — Они думают, что правительство решило потворствовать бунтарям, и никого и ничего не боятся. Жить в деревне сейчас невозможно — сидишь точно на бочке с порохом.
Состояние напряженной тревоги чувствовалось даже в столице. В высших сферах с беспокойством обсуждали докладную записку Головнина — личного секретаря великого князя Константина. Головнин по поручению своего августейшего шефа, возглавлявшего главный комитет по крестьянскому делу, объехал несколько губерний, выявляя «настроения», и привез вести весьма неутешительные. Он убеждал правительство торопиться с проведением реформы, потому что крестьяне находятся, как он утверждал, в «возбужденном ожидании, которое воспламеняет кровь и может дать нежелательный взрыв».
Докладную записку Головнина спешно послали в Париж бывшему министру государственных имуществ, ныне послу во Франции — графу Киселеву, которого считали первым специалистом по крестьянскому вопросу. А пока, на всякий случай, вооружили полицейских револьверами и удвоили их количество на улицах и в общественных местах.
Говорили, что правительство опасается не только мужиков, но и помещиков. Для этого были некоторые основания; помещики побаивались реформы и с сожалением вспоминали годы царствования Николая I. Свои чувства к покойному императору они ознаменовали следующим образом: однажды утром петербуржцы, обитающие в районе Синего моста, увидели необычайное зрелище: памятник Николаю Павловичу оказался весь увитым цветами. Кто-то под покровом ночи украсил венками и гирляндами не только голову императора, но даже вздыбленные ноги его коня. Цветы к утру хватило морозом, и почерневшие гирлянды повисли, как лохмотья, на величественной фигуре всадника. Говорили, что эту демонстрацию любви к вешателю декабристов устроили помещики в знак своего несогласия с политикой Александра II.
Шепотом передавали друг другу слухи о событии, происшедшем в Государственном Совете: на первом заседании, посвященном освобождению крестьян, упала корона с герба Виленской губернии. Говорили о том, что это — знак свыше: именно в Виленской губернии начался опыт эмансипации, и не случайно корона — символ высшей власти — упала как раз с виленского герба.
В делах «Современника» за лето не произошло ничего приятного. Добролюбов все еще тяжело болел, и ждать его возвращения скоро не приходилось. Герцен продолжал выступать против «Современника» и его руководителей, и по рукам ходил номер «Колокола» со статьей «Лишние люди и желчевики», в которой говорилось о «литературной ruffiano», которые отдают в рост свои слезы о народном страданье, а сами запирают в шкатулку деньги, явно наворованные у друзей своих».
Год назад эта статья ранила бы очень больно, но сейчас она не тронула и не вызвала больших волнений. Гораздо больше волновало Некрасова упорное нежелание цензуры разрешить книгу его стихов. Книгу все еще читали, перечитывали, процеживали в высших цензурных инстанциях.
Подробности о книге и об отношении к ней Некрасов узнал у Никитенки. Они встретились случайно в театре, и, пропустив начало действия, разговаривали в пустом коридоре. За последнее время Никитенко весь как-то подсох и еще больше веяло от него образцовым питерским бюрократизмом. Он расхаживал по коридору, подняв подбородок над высоким воротником вицмундира, и разговаривал точно сам с собой, не дожидаясь ответов собеседника.
Он подчеркнул, что новое рассмотрение вопроса об издании книги было начато по его предложению:
— Не знаю — удастся ли добиться разрешения, — остановил он поблагодарившего Некрасова. — Благодарить меня еще рано. Должен вас предупредить, что, кроме меня, никто не высказался за издание ваших стихов. Все считают, что стихи носят слишком демократический характер и вредны в настоящее и без того накаленное время.
— Мне трудно защищать собственное творчество, — с досадой сказал Некрасов. — Трудно и противно. Эта опала держит меня под таким нравственным гнетом, что я перестаю испытывать всякое расположение к деятельности, к которой, мне кажется, я призван. До каких пор это будет продолжаться?
— До тех пор, — не менее раздраженно ответил Никитенко, — пока некоторые писатели, и вы в том числе, не перестанете фрондировать правительству. Вы и ваши единомышленники сами виноваты в нынешних строгостях к литературе. Вы употребляете во зло печатное слово, вместо того, чтобы воспользоваться им на благо государству. Я тщетно старался быть примирителем между литературой и правительством. Ныне я от этой роли отказываюсь — не могут действовать против совести.
— А что говорит ваша совесть?
— Это длинный разговор, и если желаете — мы можем продолжить его в более подходящей обстановке. Но боюсь, он будет бесполезен, — вы успели, как я замечаю, окончательно примкнуть к оппозиционному лагерю. Мы, вероятно, не поймем друг друга и не будем довольны друг другом после такого разговора.
Они остановились около дверей в ложу Никитенки, и капельдинер подбежал к ним с ключом:
— Прикажете открыть? — прошептал он.
Никитенко кивнул головой. Увертюра уже кончилась, и из зала слабо доносился чистый, высокий голос певца и приглушенный аккомпанемент оркестра.
— Может быть, вы зайдете к нам? — спросил Никитенко, гостеприимно распахивая дверь.
Некрасов поблагодарил и отказался, — ему захотелось вообще уйти из театра. Он вышел на улицу, с удовольствием вдохнул чистый холодный воздух, и пошел пешком на Васильевский остров к Чернышевскому.
IV
У Чернышевского умер сын. Он гостил в Саратове у деда и умер там от скарлатины. Когда сообщение о его смерти дошло до Петербурга, все было кончено: его схоронили, и снег уже закрыл белой шапкой маленький желтый холмик.
Чернышевский лежал в кабинете, почерневший, осунувшийся, с сухими блестящими глазами. Он ни с кем не хотел говорить, никого не хотел видеть, в квартире стояла мертвящая тишина. Ольга Сократовна была в Саратове, мальчиков увел к себе Василий Иванович, звонок у двери слуга обернул тряпкой.
Только Некрасов сумел проникнуть в эту обитель. Он долго звонил и стучал у входа, прежде чем слуга открыл дверь и шепотом сообщил ему о несчастье.
— Сегодня в полдни принесли письмо, — шептал он. — Николай Гаврилович прочитали его и говорят мне «Витенька скончался». Потом прошли к себе в кабинет Закрыли дверь и с тех пор так и не выходят.
Некрасов велел слуге сейчас же ехать на Литейную, рассказать обо всем Авдотье Яковлевне и Ивану Ивановичу и передать, чтобы его не ждали домой ночевать. Он запер за слугой дверь, разделся и пошел к Чернышевскому.
Он попробовал утешать его, но из этого ничего не вышло: Николай Гаврилович не ответил ни слова, а страдание, написанное на лице его, сделалось таким страшным, что слова утешения сразу застыли на губах. Некрасов тихонько пошел в столовую, налил там крепкого горячего чая и поставил его на стул около Чернышевского. Он придвинул к нему папиросы, вытряхнул пепельницу, нашел в буфете бутылку вина и нерешительно поставил ее рядом с папиросами.
Но чай остыл, а бутылка осталась нетронутой. Только папиросы исчезали одна за другой, и лицо Чернышевского через несколько часов, казалось, позеленело от табачного дыма. Можно было подумать, что он не замечает присутствия Некрасова, как не заметил того, что миновал день и что сумерки сменились ночным мраком. Некрасов даже вздрогнул, услыхав его тихий, точно лишенный звука голос:
— Идите домой. Или в столовую. Не надо сторожить меня.
Но Некрасов не ушел, а только отодвинулся подальше от дивана в угол за книжный шкаф и сел там, потрясенный зрелищем чужого горя. Он вспомнил, как много лет назад умер ребенок Авдотьи Яковлевны — его ребенок, сын, едва успевший появиться на свет. Он тоже тяжело пережил тогда утрату, но разве это было так глубоко?
Как давно это было! Комната, в которой стоял крохотный гроб, желтые огоньки свечей, монотонный шепот читавшей что-то монашки, маленькое потемневшее личико среди цветов и белых оборок. Авдотья Яковлевна с неубранными, растрепанными волосами, с сухими расширенными глазами, вот такая же молчаливая, точно застывшая в своем горе.
Он вспомнил, что гораздо больше, чем ребенка, он жалел Авдотью Яковлевну, что у него даже хватило сил написать тогда короткие, облегчившие его стихи. Он вспомнил, как колючие непривычные слезы капнули на бумагу с этими стихами. Заплачет ли Чернышевский? Разразится ли это ужасное молчание слезами, или взрывом проклятий, или еще чем-то, уносящим отчаянье и боль.
Но этого взрыва не произошло. Часы шли, а тишину комнаты нарушал только треск зажигаемой спички. Некрасов подумал, что Николай Гаврилович дремлет. Он и сам задремал в своем кресле, но сразу проснулся, увидев, что Чернышевский стоит перед ним.
Он стоял молча, и близорукие его глаза, не защищенные стеклами очков, смотрели неуверенно и настороженно. Он достал из кармана какое-то смятое письмо, расправил его и протянул Некрасову. Это было сообщение о смерти ребенка.
— Нужно написать отцу, — сказал он тем же тихим, беззвучным голосом. — Старику тяжело, — он должен был сам хоронить моего сына.
Он начал искать очки, и Некрасов подал ему их и, взяв его за руку, слегка потянул к себе. Он хотел обнять, прижать к себе эту бедную пылающую голову, он почувствовал, что у него самого слезы подкрались к глазам, но Чернышевский тихонько освободил руку и, сгорбившись, подошел к своей конторке. Он положил перед собой лист бумаги и задумался, закусив конец пера.
— Николай Гаврилович, дорогой, подождите писать, — сказал Некрасов, снова взяв его руку. — Вы напишите завтра, а сейчас вам нужно поспать, нужно хоть чаю выпить.
— Я не хочу спать. Я должен написать отцу, — он ждет моего ответа, — сказал он и начал писать.
Некрасов заглянул через его плечо и увидел первые строки, — они были спокойны и ласковы. Кончив письмо, Чернышевский сам позвал Некрасова в столовую, и через силу, заставляя себя, ел и пил все, что перед ним ставили. Внимательно посмотрев на осунувшееся лицо Некрасова, он вдруг начал беспокоиться о нем, наливал ему вина, подкладывал на тарелку куски холодного жаркого. Он заговорил было о журнале, но сразу же вспомнил об Ольге Сократовне, которая поехала к умирающему отцу и попала на похороны сына:
— Лучше бы она была здесь, со мной, бедняжечка, трудно ей будет пережить эти два несчастья!
На рассвете они вышли на улицу, пустую, тихую, засыпанную мягким, не смятым еще снегом. Близорукий Чернышевский спотыкался и скользил на обледеневшем тротуаре, и Некрасов взял его под руку. Он крепко прижал к себе его острый локоть и шел, тщательно выбирая дорогу.
Они перешли мест через Неву и оказались на набережной. Некрасов вспомнил, как гулял здесь еще в прошлом году с Добролюбовым, как в одну тяжелую для себя ночь ехал он по этой набережной с Чернышевским, и вдруг почувствовал, как близки и дороги стали ему эти два человека. Он взволнованно и нежно заговорил о Добролюбове — где он? Что делает, о чем думает в эту зимнюю тихую ночь. Ему трудно было представить, что Добролюбов сейчас так далеко, — казалось, вот он выйдет из этого дома, возьмет под руку Чернышевского с другой стороны и зашагает рядом с ними.
Но набережная была пустынна. Только полицейский выглянул из будки и снова спрятался, убедившись, что все тихо, да из ворот выскочила испуганная кошка и, осторожно пробираясь по снегу, направилась к соседнему дому. Чернышевский нагнулся и хотел ее погладить, но она, блеснув зелеными глазами, зашипела и скрылась за углом.
— У Виктора была такая кошка, — тихо и как-то жалобно сказал он. — Виктор очень ее любил и хотел взять с собой в Саратов, но ему не позволили… — Он вдруг всхлипнул, быстро прижал к губам руку и торопливо прибавил: — А Добролюбову вы не пишите обо всем этом, не надо его волновать.
К Некрасову они пришли, когда уже совсем рассвело. Василий в фартуке поверх пальто, чистил медную скобу на парадной. Он опрометью кинулся вверх по лестнице и, вытерев руки, начал стаскивать с Чернышевского пальто. По тому, с каким усердием он это делал, и по тому, что он к первому бросился не к нему, а к Чернышевскому, Некрасов понял, что здесь уже все знают о несчастье. Он вздохнул с облегчением. Сейчас кто-нибудь выйдет сюда и кончится это тягостное чувство собственной беспомощности перед чужим горем.
И действительно — скрипнула дверь и в прихожую быстро вошла Авдотья Яковлевна. Она была еще неодета, с распущенной косой, в теплом платке, наброшенном на плечи. Лицо ее осунулось — видно, она не спала и плакала этой ночью.
— Николай Гаврилович, дорогой, — прошептала она, обняв Чернышевского. — миленький вы мой!
Она сделала то, что хотел сделать Некрасов, да не посмел: прижала к себе голову Чернышевского, обняла его, гладила его голову, спину, плечи, бормоча сквозь слезы какие-то нежные, жалостные слова. И Чернышевский вдруг весь сгорбился и поник, отвернулся к вешалке и, уткнув лицо в чью-то шубу, заплакал. Он тряс головой и стонал сквозь стиснутые зубы, очки его упали на пол, руки беспомощно искали в карманах носовой платок.
В прихожей появился Иван Иванович с графином и стаканом в руках. Он наливал воду в стакан, руки его тряслись, стакан стучал о горлышко графина, и вода проливалась на пол и на его халат.
— Выпей, Николай Гаврилович, ну, выпей же, выпей, — бормотал он, заливая водой сюртук Чернышевского.
Авдотья Яковлевна мягко отстранила Ивана Ивановича, выслала вон испуганно таращившего глаза Василия и шепнула Некрасову, чтобы он шел к себе.
— Оставьте его, пусть поплачет, — прошептала она. — Я с ним побуду…
Некрасов тихонько прикрыл за собой дверь и опустился на диван, чувствуя, как дрожат у него ноги. Он слышал, как по коридору, осторожно ступая, проскрипел сапогами Василий, как прошел, шаркая туфлями, Иван Иванович, и в квартире стало тихо. Сердце у него стучало, озноб тряс его с ног до головы, — только сейчас он понял, как устал и прозяб. Он сидел и дрожал всем телом, не решаясь встать и позвать Василия и попросить себе горячего чая. Он ни о чем не думал и только напряженно прислушивался к тому, что происходило в передней. Но ни один звук не доносился к нему.
Он больше не в силах был терпеть пронизывающий его озноб и, осторожно ступая, на цыпочках, пошел в кухню. Там около пылающей плиты стоял Василий и возбужденным голосом рассказывал что-то повару. Увидав Некрасова, он замолчал и, пройдя в сторону, начал шаркать щеткой по начищенным уже сапогам Ивана Ивановича.
Некрасов взял табуретку и сел у плиты, протянув к огню ноги. Он увидел, что на плите, поднимаясь пухлой белой шапкой, закипает молоко, и попросил налить ему чашку.
— В кабинет прикажете подать? — спросил Василий, бросая щетку.
— Нет, я здесь посижу, — ответил Некрасов, все еще стуча зубами от озноба, — ты там печку, видно, не топил, совсем заморозил меня.
— Печка у вас, как огонь-с, — обидчиво сказал Василий. — Это вас не от холоду, а от огорченьев бьет, от душевного расстройства. Конечно, младенчика жалко, но зачем вам так себя убивать?
Он неодобрительно поджал губы и, подойдя к рукомойнику, начал мыть руки. Повар ловко сдернул с плиты кастрюлю и налил в кружку пенящееся молоко.
— Кушайте, батюшка Николай Алексеевич, на здоровье, — сказал он, протягивая Некрасову кружку. — Хотите, я вам хлебца горяченького отрежу?
Некрасов выпил молоко, ему сразу стало тепло. Он приказал держать самовар и завтрак наготове и ушел из кухни. Дверь в прихожую была открыта. Шуба Чернышевского висела на вешалке, шапка лежала на подзеркальнике, на полу около вешалки валялись его очки. Некрасов поднял очки и, повертев в руках, осторожно положил их в шапку.
V
После речи царя в Государственном Совете всем стало ясно, что осуществление реформы — вопрос самых ближайших дней. Говорили, что Александр дал комиссии две недели сроку для представления проектов манифеста и указа, сказав, что всякое дальнейшее промедление вызовет смятение умов и может пагубно отразиться на судьбах всех сословий государства.
Говорили также, что манифест поручили писать московскому митрополиту Филарету. Это было несколько странно. Все знали, что Филарет до последних дней оставался яростным противником эмансипации крестьян. Ходили слухи, что сперва он уклонялся от высокой чести быть автором этого исторического документа, но, ознакомившись с материалами и увидев, на каких условиях будет проводиться освобождение, согласился подготовить проект манифеста.
Помещики рассматривали все это как благоприятный симптом. Вообще тревога за будущее среди них несколько улеглась, особенно после речи царя в Государственном Совете. В этой речи государь публично заверил дворян, что их интересы при проведении реформы будут соблюдены со всей тщательностью, что сделано все для ограждения выгод помещиков и что его монаршее старание заключается в том, чтобы некоторые жертвы, на которые придется пойти дворянству, были сколь возможно менее тягостны и обременительны.
Помещики, съехавшиеся в Петербург, воспрянули духом. Только более дальновидные с сомненьем качали головами — сумрачные лица крестьян не исчезали у них из памяти. Но большинству помещиков прежние страхи казались призрачными. Бояться мужиков, когда сам государь обещал ограждать помещиков от неприятностей? Достаточно пяти солдат и одного унтера, чтобы навести порядок там, где это потребуется.
Но если помещики успокоились, то правительство продолжало нервничать. Офицеры по секрету сообщали своим друзьям и родственникам, что правительство ожидает бунта, что между загородными войсками установлена телеграфная связь и полки находятся в состоянии боевой готовности, предупрежденные, что при первой тревоге они должны выступить в Петербург.
Редакция «Современника» сразу же почувствовала нервозность правительства: «тишайший» цензор Бекетов вдруг начал необычайно свирепствовать, и февральская книжка оказалась совершенно разгромленной. Цензура категорически запрещала какие-либо произведения, задевающие честь дворянства. Вычеркивалось все, что могло бросить тень на это сословие, особенно если речь шла о взаимоотношении помещиков с крепостными.
Некрасов бросился спасать номер, но все усилия не давали результатов. Он ездил к Бекетову, но тот, забыв свое былое свободомыслие, замахал руками и умоляющим голосом просил не подводить его под неприятности.
— Нужно понимать, уважаемый Николай Алексеевич, то, какое необычайное время мы переживаем. А вы суете факел в погреб с порохом, сеете искры над пересохшим лесом, — нет, нет! Я не могу выслушивать ваши претензии.
У Никитенки Некрасов тоже не нашел никакой помощи. Александр Васильевич был до краев полон благоговеньем перед грядущей «милостью» монарха и разговаривал с Некрасовым крайне недружелюбно и раздраженно.
— Господа литераторы начали позволять себе совершенно неприличные выходки, — говорил он, брезгливо перелистывая цензорскую корректуру «Современника», которую принес ему Некрасов. — Я не вхожу в обсуждение этих выкидок, потому что заранее уверен в их обоснованности, — господина Бекетова если и можно в чем-нибудь упрекнуть, так только в излишнем попустительстве.
Он отодвинул корректуру и начал восхвалять ум, доброту и скромность Александра:
— «Русское Слово» допустило недавно величайшую бестактность по отношению к государю-императору: в заметке о сочинениях Белинского вспомнили вдруг о том, как Белинский обвинял Гоголя в готовности покурить через край царю небесному и царю земному и что этим будто бы он запятнал свою славу. Знаете, что сказал по этому поводу государь-император? «Что обо мне говорят — я на то внимания не обращаю. Нельзя всеми быть любиму — одни любят, другие нет. Но о царе небесном нельзя так отзываться». Хорошие, прекрасные эти слова! И жаль, что наша литература говорит такие бестактные вещи в момент, когда самодержец по собственной воле совершает неслыханное в истории благодеяние. Одной этой статьи достаточно, чтобы вызвать справедливое раздражение в цензуре.
— А меня удивляет, почему цензура именно сейчас приходит в раздражение от произведений, осуждающих крепостное право, — резко сказал Некрасов. — Как вы сами изволили сказать — самодержец по собственной воле отменяет его. Значит, он считает его позорным для государства? Почему же, когда печать приводит факты, показывающие всю глубину, всю мерзость этого позора, цензура вымарывает их и требует от литератора, чтобы он представлял крепостное право, как сплошную сельскую идиллию?
Он перелистал корректуру и с возмущением развернул страницу, на которой было сплошное красное пятно от цензорских чернил.
— Полюбуйтесь, что выкидывает Бекетов, что он считает вредным для государства. Это роман Потанина «Крепостное право» — прекрасная сильная вещь, написанная благородным человеком, горячо любящим свою родину. Потанин бичует нравственное падение звероподобного помещика-крепостника, а Бекетов советует Потанину и нам «мыслить чище и нравственней о наших дворянах». Что это — насмешка, издевательство? Как я могу «чище» думать о том навозе, который наконец-то собрались выбросить?
Некрасов раздраженно бросил корректуру и полез в карман за папиросой. Никитенко с негодованием следил за тем, как вспыхнула спичка и как дым длинным волокном поплыл по комнате. Это было нарушением традиций, — в его доме никому не разрешалось курить. Он встал из-за стола и демонстративно распахнул форточку, но на Некрасова это не произвело впечатления.
— Потанин еще очень скромно описал все безобразия, которые у нас творятся, — хрипел он, недовольно посмотрев на открытую форточку. — Сейчас, накануне реформы, крепостники последние соки выжимают из мужиков. Вам известно, например, что помещики спешно распродают сейчас леса на сруб, чтобы мужикам после реформы не досталось? Какой-нибудь один? — Нет, батенька, не один, а очень многие: в Казанской губернии, например, подряд все это делают, а вы знаете, что значит там лес? А знаете вы, что в последние месяцы помещики из кожи лезут, чтобы побольше крестьян сдать в рекруты? Зачем? Да затем, чтобы освободить себе побольше земли на всякий случай, буде его заставят освобожденным мужикам землю давать. Из губерний, где земля — золото, идет сейчас массовое выселение крестьян в места, где земля невозделана и неплодородна, — опять-таки затем, чтобы избавиться от необходимости давать землю освобожденным крестьянам. Как прикажете называть все эти подлости?
Он со злостью посмотрел на Никитенко: старый высушенный чиновник неужели ничего не понимает? Нет, прекрасно понимает и знает больше чем многие.
— Вас не возмущают все эти факты? — спросил Некрасов.
— Может быть, я скорблю больше вас, — раздраженно ответил Никитенко, — но я считаю, и я уверен в правоте своего мнения, что нельзя обобщить отдельные случаи и обвинять все сословие. А ведь именно это вы и делаете. Вы изволили назвать дворянство «навозом», который собираются выбросить. Я не стал бы так говорить и думать о сословии, которое, в силу своей просвещенности, служит опорой трона и государства.
Некрасов смял потухшую папиросу в сияющей белизной мраморной пепельнице, и Никитенко поспешил закрыть форточку. Он долго возился с задвижкой и не чувствовал, с каким озлоблением смотрел Некрасов ему в затылок. Некрасов готов был откусить себе язык за то, что вздумал взывать к Никитенке. Нашел, чем аргументировать! Надо было говорить совсем не об этом, надо было прикинуться спокойным и равнодушным, надо было нажимать на либеральные клавиши души просвещенного профессора. «Нет, видно, я совсем одичал за это лето в деревне и разучился разговаривать с петербургскими людьми».
Исправлять ошибку было уже поздно, и он решил не продолжать больше разговора. Но Никитенко не склонен был отпустить его без очередной проповеди и, справившись наконец с форточкой, продолжил беседу.
— Ваши материалисты думают, что оказывают услугу человечеству, толкуя о незаконности собственности и о злоупотреблениях власти. Выдвигая разные теории, якобы уничтожающие это зло, они воображают, что сделали открытие. Чепуха! Все это невероятно старо — утопии времен Платона…
Некрасов вышел от Никитенки взбешенный. Дома он разобрал корректуры; наиболее изуродованные разослал авторам для исправления, а за правку остальных уселся сам. Не успел он закончить первую статью, как к нему ворвался Потанин — автор искрошенного Бекетовым романа «Крепостное право».
— Николай Алексеевич, что же это такое? — дрожащим голосом спросил он, разворачивая корректуру. — Я ничего не понимаю… Это что же — все надо выбросить?
— Да, Гаврила Никитич, это все надо выбросить, — сказал Некрасов, глядя в сторону. — Поверьте, мне самому тяжело, но я ничего не могу сделать.
Потанин опустился на стул, и Некрасов с болью увидел, как дрожат его колени, как беспомощно мнут его пальцы корректуру, как краска сбегает не только со щек, но даже с губ его. Ему было жаль Потанина, — Некрасов знал, сколько страсти вложил писатель в свой роман.
— Но надо поехать, надо поговорить, объяснить, — начал Потанин растерянно, — нельзя же это допускать…
— Уже ездил, говорил, объяснял, — везде ездил, Гаврила Никитич, но ничего не вышло.
— Может быть, надо мне поехать? Я объясню, я представлю неопровержимые документы, показывающие, что это не клевета, что это сотая, тысячная часть того, что творится. Может быть, меня поймут, меня должны понять, мне должны поверить.
Он вскочил и, не прощаясь, кинулся к двери, но Некрасов схватил его за рукав и насильно усадил на диван.
— Куда вы пойдете сейчас? Уже вечер и Бекетов не станет с вами разговаривать. Сядьте, успокойтесь. Если идти для объяснений, так не в этом состоянии, а со спокойной, холодной головой.
Он пытался успокоить Потанина, показывал ему цензорские поправки в других статьях, рассказывал, сколько прекрасных статей и романов совсем не увидели света. Но Потанин не слушал, не понимал, что ему говорил Некрасов, и сидел, опустив голову и раскачиваясь всем туловищем, как от зубной боли. Вдруг он поднял голову, и Некрасов увидел, что по его искаженному горем лицу текут слезы…
— Да знаете ли вы, Николай Алексеевич, — закричал Потанин истерически, — что сделал со мной господин Бекетов! Он убил меня, да, да, убил, мне теперь ничего не остается, как смерть или помешательство… Знаете ли вы, что я десять лет работал над этим романом? Десять лет я писал его, писал перед иконой — благословением отца моего. Я был в это время карателем подлого дворянского сословия, которое, как червь, подтачивает наше отечество. Я — сын моего отечества! Сын, заступающийся за свою глубоко оскорбленную мать, и вот — ничтожество, чиновник, подлая гнида Бекетов крадет у меня из рук оружие, которым я защищаю мать свою!
Он вскочил на ноги, и, бросив на пол цензорскую корректуру, начал с ожесточением топтать ее.
— И я считал этого подлеца Бекетова за человека! Я принимал его у себя, я говорил с ним о многих своих заветных мечтах, а он так надругался над самым святым, что у меня есть. Я в цепях у него, в цепях, и порвать их не имею сил…
Он упал на диван и разрыдался, стукаясь головой о валик и зажимая рот платком.
Некрасов отошел к столу, — он понимал, что утешать и успокаивать Потанина бесполезно. Какая все-таки тяжелая вещь — служение русской литературе! Сколько людей искренних, честных, благородных начинает это служение с горячего желания принести пользу родине и отступает, опустив руки, видя, каких нечеловеческих усилий стоит донести свое слово для тех, для кого оно написано. Вот и Потанин — упал от первого же удара…
Но, словно подслушав его мысли, Потанин поднял голову и мрачно сказал:
— Нет, я не сдамся, я не позволю затоптать меня. Я буду бороться, — пойду к Бекетову, к председателю цензурного комитета, а не поможет — в церкви с амвона стану свой роман читать. Настанет время, когда я без всяких реверансов скажу боярам русским: «Кровь их на вас и на чадах ваших». И никакие Бекетовы мне рот не зажмут.
Он поднял корректуру, разгладил смятые листы и подошел к Некрасову.
— Простите, Николай Алексеевич, за беспокойство, которое я вам причинил. Больше вы не услышите моих стенаний — помогите мне подготовить аргументы для разговора с цензорами. Просмотрите вместе со мной все, что они вычеркнули, и выслушайте мою защиту этих мест.
Некрасов знал, что будет говорить Потанин. Давно ли он сам защищал роман у Никитенки. Некрасов знал, что все эти доводы ни в малейшей степени не способны повлиять на цензоров. Но он терпеливо выслушал Потанина, обещал продумать все сказанное и устроить ему встречу с Медемом — председателем цензурного комитета.
— Но не возлагайте слишком больших надежд на свидание с ним, — предупредил он. — Это изрядная скотина, и я лично не ходил бы к нему с просьбами.
Проводив Потанина, Некрасов выправил несколько статей и отправился в типографию — заново собирать номер журнала из всех этих осколков.
VI
Так и не успели они познакомиться поближе и подружиться. Все собирался поехать, навестить, поговорить по-хорошему, душевно, сказать, как понравились «Гайдамаки», сколько светлых дум и чувств всколыхнули в душе. Собирался — и не успел: умер Шевченко, и пришлось идти к нему не домой, а в Академию художеств, где лежал он в гробу.
На кладбище, после речей и панихиды, вышли к могиле украинские плакальщицы и заголосили по своему кобзарю. Заплакали, запричитали мягким певучим говором, окружив холмик глинистой земли. Чернышевский, бледный и осунувшийся, плакал, прислонившись к ограде соседней могилы. О ком? Об украинском поэте или о собственном сыне, оплакать которого ему не удалось?
Когда ехали обратно, Некрасов сказал, что хотел выступить и прочитать стихи в память умершего, да не успел их закончить.
— Прочтите мне, — попросил Чернышевский, — прочтите, если помните.
— Помню, только не все. Начало помню:
Не предавайтесь особой унылости! Случай предвиденный, чуть не желательный. Так погибает по божией милости Русской земли человек замечательный С давнего времени. Молодость трудная, Полная страсти, надежд, увлечения, Смелые речи, борьба безрассудная, Вслед затем долгие дни заточения… Все он изведал: тюрьму петербургскую, Справки, доносы, жандармов любезности, Все — и раздольную степь Оренбургскую, И ее крепость… В нужде, в неизвестности Там, оскорбляемый каждым невеждою, Жил он солдатом — с солдатами жалкими, Мог умереть он конечно под палками, Может, и жил-то он с этой надеждою…Некрасов замолчал и прижался щекой к мягкому воротнику шубы — слезы внезапно защипали ему глаза. Бедняга Шевченко! Какая горькая судьба — выйти из тюрьмы только затем, чтобы умереть на свободе.
Он вспомнил вечер в Литературном фонде вскоре после возвращения Шевченко в Петербург. Шевченко был сильно взволнован, его встретили такой овацией, какой не встречали даже Тургенева. Это была демонстрация общественного сочувствия, и скромный кобзарь долго не мог начать говорить, губы его прыгали от тщетно сдерживаемого волнения.
Чернышевский молчал всю дорогу, подавленный, угнетенный, точно потеряв самого близкого друга. Ревнивая мысль вдруг промелькнула в мозгу Некрасова: «Будет ли он так же оплакивать меня, когда я умру?»
Он доехал с Чернышевским до его дома, зашел к нему, и они просидели весь вечер, вспоминая Шевченко. Николай Гаврилович успел подружиться с Тарасом, он восторгался его стихами, его убеждениями, чистым, огненным его сердцем.
— Вы не знаете, Николай Алексеевич, жизни этого человека, как я знаю. Вы полюбили бы его, я уверен, в этом, больше чем я.
Чернышевский достал из стола несколько листков бумаги, на которых тщательно переписаны были стихотворения Шевченки.
— Вот, если бы можно было перевести и напечатать эти, написанные совсем недавно. Посмотрите.
Некрасов, запинаясь на незнакомых украинских словах, прочел стихи, посвященные вдовствующей императрице Александре Федоровне. Каждая строчка стихов была проклятьем всему царскому роду, а последняя — угрозой царю, которого народ поведет на плаху. Неужели это писал человек, которого столько лет старались сделать смиренным? Какой же силы должна быть ненависть, чтобы пройдя через все «чистилища», не погаснуть от сознания своего бессилия, а разгореться таким факелом?
Некрасов отложил листки в сторону.
— Это никогда не сможет быть напечатано. Никогда, поверьте мне. Никто не узнает этих стихов, кроме нас с вами, да еще двух-трех близких Шевченке людей.
— Как знать, — ответил Чернышевский. — Может быть, их прочтет когда-нибудь весь народ.
Некрасов с сомнением покачал головой. Для того, чтобы эти стихи появились в печати, нужно было не только отправить на плаху ныне здравствующего царя, но и истребить весь царствующий дом.
Он пожалел, что Шевченко не дожил до дня освобождения крестьян, и сказал об этом Чернышевскому.
— Очень хорошо, что не дожил, — ответил Чернышевский.
Некрасов подумал о том, как все-таки сам он ждет этого дня. Он не говорил об этом Чернышевскому, который раз и навсегда заявил, что иллюзорная реформа недостойна быть темой для разговора. Некрасов не мог говорить и с теми, кто в безудержном восторге славили царское милосердие. Он ни с кем не говорил о грядущей реформе, но думал о ней постоянно.
Конечно, он знал, что земля будет стоить мужикам очень дорого, знал, что надеяться на подлинное, настоящее освобождение крестьян — смешно. Но все же он волновался и нервничал, не мог ни о чем писать и каждое утро с чувством глубокого беспокойства торопился развернуть газету.
Он пытался писать «Коробейников» — поэму, которую задумал летом, и ничего не получалось. Только монотонная, тоскливая песня странников с однообразным повторяющимся припевом сложилась как-то сама собой.
Все думали, что манифест объявят 19 февраля — в день восшествия на престол императора Александра II. Но почти накануне этого дня в газетах появилось сообщение генерал-губернатора, в котором говорилось, что несмотря на разнесшиеся слухи, никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу объявлено не будет.
Сообщение это взволновало и удивило Некрасова, но Чернышевский отнесся к нему совершенно равнодушно.
— Я слышал, — сказал он, — что объявление реформы отложили до великого поста. Считаю, что великопостное смирение более подходит для этого торжественного акта. Да к тому же не успели, верно, подготовиться хорошенько — не везде еще разослали войска и жандармов, чтобы успокоить мужиков в случае, если они начнут слишком бурно выражать свою радость. Честное слово, — добавил он усмехаясь, — я начинаю уважать правительство, оно гораздо умней тех общественных деятелей, которые продолжают пребывать в телячьем восторге.
VII
И вот этот день наступил. Над городом с утра раздался колокольный звон. Гудели тяжелые колокола соборов, надтреснутым жидким звоном заливались невысокие колокольни городских окраин. Переливами, как гармонь в руках любителя, распевали монастыри. В розовой морозной дымке поднялось над городом солнце. К полудню оно обогрело дома и с крыш по длинным сосулькам закапала вода.
На улицах с утра появилось очень много полицейских. Конные и пешие, с озабоченными лицами, они неподвижно стояли на своих постах, беспрестанно оглядываясь по сторонам. С утра к воротам домов вышли дворники, и около них появились какие-то беспокойные люди в штатском. По Невскому торопливым шагом прошла военная часть, и офицер с заспанным лицом хмуро смотрел на каждого встреченного человека.
В этот день жизнь началась раньше, чем обычно. Раньше, чем обычно, разошлись по церквам бледные, словно напуганные чем-то священники. Раньше, чем всегда, поднялись шторы в особняках на Миллионной, на Морской, на Английской набережной. Задолго до ранней обедни собрался в темные еще церкви народ, напряженный и молчаливый. Раньше, чем всегда, подали к Зимнему дворцу царскую коляску, и из-под арки Главного Штаба с Мойки, с Невского к Дворцовской площади неожиданно хлынули оттесняемые полицией любопытные.
Рано утром на заставах задерживали тех, кто пешком пробирался в город, — мужиков в лаптях и зипунах с серыми котомками за плечами. Мужиков торопливо запирали в холодную, и они покорно усаживались на пол, развязывали серые котомки и доставали из них черные, как земля, краюхи хлеба. Сквозь тусклое окно холодной доносился ликующий звон церквей, и мужики крестились, скинув шапки с нечесаных голов.
Когда на Адмиралтействе пробило час, из царского подъезда вышел Александр. Он был бледен и растерянно смотрел на народ. Потом нерешительно подошел к коляске и сел, напряженно выпрямившись. Лошади тронулись, народ побежал следом за коляской, несколько человек упали на колени прямо в грязь. Царь дрогнувшей рукой приподнял фуражку и поклонился, — улыбка на его лице походила на гримасу испуга.
В манеже на разводе царь тихим и невнятным голосом прочел манифест. Читая, он чувствовал, как высокопарен был слог, как сложно и непонятно изложены его собственные, как будто бы совсем простые мысли. Ему стало скучно, и он впервые подумал, что вряд ли народу будет понятно все, что здесь написано. Он на минуту поднял глаза. Лица стоявших перед ним солдат не выражали ничего, кроме обычного строевого усердия. С огромным облегчением прочитал он последние слова:
«Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».
Он кончил, и громогласное «ура» прокатилось по выстроенным перед ним рядам. Кричали дружно, как на параде, но опять на лицах с широко раскрытыми ртами он видел только порожденную муштрой старательность. Единственным взволнованным человеком был здесь, очевидно, только он.
В этот день Александр Васильевич Никитенко, получив текст манифеста, собрал всю семью у себя в кабинете. Здесь, стоя перед портретом императора, он громко и внятно, как на кафедре, прочитал вслух манифест. Кончив, он положил руку на голову своего десятилетнего сына и сказал растроганно:
— Навсегда затверди в своем сердце имя Александра-освободителя и чти, как праздник, великий день пятого марта.
Потом взволнованный и торжественный, он вышел на улицу, и встретив знакомого, поцеловался с ним, как на пасху:
— Христос воскресе, — сказал он и вытер слезы.
— Воистину, — ответил знакомый. И взявшись под руку, они пошли вместе.
На перекрестках был расклеен манифест, народ толпился около каждого листа. Почти везде манифест читали вслух, и неграмотные молча смотрели в рот чтецу. Никитенко потянул приятеля к одной из таких групп.
— Послушаем, что говорит народ, — шепнул он.
Какой-то человек, по виду мастеровой, или разносчик из магазина, читал медленно, но громко, оглядываясь после каждой фразы на стоявших сзади людей. Когда он дошел до положения о дворовых, в котором говорилось, что дворовые должны еще в течение двух лет оставаться в повиновении у помещика, какой-то парень в потрепанной ливрее схватил его за рукав.
— Что? Еще два года? Врешь ты, поди. Не врешь? Ну, так чёрт бы побрал эту бумагу, — я и слушать-то дальше не хочу. Чёрта увидят от меня, а не повиновения.
Группа людей, слушавшая манифест, смотрела на парня с видимым сочувствием.
— Так их, так их… — крикнул кто-то одобрительно. — Скидывай, паря, мундир. Он уже все сроки выслужил!
Все засмеялись. А Никитенко глубоко вздохнул и, сжав локоть своего приятеля, быстро зашагал по тротуару.
Некрасову манифест принесли утром, когда он еще лежал в постели.
— С праздником вас, Николай Алексеевич. С освобожденьем крестьян, — сказал Василий, поднимая штору. — Поглядите, солнышко-то какое, чисто на пасху. У нас весь дом на улицу ушедши, только вы изволите почивать.
Некрасов выслал Василия из комнаты и взял манифест. Он окинул его глазами весь, целиком, потом начал читать, впиваясь в каждое слово. Сердце его колотилось, лицо покраснело, глазам стало больно от напряжения. В высокопарных словах манифеста было трудно уловить сразу истинный смысл. Но из-под этих слов, как из-за тумана, все же выплывало самое главное: мужиков обманули, ограбили, разорили. Безраздельным хозяином земли утверждался помещик. Освобожденный нищий мужик должен был выкупать эту землю у помещика. Выкупать каждый вершок полосы!
Некрасов прочитал весь лист одним духом и начал искать на столике папиросы и спички. Он шарил рукой, как слепой, и не замечал, что сам столкнул портсигар на пол.
— Что же это такое? — спросил он шепотом, обращаясь к залитому солнцем окну. — Объясните мне, пожалуйста, что же это такое?
На улице все еще трезвонили колокола, на крыше таяла сосулька, и блестящие капли, искрясь, падали вниз. На карнизе, прижимаясь к стеклу, крутился голубь.
В передней хлопнула дверь — кто-то приближался быстрыми шагами. Это был Чернышевский. Он остановился на пороге и спросил, близоруко озираясь:
— Вы спите, Николай Алексеевич?
— Нет, не сплю, — не поднимая головы, ответил Некрасов. Лежу, думаю и ничего не могу понять. Что это такое? Что это?
На Некрасова было жалко смотреть, — пришибленный, с искаженным лицом, лежал он, уставившись глазами в одну точку. В руках он все еще держал манифест.
Осторожно, как к кровати больного, подошел к нему Чернышевский.
— А вы разве ждали чего-нибудь другого? — спросил он, усаживаясь в ногах у Некрасова. — Разве вы рассчитывали на лучшее? Вы все-таки верили, и как хотелось мне сказать вам: перестаньте вы мучиться, Николай Алексеевич, перестаньте ждать и волноваться. Я же видел — вам было нехорошо. И я видел — человек не хочет говорить. Ну, не хочет, я не имею права навязываться с советами, и я отхожу в сторону. А теперь нужно это переболеть. Ведь и я надеялся. Помните? Но переболел и совсем здоров, и сегодня я спокоен, потому что давно уже не ждал ничего хорошего.
Он взял из рук Некрасова манифест, аккуратно сложил его и бросил на столик. Потом, не глядя, нашел на одеяле руку Некрасову и стиснул ее неожиданным крепким пожатием. Некрасов поднял глаза и увидел, как бледно утомленное и грустное лицо Чернышевского. Не легко и ему далось это разочарование. Он вспомнил свою первую встречу с Чернышевским после возвращения из-за границы. Вспомнил, как взволнованные и радостные, они проговорили всю ночь, какие надежды окрыляли их, как писал он свою «Тишину». Как все это было смешно и как давно!
Он вспомнил Гаврилу и ясно представил себе сельскую церковь. Сегодня с церковного амвона тщедушный священник скучным голосом будет читать манифест шодинским мужикам. Они придут все: придет Гаврила, взлохмаченный и злой, придет Катерина, грустная, точно заплаканная, с маленьким ребенком на руках, приплетутся трясущие головами деды и встанут впереди всех, вглядываясь в золотые царские ворота. С каким чувством уйдут они сегодня из церкви? Как кончится у них этот ужасный мучительный день?
Что делать? Что можно теперь делать? За что бороться, к чему призывать? Все кончено, ничего уже не исправить.
— Все кончено, ничего уже нельзя исправить, — повторил он вслух. — Можно лечь в могилу, как Шевченко, и скрестить на груди руки, или взять вилы и пойти вместе с мужиками мстить и убивать.
— Или добиваться, чтобы как можно больше поднялось вил и топоров, — сказал Чернышевский, пристально глядя ему в лицо. — Манифесты писаны людьми, людьми и уничтожаются. Может быть, этот манифест будет толчком более могущественным, чем мы с вами думаем? Вы помните, как это сказано у Лонгфелло в песнях у негров:
Самсон порабощенный, ослепленный Есть и у нас в стране. Он сил лишен, И цепь на нем. Но горе, если он Поднимет руки в скорби исступленной И пошатнет, кляня свой горький плен, Столпы и основанья наших стен, И безобразной грудой рухнут своды Над горделивой храминой свободы.Это называется — «Предостережение». Может быть, мы напечатаем его в мартовском номере, рядом с манифестом?
— Я ни одной строчки не дам о манифесте, — горячо сказал Некрасов. — Ни одной, ни одного слова.
— Это не удастся, — возразил Чернышевский. — Всем журналам предложено в обязательном порядке опубликовать манифест. Мы можем только воздержаться от каких-либо комментариев.
— Мы прокомментируем его лонгфелловским «Предостережением» и «Гайдамаками» Шевченко и всем, что только найдется в этом роде. «Гайдамаки», какая это прекрасная вещь!
— Вот видите, — улыбнулся Чернышевский. — Тарас вовсе не сложил рук. Он жив — и мы с вами живы. Ничего не кончилось, Николай Алексеевич! Это только начало, только самое начало, а не конец.
Они долго сидели вдвоем, а в сумерки вместе вышли на улицу. На углу Литейного и Невского на них налетел Анненков.
— Христос воскресе! — крикнул он, на ходу раскидывая руки для объятья. — В такой день забудем старые обиды и облобызаемся от всей души.
Некрасов сухо отстранил его и сказал, что он и на пасху целоваться не охотник, а сегодня всего только прощенное воскресенье.
— Сегодня, отец мой, по православному обычаю надлежит не целоваться, а смиренно просить прощения друг у друга. У народа просить прощения за совершенные перед ним грехи.
Анненков оторопел на минуту, потом приподнял шляпу и с достоинством двинулся дальше.
Чернышевский посмотрел ему вслед с любопытством.
— Занятно, — сказал он. — Занятно видеть вот таких субъектов собственными глазами. Вы напрасно злитесь, Николай Алексеевич. Право же, очень поучительное и полезное зрелище.
Они до темноты бродили по улицам, почти не разговаривая, вслушиваясь в обрывки фраз, произносимых прохожими. Но прохожие говорили о своих обычных делах; на перекрестках, где висели освещенные фонарями листки с манифестом, никто не останавливался, все проходили мимо, и самые листы кое-где отклеивались и висели лохмотьями, как старые афиши.
Город засыпал. Гасли окна в домах, меньше становилось прохожих, в какой-то церкви колокол торопливо пробормотал полночь. С востока, еще не видимый глазу, приближался новый день. Некрасов и Чернышевский, взявшись под руку, шли по темной безлюдной улице. Вдруг в лицо им ударил свежий ветер. Казалось, он нес с собой запах подтаявших полей, оживающего леса, широких просторов, лежащих далеко за городом. Он нес с собой буйное дыханье весны. Друзья шли навстречу этому ветру. Шли вперед, не отдыхая, не зная, где кончится их путь, но зная, что свернуть с него они не могут.


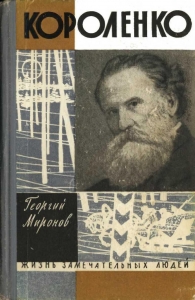

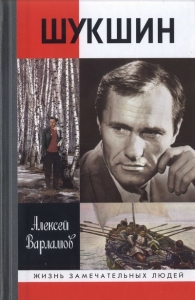
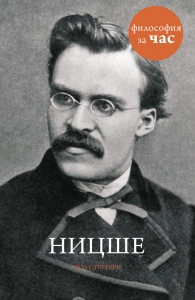

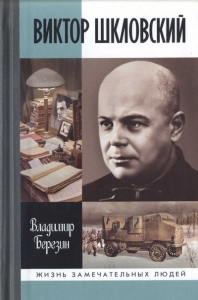

Комментарии к книге «Некрасов», Елена Иосифовна Катерли
Всего 0 комментариев