ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Автор этой книги — Наталья Алексеевна Решетовская, первая жена Александра Исаевича Солженицына, «его подруга и помощница в годы войны, в годы его лагерей, в годы его подпольного писательства, в годы его славы и в годы начавшейся опалы ею" (из письма Н.Решетовской в редакцию газеты “Книжное обозрение", 1989 г.).
Наташа и Александр познакомились осенью 1936 года, через несколько дней после начала первого студенческого семестра в Ростовском университете. Он учился на физико-математическом факультете, она — на химическом. “...2 июля 1938 года Саня признался мне в любви. Говорил о том, что в своей будущей жизни видит меня с собой всегда рядом... Когда началась война, супружеству нашему было год с небольшим". (Здесь и далее цитаты из книг воспоминаний Н.Решетовской “В споре со временем» и “Александр Солженицын и читающая Россия").
Война впервые надолго разлучает молодожёнов. Солженицын рвётся на фронт, получает направление в артиллерийское училище. После его окончания становится командиром батареи звуковой разведки, принимает боевое крещение на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Награждён орденом Отечественной войны; за освобождение Бобруйска — орденом Красной Звезды. В январе 1945-ю в Восточной Пруссии батарея капитана Солженицына оказывается в окружении, откуда прорывается с боем. За проявленное при этом личное мужество Солженицын представлен к ордену Красного Знамени. Но эту награду получить он уже не успел...
Его перепиской с одноклассником и другом Николаем Виткевичем, воевавшим на Первом Украинском фронте, заинтересовались органы НКВД. Несколько критических замечаний о Сталине — и ... “8 лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-10 и 58-11. согласно постановлению ОСО НКВД от 7 июля 1945 г. Бутырская тюрьма, кирпичный завод в Ново-Иерусалиме, Марфинская спец тюрьма, лагерь в Экибастузе, ссылка в затерявшемся в казахстанской степи Кок-Тереке. Только в апреле 1956года Солженицын наконец-то освобождён от ссылки и судимости.
Наталья Алексеевна пишет мужу, навещает ею в Марфине, старается помочь передачами и посылками. Все же ожидание кажется безнадёжно долгим... В декабре 1948 года Н.Решетовская успешно защитила кандидатскую диссертацию и получила работу в лаборатории МГУ. И вдруг —засекречивание лаборатории. Стоило написать в анкете, что муж осуждён- конец работе... "На ближайшем свидании в Таганке я сказала Сане о вынужденном, формальном разводе, чтобы не потерять работу. Он согласился".
После отправки Солженицына в далёкий казахстанский лагерь духовная связь между супругами стала угасать. “Любимый образ стал расплываться... И когда я летом получила в Кисловодске письмо от Всеволода Сергеевича, вдовца с двумя сынишками, то почувствовала: получила письмо от реального человека... Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою святость... Я стала жить реальной жизнью, выйдя замуж за Всеволода Сергеевича и став матерью двух мальчуганов".
Но при встрече с вернувшимся из ссылки Александром былые чувства вспыхивают с новой силой. И накануне нового, 1957 года все возвращается на круги своя... Последующие вехи творческой и личной судьбы Александра Солженицына — учительство в рязанской школе, напряжённый литературный труд, внезапная громкая известность, и снова работа — на этот раз “потаённая в стол" — над “Архипелагам ГУЛАГ“ и другими произведениями, всемирная слава и авторитет и травля на Родине — вехи их общей жизни.
Потом в жизни Александра Солженицына появляется Наталья Светлова. Мучительный, многих душевных страданий стоивший обоим развод. И наконец — разлука. “Когда-то нас разделила колючая проволока, теперь— навеки — граница..."
Все это описано Н.А.Решетовской в ее книгах воспоминаний. “Свои мемуары я начала писать, ещё будучи женой Солженицына, с ею согласия и одобрения. Дело писания мемуаров я считала своим святым долгом, поскольку многие годы была ближайшим свидетелем жизни человека, которого считала... незаурядной личностью и к тому же человеком уникальной судьбы", — писала Решетовская.
Первая ее книга “В споре со временем" увидела свет в обстоятельствах достаточно сложных. Она вышла в издательстве АПН в 1975 году, вскоре после высылки писателя из СССР. В том же письме в газету “Книжное обозрение" Н.Решетовская пишет: “Возможно, что на самом деле АПН хотело очернить Солженицына с моей помощью. И потому книга создавалась в тяжёлой борьбе... Как-то мой редактор сказал мне, что я оказалась для него самым трудным автором за всю его долгую редакторскую жизнь. Борьба была неравной, и подчас побеждала их тенденция, что выразилось во вставках и сокращениях, не всегда со мною согласованных (особенно это относится к последней главе книги “Перекрёстки").
Действительно, когда читаешь книгу сегодня, отчётливо видно, как порою тенденциозно расставлены в ней акценты; яркие и достоверные штрихи и подробности перемежаются откровенными или завуалированными выпадами против Солженицына. Но удивительная вещь! ... Выпущенная советским издательством книга до советского читателя практически не дошла. Видимо, несмотря на все редакторские усилия, с ее страниц предстал образ живого человека, незаурядной личности, а не мифического злодея, каким старалась представить писателя казённая пропаганда.
Недавно Н А.Решетовская переработала книгу, дополнив ее новыми материалами, возвратив авторское название, заменённое издателями - “Александр Солженицын. Обгоняя время" и надеется, что она вскоре увидит свет.
В 1990 гаду издательство “Советская Россия“ выпустило книгу Н.Решетовской “Александр Солженицын и читающая Россия", Написанная на основе дневниковых записей и писем, эта книга, при всей понятной субъективности автора, благодаря содержащемуся в ней обширному фактическому материалу бесценна для будущих биографов нобелевского лауреата.
Новая книга Натальи Решетовской “Разрыв" рассказывает о наиболее драматическом периоде их отношений с Александром Солженицыным.
Возможно, некоторым читателям, в сознании которых уже успел сформироваться хрестоматийно-глянцевый, лишённый противоречий образ Солженицына, те обстоятельства его жизни, о которых идёт речь в книге, покажутся “лишними", достойными умолчания. Но... дело ведь даже не в том, что личность масштаба Солженицына имеет право быть высвеченной разных ракурсов, что все свидетельства о нем должны быть выслушаны, — какими бы субъективными и пристрастными они ни были; дело в том, что воспоминания Решетовской показывают ещё одну грань большой человеческой трагедии, — трагедии не только автора мемуаров, но и самого Александра Исаевича.
Вспомним: ведь некое отдаление Солженицына от жены — ещё не разрыв, а предвестие его — началось задолго до появления в его жизни Натальи Светловой.
Вот Солженицын задумывает “Архипелаг ГУЛАГ". И он, и Решетовская понимают: это слишком опасно: “Архипа" (так называли они будущую книгу, полу ласково-полу конспиративно) ему не простят! Поэтому Солженицын собирается для работы над ним скрыться из дому — далеко и без переписки, без телефонных звонков. “Последний телефонный звонок...Спустя несколько дней — последнее письмецо... И все. Связующие нас нити прервались.
Я готовлюсь к тому, что ничего не буду знать о муже месяца полтора, а то и больше. Саня... считал нужным проваливаться в неизвестность, чтобы писать “Архипелаг". Но при этом невольно, неизбежно уходил от семьи. Это было очень страшно..."
В один из приездов Решетовской к работающему в уединении мужу тот бросает ей: "Мне не нужна жена, мне не нужна семья, мне нужно писать роман!.."
В другой раз у него вырывается: “Вот ты вовсю стараешься, чтобы мне угодить, а мне лучше, когда тебя нет..."
В книге Решетовской, и отличие, например, от мемуаров самого Солженицына, нет или почти нет политической полемики; это история человеческих отношений, обыденная, “частная" жизнь. Схватка Давида с Голиафом, государства и ею пропагандистской машины с писателем как бы остаётся "за кадром", лишь изредка врываясь в повествование то эпизодом “засады" на даче, то странным, до сих пор до конца не разгаданным поступком адвоката Алексеевой... Но вот вопрос: это ли невероятное внешнее давление, необходимость вести — в мирное время, в родной стране— “подпольное существование" отдалило друг от друга супругов и привело их к трагедии разрыва? Или все случившееся — неизбежное следствие взваленной Солженицыным на себя громадной творческой и гражданской задачи? И уже эта нечеловечески тяжёлая ноша диктовала образ жизни, сосредоточенность на "главном" заставляла отсекать все “второстепенное», рубить по-живому, по живым человеческим связям?.. Быть может, недаром слово “роковой" так часто звучит у Решетовской? Быть может, всё действительно было роковым образом предопределено — и случилось бы при любой политической “погоде"? И сам масштаб таланта, и одержимость выбирают человеку судьбу?..
Так или иначе, именно глубина и неотвратимость человеческой трагедии, сопровождающей (неизбежно?) триумф писателя и подвиг гражданина — вот над чем более всего задумываешься, читая "Разрыв" Натальи Решетовской.
Можно по-разному отнестись к этой книге. Но нельзя не выслушать горькую исповедь человека, прожившего почти три десятилетия рядом с выдающимся русским писателем Александром Исаевичем Солженицыным.
РАЗРЫВ
Прежде чем эту страницу переворачивать, напоминаю с конца: ты все будешь решать сама, ты в себе должна найти меру и оценку всех вещей
А. Солженицын — Н.Решетовской
В начале октября 1970 года стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Александр Солженицын, мой муж. Приняв премию, Александр Исаевич, тем не менее, не поехал в декабре в Стокгольм на нобелевские торжества. Не поехал, опасаясь, что его не пустят обратно. Он пожертвовал своей мечтой!..
Мне вспоминается составленный им список писателей — лауреатов Нобелевской премии. Ежегодно, в октябре месяце, этот список пополнялся ещё одной фамилией. Когда-нибудь это будет его фамилия! В книге “Бодался телёнок с дубом“ Солженицын пишет, что, узнав от кого-то в лагере о существовании Нобелевских премий, сразу определил: «Вот это — то, что нужно мне для будущего моего Прорыва". И мысль эта продолжала зреть в нем. Осудив поведение Пастернака, отказавшегося от премии, не выдержавшего угроз и давления, он хотел бы оказаться на его месте и поступить совсем иначе.
В “Телёнке" прочтём: “Твёрдо приму, твёрдо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато: все напечатаю! все выговорю! весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлаговские разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замерзших! Дотянуть до нобелевской трибуны — и грянуть! За все то доля изгнанника — не слишком дорогая цена".
Так жаждал! И... не поехал. Почему не поехал? Из-за чего?
Из-за ребёнка. Из-за ребёнка, ещё не родившегося.
Какой парадокс, если вдуматься! Когда-то, в молодости, корил меня за желание иметь ребёнка. В лагерные годы порой мелькало сожаление, что его нет у нас, но позже — никогда, никогда не жалел, что у нас нет детей. Не верил в то, что дети вырастают такими, какими хотят видеть их родители. И вдруг так жаждать его, когда перевалило за пятьдесят...
“Я не предполагал, что он может начать менять психологию и влиять на жизнь ещё даже до своего рождения» — прочла я в письме мужа от 27 августа 70-го.
В начале февраля я узнала, что у Александра Исаевича и Натальи Дмитриевны Светловой родился сын. Ещё через несколько дней мне позвонила мама в Великие Луки, где я жила у друзей, и сказала, что получила письмо от Сани с сообщением о рождении ребёнка. И ещё говорила, что Саня просит ее успокоить меня, он не тянет меня на развод, даже пишет, что хочет сделать мне приятным мой день рождения. Если буду к этому времени в Москве — чтоб позвонила ему за день-два...
Боже мой! Он подумал обо мне. Он наконец-то подумал обо мне... Он хочет сделать мне приятное... И слезы, насей раз хорошие слезы, слезы облегчения, заливают меня.
Вечером того же дня мы смотрим по телевизору фильм “Серёжа" по рассказу Пановой. Вижу на экране младенца. Плачу, плачу...
А по западному радио все продолжается чтение “Круга первого". 13 февраля читают главу “Свидание". Это ведь наше свидание — свидание в Лефортовской тюрьме... Куда я могу уйти от нашей общей жизни, когда даже эфир пронизан ею?..
Я решила поторопиться с отъездом. Теперь путь к его душе для меня, кажется, открыт. Пора...
И все же я ехала в Москву, совершенно не представляя, как мы встретимся. Но ведь встретимся!.. Уже это одно наполняло меня трепетной радостью.
Приехав в Москву 17 февраля, я позвонила на дачу Ростроповича и попросила позвать Александра Исаевича. Подошёл. Предложил увидеться, не дожидаясь 2б-го. Мы увидимся завтра! Пытаюсь собраться с мыслями, даже делаю какие-то наброски. Сейчас, перечитывая эти записи, я вижу в них даже какую-то агрессивность. Однако, если перед свиданием она в моем настроении и была, то никак не проявилась на свидании. Не проявилась потому, что я, совершенно для себя неожиданно, была разоружена, полностью разоружена.
Мы встретились среди дня, как было условлено, в вестибюле старого здания Художественного театра, возле телефона-автомата. Когда я подошла, Саня был уже там и, кажется, говорил с кем-то по телефону. Я не помню первого мгновения встречи. Вероятно, Саня поцеловал мне руку. Взяв под руку, повёл меня на улицу, сказав, что мы пойдём с ним в близ расположенный ресторан. Очень запомнилось, что при выходе из помещения театра он беспокойно оглянулся по сторонам, произнеся при этом: “На нас направлены лучи прожекторов— “На две точки треугольника или на три?“ — спросила я.
— “На три“.
Ресторан “Минск. Мы ...в ресторане. В нашей жизни это бывало так нечасто! Разве что однажды, невдалеке от “укрывища" по случаю окончания “Архипелага...
Что ели мы, что пили, в чем были одеты — все ушло. Не имело никакого значения. Важно было совсем другое.
Я была охвачена лишь одним чувством, одним ощущением: что я — с ним. Было только одно желание: чтобы это длилось вечно. Важно было не то, что говорили. Важно было то, что я говорила с ним. Важно было то, каким он был.
Мы сидели за столиком у окна друг против друга. Я видела перед собой его доброе лицо, на котором была написана готовность облегчить мне страдания, а по лицу текли слезы, которые Саня даже не пытался унять. Казалось, в эти часы он впитал в себя все мои муки последних месяцев, и они разрывали его. Видя меня худой, бледной и, вероятно, попросту жалкой, с трясущимися руками и растерянным взглядом, он все повторял: “Тростиночка, которой не к кому прислониться. Что сделать, чтобы тебе стало легче? И ещё: “Какое счастье, что ты приняла мединал, а не выпила иссык-кульский корень. Ведь пузырёк с ним стоял в твоей комнате. Если бы ты его выпила, тебя бы сейчас не было. И плакал, плакал... Не он меня — я его утешала, старалась успокоить.
Расстались мы с мужем у подземного перехода через улицу Горького против Центрального телеграфа. Условились встретиться теперь в самый день моего рождения, договорившись и о том, что он подарит мне к этому дню. Когда прощались, Саня продолжал плакать навзрыд.
... Кому выпало увидеть ею в тот день таким расстроенным, заплаканным? Чуковским? Светловым?.. Конечно, если это были Чуковские, то они были раздосадованы до предела, что он так страдает из-за меня. Кто? Солженицын! И из-за кого?.. Да разве она этого стоит?
Разумеется, тогда я об этом не думала. С переполненным сердцем я поехала к священнику Шпиллеру. Рассказала. Спросила отца Всеволода: “А может, все же попытаться вырвать его из своего сердца?" — “Не вырывайте, не отчаивайтесь, ничего не требуйте!.."
Боюсь, что я не вполне прислушалась к его последнему совету, и в том была моя ошибка.
19 февраля я приехала в Рязань с тем, чтоб пожить там недельку. Конечно, со слезами переступила порог квартиры, наших комнат. Ощущение пустоты. Может статься, здесь мы вдвоём уже больше никогда не будем! И, как ни стараюсь, не могу сделать даже этот свой приезд, после нашего с Саней свидания, вполне радостным для моей мамы.
По западному радио продолжают читать роман. Мы с мамой слушаем “Стромынку». Мама в отчаянии, что я не могу никак переключиться на новую (она не знает, какую жизнь.
Мама просит меня сыграть. Не играется... Ни с кем из знакомых видеться не хочется. Ведь все они были нашими с мужем знакомыми, а многие из них — друзьями! А чьи друзья они теперь? Нас прежних — нет!..
Но откуда эта безнадёжность? Ведь душа его стала просыпаться, проснулась... И я стала писать Сане.
Мама приходила в ужас, когда, заходя ко мне, видела груду исписанной бумаги. “Сколько ты пишешь!" — восклицала она. А я уже не могла остановиться. Забраковав первый вариант письма, принималась за второй, потом за третий. Нужно ли было писать это письмо? Я и сейчас не могу ответить на этот вопрос. С одной стороны, во мне все время звучал совет отца Всеволода: “Ничего не требуйте! «И я, от варианта к варианту, свела эти “требования" к минимуму. Но, с другой стороны, — как давно ждала я момента, когда смогу все ему сказать, все высказать... Разве этот момент не наступил?.. В сущности, письмо было задумано как ответ на вопрос, заданный мне мужем: что ему сделать, чтобы мне стало легче? Я писала о “шекспировском" узле, разрубить который мне не дали, а развязать его нельзя и просила ослабить этот узел, вместо того, чтобы затягивать все туже и туже. “Не думай, — писала я, —что так ты, шаг за шагом, приучишь меня все терпеть".
Однако письмо вышло за рамки того, как было задумано. В нем, в частности, было немало укоров. Я писала Сане о его раздвоенности и напоминала, что посвящённый ему самиздатский сборник “Слово пробивает себе дорогу" открывается эпиграфом из Белинского: “Наше время преклонит колена только перед тем художником, жизнь которого есть лучший комментарий на его творения, а творения —лучшее оправдание его жизни". Я писала Сане, что все люди разделились для меня на тех, кто равнодушен или сознательно губит его душу и на тех, кто страдает за неё. А я оказалась лишь “пробным камнем его души. Я напомнила Сане, что когда-то он упрекал меня — свою молодую жену— за желание иметь ребёнка, а потому я даже отдалённо не могла предположить, что он оставит меня из-за моей бездетности. Напоминала, что пишу об этом не для упрёка, а чтобы он понял всю глубину моей трагедии. Ведь я из-за его тюрьмы потеряла годы женского расцвета, а потом ради него оставила двух мальчиков, которые признали меня матерью... И вот теперь — все пало на меня одну. Где же то «распределение страданий», о котором говорил мой научный руководитель Николай Иванович Кобозев? Где нравственная справедливость? Я просила Саню ослабить туго затянутый узел; дать мне несколько месяцев, чтобы я выполнила задачу, труднее которой у меня в жизни не было: переплавила свою любовь в дружбу. И одновременно напоминала Сане, что ему понадобились годы, чтобы «пресеклась та ветвь, которая мешала тебе быть непринуждённым со мной» (так он писал мне 3 мая 1956 года). А ведь у него не я была стержнем жизни. У меня же стержнем жизни был ОН! Мне, чтобы пресеклась любовная нить, связывающая меня с ним, что-то должно помочь! Я собиралась погнаться за “синей птицей» и думала, что ею окажется то, чего мне и раньше так не хватало: простое человеческое общение.
Все, что я писала Сане, было правдой. И в тоже время правдой жестокой. Обрушив на него всю эту жестокую правду, не должна ли была я вызвать в нем протест? Желание отбиваться? Вероятно, этим письмом я обленила его терзания, я высушила его глаза от слез...
Но тогда я думала иначе. 25 февраля я сделала запись в дневнике: “Утром уехала из Рязани, где написала Сане большое письмо. Ведь настал тот миг, когда он обо мне думает...“
На следующий день еду снова на свидание с Саней. Встретились снова у касс МХАТа. На этот раз муж предложил пойти к Чуковским, которые жили совсем рядом. Он объяснил, что сейчас там никого нет. Люша — на работе, а Лидия Корнеевна уехала на дачу.
Прошли длинным двором. Поднялись в квартиру Чуковских.
У Александра Исаевича уже давно, с конца 65-го года есть от неё ключи. Вошли. Оставив пальто на вешалке, зашли в маленькую комнату, которая считалась его комнатой.
Я сказала, что мама дала мне с собой немного сладенького по случаю дня моего рождения. Саня пошёл на кухню поставить чайник. А мне, заметив мою слабость, предложил прилечь на диване.
Потом мы пили чай и разговаривали, Саня вручил мне подарки, которые я прошлый раз “заказала ему: приёмник “Сони“, подаренный в своё время Александру Исаевичу японцами в благодарность за интервью, и книгу “В круге первом" на русском языке.
Я сказала Сане, что написала ему письмо. Он взял, сразу начал листать его. “Я уже ослабил узел! “Я делаю все, о чём ты просишь! «Вот ты пишешь о совести. Это все уже есть. Неужели ты не поняла в прошлый раз? — Я так плакал... И он стал меня успокаивать:
— Смело называй меня своим мужем. Ты — моя жена. Вот случилось такое: родился ребёнок. Но развода нет...
— А ты не боишься моей тюрьмы? — внезапно спросил он меня.
— Разумеется, нет. Разве я не прошла через это?
Я было посмела заговорить о “Сеславине", чтобы оно не было для меня закрыто
- Пусть пройдёт год, — сказал муж, сопроводив эти слова широким, как бы отводящим движением руки.
— Тебя там тянет к самоубийству...
Я просила Саню, и он пообещал мне, что ничего важного не будет предпринимать, не поговорив, не согласовав со мной. Он пообещал мне это. И я — в который раз! — снова ему поверила.
Говорили и о прозаических вещах: о деньгах, о возможной “валютной" квартире (Солженицын писал об этом Косыгину). Но наша мирная беседа была прервана. Прервана звуком вставляемого снаружи ключа. Это неожиданно приехала Лидия Корнеевна. Александр Исаевич растерян, делает мне знак: не разговаривать.
Дождавшись, когда Лидия Корнеевна вошла в свою комнату, он тихонько вышел и, будто боясь быть уличённым в чём-то, снял моё пальто с вешалки и внёс в комнату.
Так преждевременный приезд Лидии Корнеевны ускорил мой уход, свернул наш маленький праздник.
Со всеми возможными предосторожностями муж провёл меня, уже одетую, в коридор, заранее открыв наружную дверь. Ему было стыдно перед Лидией Корнеевной, что он жалеет свою жену, что она для него существует. Лидия Корнеевна считала меня ненужным балластом, висящим на плечах Александра Исаевича. И она, и ещё кое-кто не должен был видеть, что Солженицын, если не любит, то во всяком случае, жалеет свою жену. Даже этого его окружение не допускало!
Как же подходит к этой сценке с Чуковской то, что написано в “Марте семнадцатого": “Вот повернулось: скрывать жену как любовницу. Там Ольга не должна была понять, что Воротынцева тревожит состояние его жены Алины.
В день своего рождения хочется быть с родными. И я закончила этот день у своей двоюродной сестры Нади. Она и ее муж по-прежнему сочувствуют мне, но, сравнительно недавно переселившись в Москву, они слишком мало знают Саню, чтобы могла идти речь о каком-то их вмешательстве в нашу историю.
Никто из родных не заступился за меня. Одна сестра предала, другая осталась нейтральной, третья ещё покажет себя, и не с лучшей стороны (речь идёт о двоюродных сёстрах, родных у меня не было). Мама не нашла с Саней нужного тона, старенькая тётя Нина уже не имела сил говорить с ним, только плакала. Зато за меня заступились те, от которых я не ждала этого, о чём узнаю значительно позже. Впрочем, об одном таком заступничестве, вернее, о попытке такого заступничества, известно. То была Юдина. Но смерть сковала ее руки, рвущиеся писать ему письмо. У постели умирающей Марии Вениаминовны была женщина, у которой мне в сентябре 70-го устроил комнату Всеволод Дмитриевич Шпиллер. То была Нина Викторовна Гарская. Вот кому досталось принять из рук Юдиной эстафету! Вот кто отважился написать самому Солженицыну. Ее письмо пришло к нему не в добрый для меня час, но от того не уменьшается ее заслуга. Да и кто знает, не повлияло ли оно на Александра Исаевича позже, уже тогда, когда родился Ермолай, когда пришло время ему обо мне подумать. ..
Нина Викторовна в своём письме отдавала дань Александру Исаевичу и как писателю, и как человеку; объясняла, что прежде не писала из-за боязни слиться с толпой праздных поклонников, которые любят “около действия“. А теперь настало время, когда она чувствует, что должно ей ему написать. Писала, что оказалась она на распутье, поскольку я живу у неё. “Нельзя мне не увидеть, как слабенькое, измученное существо, утерявшее под ногами почву, из страха сорваться, соблазниться отчаянием, глушит себя лекарствами, забивая всякое движение души. Я пишу просить Вас о милосердии, о сострадании. Может быть, можно как-нибудь облегчить?..“ Нина Викторовна пишет, что с ужасом видит, кому это на руку. Более всего тем, кто нуждается в самооправдании. “Вы теряете свою единственность, — пишет она. — А у других развязываются руки“. И заключает: “Да сохранят Вас ещё раз силы чудесные! Мы так нуждаемся в Вашей Единственности. Я верю в чудо!"
Ответ Александра Исаевича Нине Викторовне был очень для меня неблагоприятен. В ход пошёл тот стереотип, который был им выработан. Но Нина Викторовна и тут не сложила руки. Она принялась за следующее письмо. “...Ведь это Глеб, — писала Нина Викторовна автору “Круга", — чистил души наши, головы просветлял, учил благородству, умению охранять достоинство лица своего, не оступаться от него никогда, нигде, учил самоотвержению в любви... Оттого и пишу Вам, чтобы своё лицо в достоинстве сохранить, чтобы не услыхать: никто не вступился за нас. Я и вступаюсь за Вас, в первую, главную очередь за Вас... перед Вами".
Думаю, что Александр Исаевич не мог не оценить ее поступка, как и поведение Нины Наумовой, которой через два с лишним года передаст через ее мужа Ивана Ивановича: “Спасибо за Наташу!" Думаю, что в глубине души Саня всегда знал правых и виноватых, но действовал не повелению души; а душа нет-нет да заявляла о себе, вот хотя бы в этом: “Передайте Нине Николаевне спасибо за Наташу!
После нашего свидания 26 февраля Саня написал моей маме. В числе прочего он писал ей, что огорчился, узнав, что я “срезала их бюджет. “А я о том не знал, — писал он. — У нас с ней был расчёт, что жизнь семьи не должна меняться". “Хотелось бы, — продолжает он, — чтобы Вы вообще не почувствовали никаких изменений в бюджете, пока есть на это силы". И он обещает как-нибудь приехать в Рязань.
...Как могла мама не понять, что Саня по-прежнему считает нашу семью своей семьёй наряду с другой, у него появившейся?
В Ленинграде я живу в трёх семьях, в трёх домах попеременно, и всюду не только жалуюсь на судьбу, не только плачу, без чего не обходится, но и работаю.
Вряд ли веря в благоприятный для меня исход нашей драмы, Екатерина Фёдоровна Зворыкина однажды, без всякого вопроса с моей стороны, сказала решительно: “С НЕЙ он к нам не придёт! Для меня он навсегда останется связанным с Вами! И я была безмерно признательна ей за эти ее слова.
Втянувшись в работу, я стала даже навещать знакомых, предварительно им позвонив, и не зная при этом, как кто отнесётся к моей беде.
22 марта я у Николая Андреевича и Екатерины Васильевны Семеновых. Андреич — лагерный друг мужа. Они познакомились в Бутырской тюрьме, где как-то лёжа на нарах, сочинили новеллу, которая вошла в виде главы в роман “В круге первом — “Улыбка Будды". Потом снова встретились, уже в “шарашках": сначала в Загорске, а потом в Марфино. Андреич ещё и один из персонажей романа, где он назван Потаповым. В период нашего "тихого житья" Андреич был первым нашим гостем в Рязани. И вот...
Оба они, и муж, и жена, в ужасе от происходящего.
— Ну может случиться такое... какой-то эпизод... Но...чтобы я оставил свою старуху? Да как же так? Ведь он написал мне тогда: “Андреич, я — женатый человек, ко мне вернулась моя Наташа".
Николай Андреевич просит жену найти то письмо Александра Исаевича. Оказалось, что хотя с тех пор прошло четырнадцать лет, он помнил написанное слово в слово.
Звоню композитору Наде Симонян, сестре Кирилла, которого тщетно пыталась разыскать в Москве. Оказавшись в вакууме, я тянулась к друзьям юности. Слышу от Нади:
— Наташа, это... правда?
Получив утвердительный ответ, зная о многих трудностях, которые я в своё время перенесла из-за Сани, со свойственным ей максимализмом Надя произносит:
— Но ведь это предательство!..
Ещё посещаю Самутиных. Леонид Александрович, громадный поклонник Солженицына, просто в смятении. Говорит: “Когда узнал, сразу вырвалось: “Был на Руси один человек и его не стало".. Самутин рассказывает мне о своих бесконечных спорах с теми, кто защищает мужа. В частности, и больше всего — с Воронянской, с той самой Елизаветой Денисовной Воронянской, с которой мы вместе когда-то печатали на прибалтийском хуторе “Круг", а позже, в “Борзовке" — “Архипелаг"... Мне казалось, она была и мне другом... В нынешней ситуации Воронянская склонна все простить своему кумиру.
— Но как же так? — говорит Самутин. — Ведь кому много дано — с того много и спросится...
Леонид Александрович бывал у нас дома, знает наших старушек, знает, что они были для Александра Исаевича в тяжёлые годы лагерей, а потом в рязанский период нашей жизни. Леонид Александрович очень подружился с моей мамой, уже несколько лет с нею переписывается. Нет, он разочаровался в Солженицыне, как в человеке. Говорит мне сокрушённо:
— У него чёрствое сердце.
Я пытаюсь возражать. Рассказываю о наших с ним последних свиданиях... Но Самутин говорит убеждённо:
— Человек всю жизнь остаётся таким, каким родился. Он будет страдать, мучиться, но не сможет измениться.
Тем временем Саня побывал в Рязани у мамы, наладил денежные дела. Оттуда мне пришли в одном конверте письма от мамы и от Сани. От него — снова пожелание света, света, света... Откуда он возьмётся, из какою источника?..
Письмецо мужа позволило мне обратиться к нему по телефону с просьбой, чтобы он меня встретил.
Так и произошло. 12 апреля Саня с тремя тюльпанчиками в руках встретил меня на перроне Ленинградского вокзала Москвы.
Когда это было, чтобы он встречал меня с цветами? Так, оказывается, в чём-то есть и преимущество нашей новой ситуации! Я с трудом подавила в себе желание броситься к нему на шею. Но... нельзя. Где же моё женское достоинство? Ведь я обещала ему переплавить свою любовь в дружбу. Полно, смогу ли? Мы присели на скамью в здании вокзала. Саня заметил, что я плохо его слушаю и очень нервничаю. Мне не хватало воздуха. На несколько минут вышла на перрон. Вернулась. Но волнение не уходило.
— Ты не можешь меня видеть?
— Нет, могу. Только надо привыкнуть...
Потом был Крым. Сначала Черноморское. Очень холодная для тех краёв весна. Зубовы, у которых я оказалась понятой Еленой Александровной и совершенно не понятой Николаем Ивановичем.
При первом же моем рассказе, конечно, возбуждённом, Николай Иванович перебил меня:
— Вы выносите Сане обвинительный приговор. Любви нет.
Мои уверения в противном его не переубедят. Наш спор с Николаем Ивановичем Зубовым будет длиться до самой его смерти, уже в письмах. Я вновь и вновь пыталась доказать ему, что то, что он считает несовместимым, вполне совместимо: с одной стороны — любовь, с другой — возмущение тем или иным поступком любимого. Разве мать разлюбит своё дитя, если оно совершит дурной поступок? Разве Сонечка Мармеладова не осуждала Раскольникова, или, осуждая, меньше (не больше ли?) его любила?.. Часто любят и вопреки разуму. Разум осуждает, а сердце...
Приняв, что каждый из нас двоих сам по себе, Николай Иванович считал, что мне нужно начать жить совершенно другой жизнью. Какой? У него был готов рецепт для меня: полечить нервы, найти работу и искать новых людей! Писание мемуаров, которое им совсем недавно одобрялось, для-чего он прислал мне все Санины письма, им, Зубовым, когда-либо написанные, теперь начисто отметалось. Я хочу прочесть Зубовым свою главу “Тихое житье", написанную в значительной мере по тем самым письмам. Но Николай Иванович и слышать об этом не хочет.
Провожая меня из Черноморской, Николай Иванович говорит мне последние слова напутствия: “Лечиться, а потом работать! Ищите новых людей!" слышу я уже садясь в автобус.
С конца апреля я — в Алуште, в пансионате. Зелени много, а цветов в ту холодную весну почти нет. Цветёт лишь раскидистое дерево у входа в главное здание. Цветёт яркими розовыми цветами. И почему-то называется “иудиным" деревом.
Ну а как насчёт “новых людей", о которых так пёкся Николай Иванович?..
За одним столом со мной оказалась худенькая, очень интеллигентная пожилая женщина. Звали ее Ниной Львовной. Мы сразу же подружились. Она была москвичкой, работала библиотекарем. После завтрака вместе отправлялись на пляж. А после ужина чаще всего гуляли вдвоём вдоль набережной в сторону выступавших из моря больших камней, после обеда Нина Львовна отдыхала. А я в это время бегала по горам, не боясь ни обрывов, ни крутых спусков. Какое-то бесшабашное настроение владело мной тогда: разобьюсь так разобьюсь, чего мне теперь бояться?.. Больше всего любила подниматься к изящной белоснежной беседке наверху и смотреть оттуда на бескрайний морской простор.
Через некоторое время я стала рассказывать Нине Львовне долгую историю своей жизни, не называя имени главного ее героя. Это продолжалось несколько дней. Наконец, настало время сказать ей, кто мой муж. Нина Львовна, будучи весьма культурным человеком и, к тому же, библиотекарем, конечно же, знает, кто такой Солженицын и чтит его как писателя. Но пока она никак не связывает его с тем человеком, который причинил мне много страданий в прошлом, ещё больше — в настоящем. Узнав всю правду, Нина Львовна в смятении. Как, это Солженицын так поступил со мной? Потом она созналась мне, что кумир оказался для неё поверженным вмиг.
Спустя неделю-полторы с начала моего пребывания в Алуште за нашим столом освободилось одно место. И вот во время завтрака к освободившемуся стулу подошёл невысокий коренастый мужчина с южным типом лица. Поздоровался, и, присев, сразу же принял участие в обсуждении меню на следующий день. Он оказался достаточно интеллигентным и находчивым в разговоре. Сумел занять нас беседой.
Пару дней спустя мы стали уже втроём прогуливаться по набережной после ужина. Темы для бесед всегда находились. Не могу сказать, чтобы суждения нашего собеседника отличались какой-либо оригинальностью. Хотя он оказался доктором исторических наук (а может быть именно поэтому?), в нем сквозила определённая ортодоксальность. Но в качестве курортного времяпровождения это даже как-то забавляло, поскольку я-то привыкла совсем к другому... В разговоре касались и литературных тем, но имени Солженицына никто из нас не произносил. Впрочем, при его лояльности стоило ли этому удивляться?.. Ведь Солженицын— “одиозная фигура"!
Мне очень хотелось побывать в Судаке, проехать туда катером. Зная об этом моем желании, наш собеседник сказал как-то, что узнал: в Судак катера не ходят. Однако он может организовать поездку в Судак на легковой машине. Ведь он уроженец Крыма, у него здесь много друзей!.. Один из них может предоставить в его распоряжение машину.
Соблазнительно. Ведь я хотела начать жизнь, ни в чем не похожую на ту, которую вела. То баловала я, теперь балуют меня... Этот человек будто создан исполнять мои желания! И я про себя назвала его Магом.
Маг был в Судаке не впервые, а потом оказался превосходным гидом для нас с Ниной Львовной. Не обошлось и без фотографирования. Причём наш гид попросил сфотографировать его отдельно, на память. Я спросила: по какому адресу я должна буду выслать ему диапозитивы? Зачем высылать? Разве мы не можем встретиться в Москве? И он дал мне свой служебный телефон.
Нина Львовна уезжала на день раньше меня. Я проводила ее автобусом до Алушты и посадила в троллейбус, идущий в Симферополь. А сама должна ехать на следующий день. Маг говорит, что проводит меня так же, как я проводила Нину Львовну.
Впервые мы вдвоём с ним гуляем вечером по набережной. Когда дошли до камней, остановились и, опершись о перила, стали смотреть в морскую даль. Помолчали.
— Милая Наталья Алексеевна! — обратился вдруг Маг ко мне. — Чего было у вас в жизни больше: кислого или сладкого?
— Было и то, и другое, но больше, вероятно, горького.
Он сказал о самом первом впечатлении от меня: несмотря на мою наигранную весёлость, порывистость он сразу уловил грусть в моих глазах, даже трагедийность. Я отвечала в общих чертах, ничего не уточняя.
— В любом случае главное — это человеческое достоинство, — сказал Маг.
Как-то раньше он говорил, что у него есть охотничье ружье. А потом, когда он заверил меня, что я всегда могу рассчитывать на его поддержку, помощь, я пошутила:
— Вплоть до охотничьего ружья?
— Вплоть до ружья.
Вот и день отъезда. За завтраком мы условились встретиться с Магом возле камеры хранения. Каково же было моё удивление, когда, подходя к месту встречи, я увидела Мага, держащего роскошный букет роз. Это было тем удивительней, что цветов в Алуште ещё не было. Поблагодарив, призналась:
— Я никогда не держала в руках такого громадного букета роз.
— Если бы я знал, сколько вам лет, в этом букете было бы столько роз... — нашёлся Маг, лишний раз подтвердивший данное ему мною прозвище. (Те розы были доставлены ему из Артека).
Свой удивительный букет мне удалось довезти в Москву. С вокзала поехала к Татьяне Васильевне, младшей сестре подруги Саниной мамы. Та — в восторге от моего букета и искренне рада, что кто-то проявляет ко мне такое внимание. Узнав, что на следующий день Саня будет встречать меня в Наре (у нас с ним было условлено), говорит решительно: “Саня должен увидеть эти розы!“ Она наполняет ванну водой и бросает в неё розы.
24 мая я приехала в Нару условленной электричкой. Выйдя на платформу, поставила возле себя чемодан и стала ждать мужа, держа сумочку в одной руке, а в другой —букет крымских роскошных роз. На мне было красивое платье, “золотые" босоножки, шляпа с большими полями...Подойдя ко мне и глядя на меня с некоторым удивлением, Саня сказал:
— Здравствуй! Ты великолепно выглядишь!
— Здравствуй, — отвечаю, но руки не подаю.
Едем в “Борзовку". Едем на нашем “Денисе". Я довольно спокойна. Уже нет того смятения, которое охватило меня, когда Саня встречал меня из Ленинграда. Неужели даже вот это безобидное ухаживание Мага так облегчило мне общение с Саней?
Когда вошли на участок, поняла, что наш садик ждал свою хозяйку: не запущен, цветут тюльпаны и нарциссы. Саня рад, что цветы меня дождались и как-то даже горд, что сдаёт мне участок в хорошем состоянии.
Мы хорошо в тот день с ним поговорили. Впрочем, говорила больше я, а Саня соглашался. Да, конечно, надо жить по правде, ни в чём не таясь друг от друга...
Прощаясь, Саня оглядел участок. На глазах выступили слезы.
— Лучшее место на земле! — произнёс он.
Поцеловал меня в щеку, а потом ещё и руку поцеловал и... уехал. На днях он поедет в Рязань проходить техосмотр; машину мне не оставляет: “обезножу". А потом я поеду в Рязань, а он поживёт здесь.
Встреча эта, как ни была она хороша, все же стоила мне нервного напряжения. Остаток дня я все больше лежала.
А следующий день принёс мне большое огорчение: убирая в домике, в отсеке второю этажа, в сундуке, я обнаружила своё белье, аккуратно сложенное в полиэтиленовые пакеты.
...Как? Ведь он обещал мне ничего не предпринимать, не согласовав со мной — и вывез из “Сеславина" едва лине все мои вещи?.. Неужели выселил меня оттуда совсем? А как же: “Пусть пройдёт год"? Нет, не может этого быть! Мне запрещён вход туда до 14 октября — годовщины того дня, когда я наложила там на себя руки... И все же меня охватил бессильный гнев. Был-бы Саня здесь — я бы ему все высказала. Но он мне недоступен. Ехать туда, к нему — нет машины! Ехать автобусом и двумя электричками —нет сил... Остаётся одно: ответить ему тем же, каким-нибудь самовольным действием! Он хотел сохранить засохшую рябину, что росла у самого порога нашею домика — срублю её! Срублю и сожгу!
Так и сделала. Но потрясение, пережитое мною, было так велико, что буквально свалило меня. Три дня провела влежку. Никак не могла прийти в себя. Бедные крымские розы! Они уже почти завяли, когда я наконец-то собралась их сфотографировать...
Но вот меня приводит в чувство телеграмма от Сани из Рязани:
“Рождество не приеду аварии Дениса Есть возможность купить тебе машину. Если хочешь звони Сеславино понедельник вторник".
— Авария? Какая? А с ним самим что? Раз “звони Сеславино“ — значит жив-здоров! Хочу ли я иметь свою собственную машину? Конечно же, хочу!
Позже узнаю, что сразу после техосмотра “Денис" затарахтел, поломка оказалась серьёзной. Починить сразу машину не удалось, и Александр Исаевич, подгоняемый всевозможными ранее запланированными делами, оставляет ее в Рязани, поручив починку друзьям.
Постепенно ко мне вернулись физические силы, и я много возилась на нашем участке. Когда хотелось плакать — принимала седуксен...
Уже в июне я получила открытку от мамы, сильно меня встревожившую. В тот самый день, когда мама проводила Саню, у неё был сердечный приступ, даже вызывали “Скорую помощь“. Но врач отговорил маму вызывать меня, сказал, что “ничего серьёзного". (Через полтора года мама умерла от рака поджелудочной железы; при вскрытии обнаружили, что тот “сердечный приступ" был обширным инфарктом).
Я тотчас же отправилась на почту в Башкино, откуда мне удалось связаться с мамой по телефону. Это было уже 10 июня. На вопрос о здоровье мама ответила, что чувствует себя неплохо, а вот машина — без движения. Сразу же пришло решение ехать в Рязань. И я в тот же вечер уже в Москве. Запасаюсь железнодорожным билетом на следующий день. А пока посещаю Кобозева. Рассказываю ему все о нас с Александром Исаевичем, о поездке в Крым, о неожиданном покровителе. Николай Иванович видит здесь нечто большее, чем простое покровительство. Это знакомство поможет мне вернуть поколебленное женское и человеческое достоинство. “Позвоните ему!" — советует он мне. —"Это — ваш актив. Не надо терять времени!"
На следующий день я — у Ундины Михайловны Дубовой, чьи музыкальные занятия в клубе МГУ я посещала в своё время. Уже имея на руках проявленные крымские слайды, звоню от неё Магу. Он у телефона. Приятно удивлён: не ждал. Очень раздосадован, что я в тот же день уезжаю и не могу с ним увидеться. “К вашим услугам любой ресторан Москвы..." — говорит он. Обещаю позвонить ему по приезде из Рязани, Ундина Михайловна тоже весьма поощрительно относится к тому, что в это невыносимо тяжёлое для меня время кто-то, кроме Александра Исаевича, хоть краешком задевает мои мысли.
Почти перед самым поездом звоню в “Сеславино" и говорю мужу, что еду в Рязань чинить машину.
— Что же это такое? Ни у меня машины, ни у тебя...
— Могла бы и не ехать.
Конечно, разве ему хочется сознаться самому себе в том, что я ему в чем-то ещё незаменима?
Мама очень рада моему приезду. Рада и тому, что впервые он не начался со слез. Ведь я приехала действовать! Да и фраза “любой ресторан к вашим услугам" как-то подбадривает.
Диагноз “Денису" поставлен: отлетел “зуб“. Нужно доставить “планетарку с хвостиком". Добываю “планетарку". Добываю и нового мастера. По невероятной случайности его жена — моя бывшая студентка. Это особенно сближает. До сих пор дружна с их семьёй. Их сын родился на несколько дней позже Ермолая. Когда вижу его — не обходится без ассоциаций...
Пока чинится машина, по привычке читаю накопившуюся почту. Так горько читать общие нам с Александром Исаевичем поздравления. Особенно вот это, от Кадацкой из Харькова:
“Шлю сердечные весенние поздравления, дорогие Наталья Алексеевна и Игнатич.
"Игнатич“... Ведь это отчество повествователю “Матрениного двора" придумала я!
В Рязань пришли письма от Сани: одно маме, другое мне.
“Если будет Денис в порядке, подержи его у себя и поезди на нем хоть в Москву, я пока обойдусь».
Так я заработала право попользоваться некоторое время “Денисом.
Пробыв в Рязани неделю, я на починенной машине уехала — нет, не в “Борзовку", в Москву. В “Борзовку» же поеду 20 июня, где Саня будет меня ждать.
Как и обещала, позвонила Магу. Сказал: “Завтра я в вашем распоряжении. Любой ресторан.
В условленное время Маг ждал меня в вестибюле. А на столе, к которому он меня подвёл, уже красовался букет роз вперемежку с васильками.
Первым делом я отдала Магу диапозитивы, на которых он был запечатлён. А он, поблагодарив, сразу же сказал, что у него есть билеты в Дом кино, куда и предложил отправиться после обеда. Про себя подумала: значит, он обо мне ничего не знает. Итак, вот он — тот “новый человек», которого так желал мне Николай Иванович Зубов!
Можно было скрывать, чья я жена, пока мы были в Алуште — курортное знакомство не обязывает к подобным признаниям! Но раз знакомство наше на этом не оборвалось, я обязана сказать ему все, как оно есть... Тем более, что он собирается появиться со мной в общественном месте. И я сказала ему, что прежде чем идти с ним в кино, хочу с ним серьёзно поговорить. Вино придало мне храбрости и даже способствовало какому-то вдохновению. Выслушав мою “новеллу", Маг сказал, что он сегодня же вечером напишет сценарий. Когда я назвала имя своего героя, Маг страшно удивился: “Солженицын?.. Этот... литератор? А заключил так: “Вы очень интересно все рассказываете. Вы должны написать об этом книгу!
Разговор был в самом деле очень интересный и очень затянулся. Время бежало незаметно и ни о каком кино нечего было уже и думать. Да мы о нем и не вспомнили! Любопытно, что Маг больше никогда меня в кино не приглашал: ни в кино, ни в какое-либо развлекательное учреждение. Это окончательно убедило меня в том, что до того, как я сама о себе рассказала, он обо мне ничего не знал, раз он не хочет афишировать своего знакомства со мной.
Снова я явилась к Татьяне Васильевне с цветами. Цветы опять произвели на неё впечатление. А Маг получил ещё одно прозвище: “кавалер роз“!
И все же те три трогательных тюльпанчика, которые я получила от Сани, приехав из Ленинграда, насколько же они дороже мне всех тех букетов роз, которые я получила и буду ещё получать!..
На участке Александра Исаевича не оказалось. Обычный воскресный шум заставил его уйти в лес; мне он оставил записку: предлагал пить запасённое им молоко, а ещё предлагал съездить к Паниным, от которых тоже была мне записка с приглашением.
Нельзя было не заметить, как ухожен наш участок: вся трава была скошена. Встретились. Вместе пообедали. А потом отвезла Саню на электричку. “Денис пока остаётся у меня.
Дальше жизнь моя приобрела довольно определённый ритм. Большую часть времени я проводила в “Борзовке“, примерно раз в неделю бывала в Москве, обедала в Москве в ресторане, неизменно получая розы, но при этом ни один букет не был похож на другой: то розовый, то красные розы с белыми...
В моем дневнике иногда даётся оценка нашим с Магом свиданиям: “разговор интересный, “снова интересно», «видеться не столько приятно, сколько интересно". Маг угадывал, какое чтение могло бы меня заинтересовать. Как-то подарил мне “Собачье сердце Булгакова. Дал прочесть книгу мадам де Сталь “Коринна, или Италия", которая произвела на меня сильнейшее впечатление. Моя драма почти лишила меня способности читать, способности воспринимать написанное, а эта книга приковала меня к себе. Мне было далеко до Коринны, но порой в ее переживаниях я узнавала свои. “Горе может убить меня, — говорит Коринна, — я слишком бурно восстаю против него, с ним надо смириться, не то можно умереть. Но как... смириться? И Коринна видит лишь один путь обрести душевное равновесие и чувство собственною достоинства: укрыться в область мысли. Не пора ли мне взяться за перо? Что понимают те, кто отговаривает меня писать?..
Ещё я читаю книгу Николая Ивановича Кобозева, им мне подаренную, — “Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления". А потом его же очень интересную, но не опубликованную работу “Время", из которой просятся и просятся выписки. В этой книге, между прочим, говорится, как о само собой разумеющемся: «Можно разлюбить женщину, но нельзя разлюбить жену“.
Но и рестораны в моей жизни продолжались. После ресторана, где не обходилось без вина, я не могла водить машину и потому оставалась ночевать в Москве: то у одной своей приятельницы, то у другой. При этом ко всем я неизменно приходила с розами. Кое-кого это даже взволновало. В числе таковых был, например, Дмитрий Михайлович Панин. Дмитрий Михайлович, узнав, что у мужа моего родился ребёнок и что он при этом как бы не оставляет меня, был потрясён. Когда я, после получения записки от Паниных, пришла на их дачный участок, супруги выказали мне большое сочувствие. Если раньше я была для них Натальей Алексеевной, то теперь стала просто Наташей. Евгения Ивановна все повторяла: “Это угар. Он пройдёт, непременно пройдёт". А от Дмитрия Михайловича услышала: “Я был бы счастлив, если бы у меня была такая жена. Саня не оценил сокровища". Он уже пытался влиять на Саню и будет пытаться делать это и впредь. Советует мне ни в коем случае не отступать. Говорит, что Саня больше отмалчивается... Но, когда я явилась однажды к Евгении Ивановне с розами, Дмитрий Михайлович забеспокоился. При следующей нашей встрече он пытался предостеречь меня: а вдруг госбезопасность?.. Во всяком случае, надо быть начеку.
— Я всегда начеку! — ответила я. — Даже Саня знает о существовании “кавалера роз" и говорит, что, если кого-нибудь это пугает, он принимается меня защищать.
Между тем общение с Магом, доказавшее, что я в состоянии вызвать к себе интерес, придало мне какую-то уверенность в себе. Я изменилась. Стала пить меньше лекарств. У меня перестали дрожать руки. Я гораздо легче стала переносить одиночество, когда жила в “Борзовке". Мне стало казаться, что я к нему привыкаю, что не так уж оно меня тяготит. Впрочем, может быть, это от того, что оно прерывается — и не только встречами с "кавалером роз», но и куда более желанными с Саней?
Наездив 1000 км, передаю “Дениса" в его пользование. На даче мы живём попеременно, но больше я. Передаём друг другу участок в идеальном состоянии, запасаем друг другу молока. Заботимся друг о друге.
Бывало, что, приезжая в “Борзовку", Саня начинал с упрёков, каких-то нападок, несуразных советов, явно не своих, а потому мне всегда легко было отвести их, и он полностью признавал мою правоту. А уезжал всегда со слезами на глазах. Приезжая одним, а уезжая совсем другим: родным, добрым... Ему так хочется здесь жить! Без “Борзовки“ нет творчества... Но... разве при сложившихся условиях ему можно жить под одной крышей со мной?
И все-таки однажды Сане пришлось заночевать в “Борзовке“: случилось это в середине июля.
Как-то я приехала на дачу на день раньше условленного: хотелось сказать Сане, что я выписала машину и что теперь нужно дождаться сообщения, когда можно будет ее получить. Оказалось, что на следующий день он здесь кого-то ждал, а потому в тот день не уехал. Ожидаемый молодой человек поможет Александру Исаевичу спустить со второю этажа письменный стол — тот самый грандиозный стол, который мы с ним вдвоём, по частям, с таким трудом водрузили наверху. Я не смею возражать, но грустно очень, что стол уезжает. Сказал, что едет он в “Сеславино". Так ли? Как-то так получилось, что я уже начала привыкать к тому, что обещание обо всем советоваться не выполнялось. Мне казалось, что это только в малом, что в главном Александр Исаевич ничего не предпримет, не согласовав со мной. Придёт время, и я пойму, что заблуждалась...
На следующее утро вместе позавтракали. Потом я поехала в Наро-Фоминск за продуктами (ведь оставалась без “Дениса"). Когда вернулась — муж был не один. Сидя на большой дубовой скамье, он беседовал с каким-то мужчиной. Когда Александр Исаевич прошёл в дом, я предложила организовать общий обед. Он согласился. А пока они займутся столом.
Он привёл своего собеседника и представил нас друг другу:
— Это — Наталья Алексеевна, а это — Володя.
Однако сам Володя, подавая мне руку, назвался: “Осипов".
Выносятся одна за другой большие тумбы письменного стала. Саня не понимает, почему я, не выдержав, все же огорчаюсь.
— Ведь ты за ним не сидела! — утешает он.
— Я пыль на нем вытирала, — отвечаю я.
— Разве что...
Тогда я не знала, что попала в самую точку. Я ещё не прочла всего “Августа" и, в частности, не читала похвалы Алине, которая умела вытирать пыль, не сдвинув ни одного карандаша на заваленном столе Воротынцева.
После обеда, перед отъездом мужчин, я спросила у Осипова, чьё открытое русское лицо очень к нему располагало, есть ли ему кому подарить цветы. Тот ответил утвердительно. Как раз зацветали наши чудесные махровые тёмно-красные пионы. Перемешав пионы с белыми гвоздиками, я поднесла букет Осипову. Тогда я не знала, что подношу букет своему будущему первому издателю!
В опустевшем кабинете мужа я соорудила подобие стола из сбитых досок. А он взамен стола привезёт свою кафедру, за которой работал стоя. Все же оценил, как я хорошо придумала. ..
Уступаю Сане “Борзовку" и еду в Рязань. Там я всерьёз работаю: разбираюсь в письмах, дневниках. Мама, сдавшись (ведь она была против того, чтобы я расставалась со своим прошлым!), тоже мне помогает сортировать письма по лицам, по датам. В числе тех писем были и мои письма к маме, которые она все до единого сохранила.
Потом — опять “Борзовка". Как там мне жилось, хорошо видно из письма моего Николаю Ивановичу Зубову:
“Дорогой Николай Иванович! Вот я почти и привыкла жить одной. Вы были свидетелем, как это было мне трудно. Но в “Борзовке" можно жить “на подножном корму. Всегда что-то есть в земле или на ветках, кустах... Приносят молоко. Купишь творог, яйца, масло, хлеб — надолго хватает. И никаких там завтраков или обедов — просто еда. Бывает, что по нескольку дней ни с кем словом не обмолвишься. И — ничего. Работаю и головой, и руками.
В тот год был небывалый урожай чёрной смородины. Одной не справиться! Саня согласен мне помочь. Придумал прикреплять к поясу солдатский котелок — и быстро пошло. Собрал целых 9 килограммов. И 20 килограммов сахара привёз из Наро-Фоминска. Таким образом, хозяйничаем вместе. Приехав на дачу, принимаюсь мыть, взвешивать, перетирать смородину... Хватит и Ермолаю...
В конце июля Саня написал маме письмо:
“Дорогая Мария Константиновна!
За минувшее время не раз видел Наташу, и нахожу, что она очень укрепилась и обретает душевную стойкость. Всеми силами стараюсь это дружески поддерживать... “Борзовки“ в этом году почти не вижу, скучаю — но зато хоть Наташа, после стольких месяцев бездомности, неплохо чувствует себя там”.
При следующей встрече, в конце июля, Саня сказал мне, что решил не ждать осени, а теперь же, в августе, ехать на юг. Сказал, что без “Борзовки” творчество не идёт, а потому и уезжает раньше, чем думал.
— Пусти меня в “Сеславино”! Будем, как в прошлом году!
Нет. Он уже решил ехать.
...Почему Сане не работается в “Сеславине”? И почему он упорно меня туда не пускает? Ведь по моему настрою он не мог не видеть, что я не собираюсь повторить своей попытки самоубийства... Так, значит, из простого упрямства? Если бы я знала почему “Сеславино” для меня закрыто, почему Саня меня туда не пускает. Если бы знала... Но у меня не шевельнулось и тени подозрения.
Спросила Саню, привёз ли он мне фотографию Ермолая. Нет, не привёз, привезёт после юга. “До всего доведёт время!” — говорит он. Ещё сказал мне, что “Денис” плохо набирает скорость и что надо заменить диск сцепления, и попросил меня привести при случае из Рязани (у нас он был, запасной). А когда привезу, я должна позвонить либо сторожихе дачи Ростроповича, либо его знакомому, который будет чинить “Дениса”. К тому же знакомому я могу обратиться, если буду получать новую машину: поможет выбрать. Даст мне его телефон. Зовут этого знакомого Александром Моисеевичем.
Выехали вместе и расстались на 69-м километре Киевского шоссе. Я впервые за эти месяцы, расставаясь, Саню поцеловала, добавив при этом: “По-сестрински”. То было 31 июля. Знала бы я, какой будет наша следующая встреча... Какие неожиданности принесёт август...
Побывала у Паниных, которые по-прежнему поддерживают меня.
На дачу вернулась уже в темноте, на случайно подвернувшемся такси. Сердце защемило. Всякий раз приезд на пустую дачку был болезненным: никому не нужны мои заботы... Потом привыкла.
Утром встанешь, выйдешь на крылечко, оглядишься, посмотришь на кусты, цветы, — будто и не одна.
В то время я твёрдо верила, что мне удастся повести Александра Исаевича по пути благородства. Мы останемся мужем и женой, но теперь у каждого из нас — не только у него — будет и своя отдельная линия жизни. Я хотела торжества справедливости и мне казалось, что ничто не должно было этому помешать. Но случилось непредвиденное...
У нас было договорено, что по возвращении мужа из южной поездки я уступлю ему “Борзовку". Был назначен предположительно и день — суббота, 21 августа. Уезжал он на юг 7 августа, прислав на прощание письмецо с пожеланием мне “всего хорошего", “искренне: всего тебе хорошего".
Выполняя Санину просьбу, я съездила в Рязань, чтобы привезти оттуда нужный для “Дениса" запасной диск сцепления. По приезде в Москву я позвонила на дачу Ростроповича и попросила сторожа Людмилу Борисовну передать автомобильному мастеру, что я привезла диск сцепления и что он будет находиться у меня на даче.
Потом была “Борзовка, где я занималась то ягодами, то папками, из которых печатала и печатала на машинке особенно интересный с моей точки зрения материал.
12 августа я уехала в Москву, где у меня была назначена встреча с Магом: как обычно, в ресторане. За вкусным обедом (стол, как всегда, украшал букет роз) сказала ему, что, вероятно, скоро куда-нибудь уеду (надо уступать “Борзовку" мужу), но только не в Рязань.
— Я понимаю вас так, — услышала я в ответ. — Вам нужна квартира в Москве, чтобы вы не метались и чтоб у вас было постоянное место, где бы вы могли работать.
В том, что я должна написать книгу о Солженицыне, Маг убеждён и не устаёт поощрять меня в этом. Сказал, что подумает... Я не возражаю: ведь Сане не удалось и —теперь это уже совершенно ясно — не удастся устроить меня в Москве!
Розы на сей раз достаются Снесаревой Неониле Георгиевне, которая помогает мне разбираться с “иностранными палками". А на следующий день мы с ней поедем в “Борзовку»: она хочет там побывать, да и почитать мною написанное.
Пятница, 13 августа. Погода великолепная и потому мы едем не до Нары, откуда добираться надо ещё автобусом, а до Башкино: оттуда на дачу пройдём пешком. Заодно можно будет зайти на почту, узнать, нет ли от мамы телеграммы относительно машины. Когда получу ее — совсем другая будет у меня жизнь!..
В посёлке захожу на почту и спрашиваю, не было ли мне телеграммы. “Да, была. Вам ее понесли. — “По поводу машины? — “Да“. Начальница почтового отделения кратко пересказывает мне телеграмму и тут же добавляет:
— У вас на даче была засада. Задержали вора. Он ничего не успел взять.
— Что? Вора?.. Какая засада? Почему?
Вряд ли ещё когда-нибудь на меня сваливались одновременно два столь противоположных известия, вызвавшие во мне столь же противоречивые чувства — радость в связи с машиной и тревога из-за какого-то несостоявшегося грабежа.
Подходя к даче, спросила у ближайших соседей, правда ли, что нашу дачу чуть не ограбили, что была засада? Подтвердили. Но в таком случае я не должна входить в дом без свидетелей. Сосед согласился пойти со мной. А тут прибежала и ещё одна соседка: у неё оказался ключ от почему-то заменённого замка.
Прежде чем узнать, что здесь произошло, я хочу убедиться, что у нас ничего не взято. И главное — мои материалы: различные заготовки, написанные главы...
В доме полный порядок. Даже “Спидола" стоит на обеденном столе, на своём обычном месте. Нижняя, моя комната — заперта. Чемодан со всеми материалами, стоящий под кроватью, — тоже заперт. И на втором этаже — никаких признаков чьего-либо вторжения.
Так что же, собственно, произошло?.. Мне рассказывают, что накануне, часа в четыре дня, с небольшой поляны, что начинается сразу за хиленьким забором соседней с нами дачи, раздался истошный крик: “Помогите! Убивают!.. На крик выбежал один из дачников. Перемахнув через забор, он увидел, как два дюжих мужчины тащат по направлению к шоссе упирающегося третьего, на лице которого явно были видны следы побоев. Дачник потребовал у всех документы. “Я в гости приехал, а меня за вора приняли! — объяснял пострадавший. Его документы нашли в машине, что стоит на обочине шоссе. Один из тащивших “вора" показал удостоверение: капитан МВД. Сказал, что у них была засада, ждали ограбления. Поймали вот этою типа, которого намерены отвезти в наро-фоминскую милицию: там разберутся... А хозяевам (имелись в виду мы с Александром Исаевичем) просят передать, чтобы приехали туда же.
Я прошу описать мне “вора". Может, это и в самом деле кто-нибудь из наших знакомых? Чёрный, кучерявый...Нет, такого не знаю. Но, может, это знакомый мужа?.. Придётся ехать на выручку!
Принеся из лесничества молока для своей гостьи, заняв ее чем-то, поехала автобусом в Наро-Фоминск, взяв с собой паспорт и мамину телеграмму, которую за это время мне кто-то принёс. Читаю: “Получена телеграмма Внешпосылторга возможности вручить Москве автомобиль москвич период шестнадцатое по двадцатое августа».
16-е — понедельник, осталось ждать всего два дня, и я c собственной машиной! Теперь, когда убедилась, что у нас ничего не украли, можно порадоваться по-настоящему!
В Наро-Фоминской милиции мне предложили подняться в одну из комнат второго этажа. Со мной разговаривали двое: один — в форменной одежде, другой — в штатском. Начали с вопроса, знаю ли я, что в районе наших дач неблагополучно: сын одного из наших дачников остановил такси и ограбил таксиста... Привели и ещё какие-то случаи. А потому они вынуждены быть начеку. И вот утром 12 августа кто-то, не назвавшись, позвонил в милицию и предупредил, что в тот день готовится грабёж на дачном посёлке постпредства Украины. Нужно было предпринять соответствующие меры. Представители милиции в три часа пришли в наш посёлок, обошли дачи. На всех дачах были люди. Запертой оказалась только наша. Впрочем, замок был не заперт, просто висел, а внутренний замок был заперт. Спрашивают, могла ли я, уезжая, не запереть замка? Вряд ли... Впрочем, при моей рассеянности... Поскольку замок не был заперт, они его сняли, а сами устроили засаду, спрятавшись в малине. “Вы уж извините, малину вам помяли...“
Ждут. В 16 часов и в самом деле появляется какой-то мужчина. Стучит в дверь. Ему не открывают. Тогда он вынимает связку ключей и пытается отпереть дверь. Вот тут-то к нему и подошли. Но он стал увёртываться и побежал...
— Но зачем было его бить? — спросила я.
— Сопротивление в момент задержания!..
— Мне кажется, вы недооценили, на чьей даче это происходило...
Как-то отговорившись, они продолжали свой рассказ. Задержанным оказался некто Горлов Александр Моисеевич, наш подданный, хотя он и кричал им, что он — иностранец. Это чтоб не били! Спросили, знаю ли я такого. Ответила, что у мужа есть знакомый, которого зовут Александром Моисеевичем, фамилии же его я не знаю и лично с ним не знакома. Могу предположить, что человек этот приезжал к нам на дачу за диском сцепления. (От мужа я знала, что “Дениса" должен чинить мастер по имени Александр Моисеевич).
— Мог ли ваш муж доверить ему ключи?
— Думаю, что мог.
— А кто такая Екатерина Фердинандовна? Горлов получил ключи через неё. Горлов назвал ее тёщей Солженицына...
— Тёщей?.. Интересно...
Если до того Горлов, попавший в подобную переделку, вызывал у меня сочувствие, желание его выручить, то с этого момента все это как рукой сняло. Как смел он называть Екатерину Фердинандовну тёщей моего мужа?!
Дальше меня ждала полная неожиданность: не давая в руки и держа на приличном расстоянии, мне показывают лист бумаги, на котором я вижу почерк, который отличила бы от миллиона других — почерк Александра Исаевича. Лист был перегнут пополам. На одной половине листа он обращался к Александру Моисеевичу, на другой — ко мне.
Это письмо снимало с Горлова обвинение в попытке грабежа, а потому он во время допроса сначала только показал это письмо, а потом, очень нехотя, все же отдал. На тот случай, если меня не окажется дома, Александру Моисеевичу даётся описание, где найти ключ. А письмо ко мне начиналось примерно так:
“Натуся! Я заболел и вернулся с юга...“
Дальше муж просил меня отдать подателю письма диск сцепления и ещё о том, что, когда он выздоровеет, хотел бы сменить меня в “Борзовке». Просил позвонить Людмиле Борисовне.
— Кто такая Людмила Борисовна? А что такое “Борзовка“? — посыпались вопросы.
— Подождите, — остановила я своих собеседников.
- Дайте мне свыкнуться с мыслью, что мой муж болен...
Подумать только! О Саниной болезни я узнаю в милиции! Чем и насколько серьёзно он болен? Кто за ним ухаживает?..
Но пока я вынуждена продолжать разговор. Может быть, мне не надо отвечать? Но разве не лучше, чтобы знали, что во всем, что их интересует, нет ничего, что являлось бы тайной? И я разъяснила, кто такая Людмила Борисовна, что такое “Борзовка“. (“А мы все карты изучили — искали, где находится “Борзовка“). Дальше разговор вернулся к незапертому навесному замку. Так все же: это я его не заперла или кто-то пытался к нам проникнуть? Если верно второе, то надо ещё раз встретиться!.. Они готовы приехать ко мне на дачу. Но в понедельник меня не будет. Тогда — во вторник! Надо бы туда же пригласить Екатерину Фердинандовну! Но тут уж я категорически запротестовала.
В конце концов один из моих собеседников стал писать акт: кто из нас с мужем когда жил на даче, когда я уезжала и прочее. Спросили, есть ли у меня к ним какие-нибудь претензии. Какие у меня могут быть к ним претензии? Ведь они охраняли нашу дачу!.. “А что побили Горлова — так это ему за “тёщу“— подумала я про себя. Так в акте и было записано: претензий к милиции у меня нет. Под актом поставила свою подпись.
Ни в субботу, ни в воскресенье, которые я провела на даче, ко мне никто не приехал: ни за диском сцепления, ни просто поговорить о случившемся. Решаю, что в понедельник, когда поеду за машиной, возьму с собой злополучный диск сцепления. Благо, он легко помещается даже в дамскую сумочку! А также позвоню в “Сеславино“, а то и Александру Моисеевичу (его служебный телефон дал мне муж перед своим отъездом на юг: он согласен помочь мне выбрать машину!) Ведь просто необходимо согласовать наши действия до того, как у меня состоится следующая встреча с милицией!
Оба дня занималась папками. Печатала и печатала оттуда все, что казалось интересным, важным.
В понедельник, 16 августа, еду в Москву с надеждой что вернусь в “Борзовку“ на новой машине. Но все оказалось не так-то просто. Хотя наряд на машину получила во Внешпосылторге легко, но, чтобы ее получить, надо выстоять длинную очередь и неизвестно, дойдёт ли она до меня сегодня.
Зато есть время позвонить к Ростроповичу, попытаться поговорить с мужем. Трубку берет Вишневская. Саня подойти к телефону не может, лежит с тепловыми ожогами. На случай, если я буду звонить, просил передать, чтобы я позаботилась о “Борзовке“.
— А о происшедшем он знает? — спрашиваю я.— Если да, то мне бы хотелось, чтобы он смотрел на это с юмором.
— Ну и юмористка же вы! — бросает мне Галина Павловна.
Говорю ей, что со мной диск сцепления и прошу узнать у Сани, что я должна с ним делать. Обещаю позвонить ещё.
Когда позвонила на дачу Ростроповича снова, Галя сказала, что Саня просил передать мне, что он крайне возмущён происшедшим. Что же до диска сцепления, то, немного замявшись, Вишневская предложила мне оставить его в лифте того подъезда, где помещается их московская квартира.
Я, конечно же, вспылила:
— Нет, я предпочитаю иметь дело с живыми людьми. Привезу и отдам вам в руки, — резко ответила я и повесила трубку.
Позже, от Александра Исаевича, я узнаю, что Вишневская не простила мне этой моей вспышки: “Если бы ты знала, как она тебе сочувствовала! А после того, как ты бросила трубку..." Вишневская окажется столь злопамятной, что отомстит мне, совершенно исказив мой образ в своих мемуарах. А разве нельзя было предложить то же, но иначе: “Наташа, занесите нам диск на московскую квартиру; если никого не застанете — оставьте его лифтёру"?
Горлову мне удалось дозвониться лишь во второй половине дня. Тот факт, что Саня возмущён происходящим, тем более требовал, чтобы я выслушала другую сторону! Я объясняю Александру Моисеевичу, что мне предстоит ещё одна встреча с милицией; нам с ним необходимо увидеться, согласовать свои действия. Нет, сегодня он занят. К тому же ему в милиции сказали, что я к ним претензий не предъявляю...
— Но это — не телефонный разговор! — настаиваю я.— Уж если вы не хотите меня видеть, то скажу то, что собиралась сказать при встрече...
И я говорю Горлову, что сочувствовала ему до тех пор, пока не узнала, что он свою сослуживицу произвёл в тёщи Александра Исаевича.
— Запомните,— возбуждённо говорю я ему,— тёща Александра Исаевича одна, она живёт в Рязани и зовут ее Мария Константиновна Решетовская!
Я снова, как в конце разговора с Вишневской, повесила трубку. И это тоже мне будет поставлено в вину. Но, спрашивается, как иначе я могла поступать с людьми, которые оскорбляли меня, маму?..
На следующий день я довольно скоро получила машину “Москвич-412“. По цвету — чуть-чуть ярче “Дениса", тоже светло-зелёный. Назову “Денис-2“!
На нашем “Денисе" ручка переключения передач на руле, а здесь — в полу. Как же я справлюсь?.. Договариваюсь с одним типом, что он за определённую плату вывезет меня из Москвы и научит переключать передачи.
— Куда ехать? — спрашивает он меня.
— На Рублевское шоссе.
Итак, мой первый выезд на “Денисе-2“— в “Сеславино“. Нет, не в самое “Сеславино", не в наш флигелёк, куда мне закрыт доступ до середины октября, но — все равно — туда, на дачу Ростроповича.
Переключением передач овладела довольно быстро и дальше поехала одна. Вот и знакомый поворот в Академгородок. Железнодорожный переезд. Тенистые аллеи. И, наконец, дача Ростроповича.
Оставив машину возле калитки, иду к “большому дому“. Сторож Людмила Борисовна, с которой я была знакома лишь по телефону, очень приветливо меня встречает и сразу же идёт звать Галину Павловну.
Остаюсь в кухне — в такой знакомой, где порой кормила громадного добродушного Кузьку, когда дача оставалась почему-либо без сторожа, на чьём попечении он обычно был. Вынимаю из сумочки злополучный диск сцепления, кладу его на стол. Жду. Довольно долго никто не приходит. Наконец, Людмила Борисовна возвращается и говорит мне, что сейчас придёт... Александр Исаевич.
Муж вошёл в кухню, двумя руками опираясь на палку — от боли, наверное, но скорей для того, чтобы не поцеловать мне руки, как это было заведено в то лето. На нем был накинут плащ (был полуодет из-за ожогов). Показался мне постаревшим. Лицо его было очень хмурым. Приблизившись ко мне, тихо, но внятно сказал:
— Как ты могла поверить версии милиции?
— А я никакой другой версии не знаю. Разве было не так?..
— Два дня все западные радиостанции, — продолжал он тем же тоном, — передают моё “Открытое письмо" министру госбезопасности Андропову.
— Почему же ты не дал мне знать?
— Тебе звонили в Рязань. В “Борзовку" некого было послать: все разъехались.
Одним словом, выходило, что это совершенно естественно — получать информацию от мужа через западные радиостанции!
Всем своим поведением муж показывал мне, что он крайне мной недоволен. И тем, что я поверила версии милиции, да быть может и тем, что прикатила сюда, в его «крепость"... Ведь вход в “Сеславино" мне закрыт до 14 октября!..
Поговорить пошли в мою машину. Только теперь узнала я, как все было. Оказывается, когда Горлов, приехавший в “Борзовку" за диском сцепления, подошёл к двери нашей дачи, то прежде, чем вынул ключи, он услышал разговор внутри домика на застеклённой веранде. Глянув через стекло, он увидел нескольких мужчин в штатском. Он с силой дёрнул дверь, сорвав при этом задвижку, вошёл и потребовал у этих людей документы. “А ну-ка, покажи ему документы!" — сказал один из них. Другой ударил Горлова по лицу. Горлов бросился бежать. Сначала на чужой участок, потом перемахнул через забор. Двое кинулись за ним. Он упирался, кричал. Все же, несмотря на вмешательство одного из наших дачников, Горлова дотащили до шоссе, посадили в машину, и повезли в Наро-Фоминскую милицию, а потом и в Москву. Требовали от него расписки, что он никому ничего не расскажет. Хотя ему всячески грозили, расписки он не дал. Более того, первым, кому он обо всем происшедшем рассказал, был Александр Исаевич. А тем почти тотчас же было принято решение написать “Открытое письмо" председателю КГБ Андропову. В нем он высказал своё возмущение происшедшим и требовал наказать виновных. Копию письма он направил Косыгину, как председателю Совета Министров СССР. И это письмо читается уже по западному эфиру.
Одним словом, я оказалась крайне наивной. Вечная моя доверчивость!.. Она сослужила плохую службу нам обоим в последние годы нашей совместной жизни; на этот раз она сослужила плохую службу мне самой. Между тем в результате проявленной мной наивности от Саниного намерения оставаться на высоте, которое я так старалась поддержать в нем, не осталось и следа. Он начал упрекать меня и по другим поводам: что, говоря с Галей, бросила телефонную трубку (“а ведь до этого она так тебе сочувствовала!"), что сделала Горлову выговор за “тёщу". А потом сказал уже совершенно несусветное: одна из наших знакомых сказала ему, что я якобы бегала в лес подсматривать, не встречается ли он там с ней.
— И ты можешь этому верить?..
Поистине, муж кажется мне “кумом", окруженным стукачами, которые не только доносят, но и оговаривают меня...
О себе Александр Исаевич сказал, что лечат его врачи из онкодиспансера, находившегося сравнительно недалекаот Жуковки. У него были даже волдыри из-за теплового удара, самые настоящие ожоги.
Я и сержусь на него, и жаль его - попросила, чтобы посмотрел, как я поеду на своём новом “Москвиче". В зеркало видела, как он смотрел мне вслед, опершись на палку. .
Таков был мой первый выезд на новой машине! Одно сплошное огорчение. Даже не ощущаю радости, что снова за рулём, что могу ехать куда хочу...
Тогда я не знала текста “Открытого письма" Солженицына Андропову. Сейчас оно передо мной. То, что произошло на даче, Солженицын назвал налётом, а концовка была такой: “Я требую от вас, гражданин министр, публичного поименования всех налётчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остаётся считать их направителем Вас".
Вот как бывший заключённый Солженицын заговорил-теперь с органами. Он не предполагал тогда, что обращался к будущему Генеральному секретарю.
КГБ не отмолчался. Через некоторое время Александру Исаевичу позвонили оттуда и сказали, что они здесь не причём, что это дело рук Наро-Фоминской милиции.
Как бы то ни было, но сегодня мне ясно, что наш семейный разлад кто-то пытался использовать. Было бы все по-старому, жили бы оба в “Борзовке", никто не рискнул бы туда явиться. Да и ни за что не поехал бы Александр Исаевич в августе на юг, не получил бы ожогов.
Мне хочется поделиться происшедшим в первую очередь с Николаем Ивановичем Кобозевым, хочется рассказать, к чему привела наша история. А что будет ещё? Что будет дальше?.. Мне нужен его совет, его ясная, мудрая голова.
Николая Ивановича на даче в “Узком" я застала в плохом состоянии. Тяжёлая болезнь все больше даёт о себе знать. Он почти никого не принимает. Но для меня делается исключение. Ведь к нашей истории Николай Иванович с самого начала относился с большой серьёзностью. Она и сейчас продолжает его волновать. Тем более, что происходит это не в рядовой семье, не с обычным человеком. Сама личность Александра Исаевича ко многому обязывает. Он хочет его видеть, и не для лёгкого разговора...
По пути в “Борзовку" я заехала к Паниным, на их дачный участок. Как у Дмитрия Михайловича, так и у Евгении Ивановны события вызвали такой интерес, что, подхлёстываемая ими, я все рассказывала возбуждённо.
— Вы горите, как факел! — сказал мне Дмитрий Михайлович.
Некоторые дачники перепуганы. Болтают даже, что у нас нашли ...рацию
Встретившись в очередной раз с “кавалером роз", спросила его, знает ли он о том, что случилось у нас на даче?
— Мне только жаль ваших нервов!
С его точки зрения, как бы и что бы там ни происходило, ясно одно: переусердствовали...
Посетила Всеволода Дмитриевича. Конечно же, и здесь, как и у Николая Ивановича, самым важным в разговоре был не налёт, а наша с мужем драма. Я говорю Всеволоду Дмитриевичу о своих раздумьях. Мы с Александром Исаевичем все время живём порознь: в “Борзовке" лишь сменяем друг друга, в “Сеславино" мне доступ пока закрыт. Временно ли все это? Или он хочет, чтобы я привыкла к такому положению вещей? Но я и не хочу навязывать себя мужу. Я думаю о нем тоже. Я хочу понять, что для него лучше и определилось ли это до конца. Ведь я что-то нашла для себя в своей вольной жизни: уже нет того отчаяния...Но убивает, что Александр Исаевич начал верить всяким сплетням обо мне, что он позволяет чужим людям оскорблять меня, и я вынуждена защищать себя сама, а он за это меня ещё и упрекает... Сказала о своём твёрдом убеждении: мы не должны оказаться разобщёнными, даже если разведёмся.
Всеволод Дмитриевич одобряет мою позицию, поведение моё признает принципиальным и благородным. Провожая меня к машине, отец Всеволод говорит:
— Женщины всегда поднимают нас: Людмила Сергеевна, Софья Андреевна, вы...
Погода стоит изумительная. Жаль даже покидать дачку, тем более, что скоро мне нужно будет уступить ее Сане. Но нельзя откладывать поездку в Рязань: надо ехать, чтобы регистрировать своего “Дениса-2“, получать номера. Да и надо, чтобы Слава проверил машину.
В Рязани меня застало письмо от Сани, в котором он писал, что болезнь его сильно затягивается, что он ещё долго не сможет подходить к телефону и что до его выздоровления мы с ним не увидимся. Будет что важное — должна сказать ему по телефону через Людмилу Борисовну или передать через Наталью Мильевну. Дожили...
Расстроилась невероятно. Болезнь усиливается. Как хотелось бы ухаживать за ним, беспомощным! Но... мне доступ в “Сеславино" до середины октября закрыт. И раз Александр Исаевич однажды так решил, ничто его уже не поколеблет! Так всегда и во всем. Кто же ухаживает за ним: Светлова наезжает? Но как это совместить с младенцем? Или Людмила Борисовна? Или Наталья Мильевна? Как бы ему было сейчас хорошо в мамином доме! Как ею в этом убедить? И мы решаем с мамой, что она напишет Сане, предложит приехать долечиваться в Рязань.
Увы, предложение это Александр Исаевич отклонил: благодарит, но “нетранспортабелен», а уход за ним есть.
После маминой смерти мне попался черновик ее письма к Сане. Вот кое-что из него: “...Хоть и случилось очень тяжёлое, но как-то трудно вырвать тебя из сознания, что ты не член нашей семьи. Ведь все в нашей семье было построено так, как нужно было тебе, и это не было какой-то тягостью, потому что в основе была любовь".
На мамино письмо Саня ответит не только ей, но и мне. -В письме, полученном мною от него в Москве "до востребования“, будет даже такая страшная фраза: “Приезжать сюда категорически запрещаю", да ещё и подчеркнул фразу...)
Снова вижусь с Магом. Опять ресторан. Опять розы. На фоне испытываемого унижения это хоть как-то приподнимает меня, хоть как-то возвращает чувство собственного достоинства.
Маг говорит, что у него появилась возможность устроить мне на два года отдельную двухкомнатную квартиру в Москве: один из его сотрудников едет с семьёй за границу, он даже заинтересован, чтобы в квартире жил кто-то надёжный.
Конечно, я согласна. Это именно то, что мне нужно. Ведь Санина попытка получить московскую квартиру за валюту окончилась ничем, а в Рязани находиться постоянно я совершенно не в состоянии.
Но мне тут же ставится условие: в этой квартире ни сам Александр Исаевич, ни кто-то из его друзей не должны бывать. Значит, ещё один железный занавес повисает между нами (первый — перед “Сеславино“!). Выхода нет, и я принимаю это условие.
Снова “Борзовка". Стоит мягкая солнечная погода. Читаю “Август". Вопреки мнениям некоторых других, я вижу тот солженицынский почерк. Мне и грустно, и как-то даже хорошо.
Посетила Шпиллеров на их даче. Я читала “Август" в машинописи, а у них — книга (издательство, разумеется “не наше"!). Полистала. А лотом нашла и прочла Шпиллерам абзац, из которого следовало, что чувством, достойным мужчины, может быть только гражданское или патриотическое, или всечеловеческое. А драмы вокруг любви посчитаны ничтожными. Шпиллеров этот абзац поразил так же неприятно, как и меня.
Говорят о моих мемуарах: когда-нибудь их будут расхватывать. А нельзя ли сейчас и начать "первый Узел"? (Как известно, Александр Исаевич называл отдельные части своих исторических романов “узлами).
31 августа у моей любимицы Лилечки был день рождения, и я послала ей поздравительную телеграмму.
Как горько! Отняли ее у меня. Любимое существо отняли! Ведь дети душу смягчают. А кто мне ее смягчит?..
Проснувшись однажды, я увидела рядом с Лилькиным личиком ещё и другое ребячье личико и внезапно поняла, что должна написать Боре — когда-то оставленному мной мальчику — покаянное письмо. И, плача, тут же его и написала.
Повинуясь порыву, я написала это письмо, не представляя, как я перешлю его Боре. Но, быть может, он остался Москве после института? Ведь его отец с Лидой живут в Москве! Через справочное бюро я получила адрес Бори. Я отослала письмо, а спустя несколько дней получила уведомление о вручении. Простил ли меня Боря, я не узнаю ещё много лет.
Прочтя “Август", я принялась перечитывать “В круге первом", одновременно делая оттуда выписки. В своём дневнике записала: “По-моему, — потрясающий материал для исследования его души".
Вот примеры: “Со стороны по видимости несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастье. Он испивал его как родник, он вызнавал тут тех людей и те события, о которых на земле больше нигде нельзя было узнать и уж, конечно, не в покойной сытой замкнутости домашнего очага".
И из других мест видно, что Глеб (а, значит, и Солженицын) нашёл себя в тюрьме. “У каждого человека есть своя особая пора жизни, в которой он себя полнее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался весь себе и другим... У Нежина такой порой стала тюрьма". И Надя Нержина скажет мужу на свидании: “Тебе идёт быть здесь!" Уже в “Круге" мы встретим выношенные Солженицыным в тюрьме мысли, которые дождутся и нобелевской трибуны, чтобы быть ещё громче сказанными: “...Что дороже всего в мире? Сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть не через тебя!"
Погода портится. “Борзовка" как бы выпроваживает меня. Как кстати Маг устраивает мне квартиру в Москве! Понемногу начинаю готовиться к переезду туда, хотя и боязно: не спугнуть бы! Чувство благодарности к Магу растёт. Ведь он помогает мне сейчас в самом главном, если говорить о практической стороне жизни. Хочется верить в его бескорыстие. И все же это ещё более отрывает меня от Сани! Увы! Там у меня ему никогда не побывать. Собираю вещи и... плачу. Он болен, а я не могу навестить его в нашем “Сеславине". Невольно думаю о Софье Андреевне, которую не пускали к умирающему Толстому.
7 сентября я впервые переступаю порог своей обители. Прелестная, хорошо обставленная квартирка в новом доме на Бакунинской улице. Все удобства, включая телефон. Все условия для работы. Получив от Мага ключи, еду переночевать к Татьяне Васильевне. Хочется поделиться с ней всем-всем. Татьяна Васильевна продолжает радоваться за меня — что у меня есть надёжный покровитель. Его опасался, как я уже писала, только Панин. А Шпиллер, Кобозев, как и Татьяна Васильевна, весьма поощряли меня и радовались его появлению. Да и Саня говорил мне, что защищает меня, когда кто-то меня за него порицает.
8 сентября, в день своих именин, я перевезла свои вещи на Бакунинскую и впервые переночевала на новом месте.
Утром пошла знакомиться с новым районом, с магазинами. И рынок близко, до ближайшей станции метро — пешком можно дойти...
Дома разбираю привезённые материалы. Раскладываю. Место для всего есть. Однако покидать “Борзовку" ещё рано. Еду туда. По дороге заезжаю к Паниным и снова слышу от Дмитрия Михайловича: не отступаться, несмотря ни на что! “Иначе Саня погиб!" — говорит он.
Сколько раз я в то лето приезжала в “Борзовку", чтобы сменить Саню. Он каждый раз ждал меня, старался, чтобы участок был в полном порядке... А теперь, уже в который раз, приезжаю в одинокую “Борзовочку"! Сердце щемит. Собираю черноплодку. С помощью одного дачника убираю насос. Прощай, лето!
К тому времени накатала уже 2 000 км. придётся съездить в Рязань, чтобы Слава проделал с машиной все нужные манипуляции.
Дня три пожила у мамы, которая очень обрадовалась моему неожиданному приезду. Раньше мама очень не одобряла, что я все продолжаю писать и, значит, никак не отвлекусь от своей драмы. Но в те дни мне и ее удалось привлечь к моей работе. Она стала разбирать письма: сначала самые ранние письма Сани ко мне, потом военные, а потоми другие. Постепенно втянулась, даже увлеклась. После моего отъезда она продолжит приведение в порядок всей относящейся ко мне корреспонденции, чем очень мне поможет.
В Рязани я дописала фрагмент “Отчислена согласно личного заявления" — историю моего увольнения из Московского университета.
В Рязани же меня поджидало письмо от одного ярого почитателя Александра Исаевича — Н.Я. Семенова. (Николай Яковлевич тоже в своё время отбыл лагерный срок, потом работал учителем русского языка и литературы; он растрогал когда-то Солженицына тем, что в читальне ярославской библиотеки переписал от руки “Ивана Денисовича"). Я не ответила на многие его письма и, в конце концов, была вынуждена объяснить ему причину этого. В моем письме к нему было что-то о том чувстве унижения, которое я испытываю. Николай Яковлевич, в своём полном глубокого сочувствия ко мне письме писал, что моё чувство унижения — иллюзорное. “Неправда, — писал он, — что гению все позволено. Нет, наоборот, гений должен быть во всём примером для других; если гений совершает недостойный поступок, его нужно осуждать гораздо суровее, чем осуждаем мы обычных маленьких людей".
Слава сделал все, что нужно было с машиной. Когда я пришла к ним, встретила меня его жена. На руках у неё — восьмимесячный Андрейка. Значит, примерно такой же Ермолай. Какой он?.. Увижу ли его?.. Прикоснусь ли к нему, к Саниному сынишке?..
Оставив машину в Рязани, снова еду в Москву, чтобы с головой уйти в работу. Льют дожди. Но мне на моей Бакунинской вполне уютно. Разобрав соответствующие письма, пишу главу “Молодожёны”. Я погружаюсь в нашу обычную жизнь — в то, как она начиналась. О том, как она кончится, стараюсь не думать. Работа увлекает меня, наполняет. С вечера готовлю и распределяю материал, днём пишу. Я...с ним.
Никого из нашего общего с Саней окружения я не могу позвать к себе на Бакунинскую. Впрочем, кто остался со мной в это тяжкое для меня время?.. А я-то, бывало, говорила: моими друзьями я могу считать лишь тех, кто является друзьями моего мужа. Как я была недальновидна! Как доверчива!..
Но я могу позвать СВОИХ друзей! Первой гостьей была у меня Татьяна Васильевна. Она пришла с тортом и розами. Вышло очень даже торжественно. Ей у меня понравилось. Очень мило провели вечер. Татьяна Васильевна не могла не оценить того, что дала мне Алушта. Что я не могу жить в Рязани, ей, психологу, объяснять не надо!
А ещё у меня побывала Сонечка Шехтер, с которой мы когда-то вместе учились в Ростовском университете, но по-настоящему подружились значительно позже. То время, которое я описываю, было одновременно и временем сближения с Соней. Она близко к сердцу приняла мою драму, очень осуждала моего мужа и готова была мне помочь в чём только могла. Постепенно Соня станет для меня самой близкой и самой необходимой. И так будет продолжаться вплоть до осени 1980 года, когда Сони не станет.
Закончив печатать “Молодожёнов", я собиралась заняться военными годами. Это — надолго. Но для этого мне нужен дневник того времени, Санины письма и мои письма к нему (большую часть их я привезла с фронта в 44-м году, а остальные припрятал Илья Соломин, а потом вручил их мне), да и письма друзей: Коки, Лиды, Кирилла... Значит, придётся снова съездить в Рязань.
Поездка в Рязань оказалась хотя и грустной, но плодотворной. Мама многое мне подготовила. А я стала приводить в порядок наши магнитные записи. Сколько записано у меня Саниного голоса! Будто живого его слышу...
Приближается дата 14 октября — день, в который год назад я хотела проститься с жизнью. Выполнит ли Саня своё обещание? Сделает ли доступным для меня с этого дня “Сеславино? Куда увели его мысли за то время, что нас разлучила его болезнь? Где провести мне этот день? Не получая вестей от мужа, решаю провести его в “Борзовке". Может быть, Саня догадается и приедет туда тоже?.. А если нет — я побуду там с его душой, все равно — с ним.
14 октября я выезжаю на машине из Рязани в “Борзовку“. Везу с собой наш большой магнитофон “Комета“, магнитные ленты.
Наш домик заперт. Нет, Саня не догадался сюда приехать.
Я затопила печку, прибрала в комнате. Настроение даже какое-то торжественное. Слушаю одну за другой магнитные ленты: мой муж говорит со мной. Слушаю наговорённые им главы из “Консуэло" Жорж Санд, отрывки нашего с ним разговора, последние главы “Ракового корпуса“...
На следующий день резко похолодало. Все же до трёх часов оставалась на дачке. Под аккомпанемент голоса мужа собирала вещи для перевозки в Москву. Погрузилась и выехала. К этому времени пошёл снег — густой, большими хлопьями. Под падающим снегом ехала, под падающим снегом разгружалась дома.
Позвонила маме в Рязань, чтоб успокоить ее: и со мной, и с машиной все благополучно. А тут выяснилось, что Саня звонил ей. Объяснил, что написал мне “до востребования», назначив свидание у касс МХАТа 15-го: или в 12 часов, или в 5. Съездила за письмом. Прочла. Всего несколько строк и ничего не значащая фраза: “Мне надо тебя повидать“. И ни малейшего намёка на то, зачем он хочет со мной увидеться.
В два приёма звоню к Ростроповичу. В первый раз Саню не смогли позвать из-за того, что проход к нему во флигель занесён снегом. Назначила время, когда позвоню на следующий день. Говорю с ним. Узнаю, что на почте меня ждёт ещё одно письмо. Предлагает встретиться на станции Кунцево??? Ему трудно ехать в Москву. А “Сеславино“? Оно, по-прежнему, значит, закрыто для меня?.. Порешили на том, что 19 октября увидимся у общих знакомых.
А во втором письме, за которым съездила на Центральный телеграф, была загадочная фраза: “Пришло время что-то решать: тот или другой путь".
...Какие два пути? Один — развод, а второй?..
Когда мы уединились в маленькой комнатке на одной из Тверских-Ямских улиц, я прежде всего спросила без приветливости встретившего меня мужа:
— Какие два пути?
— Как будем разводиться: мирно или через суд?
— Так все-таки разводиться? Это один путь.
— Надо все привести в соответствие. Пять месяцев мы с ней живём вместе.
— И она могла прийти туда, где я из-за вас умирала, не вымолив у меня прощения? А твоё обещание обо всем советоваться со мной?..
— Ребёнку нужен был свежий воздух.
Обман. Снова обман.
И во мне, обманутой, поднимается гнев. Неожиданно даже для самой себя, я выпалила:
— Ты решил разводиться? Тогда разводись с учётом того, кем ты стал.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты стал богатым человеком. Так разводись как богатый человек. Нас — четверо. Выдели мне одну четверть ото всего, что ты имеешь.
Александр Исаевич сделал отстраняющий жест рукой:
— Эти деньги принадлежат России. На Россию ты не покушайся.
— Но мы должны с тобой разделить заботу о старухах.
— Не возражаю.
Он готов сейчас же написать в Швейцарию своему адвокату Хеебу о переводе мне 10 тысяч долларов. О большем поговорим и решим после. Мы идём к ближайшему почтамту. Попадаем в перерыв и на время расстанемся. Я остаюсь наедине со своими мыслями.
...Неужели это реальность? Развод... Но ведь это расставание. Способна ли я на это? Правда, я обещала Сане, что попробую поискать синюю птицу... Но почему же он не спросил меня, нашла ли я ее. Если бы спросил, ответила бы: да, нашла; ты — моя синяя птица! Вот даже такой: злой, насупленный, недовольный...
Мой муж хочет наверстать все когда-либо им упущенное. А каково мне?.. Когда снова встретились, я процитировала Сане его пятистишье:
Этих лучших лет не наверстать.
Не прожить их с молодой женою.
Не дождаться сына от неё.
Зла нам жизнь, и дорогой ценою
Платим за ненужное познание ее
— Каждый раз, когда ты так думаешь, — внушал мне Саня, — повторяй, как ты повела себя по отношению ко мне: не написала сразу, что вышла замуж, даже не приехала проститься к умирающему...
— Но я не знала о твоей болезни. Ведь ты уверял, что все простил мне!
Муж неумолим. Он намерен на следующий день ехать в Рязань, где подаст заявление в суд.
Я напоминаю ему, что сейчас наступают дни нашего с ним вторичного соединения. Это — кощунство!
Я — в состоянии растерянности, и, как всегда в ту пору в критических случаях, я ищу свидания с отцом Всеволодом и с Николаем Ивановичем.
Отец Всеволод предлагает не останавливать Александра Исаевича.
— Пусть будет суд. Он этого заслужил...
Вряд ли Всеволоду Дмитриевичу могло прийти в голову, что на суде я же окажусь обвиняемой.
А Николай Иванович Кобозев говорит мне:
— Вы совершили великий грех — создали себе кумира. За то и расплачиваетесь.
Заявление, переданное в Рязанский районный суд, было подписано 25 октября. И в тот же день я уехала на машине в Рязань.
Я на пределе отчаяния. Как сделать, чтобы мне стало хоть чуточку легче? Полгода назад, обнаружив вывезенные из “Сеславина" в “Борзовку“ мои вещи, я срубила высохшую рябину. Вспоминаю, что Саня сказал мне, что хочет забрать из Рязани туалетный столик, принадлежавший когда-то его маме. Нет, я не хочу, чтобы он выносил его из нашей рязанской квартиры. Уж лучше я сама вынесу его! Куда же его деть? Да ведь у нас на то тёплая кладовка, из которой мы когда-то подумывали сделать фотолабораторию. Туда и вынесу! По приезде домой, едва поздоровавшись со своими, я отнесла туалетный столик, который до сих пор вижу со всегда висевшей на нем шляпкой Саниной мамы, в нашу тёплую кладовочку. И этот мой поступок Саня назовёт, когда узнает, кощунством...
Я прекрасно сознаю, что у меня нет основания гордиться этим своим поступком. Но что было — то было. Какая я есть — пусть такой меня узнают, такой и судят... В своё оправдание скажу лишь, что если бы не выражала в каких-то действиях своего отношения к происходящему — моя участь была бы плачевна. Моя мама, все в себе пережившая, все в себе таившая, уже носила в себе в то время раковую болезнь, которая через год с небольшим сведёт ее в могилу.
В тот же день к нам приехала из Ростова моя старшая двоюродная сестра, моя ровесница, Таня, с которой мы долгое время в детстве воспитывались вместе, со своим мужем.
Я много говорю с ними, говорю взволнованно, со слезами. Они видят мое отчаяние.
— Наташа не готова к разводу, — говорит Павлик, Танин муж.
— А Ермолая я все же хочу увидеть, — роняет Таня.
— Если сделаешь это — ты не сестра мне больше, — отчеканила я.
Как позже выяснится, Таню не остановило моё предупреждение. Ещё одна сестра предаст меня. Я не прощу этого Тане никогда. Отрекусь от неё, как ранее отреклась от Вероники.
В Рязани меня ждало письмо от лагерного друга Александра Исаевича, венгра Яноша Рожаша. Саня не ответил на несколько его писем. Когда я напомнила ему об этом, он предложил написать Яношу самой. Но не могла же я сделать вид, что у нас все благополучно. И вот — ответ, ответ, полный глубокого сочувствия. Янош писал, что, читая моё письмо, чуть не заплакал — “так защемило в сердце".
И ещё:
“Хотя настоящее время вы живете порознь, — я глубоко уверен — судьбы ваши неразделимы. Саша крайне чувствителен. В минуты тихого одиночества, наверное, больно терзает его внутренний голос совести. И жаль за него, очень жаль “.
Янош приглашает меня приехать к ним:
“Дорогая Наташа! Если можете устроить ваши дела так, приезжайте к нам в гости. Ваше присутствие ничуть не притесняло бы семью, а, наоборот, мы были бы чрезвычайно рады лично познакомиться с вами, поговорить вдоволь. Я вполне уверен, что Вы в нашей действительно дружной семье чувствовали бы себя очень хорошо".
Сейчас — не до этого, но придёт время, и я задумаюсь над полученным приглашением.
...Вот и Янош подумал о неизбежных муках совести. Почему Саню не окружают люди, подобные Яношу, Андреичу?.. В чём тут дело: в обстоятельствах или в нем самом?..
Маму пугают мои слова, что наш роман с Саней никогда не кончится, не кончится до самой смерти. Мама же хочет, чтобы скорее все кончилось. Но это немыслимо...
Суд предстоит примерно через месяц после подачи заявления, вернее — иска. Истец и ответчица. Вот мы теперь кто! Как мне себя вести? Как сделать так, чтобы суд отказал в разводе? Саня обязан, раз уж развод неизбежен, развестись мирно, одновременно приняв моё основное условие - наладить наши отношения перед оформлением развода! Как не понять, что после насильственного развода для меня даже общение с ним самим (уж не говорю о Светловой!) будет унизительно. Мне хочется излить душу ещё кому-нибудь, от кого могу получить совет. Потеряв из-за нашей истории многих приятелей и даже родственников, я потянулась к друзьям юности.
Конечно, прежде всего это — Соня. Но есть в Москве ещё и Кирилл Симонян, с которым мы полгода назад встретились в Ленинграде, у его сестры, после многих лет разлуки. Созваниваюсь с ним. Кирилл — врач. Его очень тревожит моё состояние.
— Ты так сойдёшь с ума, — говорит он мне. — В течение нескольких минут ты шесть раз повторила одну и ту же фразу: “Я — в вакууме".
— Но ведь это и в самом деле так. Я считала своими друзьями лишь тех, кто был ещё и другом моего мужа. А в критическую минуту они отшатнулись от меня, даже от моей мамы...
— В этом была твоя и мамина ошибка!
В самом деле: из-за Сани прервалась моя дружба с Николаем Виткевичем... Да что с Виткевичем, я потеряла из-за Сани даже ближайших родных своих, которые предпочли именно его считать своим родственником! А меня — побоку... Что само родство с ним идёт через меня, забыли...
С моими доводами против насильственного развода Кирилл полностью согласен. Как убедить в этом мужа?.. Я звоню ему и прошу о встрече. Согласился.
Встретились на Белорусском вокзале (уже не в первый раз там!) 15 ноября. Разговор на этот раз был в добрых тонах. Однако Александр Исаевич настаивает на суде. Подал заявление — теперь успокоился. Пусть хоть год длится...! “Борзовку» он склонен перевести на меня. Выделит мне одну четверть из Нобелевской премии.
Я говорю мужу, что он не должен переманивать у меня, да и у мамы, людей, знакомых ему через меня, через маму, он как будто понял. В какой-то связи рассказала ему, что 14 и 15 октября — особенные для меня дни — я провела в “Борзовке», думала, что он догадается и тоже туда приедет. Видела, что это сообщение поразило его.
— Храни тебя Бог! — сказал мне муж при расставании.
Мама позвонила, что в Рязани меня ждёт повестка в суд, на “собеседование". Еду.
Народный суд Октябрьского района Рязани. Я беседую с судьёй Василием Николаевичем Додловым. Говорит мне, что в нашем деле главное — ребёнок. Я кратко объясняю ему, почему для меня развод особенно трагичен. В молодости муж ставил условием нашего брака отсутствие детей. А потому, когда его арестовали, я была спокойна в этом смысле. Я упустила время. Тем более, что муж, казалось, очень любил меня. Потом у меня образовалась семья (после десяти лет ожидания). Встретившись с Александром Исаевичем, я оставила эту семью, оставила двоих детей, мать которых умерла. Оставила ради большой любви. И вот — финал...
Я увидела, что на судью то, что я говорила, произвело сильное впечатление. Он опустил голову на руки. Подумав, сказал, что не развести в конечном итоге не могут, но отсрочить можно, вплоть до полугола. Ему кажется, что решение Александра Исаевича твёрдо.
Я говорю судье, что мне не хотелось бы, чтобы повестки с вызовом в суд приходили к нам домой, не хочу лишний раз волновать маму. В результате тут же получаю на руки повестки и для себя, и для мужа. Суд назначен на 29 ноября.
И ещё я (о святая простота! а Александр Исаевич называл это “романтикой в общественных местах") прошу у судьи, который безусловно, уже стал союзником мужа, совета: привлекать ли мне адвоката.
— Зачем? — отвечает он мне. — Вот так и скажете, как мне сказали.
В тот раз мама рассказала мне о разговоре своём с некоей Анной Михайловной — разговоре, невероятно меня расстроившем.
Несколько лет назад именно мама уговорила своего зятя познакомиться с двумя пожилыми женщинами, сёстрами. Они со временем стали нашими общими друзьями. Одна из них — Анна Михайловна — приходила к маме в моё отсутствие и повела с ней совершенно неожиданный для мамы разговор. После большого предисловия об их дружбе, а отсюда, и о праве говорить с нею обо всем откровенно, завела разговор о “возможных неблаговидных выпадах ее дочери», то есть меня, по отношению к Александру Исаевичу.
Мама знала, что в свой последний приезд ее зять был у “Михалны". Она не удержалась и написала Сане письмо, упрекнув его в том, что он настраивает наших общих знакомых против меня, а, значит, и против неё тоже. “Ты все делаешь для того, чтобы мы остались одни», — горько пожаловалась она.
Мама предполагала, что “Михайловны" к нам больше не придут. Так и случится. Они оставят моих старушек в беде... А обо мне стали через своих друзей (например, через Риту Райт) распространять лживые слухи, будто я всем жалуюсь, что Александр Исаевич оставляет меня нищей, решив употребить все свои деньги на строительство храма.
Муж мой будет с жадностью за эти вымыслы хвататься, заставлять себя им поверить. Это будет успокаивать его совесть. Нет чтобы понять, что эту чушь говорят люди, которые поставили своей целью поссорить его со мной.
Что же касается моей, якобы, способности “настраивать против себя любых друзей, то неужели нельзя было понять, что я только отражала их несправедливые нападки? От меня ждут предательства... вскоре мне припишут предательство... Эх, люди, люди!..
Когда я ехала из Рязани в Москву — делала наброски своей будущей речи на суде. В поезде часто хорошо писалось. Когда-то по дороге из Великих Лук в Ригу я начала писать “Молодожёнов". А теперь вот готовлю судебную речь. Все ещё не могу решить главного: соглашаться на развод или нет. Ясно одно: он не должен состояться сейчас, ведь судья сам подсказал мне такую возможность. Нужно время, чтобы обменять рязанскую квартиру на Подмосковье. Желательно — поближе к “Борзовке", а значит, на Наро-Фоминск! Разве я могу оставаться в Рязани? Это даже Саня понимает, но его старания получить “валютную» квартиру в Москве ничего не дали. Значит, остаётся лишь обмен.
Созвонилась с Саней. Договорились, что я вручу ему повестку на платформе станции Кунцево 21 ноября. Опять встречаемся на вокзале...
До этого я должна повидаться с Кобозевым. Николай Иванович уговаривает меня при сложившейся ситуации согласиться на развод. Он уверяет меня, что Александр Исаевич будет мне за это благодарен, вознаградит меня своим хорошим отношением. И я поддаюсь его уговорам. Я буду просить суд лишь об отсрочке — об отсрочке для устройства своих житейских дел.
Именно в таком настроении я засела писать свою первую предполагаемую судебную речь. И в том же настроении встречаюсь и говорю с Саней. Поскольку я согласна, то предлагаю ему разойтись мирно, обратиться в ЗАГС. Нет, пусть будет суд!
Моя речь готова.
Неужели она не убедит судей, и они откажут в отсрочке? Речь далась мне так легко. Казалось, я (как мой муж любил говорить о себе) только “водила пером". Решила никому не показывать свою речь, даже Николаю Ивановичу. Скажу ему, что писать мне помогает Бог. Но... убедительны ли мои доводы с точки зрения юридической? Проверить все же не мешает. И тут я вспомнила об очень благожелательном письме нашего общего знакомого, адвоката Петра Самойловича Рабиновича. Вот с кем посоветуюсь!
Пётр Самойлович огорчён, что история наша зашла так далеко, что будет суд. Разъясняет, что никакой суд не даст мне отсрочки для устройства каких-то там дел. Отсрочка возможна в единственном случае — в случае просьбы о примирении.
Я даже обрадовалась. Обрадовалась, что теперь оправдана будет совсем другая постановка вопроса: ведь в глубине души я продолжала быть несогласной на развод. Теперь я могу действовать в соответствии с этим. Не нужно кривить душой!
Легко перестроившись, я стала писать свою речь заново.
Теперь писалось ещё легче, ибо речь свою я построила в полном соответствии с тем, что думала, чего хотела, что считала справедливым. И ещё: я писала её не для судей, я предназначала ее своему мужу; к нему я обращалась, к его совести взывала... Неужели он останется глух? Бог да поможет мне! В конце было о том, что я смотрю “на все происходящее, как на затмение, которое, как и всякое затмение, не может длиться долго".
Поскольку я скрывала от мамы дату суда, то, приехав в Рязань 29 ноября, я не зашла домой, а долго гуляла по городу в ожидании назначенного часа. День был пасмурный. Была оттепель. Сколько-то времени провела во дворе запертой церкви Бориса и Глеба. Мой муж, перестав учительствовать, иногда бывал в этой церкви, где служил отец Виктор.
Когда я пришла в здание суда, Саня уже был там и говорил с судьёй.
И вот: “Встать! Суд идёт!" Мы — истец и ответчица... Муж подтвердил своё заявление. Зачем-то сказал, что был жене неверен. Он же ещё и истец?... Если бы наоборот, было бы понятно! Потом судья задал несколько вопросов, в том числе: любит ли он ответчицу.
— Если форма требует— не люблю — ответил муж.
... Если форма требует...
Формально обращаясь к судьям (а больше— к мужу!), я порой взглядывала на них. Две женщины— народные заседатели— как-то очень быстро моргали глазами, не будучи в состоянии уследить за вереницей моих доводов, а секретарь тщетно пыталась записывать.
Когда я закончила просьбой об отсрочке, Александр Исаевич произнёс:
— Отсрочка бесполезна. Холостое время. Примирение невозможно. После развода возможны дружеские отношения.
— Товарищеские? — вмешался судья.
— Нет. Дружеские.
Когда суд удалился на совещание, мы сидели в тот раз молча. Александр Исаевич, вероятно, надеялся, что моя просьба об отсрочке не будет удовлетворена. Но вот зачитывается решение.
“Принимая во внимание... учитывая... учитывая... суд... определил: отложить разбирательство дела по иску Солженицына к Решетовской, назначив срок для примирения шесть месяцев".
Александр Исаевич крайне недоволен. Все же мы вышли вместе.
— Я предлагала тебе обо всем поговорить в присутствии кого-нибудь. Пришлось все вынести на суд, — сказала я.
— Я к тебе не в претензии. Ты все говорила тактично.
Однако, сказав это, муж не замедлил перейти в наступление:
— Ты все заморозила на шесть месяцев. Не будем это время видеться. Да и писем писать. Разве что деловые...
Раз нас не развели, он не пойдёт к нам домой. И мы расстались.
Все же такой реакции я не ожидала, была как-то обескуражена и не нашлась, как себя повести. А ведь у меня было с собой небольшое письмо к Сане, плод моих раздумий. Но почему-то у меня не было чувства безнадёжности, во мне ещё теплилась надежда.
Теперь я уже могу пойти к маме, для которой моё появление было совершенно неожиданным. У мамы в дневнике: - «...Наташа довольна своим выступлением. И Саня сказал, что по ее выступлению у него претензий нет. Наташа считает, что она к разводу не готова, что необходимо установить дружеские отношения, а потом разводиться. Саня считает, что дружеские отношения нужно устанавливать после развода. Вот впереди ещё мучительные полгода..."
Мама предчувствует, что эти полгода будут мучительными. Не знает только, насколько! ...
Я же смотрю на предстоящие полгода, как на время, когда я должна действовать. Во что бы то ни стало надо за это время расстаться с Рязанью. Мама будет просматривать рязанские бюллетени и выискивать предложения обмена на Подмосковье. Я же начну хлопоты в Москве. У нас с мамой идёт оживлённая переписка по этому поводу. Прошу маму отдать в Рязанское бюро квартирного обмена заявление для помещения его в следующем бюллетене по обмену жилплощади. Но оказалось, что для помещения такого объявления нужны документы, в том числе паспорта всех членов семьи. Значит, надо обращаться к Сане. Кроме того, его письменное согласие на обмен необходимо. И я пишу ему одно за другим два письма. Но ответа не получаю. Что это? Случайность? Уехал куда-нибудь? ... Как могу, я продолжаю действовать: подаю объявление в газету “Реклама". Оно должно быть напечатано 1 января, в первый день нового, 1972 года. Неужели и это не принесёт успеха?
Но я, разумеется, занимаюсь не только “обменными делами". Я ещё и работаю. Продолжаю писать главу “Война“, начатую мною в начале ноября.
Сперва я решила было обойтись без авторского текста, ограничившись простым монтажом своих дневниковых записей военного времени и отрывков из писем разных лиц, в первую очередь Саниных и моих, а также Николая Виткевича, Лиды Ежерец, Киры Симоняна и других. Впоследствии так у меня будет построена лишь первая глава “Не у дел". Дальше я постепенно начала вводить авторский текст, но все же главным останутся письма. Придумываются названия глав: после “Не у дел" — “Ищем себя и друг друга", “Находим себя". Уже пишу главу “Друзья воюют рядом“, пишу главу с увлечением. Передо мной встают все девять встреч Сани и Коки, о которых каждый из них мне писал. А последнюю главу, посвящённую войне, назову “Пересекая границы".
Маг, который так одобрял мою идею написать книгу о муже — в полном недоумении. Просмотрев кое-что из мною написанного, говорит:
— Ничего не понимаю. Сплошная апологетика Солженицына...
Он пытается меня переориентировать, но разве я кого-нибудь послушаюсь? ...
Декабрь того года был отмечен скорбным событием: скончался Александр Трифонович Твардовский. Еще летом стало известно, что у него рак лёгких, что состояние его безнадёжно. Сообщая мне с грустью об этом, муж тут же сказал мне, что Трифоновича мы пойдём хоронить вместе. И вот она — смерть. Я так любила Александра Трифоновича, так высоко его ставила, была у него на даче, принимала у себя, порой была посредницей между ним и Александром Исаевичем — как же не проводить его в последний путь?..
Но ведь Саня сказал, что полгода не будет меня видеть. Вот и ещё одно его обещание забыто. Будет ли он на похоронах один или?.. Подойдёт ли ко мне или всем покажет, что я для него никто?..
И я не решилась отдать последний долг Твардовскому. Лишь написала небольшое сочувственное письмо его вдове.
Когда-то Александр Исаевич не поехал хоронить Корнея Ивановича Чуковского, испугавшись официальности церемонии в Доме литераторов. Жалел, что похороны Чуковского не были похожи на скромные похороны Пастернака.
Теперь же он не только не испугался торжественной церемонии в ЦДЛ, а, напротив, как об этом пишет В. Лакшин, отказался проститься с Александром Трифоновичем в Кунцевском морге, где присутствовали только родные и близкие покойного. При этом он сказал младшей дочери Твардовского, что у него весь день уже распределён, а приедет он на следующий день в ЦДЛ: так у него намечено. Больно читать в той же книге Лакшина, как Александр Исаевич, придя в ЦДЛ и сидя бок о бок со вдовой, набрасывал впопыхах свои впечатления от панихиды.
... Боже мой! Это что же: судорожное бережение времени так иссушило его душу?..
Но время не остановить. Твардовского унесла смерть, а Ермолаю 30 декабря уже исполняется год. В тот самый день Саня позвонил маме в Рязань, поздравил с наступлением Нового года, поинтересовался ее самочувствием. Мама, в свою очередь, поздравила Саню с двумя датами. А потом спросила его, почему он не отвечает на мои письма.
— Я сказал, — ответил он, — что полгода у нас буду мёртвые отношения. Ни видеться не буду, ни писать. Так ей можете и сказать.
— Какой ты жестокий! — вырвалось у мамы.
— А Наташа не жестока? Ей нужна бумажка!..
— Где твоё сердце? Ведь ты счастлив, а Наташа несчастна... Лежачего не бьют, а ты... Ты гуманен только в мировом масштабе. А как же с квартирным обменом?..
— До развода... затруднителен.
Вот когда мама заступилась за меня. Но и отольётся ей это заступничество... Через несколько дней после этого телефонного разговора Саня написал и отослал маме письмо — вероятно, самое жестокое из всех когда-либо им написанных.
Как-то вечером я позвонила маме в Рязань. Меня удивил мамин голос. Вернее, голоса у неё почти не было. Зная, что обычно мама теряет голос от сильного волнения, я стала расспрашивать ее. Мама мялась, не хотела говорить. Но меня озарила внезапная догадка.
— Ты получила от него письмо?
— Да. Ужасное.
— Он все сваливает на меня?
— Да.
Не познакомившись с содержанием письма успокоить маму, да ещё по телефону, было невозможно. Сказала, что приеду первым же поездом.
Домой я добралась во втором часу ночи. Со времени получения Саниного письма прошло два дня, в течение которых мама читала его и перечитывала несчётное число раз. То и дело принималась отвечать ему, но не хватало слов ответить на письмо, в котором вся наша с Саней жизнь была изображена в кривом зеркале. А потом целую груду своих недописанных ответов порвала, сказав себе: «Отвечать некому!".
Меня больше всего потрясло не содержание письма, меня поразит тон, которым письмо было написано. И кому? Маме, которой был уже 81 год, которая так заботилась о нем.. Тон был оскорбителен почти от начала до конца. Даже больно пересказывать, и я этого делать не буду.
Я предложила маме написать Сане короткий сдержанный ответ и послать его вместе с небольшим письмом от меня. Немножко из маминого письма: “Страшно огорчил твой вывод, что Наташе нужно положение. Вспомни 56-й год!" И попросила прочесть моё письмо. Из моего письма:
“Я могла бы многое сказать по существу твоего письма маме, в котором вся наша жизнь подана в кривом зеркале. Но не буду этого делать. Ты хочешь ее видеть такой, хочешь помнить о ней так — помни, раз тебе так легче".
Знала бы я, на что давала ему разрешение! Я его пожалела, а он меня пожалеет ли? пощадит ли?
А пока что, как выяснилось, меня не пощадила тётя Александра Исаевича — Ирина Ивановна Щербак, жившая в Георгиевске. Первая публичная клевета на меня — она появилась в “Литературной газете", где была частично перепечатана статья из западногерманского журнала «Штерн". Статья так и называлась: “Журнал “Штерн" о семье Солженицыных". Западные радиостанции тотчас же начали на эту тему откликаться. Я в это время не слушала регулярно западное радио, но его регулярно слушала мама. И она поняла, что в “Литературной газете" напечатана статья о ее зяте, о его родных, что в ней содержатся намёки на наши семейные сложности. Услышала имя Ирины Щербак, со слов которой, по-видимому, давалась информация. Мама взволновалась. «Литературной газеты" мы в то время не выписывали, оставаясь верными Саниным традициям.
Мама позвонила нескольким знакомым и попросила приберечь для неё соответствующий номер “Литературки». Однако ей никак не удавалось прочесть злополучную публикацию. Одни творят ей, что внучка вырезала из газеты фотографии артистов и искромсала ту статью, другие — что их газета ходит по рукам. Мама у разных людей интересуется, какое впечатление произвела статья и слышит в ответ:
— Странное...
— Что сказано о семейных отношениях?
— Корректно.
В телефонном разговоре прошу маму не переживать по поводу статьи и обещаю рассказать содержание, когда приеду.
Так что же было все-таки в статье? Основной удар — по Солженицыну. Впервые вырвалось наружу, хотя и не без путаницы, его социальное происхождение. Сколько мытарств перенесла в своё время Санина мама, чтобы скрыть своё происхождение, и вот... Впрочем, для Нобелевского лауреата Солженицына, который, к тому же, сам собирается описывать в историческом романе семью своею деда Щербака, теперь это все уже никакой опасности не представляет. Хуже было другое — весь тон повествования. Ирина Ивановна, дожив до 82-х лет, наконец-то, смогла громко свести счёты со своим покойным мужем, братом Саниной мамы, который изменял ей, назвав всю семью Щербаков “семьёй грубиянов". Правда, надо признать: Ирина Ивановна писала все об этой семье не для “Литературной газеты", и не для журнала “Штерн", она писала это все для своего племянника, по его просьбе, и только несчастливое стечение обстоятельств и более всего наша личная история, погнавшая Александра Исаевича на юг посреди жаркого лета, не давшая ему доехать к тёте Ире, привела к тому, что эти материалы достались “Штерну".
А для меня в этой статье было неприятно то, что писалось обо мне, о моем происхождении (дочь не юриста, а коммерсанта); об обстоятельствах нашего с Саней вторичного соединения (не он приехал ко мне, как было на самом деле, а якобы я приехала к нему, когда он устроился в Рязани). Упор делался на то, что я не последовала за мужем в ссылку. Ирина Ивановна отказывала мне в праве называться женой Солженицына, называла его любовницей. Ирина Ивановна уверяла, что Саня советовался с ней перед нашим соединением и она не советовала ему это делать. Все же мы соединились благодаря “моей настойчивости".
В письме маме Саня объяснит всю эту путаницу “сдвинутым сознанием" своей тёти. Статьёй я была расстроена до предела. Неужели мало мне того горя, которое принёс мне мой муж и с которым я едва справлялась? Ещё и клевета... А упоминание о том, что меня не было с Саней в ссылке — просто удар под вздох... Как же это на руку всем моим недругам! Да и моему мужу в сложившейся ситуации тоже! Разве он вспомнит теперь, как утешал меня, когда корреспондент Буханов в 63-м году приписал мне как раз пребывание с ним вместе в ссылке, чем я была очень расстроена? Он сказал мне тогда: “Ты так много для меня сделала, что давно перекрыла свою вину». Приехала к Кобозеву поделиться новыми своими бедами.
— Александр Исаевич обязан вас защитить! — сказал он безапелляционно. Он скажет ему об этом.
Я прошу также Николая Ивановича разъяснить Александру Исаевичу, что пишу ему в связи с квартирным обменом, что есть предложение из Наро-Фоминска — городка, ближайшего к нашей дачке, и потому я должна быть уверена, что дача будет числиться за мной.
В те же дни, однажды вечером в нашу квартиру позвонили. Мама подумала, что это я. Но нет. Совсем другой женский голос спросил через дверь: дома ли Наталья Алексеевна.
— А с кем я говорю? - спросила мама.
— Я, так сказать, — ответила женщина, — представительница друзей вашей дочери.
Мама сказала, что ждёт меня со дня на день. Попросив разрешения прийти на следующий день, женщина ушла.
На следующий день она появилась снова. Узнав, что я все ещё не приехала, спросила маму:
— А можно мне тогда поговорить с вами? Я по поводу статьи в “Литературной газете". Хотелось бы знать правду. Там ведь на правду мало похоже. Многих покоробил вульгарный тон статьи и, в частности, тон высказываний о вашей дочери.
— А у вас есть “Литературная газета"? Я до сих пор не смогла ее прочесть...
— Есть.
Мама, конечно, очень обрадовалась. Наконец-то она сможет прочесть статью, которую, щадя ее, никто из знакомых ей не давал.
Пригласив гостью в нашу небольшую комнату и присев на диван, мама принялась читать статью. Тем временем женщина стала с интересом рассматривать нашу комнату. Ее взгляд задержался на нашей общей с мужем фотографии, которая в старинной рамке висела над диваном. Он обнимал меня одной рукой и счастливо улыбался...
Знакомясь со статьёй, мама испытывала какое-то чувство растерянности, но когда дошла до “дочери коммерсанта“, у неё, по ее собственному выражению, потемнело в глазах, ей сделалось нехорошо. Все же, набравшись сил, она дочитала статью до конца. Затем не выдержала и стала взволнованно комментировать текст. Да ещё эти “мёртвые месяцы"! Значит, Саня не опровергнет гнусную клевету Ирины Ивановны на ее дочь? Мама доверилась доброжелательнице и ответила на все ее вопросы, хотя и побаивалась, что я буду этим недовольна.
Буквально на следующий день я поехала в Рязань. Мама с опаской рассказала мне о посещении. Сказала, что приезжала какая-то женщина, которая хочет меня защитить. Дала ей прочесть статью в “Литературке", задавала вопросы. Вопреки маминым опасениям, я, напротив, чрезвычайно обрадовалась.
— Неужели ты жалеешь, что меня защитила? — воскликнула я.— Ведь больше оказалось некому!
В числе других писем меня в Рязани ждало письмо от лагерного друга Сани Василия Григорьевича Власова. Власов писал, что прочёл статью в “Литературной газете. Его совершенно не интересуют описанные в ней старики и старушки. Писал, что его “как молотом ударило по голове сообщение о том, что Александр Исаевич “бросил Наташу и сошёлся с более молодой женщиной".
Власов вспомнил, что к поступкам подобного рода сам же Александр Исаевич относился “не с похвалой". Значит, Александр Исаевич превратился в собственную противоположность. Он писал, что понял это уже раньше — по отношению Александра Исаевича к старым друзьям. Власов считает, что Александр Исаевич пренебрёг элементарными понятиями о моральном праве, которое он ставит выше юридического права. Власов писал, что осуждает моего мужа и меняет своё отношение к нему “не в лестную для него сторону".
...Кто же из друзей моего мужа — его истинные друзья? Те, которые отрывают его от меня? Или те, которые его за это осуждают?..
Мне хотелось надеяться, что у меня появились, наконец-то, защитники.
И не ошиблась. Маме все та же доброжелательница привезла четвёртый номер журнала “Вече“. Я и понятия не имела, что существует такой (конечно же, самиздатский) журнал. Пусть нелегальный, не типографски напечатанный, а все же... Журнал! И в нем статья — “Показательный дуэт". Статья была в мою защиту.
Статья “Показательный дуэт" (имелись в виду журнал “Штерн" и “Литературная газета") была подана, как письмо читателей “Вече" за тридцатью четырьмя подписями. Редакция возмущалась беспрецедентным выпадом “Литературной газеты" в адрес Солженицына и его семьи. Доброе имя жены оказалось главной мишенью. Дальше шли упрёки в адрес “Литературки", которая не соблаговолила проверить факты, приведённые в западногерманском журнале. И дальше о том, что они (“вечевцы") сделали то, чего не сделала “Литературная газета": посетили квартиру Солженицына в Рязани и, не застав Натальи Алексеевны, беседовали с ее матерью Марией Константиновной. Беседа передавалась в виде вопросов и ответов, записанных по памяти. Из них выяснилось, что я была отнюдь не дочерью коммерсанта, а дочерью юриста и преподавательницы, позже работавшей бухгалтером; что я не поехала в ссылку за мужем, потому что ещё в то время, когда он был в лагере, у меня, после десяти лет ожидания, образовалась другая семья с вдовцом, у которого были двое детей. От этой семьи, подарившей мне чувство материнства, я и не уехала. Мама поясняла, что после того, как я узнала об аресте мужа, я добилась перевода из аспирантуры Ростовского университета в аспирантуру МГУ, чтобы хлопотать о пересмотре его дела (муж в то время ходатайствовал о замене лагеря административной ссылкой). Если бы это удалось, сказала мама, то она уверена: ее дочь поехала бы за мужем на край света. Мама рассказала, что мы снова соединились осенью 1956-гогода в деревне Мильцево, под Владимиром, где Александр Исаевич жил тогда. Он писал маме оттуда, что иначе и не могло быть, что я внесла в его жизнь огромное счастье, и не я переехала к Александру Исаевичу, а он переехал летом 57-го года к нам в Рязань, где я жила с 49-го года и работала доцентом. Вся жизнь в нашем доме, рассказывала мама, была организована в интересах его работы, его писательства. Мама писала, что в своё время Ирина Ивановна Щербак была встречена у нас с полным радушием. После пребывания у нас Ирина Ивановна писала маме, что для неё это пребывание у нас было “как светлое видение».
Авторы письма в “Вече“ подчёркивали, что семья Солженицыных — из семей, что разрушены войной, тюрьмой и бессрочной ссылкой; семья Солженицыных — не единственная семья, которая восстановилась, “как только миновал ее молот разрушения. Если бы корреспондент “Литературной газеты потрудился посетить квартиру Солженицыных в Рязани, он не смог бы не заметить фотографии супругов весной 57-го года. На фотографии видно, что Наталья Алексеевна и Александр Исаевич радостно обрели друг друга вновь. Далее говорилось, что мною с мужем было прожито после 56-го года ещё четырнадцать лет. Судьбу семьи Солженицыных решило рождение ребёнка у молодой женщины Натальи Светловой в декабре 70-го года. “Лидер оппозиции, — заключали авторы письма, — должен быть безупречен. Исключительное положение Солженицына в нашем обществе ставит его брак на уровень государственного брака. Забвение этих требований неизбежно послужит обратному превращению Солженицына в частное лицо. Если можно понять логику “Штерна и “Литературной газеты", то понять самого Солженицына невозможно. Например, непонятно, как писатель такого нравственного накала, человек, претендующий на духовное руководство русским обществом, может молчать, не вступаясь за честь жены, за честь женщины, с которой прожито более двадцати пяти лет его жизни, годы военных опасностей, тюрем и лагерей, трудные долгие годы подпольного творчества, с которой пройдён тернистый путь к славе? Горько сознавать, что Солженицын поступает сейчас не по велению мудрости, а как бы катится по наклонной плоскости, и кто-то заботливо подставляет ему все более низкие секции. Русские люди испытывают тревогу, что человек, на которого возлагалось так много, может не оправдать надежд своего народа.
… Так убедительно сказано! Вот то, что должен был сделать он сам и что за него сделали другие, неведомые мне люди. Пусть невелик тираж “Вече", но все же кто-то прочтёт слова, сказанные в мою защиту! Как мне отблагодарить моих заступников? Оказывается, моя доброжелательница, на случай, если я захочу связаться с “Вече“, оставила адрес “до востребования". И я тотчас же пишу по этому адресу и назначаю свидание на Центральном телеграфе.
В условленное время ко мне подошла молодая, миловидная женщина и улыбнулась мне обаятельно. Она без труда узнала меня, ибо, как выяснилось, однажды издали меня видела.
— Наталья Михайловна? — спросила я.
— Да нет. Это — конспирация... Меня зовут Светланой.
Я сказала, что приготовила текст для “Вече“ с выражением своей признательности журналу за заступничество. Светлана возразила:
— Вашу благодарность мы, конечно, напечатаем. Но хотелось бы, чтобы Вы дали нам что-нибудь из Вами написанного. Я знаю: Вы же пишете...
Я предложила главу “Признание", которая была мною достаточно уже отработана.
— Вы знаете, — удивила меня Светлана, — ведь Вы знакомы с нашим главным редактором!
—Каким образом?
— Это он помогал Александру Исаевичу выносить письменный стол со второго этажа Вашей дачи.
— Неужели? Осипов?..
Я тогда запомнила эту фамилию, которую муж не назвал мне, представив Осипова просто Володей. Так вот кому я тогда, полгода назад, провожая, преподнесла букет цветов! Своему будущему первому издателю и главному редактору журнала, защитившего меня! Будто наперёд знала.
— Да, — согласилась Светлана. — Я покажу Владимиру Николаевичу Осипову главу из вашей рукописи. Там решим.
Вечер этого дня я провела с Евгенией Ивановной Паниной.
То был. грустный, очень грустный вечер. Евгения Ивановна только что узнала об отъезде Дмитрия Михайловича за рубеж. Она была просто убита. Несмотря на неслаженность их брака, она не переставала надеяться, что доживать век она будет вместе со своим Митей. Пытаюсь её как-то утешить. Больше всего упираю на то, что их разделила его религиозность. Говорю, что он последние годы жизни хотел, провести в монастыре.
Для Евгении Ивановны ее Митя остался таким, каким он был до ареста — только инженером. Когда я позже стану говорить ей, что он уехал на Запад к своим философским трудам, она мне попросту не поверит. Монастырь —это ещё можно понять, ведь он всячески старался сделать верующим и его и сына! Ей невозможно было поверить, что ее русофил, ее патриот Митя уехал за границу, и она летом того же года предпримет попытки найти его в одном из мужских монастырей у нас в стране...
В те же дни я съездила в Наро-Фоминск, где посмотрела светлую небольшую квартирку, на которую могла обменять нашу рязанскую. Писать Сане не могу. Но я могу передать ему о возможности обмена с Наро-Фоминском через Николая Ивановича. К Кобозеву нужно пойти ещё и для совета. Мне не даёт покоя мысль, что мы разводимся через суд. Всякий развод для меня немыслим. Но судебный — вдвойне. Ведь это — насильственный развод. Разведясь таким образом, я не смогу общаться с ним, эго будет слишком унизительно. Саня считает, что я “держу его судебными клещами. Но кто кого схватил “судебными клещами “? Через суд у меня добровольного согласия не будет!
Наш разговор с Кобозевым только начался, как вошла взволнованная Эсфирь Ефимовна и сказала, что пришёл Александр Исаевич. Я предложила передать ему, что я здесь: вот и поговорим втроём!
Реакция Александра Исаевича была совершенно неожиданной. Он... растерялся. “Я не готов!" — воскликнул он, взявшись за голову.
Редко я сожалею о своих прошлых поступках. Но вот о том, что не вышла к Сане вместо Эсфири Ефимовны, застав его врасплох — жалею. Мне нужно было выбежать к нему, разоружить его собою — той, какой я была на самом деле, а не той, какой рисовалась искажённому воображению Александра Исаевича. Вместо того я покорно перешла» другую комнату (Кобозев был уже лежачим больным), дав зайти к нему Сане, чтобы договориться о посещении. Как выяснится позже, он приходил, чтобы посоветоваться о своём “Письме" Патриарху всея Руси Пимену. Николай Иванович не советует ему отсылать письмо, но Александр Исаевич сделает по-своему.
Мы много творим с Николаем Ивановичем. Он понимает меня, как всегда, но уже не может со мною полностью согласиться. Все зашло слишком далеко... И он полагает, что я должна согласиться на развод. После развода Александр Исаевич не собирается прекращать со мною общение.
А ещё я читаю оставленную мне записку от уехавшею за границу Дмитрия Михайловича Панина. На этот раз и он, который всегда был против нашего развода, советует мне не сопротивляться больше. А потом —просто оскорбившие меня строки: “Никаких недозволенных ударов. Мы люди одного круга, и применение таковых равносильно бесчестию". Эти фразы и сейчас жгут меня. Они — “мужчины нашего круга" — позволяют себе наносить преданным женщинам недозволенные удары и от своих жён они ждут тоже?.. Нет, женщины, прошедшие такую тяжёлую жизненную школу, не чета вам, мужчинам!
Дать развод теперь предлагает мне и отец Всеволод.
Однако Санино поведение отнюдь не способствует тому, чтобы я согласилась. Напротив, во мне все более нарастает протест.
Уже сейчас, когда мы ещё муж и жена, Александр Исаевич не выполняет своих обещаний, не идёт ни в чем мне навстречу, не защищает меня от клеветы. (Он, как выяснится, сделает попытку защитить меня, но корреспондент Шапиро не опубликует материал, и Саня на этом успокоится). У нас остался целый ряд неразрешённых вопросов, которые мы должны решить именно сейчас, до развода, пока мы официально являемся супругами. После развода все эти вопросы будут решаться односторонне, только Александром Исаевичем. Рязань, где мы с ним оба прописаны, для меня была домом не более, чем для него. Мне нужно переселить маму и тётушек в Наро-Фоминск! Я не могу оставить их в Рязани, где каждое их посещение для меня невероятно болезненно. В Рязани каждый камень твердит мне о том, что жизнь моя прожита зря, не оценена.
Дома на Бакунинской, порой прерывая писание, я стала делать наброски своей будущей речи на очередном суде. Суд ещё не скоро, успею. Пока надо работать. Надо использовать те идеальные условия, которые Маг создал мне. Тем более, что я понимала: скоро им придёт конец. С Магом мы виделись все реже, спорили все больше. Я понимала, что моя связь с “Вечем“ окончательно оттолкнёт его от меня. Не избежать окончательной ссоры! Пока я ничего не говорила Магу о “Вече“. “Показательный дуэт» я посчитала вправе от него скрыть. Когда же выйдут мои главы?.. (Я уже работала со Светланой над второй главой — “Преддверие “). Тогда я буду обязана признаться. И вот я в квартире, которой была целиком обязана Магу, печатаю новы страницы своих воспоминаний для журнала “Вече “!
Я работала параллельно и над этим главами, и над “Нобелевской премией", и над “Войной. Уже описан 43-й год и начало 44-го. Главу “Друзья воюют рядом я писала с особенным вдохновением. Уже вижу, чем закончу главу. Открыткой Сане от Коки, которого перебросили далеко на юго-запад, под Варшаву. Тем самым будет оправдано название следующей главы — “Пересекая границы".
На день своею рождения, как ни было это больно для мамы, я в Рязань не приехала. Слишком тяжело. Жизнь кончена. Остаётся подвести итоги...
Узнала, что 12 марта уехала за границу моя двоюродная сестра Вероника с мужем и детьми. И я испытала... облегчение. Парадокс! Испытывать облегчение от чувства, что ещё совсем недавно самых любимых моих родственников нет больше в Москве. Я понимала, что не от меня уезжала Вероника. И все же не оставляло чувство, что она бежит от той, которую предала.
В очередную поездку в Рязань прочла письмо от Яноша Рожаша из Венгрии. Янош выражал радость, что я ответила ему и что приняла ею приглашение приехать. “Больно только одно, — писал он, — что пока о Саше мы можем упомянуть лишь с горечью на сердце, и все больше и больше бояться за него". Яноша заинтересовала моя работа над мемуарами. На мои вопросы к нему в этой связи Янош отвечает, что встречался с Саней или в библиотеке, или в бараке, где жил его земляк — Тибор, работавший в Саниной бригаде, или в литейном цеху, куда он приходил также к своему земляку. Разговоры с Саней были у него главным образом о книгах, о русском языке. “В моем уме — через полгода — ещё не умещается тот факт, что Саша мог уходить от Вас, и может жить так, порознь".
Конечно, мне импонировало, что Янош не мог в своей душе отделить меня от Сани, как не могла сделать этого и я сама...
А мама получила письмо от Леонида Александровича Самутина. “Первые слова, которые у меня вырвались, когда я узнал все полтора года назад, — писал Самутин, — были: “Россию жаль!.." Опять ошибка, опять не тот человек, который нужен России... Гуманизм его головной, а не сердечный. Доброта к людям у него оттуда же, из головы, а не от сердца. Сердце у него холодное, правильнее сказать —безразличное. К людям, окружающим его, у него отношение потребительское... Мне не даёт покоя мысль о том, как совместить несовместимое. Нравоучительность и проповедничество вполне определённых нравственных категорий с одной стороны, попрание этих ценностей самим собой — с другой? Слова одни, дела — другие. Человек был принят в семью в труднейшее для него время. Все члены семьи подчинили свои жизни служению только его интересам, его делам, труднейшим и опаснейшим замыслам. Несли эту службу безропотно и самозабвенно, отдали этому служению свои последние душевные и физические силы, и когда они стали вполне беспомощны, а он оказался вознесённым на неимоверную высоту — не их ли помощью? — тогда он с совершенной лёгкостью сердечной отправился туда, где ему показалось лучше. Это... по-христиански? Я отовсюду слышу мещанские рассуждения о том, что нельзя-де поступки гения мерить той же меркой, что и для нас, смертных, что-де тому, кому много дано, тому много и позволено и т.д. Мне же в таких случаях всегда помнится сказанное другое - “Кому много дано, с того много и спросится".
С чем нельзя согласиться в письме Самутина, так это с тем, что Александр Исаевич отправился “туда, где ему показалось лучше, с совершенной легкостью". Нет, не легко это давалось ему...
На грани марта-апреля я побывала у двух священников, которым читала написанное мной. Отцу Всеволоду Шпиллеру и его жене я прочла 36 страниц “Нобелевской премии" (позже я назову эту главу “Нобелевской трагедией"). Оба меня одобрили, похвалили, благословили на дальнейшее. Всеволод Дмитриевич сказал, что он видит моё стремление “исправить Александра Исаевича" и поощрил меня в этом. А другому священнику, с которым познакомилась недавно, прочла главу “Признание». Когда кончила читать услышала:
— Этим вы его победите!
Что он имел в виду, говоря так? Думаю, имел в виду то, что я буду в конце концов понята. Не знаю, случится ли это когда-нибудь... Все больше убеждаюсь, что далеко не все могут меня понять. Может статься, что желание быть понятой и является главным стимулом моего описания нашей трагедии.
Между тем Александр Исаевич, отодвинув «мёртвым временем» от себя все наши неразрешённые проблемы, освободил себя для решения других дел, главным из которых было, пожалуй, устройство нобелевской церемонии. Но когда она должна произойти?.. Получить нобелевские знаки в Москве можно было в шведском посольстве. Но шведское министерство иностранных дел отказалось предоставить своё посольство для этой церемонии. Как же быть?.. И тогда Александр Исаевич решил предложить Шведской академии совершить эту церемонию на квартире Светловой. В «Телёнке», вспоминая об этом, он пишет, что предложил квартиру своей жены. Но мы к тому времени разведены не были... Кого же, кроме меня, можно было официально назвать своей женой? Правда, появившись 28 марта в Большом зале Московской консерватории на концерте Ростроповича вместе со Светловой, Александр Исаевич постарался продемонстрировать ее. И все же он сам понимал, что где-то есть предел. А потому в письме секретарю Шведской академии Гирову не осмелился назвать Светлову своей женой. 4 декабря он написал ему:
“... Не зная в Москве такой общественной или кооперативной организации, которая согласилась бы предоставить нам помещение для искомой цели, я осмелюсь предложить Вам иной вариант: совершить всю церемонию в Москве на частной квартире, а именно по адресу, по которому Вы посылаете мне письма.
И Гиров дал согласие. Знал бы он... Но осуществить поездку он мог бы лишь в апреле. И дату нобелевской церемонии назначили на 9 апреля, первый день Пасхи.
Думает Александр Исаевич и над публикацией своих произведений. Печатать “Архипелаг ГУЛАГ» на западе, конечно, рано, не время. А вот опубликовать там “Август четырнадцатого» Солженицын считал шагом довольно безобидным, если вынуть оттуда “ленинскую главу". И в марте Александр Исаевич отправляет рукопись “Августа» в Париж. Набрать обещали за три месяца. Но тут вмешался Ростропович, предложив послать “Август" в советские издательства. Скорее всего это лишь изобличит их в нежелании публиковать роман. Так и произошло. Ни одно из семи издательств, которым Александр Исаевич предложил “Август", ему не ответило. Тем же летом роман выйдет на Западе.
Ещё одной проблемой был ответ на статью в журнале “Штерн". Первая ею попытка не привела ни к чему. Шапиро, которому он дал ответ на статью в “Штерне" для напечатания в гамбургской газете “Ди вельт", этого ответа не напечатал. А ответить Солженицын считал необходимым. И пришло решение: незадолго до нобелевской церемонии дать интервью западным корреспондентам.
30 марта Солженицын дал развёрнутое интервью для двух крупных газет — “Нью-Йорк таймс» и “Вашингтон пост". Александр Исаевич определил это интервью как «разветвлённую личную защиту». В нем он защитил в какой-то степени всех упомянутых журналом “Штерн». Ничего не сказал он лишь об одном человеке — обо мне. Было, между прочим, сказано и о том, что Солженицына беспокоит его финансовое положение. Это последнее утверждение даст повод, спустя примерно полгода, напасть на него, о чём мне придётся рассказать в своё время.
Интервью было напечатано 4 апреля. Реакция у нас была такова, что секретарю Шведской академии отказали в визе, и, следовательно, церемония не могла состояться. А в газете “Труд», ранее никогда на Солженицына не нападавшей, и за то удостоившейся приглашения на нобелевскую церемонию, 7 апреля была напечатана большая статья Ежи Романовскою “Август Четырнадцатого» Александра Солженицына, или правда о книге и мифе". Разумеется, отрицательная.
Многие сочувствовали Солженицыну, снова не получившему нобелевских наград. Мне же по поводу того, что на квартире Светловой не состоялась нобелевская церемония, хочется сказать: “Бог есть!»...
Та весна была беспокойной и для меня. Более всего это было связано с подготовкой для “Вече" двух глав моих воспоминаний. Редактировать их мне помогала Светлана. Будучи безусловно талантливым редактором, но не имея специального образования, не будучи профессионалом, она измучила меня многоступенчатостью редактирования, отчего мне приходилось по нескольку раз перепечатывать одни и те же страницы. Поскольку в “Вече» не было и профессиональных машинисток, то, чтобы избежать опечаток, я взялась сама отпечатывать свои главы для всех экземпляров пятого номера журнала. Мне нужно было сделать несколько закладок. И все это — на квартире, которую предложил мне Маг, ортодокс из ортодоксов. Чтобы он невзначай не застал меня за этой работой, я даже привезла из Рязани свою маму, пробывшую у меня с 26 апреля до 14 мая.
За работой Маг меня не застал. Но случилось другое. Спутав дни недели, Маг пришёл на Бакунинскую в тот день, когда я его не ждала, и потому не убрала с приёмника статью “Показательный дуэт “, когда убегала к Светлане для работы над главами. Случайно обнаружив эту статью, Маг разгневался. И весь его гнев обрушился на мою маму, которой частенько приходилось заслонять меня собою в особо неприятные для меня моменты. “Какое-то “Вече»! Нелегальщина!.. — возмущался он.
После этого случая наши отношения с Магом — очень напряжённые в последнее время — ещё более обострились. Я понимала, что, занимаясь “нелегальщиной» на Бакунинской, я веду себя как самая настоящая авантюристка. Ничего: пусть Маг расплачивается за всех мужчин, которые поступают с женщинами так, как мой муж поступает со мной!
Пятый номер “Вече» был уже почти полностью собран, когда его главного редактора, Осипова, остановил на улице сотрудник КГБ. У Осипова был при себе портфель с рукописями. В числе других — и мои главы, которые ему хотелось ещё раз прочесть. Содержимое портфеля было изъято, мои главы тоже. Это происшествие заставило “вечевцев» ускорить выпуск пятого номера журнала. Он вышел 25 мая.
Не знаю, держал ли в руках этот номер “Вече“ Александр Исаевич, когда 29 мая дал в Рязанский суд телеграмму: “Прошу назначить судебное разбирательство безотлагательно. Нет причин откладывать после полугодового срока». Тогда же, 29 мая было послано в суд и вторичное исковое заявление.
Итак, “мёртвые месяцы» кончились. Теперь я увижу его!
Впрочем, “мёртвое время» ещё не совсем истекло, когда между нами возобновилось хотя и весьма своеобразное, но всё же общение. И произошло это в связи с “Борзовкой “, которую мы оба любили и куда оба рвались.
Я эту весну так была занята подготовкой своих глав для “Вече“, что выбралась в “Борзовку" лишь 5 мая. Приехав, увидела, что Александр Исаевич опередил меня. Не знаю, сколько дней провёл он там в апреле, но сделал немало. Вскопав и унавозив несколько грядок, он засадил их. Об этом свидетельствовал набросанный им план “посевной», на котором приводилось расположение грядок и записано было, чем именно они были засажены. Слева внизу муж открыл столбик с датами. Первый срок — 25 апреля.
Изучив “посевную", увидела, что среди посаженного не хватает так любимого Саней горошка, и тут же посадила его, сделав соответствующую отметку на “посевной". Продолжила столбик: второй срок — 5 мая. Третий срок Александр Исаевич отметит все в том же столбике 8 мая. Что же посадит в тот раз? Тоже горошек. Ещё раз! Родство наших душ не так-то легко уничтожить!
Отпечатав, наконец, более 20 экземпляров своих глав и вручив их “вечевцам", я 14 мая еду в Рязань, а через день, уже на машине — в “Борзовку". С мамой у нас договорено: как только она получит судебную повестку — сразу же даст мне условную телеграмму.
Вторую половину мая я живу то в Москве, то в “Борзовке“. На нашем огородном плане появляются все новые пометки. А ещё я завожу листок с записью молока, взятого у нашей постоянной молочницы. Начатой был 21 мая. Александр Исаевич продолжил запись: 29 мая — 3 литра, 1июня — 3 литра. И так будет продолжаться все лето. Платить за молоко будем то я, то он, не считаясь. И вообще будем услужливы друг к другу. Сохранилась бумажка: “Санюша! Спасибо за заботу. В подполе много молока. “
В мае мы с мужем на даче ни разу не встретились. Увиделись 2 июня.
Приехав в “Борзовку", я обнаружила от мужа записку (“Сегодня ещё вернусь") и письмо, поразившее меня несуразностями. Из этого письма я узнала, что “звонила", оказывается, в суд с заявлением, что уезжаю на три недели, и просила отодвинуть суд. Причём Александру Исаевичу не пришло даже в голову, что в нашу судебную тяжбу вмешиваются какие-то внешние силы... Ещё Александр Исаевич, писал, что я полгода “держала ставку на его гибель» (???), что я хотела стать “вдовой или женой арестанта (???).
Боже мой! Я так ждала этого момента: увидеть мужа, поговорить с ним, убедить его в невозможности для меня развода! И вот это письмо... И, когда встретились, мне, вместо того, чтобы убеждать, пришлось отбиваться!.. Какой звонок в суд? Я никуда не звонила. И как он может думать, что я хочу его гибели? ареста? Кто, наконец, затеял суд? Разве он не понимал, что это как-то будет использовано против него? Но Саня во всем происходящем винит не себя, меня!.. Своими нападками муж выбил почву у меня из-под ног, и настоящего разговора у нас не получилось.
С горьким чувством осталась я в одинокой “Борзовке... Стараюсь утешить себя тем, что все самое важное, самое неопровержимое, что не сказала ему в тот день, скажу на суде. Уж там-то он вынужден будет меня выслушать!
Получаю от мамы телеграмму. Время суда определено: 20 июня. Надо заканчивать подготовку своей речи, а она никак не кончается, потому что потоку мыслей нет конца. Порой, проснувшись поутру, я оказываюсь столь переполненной ими, что, боясь их растерять, включаю магнитофон и наговариваю, наговариваю... К тому времени я приобрела японский магнитофон. В Рязани сделала на нем первые записи: переписала с обычного магнитофона на маленькую кассету. “Когда теряют счёт годам в нашем общем исполнении, “Консуэло", наговорённое мне мужем перед отъездом в дальнюю “берлогу», небольшую семейную сценку... И я продолжаю заполнять эту кассету набегающими мыслями, в которых обращаюсь к своему мужу то с мольбой, то с укором.
Сейчас мне страшно слушать эту запись. Я не узнаю своего голоса: говорю, будто задыхаясь. Вот обрывки этих мыслей.
“Зачем ты помог мне разрушить семью? Ты не оставался при этом пассивным. Зачем лишил меня детей и внуков? Зачем лишил маму внуков?.. Ты делаешь то, что запрещают религии всего мира, или ты так думал только в 56-м году? или и тогда так не думал? Простил ли ты меня тогда или только сделал вид и все, что происходит сейчас — изощрённая месть?.. Перед тем, как перебраться ко мне в Рязань, ты писал мне: “С радостью думаю о том, что еду к тебе. Так надоело жить по чужим людям и быть бездомной собакой. А какой ты меня оставляешь сейчас?.. Я ведь не могу жить со своими старушками, вынянчившими меня. С ними я буду ощущать всегда, что жизнь моя прожита зря. Я опять — там, у ее начала. Нет, хуже: там все было впереди, здесь — все в прошлом, и это прошлое зачеркнут тобою жирным черным крестом... Мне нужна общая с тобой старость, которую ты обещал мне! Ты предлагаешь мне дружбу, любые отношения после того, как я дам развод. Но неужели ты не понимаешь, что я не могу принять этого, что это для меня унизительно... Ведь это касается женщины, которая мне в дочери годится! женщины, от которой я ни слова о прощении не слышала! женщины, которая смогла переступить через меня, почти что через мой труп!.. А что, если нас разделит граница?.. Тебе нужен развод ещё и потому, что тебе не нужно, чтобы я была первой читательницей твоих произведений, какой была раньше! Вот она, свобода творчества! Ты ставишь эксперимент, который намерен описывать!.. Но ты не сможешь спрятать от меня свои романы. Я буду читать, слушать по эфиру не только о тебе, но и о твоих любовницах. И ты думаешь, что я это...вынесу?.. В личном плане ты делаешь то, что осуждаешь в социальном! Люди, которые читали твоё интервью, данное американским корреспондентам, говорят, что меня в твоей жизни как бы и не было. Ты меня вычеркнул, четверть вековую жизнь нашу вычеркнул!.. А как сам ты относился к тому, когда людей, которых сажали в тюрьму, тотчас же забывали? Ты должен привести в соответствие все, к чему призываешь в своём творчестве, с тем, что ты совершаешь в своей собственной жизни! Нужно выйти достойно из создавшейся коллизии. Нужно сделать так, чтобы всем стало легче!
Так, в таких самотерзаниях рождалась моя вторая судебная речь.
Ехать в Рязань я решила 11 июня. Накануне написала Сане маленькое “хозяйственное» и большое, уже другого характера, письмо. Это последнее, вероятно, писать мне ему не следовало; оно, как выяснится позже, вызвало у него раздражение и — что хуже — облегчило его совесть. Его ответ я прочту уже после суда, когда снова приеду в “Борзовку“. Он напишет мне, что, прочтя “хозяйственное» письмо, был настроен по-доброму, а когда прочёл второе —совсем по-иному. После первого у него “стеснилось сердце» и он стал думать, что, когда пройдёт развод, надо будет обо мне подумать, постоянно помнить о моем одиночестве. В таком настроении провёл час. А потом обнаружил ещё письмо. Назвал его самонадеянным, воинственным, злым. И сразу — полное облегчение, освобождение, отчуждение. Так было, когда развода не дали, так будет, если и сейчас не дадут. Он весь здесь, мой муж! Ему и теперь нужны от меня покорность, послушание, безоглядное служение ему. И это — при коренным образом изменившихся обстоятельствах...
С 11 июня я — в Рязани. Все оставшиеся до суда дни я судорожно готовила и печатала на машинке свою речь. Если моя первая судебная речь была сдержанной, то новая —настоящий крик отчаяния, что отнюдь, теперь я понимаю это, не делало ею более убедительной. Но я слишком много пережила за “мёртвые» месяцы, чтобы остаться в тех же рамках, что и на первом суде. Речь получилась большой, и было ясно, что секретарь за мной будет не в состоянии угнаться. Поэтому я решила читать свою речь по отпечатанному тексту, отдав копию судье.
20 июня, придя в суд, я снова застала Александра Исаевича беседующим с судьёй Додловым. И вновь: “Встать! Суд идет!». Истец (мой муж) подтверждает свой иск. Между прочим, было сказано: “Я продолжаю проживать со Светловой, от которой имею сына, жду второго ребёнка от неё. Брак считаю делом добровольным. С моей стороны доброй воли на продолжение брака нет“.
Я же иск не признала. Обратившись к судьям, сказала: “Товарищи судьи! То, что я хотела бы сказать на этом суде, приготовила в письменной форме. По ряду соображений я считаю наш бракоразводный, процесс беспрецедентным, а потому не считаю возможным, чтобы мои слова записывались секретарём в пересказанном виде, как это было в прошлый раз. По той же причине я своё слово зачитаю, чтобы оно полностью соответствовало тексту, который я попрошу приложить к нашему делу". И далее сорокаминутная речь. Говорила я горячо, взволнованно. Обращалась больше всего к мужу. Изредка взглядывая на него, я видела, как лицо его все более приобретало морковный цвет.
Самым сильным местом речи, с моей точки зрения, было обвинение Солженицына в том, что у него образовались ножницы, до предела разверстые ножницы, между личным и социальным. Я призывала мужа сомкнуть образовавшиеся “ножницы», чтобы снова стал он “един», чтобы снова поднялся на ту душевную высоту, на которой находился до того, как произошла порча ею души славой — ведь он сам этого опасался когда-то! И под конец:
“Разрыв бумажки для меня рубеж, за которым я ничего не вижу, только пустоту, тьму, смерть. Я не могу подписать себе смертный приговор. Мою смерть не приняли, так оставьте мне жизнь!"
“Зачем меня убивать, когда все может быть иначе? Как вошла в нашу жизнь та женщина — пусть она так в ней и остаётся. То, что было тайным, станет явным. Вот и все. Мы снова будем жить по правде. Так, как мой муж призывает жить других!"
“Если я все же не убедила своего мужа, то взываю к его милосердию, а вас, товарищи судьи, к справедливости и человечности!" Когда я кончила, поднялся Александр Исаевич:
— Наталья Алексеевна сделала процесс историческим. Я тоже дам письменное дополнение к своему заявлению.
Он просит на это у судьи время. Объявляется перерыв. Александр Исаевич склоняется над листами бумаги. Тут я замечаю на столе у него маленький магнитофон.
— Ты меня записал? — спросила.
— Да. А что плохого, если наши речи будут записаны на магнитофон?
— Да, конечно.
Свои дополнения муж писал долю. Перерыв превысил полтора часа. За это время силы меня покинули. Понуро прохаживалась по улице.
...Неужели все же разведут? Почему я не сказала, что, поступив так, суд возьмёт на себя ответственность за мою жизнь, сняв её с моего мужа? Почему не сказала, что суд, как таковой, не должен разводить нас, что он должен предложить Александру Исаевичу уговорить меня развестись мирным путём, через ЗАГС?.. Ведь в этом случае мы могли бы о многом договориться! А теперь у меня уже не хватит сил, не хватит энергии убеждать суд в чём бы то ни было. Мне худо. Глотаю таблетку седуксена, потом ещё одну.
Перерыв окончен. Александр Исаевич зачитывает свой дополнения. Новые попытки самооправдания. Снова все валится с больной головы на здоровую. Снова сыплются упрёки в мой адрес — упрёки за то, что давно было им мне прощено. Но появились и новые обвинения: о том, что много лет прожила с ним рядом, “так и не вникнув в существо и смысл его работы, в мотивы его решений в общественной жизни и что не разделяла сознательно ею взглядов". И, не переводя дыхания: “К счастью, это освобождает ее от ответственности за мои общественные поступки".
Вспыхнув, я перебила его:
— Нет. Разделяла его взгляды и готова нести ответственность. Прошу это моё заявление занести в протокол.
Что и было сделано.
В заключение Александр Исаевич сказал:
— Наша семья с Натальей Алексеевной разрушена необратимо, ее не существует. И только признав это юридически, можно открыть путь для нормальных и даже дружеских отношений.
Вот тебе и раз! Да разве тот факт, что Александр Исаевич допускает возможность дружеских отношений, не свидетельствует о том, что мы не перестали быть родными друг другу, что наша семья существует, что она просто расширилась и что, только оставив юридически все по-прежнему, можно. открыть путь для хороших отношений между нами.
Вот где был камень преткновения. После принятых лекарств в моей голове не было ясности и я, вероятно, не сумела использовать еще одного предоставленного мне слова. Помню, что возражала мужу. Помню, что проводила параллель: во время его заключения, когда мы были осуждены лишь на очень редкие свидания, это не отнимало у нас ощущения, что мы муж и жена. Так у меня и сейчас...
Александр Исаевич при этих моих словах встрепенулся. У него даже вырвалось: “Подождите, она что-то дельное говорит..."
У меня появилась надежда.
Суд удалился на совещание. Мы с мужем сидели молча. Вскоре дверь открылась, и судья Додлов спросил меня: девичья ли это моя фамилия Решетовская.
Все стало ясно. Разводят. Я стремглав бросилась вон из зала заседаний. За дверью в изнеможении упала на стул и закричала: “Убили! Меня убили!"
Было поздно. Помещение суда опустело. В нем была одна лишь уборщица. Только она и попыталась меня утешить:
— Не убивайся, милая! Всех разводят...
После случившегося я превратилась в манекен. Все делала машинально, автоматически, внутренне сжавшись в комок.
У нас с мамой было решено, что после суда мы с ней тотчас же едем в “Борзовку». Молча вышли, молча сели в машину, молча тронулись в путь. Пока ехали, мама несколько раз пыталась заговорить со мной, но у меня на губах будто тяжёлый замок висел. Не могла произнести ни слова. Мамин дневник свидетельствует, что одну фразу я всё же ей сказала: “Я еду на похороны". Спустя несколько дней мама запишет: “Действительно, она в своём любимом местечке, под орехом, сделала подобие могилы и возложила полу венок из цветов. Так она похоронила своего Санечку".
Да, проснувшись на следующий день после суда, я вдруг поняла, что хоть как-то смогу успокоиться, если "похороню" своего Саню — того, кто любил меня, который не мог бы от меня отречься, как это сделал накануне Александр Исаевич, уверявший суд, что я никогда не понимала его дела и не разделяла его взглядов. И, провозившись весь день под ореховым деревом, сделала подобие могилки, зарыв в неё нашу общую фотографию. На могилке выложила из листьев дату: 20 июня 1972 года и украсила ею турецкой гвоздикой, которая была у нас в тот год в изобилии.
А что же Александр Исаевич? Видя моё отчаяние и в то же время выслушав столь желанное ему решение суда, он отправился... в зубную клинику. А оттуда, полечив зубы, пришёл к нам домой, намереваясь, по-видимому, начать строить со мной “новые необыкновенные отношения". Не застав ни меня, ни мамы, стал говорить с тётями. Сказал им, что состоялся развод, что на суде я держала речь, в то время как можно было разойтись по-хорошему, по-мирному, жаловался на меня за то, что я якобы говорю, что он оставляет меня без средств... (Как могла я говорить такое? Разве в этом была моя трагедия?). С неудовольствием говорил о том, что я пишу мемуары (будто ранее не благословлял меня на это!), в то время как их обычно пишут лишь через десяток лет после смерти героя... Да и потом, откуда у Наташи сведения о его отношениях с Твардовским? (Да от тебя же, от тебя. Кто, как не ты сам, детально пересказывал мне все встречи свои с Твардовским, все разговоры? То посылал меня к нему вместо себя?). Тётя Маня слабо возражала, а тётя Нина не сказала ни слова, объясняя это тем, что ею душили слезы. Понимали ли мои бедные тёти, что не только моя судьба тогда решалась? А они промолчали.
Оставив маму одну в "Борзовке“, я съездила в Москву и привезла с собой Марию Васильевну, старшую сестру Татьяны Васильевны, у которой та гостила. Мария Васильевна была подругой Саниной мамы, но в нашей с Саней истории глубоко мне сочувствовала. Я привезла Марию Васильевну более всего потому, что меня очень беспокоило, даже мучило то, что мама, тяжело все переживая, ни с кем не делилась, как я ни просила ею раскрыться кому-то, облегчить душу. И вот, предоставив маму и Марию Васильевну друг другу (они уже были знакомы между собой, в 65-м году Мария Васильевна приезжала к нам в Рязань), я поднялась наверх, чтобы написать Сане. Написала дерзкое письмо. Просила выполнить свои обещания: перевести на меня “Борзовку" и валюту. Ответить просила мне в Ригу. Письмом этим гордиться отнюдь не могу. В его дерзкий тон выливалось все то же отчаяние.
Потом автомобильная поездка с мамой и Марией Васильевной — как бы репетиция перед самостоятельным путешествием на машине. С мамой рассталась в Коломне, где мы посадили ее в электричку до Рязани, а сами с Марией Васильевной поехали в Москву.
27 мая я позвонила маме из Москвы. Узнала от неё совершенно для меня неожиданное: в решении суда, которое принесли нам домой, сказано, что я могу обжаловать решение в Рязанский областной суд в десятидневный срок. Перестроилась не сразу. У меня уже сложилось ощущение окончательности происшедшего. Я настраиваю себя на самостоятельную, свободную жизнь. Мне кажется, что повернуть вспять события уже невозможно. Еду в “Борзовку», оттуда, не задерживаясь, в Великие Луки. Еду одна. Много фотографирую. Думаю...
В Великих Луках рассказываю обо всем Мусе и Владимиру Андреевичу. Пока говорю, во мне снова поднимается протест. Приходит решение: я должна подать апелляцию! Но срок истекает. И я даю срочную телеграмму 30 июня, а следом посылаю письмо-жалобу, в котором пишу, что считаю неверным решение народного суда и прошу направить наше дело на новое рассмотрение, в ходе которого я изложу мотивы своего несогласия. Ставлю в известность маму, которой (бедная моя мама!) теперь предстояло получить ещё одну повестку на суд. В те дни мама, полная беспокойства за меня, получая от меня телеграммы то из Смоленска, то из Великих Лук, обложилась географическими картами, мысленно путешествовала вместе со мной. Как раз тогда маму навестил один из бывших сотрудников (Могилев). Выразил ей своё сочувствие. Его возмущению нет предела: красивая, умная, учёная, все отдавшая ему... Ну, может случиться что-нибудь. Но... развод? “Я его уважал, как большого писателя, но теперь...
Поездив по окрестностям Великих Лук, вместе с моими великолукскими друзьями едем в Латвию. А на почте получаю письма, от мамы и от... бывшего мужа. Из письма Сани я поняла, что меня ждёт, если мы действительно останемся “разведёнными, бывшими супругами». Хотя обращение его было ласковым (“Наташенька), дальше чувствовалось давление. Я поняла, что те “необыкновенные отношения», которые им мне были обещаны, даже просто дружеские отношения я должна буду ещё и заслужить! Сразу же просьба отдать оставшийся у меня архив (а как же я смогу продолжать свои мемуары?) и мои письма за все годы (зачем ему? а мне — для все тех же мемуаров!). И зачем все это, если у нас в самом деле будут необыкновенные отношения?.. Так не все ли равно, у кого будут письма, папки? И с “Ворзовкой» все менялось. Мне передавать ее он не торопится. Он допускает, что я обставлю дело так, что ему и приезжать в “Борзовку» не захочется. Тут шли упрёки по поводу могилки, которую я сделала (он назвал это “ведьмовством!). Он даже “не видит гарантии, что я буду держать себя порядочно в отношении “Борзовки». Договорился! И я же еще оказывалась виноватой, что 28 июня к нему в “Борзовку» приехал какой-то человек, заявивший: ему в квартирном бюро в Москве сказали — на 82-мкилометре Киевского шоссе Решетовская продаёт участок. Чью-то недостойную выходку Александр Исаевич принимает за чистую монету и задаёт мне всерьёз вопрос: “Ты можешь ещё и продать “Борзовку»? Конец письма был выдержан в нравоучительном тоне: после развода я должна была “не упустить пути благоразумия и дружественности. А для этого, как следовало из письма, я и после развода должна оставаться его душечкой! Снова меня ждёт унижение. Нет, наш развод немыслим. Я никогда не смогу перестать чувствовать себя его женой! А он, предъявляя ко мне такие требования, не перестаёт чувствовать себя моим мужем. Мы просто — в ссоре! Все это вместе с судами, вместе с “мёртвым временем» — затянувшаяся ссора! Нет, наш развод немыслим...
В том письме Саня написал, что для него “Борзовка» - “условие сегодняшней живой работы". Позже соседка мне рассказывала, что Александр Исаевич в тот раз приехал на машине; быстро выгрузившись, загнал машину в гараж и как изголодавшийся волк бросился к своему "писательскому столику" у Истьи.
16 июля, в день отъезда из Риги, даю маме телеграмму, что предполагаю 20-го быть в Москве. Но на оставшиеся три дня у меня большие планы.
Из Риги я выехала на Псков. В деревне под Псковом проводит лето Светлана. Она, так близко к сердцу принимавшая мои дела, очень хотела быть в курсе происходящего, и мы с ней условились, что я заеду к ней. Пользуясь случаем, Светлана просит подбросить ее в Псков, где она хотела увидеться с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Проехав из-за этого через город, а не по окружной вокруг Пскова, я, как выяснилось, миновала заправочную станцию. А дальше, на большом протяжении, на шоссе Псков— Ленинград их не было. Бензин на исходе. Уже начало смеркаться. И я, не меняя своих намерений, сворачиваю на Ляды, чтобы попасть в Большое Заханье, а оттуда в деревню Овинец, где живут летом наши ленинградские друзья Анна Вольдемаровна и Афанасий Николаевич. По деревне еду уже в полной темноте, с зажжёнными фарами. Переехав маленький шаткий мостик, добираюсь к месту назначения. “Денису-2" нашлось место под развесистой липой, недалеко от дома. Прогнозы в отношении бензина — самые неутешительные. А ведь мне надо ехать, не откладывая: день суда уже известен — 27 июля. Придётся ехать на попутной до Ляд, оттуда автобусом до Ленинграда, а потом поездом. Машину придётся оставить здесь, а потом снова за ней возвращаться. Другого выхода нет.
Все же день посвятили прогулке по окрестностям. Много фотографировались. Очень живописно! Неудивительно, что Афанасий Николаевич сделал в этих местах много этюдов (он хороший художник).
Уже надо ехать. Друзья хотят меня проводить. До Большого Захонья идём пешком, а потом нас в Ляды подвозит случайная легковушка. Молодые муж и жена обкатывают новенькие “Жигули". Едут в Новгород, но скоро вернутся обратно. Делюсь с ними своей бедой — нет бензина. Они готовы привезти мне бензин, дело за канистрами. В Лядах удается их купить. Плачу за бензин и отдаю этим милым людям канистры. На обратном пути они оставят их наполненными в школе, что у шоссе, на повороте в деревню.
Ляды — Ленинград. Там, запасясь билетом на Москву, звоню давней доброжелательнице мужа литературному критику Нине Георгиевне Губко: не хочет ли она повидаться со мной? Да, хочет. И приезжает ко мне на вокзал. Помню, что дала ей прочесть свою речь на втором суде. Она сказала: “Да это — целое сочинение, я совсем иначе себе всё это представляла... “
В Москве — телефонный звонок от Мага. Он понимает меня, хочет помочь. Предложил взять адвоката.
— Но кто же согласится судиться с Солженицыным?..— воскликнула я.
На это Маг сказал, что у него есть друг в министерстве юстиции, он позвонит знакомой женщине-адвокату и всё уладит.
И я согласилась. Да и как я могла не согласиться, когда, как опыт показал, какими бесполезными были мои речи, мои, казалось бы, неопровержимые доводы перед лицом закона.
20 июля, в здании Городской юридической консультации, возле метро “Краснопресненская", состоялось моё знакомство с двадцатипятилетней Екатериной Борисовной Алексеевой. Мы разговариваем с ней в отдельной комнате. Я показываю Алексеевой две свои судебные речи. Прочитав, она говорит:
— У меня руки мокрые и я вся дрожу. Я никогда не видела женщины несчастней вас. Вы... Надя Нержина?
-Да.
— Но обе ваши речи не юридические...
Она интересуется, о чём я собираюсь говорить на третьем суде. Я показываю ей наброски. Она и их бракует. Единственное, что я верно говорю, так это то, что наша семья вовсе не распалась, что у нас общая дача, общее хозяйство... Только нужны или свидетели, или доказательства. Тут я вспомнила про наш огородный план, про общую ведомость по уплате за молоко...
Алексеева тотчас же схватилась за это:
— Привезите мне их.
— Но ведь это не вполне честно? Это значит — хитрить?..
— Это не хитрость. Это только адвокатские уловки,— успокаивает меня Алексеева. Она проявляет так много чувствия ко мне, что я приглашаю её к себе домой, на Бакунинскую, чтобы показать ей наши с Саней общие фотографии, которых так много и которые свидетельствуют о неразрывности нашей жизни.
— А вы... не предадите меня? — вдруг спрашиваю я. -Меня столько уже людей предало.
— Что вы! Ведь я — ваш адвокат. К тому же мне очень жаль вас.
Алексеевой нужно побывать в Рязанском суде, чтобы познакомиться с нашим делом. Это совпадает и с моими планами: мне надо проведать своих.
23-го вечером, Алексеева позвонила к нам на квартиру, сообщив, что приехала и остановилась в гостинице. После посещения суда она зайдёт к нам.
И вот первые слова, которые мы с мамой услышали от Екатерины Борисовны после того, как она побывала в суде:
— Вы знаете, до чего договорился Александр Исаевич? Правда, фраза эта в его дополнениях зачёркнута тонкой красной линией и он, по-видимому, на суде ее не зачитал. Он обвинил Наталью Алексеевну в том, что она ради него детей бросила...
В первый и единственный раз у мамы вырвались слова гневного осуждения в адрес Сани. Ведь из-за него мама лишилась так полюбившегося ей внучонка...
Алексеева считает, что дело для меня выигрышное. В исковом заявлении Александр Исаевич противоречит сам себе: он пишет, что совместную жизнь с Решетовской прекратил осенью 70-го года, а среди имущества, нажитого при совместной жизни, указывает “Москвич», который был куплен летом 71-го...
Алексеева настаивает, чтобы я съездила на дачу и привезла ей доказательство нашего совместного хозяйствования. Это именно тогда, когда у меня нет машины! Снова Москва. А 25 июля еду на Киевский вокзал. Увы, электрички из-за ремонта пути не ходят! Идут лишь до Апрелевки. Еду туда. Потом — автобусом и попутной машиной. Добралась...
Дом заперт. Саня работает за столиком у Истьи. Отпираю дверь и с не особенно приятным чувством кладу в сумочку две наши “посевные» и бумажку с расчётами за молоко. Это на тот случай, если Александр Исаевич останется твёрд в своём намерении развестись. Я снова буду просить его не делать это. Вот я приехала на нашу общую дачу. Сколько раз я приезжала сюда... Ничего не изменилось во мне! Я снова приехала к мужу!
Приблизилась к столику. Муж писал. Я не окликала его, молча ждала, когда он меня заметит. Заметил. Сощурился, чтоб увидеть, кто это. Узнав, съёжил лицо, а когда расправил его — оно совершенно преобразилось: из спокойного, сосредоточенного стало хмурым, неприветливым, неприступным... Надев на себя таким образом маску, он подошёл ко мне и спросил ледяным тоном:
— Почему без телеграммы?
— Оставь это, — сказала я.— Мне нужно с тобой поговорить.
Поначалу Александр Исаевич напал на меня:
— Сколько ещё будет судов? Пошли телеграмму, что отказываешься от кассации.
— Но я не могу примириться с мыслью, что я — не жена тебе.
— Нет. Просто ты ждёшь, чтобы со мной что-нибудь случилось. Ты хочешь остаться моей вдовой. Ждёшь этого и потому оттягиваешь развод.
— Ты совсем перестал понимать меня. Как могу я этого хотеть?
— Ты говоришь для истории.
— Нет. Я тебе говорю.
— Вообще ты ведёшь себя беспрецедентно. Все знают, что мы с тобой давно разведены.
— Как же могут знать, когда этого нет?
Тем временем мы подошли к домику. Саня предложил мне сесть. Разговор пошел по-другому.
Мы сидели на нижней терраске. Я за своим столиком, Саня — на красной скамеечке.
— Не могу развестись, пойми, — говорила я.— У меня полная иллюзия, что это — наше очередное свидание, что мы муж и жена.
— Бывшие муж и жена. Остаются же, разведясь, друзьями... Ведь мы не живём вместе, не видимся...
— А когда в лагере нам давали свидания в несколько месяцев раз — ты тоже не считал себя, не чувствовал себя моим мужем?.. Ну, сделай ее своей наследницей, напиши на неё завещание, дай ей любую доверенность, пусть будут любые отношения, но оставь меня своей женой!
— Вот если б ты тогда согласилась... Так придумала газ. При моей нынешней жизни невозможна такая двойственность. После развода я постараюсь получить для тебя квартиру в Москве.
- Квартиру в Москве? После развода? Да ведь это абсурдно! И вообще: от чужого мужа мне ничего не надо. Я не обращусь к тебе ни с одной просьбой! Ты хоронишь себя для меня. А ещё не можешь понять, почему я сделала могилку... Я сделала могилку тому, кто меня любил, кто меня жалел.
- Я и теперь бы тебя жалел, если бы не твоя кассация... Знаешь, как бы я тебя встретил!..
По мере того как мы говорили, Саня все больше смягчался. Принёс мне выпить молока. Посочувствовал, что я без машины....
Настаёт день 27 июля. Рано утром к нам пришла Алексеева, приехавшая накануне и ночевавшая в гостинице. Прочтя мою речь, которая на этот раз была короткой (она уместилась на двух машинописных страницах), Екатерина Борисовна сказала мне, что наконец-то я написала юридическую" речь.
Екатерина Борисовна просит меня записать на магнитофон ею выступление во время судебною заседания. Соглашаюсь. Ведь Александр Исаевич посчитал возможным записать наш второй суд. Я же запишу третий. И я укладываю в небольшую сумочку магнитофон “Айва. Мне не придётся вынимать его, снаружи будет только микрофон.
Мама предлагает Алексеевой выпить кофе. .
Мы все трое были в кухне, когда в начале десятого к нам позвонили. И хотя это был совсем не Санин звонок (один длинный и два коротких), а один короткий, меня как что-то толкнуло:
— Это — Саня!
К входной двери первой подошла моя мама и открыла. Перед ней стоял Саня. Маме стало нехорошо. Она стояла в каком-то оцепенении. Я увела ею в комнату. Приняв валерьяновые капли, мама прилегла. Я же вышла к Сане, удивлённо посмотрела на него.
— Я приехал за тобой. Я подожду.
И он скромно сел за тот самый круглый столик в вестибюле, за которым столько раз его дожидались посетители.
Надо думать, у Александра Исаевича на этот раз не было сомнений, что нас разведут. И его наполняло чувство вины, желание возможно более смягчить тот удар, который он наносил мне, да и трём старушкам, желание помочь нам в беде. А присутствие Алексеевой, толстый портфель ее, который находился в нашей комнате, помешали мне даже пригласить мужа войти туда.
Алексеева же была невероятно обрадована приходом Александра Исаевича. Проходя мимо него, он обронила вежливое “Здравствуйте!" Понял ли Александр Исаевич, кто с ним поздоровался? Виду, во всяком случае, он не подал. Сказал мне, что хотел бы поговорить с мамой.
И мы действительно мирно поговорили втроем в кухне. Саня пообещал, что, каково бы ни было решение суда, он после судебного заседания приедет сюда снова.
Из дома вышли втроём: Александр Исаевич, я (с сумочкой, скрывавшей магнитофон) и Алексеева с портфелем. Когда подошли к нашему “Денису“, она спросила у Александра Исаевича:
— Мне... можно?
И получила утвердительный ответ.
Итак, Александр Исаевич — подумать только! — везёт на суд не только меня, но и моего адвоката! Мог ли он потом, когда все события начнут раскручиваться в его голове, простить себе это? Но тогда он вёл себя вполне по-джентльменски.
И вот снова: “Суд идёт!" На этот раз уже не районный, а областной. Судьи — две женщины и председательствующий Алебастров.
Адвокат Алексеева предъявляет суду документы, свидетельствующие о нашем совместном ведении хозяйства, те бумаги, которые я по её просьбе привезла с дачи.
Одна из женщин-судей зачитывает предысторию нашего судебного дела, которое должно сегодня разбираться. Слово предоставляется адвокату.
Алексеева намерена коснуться двух аспектов дела: правового и этического. Прежде всего она говорит о том, что у нас с мужем сохранились семейные отношения: совместное домовладение, совместное ведение хозяйства, налицо также заботы друг о друге. Говорит, что рождение ребёнка вне брака при наличии другой семьи само по себе не может служить основанием для развода. “В решении суда, — говорит Алексеева, — записано, что в настоящее время истец сожительствует с другой женщиной, от которой имеет ребёнка. Но свидетельствует ли это о наличии другой семьи у Солженицына? По заявлению истца, сделанному в суде, он на протяжении последних лет супружества изменял жене. Нельзя же каждую измену признавать образованием новой семьи! Все это позволяет прийти к выводу, — говорит адвокат, — что иск Солженицына к Решетовской о расторжении брака является фиктивным и им создаётся — необъяснимо, с какой целью — искусственная ситуация распада семьи с Решетовской.
Переходя к этической стороне дела, Алексеева задаётся вопросом: зачем Солженицыну нужен развод? В интересах моего ребёнка, — утверждает Солженицын. Но Александр Исаевич прекрасно знает, что новый гуманный закон о браке и семье защищает интересы его внебрачного ребёнка не меньше, чем интересы детей, родившихся от брака. С другой стороны, Решетовская - продолжает Алексеева - женщина, беззаветно подчинившая свою жизнь служению этому человеку, его делу, его жизни, отдавшая ему все силы душевные и физические и на пороге старости, изнемогшая от беспрестанных тревог и неизбывной любви, остающаяся в одиночестве. Нет детей, внуков. Нет друзей, ибо общие друзья предпочли остаться друзьями высокочтимого писателя. Единственное, что ей остаётся, — это право называть себя женой человека, который — вся жизнь ее, горькая и одновременно счастливая.
В заключение своей речи Алексеева сказала: “И вот возникает вопрос, — у меня возникает вопрос, у молодого человека, читателя, у почитателя такого таланта, Солженицына: чему верить? кому верить? Солженицыну ли писателю, во весь голос, на весь мир проповедующего, призывающего к справедливости, милосердию и состраданию, или Солженицыну-истцу, попирающему эти же ценности? Где реальное, простое, человеческое сострадание и милосердие к вашей верной подруге, жене, которую вы называли “гордость моя “? Кто бы мог подумать, что когда-нибудь так бесславно закончится история Наденьки Нержиной-Решетовской? И совсем непонятно: помните, в “Августе четырнадцатого “(тут председатель пытался прервать Алексееву, не дать ей процитировать из “Августа", но она все же сделала это: “Всякий человеческий поступок всегда можно огородить золотым объяснением». А если так, то нужно, чтобы оно было действительно золотое, а не из поддельного золота. Я прошу суд, — закончила Алексеева, — отменить решение народною суда и передать дело на новое рассмотрение".
После адвоката слово было предоставлено мне. Я говорю о том, что мои доводы не были приняты судом во внимание и не нашли отражения в его решении. Говорю, что муж не называет истинных причин развода, что мы разобщены с ним сейчас чисто искусственно. Говорю, что, когда муж узнал, что у него будет ребёнок от другой женщины, он не собирался прекращать нашу с ним совместную жизнь, писал мне, что он не сможет жить с сознанием, что он меня бросил; что все останется по-прежнему, если я разделю с ним радость по поводу рождения ребёнка. Говорю, что так бы все и было, если бы муж не заговорил о юридическом разводе при фактическом продолжении брака и, чтобы добиться юридического развода, не стал создавать искусственную ситуацию, которая убедила бы суд в необходимости дать ему развод. Для достижения этой цели все средства оказались хороши. Именно поэтому он шесть месяцев избегая встреч со мной, не распечатывал моих писем, и суд не только не указал Солженицыну на аморальность подобных поступков — они послужили ему лишним поводом, чтобы принять решение о разводе. Неужели закон и мораль в нашем обществе, в нашей стране находятся в таком противоречии? — вопрошала я и продолжала — но эти шесть месяцев не отлучили меня от него. В нашей жизни было десять лет войны и тюрьмы, когда мы не виделись месяцами и даже годами, но мы не теряли от этого ощущения, что мы муж и жена. Так и сейчас: наша встреча — это встреча мужа и жены, между которыми идёт спор, спор, который никак не могут разрешить. Придумывая все новые и новые доводы в пользу развода, муж попросту обманывает сам себя, обманывает и суд. В письме своём он отдавал решение в мои руки. Я могу зачитать суду соответствующий отрывок из него.
В заключение я обратилась к суду с просьбой отменить решение, вынесенное 20 июня с.г., как решение, способствующее разрушению семьи, существующей вот уже около тридцати лет. Тем самым остаётся в силе обещание, данное мне мужем в письме, в котором он сообщал мне о предстоящем рождении ребёнка: что я могу остаться с ним, если приму все происшедшее. Для него это — такая малость... Для меня — вопрос жизни.
Председатель, обращаясь ко мне, пытается выяснить, каковы же действительные причины развода. Я отвечаю, что, по моему мнению, они делового, расчётного, рационального характера.
После меня говорит Александр Исаевич. Вступив в спор со мной, он утверждает, что я использую все приемы, чтобы только оттянуть решение о разводе. Он тоже думает, что у меня есть какие-то расчёты. И тоже не будет их называть. Это — его предположение.
— Мне кажется, — говорит Солженицын, — что любой гражданин Советского Союза давно бы был разведён, если бы это был не я.
— Почему вы так считаете? — перебивает его председатель.
— Считаю. Не представлены справки в деле — вот они, все здесь (перечисляет). Солженицын зачитывает соответствующие статьи гражданского кодекса.
Александра Исаевича удивляет странная, противоречивая лёгкость, с которой адвокат выворачивает одно и то же с двух сторон. С одной стороны — упрекает меня в бесчеловечном отношении к Наталье Алексеевне, с другой стороны — то, что я делаю человечного, поворачивает, как нашу совместную жизнь, то есть требует, чтобы я прекратил всякое человеческое к Наталье Алексеевне отношение. А если у нас остаются человеческие отношения, то, значит — мы муж и жена! Да, повторяю: я понимаю так, что с человеком, который столько лет был со мной связан жизнью, я хочу остаться в духовной связи, я хочу ей помогать, я хочу быть другом ее. Я знаю много случаев, когда разводятся и остаются друзьями.
Выразив своё возмущение, что я тайком взяла и представила в суд “посевную» и расчёты за молоко, Александр Исаевич все же продолжает уверять суд, что чувствует на себе моральный долг по отношению ко мне. Но... почему отец и мать ребёнка не должны жить вместе? Зачем тогда вообще существуют разводы?
— Но я хочу поддерживать дружеские, человеческие отношения с Натальей Алексеевной, — снова уверяет он.
Считая, что наша семья расторгнута необратимо, Солженицын просит суд развести нас.
Председатель, подводя как бы итог, спрашивает:
— Надо понимать так, что жизнь не сложилась?
— Да, да. Жизнь не сложилась безвозвратно, — уверяет муж.
Какова же должна была быть сила моей убеждённости в том, что, несмотря ни на что, мы — муж и жена, и насколько наш разговор был для меня вопросом жизни и смерти, если после всего сказанного Александром Исаевичем я снова прошу слова. Говорю горячо, убеждённо.
Сказала о том, что Александр Исаевич психологически совершенно не подготовил меня к тому, что произошло. Он говорил, что ему необходимо творческое одиночество, настолько необходимо, что он в монастырь готов уйти. Что у Александра Исаевича есть другая семья — это для меня величайший удар, я психологически к нему не была готова. Говорю, что никогда не слышала от мужа сожаления, что у нас нет детей. Более того, он считал, что дети мешали бы его работе.
— Сейчас мне предстоит остаться одной со старушками в возрасте от 82-х до 93-х лет. Причём это те люди, которые ему помогали, когда он был в лагере. Может быть, не будь их — не было бы и Ермолая. Ведь во время его заключения его родственники не знали даже — жив ли он. Первое разрешение на передачу получила моя тётя, жившая в Москве. Потом я его поддерживала, и в этом помогали мне мама и тёти. Они три самых тяжёлых года высылали ему посылки ежемесячно, скрупулёзно выполняя все его желания. И вот этих людей он бросает. Это — его истинная семья. Никто другой не помогал ему в лагере.
Я зачитала несколько отрывков из “рокового письма».
Председатель спрашивает, могу ли я дать им эти отрывки. И я кладу на стол две страницы. Слышу голос Александра Исаевича:
— Как ты можешь?
— За письма надо же отвечать! — возражаю я.
Снова говорит Александр Исаевич:
— Я действительно тогда отдавал Наталье Алексеевне все решения. Это было до рождения ребёнка. Наталья Алексеевна отвергла. Сказала, что и слышать не хочет ни о каком ребёнке...
— Да не отвергла, а с собой кончала. Я чувствовала, что этим кончится. Отсюда моё самоубийство было. Вот результат: я была права...
Эти мои слова прозвучали заключительным аккордом. Судьи поднялись и удалились на совещание.
Я была так взволнована, что забыла про включённый магнитофон, и он запечатлел не только судебное заседание, но и часть нашего с мужем разговора в перерыве. Вероятно, я заплакала, потому что Александр Исаевич стал утешать меня.
— Наташенька, ты себя оскорбляешь тем, что противишься разводу.
И он заверяет, что мы останемся друзьями. Но я прошу, если разведут, не оформлять того брака. Общение с ним станет для меня унизительным.
— Ты сам не понимаешь, что делаешь. Когда-нибудь поймёшь и будешь меня жалеть — когда-нибудь, когда меня не станет. Ты поймёшь, ты скажешь: вот где была истинная преданность! Если разведут — никогда больше тебя не увижу. Могилка — вот все, что мне остаётся. Когда-нибудь и я лягу рядом.
— Но никто не разрешит тебя там хоронить. Ведь там земля заливается, — чуть ли не со слезами говорит Саня.
Вошли судьи. Женщина-судья зачитывает определение. После краткого изложения предыстории она говорит следующее:
— Судебная коллегия находит, что решение народного суда подлежит отмене по следующим основаниям... В частности, “ответчица утверждает, что наличие ребёнка у другой женщины и истца не является действительной причиной расторжения брака. При новом рассмотрении дела народному суду надлежит более тщательно проверить взаимоотношения сторон, выяснить действительные мотивы расторжения брака, образовал ли истец новую семью, для чего допросить гражданку Светлову “.
Итак, решение народного суда от 20 июня отменялось и дело направлялось на новое рассмотрение в народном суде при ином составе судей.
Я мысленно благословляю Бога, что прежнее решение отменено. Не то — Александр Исаевич. Он крайне возмущён. Требует, чтобы ему дали в руки определение. Нет, он может получить его только на следующий день — таков порядок. Тогда он просит зачитать определение ещё раз, но председатель ему отказывает. Александр Исаевич кипит:
— Не дать мне прочесть решение ещё раз. Это потому, что я...
Мало-помалу все затихло. Из здания суда мы вышли втроем и поехали, как было условлено, к нам домой. Обедать Александр Исаевич отказался. Просто посидели и поговорили по-семейному с мамой и тётями.
Мама об этом разговоре записала: “Произошло некоторое перемирие». Во время этого разговора в кухню, извинившись, вошла Алексеева и попросила у Александра Исаевича автограф, который он с лёгкостью дал, лишь позже осознав, что сделал он это на сборнике весьма нелестных статей о нем, распространяемом по партийным каналам.
Прощаясь, Саня сердечно поцеловал маму и тётушек. Провожала его одна я. Мы ещё немного поговорили с ним в вестибюле. Я снова просила его ещё и ещё раз подумать. Дать ей любую доверенность, завещание, но оставить меня женой.
— А ты не боишься моей тюрьмы? — вдруг спросил он.
— Но ведь я уже прошла через это...
Не сказав мне ничего определённого, Александр Исаевич ушёл. Ушёл, не выйдя из роли доброжелательно настроенного ко всем нам, близкого человека. Да, вероятно, это и не было ролью, потому что со всеми нами он не мог не чувствовать себя дома, в своей семье...
У меня — снова надежда, что Саня откажется от мысли о разводе. А мама запишет в своём дневнике: “Есть некоторое успокоение, но и тревога, Наташа поднялась духом. Но... что будет?"
Что будет?
Довольная результатом суда и полная светлых иллюзий, поехала я за своим “Дснисом-2“. По дороге, в Ленинграде, у меня состоялось несколько встреч. На одной из них мне внезапно показали фотографию, помещённую в журнале “Лайф “: на коленях у моего мужа — Ермолай, к которому протягивает руки его мать. Можно себе представить, какую боль я ощутила. Я тотчас зажмурила глаза, но это уже ничего не могло изменить: снимок этот на всю жизнь запечатлелся в моей памяти. И я не выдержала. 1 августа из Ленинграда в “Борзовку" пошла от меня мужу телеграмма-крик:
"Постараюсь приехать как обещала увиденная лайф идиллическая фотография неотступно перед глазами Твоя Наташа".
В деревне Овинец уже все для меня готово. Те милые люди привезли бензин, а Афанасий Николаевич принес две канистры из Большого Заханья за три километра в деревню. 4 августа все готово к отъезду. Накануне мыс Афанасием Николаевичем со всей тщательностью подготовили машину к поездке. Решено, что до Большого Заханья, по самому плохому участку дороги, который начинался со спуска к хиленькому мостику через речушку, поедем все трое.
А потом вдвоем с Анной Вольдемаровной поедем в Новгород, где я предполагаю дать маме поздравительную телеграмму (был день ею именин) и передохнуть у знакомых Н.Г.Губко, а Анна Вольдемаровна должна встретиться там с друзьями.
С полянки, где стояла машина, на дорогу я съезжаю одна, чтобы не трясти всех по кочкам. Выехав на дорогу, хочу остановиться, чтобы посадить своих пассажиров. Но тормозная педаль полностью проваливается. Машина катится вниз. Резко кручу руль влево и утыкаюсь машиной в откос. Друзья подходят ко мне в недоумении. Объясняю. Афанасий Николаевич предлагает дать задний ход и вернуться снова на полянку. Надо посмотреть, в чем дело. И что же оказывается? Забравшись под машину, Афанасий Николаевич обнаруживает, что порезан тормозной шланг, ведущий к правому колесу. Умелой рукой из него вырезан целый кусок. Кто же это мог сделать? Недавно Афанасий Николаевич отлупил ребят за то, что они ломали у него деревья. Неужели это такая зверская месть? Но при чем здесь моя машина? Может быть, эта акция была направлена против меня? Ведь если бы мы все трое сели в машину, тормоз понадобился бы не в самом начале спуска. Машина бы набрала скорость и когда тормоз отказал, я бы не сразу сообразила включить низшую передачу. А там, внизу, — хиленький мостик! Нет, лучше уж не думать о том, что могло бы случиться.
Афанасий Николаевич с соседом обсуждают, как делу помочь. Найдена медная трубка, попробуют вставить ею.
Пока шёл ремонт, к машине подошёл соседский мальчуган и взялся за ручку домкрата. Мне он показался похожим на Ермолая. Беленький, такого же возраста... Я быстро вынула фотоаппарат и сделала пару снимков. Сниму ли я вот так же когда-нибудь Ермолая?..
Медная трубка вставлена. Тормозная жидкость долита. Сажусь в машину и нажимаю тормозную педаль, - увы, она снова проваливается, хотя и не до конца, Запах тормозной жидкости.
Афанасий Николаевич — снова под машиной. Он убеждается, что порезан не только правый, но и левый шланг.
Ясно, что починить своими средствами невозможно. Надо ехать до Луги без тормозов, а это 80 км. Ничего не поделаешь, и я решаюсь.
Из разговоров с соседями выяснилось, что в моё отсутствие приезжал на мотоцикле председатель ОБХСС, искал какую-то “Победу» и попутно интересовался моей машиной. (Может быть, это был представитель вовсе не ОБХСС, а “Победа» была лишь предлогом, для отвода глаз?..)
Имело ли это отношение к тому, что произошло с моей машиной в ночь под 4 августа? Так это и осталось загадкой.
От Овинца до Луги ехали три часа. Прямую передачу и вовсе не включала. К счастью, дорога была довольно ровная, без особых подъёмов и спусков. А по самой Луге ехали так: перед очередным перекрёстком я останавливала машину. Анна Вольдемаровна шла к перекрёстку и показывала мне, когда можно ехать.
В одном из автохозяйств согласились починить “Дениса-2“. Установили его на яму, приспособленную для грузовых машин, и сменили тормозные колодки, приспособив снятые с какого-то грузовика. Сказали, что “подобного зверства» ещё не видели, видят впервые.
К вечеру того же дня мы все же были уже в Новгороде, в Антоньевом монастыре. Так измучились, что не было сил дать маме поздравительную телеграмму. Поздравила на следующий день.
В Москву приехала в хорошем настроении. Я ведь не знала, не предчувствовала, как резко изменится за прошедшее время отношение Сани ко мне, что будет ждать меня на следующий день в “Борзовке“.
Когда я приехала в “Борзовку", дача была пуста. Вместо Александра Исаевича я обнаружила в потайном месте письмо от него. Все помутилось у меня в глазах, когда начала его читать. Письмо было ужасным. Фразы хлестали меня словно бич, жалили. А сверху была сделана крупная надпись: “для мемуаров". Многого из того, что в письме, не помню, а перечитать не могу: письма этого у меня уже нет. Припоминаю, что он писал мне, что осознал все происшедшее в день нашего третьего суда, когда ехал на “Денисе» обратно, в “Борзовку". И сразу исчезла вся его благожелательность!..
Вспоминается Санино письмо мне от 12 июня, в котором он сознавался, как меняется его отношение ко мне в зависимости от моего поведения. Стоило мне проявить характер, как желание сделать мне что-то хорошее сменялось полным отчуждением: “Так было, когда развода не дали, так будет, если и сейчас не дадут". Вот и случилось это: не дали. Саня показал, что меня ждало в этом случае.
Прочтя письмо, я ясно почувствовала, что не могу с этим жить. Несовместимы были те оскорбления, которыми было наполнено письмо, и сама жизнь. Что же делать? Вернуть письмо? Увидеться со Светловой и спросить ею, знает ли она, что делает со мной Александр Исаевич? Ведь отныне она — его первая советчица!
На следующий день я выполнила задуманное. Захватив с собой то ужасное письмо, я поехала на машине на дачу Ростроповича. Там меня очень приветливо встретила его младшая дочь Леночка.
— Леночка, позови-ка Наталью Дмитриевну!
Вскоре ко мне вышла... Вишневская. Сказала, что Наталья Дмитриевна придёт, а пока пригласила меня в столовую.
— Наташа, давайте поговорим как женщина с женщиной, — предложила Галина Павловна. — Ну почему вы не даёте развод? Ведь вы же будете самой дорогой гостьей в их семье...
— А вы бы так смогли? — парировала я, — гостьей? Небось сами в подобной ситуации пригрозили, что убьёте себя и детей!..
— У нас была совершенно другая ситуация, — возразила Вишневская.
В этот момент вместо Светловой в комнату вошёл... Александр Исаевич.
— Не верю! С этим нельзя жить! — крикнула я ему, показывая на письмо. И тут же порвала его.
— У меня есть копия, — невозмутимо ответил Александр Исаевич и принялся кричать на меня... Каких только бранных слов, каких эпитетов в свой адрес я не наслышалась! “Удостоилась" сравнения с Софьей Андреевной, с той лишь разницей, что он просто ушёл от меня раньше, чем Толстой. (Было время, когда он сочувствовал Софье Андреевне!).
— Я смотрю на тебя, как на врага! — заключил он.
— Я ничему не верю, — настойчиво повторяла я и, наконец, не выдержав, упала перед ним на колени с мольбой:
— Пощади меня!
— А ты прекрати суды! Зачем ты подала кассационную жалобу?
— А зачем ты подал в суд? Забери свой иск! Разведёмся по-хорошему!
— Чтобы я уступил... КГБ? —загремел Александр Исаевич. — Зачем ты хочешь видеть Наталью Дмитриевну?
— Я хочу стать для неё живым человеком! Я хочу видеть ею из добрых побуждений!
—Ну, раз из добрых... ладно, — смягчился он.
Но тут вмешалась Вишневская:
— Саня, вы с ума сошли. Она разродится!
И эти слова, сказанные посторонним человеком, оказались решающими. Светлову в тот раз я так и не увидела.
Александр Исаевич ушёл первым. Оставшись с Вишневской, я спросила её:
— Как вы могли ее сюда пустить?
— Как? Ведь она с ребёнком!..— бросила Галина Павловна.
— Но разве она была с ребёнком... на улице?..
Вишневская легко забыла, как сама, уже зная о предполагавшемся ребёнке, уговаривала меня не уходить от Сани!
Уходя, я погладила огромного чёрного Кузьку, с радостью принявшего мою ласку.
— Ты помнишь меня? Видишь, как меня растоптали?..
Тут я услышала реплику Вишневской, которую не буду приводить. Мне стыдно за эту женщину, за эту выдающуюся оперную певицу, которая в жизни, а не на сцене, повела себя просто непристойно.
Я ушла предельно униженная. Долго лежала на траве на соседнем пустующем участке, не в силах взятия за руль. Где искать выход?
На следующий день я пошла на приём к Алексеевой. Сказала ей, что Александр Исаевич требует, чтобы я прекратила судебное дело, что он со мной так разговаривал, что я готова на это.
— Как Александр Исаевич не понимает, что прекратить дело может только он?
Алексеева видит, как я расстроена своим свиданием с Александром Исаевичем, видит, что он требует от меня невозможного. Она сама ему об этом скажет! Она должна убедить забрать ею иск, и тогда можно будет разводиться мирно, через ЗАГС.
Алексеева тут же звонит на дачу Ростроповича. Говорит со Светловой (Александр Исаевич отсутствует). Просит передать ему, что звонила Алексеева, что она должна ею видеть и сказать ему нечто важное, что позвонит ещё. Мне же она советует затребовать решение суда, а пока прийти к ней завтра к четырём часам дня.
Я звоню маме и прошу ее зайти в областной суд, попросить решение суда, а я за ним приеду в Рязань через день.
9 августа я в юридической консультации. Алексеевой ещё нет. Жду ее. Наконец приходит. Очень взволнована. Наклонившись ко мне, спрашивает:
— Вы ничего не знаете?..
Я могла только удивлённо пожать плечами.
Алексеева, не задержавшись в консультации, увлекла меня в кафе “Мороженое», которое помещалось напротив. Для вида заказали мороженое. И тут последовал её рассказ, невероятно взволновавший меня.
Вечером того же дня, когда у неё была я, она созвонилась с Александром Исаевичем. Они договорились о встрече на перроне станции Ильинское у второго вагона. Утром она позвонила ему и сообщила, каким поездом выезжает. Но когда вышла на перрон, то вместо Александра Исаевича к ней подошли двое неизвестных и предложили следовать за ними. Ее посадили в машину и повезли на Лубянку, где состоялся долгий разговор.
— Скажите, — прервала она сама себя, — мог ли Александр Исаевич, увидев, что меня увели, не подойти, не вмешаться? А может, он все это сам и подстроил?..
— Последнее исключено, — ответила я, — а не подойти— может быть, и мог.
Алексеевой разъяснили, что она не имеет никакого права видеться с Солженицыным, поскольку является моим адвокатом, т.е. адвокатом противной стороны. (Формально после суда Алексеева не была уже моим адвокатом, но позже адвокат Рабинович подтвердил мне, что по юридической этике она остаётся моим адвокатом навсегда).
Екатерина Борисовна говорила мне, что вела себя храбро, даже дерзко, но все же ей пришлось пережить ужасные часы. Она хотела бы, чтобы Александр Исаевич узнал об этом.
На этот раз уже я полна сочувствия к ней, из-за меня прошедшей через все это. Значит, я должна теперь сделать для неё все, что только могу.
О том, чтобы ехать к Александру Исаевичу после того ужасного нашего последнего свидания не может быть и речи. Следовательно, всё нужно передать ему через кого-то, кто вхож к нему. Предпринимаю две попытки, закончившиеся неудачей: не застаём дома. И Алексеева просит меня отвезти ее к матери Светловой — Екатерине Фердинандовне.
Трудно было бы представить себе что-либо неприятнее этого. Но ведь Алексеева пострадала из-за меня, желая мне помочь... И я иду на это, чтобы дать знать Александру Исаевичу о случившемся.
Мы едем к Елисеевскому магазину, в глубине двора которого помещается квартира Светловых. Номер квартиры мне известен, и я называю его Алексеевой. Мы договариваемся с ней, что я буду ждать в машине.
Проходит час, другой... Волнуюсь я ужасно. Представляется, что Алексееву задержали гэбисты... Но не идти же мне к Светловым! Однако дальше ждать невозможно. И я уезжаю.
Ночую у Татьяны Васильевны. Она, выслушав мой рассказ, тоже заволновалась: что же случилось с Алексеевой?
Утром я позвонила на квартиру, где Алексеева ночует, если остаётся в Москве. К удивлению, и к моей радости, мне зовут Екатерину Борисовну.
— С вами ничего не случилось? — спрашиваю я се.
— Нет.
— Так почему же вы не вышли ко мне вчера вечером? Я ждала вас несколько часов. Волновалась.
— Я вам потом расскажу. Приходите ко мне к концу рабочего дня.
Так я и сделала. Но Алексеевой в консультации не оказалось. А я твёрдо обещала маме, что вечером буду в Рязани. Так и не дождавшись Алексеевой, уехала.
Мама показывает мне определение областного суда. Читаю. Приковывает внимание фраза: “Действительных мотивов расторжения брака народный суд не выяснил. При новом рассмотрении дела народному суду надлежит выяснить действительные мотивы расторжения брака". Но муж не скажет о них, не скажет о том, что его “щельное» положение" вынудило добиваться юридического развода. А для этого надо делать вид, что семьи Солженицына и Решетовской не существует. Надо создать искусственную ситуацию, которая заставит в это поверить. И эта искусственно создаваемая ситуация затягивала, засасывала Александра Исаевича. “Щельное» положение! О нем нельзя было сказать суду. Солженицыну остаётся одно: свалить все с больной головы на здоровую, очернить меня...
Весь этот сумбур крутился в моей голове, когда вечером 11 августа в нашей рязанской квартире раздался телефонный звонок. Трубку взяла мама. По ее взволнованному голосу я поняла, что это звонит Саня, что случилось что-то, связанное с Алексеевой. Я беру из маминых рук телефонную трубку. Мне трудно поверить тому, что я слышу:
— Наташа, я получил от твоей адвокатессы провокационное письмо. Я вынужден ей отвечать. Какое ты имеешь к нему отношение?
— Я не знаю ни о каком письме. Но если ты даже получил такое письмо, то оно не ею написано. Я не верю, чтобы «она могла сама это сделать. Убеждена, что кто-то написал письмо от ее имени!
Я говорю Сане, что завтра еду в “Борзовку “ и прошу, если это настолько серьёзно, приехать его туда тоже к двум часам дня. В понедельник я увижу Александра Исаевича и всё выясню. Александр Исаевич согласился: хорошо, завтра он будет в “Борзовке".
Я собиралась ехать в “Борзовку" вместе с другом нашей семьи Евгенией Николаевной, которая работала прежде в моём институте.
Евгению Николаевну не испугала сложность ситуации. Вес остаётся в силе: она поживёт несколько дней со мной в “Борзовке“, а потом я отвезу ее к ее брату, в Болшево.
Благополучно преодолев расстояние от Рязани до нашей дачи, 260 км, около часу дня мы подъехали к “своему» 82-му километру Киевского шоссе. Увидели стоявшую на обочине шоссе необычную машину, какой-то “драндулет». Посмеялись.
Когда открывала общие ворота, увидела идущую навстречу молодую женщину, чему не придала ровно никакого значения. Не успела снова сесть в машину, чтобы подъехать к своей “Борзовке», как меня окликнула одна из наших дачниц, жившая у самого шоссе. Сказала, что у неё есть для меня письмо и она сейчас принесёт его.
Оказалось, что письмо было от Александра Исаевича! Соседка сказала, что привезла его только что та самая женщина, которая равнодушно прошла мимо меня и моей машины. Приехала женщина на том самом чудном “драндулете“. Так надо задержать ее! Ведь письмо, вероятно, требует ответа!
Я кинулась за ворота. “Драндулет", увы, исчез. Как она могла так поступить? Ведь она не могла не понять, что встретилась со мной. И не поговорила?.. Не подождала ответного письма? Какая чёрствость!
Итак, вместо живого Александра Исаевича — письмо от него. (Из почтового ящика я извлекла ещё и второй экземпляр). Вот почему та женщина мне встретилась! Она бросала второй экземпляр письма в наш ящик! Значит, Александр Исаевич ещё и рассчитал, чтобы его письмо опередило меня, чтобы я не могла передать ему ответ с той женщиной! Новая жестокость!
Вскрываю конверт. Письмо от Сани. Нет, не от Сани — от Солженицына, как свидетельствует венчающая письмо подпись. И тут же письмо от Алексеевой. Вернее, копия того письма. Чудовищного письма!
Даты обоих писем совпадают: 11 августа. Этот день я провела в Рязани. Слава Богу! Имею алиби...
Вероятно, сначала я прочла Санино письмо. Но чтобы лучше его понять, следует начать с письма Алексеевой.
Алексеева писала, что из беседы со мной узнала, что Александр Исаевич поставил условие, согласно которому он в случае моего отказа дать немедленно согласие на расторжение брака обратится в зарубежную печать с сообщением каких-то компрометирующих меня сведений. Дальше Алексеева писала, что по моей просьбе позвонила, желая втроем обсудить этот вопрос и решение его облечь в юридическую форму. Но телефонный разговор ввиду отсутствия Александра Исаевича не состоялся. Однако в тот же день вечером он якобы позвонил ей домой и через соседей передал, что просит к нему приехать. "Если бы Вы разговаривали со мной, то я разъяснила бы Вам, что подобная встреча исключается по ряду профессионально-этических соображений". Из этих же соображений она к Александру Исаевичу на свидание не поехала. Именно это она и передала якобы Александру Исаевичу через Екатерину Фердинандовну Светлову.
По неизвестной мне причине, — продолжала Алексеева или кто-то за неё этот несусветный вздор, — Светлова Екатерина Фердинандовна не поверила истинному и столь естественному моему объяснению и высказала предположение о том, что встрече препятствуют работники органов ГБ.
Алексеева категорически протестовала против того, чтобы ее имя служило Александру Исаевичу помощником в оправдании той “клеветы, которую Вы собираетесь возвести. Моё положение, положение человека, ничем себя не скомпрометировавшего ни в нравственном, ни в политическом смысле, крайне осложнено тем, — писала Алексеева, — что Вы занимаете особое положение и любые Ваши доводы, в связи с этим, даже лживые и непроверенные, принимаются на веру “.
В заключение Алексеева сообщала, что, во избежание недоразумений, вынуждена разослать копии письма некоторым друзьям Александра Исаевича и своим.
Письмо Александра Исаевича мне было, увы, не менее чудовищным.
“Наташа, я посылаю тебе копию письма твоей адвокатши, которое она сделала открытым. Это — провокация КГБ и крупная, на которую придётся отвечать. Не говоря уже о том, что вся она возникла как последствие твоих (? —Н.Р.) действий, ты, если верить Алексеевой, подала ей одну из главных лжей: будто бы я вынуждал у тебя согласие на развод, угрожая “зарубежной печатью".
Мне существенно знать, насколько ты присоединяешься к акции КГБ и Алексеевой. То есть, должен ли я тебя с сего дня считать активно и сознательно участвующей в компании КГБ. Так будет, если ты действительно сообщила ей эту ложь и, если ты не опровергаешь ее бумаги официально теперь. (Что значит в данном случае “официально»? Н.Р.).
На визит к Е.Ф.Светловой, сплошь провокационный и лживо перевёрнутый в письме, по утверждению Алексеевой, привезла ее ты...“
Ах, вот почему он не приехал сам в “Борзовку"! Я подозреваюсь в том, что активно и сознательно учувствую в кампании КГБ. Но как он мог такое вообразить? Кто мог внушить ему это? Я должна возразить немедленно!
Разворачиваю машину, которую даже не успела завести в гараж, и еду. Нет, не в “Сеславино" (болезненно памятна последняя поездка туда!), еду в Наро-Фоминск, откуда мне удаётся поговорить с мужем по телефону, выразить ему своё возмущение тем, что он не приехал в “Борзовку", как обещал и вообразил себе, что я могу быть причастна к письму Алексеевой. Более того, я снова беру под защиту Алексееву. Если это сделала действительно она - значит, ее заставили. Прошу Саню не торопиться с ответом, подождать до понедельника (а была суббота), когда я увижу Алексееву и всё объяснится. После этою я позвоню ему.
Александр Исаевич обещал. Евгения Николаевна уговаривает меня никуда больше не ездить, хоть денёк отдохнуть на даче. Но в воскресенье я просыпаюсь с решением: надо ехать! Надо ехать, не откладывая, к Алексеевой, в Мытищи, где я постараюсь её разыскать (знаю лишь, что живёт она в доме, где помещается военкомат). Но прежде нужно заехать к Александру Исаевичу на случай, если меня заберут. И ещё чего доброго за меня напишут ему какое-нибудь письмо (я жду чего угодно). А что, если меня задержат по дороге, и я не доеду к Ростроповичу? Надо перестраховаться, для чего заехать сначала к Евгении Ивановне Паниной, это близко: пусть она будет в курсе дела!
Александр Исаевич может не захотеть со мной разговаривать. Значит, надо написать ему письмо! У меня сохранилась копия:
“Саня!
Как можешь ты, которого год назад возмущало, что я поверила версии милиции, сам так бездумно им поверить?
Ты обещал приехать и не сделал этого. Я еду сейчас к тебе передать это письмо с риском, что мне так же не дадут этого сделать, как не дали ей с тобой встретиться. Если это удастся, поеду к ней, опять-таки рискуя быть задержанной, узнать (если она на свободе!), знает ли она вообще о существовании того письма, которое ты получил от ее имени, в котором передёрнуты факты".
“Она хотела видеть тебя с единственной целью: уговорить тебя прекратить судебное разбирательство... Ты можешь взять свой иск. Я свою жалобу взять не могу, потому что она уже рассмотрена».
Дальше я проверяю, верно ли Алексеева меня информировала:
“Ты ей звонил? Ты перечислил по телефону три поезда, с которыми можешь се встретить у первой двери второго вагона? Просил, чтобы она позвонила и сказала, с каким приедет? Говорил, что надо повидаться, потому что собирается кое-что предпринять? Утром ты взял трубку телефона, когда она сказала тебе, что приедет первым из трёх поездов?"
А дальше информирую: “Вместо тебя се встретили двое, повели по платформе в противоположную сторону и отвезли на машине туда, куда тебя привезли в феврале 45-го года. Она вела себя храбро, дерзко и мужественно. Я после этого видела ее... Состояние у неё было ужасное. Больше всего ее убивало, что о ней могут то что подумать.
Она поражена была, что ты не вмешался в происходящее, сам пригласив се к себе. Я категорически отвергла ее предположения, что “неужели он (т.е. ты) мог это подстроить? “Так же категорически я отвожу твои обвинения по отношению к ней".
"Не предпринимай ничего до полного выяснения истины, — писала я. — Из-за опасения, что ты сделаешь что-либо непоправимое для неё, я решила не ждать понедельника, а поеду сегодня се разыскивать. У неё 2,5-летняя девочка, у отца которой "другая тётя", как говорит эта крошка. Я никогда не прощу себе, если она погибнет!
Если я завтра не позвоню в 3 часа, как мы условились, значит, уже и со мной что-нибудь случилось. А потом за меня состряпают тебе письмо от меня, и ты поверишь?!
Неужели ты не понимаешь, что при твоём положении нам невозможно обходиться без контактов?
Я ещё раз повторяю, что никогда не стану твоим врагом.
Но это не значит, что я буду тебе покорна".
Я напомнила Сане слова Бобынина из “Круга»: «Вы сильны до тех пор, пока отнимаете у нас не все". А ещё —приводила пословицу: “Когда не возьмёшь лаской — не возьмёшь и силой".
После подписи следовало пояснение: “На посещение ею Е.Ф., которое было очень тяжело для меня морально, я согласилась ради неё (Алексеевой) только после двух неудачных попыток найти путь к тебе, чтобы ты узнал обо всем происшедшем".
Несмотря на сумасшедшую жару, которая стояла в то лето, я одеваю лёгкие сапожки и закладываю письмо за голенище. Едем вместе с Евгенией Николаевной, которая, как мы решили, из Мытищ доберётся в Болшево на электричке. Заехав к Паниной и рассказав ей обо всем, мы без приключений добрались до дачи Ростроповича.
На этот раз меня встретила его старшая дочь Оля. Поцеловались. Я попросила Олю передать Александру Исаевичу письмо. Сказала, что немного подожду, на случай, если он захочет со мной поговорить, но я на этом не настаиваю.
Вернувшись, Оля сказала, что Александр Исаевич сейчас придёт.
И вот мы сидим втроём. Нет, не с Евгенией Николаевной, которая осталась в машине. Разве мне могло прийти в голову, что надо запастись свидетелем? Зато это пришло в голову Александру Исаевичу. И он выбрал в качестве такового... Вишневскую.
Мы беседуем, сидя на скамье под деревом у входа в “Большой дом", как мы ею называли. Я сижу так, что невольно вижу раскрытые окна нашею флигеля, нашего “Сеславина". И во время всего разговора с трудом отрываю от них глаза. Они словно магнит притягивают меня!
Повторяю Сане вопросы, заданные мною в письме. Оказалось, что он не подходил ко второму вагону, а ждал с велосипедом Алексееву у лестницы, возле начала перрона. Он переждал, пока все вышли. Ее не было! Мог ли он не заметить, как ее вели? Возможно... Возможно, вели к противоположной стороне перрона...
Я всячески защищаю Алексееву: она рассказывала мне обо всем по свежим следам, она храбро вела себя на Лубянке, я не допускаю мысли, что это она написала полученное Александром Исаевичем, Чуковской и Светловой письмо; письмо написано от ее имени кем-то другим!.. Я высказываю предположение, что теперь вот и меня могут задержать и написать от моего имени письмо.
— И ты тоже ему поверишь? — вопрошаю я мужа.
Александр Исаевич предлагает мне передать Алексеевой, что он не будет ей отвечать публично лишь в том случае, если она письменно откажется от своего письма. Потом заговорил о другом. Выяснилось, что он тоже взял адвоката, что суд будет вскоре; возможно, его не будет, ибо Александр Исаевич обратился с жалобой в Верховный суд РСФСР. Возвращаясь снова к Алексеевой, он сказал:
— Пусть она выбирает, что ей дороже: карьера или общественное мнение.
С тем я и уехала.
Сначала Рублёво-Успенское шоссе, потом кольцевая, поворот на Ярославское шоссе, а там уж недалеко до Мытищ...
Мне указали дом, в котором помещается военкомат. Показали и квартиру Алексеевой. Ее нет дома, она на чьём-то дне рождения в том же доме. Я прошу позвать мне ее. Жду во дворе.
Вскоре Алексеева подходит ко мне. Вид затравленного зверька. Лицо напряжённое.
— Вы рассказали Александру Исаевичу о том, что меня задержали? — быстро спросила она меня.
— Но ведь вы сами этого хотели? Даже добивались! —поразилась я.
— Я между двух огней, — с надрывом произнесла она.
...Ах, так все-таки это она сама написала письмо! А я так верила в ее невиновность и в том же уверяла Саню!.. Так заступалась за неё! Вышло, что снова проявила наивность.
— Почему вы не вышли тогда ко мне? — спросила я.
— Екатерина Фердинандовна такого мне о вас наговорила...Сказала, что вы — ужасная женщина. Я бы не могла смотреть вам в глаза!..
...Это я-то — ужасная женщина? Я делала для Алексеевой все, о чем она меня просила, считая, что именно из-за меня она попала в трудное положение. И это обернулось против меня же! Светлова-старшая ещё и настроила против меня моего адвоката!..
Говорю Алексеевой, что Александр Исаевич требует от неё письменною отказа от се письма. Говорю, что прежде чем пойти к ней, я должна отвезти на станцию свою спутницу, после чего буду в ее распоряжении. Мы идём к машине. Алексеева садится сзади. Чиркнув спичкой, прикуривает и тут же сует спичку обратно в спичечную коробку. Коробка вспыхивает. Алексеева зажимает ее в руке.
Машина наполнилась густым дымом, а на ладони Екатерины Борисовны образовался огромный пузырь. Боль, конечно, адская. Все же Евгению Николаевну отвезли. И — домой к Алексеевой.
Я узнаю, что у неё взята подписка, что в субботу и воскресенье она не должна выезжать из Мытищ, находясь как бы под домашним арестом.
— Так значит, Александр Исаевич хочет отвечать? —спросила она.
— Да. В том случае, если вы не опровергнете содержания своего письма. Он просил передать вам, что вам придётся выбирать между карьерой и общественным мнением и что в настоящее время общественное мнение — это очень МНОГО.
Алексеева металась по комнате из угла в угол, как загнанный зверь, куря папиросу за папиросой и делая марганцевые примочки.
— Если бы вы знали, как это ужасно, когда с двух сторон вам говорят в уши, грозят...
Наконец, Екатерина Борисовна садится и пишет письмо Александру Исаевичу. Потом протягивает его мне, не предлагая прочесть. Я тут же прячу письмо за голенище сапога. Но вдруг она передумывает: нет, в письме всего не скажешь, к тому же неизвестно, удовлетворит ли оно его, она должна непременно видеть Александра Исаевича лично.
— Но как же это возможно? Вы ведь сказали, что не имеете права выезжать из Мытищ?..
— Я обращусь к своему бывшему мужу. Он — районный прокурор. Может быть, он согласится сопровождать нас...
Она звонит ему, и тот вскоре приходит. Екатерина Борисовна кратко излагает суть дела. В ответ на ее просьбу сопровождать нас он мнётся, хотя и не говорит “нет “.
— Спасибо. Я поняла, — говорит ему Алексеева.
После его ухода она настойчиво просит меня отвезти к Александру Исаевичу. Прокурор не рискнул. Я же, продолжая думать, что Алексеева на встречу с Александром Исаевичем пошла ради меня, соглашаюсь.
Мать Екатерины Борисовны кормит меня яичницей. С утра ничего не ела, а дело идёт уже к вечеру... Мы с Алексеевой выезжаем, готовые к любым неожиданностям. Надежда лишь на то, что по телефону (а уж у Солженицына он непременно прослушивается) мы все время говорили о понедельнике и, таким образом, опережаем события. Никаких моих действий в воскресенье не ждут...
При повороте с кольцевой дороги на Рублёво-Успенское шоссе натыкаемся на кордон. Нас останавливают. Остановлено уже несколько легковых машин. Конечно, первая мысль: ждут нас! Но тут же выясняется, что с четырёх часов сегодняшнего дня в связи с пожарами (в то лето из-за небывалой жары горел торф) выезд машин за город запрещён. Тут вмешивается Алексеева. Говорит: у неё там муж! И нас... пропускают. Но страх не оставляет. А вдруг нас ждут возле дачи Ростроповича? Мы едем уже в полной темноте — хорошо, что мне вес здесь привычно. Я останавливаю машину с таким расчётом, чтобы Алексеева оказалась прямо против калитки, в которую она тут же и нырнула.
Заперев машину, иду к ‘‘Большому дому “. Нас не ждут ни возле дома, как опасались, ни в самом доме. Когда на звонок выходит Вишневская, я говорю ей, что привезла Алексееву. Она проводит нас во вновь отстроенный огромный зал, который в мою бытность начинал строиться, а сама идёт за Александром Исаевичем. Тот, как оказалась, уже лег, (был уже одиннадцатый час). Пришёл хмурый, недовольный, шаркая шлёпанцами по паркету. Сурово сказал:
— Это не было предусмотрено.
Но Алексеева не растерялась: объяснила, что привезла ему письмо.
Все разместились вокруг старинною стола, который казался маленьким в этом огромном зале, где одни только окна были пятиметровой высоты.
Александр Исаевич прочёл письмо. Нет, оно его не удовлетворяет: в нем нет ничего в отношении его якобы угроз мне, если я не дам развода. И он даст Алексеевой 20 минут, чтобы та написала письмо заново. Ушёл, снова шаркая туфлями.
Алексеева сидела, склонившись над чистым листом бумаги и напряжённо думала. А меня Вишневская поила крепким чаем (мне предстояло ехать ещё километров 60 ночными дорогами).
Александр Исаевич пришёл, как обещал, через 20 минут. Прочёл уже другое письмо Алексеевой. Положив его во внутренний карман, сказал, что ничего предпринимать не будет, хотя и не ручается, что Чуковская не сделка со своей стороны какой-нибудь акции.
— Кто бы знал, когда строился этот зал, что в нем будет такое!.. — патетически проговорил Александр Исаевич.
Тут Алексеева, совершенно неожиданно, сказала вдруг Александру Исаевичу, что ей был звонок из госбезопасности, чтобы она взялась за моё дело.
— Вам был звонок из Министерства юстиции, — поправила было её я.
— Да. Но из госбезопасности тоже...
...Так почему же она мне ни пол словом никогда не намекнула на это? И зачем ей было говорить об этом Александру Исаевичу? Чтобы произвести впечатление? Чтобы извиниться, что взялась выступать против него на суде? Не знаю, угодила ли она ему этим признанием, но мне она сделала больно. Она сделала то, чего я опасалась с самого начала нашего знакомства с ней. В какой-то степени она предала меня. Ведь Александр Исаевич, при ею подозрительности, мог подумать, что, не давая развода, я угождаю госбезопасности!
Мы уехали. В пути больше молчали. Помню лишь сказанные Алексеевой слова:
Я поняла, что я для него — не человек, да и другие — тоже.
А была ли я для него человеком?.. Однако я была слишком измучена, напряжена (ночью мы ездить обычно избегали), чтобы затевать с ней полемику. Да и было просто стыдно за неё... Подобное чувство нередко удерживает от того, чтобы сказать в лицо человеку всё то, что о нем думаешь...
Екатерина Борисовна спала на нашей даче чуть ли не до одиннадцати утра следующего дня. Потом я накормила ее, напоила кофе и отвезла на станцию.
Она дала мне последние адвокатские советы: я должна зайти в народный суд познакомиться с нашим делом, переписать всё, что захочу: всё это надо сделать, не откладывая — дело вот-вот уйдёт в Верховный суд.
Я думала, что расстаюсь с Алексеевой навсегда. Но привелось ещё раз встретиться. Сразу после всей этой истории Алексеева получила отпуск, а вернувшись из отпуска, позвонила и попросила прийти к ней на консультацию. Там она рассказала мне, что в ее отсутствие в консультацию пришло письмо на ее имя от Лидии Корнеевны Чуковской (все же кое-что та предприняла!). Письмо это было вскрыто одной сотрудницей, Пименовой. Пожалев Алексееву (письмо Чуковской было очень резким), эта сотрудница ответила ей от своею имени, заступившись за Алексееву. Почему-то именно этот ответ оказался у Алексеевой (черновик?). Читаю письмо, а потом и переписываю, ибо там новый наговор на меня. "...По-моему, то, что Вы называете её (Алексеевой) письмом, является защитной речью, произнесённой на судебном заседании, записанной Решетовской на магнитофон, размноженной на машинке и рассылаемой Решетовской по адресам, только ей знакомым".
Господи! Это надо же все так вывернуть!..
Письма Чуковской Алексеева мне не показала. Знаю лишь, что в этом письме Алексеева была приравнена к Геккерну-Дантесу.
Не совсем понятно, зачем было Алексеевой показывать мне письмо Пименовой. Меня оно могло только расстроить новыми на меня нападками.
Больше я Алексееву не видела. Впрочем, некоторое время спустя она мне позвонила.
К этому времени я уже узнала от Александра Исаевича: все, что только было возможно, Алексеева свалила... на меня! И Александра Исаевича это тогда, увы, не смутило! Таким образом, моё предчувствие, что и Алексеева окажется способной предать меня, полностью оправдалось. Я столько делала для неё (вопреки своему желанию), пряча своё самолюбие, рисковала ради неё, и вот... благодарность.
Звонок от Алексеевой был ко мне в Рязань. Она сказала, что уходит с работы “по собственному желанию.
— Вы знаете, когда это бывает...
У неё надежда только на нас с Александром Исаевичем.
— Как вы можете обращаться ко мне? Ведь Александр Исаевич сказал мне, что в своём письме ему вы все свалили на меня!
Алексеевой ничего не оставалось, как положить трубку.
16 августа я побывала в Рязанском районном суде. Да, с делом я могу познакомиться. Для меня находится стол. И я начинаю сначала просматривать дело, а потом переписывать практически все, кроме, разумеется, своих речей.
Теперь, если Верховный суд отменит решение областного, мы будем автоматически разведены. Ну, а если нет? Если снова будет суд? Согласиться на насильственный развод? Общение после насильственного развода слишком унизительно! Значит, опять придётся бороться.
Все эти мысли обуревали меня, когда я уже на следующий день приехала из Рязани в “Борзовку». Все эти мысли продолжали преследовать меня и на даче, за работой в саду. Как освободиться от этих мыслей в условиях моего полнейшего одиночества? В то лето небывалой солнечной активности продолжались в Подмосковье пожары, горел торф, были человеческие жертвы, частные машины ни в Москву, ни из Москвы без особых к тому оснований не пропускались, и я могла ездить лишь в Наро-Фоминск за продуктами. На “Денисе'’ в Москву ехать было нельзя. И я была как бы отрезана ото всего мира...
Хотелось заняться творчеством. Но мешали все те же мысли. Может быть, начать делать наброски к возможному суду? „ И вдруг внезапно решаю писать письмо... Светловой. Оно было написано 20 августа.
“Наталья Дмитриевна! — начала я.
Я делала попытку увидеть Вас и поговорить с Вами. Мне воспрепятствовали. Не знаю, что Вы думаете о женщине, через несостоявшийся труп которой с такой лёгкостью переступили. Я хотела, чтобы Вы ответили мне на этот вопрос..."
В конце горького моего письма я писала:
“Если развод так уж необходим, так уж неизбежен, то ему должно предшествовать наше взаимное примирение, установление добрых человеческих отношений, признание Вашей и Саниной вины передо мной, а не очернительство меня... Если мой муж не дал Вам прослушать моего слова на втором суде, которое он записал на магнитофон, попросите его сделать это, чтобы хоть как-то попытаться меня понять... О том, что нам с Вами необходимо познакомиться, о том, чтобы Вы по крайней мере написали мне что-либо, я говорю мужу с 18 сентября 70 г. Но — тщетно..."
В конце я сделала приписку: “Если я не получу от Вас ответа на это письмо или Вы не найдёте способа увидеться со мной до следующего суда, я оставлю за собой право зачитать на суде это письмо и приложить его к делу".
Несколько освободившись этим письмом от груза мучивших меня мыслей, я стала восстанавливать свой дневник, а потом принялась за мемуары, стала продолжать главу “Нобелевская премия". Работала в саду. По вечерам, как обычно, включала западное радио.
И вот 27 августа я слушаю по Би-Би-Си и сразу же записываю на магнитофон отзывы на Нобелевскую лекцию Солженицына. Она была напечатана в ежегоднике Шведской академии, вышедшем 25 августа. Магнитная запись начинается со слов: “В этой лекции Солженицын осуждает аморальность и культ насилия в современном мире..."
Магнитофон записывает, а мысли мои разбегаются.
...Как увязать одно с другим? Как согласовать этот солженицынский протест против насилия, царящего в мире, с тем, что сам Солженицын позволяет себе в личной жизни? Разве из того, что люди сочетаются браком при взаимном согласии, не следует, что развод должен происходить при тех же условиях? Требовать развода может лишь тот, кто в чём-то уличает другого, когда этот другой виноват! Я могла бы требовать развода, потому что мне изменил муж. Требование развода с его стороны есть самое настоящее насилие.
“Солженицын критикует безграничное лицемерие Организации Объединённых Наций, — продолжает Би-Би-Си, — для которой стоны, вопли и молитвы простых рядовых людей слишком уж незначительны, как укус комаров".
...Боже мой! А мои стоны? мои вопли? мои молитвы? что они для моею мужа, думающею только о язвах человечества!
После Би-Би-Си слушаю “Голос Америки". Зачитываются выдержки из многих зарубежных газет. Вот что пишет датская газета “Политикен": “Солженицын твёрд в своих убеждениях и обращается к совести мира смело, за пределом угроз, словно святой человек".
...Святой человек... И я должна соглашаться на насильственный развод с человеком, которою готовы зачислить... в святые? Нет, нет и нет! Суд не должен разводить нас. Наше бракоразводное дело отнюдь не судебного характера. Суд должен предложить Солженицыну, если тот считает развод абсолютно неизбежным, уговаривать Решетовскую развестись с ним добровольно, т.е. через ЗАГС!
Я полагала, что публикация Нобелевской лекции явилась для мужа большим праздником. Ведь это было его заветной мечтой! “Дожить бы до нобелевской трибуны — и грянуть, за все то доля изгнанника — не слишком дорогая цена!" — писал Солженицын в “Телёнке". И вот... дожил. И слушает свою лекцию здесь, по радио, у себя на родине, и пока — в относительной безопасности. Ему- не пришлось платить за нобелевскую трибуну той ценой, на которую шёл... Но, как выяснится, Александр Исаевич испытал даже некоторое разочарование. Главу "Нобелиана“ в “Телёнке" он заканчивает так:
“Пресса была довольно шумная, больше недели. Но две неожиданности меня постигли-, показывая неполноту моих предвидений: лекция не вызвала ни шевеления уха у наших, ни —- какого-либо общественного сдвига, осознания на Западе. И там и здесь предпочли не понять".
“Нобелиана“ кончилась, а главный бой — все отлагался и отлагался. Для меня прослушанная и записанная на магнитофон нобелевская лекция сыграла ту роль, что не без дерзости решила именно эту лекцию положить в основу своей будущей судебной речи. С этим настроением и жила, но то работая в “Борзовке", то наведываясь к маме и тётям, то заезжая в Москву.
Ответа от Светловой все не было.
Неприятности у меня продолжались. Я умудрилась получить два прокола от ГАИ. А в середине сентября Маг дал мне понять, что с квартирой на Бакунинской мне придётся ближайшие месяцы расстаться: будто бы та семья, которая должна была пробыть за границей то ли два, то ли три года, возвращается раньше времени. Думаю, что предлог был придуман. Просто я не оправдала возлагавшихся им на меня надежд. Не написала хулы против Александра Исаевича; не устроила громкого скандала в связи с нашим разводом, суды сделала закрытыми, связалась с крамольными "вечевцами"!... Значит, нужно использовать время, пока я ещё москвичка. Прежде всего — повидаться с адвокатом Рабиновичем, посоветоваться относительно разводных дел.
Рабинович даёт мне конкретные советы: следует узнать в Верховном суде РСФСР, находится ли дело у них или отослано в Рязань; но если оно ещё здесь, то можно пойти на приём к заместителю председателя суда по гражданским делам Сергеевой. Мой разговор с Сергеевой может дать свои результаты. (Мы уже знали, что Александр Исаевич побывал на приёме у председателя суда Смирнова, после чего дело и было затребовано из Рязани). Кроме того, Рабинович советует мне запастись, в свою очередь, адвокатом. Адвоката Солженицына Кузнецову Рабинович знает и ничего хорошею он в этом для меня не видит. Мне нужен сильный адвокат, и он предлагает мне обратиться к Каллистратовой. Случай наш необычный, он может ее заинтересовать...
Я, действительно, сделала эту попытку. Дождавшись своей очереди, спросила Каллистратову, может ли она взяться за бракоразводное дело. Не знаю почему, но что-то подсказало ей, с кем она имеет дело.
— Это... не рязанское дело? — спросила она.
— Да, рязанское.
— Нет, я за него не возьмусь.
— Вы не думайте: я совсем не враг ему...
— Не в том дело. Я не являюсь адвокатом другой стороны, но я давала консультацию.
...Ах, вот оно что! Вот кто помог моему мужу составить исковое заявление. А ведь я не раз слышала: кто помог ему так умно написать его? Это “взаимное отчуждение» и прочее! Вот кто — Каллистратова! Будучи адвокатом по политическим делам, как могла она не пойти навстречу такому политическому борцу, каким является Солженицын... Так что адвоката я не приобрела. А вот на приём к Сергеевой попала. Но тут вмешалось ещё одно обстоятельство. Буквально в те же дни я получила ответ от Светловой, который уже перестала ждать. Как позже выяснилось, Александр Исаевич не давал ей моею письма сначала из-за близости родов, потом — пока не оправится после них (23 сентября родился Игнат).
В письме было всего несколько строк, но нельзя было не заметить, как ловко Светлова уходит от ответственности: “...От встречи с Вами я не отказывалась никогда...“Верно ли я поступаю что настаиваю на встрече с ней? Вероятно, у неё хватит изворотливости отбить любое моё обвинение! А я окажусь беспомощной из-за своей бесхитростности! Но отступать поздно, да и не к чему. И я отвечаю ей. Прошу самой выбрать место встречи и провести ее наедине.
Накануне моею визита к Сергеевой, 16 октября, в окошке “до востребования" писем на моё имя не оказалось. Что сулит мне встреча со Светловой — неизвестно. Ее сухое короткое письмо не вселяло надежд. Надо идти в Верховный суд к Сергеевой. Завтра — вторник, ее последний перед отпуском приёмный день.
Кроме своих судебных речей, я приготовила для Сергеевой специальное заявление.
Мне кажется, что в этом заявлении я наиболее чётко выразила своё отношение к нашему бракоразводному процессу. Процитирую.
“Наше дело лишь по видимости является обычным бракоразводным делом. Мой муж, истец по данному делу, утверждает, что он до сих пор не получил развода из-за своего особого положения. Я же настаиваю на том, что само его предложение о разводе и тем более обращение в суд о насильственном разводе со мной вызвано именно его совершенно особым положением! Я в данном случае являюсь единственной жертвой этого его особого положения". И в заключение; “Муж должен найти другой, достойный путь разрешения нашей трагедии. Я прошу указать ему на это".
Я вошла к Сергеевой возбуждённая, раскрасневшаяся, говорила горячо. Я как-то сразу поняла, что передо мной не просто представительница высокой судебной инстанции, но ещё и женщина, интересная и способная, как казалось, меня чисто по-женски понять.
— Зачем он вам? Вы ещё такая молодая, интересная! —попыталась Сергеева изменить ход моих мыслей.
Но я сумела убедить ее в том, что посвятила ему всю жизнь. Говорила немного, но, по-видимому, убедительно. Даже не читая того, что я положила перед ней, Сергеева сказала мне;
— Я ничего вам не обещаю, но постараюсь сделать всевозможное, чтобы ваше достоинство не было ущемлено.
Я ушла от Сергеевой окрыленная. Сергеева оказалась настоящей женщиной — способной понять другую женщину, способной на женскую солидарность, столь, увы, редкую в наше время.
После суда я зашла на Центральный телеграф, чтобы в окошке “до востребования" спросить, нет ли для меня корреспонденции, Мне подали конверт, на котором адрес был написан чётким деловым почерком... Светлова удивлялась, что я предложила обсуждать в отсутствие А.И. вопросы, «близко его касающиеся". И в подтверждение — приписка Александра Исаевича; “Познакомить вас я намерен сам. Не нахожу места удобнее, как та маленькая комнатка, где мы встречались год назад.,.“ — т.е. там, где решался вопрос о том, как разводиться. Это ж надо, чтоб так совпало!
Когда я 18 октября приехала в условленное место, Александр Исаевич и Светлова были уже там. Мне Светлова в первое мгновение показалась совсем не похожей на ту, какой я ее себе представляла, на ту, которая написала мне короткое сухое письмо, взвешивая каждое своё слово. Я увидела перед собой девочку с чёлкой, на лице которой я не нашла ни надменности, ни самоуверенности. Вид ее как-то сразу разоружил меня, и я безотчётно, неожиданно для себя самой, дружелюбно протянула ей руку.
Мы разговаривали, сидя за столом в маленькой отгороженной комнате без окон, при электрическом свете.
Разговор начала я. Начала с того, что вспомнила рассказ Александра Исаевича, который он называл двояко; “Корова или “Живое существо". В нем он осуждал людей за то, что они в корове не видели живого существа.
— Так вот и я для вас не была живым существом. Думали ли вы когда-нибудь обо мне? — спросила я Светлову.
- Да. Думала. И я молюсь за Вас. Ну вот ведь я разошлась со своим мужем и осталась с ним в хороших отношениях. Я думала, что так же будет у вас...
— Но ведь у вас общий ребёнок! В этом было оправдание ваших последующих отношений! У меня этого нет. После насильственного развода любые отношения с Александром Исаевичем для меня унизительны...
Я снова заговорила о том, что ещё два года назад хотела познакомиться со Светловой.
— Я и тогда не возражала, — ответила она.
— Значит, возражал Александр Исаевич. Но письмо-то вы могли мне написать?
— Мне трудно было писать незнакомому человеку.
Ни одно моё замечание или упрёк не застали Светлову врасплох. На все у неё был готов ответ.
— Я ради него детей бросила...
— Ради него? Не ради себя?
— Ради любви к нему.
— Значит, и ради себя.
Ещё:
— Вы скрытно от меня помогали ему...
— А разве вы всех его помощниц знали?
По-видимому, я сказала, что на Александра Исаевича худо повлияла слава. Светлова возразила:
— Я не видела человека, на которого бы так не подействовала слава, как на Александра Исаевича.
(Будто она знала его до славы!).
Светлова говорила о том, что все лето 71-го года Александр Исаевич колебался, разводиться со мной или нет.
— Если бы вы знали, как он колебался! Как он страдал! Он кровью изошёл. Но тут пришли и рассказали...
И, конечно же, не рассказали, а оговорили!
Дальше последовали упрёки за то, чего я не говорила на самом деле. Так, например, якобы я говорила, что мы снова соединимся с Александром Исаевичем и вытребуем у неё ребёнка.
— Я никогда этого не говорила! — возмутилась я.
— Я проверю, — спокойно сказала Светлова.
— Я вам верю, а вы мне... нет?
Я не удержалась и сказала, как мне невыносимо, что она переступила порог “сеславинского" флигеля.
— К вашим вещам я не прикасалась, — возразила Светлова. — Моя вина перед вами велика, но не в этом.
Вмешался Александр Исаевич. Упрёк за упрёком, упрёк за упрёком... То, что я предъявила на суде две страницы из его письма ко мне, он назвал доносом. (Там была ссылка на его “щельное" положение).
Наконец, обращаясь к Светловой, он сказал командным голосом:
— Пойдём кормить ребёнка!
— Я впервые научился, как надо разговаривать с женой, — бросил он мне. (Вот тут завидовать было нечему) ...
Александр Исаевич поднялся и первым вышел из комнаты. Светлова задержалась. Медленно приближаясь к двери, она трижды произнесла:
— Наталья Алексеевна, простите меня. Наталья Алексеевна, простите меня. Наталья Алексеевна, простите меня! Пусть придёт возмездие.
— Зачем же возмездие? — возразила я. — Искупите же как-то свою вину!
Я поехала к себе на Бакунинскую в тяжелейшем настроении. Каков же итог свидания? Ясно одно: мой образ искажён! Мне приписываются поступки, которых я не совершала, а действительные мои поступки истолковываются ложно. Неужели я напрасно добивалась этой встречи? Чувство приниженности, безнадёжности, безвыходности, опустошённости наполняло меня. Могла ли я чем-нибудь заняться в тот день? Не помню. Видеть никого не хотелось...
Однако на следующее утро я проснулась с другим настроением. Ведь она попросила у меня прощения! Это — главное. Я дам развод. Я сделаю это!
Я тут же составила заявление в Верховный суд на имя той самой Сергеевой, у которой была два дня назад и которой была понята. Поймёт ли она меня теперь?
В своём заявлении я давала согласие на развод в связи с тем, что у Светловой родился второй ребёнок от моего мужа, из сочувствия к ней, и просила отменить решение областного суда со ссылкой на моё заявление, а не как неверное, по существу. Затем я написала Светловой.
“Произойди все это раньше (наша встреча. — Н.Р.), — писала я, — не было бы этих кошмарных двух лет“.
В ближайшей от меня нотариальной конторе я заверила свою подпись как на заявлении в Верховный суд РСФСР, так и на копии, которую я предназначала для Светловой.
Пожилой интеллигентный заведующий конторой, извинившись, спросил меня, почему я даю своё согласие. Я ответила: “Она попросила у меня прощения".
I1S
Я сделала все так, как решила: по двум адресам отправлены заказные письма. На душе хорошо. Чувство некоторого освобождения от длительного кошмара.
Близится то время, когда я должна покинуть Москву. Моя в чем-то авантюрная жизнь кончилась. Собираюсь. Упаковываюсь. Меня поторапливают: Маг прислал одного своего молодого сотрудника, который предложил мне помощь в погрузке вещей. Не отказалась, багаж набирался довольно солидный.
Так все и произошло. А молодому сотруднику я передала для Мага хорошенький заварной чайничек, на крышке которого помещался точно такой же, совсем миниатюрный. Во весь чайник была изображена роза — это было моё прощание с “кавалером роз“...
Как бы не накануне отъезда я получила ответ от Светловой. Увы, он разочаровал меня. Она писала, что мои письмо и заявление написаны очень по-разному и что она отвечает на письмо. Пройти мимо заявления? Не отозваться на него?.. Не понять и не отозваться на тот душевный переворот, который произошёл во мне? Не оценить моей жертвы?.. И — чеканное: “Искренне радуюсь тому, что Вы, по-видимому, оставляете путь, сопровождающийся тяжёлыми, быть может, необратимыми душевными потерями.
...Как можно было не понять, что она сама до нашего свидания, до своей просьбы о прощении, не открывала передо мной иного пути, кроме того, каким я шла? Да полноте, заслуживала ли она той жертвы, которую я приносила?
28 октября я приехала в Рязань с вещами. Мамина блудная дочь вернулась под родной кров. Но... недолго оставалось маме радоваться этому.
Мы с мамой делаем небольшие приобретения: столик под магнитофон, шкаф под телевизор, который пришлось перенести из комнаты наших старушек в нашу с Саней большую комнату. Это пришлось сделать потому, что старшая моя тётя, которой шёл уже 95-й год, слегла. А тетя Маня превратилась в сиделку возле неё.
У меня по-прежнему никакой тяги к телевизору не было, а для мамы он был неким окном в мир, наряду со «Спидолой».
Постепенно настраиваюсь на серьёзную работу здесь, в Рязани. Глава “Война» полностью написана и почти вся перепечатана, частично наговорена на магнитофон. Все это нужно заканчивать.
Переселившись в Рязань, я сообщила об этом своим друзьям и добрым знакомым. Особенно был обрадован Николай Иванович Зубов: рад и за меня, и, особенно, за маму. Николай Иванович отозвался также на высланные мною ему некоторое время тому назад мои “вечевские“ главы. И вот он, который раньше так отговаривал меня от писания мемуаров, настроен теперь совсем иначе. Пишет:
“Как хорошо, что у Вас намечена такая большая программа; работы хватит надолго, а мастерство письма у Вас уже отточено».
Большим достоинством прочитанных глав Зубов считает их документальность. Он оценил вставленные в повествование цитаты из писем (“особенно из писем корифеев вроде Чуковского, Маршака, Твардовского“), а также “уместно вставленный ответ, почему зэк показан глазами интеллигента“. “Это документальность, это неоспоримо", — заключил он.
Письмо Николая Ивановича Зубова воодушевило меня. Значит, труд мой будет оценён, будет полезен!..
Прошло меньше месяца, как я заточила себя в Рязани, когда доктор, которою вызвали к маме (ей нездоровилось), сказала мне, что нащупала у мамы опухоль.
Консультация у онколога. Направление в онкодиспансер.
Перед тем, как ехать в онкодиспансер, я предложила маме прокатиться по только что отстроенному красавцу-мосту через Оку. Новый мост был построен взамен понтонного, к нему идёт большая дамба, так что круглый год теперь можно будет пересекать Оку. Мой муж теперь уже не мог бы на время паводка скрываться в Солотче, как это бывало когда-то! Мост красиво изгибался, радуя глаз. Особенно хорош вид, когда возвращаешься в Рязань: одновременно виден и собор на набережной реки Трубеж. Только вот при каких печальных обстоятельствах любовались мы с мамой этой красотой!..
Впрочем, заведующая отделением Елена Алексеевна меня обнадёжила — мы сделаем вашей маме операцию, и все будет хорошо; ваша мама такая живая, такая жизнеспособная — все перенесёт... И маму тут же госпитализировали. Снова преградил дорогу нашей семье “раковый корпус». Он помещался, как и ташкентский, описанный мужем, недалеко от кладбища. Сравнительно недалеко был он и от нашего дома, я ходила туда пешком.
И7-
Увы, опухоль была признана злокачественной. Но что было самым страшным — уже дала метастазы. Операция бесполезна. Можно было лишь замедлить распространение метастазов. Я молила врачей продлить маме жизнь. Мне казалось, что я не переживу ее смерти...
Проведывала я маму ежедневно и проводила с ней по многу часов. Мама была первое время любимицей всей палаты. Ведь она была прекрасной рассказчицей, любила рассказывать эпизоды своей юности, а особенно — детства. В палате лежали простые люди, в основном из деревни. Но мама, никогда не кичившаяся своей интеллигентностью, легко нашла путь к их душам.
— Мария Константиновна, ты такая красивая, почему же второй раз замуж не вышла? — спрашивали ее.
— Да все женатые попадались. Одна жена даже грозилась облить серной кислотой и меня и дочку, — приоткрылась мама и для меня тоже. Что моё поколение, что ее —были обездолены. И там — война, революция, гражданская война унесли многих мужчин.
Тем временем Александр Исаевич, узнавший от наших общих знакомых о тяжёлом состоянии тёти Нины, прислал маме сочувственное письмо по этому поводу, выразив готовность помочь, а самой маме пожелал здоровья. Мне пришлось ответить вместо мамы. Моё сообщение о болезни мамы встревожило его, он прислал письмо и ей и мне, а позже прислал для мамы мумие (тогда это было внове).
Онкологи не возражали, и я стала давать маме мумие, хотя приходилось готовить себя к мысли, что ничто уже маму не спасёт. Но мы с мамой продолжали игру в надежду на выздоровление. Я даже ежедневно закапывала ей в глаза, чтобы приостановить развитие катаракты. Но надежд на улучшение маминого состояния становилось все меньше. Елена Алексеевна честно сказала мне, что если им и удастся на время улучшить его, то мама все же навсегда останется тяжело больным человеком. Она считает, что я должна подумать о себе, о том, как быть с тётями — ведь я не потяну... Надо подумать о пансионате для престарелых. И я понемногу начала наводить через знакомых справки о таких домах в пределах Рязанской области, на всякий случай.
Метастазы расползлись по маминому телу. Подозревали рак поджелудочной железы (этот диагноз подтвердился).
Время от времени я звонила Сане в Москву. И мы решили, что ему нужно приехать повидаться с мамой, быть может, проститься.
К этому времени стало известно, что Верховный суд РСФСР, невзирая на моё последнее заявление, где я выражала согласие на развод, не отменил решения кассационного суда, а передал дело в народный суд Октябрьского района на новое рассмотрение. О каком суде сейчас могла идти речь?.. Я зашла туда как-то, объяснила, что у меня смертельно больная мама и попросила суд отложить.
Александр Исаевич приехал в Рязань 14 декабря. Я встретила его с машиной на станции, как это бывало в старое доброе время. Сразу же повезла его в онкодиспансер, где о его посещении были предупреждены. В диспансере он был встречен с почетом. Его пригласили в кабинет заведующей отделением, где собрались все врачи.
Ему сказали, что мама практически безнадёжна, хотя они делают для неё все от них зависящее. Страшного конца не избежать. Но они, по возможности, облегчат его.
Потом Саня долго разговаривал с мамой. Я оставила их вдвоём...
Когда мы с ним вышли из диспансера, он был серьёзен, со мной мягок.
— Не поведу же я тебя сейчас в суд, — сказал он. —Хотя мой адвокат и готова вести две машины свидетелей моей другой семьи.
И следом осторожно сказал:
— Может быть, попробуем подать заявление в ЗАГС?
Мама так хотела, чтобы у нас все мирно разрешилось, она жила последние месяцы! И мы поехали с Саней в ЗАГС, где у нас на сей раз заявление приняли. Назначили день, когда развод будет оформлен — ровно через три месяца, 15 марта.
После этого Александр Исаевич и вовсе был со мной миролюбив. Спросил, не забрала ли я из Верховного суда своею заявления: в деле его нет! Нет, не забирала.
Ещё он сказал, что в “Нью-Йорк таймс“ напечатана статья, в которой пишется, что у него две жены, две машины и две квартиры.
— Да? Забавно! — заметила я.
— Тебе... забавно? — грустно удивился он.
— А что? Разве это не так?
Я сказала Сане, что мамин доктор советует мне поместить тётушек в дом престарелых. И он принял это, как неизбежное.
— Да, конечно. Слишком много упало на твои плечи. Благословляю тебя! Не слушай никого, кто будет тебя порицать.
Расстались дружелюбно.
Мне стали приходить сочувственные письма от друзей, которым я написала о маме. Более всех огорчился Леонид Александрович Самутин, большой мамин друг.
“Что же такое происходит вокруг Вашего дома? Чем заслужены эти беспощадные удары? — спрашивал он. — Но я знаю только, что в жизни человека иногда наступают времена, когда ему приходится невольно и неотвратимо отказаться ото всего своего, каким бы важным для него не было это “своё“, и заполнить всю свою жизнь до отказа другой бедой, другой болью, которая встаёт рядом и отвести ее никто не может... То мужество и та стойкость, которые вы являли в те годы, когда с Вашей помощью и опорой совершалось становление великого дарования, теперь снова нужны, только в многократно увеличенной степени».
Так действительно все и произошло. Все мысли были только о маме: как ей помочь, как облегчить ее страдания... “Какая я счастливая, — говорила мне мама, — ты исполняешь каждое моё желание». “Как хорошо, что ты прокатила меня по новому мосту!" — не раз говорила она.
Самутин писал в заключение: “...И молиться надо только об одном — чтобы не тянулись долго эти страдания, и чтобы надежда на выздоровление не покидала нашу милую, дорогую и любимую Марию Константиновну до конца".
А Ольга Юрьевна Зведре, наша общая с Александром Исаевичем знакомая, жившая в Риге, предложила приехать, чтобы помочь. Поколебавшись немного, я приняла ее предложение.
Ольга Юрьевна приехала к нам в конце декабря, и я практически совсем переселилась в онко диспансер, где мне выделили койку рядом с мамой. Домой я приходила лишь обедать, да и то не всегда: съедала мамину порцию, ибо мама получала питание уже только через капельницу.
Возле мамы крепилась, не плакала. Волю слезам давала, когда шла по улице, да на груди Ольги Юрьевны. Мысленно со мной были ещё две моих сотрудницы по институту: Ираида Гавриловна и Евгения Николаевна. Делилась с ними, больше по телефону, малейшими изменениями в мамином состоянии. Мало-помалу я начала понимать, что только смерть избавит маму от мук. Мама так ослабла, что не могла уже говорить много. Голос стал тихим и все же рассказывала мне что-нибудь из своей жизни.
Никогда я раньше так не любила маму, как в ту пору. Она превратилась для меня в ребёнка. Какой там седуксен, без которого я не жила много месяцев! Я о нем забыла и думать. Ведь я должна была подходить к маме по ее малейшему зову. Поправить подушку, приложить прохладную грелку к отёкшей ноге, дать глоток минеральной воды —было для меня единственной отрадой в то тяжёлое время.
У нас дома все разладилось. Свалилась тётя Маня с высокой температурой. Признали нервную экзему. На руках у Ольги Юрьевны оказались двое лежачих больных, за которыми она ухаживала с величайшим терпением.
Мне было невыносимо, что я не могу выплакать своего горя на груди у мужа, что он не делит со мной моих страданий. В один из вечеров, сидя рядом с уснувшей мамой, я написала ему об этом. Александр Исаевич постарался меня в письме как-то утешить. Но моё горе не стало от этого разделённым...
Вместо того Саня предлагал мне поговорить с мамой откровенно, обсудить, как она хочет, чтобы ее похоронили, по православному ли обряду?.. “...C какого-то момента надо же бросить общепринятое ложное утешительство..."
Как похоронить маму, я уже для себя решила. Решила, что хоронить маму будем по-христиански, по православному обряду.
Однажды, позвонив к нам домой, Александр Исаевич был очень удивлён, что разговаривает с Ольгой Юрьевной. Значит, не все наши общие друзья прильнули к нему со Светловой! От Ольги Юрьевны Саня узнал, что у тёти Мани экзема. Он тут же пришёл на помощь: прислал для тёти Мани лекарство, которое ей помогло.
22 января мама впала в забытьё. А 23 января в половине четвёртого дня умерла.
По странному совпадению в этот день к нам домой на рязанский адрес пришла бумага из суда о том, что наше дело о разводе прекращено. Мама, увы, не успела порадоваться…
Не знаю, поймут ли меня: смерть мамы я перенесла легче, чем ее мучительное умирание.
У меня была необыкновенная мама, и теперь все мысли мои были о том, как проводить ее в другой мир так, чтобы это было достойно ее, всю жизнь самоотверженно отдававшую себя другим. Нужно достать живые цветы, нужно сделать ее портрет, нужно, чтобы была траурная музыка, нужен венок от нас двоих: от меня и от Сани.
Позвонив Сане, послав несколько телеграмм, я в тот же вечер развернула фотоуголок и отпечатала фотографии мамы с того снимка, который был сделан ее зятем под новый счастливый 58-й год: мама читает новогодние поздравления. Сделала фотографий столько, чтобы можно было дарить всем, кто захочет сохранить их на память о маме. Сделала и увеличенный снимок, который я вставлю в чёрную рамку и повешу на стену. Мне было необходимо, закрывшись ото всех, быть в тот вечер вдвоём с мамой, видеть снова и снова проявляющимся лицо, будто она воскресала для меня...
Похороны пришлось назначить на 27 января, хотя это и совпадало с именинами тёти Нины.
Поначалу за рулём машины сидел Слава. Но потом я поняла, что мне за рулём будет легче: вождение отвлекало. И я сама села за руль.
Слесарь, которого мама всегда выручала, давая ему в долг, помог мне добиться, чтобы маму похоронили не на новом дальнем кладбище, а на Скорбященском, что было недалеко от нашего дома и совсем рядом с онкологическим диспансером. На том кладбище была и Скорбященская церковь, в которой можно было совершить отпевание. И мамин гроб можно будет не везти, а нести на руках.
Из траурной музыки я остановилась на трио Чайковского “Памяти великою художника», переписала его с пластинки на магнитофон “Сони", который можно будет взять с собой на кладбище. А на другую сторону записала из “Страстей по Матфею" Баха.
Саня приехал 26-го января. Меня в это время дома не было: я ездила с сыном Ираиды Гавриловны и моим бывшим студентом Мишей за нарциссами, которые выращивались в теплице одного из рязанских колхозов, за 30 км от города.
Когда вернулись домой с цветами, мне открыл дверь Саня.
— Поедем в Солотчу, за сосновыми ветками, — сразу же предложила я ему. — Я туда еду сейчас, со слесарем.
— Как ты можешь? — вырвалось у него.
— Неужели ты не понимаешь, что становится легче, когда можешь действовать? Ведь ты обрёк меня на самое страшное — на бездействие!
Нет, он ехать не в состоянии, устал. И я поехала вдвоём со слесарем. Мы заполнили сосновыми ветками весь багажник машины.
Кроме Сани, никто из родных не приехал хоронить маму, прислали телеграммы.
Александр Исаевич собрался было пойти куда-нибудь переночевать. Но удалось уговорить его остаться. Я спала с тётями, на маминой постели, в нашей большой комнате —Ольга Юрьевна, а он — в своём зелёненьком кабинете, где последний раз жил осенью 69-ю года, работая над главами о Ленине, и где его настигло исключение из Союза писателей.
На следующее утро, когда я в кухне готовила завтрак, туда вошёл Саня. Именно Саня, а не Александр Исаевич... По лицу ею текли слезы.
— Давай простим друг другу все то плохое, что мы сделали, — сказал он, приблизившись ко мне. Мы поцеловались.
— Да, много было злого, много было злого, теперь надо думать, как исправлять его, — сокрушённо говорил он.
Передо мной был мой Саня — тот, который мог обижать, но мог и каяться, и просить прощения. Он снова был самим собой...
Морг. Отпевание в церкви. Кладбище. Саня вместе со Славой, Мишей, ещё одним моим студентом, одним другом семьи, слесарем несли гроб. За ними шли близкие нашей семье люди — Евгения Николаевна, Анна Петровна (мать Наташи Радугиной), Зинаида Петровна (о ней речь пойдёт впереди), две моих лаборантки (одна из них несла магнитофон со звучащей музыкой) и женщина, лежавшая вместе с мамой в онкодиспансере, успевшая к ней привязаться.
И вот мы уже стоим у свежею холмика, забросанного сосновыми ветками. Сверху венок: “Дорогой мамочке от Наташи и Сани“. Цветы. Звучит траурная музыка.
Ольга Юрьевна на похоронах не была. Вместе с Ираидой Гавриловной она готовилась к поминкам. Те, кто хотел, поехали к нам домой.
В нашей большой комнате был накрыт стол. Телевизор завешен. На нем — карточка мамы в молодости. А портрет, только что мною отпечатанный, висит над старинным письменным столиком, на котором разложены вещи, бывшие с мамой в ее последние дни. Портрет убран сосновыми ветками. Под ним — раскидистый букет нарциссов. Рядом, на маленьком высоком столике — проигрыватель, на который я ставила пластинки с негромкой, печальной, строгой музыкой. Над ним — фотография: мы с Саней, наша «вторая весна»... Ведь мама жила для нас и нами...
Александр Исаевич был мил со всеми, очень благодарил всех, кто мне помог в это тяжёлое время. А потом, предупредив меня и условившись, что мы увидимся, когда я приеду в Москву, не простившись ни с кем, скрылся: "ушёл по-английски"
Наступили тихие траурные дни. Мамин уголок я не разбирала, телевизор оставался завешенным, радио не слушала, потянуло написать тем, кто близко к сердцу принимал мои переживания, кто знал или слышал о моей маме. Получила сочувственные письма. Вернулась к творчеству. Глава "Война" была мною уже закончена. Взялась продолжать "Нобелевскую премию". И писала ее до конца февраля, когда неожиданные события отвлекли меня.
Съездила в Москву, созвонилась с Саней. Он приехал на Казанский вокзал меня проводить. У меня была надежда, что он возьмёт с собой Ермолая, которому уже было к тому времени более двух лет. Но он приехал один.
Я попросила, чтобы он приехал как-нибудь в Рязань: надо о многом поговорить. Нет, в Рязань он приедет только 15 марта. Все обсуждать будем после развода.
Ко мне в вагон зашёл муж Нины Наумовой, Иван Иванович, чтобы передать мне что-то от неё. Из вагона они вышли вместе с Александром Исаевичем.
— О чем, ты думаешь, Саня говорил с Иваном Ивановичем? — спросила у меня Нина позже. — Он просил поблагодарить меня за тебя.
...Как все это совместить в одном человеке?
С горьким чувством возвратилась я в Рязань. Пока были заботы о маме — я не думала о себе. А сейчас снова почувствовала всю трагичность нашей с Саней истории, всю безнадёжность своего будущего. Работа над "Нобелевской премией" не уводила меня от этих переживаний, скорее наоборот. Делюсь этим в письмах с друзьями. Мне советуют общение с новыми знакомыми. И я, действительно, приобретаю новых друзей. Так, в этот период произошло моё сближение с Зинаидой Петровной Невской, вскоре мы даже станем с ней на "ты"... Общение с друзьями — это много, очень много. Но разве может оно восполнить общение с тем, кто заслонил для тебя собою весь мир?
В конце концов это привело к тому, что я снова написала Сане и Светловой. Ее я просила не молиться обо мне, а подумать, как искупить свою вину передо мной, как обернуть ее мне во благо. А в письме к Александру Исаевичу я снова упорно прошу увидеться с ним до 15 марта, пока мы — муж и жена. Мы до развода должны утвердиться в тех отношениях, которые сохранятся между нами до конца дней. Я просила Саню, чтобы они помогли мне переступить тот порог (развод), за которым я ничего в своей жизни не вижу.
А тут произошло вот ещё что. В один из вечеров мы с Евгенией Николаевной стали разбирать мамины бумаги и обнаружили среди них мамин дневник.
Оставшись одна, я его открыла. Слезы залили моё лицо с первых же строчек. Ведь мама никогда не жаловалась, никогда ни в чём не упрекала! И вдруг на меня разом обрушилось ее многолетнее страдание, а лейтмотивом часто повторяющиеся слова: "Лишь бы Наташа была счастлива! «Наши длительные отлучки без писем и телеграмм (Саня всегда боялся слежки и потому наши адреса не должны были быть известны!). Мама писала, что все готова вынести, и мою жестокость и Санину, "лишь бы Наташа была счастлива". А когда на счастье дочери надежды уже не осталось, что теперь? Страдание, одно только страдание! “Что там Наташа?", "как моя Наташа?"
Вероятно, если бы мама умерла при других обстоятельствах, готовилась к смерти — она бы уничтожила этот дневник. Но он остался. Остался, чтобы быть мне вечным укором,,.
Дневник мама начала вести в 64-м году, а потому там не было ничего о более ранних ее переживаниях. А ведь само наше вторичное соединение с Саней тяжело далось маме: она потеряла страстно полюбившегося ей Борю, который называл ее “бабушкой".
Как мы с Саней заставляли маму страдать!
Все эти мысли буквально разрывали меня. Я не удержалась и излила всю горечь свою в письме к Сане. Я написала ему, что нам с ним нет прощения, что мы убили маму.
...Как воспримет он этот тяжёлый упрёк? Поймёт ли? Разделит ли со мной муки совести? Будущее покажет, что не поймёт и не простит меня. Но пока я этого не знаю, я поделилась с ним своими планами: после маминого сорокового дня хочу съездить в Москву и Ленинград. Идя мне навстречу, он даже согласился увидеться 5 марта на квартире у Татьяны Васильевны, где я предполагала остановиться.
Благожелательный тон Александра Исаевича дал мне . повод подумать, что он не рассердился на меня за мои письма. (Увы, я ошибалась, он просто их ещё не получил!).
Я подумала, что Саня понял муки моей совести и, может статься, в чём-то разделил их...
Не получи Саня моих писем вообще и не случись ещё одного события, может быть, 15 марта и в самом деле началась более для меня спокойная жизнь, забрезжил бы какой-то свет... Но судьбе не было этого угодно.
26 февраля, в день моего рождения, в “Нью-Йорк таймс“ была опубликована статья, имеющая к нам прямое отношение. По “Голосу Америки» были переданы комментарии к ней. Узнала я об этом лишь на следующий день от одной зашедшей ко мне знакомой. По ее словам, говорилось о финансовом положении Александра Исаевича, о нашем бракоразводном процессе.
Я встрепенулась. Нет, видно от жизни мне не укрыться в своей рязанской квартирке. Я достала “Спидолу», которую не слушала все это траурное время, достала магнитофон “Сони“. Вдруг да повторят?..
В шесть часов я включила “Спидолу». Вскоре пришлось включить запись, ибо стали передавать то самое, о чём говорила мне знакомая. Сначала напомнили, что в своё время в газете “Нью-Йорк тайме» была опубликована обширная статья комментатора Агенства печати Новости Семена Владимирова о финансовом положении Солженицына... Не об этой ли статье речь? И сразу — подтверждение. “Владимиров писал, — слушала я, — что в распоряжении Солженицына три автомашины и три жилых помещения: у первой его жены Решетовской (я впервые услышала свою фамилию произнесённой по западному радио), у второй жены Светловой и, кроме того, основательный двухэтажный дом с гаражом и садом у города Наро-Фоминска. 26 февраля эта же газета опубликовала статью “В защиту Солженицына**.
...Но кто же защитник? И тотчас слышу: автор статьи — Жорес Медведев. Жорес Медведев опровергает информацию, данную “Нью-Йорк тайме» Семёном Владимировым. Сначала опровержение касалось нашей “Борзовки». Медведев сопроводил статью собственным снимком нашей дачки, показывающим, что она никак не укладывается в понятие “двухэтажный основательный дом“. Что верно, то верно! Может, нет оснований для беспокойства? Ведь Жорес Александрович был нашим общим другом! Сколько его писем, и адресованных лично мне, неизменно заканчивались одними тем же: “Ваш Жорес Медведев». Надо думать, он проявит достаточный такт и тогда, когда коснется нашей личной жизни... Увы! Медведев утверждал, что якобы наш бракоразводный процесс длится три года. Учёному-геронтологу здесь явно изменила память: процесс длится всего полтора года! Выходило так, что не я противилась разводу, а само государство! Далее нельзя было ударить меня больнее, как подчеркнув то, что наш брак был бездетен (“обычно бракоразводные дела бездетных семей не доходят до Верховного суда»). И ещё шла речь о материальной поддержке меня Солженицыным: “Солженицын ещё шире поддерживает Решетовскую; так, например, он отказался от раздела общего имущества пополам (какого имущества? Холодильника? Стиральной машины? Пианино “Лира», указанных в исковом заявлении?), взяв себе лишь один письменный стол —подарок одного почитателя.
...Имущество, доллары... Как все это несущественно! Существенно совсем другое! Как можно говорить или думать о вещах, когда дело идёт о загубленной жизни?.. Как можно было в столь небрежном тоне говорить о нашей тяжёлой драме?...
На следующее утро я проснулась с твёрдым решением возражать как Семёну Владимирову, так и Жоресу Медведеву. Все свои мысли тотчас же перенесла на бумагу. Главным было следующее. “Я возражаю как Владимирову, таки Медведеву, возражаю всем и каждому, кто полагает, что семейная трагедия Солженицына и Решетовской, Глеба и Нади Нержиных (так мы названы в романе “В круге первом“) может быть разрешена торговой сделкой! Я возражаю всем, кто пытается подменить моральную ответственность Солженицына за его поступки материальной ответственностью, в чём бы она не выражалась: в поддержке оставляемой жены или в половинном разделе ею состояния. Никакие даже миллионы не в состоянии компенсировать потери веры в человека» который был для меня самым дорогим, самым лучшим на земле“.
А в заключение: “О том, как протекала наша трагедия, у меня написано на многих страницах. Если наша история будет освещаться в печати в искажённом виде, я вынуждена буду опубликовать их...“
Как переправить написанное в “Нью-Йорк таймс “? Вспомнила о Зинаиде Петровне Невской, владеющей английским языком. Попрошу ее написать адрес на конверте.
И вот она у меня. Без каких бы ни было пояснений я прошу ее прослушать записанное мною накануне на плёнку. И только после этого спрашиваю:
— Что бы вы делали на моем месте?
— Отвечала бы, — не задумываясь, говорит Зинаида Петровна.
И я даю ей написанное мной. Оценила.
Адрес на конверте подписан. Можно посылать. Но... стоит ли? Напечатают ли? Какое-то там брюзжание оставленной жены!.. Положат под сукно, и все тут. Я решаю поступить иначе. Диалог начат был в “Нью-Йорк таймс“ агентством печати Новости. Следовательно, единственный надёжный путь в “Нью-Йорк таймс“ лежит через АПН! В обращении в АПН я не видела ничего предосудительного. В этом учреждении работает жена покойного друга Александра Исаевича Георгия Тенно, которому он доверял как самому себе. Она и раньше там работала. Более того, мы с Александром Исаевичем как-то заходили к ней на работу, на Пушкинскую площадь, и Александр Исаевич не видел в этом ничего зазорного. Впервые порог АПН я переступила с ним. Так послужит же мне это оправданием!
Еду на Центральный переговорный пункт. В толстом справочнике московских телефонов нахожу телефон коммутатора АПН и заказываю срочный разговор. Потом прошу соединить с отделом, ведающим американской прессой.
Говорю с Махотиным. Представляюсь. Спрашиваю, в курсе ли он той полемики, которая ведётся вокруг Солженицына на страницах “Нью-Йорк таймс» между Семёном Владимировым и Жоресом Медведевым. О статье Семена Владимирова Махотин знает, а о статье Жореса Медведева- нет. Я поясняю, что слышала об этой статье по западному радио. Говорю о своём желании вмешаться в эту дискуссию. Прошу прислать ко мне корреспондента.
— У вас есть телефон? — спрашивает Махотин. — Мы подумаем.
На следующий день Махотин позвонил мне и спросил, не передумала ли я. Нет, не передумала. В таком случае у меня 2 марта будет корреспондент.
2 марта под вечер ко мне приехали двое. Представились: Старшинов, Рогачёв.
Тут же, в передней, пока они раздеваются, я спрашиваю, слышали ли они комментарии к статье Жореса Медведева. Нет, не слышали.
— Вы же здесь, в Рязани, в более выгодных условиях...— намекает Старшинов на то, что в Рязани меньше, чем в Москве, глушат западное радио.
Эта, казалось бы, столь незначительная фраза мне сказала много. Значит, ко мне приехали не казённые ортодоксы, приехали люди, с которыми можно разговаривать свободно.
Пригласив посетителей в комнату, я включила магнитофон с комментариями к статье Жореса Медведева. Лишь после того, как они прослушали комментарии, я предложила им сесть на диван, а сама расположилась за своим письменным столиком.
— Вы разрешите так с вами разговаривать? — спросил Старшинов, вынув магнитофон и поместив его на столе.
— Пожалуйста, — сказала я, — только будем разговаривать с двумя магнитофонами, — и поставила рядом с его магнитофоном свой.
Началось моё первое в жизни интервью. Я попросила корреспондентов отойти от их обычного стандарта и, прежде чем говорить со мной — выслушать приготовленное мной письмо в “Нью-Йорк таймс“. Я пояснила при этом, что затрагиваю не материальную, а моральную сторону.
Они согласились.
Слушали очень внимательно. Потом Старшинов сказал:
— Это производит очень сильное впечатление.
Оба одобрили мою постановку вопроса: перевод из материального плана в моральный.
Они считают, что, если дать только моё заявление, зарубежному читателю не все будет понятно. К заявлению нужен развёрнутый комментарий. Надо показать, что мною движет не обида, а багаж прожитою вместе, то участие, которое я принимала во всей предыдущей деятельности Солженицына.
Я даю своим посетителям прослушать свою речь на первом суде, отрывки из речи на втором. Ведь в своих речах я старалась выделять главное!
— Я хочу сказать Наталье Алексеевне комплимент, —говорит Рогачёв. — Вот я прослушал ее речь и у меня создалось впечатление, что Наталья Алексеевна оказывала большую помощь Александру Исаевичу в его работе. У неё есть “литературная жилка», как у нас говорят. У меня многие вопросы отпали сами собой.
— Относительно того, что я помогала Александру Исаевичу в работе, то, возможно, как раз наоборот: я позаимствовала что-то от него, когда общалась с ним, печатала ему...
Я предлагаю не расширять мою заметку, а наряду с ней дать ещё и моё интервью, в котором я отвечу на интересующие их вопросы. Мне дают понять, что решение зависит не только от них.
Дальше я отвечала на задаваемые мне вопросы. Защитила Александра Исаевича в связи с финансовой стороной; действительно, у него нет советских денег, а пользоваться одними сертификатами как-то неудобно.
Речь зашла и о моих литературных опусах. Корреспонденты спрашивают, не могла бы я дать им что-нибудь для ознакомления. Я вручила им те две главы, которые уже были напечатаны в “Вече“.
Заговорили о том, как и когда согласовать со мной окончательный текст заметки для “Нью-Йорк таймс". И тут я допустила оплошность. Вместо того, чтобы пригласить корреспондентов ещё раз приехать ко мне домой, где я чувствовала себя хозяйкой положения, я поделилась своим намерением быть на днях в Москве, и мы условились, что 5 марта я приду к ним на Пушкинскую площадь. Срок для составления окончательного текста мал, но ведь я заинтересована в том, чтобы моя статья в “Нью-Йорк таймс“ вышла до нашего развода 15 марта!
3 марта я отметила мамин сороковой день, а 4 марта утренним поездом выехала в Москву. Еду к Татьяне Васильевне, у которой должна на следующий день встретиться с Саней, как договорились.. Татьяна Васильевна согласилась взять на себя нелёгкую роль третейского судьи.
Я возбуждена в связи со статьёй Жореса Медведева и моим возможным ответом. Татьяне Васильевне не совсем понятно, что уж такого оскорбительного увидела я в статье Медведева. Пытаясь доказать ей, что меня оскорбило, я возбуждаюсь ещё больше.
— Вам нельзя завтра видеться с Александром Исаевичем, — убеждённо говорит Татьяна Васильевна.
У Татьяны Васильевны меня ждало письмо от Александра Исаевича — ответ на моё первое из двух, написанных за последнее время. В нем — отклик на мою просьбу помочь мне увидеть свет по ту сторону барьера, то есть после развода. Саня пишет, что я не должна требовать от него “ложных заверений» (но почему “ложных"?). “Добрые отношения надо тихо, терпеливо строить на опыте, а не договариваться и ставить подписи, — писал мне Саня. — И вот тебе естественный первый опыт: “Борзовка". Как нам научиться пользоваться ее добром, не ущемляя другою, признавая: ты — мои принципы, а я —твои. И вот об этом мы действительно должны с тобой уговориться, придумать при встрече. И вот в такой форме, постепенно, может начать восстанавливаться что-то доброе. Я верю, что при взаимной истинно-доброй воле это вполне возможно".
О, Боже мой! Снова впереди меня ждёт экзамен: опыт летней “Борзовки"! Стало ясно: сохранение хороших отношений с Александром Исаевичем после развода дастся мне ценой одного лишь унижения.
Так что Санино письмо не успокоило, скорее наоборот. Значит, надо звонить ему и откладывать встречу.
Дозвонилась. И что же я слышу?
— Это... Наталья Алексеевна? Я получил от вас письмо...
Наталья Алексеевна, вы... Это было настолько нелепо, что я даже рассмеялась в первую минуту. Но Саня продолжал:
— Вы назвали меня убийцей вашей матери. Письмо шло больше одиннадцати дней. Ясно, что его читали в КГБ.
— Я написала, что мы убили маму, а не ты! — возразила я.
— Вы отказываетесь идти в ЗАГС? — спросил Саня.
— Нет, не отказываюсь. Но встречу нашу прошу перенести на 14 марта, то есть накануне назначенного дня развода. Здесь, у Татьяны Васильевны.
Вот какой был телефонный разговор у меня с Александром Исаевичем. И это за день до того, как я должна была пойти в АПН для окончательного согласования текста статьи для “Нью-Йорк таймс". Прямо скажем, вряд ли такой разговор мог способствовать тому, чтобы я щадила своего мужа!
Здание АПН на Пушкинской площади. Меня встречали.
И вот я уже сижу за низким столиком в отдельном кабинете в обществе все тех же Старшинова и Рогачёва. Ведущим снова выступает Старшинов. Он кладёт передо мной отпечатанные листы. У меня темнеет в глазах, когда читаю название: “Солженицын: игра черными и белыми». (Выражение, отчасти выхваченное из моей речи на втором суде).
— Но ведь я просила подать это скромно! — пытаюсь протестовать.
— Можно изменить — “Солженицын: игра белыми и черными".
Я попала в чужой монастырь и не чувствовала былой уверенности. Вместо того, чтобы настаивать на своём, я стала лишь отбиваться от чрезмерностей, от несвойственных мне фраз и выражений.
В результате моих замечаний текст был значительно изменён. Заново отпечатан. И я его подписала. Ещё раз напомнила свою просьбу: статья должна увидеть свет до 15 марта.
— Наталья Алексеевна, — обратился ко мне Старшинов, — ваше положение жены, не дающей развода, на Западе выглядит гораздо сильнее.
— Я дала слово и сдержу его, — ответила я.
В тот же день я уехала в Ленинград. Главной целью моей поездки было просить Леонида Александровича Самутина, так любившего мою маму, перенести на фотоплёнку мамин архив, а заодно ещё некоторые материалы. Я и остановилась в тот раз у Самутиных, очень тепло и радушно меня принявших. Конечно, мы не только занимались фотографиями, но и мною разговаривали. Говорили о маме, о ее тяжёлой судьбе, о последних днях се. Рассказала я и о своём обращении в АПН в связи со статьёй Жореса Медведева. Самутин прочёл и мой первоначальный текст, и тот, что был видоизменен апээновцами. Мои действия посчитал правильными. Ничего худого во втором варианте текста не нашёл. Возможно, потому, что очень порицал Александра Исаевича и считал, что тот вполне заслуживает подобной отповеди.
По вечерам мы слушали “Голос Америки". 11 марта услышали под рубрикой “Продолжение полемики о финансовом положении Солженицына" следующее: первая жена Солженицына, Наталья Решетовская, отвечает Медведеву, называя его старым другом семьи и обвиняя в короткой памяти. Значит, апээновцы сдержали слово, статья вышла до развода. (Как выяснится, она вышла 9 марта. И вышла она под изменённым и более удачным заголовком — “Таковы друзья Солженицына"). Услышал ли об этом мой муж? Не повлияет ли это на его решение? Это был мой последний шанс...
В Москве я снова остановилась у Татьяны Васильевны. 14 марта мы с ней ждём Александра Исаевича, который немного запаздывает. Но вот — звонок. Встречает его Татьяна Васильевна.
Раздевшись, Александр Исаевич молча входит вместе с Татьяной Васильевной в комнату.
— Александр Исаевич, — спрашивает его Татьяна Васильевна, — вы почему не здороваетесь с Натальей Алексеевной?
Ответа не последовало. Сердится все за то же? Или узнал о моей статье в “Нью-Йорк таймс"?.. Оказалось — все за то же.
После небольшой перепалки начался деловой разговор. О даче. О валюте... Одним словом, в полном соответствии с тем, что я порицала в своей статье.
Александр Исаевич даёт мне в незапечатанном конверте письмо к его адвокату о переводе мне причитающихся шведских крон. Договариваемся о “Борзовке“. Александр Исаевич написал, а затем тут же отпечатал наши взаимные обязательства относительно “Борзовки", вступающие в силу в момент развода через ЗАГС. В документе этом Александр Исаевич признавал “пожизненные равные права Натальи Алексеевны Решетовской на пользование “Борзовкой“. Полностью все права на участок Александр Исаевич обязывался передать мне с 1 октября 1975 года. Договор этот, занявший целую страницу, был скреплён тремя подписями.
Александр Исаевич постепенно смягчился, как это всегда бывало при наших встречах. Даже пошёл навстречу моему желанию получить от него заявление в правление садового кооператива о передаче мне участка с осени 1975 года. Более того: напечатал его в трёх экземплярах. Один должен был остаться у него, другой — у Татьяны Васильевны, третий предназначался мне и должен был быть мне вручён в обмен на бумажку о разводе. В этом заявлении был абзац, предусматривающий досрочную передачу мне участка при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.
Я призналась Александру Исаевичу в том, что сделала очень серьёзный шаг: ответила Медведеву на страницах “Нью-Йорк таймс". Показать текст отказалась до того, как он уйдёт из Москвы. (Мне нужна была реакция его собственная, а не его нынешнего окружения). Предложила ехать в Рязань в тот же день, со мною вместе (у меня было взято два билета на вечерний поезд). Вот в поезде и прочтет! Нет, он не может ехать сегодня, приедет в Рязань завтра.
Под конец Александр Исаевич пообещал мне, что после ЗАГСа мы сходим с ним на мамину могилку, зайдём к тётям.
15 марта, перед тем как ехать в ЗАГС, я села перепечатывать специально для Александра Исаевича текст своей статьи в “Нью-Йорк таймс", мой ему прощальный подарок. Отпечатав, сделала надпись, на которую вдохновил меня заголовок (тогда я ещё не знала, что он изменён):
“Александру Солженицыну, моему вечному возлюбленному, моему бело-чёрному королю, который долго-долго видел во мне белую королеву, а потом она почудилась ему пешечкой, и он с досадой смахнул её с шахматной доски своей жизни (и без того хватит фигур, чтобы выиграть!) —мой первый автограф". За этим следовали подпись и дата.
Когда я приехала в ЗАГС, Александр Исаевич уже ждал меня. Я сразу же вручила ему свой прощальный подарок и попросила прочесть до того, как мы поставим свои подписи. — Нет, сначала разведёмся.
Заведующая ЗАГСом, перед тем как дать нам расписаться, спросила, нет ли у нас каких-либо неразрешённых вопросов. Мы оба ответили, что таковых нет. (Знать бы мне, как поведёт себя Александр Исаевич после развода! Попросила бы заявление о "Борзовке".
Потом мы сидели в удобных креслах в вестибюле. Александр Исаевич читал мою статью. Поднялся. Мы вышли. Тут же, у дверей ЗАГСа, он высказал своё крайнее возмущение статьёй.
— Я же сказала тебе вчера, что ответила Жоресу.
— Я не думал, что это так серьёзно! Когда-нибудь ты глубоко раскаешься в том, что ты сделала. Не так я думал с тобой разводиться! — бросил Александр Исаевич не то с досадой, не то с разочарованием.
— Ну, а как же с заявлением? — напомнила я.
В таком виде, как оно написано, заявления он мне не отдаст. Нужно переиначить второй абзац. Изменённый текст он отдаст Татьяне Васильевне.
Александр Исаевич сказал, что ему слишком тяжело и что он не пойдёт со мной никуда: ни на кладбище, ни к тётям. Я не успела опомниться, как он поспешил к подходящему троллейбусу.
— Это сделала не любовь моя к тебе, — крикнула я ему, —а моё женское достоинство!
Итак, получилось, что я своей статьёй в “Нью-Йорк таймс" хлопнула дверью, подобно тому, как это сделал Александр Исаевич своим “Открытым письмом" после исключения его из Союза писателей. Что-то будет?.. Вероятно, если бы была жива мама, я бы пожалела ее и не сделала этого. Но мамы не было и мне некого было жалеть, кроме самого Сани, которому я наносила удар. Но я не могла иначе, этим поступком я выходила из своего униженного состояния.
Я снова в Москве. Выяснилось, что Александр Исаевич попросту забрал у Татьяны Васильевны ее экземпляр заявления, не заменив его ничем другим. Как это могло случиться? И что Александр Исаевич мог наговорить Татьяне Васильевне, чтобы та пренебрегла своей ролью третейского судьи!.. И ещё ждало меня у Татьяны Васильевны совершенно бредовое письмо от Александра Исаевича:
“Наталья Алексеевна! Поскольку своим письмом в АПН Вы открыто и очень эффективно соединились с моими врагами, обладающими бесконтрольной властью, я не могу доверить Вам хранение документа, предусматривающего внесрочную передачу Вам земельного участка при разных вариантах моей гибели: появляется слишком лёгкая возможность такой момент ускорить и использовать! (??? —Н.Р.)
Что это? Непорядочность или чудовищное заблуждение и связанный с ним страх за свою жизнь? Какая нелепость!
Татьяна Васильевна смущена. Обещает написать Александру Исаевичу просить возобновить заявление о передаче мне “Борзовки" в том виде, в каком он сочтёт возможным. Я прошу передать от меня Александру Исаевичу, что в ближайшее время смогу-обойтись без “Борзовки": ведь тёти мои беспомощны, я не могу их надолго оставлять, а дело с их устройством в интернат пока не движется.
Вечер я провела в семье Петра Самойловича Рабиновича. Рассказываю ему обо всем, что произошло в последнее время. Конечно, его интересует текст моей статьи в том виде, как она напечатана в “Нью-Йорк таймс". И вдруг он мне указывает на то, на что никто мне не указывал и на что я сама внимания не обратила. Там, где обыгрывается старинный письменный стол, подаренный “одним почитателем“, есть такие слова: “...Но Александру Солженицыну ещё предстоит начать жить, да и писать за этим столом по-правде".
Этими словами я как бы зачёркиваю его творчество... Как же быть? Статья напечатана. Надо сделать так, чтобы статья эта не увидела света у нас в стране! И я составляю письмо директору АПН. Тут же отпечатываю его. Пишу о своём несогласии с окончательным текстом статьи, которую подписала, находясь в подавленном состоянии в связи с предстоящим разводом. “...Оно не соответствует ни тем взаимоотношениям, которые были у меня с Александром Солженицыным, ни моей уважительной оценке его творчества в целом. Поэтому я категорически возражаю против передачи Вами для опубликования в советской прессе дополненного и изменённого сотрудниками АПН текста заявления, хотя и подписанного мною".
Нужно торопиться! И на следующее утро я еду в АПН и отдаю в экспедицию письмо.
Полная уверенность в своей правоте поколеблена. С этим чувством уезжаю в Рязань.
У меня разыгрался грипп, с температурой. Но я даже рада, что физический недуг на время как-то затуманил мою голову. Именно в этом состоянии застала меня приехавшая из Москвы Светлана.
— Что вы наделали? Вы себя погубили! — воскликнула она, показывая мне ксерокопию статьи из “Нью-Йорк таймс" вместе с нашей общей с Александром Исаевичем фотографией лета 69-го года
Моя посетительница в ужасе, что я показала свою осведомлённость в валютных делах и тем нейтрализовала моральную сторону статьи.
— Но она не появится. Я передала в АПН письмо директору.
— Покажите мне его!
Я не успела опомниться, как последовало:
— Дайте мне его! Этим вы себя спасёте!
Так и было сделано.
Мучимая бессонницей, я поздним вечером 28 марта слушала “Голос Америки". Магнитофон, как всегда в этих случаях, был со мной рядом. И вдруг в передаче “После полуночи" передали мой...отступ. На этот раз реакция была куда более оживлённой, чем на мою статью.
“Решетовская отметила, что сделанное ею заявление расходится с текстом, напечатанным АПН. Версия АПН не соответствует по сути ее жизни с писателем и противоречит ее чувству глубокого уважения к его творчеству".
“Решетовская заявила, что она ошибочно одобрила окончательный текст своего заявления, находясь в чрезвычайно подавленном состоянии в связи с разводом, который был утверждён совсем недавно".
Боже мой! Кто теперь захочет иметь со мной дело? Своей статьёй я оттолкнула от себя Александра Исаевича, своим частичным отказом от неё — апээновцев! И я как-то внутренне сжалась. Немного мучила совесть и в отношении апээновцев. Ведь они пошли мне навстречу, не только напечатали меня, но напечатали быстро, как я просила! А я вроде бы отплатила им неблагодарностью. В душе я разделила с ними вину. Виновата я, но виноваты и они, что не предложили мне подумать над окончательным текстом. Написать им?.. Позвонить?..
Но 8 апреля мне самой позвонил Вячеслав Сергеевич Рогачёв. Он сказал мне, что был в командировке и ничего не знал о той шумихе, что поднята на Западе: Решетовскаяи АПН, АПН и Решетовская... Напомнил о басне Крылова «Слон и моська", с явным намёком.
Я начала было оправдываться. Виновата в этой шумихе не только я, АПН тоже. Рогачёв перебивает меня: никакой дискуссии ни со мной, ни с прессой они на эту тему вести не собираются. Пусть шумят, сколько хотят! Они на эту шумиху внимания не обращают. Рогачёв говорит, что чисто по-человечески он может меня понять... А дальше о мемуарах: продолжаю ли я писать?
Я высказала сомнение, что редактирование мемуаров тоже может привести к такой же несогласованности. Нет уж, возразил Рогачёв, надо будет редактировать так, чтобы все было согласовано между нами до конца. Он обещает позвонить или навестить меня в конце мая, чтобы поговорить об издании мемуаров.
Итак, вопрос о печатании моих мемуаров становится на твёрдую почву и требует серьёзного к себе отношения. С чего я начну — я хорошо представляю: “Когда началась война, нашему супружеству было немногим более года“.
Хочу ли я этого? Да, хочу. Очень уж много неправды накручено вокруг нашей с Александром Исаевичем жизни.
Между тем от Татьяны Васильевны я узнаю, что Александр Исаевич отказался возобновить заявление о передаче мне “Борзовки» с осени 1975-го года. И ещё он написал Татьяне Васильевне, что “не принимает от меня жертвы и предоставляет на весь летний сезон “Борзовку» мне, а сам будет лишь изредка приезжать для хозяйственных работ, без ночёвки.
Господи, да неужто и вправду боится жить на нашей дачке? Какой абсурд! Свою первую в новом сезоне поездку в “Борзовку» я наметила, конечно же, на наш с Саней день— 27 апреля. Еду в “Борзовку» не одна, еду с Зинаидой Петровной или попросту с Инной: мы перешли на “ты». Погода нам благоприятствовала и переезд из Рязани на дачу получился приятным. Остановились возле села Семеновского, самого любимого на том пути нашего с Саней места, фотографировались.
Среди дня — в "Борзовке». Сознаюсь: хотя Александр Исаевич и предоставил мне дачу на весь сезон, во мне все же теплилась надежда, что он уже побывал здесь, как это было в прошлые годы. Нет, на участке нет никаких признаков его пребывания, ни одной вскопанной грядки. Не был. И так будет все лето?...
Погуляли по участку, посидели на скамье под ореховым деревом. Инне все очень здесь нравится. Но скоро пошёл дождик. Да так, что шёл почти без перерыва все двое суток, которые Инна пробыла со мной. Топили печку, невесело разговаривали. Когда дождь переставал, возились с Инной на участке. Цветы уже вылезали из земли, и мы их рассаживали.
Напитав землю, дождь прекратился. С упоительным воздухом ко мне пришли физические силы и, оставшись одна, я много возилась на участке. Природа постепенно оживала.
Прожила я в тот раз в “Борзовке» с неделю. Саня не показывался. Все же, уезжая, я оставила ему хозяйственную записку, а также письмо, в котором выражала удивление по поводу того, что он вообразил, будто я хочу его гибели. Мне не верилось, что он не заглянет в “Борзовку», которую так любил. И я не ошиблась. Когда я приехала туда в следующий раз, то первое, что я увидела, войдя в дом, было блюдечко с крашеными яичками и с запиской: “Христос воскрес!». Были и хозяйственные записки (даже с обращением “Наташа“). А в нашем “киноящике» (железной коробке из-под киноплёнки, которую мы приспособили для хозяйственных нужд), я нашла письмо, которое читать было очень горько. Там было грозное напоминание, чтобы я не забывала, что своим письмом в “Нью-Йорк таймс» я переступила ... бездну. Неужели я действительно была так уж виновата? Но почему Саня не думает о том, что вынудило меня на этот шаг?
Просыпающаяся природа все же сумела меня как-то утешить, создать хотя бы относительное душевное равновесие. Весна в “Борзовке» — это тишина (соседи съезжались только по выходным дням), это соловьи, это кукушка, которая то замолкала, то принималась опять за своё. Весна в “Борзовке» — это золотые красавцы нарциссы, это разноликие тюльпаны, и часто даже накануне не предугадаешь, какого цвета тюльпан распустится завтра: жёлтого ли, розового ли, красного или фиолетового. Выйдешь утром на крылечко, а они приветствуют тебя, и ты — не одна на свете. Я больше всего люблю смотреть на тюльпаны против света. Тогда они кажутся особенно нежными, напоминают светящиеся разноцветные фонарики. ...Вот наступает пора одуванчиков. Весь участок — сплошной жёлтый ковёр. Но это ненадолго. Надо спешить запечатлеть это! И я делаю фотоснимок, сидя на скамейке под орехом: на переднем плане — белые нарциссы, за ними — жёлтое поле одуванчиков, а в глубине — наш милый домик, направо от которого — зазеленевшая лиственница, семь лет назад посаженная Саней. Когда приезжаешь на дачу, то прежде, чем подойти к крыльцу, обязательно проходишь мимо этой лиственницы; остановишься в се прохладной тени и поводишь по лицу пушистыми веточками — кажется, что это ласкают меня Санины руки, когда-то ее посадившие.
А дальше наступает царство люпинов: синие, белые, розовые свечи... На одном из сделанных снимков — ярко-розовые люпины, а вдали — “писательский столик» и рядом две молодые ещё ёлочки, тоже посаженные Саней. На столике — два камушка, которыми Александр Исаевич cnacaл от порывов ветра свои рабочие листы. И все это так дивно освещено закатными лучами. Наш участок особенно xopoш в предвечернее время, когда он буквально преображается в косых лучах заходящего солнца. Длинные тени, золотистый отсвет на всем...
Следом за люпинами распускаются фиолетовые ирисы, и я тоже снимаю их. Я снимаю даже небо с причудливыми облаками.
Как-то пошла с фотоаппаратом на нашу большую поляну, о которой Александр Исаевич любил говорить, что она “ничуть не хуже Ясной». Сняла поляну, которую венчала раскидистая ива, тогда ещё не срубленная.
Мой “Денис-2" и фотоаппарат — мои друзья. Машина помогает преодолевать расстояния, связывает Рязань, где тёти, и “Борзовку", где меня ждёт прекрасное в природе, а фотоаппарат позволяет запечатлевать ею. Остановись, мгновение!..
Как-то отец Всеволод сказал, в ответ на мою жалобу, что мне некого теперь больше любить: не обязательно любить кого-то, можно любить и что-то — цветы, свой дом, свою комнату... И вот я, лишившись всех своих любимых и не приобретя никого взамен, всю свою потребность в любви обратила на “Борзовку". К тому же это было и Саниным любимым местом на земле! Приезжая туда после отлучки, я неизменно говорила: “Здравствуй, Санечка!" С крылечка— первый общий взгляд на участок, и всегда он казался в чём-то новым, в чем-то неожиданным, так что сердце замирало при виде этой обновлённой красоты.
А когда оставалась на дачке совсем одна, то незримо ощущала Санино присутствие. Отрадно было что-то сделать, на что упадёт его взгляд и что его порадует. Пройду по тем же половицам, по дорожкам, по которым ходил он; надену ту же курточку, сяду за тот же столик, и передо мной будет тот же вид, которым любовался Саня. В “Борзовке" я неизменно жила пусть и не с ним, но с его душой... И если Саня в тот май продолжал гневаться на меня за статью в “Нью-Йорк таймс", то у меня на душе наступило некоторое умиротворение.
В двадцатых числах мая о себе напомнило Агентство печати Новости. У меня состоялась встреча с В.С.Рогачевым. Он сказал мне, что две моих главы читались в издательстве АПН, что они признаны написанными литературно, но редактор мне все же нужен. Я попросила редактора-женщину. Заговорила с Вячеславом Сергеевичем о том, каким образом в “Нью-Йорк таймс“ попала наша с Александром Исаевичем фотография. Но ведь она уже была напечатана на Западе! Разве я этого не знаю?
— Где?
— В “Штерне". Вы не видели?
— Нет.
Рогачёв пообещал мне достать журнал.
Злополучную фотографию я в своё время посылала Ирине Ивановне. Вот, значит, как она оказалась на Западе!..
Вскоре я получила ноябрьский номер журнала “Штерн" за 1971 год. Более всего меня сразила подпись под фотографией. В ней говорилось, что я вернулась к Александру Исаевичу “тогда, когда он стал знаменит". То есть зачёркивались целых шесть лет, все годы нашего “тихого житья», столь плодотворные для писателя Солженицына! А Александр Исаевич, наверное, видел этот номер "Штерна», видел эту надпись и, давая интервью... промолчал... Где же тут сохраниться моему душевному равновесию? От него не осталось и следа. Становилось совершенно очевидно, что мне надо, обязательно надо публиковать свои мемуары! Надо лжи противопоставить правду!
Как не вовремя получила я этот “Штерн»! Какую злую шутку сыграла со мной судьба! Ведь все это случилось перед самой нашей встречей с Саней — первой встречей после развода.
2 июня был хороший тёплый день. Я работала на огороде, когда, поднявшись от земли, увидела Александра Исаевича с рюкзаком за спиной. Лицо ею было мягким, приветливым. “Нельзя было быть миролюбивее, чем я приехал в этот раз», — напишет мне Саня об этой нашей встрече, коря меня за то, что я-то была в тот день очень далека от миролюбия.
На мои упрёки, что он не заступился за меня в интервью, в котором отвечал “Штерну", он оправдывался так:
— Я не мог тогда за тебя заступиться. Был готов приказ о моей высылке. Мы боялись, что нас разлучат.
И я, следовательно, снова должна была быть принесена в жертву...
Следующая наша встреча, через неделю, протекала в несколько другой тональности. После того как я выговорилась, была спокойнее. А Александр Исаевич, по-видимому, все же призадумался над тем, что я ему говорила. Во всяком случае, к тому разговору он сам вернулся, хотя и весьма своеобразно.
— Тебя устроит... посмертная реабилитация? — спросил меня Саня. — Когда я умру, выйдет моя биография, и там о тебе будет сказано.
— Посмертная? — удивилась я.— Нет, не устроит. Раз ты отказываешься защищать меня, я займусь своей реабилитацией сама.
Ещё Александр Исаевич с некоторым смущением протянул мне ксерокопию заметки из швейцарской газеты “Нойе цюрихер цайтунг» от 14 мая. Объяснил, что попросил своего швейцарского адвоката дать “Разъяснение» в ответ намою “угрозу» напечатать отдельные главы своих мемуаров, о что я писала в статье, опубликованной в “Нью-Йорк таймс“.
— Я сделал это сгоряча, сейчас, может быть, и не сделал бы, — сказал он. — Но раз уж дело сделано, теперь мой адвокат неукоснительно следит за тем, чтобы оно выполнялось.
Что же это было за “Разъяснение"? В нем говорилось, что публикация отдельных глав мемуаров — моё полное право. Однако далее шли ограничения: “Она не уполномочена опубликовывать письма, которые ей направлял Александр Солженицын, корреспонденцию, которую он вёл с другими лицами или материалы из его литературного архива. И под конец: “...Александр Солженицын этого не потерпит».
Спустя некоторое время я написала адвокату Фрицу Хеебу и попросила его прислать мне тексты тех статей законов об авторском праве и защите личности, на которых основывалось данное им “Разъяснение».
Мне на самом деле нужна была полная ясность: на что я имею право и на что — нет. И — именно юридическое право!
Ведь теперь, когда оставалось надеяться только на себя в смысле своей моральной реабилитации, становилось совершенно ясно, что мне необходимо публиковать свои мемуары. Я должна рассказать в них о жизни, которой для многих как бы и не было вовсе.
Ответ от Фрица Хееба мне придёт в конце июля и окажется достаточно расплывчатым. Таким образом, почва для публикации какой-то части моих мемуаров подготовлена и морально и юридически. На Западе подтверждено моё право на это.
Тем временем у меня произошло знакомство с редактором — тем самым, который прочёл две моих главы и нашёл их “написанными литературно».
18 июня был тёплый солнечный день. Я готовила на балконе салат в ожидании апээновцев, когда увидела перед собой Рогачёва. На некотором расстоянии от него остановился полноватый мужчина среднего роста с портфелем в руках. Это был Константин Игоревич Семенов. Случилось не так, как мне хотелось: редактором оказался мужчина, а не женщина. Позже я поняла, что это, пожалуй, к лучшему. Мужчина мог служить своеобразным противовесом моей склонности к подчас излишней эмоциональности.
Разговор шёл о прочитанном, о содержании всей вещи, о её рамках, о том, что уже сделано, а что нет, о том, какими материалами я располагаю.
Мне же больше всего хотелось понять, почему АПН заинтересовалось моими мемуарами. Если они думают, что я намерена чернить своего героя, то ошибаются. Я хочу постараться просто воспроизвести нашу жизнь, показать ее такой, какой она была.
Константин Игоревич весьма красноречиво уверял меня, что ничего другого они от меня и не хотят. Но интересна не только судьба Александра Исаевича, но и моя, вообще нашего поколения. Мало кто сохранил столько писем, как я. Эти письма — лучшие документы эпохи. Личность Солженицына интересует многих, а потому воспоминания его жены не могут не вызвать большого интереса.
Константину Игоревичу хотелось бы прочесть ещё что-нибудь, кроме прочитанных уже глав. Пока я готовила обеденный стол, Семенов просмотрел моё “Тихое житье» и “Молодожёнов». Нашёл, что это тоже интересно, но поработать над этим следует ещё.
Во время обеда Константин Игоревич очень удивил меня тем, что учился у моего дяди, Валентина Константиновича Туркина, брата моей мамы, который заведовал кафедрой кинодраматургии во ВГИКе. Он понял это, когда прочёл в сноске к моей главе “Преддверие», что моя двоюродная сестра Вероника — его дочь. Будучи студентом этого института, Константин Игоревич даже бывал частенько у дядюшки дома, был выделен им из числа других студентов. Это было в то время, когда я училась в аспирантуре МГУ и тоже бывала у дяди. Может, мы когда-нибудь даже встречались там?.. Константин Игоревич стал тут же вспоминать всевозможные высказывания кинодраматурга Туркина, его шутки во время лекций. Это неожиданное обстоятельство протянуло между нами какую-то ниточку, вызвало у меня больше доверия.
Оказалось, что гости привезли с собой бланки договора. Уговаривают меня его подписать. Хорошо бы с окончанием 18 ноября. Это было бы символично: день выхода “Ивана Денисовича"! Всего пять месяцев? Это очень мало: ведь о тюрьме у меня ещё почти не написано, да и о периоде известности Солженицына далеко не закончено (я хотела закончить провалом с Ленинской премией и заключением договора на “Круг первый"). Сошлись на шести месяцах: 18 декабря я должна сдать первый вариант рукописи! Далее возможны доработки. Остановились на четырнадцати печатных листах. Название я предложила: “Обгоняя время".
Естественно, что с этого дня я ушла в работу над книгой с головой.
С редактором первое время виделась лишь изредка. То, что он говорил мне, а иногда и писал, не вызывало у меня насторожённости. Более того, располагало к нему. У меня создалось впечатление, что он сумел воспринять моё отношение к моему герою. А может статься, оно было и его собственным отношением к Солженицыну, не противоречащим моему. После прочтения “Молодожёнов" и “Тихого житья", уже с “карандашом в руках", он написал мне письмо, в котором указал как на достоинства, так и на недостатки. К моим достоинствам было отнесено: хороший глаз, умная память, которая сама отбирает из массы впечатлений то, что нужно, уменье объективно взглянуть на вещи и то, что “в старину называли хорошим стогом". Недостатки: дилетантство, разбросанность и нечёткость мышления автора в отдельных моментах. Он предлагает мне не придерживаться строго хронологии. А также Константин Игоревич отговаривает меня от документирования в каждой малости.
Он предлагает мне спорить с ним, а то и игнорировать его замечания. Предлагает смотреть на него, “как всего лишь на представителя будущих читателей, которым, как и прочим категориям человеков, тоже свойственно заблуждаться “.
Меня не могло не тронуть замечание Семенова относительно того, что необычность работы Александра Исаевича в годы “тихого житья" состоит не только в затворничестве и подпольности, а в бескорыстности в самом высоком смысле этого слова. Подчас Константин Игоревич высказывал свежие мысли, находил удачные формулировки, которые я охотно принимала. Так, он сказал о Зубовых, объясняя, почему у Александра Исаевича была такая тяга к переписке с ними: “они заменяли ему все человечество в ту пору". Советы, которые давал мне Константин Игоревич, свидетельствовали о богатом редакторском опыте и несомненном таланте. Но особенно важным и успокаивающим было то, что на том этапе работы над книгой я ощущала его как своего союзника. Совесть моя была спокойна, и я увлечённо работала то на даче, то в Рязани.
Между тем наши отношения с Александром Исаевичем стали походить на те, что у нас были летом 71-го года. В “Борзовке" мы стали жить поочерёдно, оставляя друг другу записки, по большей части хозяйственного характера. Если пересекались, то спокойно беседовали, строили планы одновременного пользования дачей, для чего наметили построить на участке под видом кухни ещё один домик — для меня. А пока Александр Исаевич выразил желание, чтобы я привезла из Рязани его письменный стол. Но мне все не удавалось купить верхний багажник. А наш первый “Денис" к этому времени был продан вместе с багажником. Новый владелец “Дениса" согласился помочь нам перевезти стол.
В начале августа я побывала в Рязани, приноровив это к маминым именинам, чтобы в этот день побывать у неё на могилке. А оттуда ехала в “Борзовку" на стареньком “Денисе", на котором громоздился Санин многотрудный стол.
Итак, отношения наши с Александром Исаевичем налаживались. Два брата из лесничества взялись поставить нам этой осенью домик. Александр Исаевич говорил мне, что он всё готов сделать, чтобы мне стало легче.
Что же до Светловой, то я выдержала характер, сдержала своё слово. Ведь я всегда настаивала на том, что отношения между всеми участниками должны сложиться до развода. И потому я не ответила Светловой на ее вполне доброжелательное письмо, которое Александр Исаевич вручил мне в конце июня. А ему я сказала, что время упущено и что теперь уже ниточки между двумя Натальями не протянутся.
Спустя много лет я поняла, что совершила непоправимую ошибку. Поступи я иначе, подави я свою сверх принципиальность, все дальнейшее могло развиваться иначе и не оборвалось бы так круто, как это случится. А в то время я переоценила свою наполненность творчеством, мне казалось, что ее хватит надолго.
Впрочем, не произойди то, что произойдёт в феврале 74-го года, когда Александра Исаевича выслали за пределы нашей страны, если бы мечта наша осуществилась и был бы построен второй домик на нашем участке, то, возможно, в том самом 74-м году и произошло бы примирение между всеми нами... Но все это если бы, если бы... А случится так, как случилось.
— Ты оказалась слишком самолюбивой, — подытожил как-то все происшедшее Александр Исаевич.
А в июле у нас с ним состоялся такой разговор:
— Ты вот говоришь, что мы наслаждаемся счастьем, —сказал он. — Но ведь моя жизнь — это постоянный риск, рано или поздно мне все равно придётся загудеть.
— Неужели ты не понимаешь, — возразила я,— что случись с тобой что-нибудь плохое, я буду переживать это ещё болезненнее, чем если бы оставалась твоей женой.
И пояснила: мне уже не достанется делить с ним его несчастье, как было когда-то, это достанется ей.
Говорили о разном. В числе прочего, говорил, что для него советской действительности как бы не существует: слишком ушёл в историю.
— Тут я могу тебя понять, — сказала я.— Я так ушла в свою работу, что ничего постороннего не могу читать.
Помню, как кормила Саню жареными грибами с нашего участка, а он привёз и учил варить меня суп из, немецкого концентрата.
Одним словом, отношения наши явно налаживались. Впереди строительство домика, жизнь бок о бок!..
В августе, по договорённости между нами, Александр Исаевич жил в “Борзовке“ больше недели. Покидая “Борзовку“, он оставил мне письмо, из которого я почувствовала, что в нем по-прежнему сильна потребность делиться со мной повседневными впечатлениями. Писал, что целую неделю шли небывалые дожди, купальня была залита полностью, залит был даже родник, где мы всегда брали питьевую воду — пришлось брать воду у соседей из колодца. Зато в лесу было много грибов, так что он ел их ежедневно.
Конечно, все то, о чём писал мне Саня, было лишь внешним фоном главного содержания его жизни — творчества, о что он упомянет уже в другом, сентябрьском письме: “Стол в августе хорошо мне послужил, и хорошо, что он здесь стоит".
Думаю, что в тот месяц Александр Исаевич работал не над романом. Видимо, занимался публицистикой, писал или статью “Мир и насилие", или “Письмо вождям Советского Союза", а может быть, и то и другое (их окончание помечено одной и той же датой — 5 сентября 1973 года).
Уступив “Борзовку" Александру Исаевичу, я жила в августе в Рязани. И в тот август не было у меня недостатка впечатлений.
В середине августа ко мне впервые приехал в Рязань редактор. Приехал он вместе с Вячеславом Сергеевичем, который в тот же день уехал, а Константин Игоревич остался на два-три дня, устроившись в гостинице. Рогачёва интересовали фотографии, которые могли бы послужить иллюстрацией к будущей книге. Просмотрели мои коллекции, отобрали то, что показалось подходящим.
Работали мы с Константином Игоревичем у меня дома. Я ежедневно ездила за ним в гостиницу в Солотчу и отвозила его туда вечером.
Стиль работы у нас выработался такой: прочитав мною написанное (причём довольно большой кусок), Константин Игоревич наговаривал свои соображения на магнитофон, чтобы я могла слушать их в его отсутствие. При этом он много курил и очень-очень много говорил на самые различные темы. Для него это было своеобразным отдыхом от работы. Для меня же это было чаще всего лишним, несмотря на занимательность его рассказов. Я была слишком сосредоточена на своей теме, чтобы со вниманием воспринимать то, что к ней непосредственного отношения не имело. Порой я только делала вид, что слушаю. Интерес у меня вызывали лишь рассказы о моем дядюшке, его учителе.
В числе прочего я дала прочесть Константину Игоревичу моё “Забытое". Он воспринял его как конспект всей моей будущей книги, исключая “тихое житье“ и период известности.
Мы с редактором наметили количество и названия глав, коих оказалось одиннадцать. Я не могла не оценить некоторых его подсказок при подборе названий: “Московская переписка“, “Марфино и Маврино», “Иван Денисович на воле“, “Тема или талант».
Наша совместная работа с редактором однажды прервалась по совершенно непредвиденному поводу.
Незадолго до обеда, где-то часа в два, раздался звонок в дверь. Вошёл незнакомый человек в чёрном и с мало располагающим лицом. Он спросил, я ли Решетовская Наталья Алексеевна. Получив утвердительный ответ, пришедший сказал, что меня вызывает к себе представитель КГБ, приехавший из Москвы. Ему велено тотчас же меня к нему доставить. Машина ждёт во дворе.
Я попросила немного подождать. Вернувшись в комнату, где мы с Семеновым работали, я сказала ему о случившемся.
— И часто к вам обращаются? — спросил он.
— В первый раз.
На чёрной “Волге» меня доставили в гостиницу. Сопровождающий поднял меня в лифте на какой-то этаж и подвёл к двери номера. Открыл нам интеллигентного вида человек средних лет в очках, которые больше походили на пенсне. Он был в штатском. Пригласил меня в комнату. Когда мы сели, представитель КГБ сказал: им стало известно, что у Солженицына есть книга “Архипелаг ГУЛАГ»; в связи с этим допрашивались люди в Ленинграде и они показали, будто бы у меня хранится рукопись “Архипа». Он сказал именно “Архипа», а не “Архипелага», глядя при этом на меня очень многозначительно. Под названием “Архип» был засекречен нами “Архипелаг» — так называли его те немногие, кто знал о нем, особо доверенные друзья. “Архип», Ленинград... Невольно сразу подумалось о Воронянской, жившей в Ленинграде, а в своё время вместе со мной печатавшей эту книгу. Мне стало ясно, что меня не шантажируют, что об “Архипелаге» действительно узнал КГБ. Значит, бессмысленно было бы отвечать так, как я имела обыкновение это делать, когда у меня спрашивали даже близкие мне люди: “Что это за “Архипелаг ГУЛАГ»? —“Это общее название всего того, что написано Александром Исаевичем о лагерях».
И хотя недавно Александр Исаевич сказал мне, что фактически существование “Архипелага» уже не является тайной, все же убедиться в том, что о нем знает КГБ, явилось для меня ударом. Если теперь станет известно его содержание, за этим может последовать все что угодно, и уж во всяком случае мне не избежать полной, окончательной разлуки с Александром Исаевичем, с мыслью о чём я все ещё никак не могла примириться.
Представитель КГБ спросил меня о содержании “Архипелага“. Но даже если бы я печатала его не пять лет тому назад, а полгода назад, содержание этой книги не перескажешь. “История лагерей"...
— Но это действительно страшное произведение? —спрашивают меня. — У нас есть такие сведения.
Вместо ответа я не удержалась и расплакалась. Ведь муж всегда считал, что “Архип" — это “его голова".
Взяла себя в руки. Слезами не поможешь.
— Вот вы говорите, что печатали “Архипелаг", а вы понимаете, что можете понести за это ответственность?
— Я ничего не боюсь, так как потеряла в жизни главное. Сажайте хоть сейчас...
Вернулись к “Архипелагу". Я пытаюсь взять Александра Исаевича под защиту,
— Но Александр Исаевич не собирался печатать “Архипелаг“ при жизни, называл даже срок — через тридцать лет! А кроме того, он считает “Архипелаг ГУЛАГ" лишь опытом художественного исследования. Это стоит даже в подзаголовке. Никому не запрещено продолжить его опыт!
Представителя КГБ все же интересует, действительно ли рукопись находится у меня. Тут я предложила ему немедленно ехать ко мне домой.
— Я открою вам все мои тайники, и вы убедитесь, что у меня ее нет.
— Да что там тайники? — недоверчиво возразил мой собеседник. — У вас есть земля...
— Земля? Да в ней ничего нельзя хранить, каждую весну ее всю заливает во время паводка.
Меня спросили, знает ли кто-нибудь, что меня вызвали в КГБ. Я ответила, что сказала об этом своему редактору из АПН, который как раз приехал ко мне в связи с работой над книгой.
Мой собеседник невольно выразил досаду. Но тут же разрешил мне позвонить домой и сказать, что я скоро буду.
Господи! Вот я и разведена с мужем, и все равно с меня не спускают глаз. Почувствовала себя будто в стеклянной клетке. И это чувство родилось даже независимо от того, что (это заметил и сказал мне позже один рязанский знакомый) за моим домом в Рязани в то время велось непрерывное наблюдение.
Когда вернулась домой, редактор признался, что запомнил на всякий случай номер машины, на которой меня увезли, когда машина проезжала мимо окна. Мне было намного спокойнее, что есть человек, который волей-неволей оказался свидетелем только что случившегося. А потому я могла с ним поделиться и тем, каков был наш разговор в гостинице. Это сделать позволило мне и то, что с меня не только не взяли расписки о неразглашении разговора, но даже и не попросили об этом. И ещё мой разговор с редактором о происшедшем был оправдан тем, что Александр Исаевич ведь сказал мне незадолго до этого, что существование "Архипелага" фактически уже не является тайной. Но обо всех своих подозрениях и тревогах я говорить не могла, не могла назвать никого из ленинградцев. На этом откровенность кончалась. Сама же неотвязно думала: кто же мог сказать об “Архипе"? Найдут ли его? Если сказала Воронянская, то у неё он не мог храниться. Ведь именно от неё ещё в 66-м году пошли первые слухи об “Архипелаге". Предупредить Александра Исаевича? Но на прямой контакт идти небезопасно для него. А у нас после нашего развода не осталось ни одного связующего звена!.. Оставалось ждать, ждать того дня, когда у меня назначена встреча с Саней в "Борзовке" — 18 августа.
Я было ушла в работу над книгой с редактором, как наша работа прервалась, и по очень грустному поводу: как раз пришли путёвки для тётушек в тот именно пансионат, которого я добивалась — лучший в Рязанской области.
Выручил меня и на этот раз Слава. Тётю Нину — ведь она была лежачая больная — он отнёс в машину на руках. И мы поехали за 100 км от Рязани по Куйбышевскому шоссе в Авдотьинку.
Присутствие в Рязани редактора помогло мне как-то в моральном отношении пережить это печальное переселение, к которому меня вынуждали обстоятельства. Тут и моя разорванная в клочья жизнь, и ответственейшая работа, и боязнь за сохранность материалов, которым не было цены...
Ещё до переселения тётей я дважды побывала в пансионате, куда я ездила вместе с двумя своими знакомыми пожилыми женщинами, у которых там жили старенькие приятельницы, подготовила почву для их общения с тётями, и они действительно потом подружились. С тётями приехал телевизор, который особенно любила смотреть тётя Маня, и их любимые вещи. Устроили их в отдельные комнаты с окном, выходящим в парк. В прихожей был встроенный шкаф, а с другой стороны — раковина с холодной и горячей водой. Чистенько. Уютно. Но... не дома. А потому горько. Но что же мне было делать?
Работаю с редактором. Советы его были умными, дельными и доброжелательными не только по отношению ко мне, но и по отношению к Александру Исаевичу. Константин Игоревич был полнейшим моим союзником. Я встретила понимание даже там, где меньше всего, казалось, могла его ждать. Так, например, рассматривая вопрос о виновности Солженицына, Константин Игоревич сказал следующее. «Конечно, Саня не был виноват, он был осуждён совершенно несправедливо; их переписка, их разговоры были мальчишеством и никакой опасности для государства не представляли".
Я так расхваливала автомобильный маршрут из Рязани в “Борзовку“, что Семенов соблазнился и предложил мне себя в компаньоны. Но не для того, однако, чтобы заехать в “Борзовку“, ибо в тот самый день, 18 августа, там меня должен был ждать Александр Исаевич. Погода нам благоприятствовала, а потому путешествие удалось. Когда мы приближались к "Борзовке", которую я должна была проехать, чтобы отвезти Константина Игоревича на станцию Нара, то сказала ему, что, несмотря ни на что, свидание с Александром Исаевичем для меня всегда праздник, что праздничное настроение я ощущаю и сейчас.
Каково же было моё разочарование, когда, отвезя Константина Игоревича и приехав в «Борзовку", я нашла там вместо самого Александра Исаевича лишь два письма от него, помеченные 16 августа, да заявление в правление дачного кооператива с просьбой переписать дачу на меня. Но я не только не ощутила никакой радости — напротив, закралась тревога, которую никак уж не могли рассеять Санины письма.
“Натуся, обстоятельства требуют моего отъезда сегодня».
...Какие обстоятельства? Не с "Архипелагом" ли связанные? Или опять “угрозные письма", о которых Саня говорил мне в прошлый раз?.. Или что-то ещё?.. А вот второе письмо;
“Наташа!
Оставляю тебе заявление о “Борзовке“. Надеюсь, ты не заставишь меня раскаяться в этом. Понимаю его — в духе и формулировках нашею с тобой уговора от 14 марта.
Проводи его, не откладывая..."
Торопит. Значит, что-то над ним нависло. Но, с другой стороны, было в письмах и о том, что он договорился с мастером из лесничества, что тот сделает нам бревенчатый сруб: 3 метра на 4; смонтирует у себя, а потом разберёт, перевезёт и поставит на нашем участке. Саня писал, что частично собрал черноплодку, а меня просил продолжить.
“Будет охота — свари варенья для "Борзовки". А остального не давай птицам клевать, собери в корзины в подпол до моего приезда".
В “Борзовку» Саня обещал приехать между первым и пятым сентября.
“Хотелось бы тебя застать. Постарайся те дни быть здесь".
Так, в неведении, я прожила в “Борзовке" до последних чисел августа. Работала я в то время над тюремно-лагерными главами. Да ещё — на участке.
Чтобы не пропустить каких-нибудь событий, если они произойдут, слушала систематически западное радио. Было о Сахарове, о деле Красина и Якира, но имени Солженицына в западных передачах пока не произносилось.
Санино заявление о передаче мне участка я отдала председателю, но поняла, что тот торопиться не собирается.
Но вот 29 августа я услышала об интервью, которое дал Солженицын корреспондентам “Ассошиэйтед пресс" и «Монд". Тон интервью испугал меня. Приводились выдержки. Там было о письмах с угрозами, о том, что его предупреждали о возможности покушения на его жизнь, о попытке устроить ему автомобильную катастрофу. И то, и другое он связывал с КГБ, заявив, что “ни один волос с моей головы или с головы любого члена моей семьи не может упасть без ведома и одобрения КГБ". Солженицын заявлял, что в случае его смерти, исчезновения или лишения свободы сразу же вступит в силу его литературное завещание, и начнёт публиковаться основная часть его трудов, от опубликования которых он воздерживался все эти годы.
Можно себе представить, как встревожило меня все это, и с каким трепетом и нетерпением ждала я приезда Александра Исаевича в "Борзовку“.
Наступил сентябрь. Дни шли, а Александра Исаевича все не было. Он не приехал ни в один из пяти обещанных дней — от 1 до 5 сентября, не приехал и 6-го. А я больше ждать не могла. Необходимо было навестить тётей, узнать, как они там. И я вынуждена была уехать.
Александру Исаевичу оставила письмо. Написала, что уезжаю очень растревоженная, что болею за него душой. Просила его давать о себе знать, ибо я отнюдь не избавилась от волнений за него. Напротив, добавилось ещё то, что я ничего о нем не знаю, кроме как из радиопередач. Писала, что предполагаю навестить “Борзовку" в двадцатых числах сентября.
Приехав в Рязань, застала там тревожную открытку от тёти Мани. С тётей Ниной что-то случилось, и она совсем плоха. На следующий день я поехала в интернат. Тётя Нина была в сознании, но еле говорила. Я видела ее живой в последний раз... 9 сентября пришла телеграмма о ее смерти.
Но ещё до того на меня обрушилось страшное сообщение по западному радио. Оказалось, что КГБ не просто напало на след “Архипелага “, — он был уже у них. Западное радио передало заявление, которое по этому поводу сделал Александр Исаевич 5 сентября. Его напечатала вся мировая пресса. В нем он сообщал об изъятии КГБ "Архипелага" — “многотомного исследования о советских лагерях», и о том, что он опасается преследования тех, кто давал ему материалы. Место хранения указала Воронянская, которую допрашивали в КГБ непрерывно пять суток, а вернувшись домой, она повесилась.
Было жаль преданнейшую Солженицыну Елизавету Денисовну! Было страшно за Александра Исаевича. Так вот почему он не приехал в “Борзовку», как обещал! Где он теперь? Может быть, скрывается?..
И все же 9 сентября я дала ему телеграмму в Москву о смерти тёти Нины. Ответа не было. Не знала, что и думать.
Хоронила я тётю Нину 11 сентября. Погода была хорошая: тихая, тёплая осень. Мирный небольшой погост среди степи. Вдали — перелески. Хорошо здесь лежать: тишина, покой. А на мамином кладбище слышны машины.
После смерти тёти Нины у тёти Мани был выбор: жить с кем-нибудь вдвоём или перейти в меньшую комнату и жить одной. Она предпочла последнее. Конечно, втайне тётя Маня мечтала, что я заберу ее в Рязань, хотя никогда мне этого не говорила, лишь делилась, как позже выяснится, с приятельницами. Но уж слишком для этого неустроенной, дёрганой, нервной была моя жизнь. Всегда в напряжении, всегда в тревоге, в делах, в поездках...
Позвонил мне Саня 15 сентября. Сказал, что мою телеграмму с сообщением о смерти тёти Нины получил только накануне, его не было в Москве. А в день смерти был в “Борзовке", где рассчитывал меня встретить. Оказывается, он предупредил меня телеграммой, что на несколько дней задерживается. Спросил, получила ли я телеграмму. Нет, не получила. Предложил увидеться в указанные ему мной дни, то есть в начале двадцатых чисел.
На сердце стало немного спокойнее. Можно было сосредоточиться на работе над книгой, не думать пока больше ни о чём.
Очень кстати пришёлся в те дни совершенно неожиданный для меня приезд в Рязань Ильи Соломина — того сержанта Саниной батареи, который возил меня в 44-м году к нему на фронт. Ко мне приехал мой “персонаж" и — главное — свидетель двух очень важных моментов в жизни моего мужа: окружения в ночь на 27 января 45-го года в Восточной Пруссии и ареста 9 февраля того же года. В результате я взяла у Ильи самое настоящее интервью, заставив его все рассказывать под магнитофон.
Очень сожалею, что при сокращениях моей книги, вышедшей в издательстве АПН под названием “В споре со временем", вся история с окружением была опущена. Сожалею тем более, что это дало возможность в будущем толковать этот эпизод ложно. (Я имею в виду книгу Томаша Ржезача “Спираль измены Солженицына".)
Илья поделился со мной своей недавней обидой на Саню. Будучи в Москве (Соломин жил в Одессе), он как-то ему позвонил и попросил о встрече. Но Саня, полагавший, что Илья был втянут Вероникой в сотрудничество с одним из авторов американской биографии Солженицына, сказал ему, что вряд ли им теперь нужно видеться.
Пекле того как я услышала от Ильи, что он спас по приказу своего командира Солженицына технику во время окружения, уничтожил могущую скомпрометировать Солженицына, только что арестованного, собранную им литературу, отказ Сани увидеться с Соломиным выглядел особенно неоправданным. Я обещала Илье, что при случае скажу Сане об этом и о том, что с американским биографом он даже не виделся.
22 сентября утром я выехала машиной в “Борзовку" с тем, чтобы непременно дождаться там Александра Исаевича. Обдумывала, говорить ли ему о своём вызове в КГБ, и решила не говорить. С его манерой все предавать гласности он ещё расскажет об этом на весь мир, да и неверно истолкует.
Саня уже был на даче и даже перестал было меня ждать. Успел сделать мне приписку на письме, которое ждало меня с 9 сентября:
“Что же ты не приехала? Такой день был хороший, и поговорить было хорошо. Теперь —где же?.."
А я как раз приехала.
День и в самом деле был хороший. Чтобы говорить свободно, мы пошли с Саней в нашу берёзовую рощу. Конечно, разговор начался с “Архипелага". Мы оба жалели Елизавету Денисовну Воронянскую, хотя она сама была причиной собственной гибели. Александр Исаевич рассказал мне, что Воронянская не выполнила его требования об уничтожении того экземпляра рукописи “Архипелага", который когда-то получила от него. Однако ее мученическая смерть как бы смыла ее вину. “Архипелаг" она хранила у Леонида Александровича Самутина, где он и был взят. Александр Исаевич рассказал мне, что Самутина допрашивали, что пока с ним гебисты вежливы, но, в случае чего, он готов Самутина защищать. Рассказал Александр Исаевич и о том, что у Воронянской был найден дневник, в котором, вчастности, она описала нашу совместную работу по печатанию “Архипелага" весной 68-го в “Борзовке" и что это теперь уже не является секретом. Позже, от самого Самутина, я узнаю, что в том же дневнике было указано и место хранения “Архипелага". Примерно так: “Архип" — это голова Исаича, как хорошо, что он в таком надёжном месте — у Л.А." (Л.А.— инициалы Самутина).
К сожалению, Александр Исаевич не счёл возможным (почему?) быть со мной во всем откровенным. Он не сказал мне главного: что он уже дал команду о публикации на западе “Архипелага". А я, не подозревая ни о чём, пыталась уговорить его этого не делать, сдержать данное им своим информаторам слово и напечатать “Архипа" как собирался — лет через 30! И эта недоговорённость приведёт, увы, к очень печальным для меня последствиям. Но, не будучи со мной откровенным, Александр Исаевич от меня ждал полной откровенности. Так, рассказав мне, что у всех, вызывавшихся в КГБ в связи с “Архипелагом», брали расписку о неразглашении, сказал мне:
— Если тебя вызовут и дадут подписать такую расписку, ты должна ответить, что ты никому ничего не скажешь, но Александру Исаевичу Солженицыну скажешь немедленно.
— И не подумаю, — ответила я.
— Как так? Но если тебя вызовут, ты мне об этом скажешь?
— Нет. Неужели ты не понимаешь, что потерял на это право?..
Александр Исаевич, по-видимому, был крайне удивлён таким поворотом дела. Он полагал, что развод со мной —это не отречение, а пустяки... Может быть, истолковал и так: значит, она заодно с ними!
Неужели я совершила ошибку, скрыв от нею свой вызов в КГБ? Снова моё самолюбие!.. Ведь весь тон разговора у нас был такой хороший, что можно было бы и пойти на откровенность! Не пошла. А между тем, расскажи я Сане о вызове в КГБ, о том, что московскому представителю КГБ было явно досадно, что об этом вызове узнал мой апээновский редактор, возможно, Александр Исаевич не связал бы АПН и КГБ, не писал их в будущем через черточку: АПН-ГБ, не счёл бы меня, сотрудничавшую с АПН, представительницей ГБ, как это он, увы, возомнит после нашей с ним следующей встречи.
Говорили с Саней о похоронах тёти Нины. Он снова ощутил себя членом нашей былой семьи, которая уменьшалась: нет мамы, нет тёти Нины...
Я обратилась к Александру Исаевичу с просьбой не называть меня бывшей женой, называть первой женой. Согласился. Обещал...
Рассказала я и о приезде ко мне Ильи Соломина и что он в обиде на своего бывшего командира, который отказал ему во встрече. Объяснила, что Илья никакой информации американскому биографу не давал, даже с ним не виделся. Напомнила Александру Исаевичу героическое поведение Соломина во время его ареста (сначала спрятал, а потом сжёг книги Солженицына) и во время окружения их части именно Соломин обеспечил Солженицыну спасение боевой техники — то, что было отмечено как его собственная заслуга и в боевой характеристике, и в реабилитационном определении. Саня попросил извиниться от его имени перед Ильёй.
Заговорили о том, что может ожидать Александра Исаевича в будущем. Я наивно просила его уменьшить резкость своих выступлений.
— Рано или поздно я все равно должен буду загудеть, — снова повторил он уже сказанное мне раньше.
Это, собственно, и является причиной, почему он переписывает “Борзовку» на моё имя. Между тем он не отказывался от намерения строить на нашем участке второй домик. Даже посоветовал мне сходить к мастеру, напомнить, поторопить. Но пойти к нему вместе — отказался.
Никакой конкретной даты будущей встречи мы с Саней не назначили. Я просила его держать меня в курсе дел, звонить в Рязань.
То была наша последняя прогулка в любимых местах. Там же, в роще, мы и расстались. Александр Исаевич пошёл лесом к остановке автобуса. Я глядела ему вслед. Шёл он, как всегда в последнее время, с небольшим рюкзаком за спиной. В том рюкзаке, кроме прочего, с ним всегда был уже без меня купленный портативный приёмник. Он мне посоветовал купить такой же.
Проводив Александра Исаевича, я пошла в лесничество, чтобы поговорить с мастером. Мастер под каким-то предлогом снова откладывал дело. Чему же было удивляться? С мастером говорил то Александр Исаевич, то я, никогда оба вместе. О наших сложных отношениях в посёлке было известно. Как тут строить дом? А вдруг потом никто не заплатит?..
С горьким, безнадёжным чувством вернулась я на пустую дачку. Лето закончилось. Закончились и наши встречи в “Борзовке» — до будущей весны. Но доживём ли мы до неё благополучно? Не случится ли чего-то страшного, что все время висело над Александром Исаевичем? И что будет тогда со мной? Не видеть его представлялось невыносимым. А если доживём, но не будет второго домика — значит, снова жизнь по графику, сменяя друг друга?
Зачем я не сдержала нахлынувших на меня чувств? Пересилить бы себя и смолчать! Но нет. После отъезда Александра Исаевича я с особенной остротой почувствовала своё бесконечное одиночество. Я взяла небольшой листок бумаги и написала Сане письмо-жалобу, с тем, чтобы оставить его в нашем обычном месте на случай его приезда.
Главной просьбой было, чтобы он всерьёз занялся строительством домика, который позволит нам жить в “Борзовке“ одновременно. Этот домик стал для меня заветной мечтой. Но письмо, увы, было не только в просительном тоне, оно было нервным и даже, возможно, в чем-то обидным...
Не напиши я этого письма, возможно, не было бы вспышки гнева Александра Исаевича, которая произойдёт в середине октября, не оборвались бы наши отношения. Или все равно оборвались бы?..
Но я думала не только о домике, который все равно не выручил бы, случись что-нибудь с Александром Исаевичем. Я думала о том непоправимом, что неминуемо разлучит нас. Как этому помешать?
Я думала об этом и раньше, и как-то спросила Николая Ивановича Кобозева, не попробовать ли мне примиритьАлександра Исаевича с государством. Он грустно ответил, что, пожалуй, это уже невозможно. А я не хотела так думать. Самое страшное, что может сейчас произойти, — это публикация “Архипелага ГУЛАГ“ на Западе. Что сделать, чтобы Саня не совершил этого безумного поступка?
Встретившись на следующий день с редактором, я поделилась с ним своими опасениями и стала просить его помочь мне поговорить с кем-нибудь из ответственных работников отдела культуры ЦК. Я вспомнила о своём удачном разговоре на гораздо более низком, правда, уровне в Рязани, с секретарём по идеологии Кожевниковым ещё в 66-м году.
Как тогда я говорила о том, что во многом неверно повели себя в отношении Солженицына партийные деятели, так и теперь скажу. Ведь ему, как писателю, просто дышать не давали здесь, на родине. Как можно было козырять его “Пиром победителей»? Как можно было запретить печатание “Ракового корпуса»? И к чему хорошему это привело? Совершенно необходимо хоть в чём-то пойти ему навстречу! Может быть, это остановит его, и он не станет публиковать на Западе “Архипелаг».
Видя меня чрезвычайно взволнованной и, я смею так думать, по-человечески жалея Солженицына, Константин Игоревич обещал мне помочь увидеться с авторитетным лицом из ЦК. Если же это не удастся — самому поговорить с хорошо ему знакомым сотрудником.
Семенов сдержал слово. На следующий день мы встретились с ним снова. Работник ЦК сказал, что, может быть, я в чём-то и права, что “Раковый корпус», в принципе, вероятно, можно было бы напечатать, однако разговор со мной ничего решить не может, а с Солженицыным разговаривать невозможно: он сразу же решительно все предаст гласности.
Я стала уверять Константина Игоревича, что на сей раз ничего этого не случится: я специально попрошу об этом Александра Исаевича.
В общем, мы с Семеновым решили, что я могу с Александром Исаевичем предварительно поговорить. Воодушевлённая таким оборотом дела, я зашла в первую же телефонную будку и позвонила на квартиру Светловых. Александр Исаевич оказался в эту минуту недалеко от телефона, мне его позвали, и я попросила его о свидании. Он согласился и дал мне понять, что местом свидания будет Казанский вокзал на нашем обычном месте, завтра. И указал время.
Как я позже прочла в книге “Бодался телёнок с дубом», Александр Исаевич в те дни был занят обдумыванием того, какой шаг сделает теперь в отношении него государство. “Должны ж они искать не как отомстить мне когда-нибудь потом, но как остановить эту книгу прежде ее появления?“
Александр Исаевич видел у своих врагов несколько путей. Пожалуй, самым маловероятным он считал возможность того, что с ним пойдут на переговоры.
При таком психологическом настрое приходится ли удивляться, что наше с ним свидание было воспринято им не как свидание с его первой, неизменно любящей женой, а как ещё одно сражение “телёнка» с тем же самым “дубом». Я была воспринята им, как пешка, исполняющая чужую волю. Александру Исаевичу, увы, и в голову не пришло, что я имела наивность возомнить себя не пешкой, а все же самостоятельной фигурой, желающей его спасения.
Мы встретились в зале, где расположены кассы электричек, а также рязанского электропоезда. Именно отсюда мы всегда выходили на рязанские поезда.
Я сразу же сказала Александру Исаевичу, что разговор предстоит очень серьёзный, и попросила дать слово, что он останется сугубо между нами. Он пообещал мне это. Разговаривать он предложил не там, где мы встретились, а на перроне (“стенам лучше не доверять»). Он сам выбрал место, где произошёл наш с ним разговор. Он повёл меня к тем платформам, от которых отходят и куда прибывают дальние поезда. Выбрал вторую платформу, следующую после той, которая непосредственно примыкает к вытянутому зданию вокзала. Поездов не было ни по одну, ни по другую сторону платформы. Все пространство хорошо просматривалось, и потому мы разговаривали совершенно свободно, раскованно.
Я сказала, что меня очень беспокоит возможное напечатание “Архипелага". Повторила уже приводимые мною раньше доводы против публикации “Архипелага": опасно для него, опасно для тех, кто давал ему материалы. Но прибавила и ещё один аргумент: это окончательно закроет ему пути печатания на родине других его вещей. Между тем это не так уж безнадёжно. Спросила, как он отнесётся, если ему предложат напечатать “Раковый корпус".
— Ну и пусть печатают, — ответил он.
— А ты придёшь в редакцию или в издательство, если тебя пригласят?
— А там будет сидеть некто в штатском?.. Пусть печатают так. А, впрочем, “Раковый" уже так разошёлся, что большого смысла печатать его нет...
Таким образом, особой заинтересованности в печатанье у нас “Ракового корпуса" я у Александра Исаевича не почувствовала. Я поняла, что разговор мой с ним не оправдал надежд, что я переоценила свои Силы, что не в состоянии повлиять на ход Саниной судьбы...
Потом говорили на другие темы. Речь зашла о завещании по поводу “Борзовки", но как-то и это оборвалось.
Я сказала Сане, что оставила ему на даче нервное письмо и просила не придавать ему особого значения. Согласился.
В какой-то миг я попросила Саню поцеловать меня, и он наклонился и поцеловал. А расставаясь, перед тем как опуститься в метро, поцеловал мне руку. В последний раз.
Я не описывала бы вообще эту нашу встречу, учитывая конфиденциальный характер разговора, если бы... Если бы прежде того о ней не написал Александр Исаевич в своём “Телёнке", исказив весь характер разговора и сделав ни на чем не основанные, далеко идущие выводы. Когда в декабре Александр Исаевич сядет писать “Третье Дополнение к “Телёнку", писательская фантазия унесёт его далеко от действительно происходившею.
Строго говоря, даже по элементарным этическим соображениям Александр Исаевич не должен был описывать наш разговор. Ведь он дал мне слово, что разговор останется между нами! Но, по-видимому, уж больно заманчивым показался ему столь эффектный конец поединка “телёнка» с дубом. Эффектный конец напрашивался сам: бывшая жена, которая идёт к нему “твёрдым шагом по перрону, законно вступая из области личной в область общественную, вестница госбезопасности. И Солженицына не остановило, что переносить на страницы книги конфиденциальный разговор неэтично. Но как сделать, чтобы никому просто не пришло в голову осудить его за это? Для того ему в голову пришла “гениальная идея! Александр Исаевич придумывает, что он потому придаёт гласности наш разговор, что, давая мне слово хранить его в тайне, он выразил это так: «Разговор не выйдет за пределы этого перрона. Как же это понимать? Оказывается, что мы гуляли с ним по перрону под киносъёмку и магнитную запись и, следовательно, тайна нашего с ним разговора все равно не соблюдена. А все-таки утверждение — это сделать убедительным трудно, даже такому умнейшему человеку, как Солженицын.
Читавшие “Телёнка" заметили ли ту несогласованность, которую Александр Исаевич допустил при описании наших “переговоров»? Несколькими страницами ранее ссылки на киносъёмку он писал, что “всем охватом спины" (нечего сказать, серьёзное доказательство!) чувствовал, что нас с параллельных перронов фотографируют или подслушивают. Таким образом, по ходу повествования вот это предположительное “или» превратилось в утвердительное и фотографов сменили кинооператоры! Но... кто привёл тех или других сюда? Я? Но ведь не я, а сам Александр Исаевич выбрал место для нашего разговора! Да нет, всего этого просто не было! Это придумано Александром Исаевичем, чтобы поразить воображение читателей и объяснить, почему он придал огласке конфиденциальный разговор. Вот и все!
После нашей встречи на Казанском вокзале я сразу же уехала в Рязань, где снова ушла с головой в работу над книгой.
Кончался сентябрь. Прошла половина октября, как вдруг мне пришло письмо от Сани. Впрочем, нет, не от Сани — от Александра Исаевича Солженицына, как следовало из подписи на приписке к новому заявлению в наш садовый кооператив. Участок мне уже не передавался в связи с кардинально изменившимися обстоятельствами. Заявление от 15 сентября было отпечатано на машинке, а приписка мне была сделана от руки. То была реакция на моё нервное письмо, оставленное в “Борзовке", которому я просила Саню не придавать серьёзного значения. А он придал значение", возмутился, разгневался. Мои упрёки были расценены, как “помои» и при таких отношениях он не считал возможным его пребывание в “Борзовке» в качестве моего ‘‘гостя".
Я ответила Сане коротким письмом. Написала, что помоями облита одна только я, что же касается дачи, то предложила ему поступать так, как он считает нужным. На этом наша переписка, вообще наши отношения рвались. Как я думала, до весны, когда нас снова сведёт, помирит “Борзовка». Она помирила нас в 73-м году, авось помирит и в 74-м!..
Но роковой ход событий все дальше уводил от этой надежды, делая ее все более иллюзорной...
Но это случилось не сразу. Особых волнении я в ту осень не испытывала. Жила творчеством. Уносилась в прошлое. Я писала о Сане, который любил меня, любил долгие годы. Все прожитое так живо вставало из наших писем, из его стихов, из моих дневниковых записей. Александр Исаевич в это время писал публицистические статьи, о что я, впрочем, тогда не знала. Мы жили в полном отрыве друг от друга, каждый сам по себе.
18 декабря, точно в срок, я закончила и сдала рукопись в издательство АПН. Однако размеры рукописи были превышены почти вдвое. Предстояла мучительная работа по её сокращению.
Гром грянул в самом конце 73-го года, когда 8 декабря в Париже на русском языке вышел первый том ‘‘Архипелага ГУЛАГ".
...Что же будет? Я не могла не думать и о личном, что будет с Александром Исаевичем? Неужели наше свидание 25 сентября станет последним? Его обидное письмо от 15октября — последним письмом мне?..
Очень скоро по западному радио стали читать главы из “Архипелага". Тучи все более сгущались.
Вскоре у нас в стране прореагировали на выход «Архипелага“. В первом сообщении ТАСС, напечатанном 6-8 января в нескольких газетах со ссылкой на немецкую газету ‘Унзере цайт“, название "Архипелага" не приводится, речь идёт об очередной антисоветской книге Солженицына, появившейся на Западе “в виде новогоднею подарка".
8 января в "Правде" ТАСС ссылается на чешскую газету ‘ Руде право", которая уже не скрывает название того, что она называет "антисоветским пасквилем". Впервые читатели главного партийного органа нашей страны знакомятся с названием книги: "Архипелаг ГУЛАГ".
Далее ТАСС публикует статьи со ссылками на австрийскую газету “Фольксштимме", польскую — “Трибуна люду».
13 января “Правда" подытоживает реакцию зарубежной коммунистической прессы в статье “Гневное осуждение». Почва подготовлена. Нужные формулировки найдены. Можно выдать собственную реакцию. Таковая появляется в газете “Правда" 14 января. Автор — некто Соловьёв. Заглавие — «Путь предательства".
На следующий же день статья эта перепечатывается другими газетами. Не преминула перепечатать ее и наша «Приокская правда».
Отщепенец... Предатель... Клеветник... И все-таки читателям неясно, о чём повествует "Архипелаг ГУЛАГ". Солженицын берётся это разъяснить.
18 января он выступает по западным средствам информации с «Заявлением", в котором, как он сам выразился в «Телёнке", ответил “на самые занозистые и обидные обвинения советских газет", не отнявшие, однако, у него отрадного чувства, что он выполнил свой долг перед погибшими в тюрьмах и лагерях. Именно об этом — о наших тюрьмах и лагерях — его книга.
19 января Солженицын даёт короткое интервью американскому журналу “Тайм". Солженицын говорит в нём что готов ко всему.
“Я выполнил свой долг перед погибшими, — сказал он, — это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, ее забивали, топили, сжига¬ли, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана — и этою уже никому никогда не стереть
Оба эти документа — "Заявление" и интервью — были напечатаны во многих западных газетах, передавались по радио. Но и у нас газетная кампания не унималась. “Отщепенец громоздит новую гору лжи", — писала “Советская Россия».
Начался поток писем в “Правду". Один видный писатель закончил своё письмо так: "Пусть отправляется туда, где ему хорошо. Без него мы строили нашу жизнь и создали нашу культуру. Без него и подобных ему обойдёмся и теперь".
Весь январь я живу в непрестанной тревоге, которая все усиливается по мере тою, как усиливается травля Солженицына. Статья за статьёй, нападки за нападками, слышу по западному радио о телефонных звонках на квартиру Светловой с угрозами семье, о “войне нервов".
Делюсь своими мыслями с редактором.
— Почему так ополчились на “Архипелаг"? Ведь Солженицын подаёт его как “опыт художественного исследования"! Только как опыт, как попытку! Пусть и другие пишут! Солженицын этим подзаголовком подчёркивает, что не претендует на то, что открыл истину в последней инстанции!
— Почему же вы не хотите дать интервью? Это —очень интересная и свежая мысль.
— Об этом я сказать могу, — согласилась я.
Мне казалось, что так я смогу попытаться защитить Александра Исаевича от государства, от ГБ. Мысль, что он вряд ли нуждается в подобной защите с моей стороны, мне и в голову не приходила. Страх за него, за его жизнь, страх, что нас ожидает вечная разлука, заслонил все прочие соображения.
И вот 30 января у меня дома в Рязани корреспондент французской “Фигаро" Робер Ляконтр. Просматриваю привезённые им вопросы. Ни один вопрос не показался мне сложным, требующим обдумываний. Вопрос “что вы знаете об "Архипелаге"?" позволял мне развить ту мысль, ради которой я согласилась на интервью. Самым щекотливым был вопрос “что я думаю о газетной кампании, обвиняющей Солженицына в антисоветизме?" Но и он не смутил меня.
— Не Солженицын виноват в своём нынешнем настроении, а те, кто воспрепятствовал публикации его произведений на родине.
Конечно, я снова переоценила свои силы. Ведь я надеялась, что центральная мысль моего интервью — относительно опыта художественного исследования — будет подхвачена государством! Но этого не произошло. Зато газета "Фигаро", напечатавшая 5 февраля интервью, восприняла мою трактовку “Архипелага" как заявление, сделанное чуть ли не от лица самого Брежнева. Моё интервью будет подано под крупным заголовком: “Новая манера высказывания о Солженицыне". А в комментарии употреблены следующие выражения:
“Прочитав этот документ, можно задать себе такой вопрос: а не решил ли вдруг Л.Брежнев положить конец полемике, поднятой вокруг Солженицына, как за границей, так и в СССР?"
“Рассмотренное в этом контексте интервью свидетельствует о том, что авторитеты смогут себе позволить совершить вираж в отношении Солженицына".
Одним словом, французы приняли меня за представителя государства, а у нас это не вызвало решительно никакого резонанса. Холостой выстрел! А Ляконтром будут недовольны то ли у нас, то ли во Франции. Скорее, конечно, у нас. Через некоторое время Ляконтр покинет СССР.
8 февраля я услышала по западному радио, что в тот же день Александру Исаевичу была вручена повестка — вызов в прокуратуру.
Солженицын в прокуратуру не явился. Последовала еще одна повестка и дерзкий ответ Солженицына, объясняющий, почему он в прокуратуру не явится.
Ужас обуял меня, ужас и ожидание чего-то страшного. Теперь можно было ожидать чего угодно!
12 февраля, включив вечером "Спидолу", я услышала:
“Сегодня в четыре часа дня, в Москве, арестован писатель Александр Солженицын".
Арестован... И снова в феврале, как двадцать девять лег назад... Тогда его ожидали восемь лет лагерей и ссылка. Что ждёт его сейчас?
Об этом я узнала уже на следующий день, 13 февраля. Западное радио сообщило, что Солженицын прибыл во Франкфурт-на-Майне. Уже вне опасности. Но и.. вне родины.
15 февраля в газете “Советская Россия" было опубликовано сообщение ТАСС.
“Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик, лишён гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А.И.
Семья Солженицына может выехать к нему, как только сочтёт необходимым».
Вот когда рассёкся и наш гордиев узел! Светловой разрешают следовать за ним. Я же остаюсь по эту сторону. Когда-то нас разделила колючая проволока, теперь — навеки — граница.
Прошло восемь лет. Я получила от Александра Исаевича письмо. На этот раз доброжелательное, примирительное. Ответила ему. Надеялась, что между нами протянется хотя бы тонкая ниточка. Писала ещё не раз. Но, увы, ответа не было. Ниточка на том конце... оборвалась?
Осень 1990 г. — весна 1991 г.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




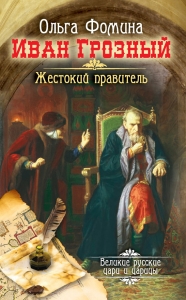
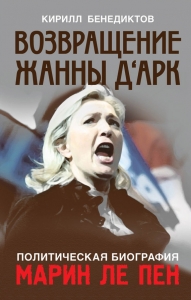

Комментарии к книге «Разрыв», Наталья Алексеевна Решетовская
Всего 0 комментариев