Корней Иванович Чуковский Дневник. 1901–1921
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат ООО «Издательство АСТ».
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Составление, подготовка текста и комментарии – Елена Цезаревна Чуковская
Издательство благодарит наследников К.И. Чуковского за предоставленные фотографии.
Дневник К. И. Чуковского
Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя – это – в конечном счете – все-таки дневник для других.
Я знал Корнея Ивановича Чуковского, любил и ценил его, восхищался его разносторонним дарованием, был от души благодарен ему за то, что он с вниманием относился к моей работе. Более того. Он помогал мне советами и поддержкой. Знакомство, правда, долго было поверхностным и углубилось, лишь когда после войны я поселился в Переделкине и стал его соседом.
Могу ли я сказать, что, прочитав его дневник, я встретился с человеком, которого я впервые увидел в 1920 году, когда я был студентом? Нет. Передо мной возникла личность бесконечно более сложная. Переломанная юность. Поразительная воля. Беспримерное стремление к заранее намеченной цели. Искусство жить в сложнейших обстоятельствах, в удушающей общественной атмосфере. Вот каким предстал передо мною этот человек, подобного которому я не встречал в моей долгой жизни. И любая из этих черт обладала удивительной способностью превращения, маскировки, умением меняться, оставаясь самой собой.
Он – не Корней Чуковский. Он Николай Корнейчуков, сын человека, которого он никогда не знал и который никогда не интересовался его существованием. Вот что он пишет о своей юности в дневнике:
«… А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова – оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, – и это пронзило меня стыдом. “Мы – не как все люди, мы хуже, мы самые низкие” – и, когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница – и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было, – я вижу: это письмо незаконнорожденного, “байструка”. Все мои письма (за исключением некоторых писем к жене), все письма ко всем – фальшивы, фальцетны, неискренни – именно от этого. Раздребезжилась моя “честность с собою” еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве – уже усатый – “зовите меня просто Колей”, “а я Коля” и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь – никогда не показывать людям себя – отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».
Что же представляют собой эти дневники, которые будущий К. Чуковский вел всю жизнь, начиная с 13 лет? Это не воспоминания. Горькие признания, подобные приведенному выше, почти не встречаются в этих записях, то небрежно кратких, то подробных, когда Чуковский встречался с поразившим его явлением или человеком. Корней Иванович написал две мемуарно-художественные книги, в которых рассказал об И. Е. Репине, В. Г Короленко, Л. Н. Андрееве, А. Н. Толстом, А. И. Куприне, А. М. Горьком, В. Я. Брюсове, В. В. Маяковском. В дневнике часто встречаются эти – и множество других – имен, но это не воспоминания, а встречи. И каждая встреча написана по живым следам, каждая сохранила свежесть впечатления. Может быть, именно это слово больше всего подходит к жанру книги, если вообще осмелиться воспользоваться этим термином по отношению к дневнику Корнея Ивановича, который бесконечно далек от любого жанра. Читаешь его, и перед глазами встает беспокойная, беспорядочная, необычайно плодотворная жизнь нашей литературы первой трети двадцатого века. Характерно, что она оживает как бы сама по себе, без того общественного фона, который трагически изменился к концу двадцатых годов. Но, может быть, тем и ценнее (я бы даже сказал – бесценнее) этот дневник, что он состоит из бесчисленного множества фактов, которые говорят сами за себя. Эти факты – вспомним Герцена – борьба лица с государством. Революция широко распахнула ворота свободной инициативе в развитии культуры, открытости мнений, но распахнула ненадолго, лишь на несколько лет.
Примеров бесчисленное множество, но я приведу лишь один. Еще в 1912 году граф Зубов отдал свой дворец на Исаакиевской площади организованному им Институту искусств. После революции по его инициативе были созданы курсы искусствоведения, и вся организация в целом (которой руководили и из которой вышли ученые мирового значения) процветала до 1929 года. «Лицо», отражая бесчисленные атаки всяких РАППов и ЛАППов, «боролось против государства» самим фактом своего существования. Но долго ли могла сопротивляться воскрешенная революцией мысль против набиравшей силу «черни», которую заклеймил в предсмертной пушкинской речи Блок.
Дневник пестрит упоминаниями об отчаянной борьбе с цензурой, которая время от времени запрещала – трудно поверить – «Крокодила», «Муху-Цокотуху», и теперь только в страшном сне могут присниться доводы, по которым ошалевшие от самовластия чиновники их запрещали. «Запретили в “Мойдодыре” слова “Боже, Боже” – ездил объясняться в цензуре». Таких примеров – сотни. Это продолжалось долго, годами. Уже давно Корней Иванович был признан классиком детской литературы, уже давно его сказки украшали жизнь миллионов и миллионов детей, уже давно иные «афоризмы» стали пословицами, вошли в разговорный язык, а преследование продолжалось. Когда – уже в сороковых годах – был написан «Бибигон», его немедленно запретили, и Корней Иванович попросил меня поехать к некой Мишаковой, первому секретарю ЦК комсомола, и румяная девица (или дама), способная, кажется, только танцевать с платочком в каком-нибудь провинциальном ансамбле, благосклонно выслушала нас – и не разрешила.
Впрочем, запрещались не только сказки. Выбрасывались целые страницы из статей и книг.
Всю жизнь он работал, не пропускал ни одного дня. Первооткрыватель новой детской литературы, оригинальный поэт, создатель учения о детском языке, критик, обладавший тонким, «безусловным» вкусом, он был живым воплощением развивающейся литературы. Он оценивал каждый день: что сделано? Мало, мало! Он писал: «О, какой труд – ничего не делать». И в его долгой жизни светлым видением встает не молодость, а старость. Ему всегда мешали. Не только цензура. «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я – без гнезда, без друзей, без своих и чужих. Вначале эта позиция казалась мне победной, а сейчас она означает только сиротство и тоску. В журналах и газетах – везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что чужой».
Бессонница преследует его с детства. «Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница». Кто не знает пушкинских стихов о бессоннице:
Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу.Этот смысл годами пытался найти Чуковский.
«В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе – и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения этого я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь? Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы какой-то кусочек – и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: “сплю я или не сплю? засну или не засну?”, шпионишь за вот этим маленьким кусочком, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаком по черепу! Бил до синяков – дурацкий череп, переменить бы – о! о! о!..»
Легко рассказать об этой книге, как о портретной галерее. Читатель встретит в ней портреты Горького, Блока, Сологуба, Замятина, А. Толстого, Репина, Маяковского – я не перечислил и пятой части портретов. Одни выписаны подробно – Репин, Горький, – другие бегло. Но и те, и другие с безошибочной меткостью. И эта меткость – не визуальная, хотя внешность, походка, манера говорить, манера держаться – ничего не упущено в любом оживающем перед вами портрете. Это – меткость психологическая, таинственно связанная с оценкой положения в литературном кругу. Впрочем, почему таинственная?
Чуковский умел соединять свой абсолютный литературный вкус с умением взглянуть на весь литературный круг одним взглядом – и за этим соединением вставал психологический портрет любого художника или писателя, тесно связанный с его жизненной задачей.
Но все это лишь один, и, в сущности, поверхностный, взгляд, который возможен, чтобы представить читателю эту книгу. Сложнее и результативнее другой. Не портреты, сколько бы они ни поражали своей свежестью и новизной, интересны и характерны для этого дневника. Все они представляют лишь фрагменты портрета самого автора – его надежд, его «болей и обид», его на первый взгляд счастливой, а на деле трагической жизни.
Я уже упоминал, что ему мешали. Это сказано приблизительно, бледно, неточно. Евгений Шварц написал о нем осуждающую статью «Белый волк» – Чуковский рано поседел. Но для того, чтобы действовать в литературе, и надо было стать волком. Но что-то я не слышал, чтобы волки плакали. А Корней Иванович часто плачет – и наедине, и на людях. Что-то я не слышал, чтобы волки бросались на помощь беспомощным больным старушкам или делились последней пятеркой с голодающим литератором. И чтобы волки постоянно о ком-то заботились, кому-то помогали.
Уезжая из Кисловодска, он записывает: «…Тоска. Здоровья не поправил. Отбился от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе (смерть маленькой дочки Мурочки. – В. К.) не возвысило меня, а еще сильнее измельчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы – я без гроша денег, без имени, “начинающий автор”. Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке – единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, а мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого». Последняя фраза знаменательна. Чувство двойственности сопровождало его всю жизнь. Он находит его не только у себя, но и у других. Недаром из многочисленных разговоров с Горьким он выделяет его ошеломляющее признание: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с новой властью приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя».
Проходит немного лет, и эту вынужденную двойственность он находит в поведении и в произведениях Михаила Слонимского: «Вчера был у меня Слонимский. Его “Средний проспект” разрешен. Но рассказывает страшные вещи». Слонимский рассказал о том, как цензура задержала, а потом разрешила «Записки поэта» Сельвинского и книгу Грабаря. «В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько измотают нервов, пока выпустят. А задерживают немного, потому что мы все так развратились, так “приспособились”, что уже не способны написать что-нибудь неказенное, искреннее. Я, – говорил Миша, – сейчас пишу одну вещь – нецензурную, которая так и пролежит в столе, а другую для печати – преплохую». На других страницах своих записок Корней Иванович рассказывает о множестве других бессмысленных решений ужесточающейся с каждым годом цензуры.
Но дальше этого профессионального недовольства одним из институтов Советской власти он не идет. И даже этот разговор кончается сентенцией, рассчитанной на то, что ее прочтут чужие глаза: «Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, так как мы легко можем представить себе такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть».
Только страх мог продиктовать в тридцатых годах такую верноподданническую фразу. Она объясняет многое. Она объясняет, например, тот поразительный факт, что в дневнике, который писался для себя (и, кажется, только для себя), нет ни одного упоминания об арестах, о процессах, о неслыханных насилиях, которым подвергалась страна. Кажется, что все интересы Корнея Ивановича ограничивались только литературными делами. В этом есть известное достоинство: перед нами возникает огромный, сложный, противоречивый мир, в котором действуют многочисленные развивающиеся, сталкивающиеся таланты. Но общественный фон, на котором они действуют, отсутствует. Литература – зеркало общества. Десятилетиями она была в Советском Союзе кривым зеркалом, а о том, что сделало ее кривым зеркалом, упоминать было не просто опасно, но смертельно опасно. Невозможно предположить, что Корнея Ивановича, с его проницательностью, с его талантом мгновенно «постигать» собеседника, с его фантастической преданностью делу литературы, не интересовало то, что происходило за пределами ее существования. Без сомнения, это была притворная слепота, вынужденная террором.
И кто знает, может быть, не так часто терзала бы его бессонница, если бы он не боялся увидеть во сне то, что окружало его наяву.
Я не надеюсь, что мне удалось рассказать об этой книге так, чтобы читатель мог оценить ее уникальность. Но, заранее сознаваясь в своей неудаче, я считаю своим долгом хоть кратко перечислить то, что ему предстоит узнать.
Он увидит Репина, в котором великий художник соединялся с суетливым, мелко честолюбивым и, в сущности, незначительным человеком. Он увидит Бродского, который торговал портретами Ленина, подписывая своим именем холсты своих учеников. Он увидит трагическую фигуру Блока, написанную с поражающей силой, точностью и любовью, – история символизма заполнена теперь новыми неизвестными фактами, спор между символистами и акмеистами представлен «весомо и зримо».
Он познакомится с малоизвестным периодом жизни Горького в начале двадцатых годов, когда большевиков он называл «они», когда казалось, что его беспримерная по светлому разуму и поражающей энергии деятельность направлена против «них».
Меткий портрет Кони сменяется не менее метким портретом Ахматовой – все это отнюдь не «одномоментно», а на протяжении лет.
Я знал Тынянова, казалось бы, как самого себя, но даже мне никогда не приходило в голову, что он «поднимает нравственную атмосферу всюду, где он находится».
Я был близким другом Зощенко, но никогда не слышал, чтобы он так много и с такой охотой говорил о себе. Напротив, он всегда казался мне молчаливым.
О Маяковском обычно писали остро, и это естественно: он сам был человеком режущим, острым. Чуковский написал о нем с отцовской любовью.
Ни малейшего пристрастия не чувствуется в его отношении к собственным детям. «Коля – недумающий эгоист. Лида – врожденная гуманистка».
Не пропускающий ни одной мелочи, беспощадный и беспристрастный взгляд устремлен на фигуры А. Толстого, Айхенвальда, Волошина, Замятина, Гумилева, Мережковского, Лернера. Но самый острый и беспристрастный, без сомнения, – на самого себя. «Диккенсовский герой», «сидящий во мне авантюрист», «мутная жизнь», «я и сам стараюсь понравиться себе, а не публике». О притворстве: «это я умею», «жажда любить себя».
Дневник публикуется с того времени, когда Чуковскому было 19 лет, но, судя по первой странице, он был начат, по-видимому, значительно раньше[1]. И тогда же начинается этот суровый самоанализ.
Еще одна черта должна быть отмечена на этих страницах. Я сравнительно поздний современник Чуковского – я только что взял в руки перо, когда он был уже заметным критиком и основателем новой детской поэзии. В огромности тогдашней литературы я был слепым самовлюбленным мальчиком, а он – писателем с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений. Нигде я не встречал записанных им, поражающих своей неожиданностью, воспоминаний Горького о Толстом. Нигде не встречал таких трогательных, хватающих за сердце строк – панихида по Блоку. Такой тонкой характеристики Ахматовой. Такого меткого, уничтожающего удара по Мережковскому – «бойкий богоносец». Такой бесстрастной и презрительной оценки А. Толстого – впрочем, его далеко опередил в этом отношении Бунин. А Сологуб с его доведенным до культа эгоцентризмом! А П. Е. Щеголев с его цинизмом, перед которым у любого порядочного человека опускались руки!
Еще одно – последнее – замечание. Дневники Чуковского – глубоко поучительная книга. Многое в ней показано в отраженном свете – совесть и страх встают перед нами в неожиданном сочетании. Но, кажется, невозможно быть более тесно, чем она, связанной с историей нашей литературной жизни. Подобные книги в этой истории – не новость. Вспомним Ф. Вигеля, Никитенко. Но в сравнении с записками Чуковского, от которых трудно оторваться, – это вялые, растянутые, интересные только для историков литературы книги. Дневники Корнея Ивановича одиноко и решительно и открыто направляют русскую мемуарную прозу по новому пути.
26/VI.88
В. Каверин
Дневник. 1901–1921
1901
24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, – не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятье, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я уславливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня – моих настроений и дум – пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него, и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь… теперь я уже заранее стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, – стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, – и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, она, для которой я делаю все это – моя милая, томная, жгучая, неприступная, – она и т. д.
Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать ее опять для себя понятной и близкой, а для другого – я это отлично понимаю [край страницы оторван. – Е. Ч.].
25 февраля 1901. Реликвии. Вот кусочек из моего письма к Сигаревичу (98 или 99 г.): «…хочешь узнать, как я провожу время? – Утром даю уроки, объясняю, что мужеский род имеет преимущество пред женским и что Бог есть Дух, но (!) в 3-х лицах, смотрю на толстые ноги моей ученицы и удивляюсь, как это при таких толстых ногах можно изучать придаточные предложения… Потом завтракаю – почтительно выслушиваю от мамаши, что хорошим человеком быть хорошо, а дурным – дурно, что она меня даром кормит и что завтра же пойдет она к директору… Потом читаю, читаю глупо, бессистемно, не дочитывая до конца… В 2 часа обед. За обедом узнаю, что Бог помогает хорошим людям, а скверным не помогает. Съедаю огромное количество слив, яблок и валяюсь на диване. Потом часа в 4 приходит Кац, с ним мы читаем вместе, изучаем историю русской литературы. Узнаем, в каком году родился Некрасов; и кто был отец Тургенева; узнаем, что литература – это зеркало; и узнав все это, идем на житковскую лодку*[2], где катаемся почти ежедневно. Берем с собою Розенблост, Вольф, Кац, Зильберман. Они пищат, визжат, трещат и верещат. Возвращаемся поздно. Выслушиваю краткие, но выразительные речи, сплю… Вот и все… Не правда ли, славно?»
А вот одна сохранившаяся страничка из моего прежнего дневника:
27 сентября 1898 г. «Странные вещи бывают на свете! Иду я сегодня вечером и самым наивным образом балакаю с Машей. Она несколько раз обмолвилась, назвала меня Даней, но, в общем, все благополучно… Не дошли мы еще до половины квартала, как из-за угла показались 3 фигуры – 2 гимназиста, а один – этак штатский как будто. Маша мне не сказала ни слова, а только сильно ускорила шаги. Я обернулся – гимназистов нет! Что за черт! Бегу обратно, бегу, т. к. прохладно. Вдруг подбегает ко мне Сеня Гроссман, валит меня на землю, садится на меня верхом, колотит и расспрашивает, где я сейчас был… «У Юзи…» – «Врешь, – заорал Сеня, – ты провожал М…» – «Да, провожал и объяснялся ей в любви», – ответил я. «Нет, вы, наверно, философствовали о носовых платках, а впрочем, что ж? У Коли кровь молодая, играет, как вино искрометное», – смеялся Даня…»
Интересно, что этого эпизода я совсем не помню. Помню свое о нем воспоминание, но его самого словно и не бывало.
Кусочек романа, который я писал, когда мне было 15 лет:
«Он не помнил, как это случилось, как это из религиозного мальчика, встававшего в полночь для тайной молитвы [край страницы оторван. – Е. Ч.]. А тогда ему было не до смеху, тогда, помнится ему, он подосадовал на нищих, но немного спустя ему пришло в голову, что по христианству осуждать брата, называть его подлецом – грешно, и он тотчас же вычеркнул из своей головы грешные мысли и заставил себя думать, что виноват, собственно, он, а не нищие… Такие зачеркивания происходили довольно часто. Захотелось ему в пост мяса – он сейчас заставляет себя думать: нет, мне мяса не хочется, мне хочется гороху, и так всегда и во всем. А как он зато был счастлив! Даст ли он милостыню, выучит ли уроки, поможет ли калеке перейти улицу, – он уверен, что там, где-то наверху кто-то радуется, что все эти поступки кем-то и куда-то засчитываются и что в конце концов душа его получит воздаяние. И он старался изо всех сил делать как можно больше добрых дел, т. к. себя он любил больше всех, т. к. хотел для своей души как можно лучшее достояние…
А теперь, теперь он с тоской жмется к подушке, стараясь отогнать мысли, которые еще не роятся в его голове, а стоят где-то в стороне, вне его; он чувствует их присутствие в мозгу. Но он еще борется и мучительно старается думать о другом, о том, что сказала ему Лиза, о том, что….»
Ей-богу, ничего себе. Или я, быть может, не умею приложить к этому роману теперешнего критерия, а оставляю прежний? Я почти уверен, что это так. Заставить себя забыть прежнее мнение, забыть прежнего себя.
Дневник – громадная сила, – только он сумеет удержать эти глыбы снегу, когда они уже растают, только он оставит нерастаянным этот туман, оставит меня в гимназической шинели, смущенного, радостного, оскорбленного. Вот слушай, дневник, оставь мне навсегда это, – я иду от Ф…Половина десятого. Я должен уйти, туда пришла она… Иду и смеюсь… Она, гордая и чужая, требует, чтобы я ушел немедленно, она близка мне, она понимает, сочувствует, любит, она вся во мне… Вот она идет со мною, она знает, как это натягивают шинель и хлюпают калошами по лужам, как это размахивают руками, как это говорят: до свиданья, господа! – она знает, эта суровая жидовка с нахмуренными бровями, она говорит мне: «или я, или ты», а это звучит для меня «милый, дорогой, близкий, понятный, и я, и ты», – о, если б ты имел силу удержать навсегда это, чтоб ни один кусочек сегодняшней жизни моей не ускользнул от тебя… Что там? «Монистический взгляд на историю». Дивный монистический взгляд. Доня, шахматы, Ибсен, первые проблески весны, через 3 недели 19 лет, – все это годится для того, чтобы у меня лет через 20 вырвался крик зависти, щемящей зависти к самому себе (Без 10 м. 10 ч.)
Продолжаю собирать клочки. В 14 лет я написал пародию на Лермонтова:
1) Когда весь класс волнуется, как нива, Учитель уж дошел до буквы К; Как в саду малиновая слива Спину соученика 2) Когда глаза обращены в бумагу, А сам я жду, когда бы поскорей Наш страж порядка, наш Фаддей, Пролепетал звонком таинственную сагу.(оборвано) не помню. Конец такой:
Тогда-то, чуть задребезжит звонок, Смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе. Тогда благодарю сердечно Бога, И пятки лишь мои сверкают по земле.27 февраля. Утром в 6 часов был у Вельчева, давал урок. Буду делать так каждый день. Сильный южный ветер. За тучами солнца не видать, но оно чувствуется. Если бы я был поэтом, я сказал бы: так я, не видя Маши, чувствую ее. Сегодня вторник, вечером лекция. Я в десять часов встречу ее на ее крыльце и скажу ей: у тебя домоседские, семейственные наклонности. Ты живо и сильно привязываешься к людям… Тебе будут мои метанья не по сердцу. Тебе будет скучно по всем, кого я здесь брошу без капли жалости. Я тебе наскучу своими книжками да болтовней… Вот 3 вещи, которые ужасают меня. Скажи, что это не так; но если это так, что тогда? Не отнимай у меня опять моих надежд… Не отвечай мне ничего. Тогда… что тогда?.. Детко мое!
Буду продолжать свою «лекцию». В 4 часа пойду к Лизе и попрошу ее научить меня шить. Она хотела, чтобы я стал ее расспрашивать, почему ей нужно, чтобы мы расстались. В этом кокетстве много искренности, но теперь меня интересует одно – чтоб она научила меня шить.
Что это такое? На меня иногда находит такой столбняк, что я ни одной мысли самой простой не могу выразить.
Теперь 10 м. 5-го. К Лизе не пошел, «лекции» не писал, а разбрасывал снег, царапал себе лицо и бегал за молоком.
Уже больше 3-х лет не было у меня такой пустоты, как сейчас. Интеллектуальной жизни для меня почти не существует. Страдать от какой-нб. идеи, от «теории» я теперь не умею. Пропала и потребность в этих идеях и теориях. И я догадываюсь, почему. За 2 эти месяца вокруг меня только и делалось, что спрягались слова «любить», «ненавидеть», «презирать»; писались длинные письма, содержание которых я забывал через 2 минуты, в товарищах у меня оказалось такое пустое место, как Митницкий, – и вот результаты. Ну ничего, авось с Машкой догоним!
Вот стихотворенье, которое я написал ей год тому назад (а впрочем, потом). Пустота, пустота и пустота. Буря бы грянула, что ли!*
Все мысли, какие приходят в голову, вялы, бесцветны, бессодержательны, – мышление не доставляет, как прежде, удовольствия… Хорошая книга не радует, да и забыл я, какую книгу называл прежде хорошей. Раньше, когда находили на меня такие настроения, я их утилизировал, извлекал из них наслаждение, – я носился с ними, гордился, миндальничал, а теперь – просто бессилие и больше ничего. Вот даже дневника не могу вести. Теперь бы пошел я к М. Дернул бы ручку. Подождал. Через 3 минуты задергался бы засов. «Здравствуйте». Запах углерода. Ну а потом? Нет, я и к Маше не хочу.
Взял Некрасова. Хромые, неуклюжие стихи, какой черт стихи, – газетные фельетоны!
Идти на улицу, лужи, холодно, не к кому, рожа расцарапана…
Теперь 9 часов. Прочитал Глеба Успенского «Поездка в Сербию» – словно поговорил с умным, чутким, сердечным человеком. Был у меня Доня. Слушал, как я читаю ему Некрасова, спал на моей кровати, пил чай, курил. Он как в воду опущенный. Лишился, бедняга, урока. Маше написал записку. Изложил то, что хотел изложить устно. Я перед нею глупею, и нет у меня слов, нет у меня ничего… Так я лучше письменно… Пойду и стану в точке а. Это самое короткое расстояние. Хотя лучше бы в точке в. Посмотрю. Как бы Сигаревич не того… На небе вызвездило, ветер большой. Это хорошо. Иначе – туман и гниль. А ведь ей-богу мой дневник похож на дневник лавочника. Какие-то метеорологические заметки, внешняя мелочь…
Ну так что ж? Природой я всегда интересовался (не с эстетической точки зренья, а скорее с утилитарной), а мелочи мне теперь на руку. Довольно я с «крупным» поинститутничал.
«До известного момента!» Она сказала: «До известного момента!» Ура. Стало быть, она не переменила своего решения. Что и требовалось доказать. Половина 11-го. Спать. А письмо мы все же спрячем. Вклеим. И покажем ей в «известный момент». Момент ли? Известен ли?
28 [февраля]. Был у Вельчева. Снег. Когда шел туда в три четверти шестого, у М. горела лампа. Неужели она так рано встает?
1-го марта. Лампа опять горела. Кто у них так рано встает?
Ф. наговорила мне дерзостей и глупостей, которых я не заслуживаю. Я всем говорю, что еду, для того чтобы не заподозрили никакой задней мысли. С самым простодушным видом подхожу к каждому знакомому: знаете, я через неделю еду. Куда? В Аккерман… – экзамен держать. Ф. видит в этом профанацию чувства к М… М. сказала мне, что она ни за что не скажет Ф., что любит меня. «Она не поймет… Ну, скажите, на каком языке я объясню ей это, чтобы она поняла?» Я согласился с этим и не сказал ни слова Ф-е. Вдруг вчера Ф. говорит мне: «Скажите, как вы относитесь к плану М.?» Кровь бросилась мне в голову. «Неужели это они только условились. Неужели М. сказала ей все?» Оказалось еще худшее. М. ей всего не сказала, а пожаловалась на меня, что я подбегал к ней. Это не годится. Черт знает что может подумать Ф. Я сделал один промах. Говорю ей: «Ф., скажите мне, когда вы уверяли меня, что М. меня не любит, вы уже знали, что это неправда?» Удивленное лицо. «Неужели вы думаете, что она вас любит? Да как вам не стыдно!..»
Милая М., если б только одно слово!..
2 марта. Странная сегодня со мною случилась штука. Дал урок Вельчеву, пошел к Косенко.
Позанялся с ним, наведался к Надежде Кириаковне. Она мне рассказывала про монастыри, про Афон, про чудеса. Благоговейно и подобострастно восхищался, изменялся в лице каждую секунду – это я умею. Ужасался, хватаясь за голову, от одного только известия, что существуют люди, которые в церковь ходят, чтобы пошушукаться, показаться, а не – и т. д. Несколько раз, подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками.
И так дальше. Вдруг на эту фальшивую почву пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви*. Я не согласен ни с одной мыслью Толстого, убеждения его мне столь же дороги, как и убеждения Жужу, – и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-летнего юноши начинаю цицеронствовать.
«40 лет, – говорю я, – великий и смелый духом человек на наших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова… Мы стояли, разинув рот, и говорили, позевывая: “Да, ничего себе. Его от скуки слушать можно…”, и руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот… наконец, мы соблаговолили вытащить руки, чтобы… схватить его за горло и сказать ему: как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать? В 74 года это не полагается…» И так дальше. Столь же торжественно и столь же глупо…
Т. е. не глупо, говорил я в тысячу раз сильнее и умнее, чем записал сейчас, но зачем? Как хорошо я сделал, что не спросил себя: зачем? Какое это счастье! Если бы я был когда-нб. наверное убежден, что хочу видеть М., хочу на самом деле, а не выдумываю этой потребности, она сейчас сидела бы возле меня и ее холодные руки лежали в моей красной, громадной руке. Но… черт его знает, хочу ли я. Зачем это бывает так редко, что мы не спрашиваем себя ни о чем, а делаем так, как вырвется у нас? Да если б мы имели эту способность. Боже, как бы сильны мы были! Маня Ландесман, Сигаревич, Митницкий – и вообще вся эта дрянь – да ведь они скалы передо мною.
И теперь я не посмеюсь над своею нелепой речью, не пожалею, что стал похож на этих милых идиотов. Но главного я не сказал. Говорил я свою речь, говорил, и так мне жаль стало себя, Толстого, всех, – что я расплакался. Что это? Вечное ли присутствие Маши «в моей душе», присутствие, которое делает меня таким глупым, бессонные ли ночи или первая и последняя вспышка молодости, хорошей, горячей, славной молодости, которая… Маша! Как бы нам устроить так, чтобы то, от чего мы так бежим, не споймало нас и там? Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идиллии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни. Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную. Как? Помоги мне…
Говорю я это и не верю себе ни в грош. Может быть, мне свобода не нужна. Может быть, нужно мне кончать гимназию*, м. б. все это [край листа оторван. – Е. Ч.].
3 марта. Полка книг, – а впрочем… К маю – июню научимся английские книги читать, лодку достанем. Май на лодке, июнь и вообще лето где-ниб. в глуби Кавказа, денег бы насобирать и марш туда! А чтоб денег насобирать – работать нужно. Как, где, что? Не знаю. Но знаю, что не пропадем. Только заранее нужно теоретически поставить вопрос, когда, от каких причин возникает обыденность, скука, сознание взаимной ненужности, как пропадает та таинственность (я готов сказать: поэтичность) отношений, без которой(ых) такие люди, как мы с Машей, не можем ничего создать, не можем ни любить, ни ненавидеть… Мы хотим обмана, незнания, если обман и незнание дают счастье. Нет ни одного влюбленного, который, узнав свою возлюбленную, продолжал бы любить ее. «Я ошибся, я обманулся», – говорит он через месяц. Я ни за что никогда не хочу ни произносить, ни слышать от нее таких слов. «Чем я был пьян, вином поддельным иль настоящим – все равно!»* Лишь бы быть пьяным. Если я узнаю, что это вино поддельно, я перестану пить его – и не достигну цели своей – быть пьяным. Так я предпочитаю не узнавать, каково вино. «Дай мне минувших годов увлечения, дай мне надежд зоревые огни.» и т. д. «Все ты возьми, в чем не знаю сомнения, в правде моей – разуверь, обмани, дай мне…» и т. д. И выше: «Дай мне опять ошибаться дорогами!»* Вот чего я прошу от всех, от судьбы, от людей, от труда, вот в чем единственный исход… (Об этом нужно будет сказать Сократу.) Ну так – стало быть, тайна, ошибка. Умышленная ошибка! По условию: ты обманываешь меня, а я обману тебя. Как же достичь этого лучшим манером?
1) Не быть вместе, т. е. занять большую часть дня отдельной работой. Вместе больше работать, чем беседовать. Жить отдельно… Если можно, даже устроить себе препятствие, т. к. препятствие усиливает желание.
Обедов не устраивать. Домашний обед – фи! Совсем как Клюге с Геккер… Молоко, какао, яйца, колбаса – мало ли что? Лишь бы не было кастрюль, салфеток, солонок и др. дряни… Это первый путь к порабощению. Я уверен, что какой-нб. кофейник – гораздо больше мешает двум людям порвать свою постыдную жизнь, чем боязнь сплетен, сознание долга. (Фу, какое скверное слово, опоэтизированное, как знамя.) «Дикая утка» – почему муж остается с женой. (Кстати… Был у меня рассказ, как одна девушка в холерный год делает чудеса самопожертвования, не боится ни заразы, ни невежества мужиков, ни интриг фельдшеров – ничего и, когда ее переводят из тесной каморки учительницы в крестьянскую просторную избу богатого мужика, уезжает, испуганная словами жены этого мужика, что в избе много тараканов.) Долой эти кофейники, эти чашки, полочки, карточки, рамочки, амурчики на стенках. Вообще, все лишнее и ненужное! Смешно! Она прямо и сознательно сказала мне: я, Коля, отдам вам всю жизнь. А если бы я попросил у нее, чтобы она ходила в платке и не надевала бы шелковой кофточки, она этого не сделала бы. Тараканы, тараканы!
3) Нужно заботиться, чтобы жить возможно больше общими интересами. Чтобы мое слово не стало для нее никогда чужим и бессмысленным, чтобы мое желание прочитать эту книгу стало ее желанием, не только потому, что оно мое…
Как же сделать это? Нужно заняться вместе с нею чем-нб. таким, чего мы оба в равной мере не знаем. Ну вот хотя бы историей. Политическую экономию мы с нею проштудируем так, что только держись. Вообще, этого я не боюсь. Ее «босячество» мне в этом порукой.
Когда я говорю слово «босячество», мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы… Где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе – раз, два, – и никаких. Руки в карманы. И кричать, и петь, и плакать. Смотришь, над полем медлительные вороны обделывают свои темные делишки… сбираются в какую-то шайку. Кричишь им: «Эх вы, вороны! Вороны! Ну что такое вороны! Глупые вы вороны! Зачем?»
И потом идешь дальше и часа два твердишь себе в душе: вороны, вороны.
Вот такое настроение, которое возникает от такой обстановки, у такого человека, в такое время, я и называю «босячеством». (Боюсь, что через год я не пойму этого определения.) Ну, так я говорю, что у Маши этого босячества – тьма. На него я возлагаю большие надежды. Но тараканы, тараканы… Те самые, что завелись в телефоне чеховского «Оврага»*, вот чего я боюсь. Тот рассказ о тараканах. Сюжет его очень труден, в моем теперешнем изложении он кажется даже неправдоподобным. Но у меня это рассказывается так естественно, так просто, читатель так вводится в круг событий, что под конец – когда героиня убегает – он не то что понимает, а даже чувствует, что и он сделал бы так… Здесь в этом рассказе типично и характерно не действующее лицо, а самое положение. Здесь читатель не воскликнет: «Ах, сколько таких людей я видел вокруг!» – нет, он скажет: «Сколько раз я был в таких положениях!» Разве не потому я отдал сына в гимназию, что боялся тараканов! Разве не тараканы помешали мне бросить и асессорство, и столоначальничество, и винт, и серебряную табакерку на 25-летнем юбилее, разве не от тараканов дочка моя Любочка вышла замуж за… и т. д.»
__________________
Не то я говорю… Я иногда через минуту не понимаю своей мысли. Мне хотелось поговорить о типичности положений, а съехал я на разговоры о мелочи житейской (хотя, ей-богу, под тараканами подразумевал кое-что крупнее мелочей). Джером Кл. Джером где-то говорит, что если ищешь какую-нб. книгу, она всегда оказывается последней. Поговорю об этом потом, а теперь пущу Меланью прибирать, а сам почитаю.
Только что кончил П. Бурже «Трагическую идиллию». Первый и, надеюсь, последний роман этого автора я читал. Читал я его с такими перерывами, теперь, одолевая конец, вряд ли бы мог рассказать начало. Впечатление, однако, я получил цельное и очень определенное. Очень наблюдательный человек, умный, образованный – Бурже абсолютно не художник. Всякое лицо появляется у него на сцену готовым, известным нам досконально, и это знание мы получаем не из поступков героев, а из разглагольствований автора. Они, эти заранее приготовленные фигуры, дергаются потом автором за привешенные к ним ниточки, и ни одного их качества, ни одной стороны их характера мы из этих их движений не познаем. Художественного восприятия нет, а есть только холодное научное понимание. Притом же Бурже нисколько не скрывает, почему он дернул именно эту веревочку, он считает своим долгом объяснять каждое свое «дерновение»… «Пьер, – говорит он, – поступил так-то и так-то, потому что все натуры такого рода, когда с ними случается то-то, делают так-то». Сколько измышления, сколько выдуманности и холодности в таких объяснениях, в таком выставлении напоказ своей художественной лаборатории. Мыслить образами – да разве можно художнику без этого! Да будь ты хоть распреумный человек, но если ты не можешь познать вещь иначе, как через длинную логическую цепь доказательств, произведение твое никогда не заставит нас вздрогнуть и замирать от восторга, никогда не вызовет слезы на наших глазах… Сколько ума, наблюдательности вложил Бурже в свой роман… Каждое слово его – показывает необыкновенную вдумчивость, каждое лицо его – как живое стоит перед нами. Но жило оно до тех пор, как Бурже ввел его в свой роман, чуть оно попало сюда, чуть он перестал говорить о своих героях, а пустил их на свободу жить – он не сумел стать в стороне от них да и смотреть, что из этого выйдет.
Нет, он стал справляться с рецептами учебников психологии и т. д. Поневоле вспоминается наша «Анна Каренина», это дивное окно, открытое в жизнь. Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого, его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, который сталкивал их, как было ему угодно; забываешь. А когда вспомнишь, как громаден, безграничен кажется этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь!..
А здесь? Сколько пресных рассуждений потребовалось для того, чтобы оправдаться перед читателем за то, что баронесса Эли высморкала нос в четверг, а не в пятницу, сколько жалких слов требуется для него, чтобы заставить меня посочувствовать этой бедной, оскорбленной женщине… жалких слов, которые так и не попадают мне в сердце, а вечно суют мне в глаза автора, который неумело пригнулся за ширму и дергает за веревочку своих персонажей, заботясь больше о том, чтобы была видна его белая артистическая рука, чем о движениях своих марионеток. И я, воздавая дань справедливости Полю Бурже, должен сказать, что рука у него гладкая, белая, холеная, – но и только.
Теперь у нас все идет к весне, хотя все мы упорно держим в голове, что март бабу заморозил. Март – самый капризный месяц. И настроение у людей в марте по сорок раз в день меняется… А неизменным остается одно: чувство недоверия, подозрительность, мнительность. На дворе солнце, подле Вельчева травка, а в голове «замерзшая баба». Вот месяц, когда царь Давид мог бы и скинуть свое кольцо с надписью «все проходит» (если ношенье его было, конечно, неудобно)… Стоило ему глянуть в окно. Вон у меня в окно видно горничную Косенко. Стоит в платочке, замечталась, в небо глядит. И чувство чего-то необычного и в этом стоянии, и в этом мечтании – как-то веселит и пугает меня. Точь-в-точь кольцо Давида. Черная (а не зимняя серая) туча разорвется, и оттуда глядит синее небо, новое, незнакомое, забытое… Смотрю вверх и думаю: что это меня испугало? – А! Это новый узор облаков. Раньше испугаешься, а потом дашь себе отчет, почему испугался.
Прочитал Успенского: «Умерла за направление». Собственно – перечел. Лет 5 тому назад он уже попадался мне под руку.
Максим Иванович, от лица которого ведется рассказ, этот человечек, вечно помалкивающий в уголку, не умеющий связать двух слов, вечно отвлекающийся, – вот художник, громадный, стихийный; иначе, как образами, он и думать не умеет… Образы борются в нем, переливаются, сталкиваются, рвутся наружу, – и всем не художникам людям кажется, будто человек этот, раздираемый образами, отдающийся их власти, будто он просто-напросто не умеет правильно мыслить.
Рассказывает он про одного обстоятельного человека. Другой бы прямо сказал: так и так, обстоятельный был человек. Этот так говорить не умеет. Он приводит несколько эпизодов из жизни этого человека, заставляет его двигаться, говорить, жить – и мы из этих его движений да говорений выводим: обстоятельный человек. Меня, конечно, нисколько не соблазняет параллель между Бурже и Максимом Иванычем. Я это так, к слову, а я про другое. Про распространение идеи в обществе. Для этого следовало бы профессора Крживицкого прочитать да боборыкинским «Однокурсником» и приложить. Мне всегда казалось подозрительным и антихудожественным то маленькое обстоятельство в романах этого господинчика, что он показывает нам людей, сконцентрированных у данной идеи, стоящих, так сказать, у ее очага, у колыбели ее, а многие ли стоят у колыбели? 10–15, не больше. А идея раскинется геть широко, широко, и опынется[3], глядь, где-нб. на Чукотском носу, преломленная, отраженная, изменившаяся до неузнаваемости, неощутимая теми, кто выражает ее, на шкуре кого она вырисовывает разноцветные узоры. Декадентство!
__________________
Г-жа Цадик спрашивает: мама вдома? – «Дома, дома! Пожалуйте!» Маня пошла зажечь в «апартаментах» лампу, – писать мне больше не хочется. Теперь четверть седьмого. У мамы денег нет. Дал Меланье на обед деньги я. Жалко – страсть. На котлеты, суп и молоко пошло 89 коп., причем суп вчерашний. Был у меня сегодня Кира. Я рассказывал ему свои гимназические похождения. Впрочем, нет, теперь не четверть седьмого. Я забыл. Часы стояли. Спросил у Мани. Без четверти восемь.
Видел вчера ее… За полуквартал от дома. Ни взглядом, ни движением не показали мы, что знакомы друг с другом. Оденусь и пойду звать Федору пройтись. «Русское самосознание» – мочи нет, надоело.
__________________
В-о-с-к… – Воск! Что такое воск? – «Не знаю»… – А в церкви была? – «Была». – Свечку ставила? – «Ставила». – А из чего свечка сделана? – «С воску». – Ну, вот видишь, ты знала, что такое воск.
Больная мама лежит и еле улыбается, ей нравится все это священнодействие. Тихо, чисто в комнате, ее любимая взрослая дочь мирно трудится – все уютно, патриархально, ей хочется улыбнуться, она не может, сил нет.
Только что пришел со двора. Скверно и гнило. Федоре сказал, что сегодня читать с нею не буду. Вернулся домой.
Сейчас лягу спать и почитаю в постели что-нб. легенькое.
С невинной Мальвиной У длинной Федоры Сидел я в гостиной И вел разговоры. «В угоду народу, — Сказала Мальвина, — В огонь я и в воду»и т. д.
Завтра почтальон принесет мне ответ от Вольдемара… Ровно 2 недели. Неделя туда, неделя обратно.
4 марта. Воскресение. Нет еще и девяти часов. Пришел от Вельчева… Погода великолепная. Утром – небо розоватое, ветерок подсушил дорогу. Камни беленькие, чистенькие, крыши сухие и матовые… Здоровье и надежда.
Вчера на ночь прочел хорошенький рассказик. С французского. Заглавия не помню. [Пересказ рассказа пропущен. – Е. Ч.]
Жить ожиданьями, надеждами нельзя – старость – время, когда живут прошедшим, воспоминаньями, и – да здравствует человеческая способность обманывать себя! – старичок начинает внушать себе, что он мог бы быть человеком. Что в прошедшем случилось что-то несправедливое, обидное, и отрадная грусть, горделивое смиренье – все эти приятные для человека чувства, не позволяющие ему оскорблять себя, – наполняют их сердца и позволяют им жить спокойно и тихо долгие годы, сойти торжественно в могилу.
6-го марта. Все, написанное мною под пятым марта, – кусок черновика «Разбор баллады Толстого В. Шибанов» для какой-то гимназистки 8-го класса[4]. Доня доставил мне этот заказ… Исполнив его в три часа, я получил 3 рубля. Ничего себе. Был у меня 4-го числа Вельчев, я с ним занимался от половины седьмого до половины одиннадцатого. Читали «Историю» Соловьева, делали алгебраические задачи… Да, кстати, мой месяц у него начался 2-го числа; те дни я остался ему должен; он же задолжал мне полтинник. Стало быть, я даю ему уже пятый урок, как бы не сбиться.
Так он писал темно и вяло, Что декадентством мы зовем, Потом главу из «Капитала» Читал с Онегиным вдвоем.Пришло мне в голову написать современного «Онегина» – пародию*; фельетончик что ли!
Ничего не ел, аппетит пропал. Устал я очень, бессонница. Эх, если б можно было сегодня же удрать! 3 недели. Как я вынесу их? Эти 3… Уже лет пять я не жил так однообразно, так гнило. Меланья говорит: «Потарамкал, потарамкал супу, да так полную тарелку и оставил»… Попробую сейчас молоко пить… Ты, я знаю, не любишь молока… 3 недели… Видеть тебя издали, не протянуть тебе руки, не оглянуться, оставаться в полнейшем неведении о твоих желаниях, планах, мыслях, – Маша, ну что это ты делаешь!
Мама больна. Ни кровинки на лице. Еле говорит… (Книги, какие я возьму с собою: Михайловский, Успенский, Бокль, французский словарь, английский словарь, Олендорф, Royal-readers[5], атлас, Пушкин – больше ничего. Продам все. Из учебников: латинский и греческий словарь, латинскую грамматику, алгебру, физику, Закон Божий и т. д.) Мамочка, – прости меня. Разве я имею право иметь какие-то там настроения, писать пустые дневники, любить, терять аппетит – не оправдав твоих надежд, не сделав ни шагу к тому, чтобы оправдать их. «Ах, на что мне судьба буржуа́зии, если я не окончил гимназии», – вот моя пословица.
Март… 7-го, среда. Красота и больше ничего! Красиво сказать:
Товарищ, верь: взойдет она, Заря пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! (Чаадаеву, 18 г.)Пушкин говорит. Но, с другой стороны, очень красив и такой возглас:
Зависеть от властей, зависеть от народа – не все ли нам равно? (36 г., Пиндемонти якобы.)
Он и возглашает.
И не в возгласе дело. А в настроении. Красиво и упоительно быть пророком отчизны своей – вот вам «Клеветники России», где Наполеон назван наглецом, а вот вам в «Пиндемонти»: «Не все ли мне равно, свободно ли печать морочит олухов иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет балагура?»
Все равно! Ну, а в послании к цензору (24 г.):
Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси, Благодаря тебя, не видим книг доселе?*Стыдно. Человек, которому все равно, пристыживает… Скажут, разница лет. Убеждения переменились. Под влиянием чего? Ерунда! Для таких людей, как он, – убеждения не нужны. Пишет он Чаадаеву – думаешь: вот строгий ригорист, вот боец. Чуть не в тот же день он посылает Кривцову письмецо, о содержании которого отлично дает понятие такой конец: «Люби недевственного брата, страдальца чувственной любви». Просмотреть письма – прелесть. В письме к каждому лицу он иной: к Вяземскому – пишет один человек, к Чаадаеву другой; и тип этот выдерживается на протяжении 30-ти писем. Выдерживается совершенно невольно, благодаря внутреннему чутью художественной правды, выдерживается невольно, я готов даже сказать: против воли. Он сам не понимал себя, этот бесконечный человек, он всячески толковал про какую-то особую свободу, про какие-то права, объяснял себе себя: хотел сделать себя типом каким-то, для себя хотел типом быть, в рамки себя заключить. Прочитать его письма к Керн. Это милый шалун, проказник, славный малый, рубаха-парень – и весь тут, кусочка нельзя предположить лишнего, вне этого определения. Вот образчик тона этого письма: «Вы пишете, что я не знаю вашего характера, – да что мне за дело до вашего характера? Бог с ним! разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главная вещь – глаза, зубы, руки и ноги!.. Если б вы знали, какое отвращенье, смешанное с почтением, я питаю к вашему супругу. Божество мое! Ради Бога, устройте так, чтоб он страдал подагрой. Подагра! Подагра! Это моя единственная надежда!» Ну и вдруг:
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, —я не знаю лучшего стихотворенья.
Соединить и то и другое – вот он истинный, живой.
__________________
Вот даю себе слово. Подтянуться в своем дневнике. Заставить его хоть сколько-нибудь отражать мою жизнь. Как это сделать? Потом… Теперь спать. Завтра Вельчев, Бельтов, Косенко, Пушкин, Феодора и царапанье своего лица. Как это сделать? Во-первых, никогда не садиться за дневник, не имея что сказать, а во-вторых, вносить сюда все заметки насчет читаемых книг[6].
8 часов. Открыл форточку – и взялся перед сном почитать письма Тургенева к Флоберу («Русская Мысль», 26 VII), вдруг шум. Я к окну. Дружный, весенний дождь. А утром сегодня было дивно хорошо. Восток красный, края туч золотые.
У Тургенева была дочь, прижитая им от крепостной его матери. Он признался в этом г-же Виардо, та взяла ее к себе в Париж и воспитала там.
9 марта. Письма Тургенева к Флоберу – ничего интересного. Каминский в предисловии уверяет, что Тургенев и Флобер были ужасно дружны, просто влюблены друг в друга*. Может быть! Но в письмах нет ничего сердечного, ничего задушевного… Советы, которые давал Флоберу Тургенев, им не исполнялись. Тургенев советовал переменить заглавие романа «Education sentimentale»[7] Флобер не переменил, Тургенев советовал скорее кончить «Antoine»[8] – Флобер кончил его через 4 года после совета. Интересна лестница обращений Тургенева к Флоберу: «Cher Monsieur», «Cher Monsieur Flaubert», «Mon cher confrère», «Mon cher ami», «Cher ami», «Mon bon vieux»…[9]
Все какие-то коротенькие записочки, с тургеневским несколько надоедливым, несколько бестактным сюсюканьем.к)
Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей И. Иванова, Евг. Соловьева-Андреевича и проч. нынешних говорунов, которых я имею терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтешь 10, 15 стр., тр., тр., тр… говорит, говорит, говорит, кругло, цветисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет. Счастье этому писателю. Он и сам в письме к Анненкову сознается, что ему везет на друзей, а чуть он помер, стали его друзья вспоминать и, по свойству всех стариков, уверенных, что в «их время» было «куда лучше», – создали из него мифическую личность. Некрасов, написавший эпитафию Белинскому, чуть только тот помер, называет его «приятелем», «наивной и страстной душой», а через несколько лет Белинский вырастает в его глазах в «учителя», перед памятью которого Некрасов «преклоняет колени»*. Тургенев был недоволен Добролюбовым и противопоставил ему Белинского – здесь уж и говорить нечего об объективности*. (Правда, Достоевский через десятки лет все же осмелился назвать Белинского – сволочью, но на него так загикали, что Боже ты мой!*)
__________________
Прочитал Ветринского: «Т. Грановский». Не талантливо. Я думал о Ветринском лучше. Все же материалу довольно. Вот эпиграмма на Булгарина, помещенная в «Москвитянине» 40-х годов: «К усопшим льнет, как червь, Ф[иглярин] неотвязный; В живых ни одного он друга не найдет. Зато когда из лиц почетных кто умрет, Клеймит он прах его своею дружбой грязной. – Так что же? Тут расчет: Он с прибылью двойной презренье от живых на мертвых вымещает, и, чтоб нажить друзей, как Чичиков другой, он души мертвые скупает».
10 марта. Только что побил свою больную маму. Сволочь я такая. Сильно побил. Она стала звать дворничиху. Стучала, рвала окно. Я держал ее, что есть силы. «Смейся, смейся! – говорит она. – И над чем ты смеешься?» А у меня слезы на глазах. «Я этого и не заслуживаю, – я дура, ты умный, а кто ж уму тебя научил?» – Черт возьми, какая я дрянь.
Итак, решено… Завтра скажу Мане… Послезавтра иду в редакцию «Листка». Вечером у Маши. Если паспорт буду иметь через 4 дня – драла вперед. Увезу с собою монистический взгляд на историю. Оставлю ей записку.
Раздумал. Так скоро нельзя. Ни за что.
12 марта, понедельник. Вчера была у меня Анна Яковлевна Блюм. Мы с нею позлоязычничали – и я с восторгом убедился, что не отвык еще от этого ремесла. Она пришла за Бельтовым. Я, конечно, ей его не отдал, да он и не ее. Он принадлежит «писателю» Феодору Александровичу Боброву; этот Бобров, как оказывается, получил наследство и живет в Екатеринославе. Я с радостью взялся отнести ему книжку. Через 2 недели я там. Узнал адрес: Новая ул., д. Проскура. Жену его зовут Елисавета Петровна. Будет где остановиться. Для Маши я подстрою – сестру Каца. Нужно узнать, как ее фамилия и где она обитает. Свой план раньше понедельника не выполнил. Даже у Вельчева не был – ботинок нема. Вчера от 5 до 11 читал вслух Вельчеву «Евгения Онегина» и «Мертвые Души»…к)
13 [марта], вторник. Вчера видел ее. Луна. Все бархатное, мягкое.
Не забыть зайти к Грабку – урок. Скоро десять. До десяти потолкую, а дальше ни-ни.
Зайти мне к М. 15-го? Нет. Зайду 19-го. На именины. Зайду и скажу ей: 24-го в субботу будьте в 9 часов… Нет, она заподозрит ложь. Лучше сделаю, если подойду к ней 23-го. 10 дней! Как ждать?
Все что угодно, только не ждать. Этого я не умею. Жить «покамест» – это не жить. Милая, как хватает у тебя силы?.. Теперь я не имею никаких интересов, никаких стремлений. Прежнее оставил, новых «покамест» не получил. И живешь «как-нибудь», все равно как-нб., лишь бы смять, скомкать как-нб. эти 10 дней…
14-го [марта]. Меланья говорит: Ой, слушайте, Коленька, была вчера у нас тайная полиция… Страшно… Пузачи. В штатском. Зашли к Савелию. Я встать хочу… «Лежить, лежить, матушка, у нас к вам дела (!) нет». – Позвать управляющего? – «На черта нам управляющий!» – Что же они делали? – Книги осмотрели тай ушли.
Вчера прислал Вольдемар письмо. Уроки достать трудно. Комнаты он, наверно, достать не сможет… Э! Трижды наплевать. Еду…
Она очень любит чеховский «Рассказ неизвестного человека». Дала даже Нюне Мрост прочитать. Помнится, этот рассказ я посоветовал ей. Содержание смутно, как в тумане. Два человека – мужчина и женщина – удрали в Италию. Он тряпка; она героиня. Рассказ ведется от лица тряпки. Поэтому он невольно привлекает к себе… Но на самом деле он, как и всякий банкрот, вызывает некоторое… как бы это сказать? Жалеть мы его жалеем, но говорим: «Не хотел бы я быть на его месте». И не потому не хотел бы, что судьба его треплет, а потому, что он удобен очень для трепания. А М., кажется, он симпатичен. Она не только жалеет, не только сочувствует, но и преклоняется перед ним. И, кажется, она готова проводить параллель между ним и мною. Впрочем, я не знаю этого наверное, а что она хочет быть похожей на героиню – в этом для меня нет сомненья. Т. е. хочет, чтобы эта героиня на нее была похожа. А героиня та, если я помню, поставила во главе угла жизни своей – любовь, и все к любви приноровляет. Боюсь, чтобы М. не была такою. Вопрос: можно ли человека отучить от этого? Ответ: можно, для этого нужно изломать все его миросозерцание.
Татьяна Пушкина – не настоящая, а та, которую выдумал и навязал Пушкину Белинский, – она имела уже известные стремления, а потом бессознательно выбрала себе подходящее миросозерцание, а если миросозерцание – следствие, если причины переменить нельзя (а причина здесь – стремление), то… ответ получится другой. О! я отлично понимаю, как такие люди смотрят на вещи. Любовь сама себе довлеет, она приписывает законы, оправдывает всякое (злое даже) деяние, сделанное для нее; любовь – ее присутствие – заставляет таких людей уважать себя, она дозволяет им (очень неглупым и, подчас, насмешливым людям) священнодействовать и т. д.
Вот они каковы. Маша нет. Если бы только она сама когда-нб. поняла, сколько величия и красоты в ее простых, обыденных словах: уедем, Коля, отсюда…
Вот она решается для меня жизнь свою переломать, всю изменить и говорит мне это так, словно просит закрыть дверь. Какой вонючей свечкой показался я перед этим «солнцем правды» (да здравствует Карамзин!), я со своими напыщенными, неискренними словами, обещаньями, клятвами.
Теперь со мной некоторого рода реакция. В 17 лет я ужасно опоэтизировывал вещи. Несколько умышленно, это правда… – а теперь, как я ни напрягаю мозга, сердца, памяти, – поэзии не получается, той поэзии, которая делает такими таинственными эти лунные ночи, которая наделяет всех этих широкобедрых кур какими угодно возвышенными качествами, которая настолько добродушна, что позволяет себе быть обманутой, – нет ее совсем. – Глядишь… Черт знает, что за глупости пишу я сегодня.
Читал роман Станюковича: «Черноморская сирена». Дочитал до слов: «Оверин, обыкновенно ничего не пивший, сегодня пил более обыкновенного», и бросил.
__________________
С радостью отмечаю, что осталось 9 дней… Еще 9 дней нам глядеть друг на друга, как на зверей. А потом… Тараканы… Тараканы… Вот мы сидим в сырой лачужке. Говорить нам нечего. Все выговорено, мы выдохлись и на самом деле интересны друг другу, как вот этот стол. Перед нами политическая экономия Чупрова, но – Боже мой! – какое нам дело до всех этих ценностей, девальваций и рент! Жизнь идет еще сумрачнее и обыденнее, чем дома.
Денег нет. Ведь на дорогу 15 р. А всего у меня сейчас 18 р. 16 к. Отправляться – безумие.
Да. Но безумие храбрых – вот мудрость жизни. Лачужек бояться – хором не иметь.
14 марта 1901 года. Так сказать, предисловие. Нет, не 14-е, а пятнадцатое. Вечер. 20 м. 10-го. Отчего у меня дрожат руки? Боже мой, отчего она такая? Ну зачем она хочет торжественности, эффекта, треску? Ну зачем оттолкнула она меня? Что, она боится новой лжи или вымещает старую? Отчего я не музыкант? Я глупею, когда мне нужно говорить с ней. Я сыграл бы ей, она бы поняла.
Вот тебе предисловие. Кому предисловие? А тому, кто будет после меня. На мое место. Потомку моему. Я оставлю ему эти бумажки, и он лет через 300 будет с восторгом и пренебреженьем разбираться в них. Восторг потому, что он узнает, что он уже не такая дрянь, а пренебрежение по той же самой причине. Друг мой, я не хочу пренебрежения. Слишком жгуче, слишком остро прочувствовал я – и теперь я заработал себе право быть вялым и бесцветным. За это презирать меня нечего. Да и ты, кто бы ты, человек ХХ столетия, ни был, – ты цветистостью богат не будешь. Душа твоя будет иметь больше граней, чем моя, стало быть, больше будет приближаться к кругу. А круги все друг на дружку похожи. Ты и за это будешь презирать меня. Друг мой, ты укажешь на противоречия. Я вижу их лучше, чем ты.
Как согласовать экономический материализм с мистицизмом, мою любовь с сознаньем ее низкого места в мировой борьбе, мои надежды с сознаньем невозможности их осуществления, – я знаю, ты упрекнешь меня в непродуманности, в отсутствии критичности и т. д. Но подумай сам, если только ты хоть немного похож на нас, жалких и темных людишек порога XX века, скажи, можно ли думать о проверке, когда первый вопрос, который так рвется из меня всего, что я порой не чувствую вокруг себя ничего, кроме [угол страницы оторван. – Е. Ч.].
15-го марта. Прочитал «Земледельческие идеалы» Богучарского. Статья крохотная, да и содержание микроскопическое. Общие фразы… Удивляется, почему Успенский, который так ясно понял, что ему «соваться» в деревню нечего, почему он продолжал «соваться»? Находит объяснения Успенского (глава «Смягчающие вину обстоятельства») «чудовищными» – (Успенский объясняет свое «сованье» тем, что прежний цельный, стройный быт разлагается керосиновыми лампами да ситчиками). Признает за ситчиками не только разрушительное, но и созидающее значение. Россия должна обуржуазиться. Земля должна превратиться в товар, способный производить другие товары, крестьяне – в пролетариат, – и никакое донкихотство не поможет. Плакать нечего, ибо «Neues Leben bluht aus den Ruinen»[10]. Вот и все.
В 11-й книжке «Русского Богатства» Михайловский пишет об «одной лжи на Глеба Успенского»*: «Успенский-де вовсе не донкихотствует. Он отлично понимает, что иначе и быть не может…» Статья прочувствованная, но неубедительная.
Остригся. Беседовал со своим цирюльником об оперетках. Он в восторге. Хорошо, черт возьми, иметь гитару, выписывать «Родину», восторгаться оперетками. А впрочем, мне и этого не хочется. Не могу я жить «покамест», не могу.
Нужно прочитать чеховских «Мужиков».
Энгельса «Die Lage der Arbeiten den Klasse in England»[11].
8 дней…
Прочитал-таки «Черноморскую сирену». Бесцветно. Конец совсем дрянной. Он вытекает, положим, из свойств действующих лиц, характерен для них, но положение не характерно.
16 марта. От 24 февраля до 16 марта – 21 день.
За это время я написал 60 страниц дневника. По 3 страницы. Увеличится или нет потом, с ней? Прочитал «Переписку Герцена с невестой». Сантименты ужасные. В его письмах мне чудится неискренность, манерность. Положим, дело было в 37-м году, Герцену, если не ошибаюсь, было 25 лет, но все же чувствуется.к)
Взять сегодня у Гробка 1 р. 05 копеек. Пойду к нему в 7 ½, чтобы к Маше не подходить. Если останусь один, непременно подойду, а я не хочу. Милая, вернешь ли ты мне меня? Или я навсегда останусь таким дрянненьким, ничтожненьким, робким вздыхателем, который, невзирая на то, что его гонят, как собаку, – бегает опустив хвост и на каждый пинок отвечает виляньем этого хвоста? Где мои зубы, мое огрызанье, моя горячность? Даже горячности нет. Подошел, сказал ей несколько слов, она наговорила мне тьму глупостей, я вяло и словно против воли протестовал, потом вильнул хвостом и поплелся в свою конуру. Не умею я выразить ей такой простой мысли: мне нужно же условиться с нею насчет того, где, когда и как. Нужно предупредить насчет кое-чего, посоветоваться, – как же иначе… В этих всех приготовлениях – ничего нет ни оскорбительного, ни прозаичного, ни… приукрашивать жизнь, выдумывать, что вот это красиво, а вот это нет, – значит, не понимать красоты. Или все без изъятия красиво и поэтично, или ничего, и нет красоты совсем. (Это – не мой взгляд. Я отлично понимаю историчность этого явления, субъективность его, субъективность, которая вытягивает из разнообразных мира явлений то те, то другие и называет их красивыми. Но здесь и покривить душой можно.) Я скажу ей, что к этой романтической неестественности (от слова «естество», а не «естественность») приучили ее романтические произведения Горького, вопли и нытье по не серой жизни Чехова и т. д. (Опять знаю, что Чехов и Горький только семена, а почва (душа ее) раньше была готова.)
17-е [марта]. Был у меня вчера Швайцер. Советовал ехать морем. Интереснее, Ялта, Севастополь и т. д. Цена одна, если Азовским… Это я записал в половине 5-го утра, а теперь без 10 м. 10 ч.
Читал вчера Успенского: «Новые времена, новые нравы». Хорошо, очень хорошо! Не докончил еще. Жду, как наслаждения, свободного времени.к)
19-е [марта]. 1901 г.… Именинник, 19 лет… Кругом 19. 1901 г…Впрочем, я к мистицизму не склонен и лотерейных билетов под 19 номером покупать не стану.
Лежу в постели. Свалился позавчера с чердака. Разбил спинной хребет и черт его знает, когда встану. А делать нужно так много. Нужно познакомиться с каким-нб. гимназистом 8-го класса и попросить его, чтобы достал разрешение из гимназии. Полцены. Хоть до Ялты или Феодосии. Потом нужно узнать у знакомых, нет ли у них кого-нб. в Севастополе, в Ялте, в Феодосии, в Керчи, в Новороссийске, в Батуме…
__________________
«Ну, Коля, поздравляю. Дай Бог тебе всего… Вот, на тебе на книгу или на что-нб… Не целую, бо насморк», – говорит мамочка.
В руке у меня 3 рубля. Книга или «что-нибудь»?
__________________
Особенно в Батум, Кутаис, Тифлис. Черт с ними! 5 дней всего. Нужно пойти на гавань, узнать про пароход, нужно продать книги, отобрать книги, дочитать тьму книг, которых в Баку не достанешь. А я лежу. Боже, как это неостроумно. Деньги собрать надо…
Нашел старую записную книжку. Рисунки, заметки по астрономии, кусочки лекций.
Какие-то цифры, которых я теперь не понимаю. Книжке ровно год, т. к. есть запись: «Лекция професс. Вериго. 21 марта, вторник (дождь)»…
Есть отрывки дневника: 25 марта 1900 г. «Колович сказал мне про свою невесту: она будет несчастна на всю жизнь, если я скажу ей, что разлюбил ее». Это я записал, чтобы пристыдить его, когда он женится. Время настало, но это будет жестоко.
Познакомился с Ф. Это скверно. Я ведь ее насквозь знаю. Знаю, какие [вырвана следующая страница. – Е. Ч.].
_________________
Был у меня Б. Житков. Странно – он мне эту ночь снился. Хочу дохромать к нему сегодня. Отдал ему из маминых – 2 рубля. Получил тьму адресов. Некоторые годятся. Нужно еще и еще. Пойду сегодня к Грабку. Возьму у него 1 р. 40 к. У m-me Косенко нужно получить: с первого по двадцатое минус 3 урока.
21 марта. [На обороте картинки записано]: «Гордость, которая не выносит жалости». Вечер – 17 октября 99 г.».
Я потому записываю эти клочки, что меня теперь, как кошмар, стала давить мысль о тайне нашего «я». Я улавливаю все следы моего прежнего «ego»…
Вчера совершил безумное дело. Встал с постели и пошел к Житкову на Княжескую. Каждый шаг, словно удар молотком, в глазах темнеет, руки дрожат… Когда пришел к нему, был уже в каком-то невменяемом состоянии: жар, озноб – все что угодно. Бориса не застал. Посидел у него час и пошел назад. Я ведь не к нему ходил, как я теперь понимаю, я ходил увидать ее…
22 [марта]. А потом на извозчике. Ну, да этого я не забуду – и записывать не для чего.
В Симферополе, как сообщает «К[рымский] В[естник]» [Севастополь], застрелился (брат С. Перовской?) бывший студент Николай. Волга и Ока вскрылись уже. «Русские Ведомости» хотят хорошего министра, не педанта, мягкосердечного, твердохарактерного. А «Гражданин» хочет Ванновского. «Пущай отдохнет от „военного дыму и пороху“». Для отдыха! Прежде воеводство давалось «для кормления». В «Кредитке» повысились облигации, хоть деньги теперь дешевле, чем в январе. Почему? «Потому, – объясняет Ханс в „Листке“, – что биржа – это капризная женщина». Публика очень насторожена. Подозрительна. То ходатайство Сухомлинова о рассрочке платежей, то слухи о реорганизации выпуска облигаций. Министр отказал в ходатайстве.
Хохлацкая поэзия: в Уссурийском крае, куда переселились хохлы —
Земли хочь удавися, Воды хочь утопися, Лиса хочь повисся, А хлиба хочь сказися.Прочел Вайнбергу. «Ах, если б туда позволили переселиться евреям!»
Запах углерода. «Вы готовы ехать? Зовите извозчика!» Т. е. как? «Это так принято, чтобы Коля звал извозчика. Вы не готовы? Так зачем вы пришли сегодня? Придите, когда будете готовы». Я, подобно Хармацу… А впрочем, иду.к)
Николаев. 27 [марта]. Читал вчерашнюю газету. Хохотал как безумный. Под некоторыми сообщениями так и хочется видеть подпись: Щедрин. Вот, например, письмо митрополита Антония к графине Толстой. Ну чем не щедринская хохма: «Есть слава человеческая и есть слава Божья». «Носят они (пастыри) бриллиантовые митры и звезды, но ведь это „несущественное“». Один солдат, когда его спросили, чего он хочет, хлеба или пирога, отвечал: «Все равно, что хлеб, что пирог. Давай пирог». Все равно, что бриллианты, что рубище, давай бриллианты.
Характерно для Софьи Андреевны, что она стала упрекать попов ни в чем другом, а в ношении бриллиантов*. Она всегда на мелочь, на внешность обращала свое птичье внимание. Несомненно, она похожа на евангельскую Марфу, и Толстой гениально передал нам ее образ в Кити.
Или вот еще. На празднестве греческой колонии Навроцкий сказал: «Мы, русские, забываем тех, кто в юности не жалел своих сил и трудов на пользу обществу. Я русский. А потому позволяю себе вспомнить… об Ив. Юр. Вучине». Хорош силлогизм.
П. А. Зеленый заметил, что земля, на которой стоит Одесса, есть юг России. Ей-богу. («Одесский листок». № 80. Вечернее приложение.)
Прочел «Крейцерову сонату». Она меня как доской придавила. Ужас – и больше ничего. Ужас тихий (спокойный, сказал бы я). Возражать, конечно, можно, можно даже все произведение перечеркнуть, но ужас останется. Образная художественная сила.
Я пла́чу. Мне тяжело. Почему, как, я не умею сказать – что я понимаю? – но я чувствую, что все это не то, не так, что я обманут кем-то, чувствую. – И мне хочется кричать, проклинать…
Боже, как давит. Что делать? Николаев – пыльный, скучный, ужасный городишко. Поп, у которого я теперь, слишком уж добр. Матушка слишком уж о пасках заботится. Маша слишком далека, Ф. слишком глупа.
__________________
Перепишу ее дневник – клочок из дневника, неведомо как ко мне попавший. Если бы я не знал М., я бы посмеялся над этими кудрявыми фразами. Но я знаю, как она не любит пышности, как ей противна всякая неискренняя ложь, всякая фраза. Простота – великая вещь. Гораздо труднее быть простым, чем сложным. Не всякий это умеет. Этому нужно учиться. Я по себе знаю, как больно, когда каждое слово «не в то место попадает». Я давно уже оставил попытку записывать на бумаге свои душевные движения. Не хочется лгать… Внешний быт, внешние проявления чувства, состояние погоды – вот содержание моей летописи. Она этого не могла делать. Она не могла отречься от души своей, потому что ничего, кроме ее движений, для нее тогда не существовало, я помню ее тогдашнюю… Молодая, здоровая, вечная хохотунья – она как-то намекала (невольно, может быть) всякому желающему понимать, что у нее таится еще что-то, большое, серьезное, нисколько на трясущий хохот не похожее. Но кто же желал понимать? – Даня? Он хотел обнимать, а не понимать. Или, может быть, Роза? Нет, конечно нет. Я не обвиняю ее. Я никого не обвиняю. В этом весь ужас моего положения. Я не могу, как Толстой, – обвинять мужчин в нецеломудрии, в разврате, женщин в единственном стремлении – нравиться, в единственном крике: на, возьми меня! Меня, а не другую, меня…
Я не могу обвинять. Я знаю, насколько бессознательно, невольно исполняет индивидуум требования общества. Я знаю тысячи девушек – и почти не знаю других, – вся деятельность которых направлена к тому, чтобы возбудить в мужчине половое чувство, и которые повесились, если б узнали это. Я сочувствую бедным рабочим, я не от себя это делаю. Этого требует от меня общество, равнодействующая благосостояния которого только тогда не нарушится, когда в данный исторический момент этот класс одержит победу и… поработит остальные. Не от себя я ненавижу капиталистов, не от себя я восторгаюсь Чеховым. [Наброски статьи «К вечно юному вопросу…» пропущены. Страница заполнена нарисованными пером головами, бюстами и фигурами людей. – Е. Ч.]
Нет, я не могу писать об этом, я все лгу, все лгу. О, если б опять вернулась ко мне способность… Нет, не то, не то, не то.
Боже, помоги мне. Я плачу – оттого, что я ничего не понимаю, оттого, что я один, совсем один, оттого, что я чего-то ужасно хочу – но как, где, почему нет у меня ничего? Пусто. Не нужно слов. Пусто…
28 марта. Никогда больше не буду писать про свои «душевные чувства» или как это там называется. Бессилие полнейшее. Один разврат. Вот цель: так затарабанить себя, чтобы никогда не, и т. д.к)
Белинский был особенно любим*. Молясь твоей многострадальной тени, Учитель, перед именем твоим Позволь смиренно преклонить колени.Читал стихотворения Крупнова. В прозаическом предисловии он «выражает гг. читателям искреннюю благодарность».
А в стихотворном обращении к читателю он говорит: «Буду рад, коль ты, стихи читая», etc. В посланиях ты, на деле – вы-с… Стихи – дрянь ужасная, но ей-богу симпатичные. Будто Плещеев, но 3-й сорт. Миросозерцание, конечно, такое: на свете скверно оттого, что есть скверные люди. Будь скверных людей поменьше – и нам будет легче жить. Рифмы: сестра и Христа, душевный – вдохновенной. Есть, конечно, и про тернистую дорогу, и про маяк, который освещает людям путь, и все такое. Это даже не остроумно. Раз – хорошо, но тысячу раз жарить по шаблону – это значит не иметь настоящего чувства, значит позычать[12] его, значит жить на чужой счет, значит мошенничать. Отсюда следует, что быть неоригинальным писателем – это быть мошенником. Талант посмотрит на любую вещь – и в каждой он найдет новую черту, новую сторону, старое чувство он перечувствует по-новому. Поэтому неталантливый писатель, который является в мир только для того, чтоб изложить в стихотворной форме прописи, – может сидеть и не рипаться. Гг. читатели знали это и до него. За прописи может и должен браться только талант. Пошлость и скука – скверные вещи – это мы станем выслушивать от Чехова, а если Митницкий возьмется пропагандировать те же вещи, то нам покажется, что он над нами смеется, издевается. Ведь все дело художника – побороть привычку. Мы, например, привыкли к тому, что мы умрем, с самого детства слышим мы про это. Ну и ничего. Смеемся, веселимся, торгуем; увидим покойника – сострим… А если б мне, скажем, до 20 лет ничего не было известно про ожидающую меня смерть и вдруг кто-нб. известил меня, что что бы я ни делал – меня в конце концов ждет уничтожение, – черт знает в какой ужас пришел бы я!
Так вот, все дело художника – заявить мне про известную знакомую вещь так, чтобы мне показалось, что я только первый раз встречаюсь с ней, чтобы все мои прежние, обычные представления о вещи не заслонили бы ее истинного смысла и значения.
Ко всему привыкает человек, ко всему приспособляется – откиньте следствия этих привычек и приспособлений, и вы заставите трепетать наши сердца от истинного познания вещей, от так называемого художественного чувства.
Только художник умеет откинуть эти обычные, привычные представления или, лучше сказать, – он не умеет не откидывать их. По нашему простому пониманию, затемненному привычками, – это не больше как преувеличение, отсюда грубая доктрина: быть художником – преувеличивать всякие чувства; отсюда лазейка для всех, кто хочет подделываться под истинного гения.
__________________
С этого момента я перестаю понимать то, что пишу, – поэтому прекращаю.
Вы вот удивляетесь, как это все мудрено в мире, все хорошо: и времена года, и устройство тела человеческого – все целесообразно. Лучше и не выдумаешь. Забывается, что человек к этому приспособился сам. Если б весь мир был кастрюлей с кипятком, то появились бы существа, способные жить и там, и потом бы они говорили: как хорошо устроено в мире, Бог нам и кипятку послал, и кастрюлю. Что бы мы делали без них! Эх, господа, а вы еще толкуете про какое-то объективное, вечное счастье! Стыдно, Рая.к)
29 [марта]. Достал у отца Василия книжку Мордовцева «Господин Великий Новгород» и прочитал за ночь с таким аппетитом, будто мне 12 лет. Роман как роман. Тьму таких прочитал я за обедом, в постели. Конечно, есть злодеи, конечно, есть герои. Конечно, Шелонская битва произошла вследствие того, что новгородец Упадыш был влюблен в жену сына Марфы Посадницы и надеялся, что в битве его (сына этого) убьют. Конечно, Марфа действует только руководимая нежным чувством. Но выдержанный стиль, дух, словно передающий былое мировоззрение, но та чудесная сила, с которой автор зовет наши симпатии к неодушевленному предмету – к городу, – пленили меня. Город живет, страдает, чувствует, оскорбляется – и мы так захвачены его индивидуальной драмой, что готовы ненавидеть и Москву, и Упадыша, и ведьму – всех врагов его. Об этой индивидуализации драмы см. первую книжку «Русского Богатства» – у Короленко*.к)
Прочел Шашкова: «О периодической печати в Англии». Статья составлена по какому-то английскому сочинению. Видимо, была написана для журнала. Чуется намек на нашу журналистику, хотя ни одного слова на этот счет…
Когда нужно представить страну, находящуюся в застое, автор берет Китай. Это похоже на манеру, о которой говорит он сам: в Англии было запрещено писать о парламентских делах. Чуть ли не смертная казнь за ослушание. Один хитроумный джентльмен стал писать о парламенте, называя его римским сенатом. Говорится, как общественное мнение было на стороне гонимых журналистов. Так и кажется, будто здесь мораль для великолепных моих соотечественников. Не принадлежит ли Шашков к числу «гонимых журналистов»?
В статье о «женщине» я встретил личные наблюдения автора над проституцией г. Шенкурска Архангельской губернии. Биографии его нет при собрании соч., стало быть, жив. Статьи помечены 70-ми годами – началом 80-х… Наверно, так. Я ничего не слыхал о нем. А впрочем, какое мне дело? Компилятор, черный работник, солдат литературы – не больше.
Но и не меньше.
30 [марта]. Играл со Скибицким в шахматы. Из 11-ти партий дал ему девять матов. Стыдно. Ведь он учитель математики в классической гимназии…
2 апреля. Ночь. Маша… Пасха, приготовления, дорога на Фонтан, Ботанический сад, слезы, Лука, язык пыли, что сорвался по дороге, вокзал, Герц.
Нужно вклеить листочек, на котором я записал кое-что из Герца. Есть у меня одна мысль, скорее чувство, о производительности общества; о равенстве. Ну, да я все равно не выражу ее…к)
Кажется, 6 апреля. Стою у ворот, бездумный, сонный, с тяжелой головой. Где-то бурхают тяжелые сапоги, шелестят туфли, вот затарахтел извозчик, а я дергаю за колокольчик: спит проклятый цыган. Теперь ¾ 1-го. Не писал – не до того.
Весь день проспал. А ночь – провел с Машей. И не только ночь, а и весь день. Мадам Гольдфельд! Кулич, Лукерья, ветчина, яйца, стакан чаю… Собаки на циклодроме…
Груз души.
7 апреля. Четверть 9-го… после Вельчева. Сольнес строит высокие башни и не решается взобраться на те башни, которые сам строит… А я! Я разрушаю все эти башни, и нет у меня мужества стать под их обломки… Сиречь: так или иначе, послезавтра еду. Ужасно насточертела эта канитель. Да, нет, да, нет, – а я ничего не делаю, хожу, как сумасшедший, из угла в угол.
12 апреля. Вот стихотворение Оле Лифшиц:
Очи к небу воздевая, Он восторженно сказал: [нрзб.] Моя родная! Мой предвечный идеал! Ах, годна для мадригалов Ласка пошлая твоя! Вечных нету идеалов: Идеал от бытия. Бытие разнообразно, Переменчив идеал… Ольга Лифшиц говорила, Бедный юноша дрожал. Герц в великом Agrarfrage[13] Hat [нрзб.] ни аза… И по щечке у бедняги Покатилася слеза (Н2О). Что там? Словно струйка пара, Что летит из самовара, К небу медленно взвилась И сокрылася из глаз. Это призрак Боливара…Надоело! к)
16 апреля. «Ну, Коля, прощай, будь честным человеком, смотри», – сказала мамочка. Пароход свистнул. Я подобрал узлы. Серая публика, галдеж. Стою на палубе; умильно гляжу. Белое перо на маминой шляпе закачалось и поплыло от меня. Сел где-то в уголку… Солдат приглядывает за вещами.
Вот мои записи: Часы над дверьми, откуда вышла барышня, – 25 минут одиннадцатого. Жизнь моя – хоть в воду. Горе в прошлом, горе в будущем. А в настоящем ничего себе. Посередке островок. Вечный островок довольства. Он переплывает всю жизнь. Скажут – вот жалкое существо. И он думает, что он счастлив; а на самом деле! «Друзья мои! если я думаю, что я счастлив, я уже счастлив» (Bentham).
Огни Одессы словно потеснились друг к другу – и через 2 часа слились в одну нитку.
Часа 3. Светает. Лиман только что был, как твердый, застывший свинец, теперь, как сталь.
28 и 29 мая.к)
4 июня. Сижу у Черкасских (напротив), жду Марусю. Стараюсь сердиться. Уже, должно быть, девятый час, а она не идет. Дочитываем Маркса.к)
2 августа. Утонул Моник Фельдман*.
3 августа. В «Новостях» появился некролог, написанный Бродовским Исидором. Мораль: мир праху твоему, честный труженик!
27 ноября. В «Новостях» напечатан мой большой фельетон «К вечно юному вопросу». Подпись: Корней Чуковский. Редакция в примечании назвала меня «молодым журналистом, мнение которого парадоксально, но очень интересно»*.
Радости не испытываю ни малейшей. Душа опустела. Ни строчки выжать не могу.
28 [ноября]. Угощал Розу, Машу и Альталену чаем в кондитерской Никулина*. Altalena устроил мне дело с фельетоном… в конце сентября я принес ему рукопись – без начала и конца, спросил, годится ли. Он на другой день дал утвердительный ответ. Я доставил начало и конец – он сдал в редакцию, и там, провалявшись около месяца, статья появилась на свет.
5 декабря. До сих пор погода стояла кристально чистая, с голубым небом, с сухими тротуарами, со здоровым воздухом. А вчера вечером и сегодня утром – туманы. Читаю Меньшикова: нравственно-философские очерки «Основы жизни»*. Ничего пошлее не видал.
Рассуждения субъекта из породы Иван Иванычей. Тухлые и тупые… Обывательская философия – тягучая, унылая канитель, которую любят разводить отцы семейства за чайным столом… Читаешь книгу – она постным маслом смердит, окно открыть хочется, воздух очистить.
Боже мой, сколько нынче расплодилось таких животных. У него в комнате канарейка цвиркает, на окошке горшки с геранью, все у него чисто, симметрично, прилично, – придет от ранней обедни – и валяй «от своего ума» философию разводить. Беритесь за перо, учителя чистописания, записывайте, не пропуская ни одного слова. Каждое годится в пропись. Какая глубина, какая неоспоримая правда: «Женский вопрос»… Ерунда с уксусом, и больше ничего…[14]
7 декабря. Жду мистера Барабаума. Читаю Туган-Барановского «Экономический фактор в истории». Удивительно скоро постарела эта статья. Ведь в 95 г. – это было почти откровение, а теперь – я думаю, тому же Туган-Барановскому совестно даже и вспоминать эту свою статью.
8 и 9 [декабря].к)
10 [декабря].
Ни одной строчки не могу выжать. Статья моя о Меньшикове безнадежно плоха. То есть полнейшее творческое бессилие. Ни единой мысли – техника беспомощно слаба. А между тем напечатать что-нибудь нужно во что бы там ни стало. Дать такую плохую статью Хейфецу* – это значит потерять в его глазах репутацию. Почему у меня вещь выходит так хорошо, когда я не думаю о печати, и слабеет, чуть вспомню я про газетное мое сотрудничество?
А ведь, чего доброго, клейнеровское возражение на мою статью напечатают в сегодняшнем № «Новостей». Черт его знает, что ему отвечать! Копошиться в каждой фразочке я не могу. Я напишу иногда статью и сам не понимаю ее через час. А когда пишешь – замираешь, и не знаю я, откуда у меня берутся мысли, слова для их выражения, – ведь когда я не сижу за бумагой, я никогда о них не думаю…
Так что отвечать Клейнеру на его письмо по пунктикам – нечего и думать.
Если разом не схвачу – пропало. Эх, черт возьми, хорошо Геккеру… Написал фельетон – и ни единой мысли, то есть раздолье.
Прочел чеховских «Сестер». Не произвели того впечатления, какого ждал. Что это такое? Или я изменился, или он! Ведь год тому назад прочтешь чеховский рассказ – и неделю ходишь, как помешанный, – такая сила, простота, правда… А нынче мне показалось, что Чехов потерял свою объективность, – что из-под сестер выглядывает его рука, видна надуманность, рассчитанность (расчетливость?). Все эти настроения, кажется, получены у Чехова не интуитивным путем, а теоретически; впрочем, черт меня знает, может, у меня, indeed[15], уж такая бесталанность наступила, что «мечты поэзии, создания искусства восторгом сладостным уж не шевелят больше моего ума»*.
Вот оно что такое, обыденность! Боюсь быть подло неоригинальным, но все же повторю одно славное словечко: «Заедает!» Мечешься, валандаешься, и все не по каким-нибудь «интересам», а из мелочишек. А это не то что нечестно, недобросовестно, а прямо невыгодно.
Ответить Клейнеру разве вот этак.
Право, Одессу газетчики оклеветали понапрасну. «И черствая она, и сухая она, и ничего возвышенного у нее нету».
Мне, напротив, кажется, что нет на Руси города, который до такой степени волновался бы всяким теоретическим открытием, имел бы столько, как говорили прежде, «духовных интересов» – и вот вам одно из доказательств: две недели тому назад я написал статейку об искусстве, и вот до сего времени я получаю одесситские письма по этому поводу. Опровергают, подтверждают и вообще суетятся страшно. А ведь вопрос о чистом искусстве не имеет, кажется, никакого отношения к пшенице!
Некоторые одесситы прислали на имя редакции свои мнения, высказанные на обильном количестве страниц. Вот одно из таких мнений и напечатано во вчерашнем №. Нет, такое начало не годится. А год тому назад ловко бы я закатал ответ. Кстати: нужно писать рождественский рассказ. Назвать его: Крокодил. (Совсем не святочный рассказ.)
Господа! на этом листе напечатано много рассказов. Не читайте их. Прочтите мой. Мой хорош уж тем, что в нем мы вовсе не собрались в кружок у старого университетского товарища, гостеприимного Б. Разговор у нас вовсе не коснулся женщин, старому Б. и в голову не приходило сверкать глазами и говорить замогильным голосом: я вам расскажу одну историю. Это было лет 30 тому назад… Мне шел 26 год… Нет, ничего этого (=не было). Дело происходило совершенно иначе:
В доме купца Самодурова… и т. д. [Далее записано продолжение конспекта статьи о Меньшикове. – Е. Ч.]
11 декабря. Читал сегодня Жаботинскому свою статейку. Понравилась. Отнес в редакцию – и вот я на бездельи. А мне ни за что бездельничать не хочется – опять время упустишь. Нужно, чтобы после второй обязательно шла третья – обязательно. 5 статеек дам – а там и подумаю, как и что. Милый человек этот Altalena! Прихожу сегодня к нему – он спит, а уже двенадцатый час. Какое двенадцатый – первый! Работал вчера долго – вот и заспался. Я подождал – он оделся, вышел, даю статью свою с замираньем – прочел. – Ну, говорит, неужели вы сомневаетесь! – валяйте скорей к Хейфецу. Быть может, завтра пойдет.
12 [декабря]. Хейфец был занят, статьи моей не прочел, и она сегодня не пошла. Я встретил Хейфеца на улице. Раскланялся – и, памятуя совет Альталены, – даже не заикнулся о статье. Так – лучше. Пишу это в библиотеке – жду М. Когда б скорее пришла моя искренняя, любимая девчурка. Скучно без нее – страх как!
Ну что мне читать! О самодавлении хотелось бы повести речь в следующем фельетоне. Только подойти к этому делу совсем с другой стороны. Вот когда выйдет 5-я книжка «Вопросов философии», тогда придерусь к ней и закатаю о прогрессе. Завтра утром нужно перечесть мои заметки о прочитанном – свести его воедино, хотя бы переписав в эту тетрадь, – и тогда взяться за дальнейшее чтение. Здесь каждое слово в строку писано.
Кстати. Хочется мне также о настроении поговорить, о роли настроения в современной литературе – хочется свести это на социальные условия – но это дело успеется. Раньше следовало высказаться по поводу тех вопросов.к)
14 декабря. Нужно найти естественника, который объяснил бы мне, что это за штука: какая рыба выше по организации своей – рыба с жабрами или двоякодышащая. У которой из них обособление отдельных органов напряженнее? Значит, степень обособления отдельных органов они не берут за критерий совершенства? Не знает ли он еще примера, где бы несмотря на большее обособление органов – организм понизился?.. Какая форма выше – наиболее окостенелая или (какая?). Можно ли брать за мерило совершенства – прямо наиболее позднее развитие.
В 8-й книжке «Русского Вестника» есть заметки г. Лохвицкой. Завтра справлюсь.
Саводник находит, в 8-й книжке «Русского Вестника», что любовь в стихотворениях Лохвицкой не романтическое мечтательное, нежное томление, нет, это всепожирающее стихийное влечение: «Я жажду наслаждений знойных, Во тьме потушенных свечей!»* Ни раздумий. Ни мечтаний. Знойная южная страсть. Чисто женственная любовь. Стремление отдать и свободу, стать рабой: И царица рабынею будет твоей.
Тот же самый журнал, который защищает декадентов. А они какую пользу принесли человеку?
Мне нужно достать Ренана. Discours и диалоги. Dialogues et fragments philosophiques[16]. Жаботинский переведет.к)
Вот и 15 декабря. Хейфец сказал: раньше понедельника (17-го) не ждите. Ну его к чертям. Вот бы денег достать. Ни копейки. Даже промокашку купить не на что. Плати они мне сразу деньги – я бы ежедневно по статье писал. А так дашь статью – она валяется, – глядеть тошно. Ходишь, словно проситель. Ну ее к бесу. Теперь 5 минут 8-го. Буду читать Михайловского. «Россия и Европа»*. В рассказе «Сумерки» см. стр. 340. Доказывает, на чьей стороне автор.
16 декабря, воскресенье.к)
17 [декабря]. Пробую рассказ писать святочный. Выходит. Только черт его знает что! Я ведь совсем разучился в своем разбираться. Поглупел, должно быть. С чего бы это?
18-го декабря. Помирился с Борей. Руку подали друг другу. Мы, собственно, уже месяца 1 ½ в этакой доброй ссоре, как говорится. Такие отношения, когда можно смеяться, ежели твой враг остроумничает, можно, не глядя на него, возразить ему, ежели с чем не согласен в его речах.
Условился с М. не встречаться целый день, а то я ведь и сам не работаю, и ей не даю. В 7 ч. вечера. Вот уж скоро год, как я видаюсь с ней ежедневно, не меньше 3 ч., а 10 час. – это самое обыкновенное, и как это я не надоел ей еще! Кончу Михайловского о В. В., вчера с М. начали, да не того…
Писать хочу. Во всем, что я прочел, – есть общая нить, и мне нравится мысль – соединить все разнородные произведения одной идеей. Нужно только новые журналы почитать малость. А то я 12-х книжек и совсем не видал. «Мир Божий» возьму, чуть в библиотеку приду. Боюсь, что там будет Полинковский. Мешает читать.
Он называет меня литературной проституткой. «Твоя статья – это твой желтый билет. Нужно тебе на спину к пальто приделать, чтоб знали все люди, с кем имеют дело». Он женится на той самой швейке, к которой водил меня некогда под псевдонимом графа… Черт возьми! Больше месяца ищу книжку «Новое в сценическом искусстве» Глаголина*. Вот бы я и дернул о настроении в нынешнем искусстве.
Впрочем, и произведения искусства читать для этого нужно, а я ведь вот уже год беллетристики совсем почти не читаю. Вот бы Леонида Андреева достать. Я в библиотеке беллетристики не хочу брать, ибо для беллетристики нужно настроение, а я в библиотеке даже не всегда вниманием располагаю.
Ну, возьму Михайловского, это в «Письмах постороннего»*.
Канта взять следовало бы.
Ну разве не знаменье времени то, например, обстоятельство, что забытое и погребенное имя ультраромантика Гофмана опять выкапывается из-под пепла забвения, – по крайней мере, нас приглашают выкопать его. Сбрасывание будничной действительности – вызываемое чрезвычайно развитым воображением, освежающее атмосферу, – все это одобряется и поощряется (Евгений Дегин, Эрнест Теодор Амадей Гофман). 12-й «Мир Божий»*.
Захариа Вернер – родоначальник немецкого декадентства (см. «Самообразование», 4. Статья Л. О-кого).к)
Но книжка каждая журнала Всех уверяет в унисон, Что славен автор «Капитала» И Михайловский посрамлен, Что, по словам науки строгой, Одной-единственной дорогой Мы все, друзья мои, пойдем. Он ей писал: моя родная! Мой путеводный огонек, Вслед за Ибсеном восклицая: О, счастлив тот, кто одинок! — Он к одиночеству стремился И в 19 лет женился. Когда сквозь прорванный сапог Три пальца скромно показались, Все поняли, что он знаком… [17]__________________
Звезды плачут в ночи Плачут; По земле палачи Скачут; Ты не плачь, хохочи, Дорогая, Звезды плачут, в ночи Мерцая.19-го. Был у Хейфеца. Здесь, говорит, история вот какого рода: в «Новом Времени» напечатана статья Меньшикова. Придеритесь к ней. А сроку мне дано было 2 часа. Я взял статью с собою. Бегу, на улице читаю. Пришел к Маше, поел на те деньги, что у Дони взял, – и за работу. Не клеится. Ну, да кое-как уладил дело. Приезжаю в редакцию – Хейфец уйти должен. Я, говорит, не могу. Как тут быть? А у меня еще двух-трех строчек не того, не хватает. Пока я их дописывать стал, Хейфец и ушел. Уж Altalena и по телефону, и так и сяк – никаких! Завтра пойти не может. А я весь горю нетерпеньем. Такую дрянь написал вначале, что ужас прямо. Ну, да ничего не поделаешь. Пишу это в библиотеке. Против меня восседает Сигаревич, рядом с ним Комаров, а спиной ко мне вот этот, как его… полячок, что в аптеке Пискорского служит. Мне Канта взять надобно. Самодавление просмотреть.
Кант не признавал никаких «если» – при требованиях нравственности: они категоричны. А при императивах личного счастья говорится так: ты должен быть вежлив, ежели хочешь, чтобы тебя любили. В нравственных императивах прямо: «Ты должен!» Нравственная деятельность свободна, моральные мотивы производятся совершенно свободно «практическим разумом».
О счастье.
Вчера я получил письмо от одной девицы. О, эти письма, о, эти девицы!
Т. е., собственно, против девиц я ничего не имею. Но, mesdemoiselles[18], послушайтесь же наконец доброго совета: будьте веселы, милы, обворожительны, пленяйте нас, обращайте в своих покорных рабов – но не занимайтесь же, ради Бога, философией. Ибо, как говорит Соленый, когда философствует мужчина, то это бывает или хорошо, или дурно, но когда философствует женщина, то это уж будет потяни меня за палец.
Итак, одна из девиц хочет знать, что такое счастье.
25 декабря. Само собою Рождество. С утра мы с Марусей очень хорошо читали. Только мало. Пришел я по уговору в 11 ч., а она еще была раздета(я). Я, к великому удовольствию сидящего в соседней комнате Осиного учителя, похвалил ее, назвав собакой, за что и получил должное вознаграждение. Как бы там ни было – факт остается фактом: читали мы хорошо, но мало.
У М. розовый фартук. Точка. М. ц[елует] м[еня] в висок и врет будто в лоб. Читали мы вот что…
Впрочем, об этом потом, когда кончится половина листочка. Да и пищеваренье примет менее бурный характер. Вчера с М. читали сегодняшний № «Новостей». Там есть рассказ Бурже «Отец»*. Та же неталантливость и тот же ум, громадный ум, который дает ему понять, как должен бы писать талантливый художник. Из наших он напоминает больше всего Мамина-Сибиряка.
Распространюсь потом. Много мыслей по этому поводу пришло мне вчера в голову, когда little Mary[19] читала вчера этот рассказ. Я в отличном состоянии духа. И утро не пропало, и с М. был вместе. Если бы только удержаться на таком положении и потом, впредь. Погода совсем не рождественская. Туман – и сквозь него какой-то намек на солнце. Ветчины еще не ел. Нужно будет завтра утром закончить возражение Altalen’е и снести Рашковскому. Он его с радостью напечатает. Нужно сбавить только отвлеченностей. Так будет солиднее. Я хотел бы, чтобы к прениям в Артистическом кружке мое мнение было бы напечатано. Я тогда стал бы возражать, ссылаясь на свою статейку. А то я говорить совсем не могу.
Язык у меня вялым становится…
Ну так вот что мы прочитали у Михайловского о Ренане*. Об его учении, как оно выразилось в «Dialogues et fragments»[20].к)
26 декабря. Утро. 10 ½ часов. У М. был вчера.
31 декабря. [Набросок рассказа об Ане Кумировой исключен. – Е. Ч.]
Получил за эту ерунду 5 рублей, купил капельку колбасы, сыру, рахат-локума и хотел встречать с Марусей Новый год. Но черт дернул меня помириться с Кацем, принять его приглашение. Скука, Шерман, Клюге, пьянство, подделка Розы под пьяную, лишь бы с Генрихом полапаться, слезы, опять Клюге, песни, бутерброды, пьяная Клара, опять Клюге, тягучие взгляды Бори – и над всем этим желание уединиться с Машей. В 5 часов ушли от Кацев, позже ушли повара, дворнику не дали и под конец таки хорошо поплакали вместе. На лестнице. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо…
1902
1 января. Маруся сидит возле меня. Бледная, с покрасневшими глазами – милая бесконечно. Как-то невольно в голову воспоминания лезут – воспоминания бесконечно трогательные, за сердце хватающие. Помню я первое января прошлого года. Тяжелые, счастливые, удивляющиеся неожиданному счастью, с каким-то испугом перед будущим – полные самых неопределенных ощущений – пошли мы, шатаясь, на станцию. Посидели там молча. М. только иногда говорила совсем новым для меня голосом – бессвязные, понятные, не требующие связи слова. Потом поднялись. Пошли, хрустя снегом, к ее дому, поднялись по железной лестнице, подумали, стучать ли; решили постучать. Нам открыли. Мы вошли. Смешок, улыбка будущему, недоверчивая, подозрительная улыбка, но в то же время полная бесконечных надежд. Надежды! Обещанья! Ну разве сбылась хоть одна надежда, разве я сдержал хоть одно обещанье, но все же я снова даю обещанье, а в сердце нашем пылают все те же надежды. Пусть в будущем году мне не придется писать этих строк.
У М. в гостях Блиер, Зюня, Соня Шнейдер. Гриша уходит с Зюней – на ней красное пальто – и, прощаясь, говорит всякому: – Ну, что вам пожелать к Новому году?
Нужно говорить об индивидуализме. Я написал возражение Жаботинскому на его мнение о критике*. Он посоветовал мне вставить еще про индивидуализм[21].
2 января. Сегодня должен написать сочинение: «Борьба человека с природой». Пособия: Елисеев и Реклю. Черт возьми – распишусь – ай-люли. Только больше работы брать пока не буду. Altalen’e отвечу. Хотя следовало бы взять срочное сочинение, чтобы насобачиться быстро писать. Здесь у меня ерунда – возьму размажу – и готово! Три дня тому назад я про Гоголя написал – лафа! В один день 10 таких страниц. Это пол-листа – 20 рублей, будь дело журнальное. Эх! хорошо бы про Гоголя к юбилею статью закатать. Чуть кончу с Altalenой возьмусь. А там Л. Толстого изучать стану. Гоголя мне хочется в связи с нынешним временем изучать: между тем временем, когда он явился, и нынешним – тьма сходства! Про бердяевскую борьбу за идеализм* – тоже руки чешутся. Только бы время. Эх! вот и все мое междометие.
Теперь без 5 м. 9 часов. Умоюсь, причепурюсь и к М. Я сегодня встал в 7 часов. Обыкновенно в 5 или ½ 6-го. В 10 ч. я буду в библиотеке. От 10 до 1 часу, до 2-х сочинение будет готово…
3 января.
Был вчера в Артистическом кружке…* Скука. Разбирали вопрос, нужен ли нам народный театр. «Друг детей» Радецкий*, махая руками и вскидывая волосами, сказал громкую и горячую речь – апофеоз народу.
Там все воротилы – старики, и слово «народ» не потеряло еще для них своего обаяния – так что загипнотизированная публика с восторгом слушала все дикие взвизгивания: театр, школа… облагораживает чувства… человек, побывавший в театре, не станет колотить свою жену (?) и так далее. Референт, артист Селиванов, уверял публику, что народ поймет всякую классическую пьесу, «артельный батька» Левитский божился, что все великое – просто (и великие истины высшей математики?).
Одним словом, ералаш! Милый Карменсито*, как зовет Кармена Жаботинский, – тоже заговорил. Он доказывал, что народ не все пьесы понимает, и привел два примера. Но сделал это так некстати, что публика зашикала, засвистала и даже с некоторым нетерпением потребовала, чтобы он перестал говорить. Он глуп, бедный человек. Абсолютно и неукоснительно… Он, например, даже не старается скрыть, что считает Горького серьезным своим конкурентом. Он объясняет процесс своего творчества так: «Я пишу пятнами, пятнами…» А все его произведения – это одно сплошное пятно. Он вчера говорил мне, что хочет читать в Артистическом кружке о слоге произведений Горького. Он смотрит на разряженных девиц Арт. клуба и говорит, сжав зубы: «Как я ненавижу этих великосветских девиц, если б вы знали!» Первобытен и необразован, а если бы был образован – хуже было бы! Так хоть самочувствия нет у него, рефлексия не заедает, а в противном случае даже искренности не было бы у него. Последнего лишился бы!
М. что-то сердится на меня. Не знаю за что. Я вчера весь день не был у нее – это правда, но ведь я не мог. А может быть, есть и другая причина, может быть, я причину эту и знал, да забыл, может быть.
Герцо-Виноградский тоже глуп неимоверно, т. е. так глуп, что глупее и быть нельзя. И развратник, говорят, к тому же… Говорят, многие говорят. Бесцветен донельзя. Черт с ними, впрочем.
__________________
Ну, теперь пойду к М. 2 часа. Даже не умоюсь. Вчера вернулся домой в 20 м. 3-го. Сегодня встал в ½ 1-го. И ни к черту не гожусь. Ни писать, ничего…
7 января. Ничего не делаю. Поздно встаю. Это не годится. Был позавчера у Лазаровича. Он прочел мое возражение Altalen’e. Со многим не согласен. Например: Altalena будто и не говорил, что есть план, программа. Как же не говорил? Ведь у него идеи заготовлены, а в действие не приведены. (План не в смысле программы.) Говорят так: узнав именно то качество человека, которым занимается моя наука, я определю все другие свойства. Значит, те качества, которыми занимается моя наука, – самые важные, и самая наука тоже важнее всех.к)
8 января. Умираю от лени. Ни за что взяться не могу. Обыкновенно распространено мнение, что 60-е годы были что ни на есть народнические по направлению своему. Теперь это мнение особенно часто повторялось всуе по причине 40-й годовщины со дня смерти старшего шестидесятника Добролюбова. Мне кажется, именно такими чертами, как у меня, и характеризуются 60-е годы. Тогда вообще не было какой-нибудь отдельной частной идеи, подчинившей себе все остальные, – тогда была одна общая – свобода личности. Человека не нужно наказывать, не нужно звать еврея жидом, не нужно смотреть на мужика как на «быдло», – все это были вещи одного порядка, и до «системы» народничества тут было далеко. И наконец, у тогдашних учителей – у Добролюбова и Чернышевского вовсе не было таких уж особенных исключительных симпатий к народу, они, что довольно ярко подчеркивает и г. Подарский в 12 кн. «Русского Богатства»*, – не боялись называть иногда народ «тупоумным», «невежественным», «косным», даже – horrible dictu[22] – парламент они признавали вредным и т. д. Их рационализм – как верно замечает г. Подарский – не позволил им выдвинуть на передний план устроительства истории народные инстинкты.
В последнем собрании членов Литературного клуба г. председатель объявил, что в ближайший четверг г. Altalena будет прочтен реферат о литературной критике*. Основные положения этого реферата нам, читающей публике, уже известны – их изложил г. Altalena в одном из своих фельетонов («Одесские Новости» 20 декабря). Вот по поводу этих положений мне и хотелось бы высказаться печатно на столбцах газеты. Г. Altalena ответил одному своему печатному оппоненту, что будет спорить с ним в Артистическом клубе*. Как будто всякий, интересующийся затронутым сюжетом, сможет попасть в этот клуб!
Один почтенный русский журналист в личной беседе со мною по этому поводу выразил свое недоумение перед тем обстоятельством, как же это так выходит по-вашему, что развившийся капитализм послужил причиной двух противоположных явлений: с одной стороны, способствовал оскудению публицистики, а с другой – развитию ее. Разве это возможно? Конечно, возможно, так оно и было. Происходило так потому, что раньше было, главным образом, обращено внимание литературы на одних деятелей этого процесса, а потом уже на других – рабочих… Но литература, отвратив свои симпатии от мужика, не имела никого, к кому обратить их.
Но потом по вышеупомянутой причине… Щедрин, между прочим, сказал по этому поводу: «Крестьянин, освобождающийся от власти земли, чтобы вступить в область цивилизации, представляет собою… отталкивающий тип… Но это еще не значит, чтобы эмансипирующийся человек был навсегда осужден оставаться в рамках отталкивающего типа. Новые перспективы непременно вызовут потребность разобраться в них, а эта разборка приведет за собою новый и уже высший фазис развития…» («Письма к тетеньке», 632 стр.)
__________________
Когда буду говорить об этических идеях, сказать про Бердяева и Струве.
Многие склонны думать, что мужик характеризовал и шестидесятые годы. Я не согласен с таким мнением. Мне кажется, что 60-е гг. центральной идеей имели – свободу личности, всякой вообще.
В те дни, когда мне были новы Идеи линьи мозговой.*20 минут 5-го. Дядя сидит у окна, молчит, уже час как молчит. Мама шепотом читает «Братьев Карамазовых». Я только что переписал ¼ своего возражения Altalen’е. С М. не в ладах. Скучно. Тяжело. Хочется побыть одному, да уж слишком трудно. Давит. Куда пойти? М. на уроке. Да и препираться с нею не хочется. Да и Володя ихний противен мне очень. Кацы. Я счел бы себя сволочью, если б пошел к ним. Altalena? Он теперь работает. Синицыны? Что я с ними имею общего? Так давит, что хоть стихи пиши. Ну, что ж?
Был у Синицыных. Был у Altalena, был у М., в библиотеке был.
[Возражение Altalen’е см. Прилож. 1. – Е. Ч.]
12 января. Сейчас ¾ девятого. Переписываю возражение Altalen’е. О если бы я знал, что его напечатают! С каким рвением взялся бы я за это дело! Через 2 часа, я думаю, мое возражение будет готово! И почерк мой мне не нравится, и слог противен, и смысл для самого темен. Плету канитель, и больше ничего. Ну да ничего! «Новости» не возьмут, я в «Листок» снесу. – Посмотрим. М. – вчера. Вечер. Театр. – Не надо. – Ну хорошо, я пойду. Dear, precious![23] Когда б кончить. 5 минут просил. Еще немного! Я был вчера в Артистическом клубе. Абезгауз говорил. Великолепно – лучше этого я никогда не слыхал.
3/4 десятого. Ничего почти не сделал. Работаю не разгибаясь. Altalena противополагает идею настроению если не по их смыслу, то по времени распространения их: прежде идеи, а теперь настроение. [Возражение Altalen’е см. Прилож. 1. – Е. Ч.]
11 час. ночи 13-го, воскресение. День сырой, несолнечный. Библиотека, ссора с Машей, Кацы. Черт возьми! Не написать ли мне рассказ…
Был вчера долго у Жаботинского. Ему Федоров, автор «Бурелома», дал «Детей Ванюшина»*, он третьего дня обещал дать их мне. Сам вызвался. Прошу. Говорит: не могу.
«Да ведь вы сами обещали». – «Экая скверная у меня память – я этого не помню» и т. д.
Он вечно расточает мне похвалы, что, ему действительно нравятся мои статьи, или он врет?
14 января. Прочитал я статьи г. Бердяева, и вспомнился мне такой анекдот. Один человек, лишившийся носа, сказал на исповеди своему духовному отцу иезуиту: «Возвратите мне мой нос!»
– Сын мой, все уравновешивается, горе влечет за собою счастье. Вот и теперь, хотя судьба и лишила вас носа, но выгода ваша в том, что никто никогда не скажет вам, что вы остались с носом.
– Я был бы в восторге каждый день оставаться с носом, лишь бы он у меня был на надлежащем месте.
– Вы ропщете. Ведь и здесь провидение не забыло вас, если вы вопиете, что с радостью готовы были бы оставаться с носом, то и тут исполнилось ваше желание, ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом («Братья Карамазовы», 765).
Логика иезуита необыкновенно похожа на логику г. Бердяева. Вот образчик. Он идеалист. Стало быть, верит, что красота, нравственность и прочие духовности – все это некие сущности, субстанции некоторые.
__________________
Ну вот и хорошо… Без 10 м. 9 часов. Я ничего не делаю. Михайловского читаю. Чуть приду в библиотеку – сейчас «Мир Божий» стребую.
Все глупо. Раньше обдумать.
Я знаю: и это сердечко сожмется От черного крика души: никогда! И в этой головке вопрос шевельнется: Зачем это в мире так скучно ведется — За вторником вечно плетется среда? Я знаю: ненастья С сухими глазами, с пылающим лбом Ты тоже захочешь безумного счастья, И слез, и любви, и тоски, и участья, И тоже почуешь всем существом, Что там, за окошком холодным и черным, Ждать«Сам Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира».
Л. Толстой, 13 т., 5–8 стр.
Марья Борисовна! Сегодня решается моя судьба. Хейфец по телефону сказал мне, чтобы я пришел в 7 час. Он тогда, наверное, покончит со статьей. Кланялся вам Altalena. Он угощал меня в кондитерской чаем и оттуда хотел идти в библиотеку, чтобы повидать вас, но, узнав, что вас здесь нет, переменил намеренье.
16, среда. Статья об Altalen’e не принята*. К черту! Десять таких напишу. Что же касается планов, их два.
О Толстом и о Бердяеве.к)
Я сижу в публичной библиотеке. Возле меня сидит М. Б. по правой стороне. В зале свистят, пищат, визжат и верещат. Я прочитал сегодня довольно много… Вот хорошо, что мне Кант попался. Я предложил всей нашей компании читать его. Она согласилась. Посмотрим! Маша мне все время говорит: тише, тише! Я вечером в библиотеке не читаю, а верчусь. Сегодня спал до 10 ½. Отчего бы это?.. Я совсем отучился иметь духовные страдания. Моя душа плоска, как тарелка, и пуста, как голова Клары Львовны. Я удивительно, бесконечно невпечатлителен. Нет такой вещи, которую я не мог бы позабыть через час… Память души – во мне совсем отсутствует. Вкус у меня громадный, тонкий, – но я даже посредственным художником никогда не буду, до такой степени я не впечатлителен… Каждый данный момент я переживаю как интересный роман, написанный гениальным художником. Но возьми перо, несчастный человек, и ты увидишь, кто ты такой… Бледно и бесцветно потечет моя канитель, – и хороший вкус помешает мне довести ее до 2-й страницы.
17 января.к)
18 января. 20 м. 10-го. Нужно читать про Толстого. Возьму сегодня Щеглова. Черт возьми! Хочется сделать доклад про индивидуализм – в Литературном клубе. Вчера говорил там. Аплодисменты, поздравления, а мне лично кажется, что я могу в тысячу раз лучше, что вчера я читал очень плохо. Нужно…
19 января. Рядом со мной сидит в библиотеке хитроумное этакое лицо. Рыжая борода. Показывает мне устав (законы, что ли): если высший или низший чин не станет повиноваться приказанию начальства – он должен живота лишен быть. И улыбается. – Для чего это вам? – спрашиваю. Гордо, но с ухмылением говорит: я – автор руководства для дворян, и мне предстоит говорить с различными одесскими лицами, так нужно ко всему готовым быть. А также веду тяжебные дела. – На моем лице – благоговение.
1 февраля. Эх, черт побери, возьмусь-ка я снова за дневник. Не знаю почему, забросил я его. Незачем было. Сегодня писал про Гоголя. Все больше набросочки. Впереди адская работа – собрать их воедино. Раньше перечту дней за 20 свой дневник. Там тоже мысли есть кой-какие. Я еще не уяснил себе плана статьи, но если бы мне удалось высказать все, что так неясно торчит у меня в голове, – вышла бы статья хоть куда. Все, что нынче господствует у нас, все атрибуты индивидуализма прежде преподносились русскому обществу под именем романтизма. Все как есть.
Идея ибсеновской «Дикой утки» – что правда an sich[24] под силу только исключительным людям, тем, кто способен стоять одиноко, а для людей толпы нужны маленькие успокоительные обманы, любовь.
Мы с восторгом принимаем [призывы] Горького к самоцельной борьбе, к тем, кто готов в безотчетном порыве безумно и…
Тоскливая песня Заратустры о сверхчеловеке, сильном, красивом, – мы с восторгом – все это романтизм.
План здесь таков: раньше говорить про нынешнее время, потом про гоголевское. Одинаковые проявления, но разные причины. Там – высшие натуры, обуреваемые страстями, непонятными черни, толпе, – эти небесные избранники – там они все…
В восторге Гриша. Слава Богу! Оставив тесную берлогу, (Он на простор полей попал).Кстати, в ящике от стола – есть записки, способные тоже пригодиться для моей работы.
Идешь, идешь… Зачем, куда – не знаешь… — Вперед!Куды мне стихотворствовать! Дай Бог и так что-нибудь сделать – прозою. Эх! А время проходит. Ну, не нужно, боюсь я думать про это. Мысль о смерти, было прогнанная мною почти на год, снова посетила меня.
Эх! Возьму какую-нб. книгу, отвлекусь. Какую? «Братьев Карамазовых»? Теперь 6 ½. В 8 ч. у Маши. 2 дня тому назад была великолепная погода. Совсем весна. В пальто ходить – жарко. Много на улице встречалось людей – совсем по-летнему. А сегодня дождь без конца. И подлый, осенний дождь… Потайной, неоткровенный. С первого взгляда не заметишь, что он идет, и только когда, прищурясь, посмотришь на что-нибудь черное, увидишь, как он сеет, сеет, сеет.
Был сегодня у М. очень недолго. В 8 часов снова пойду к ней. Лечь бы спать. Пусть Анюта разбудит.
2 февраля. Должен работать, а не могу. Сижу у М. Часов 11. Ну хоть бы одна мысль полезла в голову.к)
Памяти Толстого*
В безумных поисках святого Эльдорадо, Пути не видя пред собой, Как серое, испуганное стадо, Метались мы во тьме, холодной и немой. И спутников давя, их трупы попирая, И в свалке бешеной о цели позабыв, Бежали к бездне мы… А ты, Земля Святая, Осталась позади в тени густых олив. Осталась позади, мы пробежали мимо, «Вперед, вперед», – бессмысленно крича, А бездна впереди ждала неумолимо И не смолкал надменный свист бича. Вперед! Вперед! без отдыха, без цели, Бессмысленно судьбы покорные рабы, Мы бешено, как буря, пролетели, В безумном вихре яростной борьбы, Спеша исчезнуть в пропасти бездонной. И ты был с нами… Увлечен толпой, на гибель обреченной, ты видел тьму со всех сторон. Проклятья… Кровь, безумное смятенье… О родине забытые мечты… И полный ужаса в немом оцепененьи, у края пропасти остановился ты. Так вот чего искали мы в пустыне, Так вот куда бежали страстно мы! Чему молились, как святыне, средь мрака ужаса и тьмы! И ты оглянулся с тоскою назад… И видишь, там братья идут за тобою, Идут бесконечной толпою, И давят, и рвутся, и бьют, и кричат. Бегут, чтобы в бездну скорее свалиться. Как бледны их жалкие, злобные лица и как ожесточен их потускневший взгляд. И в поиски потерянного рая всю душу страстную влагая, Ты мечешься во тьме и стонешь, и зовешь, Отчаянье надеждой заменяя, и не влечет тебя пленительная ложь Миражей сладостных, и вдохновенным оком Ты испытуешь тьму; там пусто и мертво, И ты застыл в отчаяньи глубоком, Во тьме не видя ничего. Вдруг позади, Там, на холме высоком, ты землю увидал в тени густых олив, Она манит к себе, лучами залитая, И бурный закипел в душе твоей порыв, И кинулся ты к нам, и, руки простирая И путь нам в бездну преградив, крича.19 марта 1902. Написал около 50 строф «Евг. Онегина»*. Дальше как-то не пишется. Нужно хорошенько выяснить себе сюжет. Получив письмо Татьяны, Онегин рассуждает в стиле Штукмея: «оно, конечно, письмо она написала мне хорошее, но все же это дело надобно прекратить: как бы чего не вышло!» Татьяна ждет его – не дождется. Он приходит поздно… а я забыл сказать вам, как раз случилось так, что ныне, назло сопернице-кузине, ждалось большое торжество: должен был приехать к Ольге «великий» тенор М. – 5 часов прождала его Ольга, зеленая от злости, он не приехал… (Напрасно она перерыла целый ворох тряпок в галантерейном магазине, ища ленту «помпадур», напрасно к ним принесено шампань – одесское вино…) Или ничего не сказать про это сейчас и повести дело так: «Когда Онегин появляется среди раздосадованных девиц – Ольга глядит на него со злобой: не для него была куплена эта лента в расшитых узорах, что теперь у нее на шее, не для него это вино, не для него торжественный абажур освещает гостиную… (тон грациозный). Кузина со змеиной улыбкой говорит ему, что Маразини обещал в 5, но, должно быть, он будет в час. Ольга, чтоб показать, что ей наплевать, берется Онегину рассказать анекдот, он внимательно слушает; когда вбегает Татьяна – (ах, я рада, как я рада, я думала, вы не придете), он холодно здоровается и заводит разговор с Ольгой… Вся компанья удивлена – Татьяна обыкновенно так сдержанна…
Татьяна удивлена поведением Онегина. Она предлагает ему пойти прогуляться. Идет. Серебряная ночь. Бархатные тени. Черные силуэты деревьев… Молчат».
И вот, когда пришел Евгений, — Надеждой радостной полна, Бежит она, волнуясь, в сени И видит в ужасе она, Что там не гений вдохновенный, А человек обыкновенный… Ах, ведь она не для него Приготовляла торжество. Не для него ценой в рупь сорок Одесско-крымское вино, Не для него ее мамашей Еще вчера припасено. Не для него толпой оборок Ея украсился наряд Свободным принципам не в лад.10 минут 11-го.
Увеличу эту строфу не в пример пушкинской. Вместо двух, после «благостыней» поставлю четыре стиха. Этим делом стесняться нечего.
В этой строфе я придал размер лучшему моему стихотворению и испортил его… Я написал его 14-ти лет. Вот оно:
…Со мною иногда Весенней ночью так бывает: бежишь вперед, не знаешь сам, куда, вперед, вперед, пусть ветер догоняет… Болтаешь руками, бежишь и кричишь, а в поле и в небе обидная тишь… На землю падешь – зарыдаешь, а в чем твое горе – не знаешь… The May Queen[25]: Я хочу дожить до тех пор, как появятся цветы и растает снег, и солнце к нам проглянет с высоты, И в тени кустов колючих ты меня похорони. When candles are out, all cats are grey. I go to Mary. We shall go to buy me the coat[26]. Седых волос увенчан кущей, Вот сионист – известный флинт, Досель надежды подающий Сорокалетний Wunderkind…[27]Ночь на 20-е [марта]. Бред. Насморк.
За ней солидный наш Евгений… Идут, молчат, полны собой… Ложатся бархатные тени На посребренную луной Дорогу к парку… Воздух синий Ласкает нежной благостыней… Томит упрямой тишиной… Глядит Татьяна пред собой И говорит ему: «Весною Вот что случается со мною. Бежишь из комнаты долой, Куда, куда, зачем, не знаешь, — Летишь, волнуешься, кричишь — А в небесах немая тишь, — Обидно станет: зарыдаешь, А горе в чем – ей-ей не знаешь… И засмеялась… Наш герой Солидно машет головой.Без 10 м. 7 ч. утра.
Написал 5 строф – 70 строк. Всего 56 стр.
4 июня.
Люблю вспоминать предвечерней порою В отрадный и сумрачный час Обо всех, кто мелькнул, как свеча, предо мною, Зажег мое сердце и снова погас; Обо всех, кому отдало сердце немое Слово правды упрямой хоть раз, Я люблю вспоминать в предвечернем покое В тяжелый, пророческий час… Предо мною проходят угрюмые тени, Небрежно и злобно глядят на меня, Проходят, смеясь, презирая, кляня, А я – я пред ними упал на колени, И глупые падают слезы из глаз, Но не слышат они моих страстных молений В тяжелый пророческий час… Между ними одна… я не знаю, зачем она с ними, И зачем мои губы так часто твердят Это имя – чужое, ненужное имя, — И зачем так суров ее пасмурный взгляд — Ее пасмурный взгляд, где иные встречали Слишком много тоски и печали, Но презренья не встретил никто; Этот взгляд, где так много ласкающей неги, Где для всех, кто упал из житейской телеги, У кого бессердечной судьбой отнято Дорогое уменье смеяться и плакать И святое стремленье себя обмануть, Кто бредет в непогодную скучную слякоть Как-нибудь, все равно, как-нибудь.6 июня, утром [Пропущен набросок статьи «Дарвинизм и Леонид Андреев. Второе письмо о современности». – Е. Ч.]
Рейтеру*
I Судьбу доверив Паркам, Иду я как-то парком, И слышу – там, где тополи Листами нежно хлопали, Раздался поцелуй… II В смятениях аффекта Целует деву некто. Она ж полна апатии, Сливаясь с ним в объятии, Сидит под сенью струй. III В тревоге и досаде Приперся я к ограде. И черный ворон, каркая, Кричит, чтоб шел из парка я, Чтоб не мешал любить. IV Лежат пред ними вишни, Они для них излишни. Ах, ручку вы засуньте-ка, Чтоб вишни взять из фунтика И деву угостить. V Но не были красивы Все эти перспективы: Иные фрукты – белые, Неспелые, незрелые, Манят его мечты. VI И вот из черной тучи Луна сверкнула лучше. Ужель тебя прогневаю, Когда скажу, что с девою Сидел, о Рейтер!.. ты. VII Луна светила ярко, Когда я шел из парка И устремлялся по полю К таинственному тополю.* * *
Не датировано:
Покаянье – его я не знаю, Униженье – не нужно его. Я и так его много встречаю, Ничего, ничего, ничего. «Ничего!» – это страшное слово. Ах, ведь я не гляжу с ликованьем И не знаю я сытых побед, —2 декабря 1902. Опять Кацы, опять разговоры о спектакле, о встречах Нового года, опять гололедица, Хейфец – опять, опять, опять.
Думаю о докладе про индивидуализм, о рассказе к праздникам и о статейке про Бунина*. Успею ли? Приняты решения: сидеть дома и только раз в неделю под воскресение уходить куда-ниб. по вечерам. Читать, писать и заниматься. Английские слова – повторить сегодня же, но дальше по англ. не идти. Приняться за итальянский, ибо грудь моя [ни] к черту. Потом будет поздно, и приняться не самому, а с учителем. И в декабре не тратить ни одного часу понапрасну. Надо же, ей-богу, хоть один месяц в жизни провести талантливо, а то теперь я «развлекаюсь, словно крадучись, и работаю в промежутках». Читаю Лихтенберже о Ницше – не нравится*. Бездарность этот Лихтенберже. Хочу выудить оттуда данные вот для какой мысли: Ницше считал самоцельность индивидуализма – необходимейшей его сущностью. А сам всячески восстает против самоцельности вообще. Не признает здоровья an sich[28], ну а абсолютное совершенство – это для него первое основание. Кстати: скоро выйдет горьковское «На дне», напишу-ка я к нему предисловие.
Теперь рассказ: Петр Иванович написал:
Друзья, взгляните – он идет, — Веселый, пышный Новый год… Друзья, исчезнут узы мрака…(Как ни верти, а к слову «мрака» ничего, кроме «драки», не выдумаешь.)
Или так:
Друзья, не станет больше муки.Как ни верти, к слову «муки» никакой рифмы, кроме «штуки», не выдумаешь. Но при чем же здесь штука? Решительно ни при чем. Новый год – и штука. Что касается суки – то Петр Иваныч ни секунды не остановился на этом непотребном зверьке. Брюки – тоже оказались весьма некстати. Не прикинуться ли декадентом? – мелькнула у него мысль. Лафа этим декадентам:
Моих желаний злые брюки —написал, и готово! Ступай с этими брюками в публику.
Петр Иваныч подошел к зеркалу. Лицо у него солидное, борода с проседью, – никто, глядя на него, не сказал бы, что он занимается таким легкомысленным делом, как стихотворство. По крайней мере, пшеничник! – думали все. (И в самом деле, странно было подумать, что…) А на самом деле… Ах, это была старая история и т. д.
__________________
Странная штука – репортер! Каждый день, встав с постели, бросается он в тухлую гладь жизни, выхватывает из нее все необычное, все уродливое, все кричащее, все, что так или иначе нарушило комфортабельную жизнь окружающих, выхватывает, тащит с собою в газету – и потом эта самая газета – это собрание всех чудес и необычайностей дня, со всеми войнами, пожарами, убийствами делается необходимой принадлежностью комфорта нашего обывателя – как прирученный волк в железной клетке, как бурное море, оцепленное изящными сваями.
__________________
Был дней пять назад у трагика Дальского. Неприятный господин… Вхожу… Слуга просит подождать. Потом из спальни: проси! В халате – обрюзглый и бородатый. «Я с вами по-студенчески», – говорит. Я думаю: во-1-х) я не студент, во-2-х) он не студент, а в-3-х) если бы мы и были студентами, то разве студенты ходят в халатах? Наивная уверенность, что все только и думают, что о его персоне. Рассказывает эпизоды из своей жизни, свои взгляды на искусство. «Это, – говорит, – вехи… Запишите это! при вас ваша книжка?» Каково нахальство! Дал карточки на память – извивался и пренебрежительно заискивал. Сволочь.
Altalena говорит: «Черт возьми – подмывает разругать Дальского!» Это потому, что Дальский отозвался об Алталене восторженно. Он бы еще восторженнее отозвался, если бы Алталена написал о нем, – шутит Хейфец. Должен написать письма: Андрееву*, Ком[м]иссаржевской и Изетее. Сегодня же. А то потом помешают… Следовало бы ответить m-lle Боскович, ну да обойдется. Прочел 207 стр. Лихтенберже вслух без перерыва почти от 5 до 10 ½ ч. Были у меня Маша и Клейнер. Грудь болит. Писем так и не написал. Встал сегодня рано, да боюсь ложиться: а вдруг не засну.
3 декабря. [Край страницы оторван. – Е. Ч.]…читаю, бездельничаю. Сбился с панталыку. Уже… часа. Через час придет Маша. Начнем читать Шестова. Я уже читал его – да позабыл. Теперь возьмусь-ка я за составление плана статейки. Хочется мне доказать, что индивидуализм не противоречит коллективизму. Для этого я объясняю раньше индивидуализм как самоцельность; потом ввожу доказательства, что вообще самоцельность явление – желательное и необходимое. Расширяю точку зрения: в обществе все орудия имеют весьма утилитарную и недвусмысленную цель. И каждое из них, чтобы скорее и вернее достигнуть этой цели своей, – прикидывается бесцельностью. Мало того, что бесцельностью, – себя целью выставляет (примеры). То же и с индивидуализмом. Покуда довольно. Вяло все это. Не того хочу. Ну да ничего. Книжками освежиться нужно. Ведь я совсем-таки ничего не читаю. Все шатаюсь без толку туда-сюда. Плохо это. Обет на себя налагаю – работать. Работать, не выходя из дому. Заполнить весь день работой. Самым ребячливым образом разбить все свое время на части и наполнять себя содержанием. Хотя бы для этого пришлось кинуть газетничество на время. Итак, – утром до обеда чтение. Что читать – подумаю после. От 1-го часу до 4-х ч. все случайное, неотложное; от 4-х до десяти – чтение с М. и еще с кем-нибудь. С кем? Хоть с Феодорой. С кем же? Нужна тупица, не лезущая с рассуждениями, аккуратная, терпеливая, священнодействующая, – где бы взять ее? Доня – он будет рисоваться и капризничать. Наша Маня – ломаться и конфузить. Лучше Пустынина не найти. Но отчего он так не по душе Маше? Он будет молчать, насупившись. Пыхтеть. Будет отвлекать Машино внимание. Но ведь, ей-богу, никого другого нам не надобно. А вдвоем ничего у нас не выйдет. Маша пришла. Прочли стр. 80 Неведомского, у меня без воздуха разболелась голова – я вышел пройтись. Еще сильнее. Говорю Маше: нет, вы идите себе домой, а я пойду к себе. Маша усмотрела в этом обиду – и пошла писать губерния.
11 декабря. Среда. Сидел дома и все время занимался. Результатом чего явилась следующая безграмотная заметка* [наклеена вырезка из газеты. – Е. Ч.]:
«В Лит. – артистическом обществе в четверг состоится очередное литературное собеседование. Г. Карнеем-Чуковским будет прочитан доклад “К вопросу об индивидуализме”».
Что то будет!
12 декабря. Вчера А. М. Федоров преподнес мне книжку своих стихов*. Читал в библиотеке – прелесть.
Что я буду возражать оппонентам? Вот разве так: в своем докладе я стремился примирить идеализм с утилитарной точкой зрения. Я хотел угодить и общественникам и индивидуалистам, и реалистам и мистикам, – а в результате не угодил, конечно, ни тем, ни другим.
Обходя молчанием те возражения, которые вызваны недоразумением и которые, надеюсь, рассеются, чуть мои оппоненты познакомятся с докладом в печати, – я постараюсь реабилитировать свою точку зрения пред ее настоящими противниками. Господа! Мне вспоминается здесь рассказ Полевого о Суворине. Он – еще солдат – стоял и т. д.
Эпиграфом к стихам Федорова: Душой во всем ловлю намеки. Есть такие книги, которые будто созданы для того, чтобы писать на их обложке: «Дорогой кузине Оле от кузена Коли на вечную память…» Я, по крайней мере, ни одной книжки Надсона не видел без такой надписи. П. Я. и Апухтин – тоже способствуют укреплению платонических отношений между кузенами. У Апухтина есть «разбитая ваза», и у П. Я. есть «разбитая ваза». А какой же кузен не декламатор, и где видали вы кузину, которая не собиралась бы в консерваторию!
Прочтя книжку стихотворений г. Федорова, я убедился, что ей не суждено покровительствовать матримониальным видам кузенов, – в ней нет ни единой «разбитой вазы» – в ней есть «степь, тройка, бубенчик, заря и дорога, и слева и справа ковыль», в ней «море лишь да небо, да чайки белые, да лень»… И ежели бы Коля стал читать такие вещи Оле – ничего бы из этого не вышло… Но неужто же на свете нет других людей, кроме кузенов! Не для них же пишет поэт. Ах, господа, – попробуйте как-нибудь, находясь в людном месте…
[Наклеена вырезка из газеты. – Е. Ч.]:
«В непродолжительном времени выйдет в свет сборник гг. Altalena и Корнея Чуковского, посвященный индивидуализму»*.
Я стоял возле кафедры и слушал, как меня бранили. Слушал и удивлялся. Неужели я говорил так неясно?
1903
6 января. Крещенье. «После того, как моя идея о самоцельности была оскорблена и осмеяна, – я посыпал главу мою пеплом и смирился». Так я хочу начать свою статью. Нет, это не годится. Недавно вышел в свет интереснейший сборник Московского психологического общества «Проблемы идеализма». Это одна из тех книг, которым суждено сделать эпоху в мировоззрении современников, ознаменовать собою новую ступень нашего духовного развития*.
21 января. Пародия на субботнее стихотворение Дм. Цензора «Цветочница»*.
Ницшеанская песня старьевщика
Продайте, продайте штаны! Зачем они вам – объясните! Их толстые, грубые нити Мешают борьбе и защите, Они вам совсем не нужны: Продайте, продайте штаны. Уж лучше гулять без штанов! И в виде святого протеста В любое публичное место, Где много привычки рабов, Явиться совсем без штанов! Продайте, продайте штаны! Зачем вам позорные узы? Пусть затхлые сгинут союзы И волосы злобной медузы Порвутся в когтях сатаны. Продайте, продайте штаны. Когда бы старьевщик запел Все песенки глупые эти — Его б осмеяли на улице дети И вряд ли домой воротился он цел! Но так как печатано это в газете, То все говорят обо мне как поэте И барышни все лишь в меня влюблены. Продайте, продайте штаны!8 февраля. Вот какая заметка напечатана была вчера [вклеена вырезка из газеты. – Е. Ч.]:
«Контрасты современности» (доклад К. Чуковского в Лит. – арт. о-ве) вызвали настоящий словесный турнир между докладчиком и отстаивавшим его положения гг. Жаботинским, Меттом, с одной стороны, и резко восставших против идеализма гг. Брусиловским, Гинзбургом и др. Прения затянулись до 12 ч. ночи. Следующее собеседование состоится через 2 недели»*.
11 февраля.
В немой безвыходной печали, Надменным кланяясь богам, Толпою скорбной мы стояли, И был угрюм наш бедный храм.Лондон, 18е июля 1903.
Пустынину
Ваши мненья слишком грубы, Представленья – слишком слабы. Если б здесь коптели трубы, Мы б чернели, как арабы. Здесь не плавают микробы, Словно в Черном море рыбы. Если б так – то наши гробы Видеть вы теперь могли бы.Ему же:
Мой друг, не ждите Прежней прыти От музы пламенной моей. Поймите: Лондонское Сити Весь дар похитило у ней.18 июля 1903 г. Лондон. Маша – моя жена*. Сегодня первый раз, как я сумел оглянуться на себя – и вынырнуть из той шумихи слов, фактов, мыслей, событий, которая окружает меня, которая создана мною, которая, кажется, принадлежит мне – а на самом деле – совсем от меня в стороне. Страшно… Вот единственное слово. Страшно жить, страшнее умереть; страшно того, чем я был, страшно – чем я буду. Работа моя никудышная. Окончательно убедился, что во мне нет никакого художественного таланта. Я слишком большой ломака для этого. Непосредственности во мне нет. Скудный я человек. События жизни совсем не влияют на меня. Женитьба моя – совсем не моя. Она как будто чья-то посторонняя. Уехал в Лондон заразиться здешним духом, да никак не умею. Успехов духовных не делаю никаких. Никого и ничего не вижу. Стыдно быть такой бездарностью – но не поддаюсь я Лондону. Котелок здешний купил – и больше ничего не сделалось в этом направлении. И скука душевная. Пустота. Куда я иду, зачем? Где я? Жена у меня чудная, лучше я и представить себе не могу. Но она знает, что любить, что ненавидеть, а я ничего не знаю. И потому я люблю ее, я завидую ей, я преклоняюсь перед нею – но единства у нас никакого. Духовного, конечно. От нее я так же прячусь, как и от других. Она радуется всякому другому житейскому единству. Пусть. Я люблю, когда она радуется.
18 апр. 904. Вру и вру. Я в Лондоне – и мне очень хорошо. И влиянию я поддался, и единства с женой много – и новых чувств тьма. Легко[29].
1904 Англия
18 апреля 1904. Сижу в Лондоне. Маша через 1 ½ месяца рожать будет. Читаю конец «Vanity Fair»[30]. Денег ни фартинга. Жду Н. Машу люблю в миллион раз сильнее, чем прежде. Наволоку выстирал позавчера. Хорошо мне. Получил от девочки своей чудной – святое письмо.
2 июня. Четверг. Сегодняшний день – сто́ит того, чтобы с него начать дневник; он совсем особенный. Разобрал я вчера кровать, лег на полу. Читал на ночь Шекспира. И ни на секунду Маша у меня из головы не выходила. Утром встал, подарил оставшиеся вещи соседям, перенес сам корзину на Upper Bedford Place[31], условился с носильщиком, получил в board-house[32] свой breakfast[33] и вернулся на Gloucester Str. за новыми вещами. Звонок. Mrs. Noble дает мне вот эту телеграмму.
[Вклеена телеграмма. – Е. Ч.]:
Gratulieren Marie gluecklich entburden mit Sohn alles wohl. Goldfeld Chookowsky[34].
Так у меня все и запело от радости. В пустой комнате, где осталась только свернутая клеенка да связанная кровать, я зашагал громадными шагами, совсем новой для меня походкой. О чем я думал, не знаю и знать не хочу. Мне и без этого было слишком хорошо. Потом стал думать, что он будет жить дольше меня и увидит то, чего я не увижу, потом решил написать на эту тему стихи, потом вспомнил про Машины страдания, потом поймал себя на том, что у меня в голове вертится мотив:
Я здоров, и сына Яна Мне хозяйка привела*.Потом ушел с корзиной. Потом пошел в Британский Музей, купив по дороге эту тетрадь. В музее написал Маничке письмо, а по дороге заметил с особой радостью, как хороша ветка у дерева подле музея и как смешно сделал один человек: прицепил себе к бедру зонтик, как шпагу. Потом lunch kidney pudding[35], потом беседа с Лазурским, пригласить ли поповичей чай пить, потом писание вот этого дневника.
Сейчас я сделаю так: пойду и снимусь, чтобы сказать своему сыну: «Смотри, вот какой я был в тот день, когда ты родился» и чтобы вздохнуть, что этот день так бесследно прошел за другими. Вот этот день, когда я вижу из окна трубы, слышу треск кэбов и крик разносчиков.
__________________
Иду, потом забегу на Глостер-стрит и возьму несколько книг. Как бы мне хотелось, чтоб ни одна крошинка этого дня не пропала.
16 июня. Окончил корреспонденцию «о партиях»*. Читал З. Венгерову о Браунинге*. Взялся переводить его. Удивительно легко. Перевел почти начисто вот эти строки из его «Confession»[36].
Я лежу и смотрю, и все чудится мне На столе между склянок – тропинка. И бежит она, знаешь, вот к этой стене, Где кровати железная спинка. От усадьбы бежит между склянок она… Да! Скажи мне: для ясного взора Эта штора, что – видишь? – вон тут, у окна, Голубая иль желтая штора? Для меня она – небо июньского дня Над тропинкой, стеною и крышей… А та склянка, где надпись «эфир», – для меня — Это дом, видишь – всех она выше. Чтоб добраться туда, был один только путь…__________________
Играл в шахматы. Это чума здешних моих занятий. Ну, теперь за Pendennis’а*. Стыдно – не кончить его до сих пор.
А впрочем, продолжу стихи:
Чтоб добраться туда, был один только путь: (Ты ползешь) у стены по дороге, Чтобы все – сколько есть – все глаза обмануть, Кроме двух – все глаза в той «Берлоге». Так усадьба звалась.17 июня. Не нравится мне размер, ну, да что делать!
На террасе ждала меня девушка Возле пробки… в сиянии лета… там — Ах, неладно тут что-то, я чувствую сам, Да уж песня у разума спета. Дом «Берлогой» звался… Был один к нему путь: Все ползком… у стены… по дороге, — Чтобы все – сколько есть, все глаза обмануть, Кроме двух – все глаза в той «Берлоге». И суровым глазам не настичь никогда, Как из спальни она пробиралась В этой склянке, где надпись «Эфир», и сюда По скрипучим ступеням спускалась.Начало стихотворения:
Умирающим ухом я слышу вопрос: «Ты теперь, покидая земное, Не видишь ли мир яко сонмище слез?» – Нет, Отче, я вижу иное.18-го. Осталось 2 строфы. Одну можно выкинуть: у меня для нее грации не хватает. А перед второй робею. Первую, ежели размер изменить, напишу так:
Слабеющим ухом я слышу вопрос: «Теперь, покидая земное, Не видишь ли мир яко сонмище слез?» – Нет, Отче, я вижу иное.Вчера получил от Маши великолепное письмо. Читаю З. Венгерову. Нехорошо. Дай мне неделю времени на чтение, и я напишу любую из этих статей. Она все их читала, но не жила с ними, не жила ими, они для нее люди посторонние, и потому не она к ним приспособляется, а они к ней. Все они как будто в «Вестнике Европы» сотрудничают. Она не жила их поэзией, а только писала о них статьи.
[Пропущено переписанное по-английски стихотворение R. Browning’a «Confession». – Е. Ч.]
Получил деньги, – и подарок от дорогой своей сеструни – 5 карбованцев, так трудно ею заработанных. Купил Теккерея «Снобы» и Браунинга «Plays»[37]. Читал великолепную «Прозерпину» Свинборна – несколько раз.
Получил от Демченко письмо – завтра в Kew[38] не едет. Был у него. Играл в шахматы – получил 2 мата. Потом клуб – беседовал с этим очень умным рабочим-католиком, который изучил испанский язык: нос приплюснутый, подбородок выдается – истый убийца, а улыбка, как у ребенка. Я говорил ему, что англичане не умеют наслаждаться красотой мыслей, они только смотрят, верны ли те или нет. Приводил в пример Гексли, который обрушился на Руссо – и попутно разрушил Шопенгауэра и т. д. Велика штука – разрушить Шопенгауэра. Это, небось, мой Коля уже умеет. Но красоту жизнеощущения… Ах, да, – днем читал «Пенденниса», лежа на постели (купил сегодня шляпу), Китса читал – сонет о Чаттертоне – не нравится*. Гимнастикой занимался. Теперь разденусь и за Теккерея. Что Маша теперь? Мамочка? Мне просто неземным счастьем кажется повидать их всех – и эту дорогую, так неумело и хорошо ласковую сестру мою. Я мамочкино лицо знаю, как ничье. В нем все так трогательно, так любовно. Я его ношу повсюду, со всеми его улыбками. Милые мои!
19 июня. Получил письма от Кармена, от Маши. Сейчас буду писать дорогой моей сеструне.
20 июня. Слова заучиваю из Браунинга. Решил делать это каждый день. Жду газет и писем. Дождусь – иду в бесплатную читальню. Браунинг по мне, я с ним сойдусь и долго не расстанусь. Его всеоправдание, его позитивистский мистицизм, даже его манера нервного переговаривания с читателем – все это мне по душе. Но язык трудный, и на преодоление его много времени пойдет.
Мильон иль два – иль менее, иль боле — Моей покорны воле. Один лишь раб – не знаю почему — Ослушен был веленью моему.28 июня. Только что – после обеда – перевел такие строки из Свинборна:
О, пусти мои руки, о, дай мне вздохнуть. Пусть роса охладит мою жаркую грудь. А луна! Как нежна на цветах ее сень; Как цветок, она тянется к небу прильнуть… Ах, уж день недалек, недалек уже день… Исцелована вся я лежу, и наш сад Мне для ложа отдать мураву свою рад, И хочу я тебя, как полдневная тень Хочет ночи, как полдень, влюбленный в закат. Ах, уж день недалек, недалек уже день. Властелин мой! Молю: отдохни, не целуй! Разве отдыха слаще шальной поцелуй? Да? Так вот он, возьми, мой июньский цветок, Мою розу; она – как лобзанье нежна. Недалек уже день, ах, уж день недалек.29 июня.
Ах, отнимут огни этих первых лучей Ночь у дня и восторги у страсти моей. А пока – в полнолунье – люби же меня, Хоть бежит уже тьма от рассветных огней. О! Зачем этот день? О, не нужно мне дня. Вот уж падает сердце, уж кровь не слышна. Наша жизнь там смолкает, где громче она. Путь любви меж убитых любовью – и там Она кровь их возьмет, если кровь ей нужна. Скоро день. О, зачем? Он не надобен нам! Если хочешь, убей меня. Хочешь – убей И багряный восторг отыми у скорбей. Разметай виноград, пока сладок в нем сок. Лучше смерть для меня, чем для страсти моей. Недалек уже день, ах, уж день недалек.30 июня. Начал стихотворение Ленского. Написал корреспонденцию об иммигрантах*. От Манички получил письмо: пишет, что сына моего зовут Харлампий и что Липа будет его крестной кумой. Сегодня ровно месяц, как мой Харлампий явился на свет. Каким-то ему этот свет покажется? Ни от З. Венгеровой, ни от Э. С.* ответа еще нету. Корреспонденций моих в газете тоже уже неделя как не было. Я не унываю. Сегодня был Демченко. Приходил прощаться и на прощание дал мне мат… Сегодня мне как-то тяжелее отсутствие своих. Странно. Я даже рад, что Лазурский ворочается.
1 июля. Вот что я вчера написал:
… И не ждешь пред собою ни жажды, Ни поздних скитаний, ни гроз. И знаешь ответы на каждый, На каждый забытый вопрос. И знаешь, зачем ты и где ты, И твердо идешь меж могил. И хоть не сверкают кометы, Но вот – ты свечу засветил. Твое завтра – сегодня готово, С утра ты куешь вечера, И не жди ты покрова ночного — Не взял ты свой молот с утра. А я – ничего я не знаю, И рассвет, и закат я люблю. Я не верю певучему маю, Я о вере пою февралю. И волну я люблю, и утесы, Как венок, свои грезы плету. Для ответов я знаю вопросы, Для вопросов я знаю мечту.2 июля.
И за ласку речного изгиба, Уходящего в яркую тьму, Кому-то кричу я: спасибо! И рад, что не знаю, кому.Сегодня узнал о смерти Уотса. Написал о нем корреспонденцию*. Перевел две строфы Свинборна.
Играл с поповичем 4 партии в шахматы и все четыре выиграл. Корреспонденций моих не печатают уже неделю. Жду Лазурского – сказал, что сегодня вернется. Буду сейчас читать «Пенденниса».
10 июля. Читаю Ренана «Жизнь Иисуса». Решил выписывать все, что пригодится для моей фантастической книги о бесцельности. Мои положения таковы: бесцельность, а не цель притягательны. Только бесцельностью достигнешь целей. Отведу себе здесь несколько страниц для выписок.
25 VII.
Ты любил ее робко, эту жизнь многоцветную, Без надежды пред ней ты молился в тиши. Без рыданья принес ты ей грусть безответную Стыдливо прекрасной души. Как сияньем заката – печалью повитая Без рыданий рыдала молитва твоя. Как неспетая песня, как радость забытая, Как могила, неведомо чья. И из сердца великого, сердца влюбленного По капле, по капле сочилася кровь, И какого-то неба – иного, бездонного, Без надежды просила любовь. И стыдливо душа невозможного чаяла, О вечном минуту моля, И в безбрежности вечного тихо растаяла В тихих лучах небытья. Как покорного вечера благоухание, Как безропотно тихий закат, Как весенней любви, как любви трепетание, Как первой любви аромат…*27 июля, среда. Сегодня утром Лазурский получил от В. Брюсова письмо, где очень холодно извещается, что моя статейка о Уотсе пойдет*. От наших сегодня ни строки.
29 июля, пятница. Вечер. Писем от наших все нет. Вечер. Я перевожу Свинборна для своей статейки о нем*. Вот что я написал:
И пальм, и лавровых ветвей, И грудей, дрожащих весной, Они голубиных нежней — Эти груди у нимфы лесной. Ты возьмешь ли все крылья страстей, Весь восторг домогильный возьмешь? Эту песнь убегающих дней, Что звучит, будто лиры дрожь, Лиры, сокрытой в цветах, Чьи струны дрожат, как огонь. О! Ты все повергаешь во прах, Но этого, бедный, не тронь. Ах, изменчиво жизни крыло, И смертный минуту живет. Минута – и это прошло, Пускай же идет, как идет. Из живущих под небом никто Свою смерть не умел пережить, И достаточно слез пролито, И грустно для грусти грустить. Уж царствуют новые боги, Их розы сломили ваш меч. Они добродушны, нестроги, Нежна их тихая речь.1 августа, понедельник. Предисловие к «Онегину»*. Будь я рецензентом и попадись мне на глаза этот стихотворный роман – я дал бы о нем такой отзыв: Мы никак не ожидали от г. Чуковского столь несовершенной вещи. К чему она написана? Для шутки это слишком длинно, для серьезного – это коротко. Каждое действующее лицо – как из дерева. Движения нет. А что самое главное – отношение к описываемому поражает каким-то фельетонным, бульварно-легкомысленным тоном. Выбрать для такой вещи заглавие великого пушкинского творения – прямо-таки святотатственно. Стих почти всюду легкий, ясный и сжатый… В общем, для «железнодорожной литературы» – это хорошо, но не больше.
4 августа. Сочиняю поздравительный стих Олимпиаде Прохоровне:
Достойно Ваши именины Воспеть – я не могу никак. Мой стих не стоит и полтины, Мне платят только четвертак За строчку. А сказать стихами «Желаю вам того-сего» — Ведь это, посудите сами, Не стоит ровно ничего. И потому я вам ни слова, Ни слова не скажу такого. Я не скажу: пошли вам боги Всего, что просите у них. Я знаю, что от слов таких И белый покраснеет стих. Я знаю: ни один двуногий Своих желаний не достиг Таким путем. Мы сами, сами Должны добыть, чего хотим, И только нашими руками Мир вожделенный достижим. (Простите стих головатючий — Придумать не могу я лучший.) И потому я вам желаю, Чтоб вы желали – пожелать. Иных желаний я не знаю, И не желаю вам узнать. Иль нет: уже не за горами Тот праздник ваших именин, Когда я кликну: сын мой, сын, Надень-ка чистый казакин, Идем с тобою к крестной маме, Там угостят нас пирогами. Тогда – ужель тебе, Аллах, Молебный голос мой не слышен? Да будет в этих пирогах Начинка сладкая из вишен. Но здесь конец сему листочку, И потому я ставлю точку.Август. Ночь на 22-е. Это шестая ночь, что я не сплю. Зуб. Никогда в жизни не знал таких мучений. Купил вечером лекарство против невралгии; там сказано: по 2 ложки – не больше. Я выпил почти всю бутылку, и нервы поднялись еще больше. В голове мутится: ни одной мысли не могу довести до конца.
Стараюсь думать о Маше, не могу – так болит. Зубы стучат – и я занимаюсь тем, что считаю, сколько раз они стучат. Теперь, должно быть, 2-й час. В 9 ½ пойду к дантисту. Значит, мучиться осталось приблизительно 7–8 часов. Я плачу – и все говорю: Мама, мама, мама! Хочется молиться Богу или броситься из окна. Неделя как я ничего не пишу, не читаю, не думаю. И если бы я думал, что мне предстоит вторая такая неделя, я бы покончил с собою. Ухо болит от зубной боли. Голова тяжелеет все более. С восторгом думаю о том, как дантист наложит завтра щипцы и сделает этому проклятому зубу – моему мучителю – больно, больно. Это будет моя месть. Самочувствие покидает меня. Мне кажется, что меня нету, а есть один комок боли, – а все, что не болит, не существует. Должно быть, уже прошло 5 минут, как я пишу. Вот и хорошо. Хорошо. Хорошо. Возьму сейчас Пушкина и заставлю себя прочесть какое-нибудь стихотворение, вникая в каждое слово. Прочел «Зимний вечер» и «На смерть Ризнич». Ужасно трудно находить между словом и его значением соответствие. Образ упрямо не хочет идти на место слова. Который теперь час? Странно: вчера, в воскресение, а сегодня ночь на понедельник, утром Лазурский взял меня под руку и отвел меня на Woburn Square к дантисту Read’y. Его не было дома, а была его сестра. Она, ни меня, ни Лазурского никогда не видавшая, дала мне лекарство и денег не захотела брать. Странно! А вот вещь еще более странная: каждые две минуты я встаю с постели (на которой пишу вот это), поднимаю с полу графин и полоскаю рот, хотя никакого облегчения от этого не получается. Зачем же я это делаю? Кстати: у Пушкина, кажется, нет ни одного стихотворения о зубной боли. У Чехова в «Лошадиной фамилии» и в другом, где жена ругает мужа (забыл заглавие). У Достоевского – в «Записках из подполья». Где это река Коцит? Пушкин говорит в послании к Мордвинову: «На брегах Коцита». Пробило 2 часа. Только что прочел из дневника Пушкина об Иконникове. Как умно! Удивительно! Сложный характер изображен с такой легкостью и простотой. Вместо 2-х ложек Neuralgia Mixture[39] я принял 7 – и как у меня теперь опустела голова! 3 часа. Руки и ноги немеют. Такое ощущение, будто я умираю. Сын мой! Коля! Как это странно. Чуть я подумаю о смерти, сейчас же мне приходит в голову он. С добрым ли чувством я поминаю его или с завистью – я никак не умею сказать. Боже, как я исхудал: пальцы вытянулись. Лицо – сплошная яма.
Напрасно старался уснуть. Пролежал без движения минут 10. Стоит мне коснуться языком моего зуба – как он начинает болеть нестерпимо. И мне доставляет какое-то злорадное наслаждение толкать и толкать его языком. Который теперь час? В четвертом часу светает. Но на улице еще совсем темно. Впрочем, небо слегка посинело и где-то далеко тарахтит повозка. Лазурский подарил мне Свинборна. В другое время я был бы в восторге, а теперь – я даже и 5-ти строк не могу прочесть оттуда. Сестра дантиста Read’а дала мне 3 таких пластыря [рисунок] для десны. И благодаря им я мог весь день чувствовать себя человеком. И теперь я отдал бы год жизни за вот этот кусочек тряпочки, и нет вещи, которой бы я хотел больше ее. Все прочие мои желания кажутся надуманными, неестественными, смешными, ничтожными. Небо синеет, и я сквозь окно вижу трубу противоположного дома. Тени от газового рожка в моей комнате становятся неискренними. Фонари на улице погашены. Жду, чтобы пробило четыре. Бьет. Голова моя, голова, бедная голова моя! Опять пробовал уснуть. Пролежал минут пять. Весь ужас положения в том, что дольше 2-х секунд я не могу теперь думать ни одной мысли. На небе уже ясно обрисовываются тучи. Должно быть, ¼ 5-го. Главное, смешно, что боль ни на секунду не останавливается. Нет, должно же это когда-нибудь кончиться!
Так болит, что не могу писать. Качаюсь туловищем вправо и влево, чтобы утишить страдания. Теперь около 7-ми часов. Мимо уже дребезжат повозки с углем – и мне кажется, что если б они перестали дребезжать, боль прекратилась бы. Они перестали, и мне кажется, что зуб мой болит именно оттого, что они перестали. Маша. Как я счастлив, что тебя нету со мной! Ты страдала бы мучительно, глядя, как я бьюсь головой о стенку. А я делаю и такое exercise[40]. Опять тянутся повозки. Пробило 7 часов. Стало быть, мне осталось ждать 2 ½ часа. Я ждал 9-ти часов. Значит, в 3–3,5 раза меньше, чем я уже ждал. Мальчишки уже разносят по домам газеты, горничные кое-где трут уже ступеньки, рабочие, зевая, идут на фабрику. В голове у меня вертится слово: Snap-shot[41]. Опять чувствую себя частицей чего-то громадного, имя которому боль. Она (боль) больше моего я. Уже минуты 2 прошло после семи. Сегодня Maude, переводчик Толстого, назначил мне свиданье, а куда я такой пойду? Первое, спрошу его: перевел ли он «Войну и мир»? И неужто он считает, что «Воскресение» – лучше «Войны и мира»? Какое произведение считает он лучшим? Главное, нужно больше слушать, чем говорить, и поменьше спорить. Есть такие люди, которые за недосугом не успели влюбиться в юности. И если они влюбляются под старость – то эта первая их любовь всегда бывает и последней. Они не умеют ни разлюбить, ни перелюбить. Таковы у Мода отношения к толстовству (развить, когда вернется рассудок).
Уже на улице появились повозки с хлебом и молоком. Странно: отчего это здесь (на нашей улице) не кричат: «milko!» На Montague Place – кричали. Измыслил новое занятие: беру зубные капли и лью их изобильно в рот. Секунд на десять мне легче, так как весь рот горит огнем. Вот и сейчас мне легче. Я заставлю себя улыбнуться и посмотрю в зеркало, что выйдет. Улыбнулся, но долго не могу. В 8 часов придет почтальон, принесет письма или газеты, и мне легче будет. 4 дня назад купил фотоаппарат, в субботу вечером провожал Женю Орнштейна на Victoria Station[42], он едет в Париж, в четверг водил Лазурского к Эхтерам для покупки бинокля – и все это окрашено для меня навеки зубной болью. Даже «Oliver Twist», которого пробовал читать в светлые минуты в воскресенье, навсегда будет для меня связан с левой стороной моей челюсти. Как похожа Маня на карточке с Липой. Я, когда ходил взад и вперед по комнате, всегда останавливался перед ее портретом. У нее такое лицо, как будто она только что задумалась, а кто-то пришел и помешал ей думать. Сразу видно, что лицо нервное, подвижное и что это одно из тысячи его выражений. Милая моя Маничка! Когда-то мы встретимся! Опять не могу писать из-за припадка боли в зубе и ухе. Который час? Полагаю, ¼, а то и 20 м. 8-го. Какое это счастье, что время умеет двигаться! Совсем не помню, писал ли я этой ночью о том, что в «Весах» есть моя заметка о Уотсе. Заметка плохая, но я очень рад, ибо знаю, что мог бы написать лучше. Начал я этот дневник в 1 ½, теперь 7 ½, итого с промежутками 6 часов. ¼ суток. Вот, должно быть, чепуха все, что здесь записано. (Я лично не помню.) Но как весело будет потом смеяться, прочитывая эти строки. В комнату постучалась Джесси и известила меня, что она very sorry, that I am not well[43]. Я сказал ей, что я очень sorry[44], оттого что она sorry, – и она ушла, подвергнув меня сквозняку. Без 10 минут 8 часов. Некоторые шторы уже подняты. Бьет 8 часов. 10 часов я мучаюсь; осталось меньше двух часов. Терпи, Коля, терпи. Скоро почтальон. Ах, когда б он принес мне много-много разных писем. Пусть они будут тревожные, пусть в них будет несчастье – лишь бы они отвлекли меня на секунду. Но я знаю, что будет. Почтальон принесет тощий номерок «Одесских Новостей» со статьей Сига и Чужого. Вот из окна я вижу почтальона. Сейчас надену воротник и галстух и сбегу по лестнице. Получил от Маши письмо, но зуб так болит, что и сейчас не могу прочесть его. Хожу по комнате и говорю: а, а, а. Зачем? Разве от этого легче? Уже минут 5 – 9-го. Боль зуба порою бывает, как сияние: она исходит изо всего зуба во все стороны. А моя боль, как луч – острый, единый, яркий. Руки у меня холодные и дрожат. Маша пишет, что ребенок был очень болен, и зовет скорее приехать. День серый, туманный.
Еще осталось 40 минут. В. Ф. опять поведет меня к дантисту. Он теперь ест свой breakfast[45]. У меня боль дошла до кошмара. Когда я увижу этот проклятый зуб у себя на ладони – я, кажется, буду хохотать от восторга. Должно быть, осталось 39 минут. А когда он будет у меня в кармане, я прочту эти строки как веселый и остроумный рассказ.
Вечер 22-го августа. Зуб был вырван в 10 часов утра под газом. М-р Stuck, дантист, оказался вовсе не Stuck’ом. Подлинный справляет свой holyday[46], а этот ни черта не смыслит. Десна болит, но это все ерунда. Слабость такая, что не могу встать с постели. Поддельный Stuck посетил меня сегодня часу в 6-м. Бедняга сам за меня боится. Потом пришла навестить меня Peacock. Принесла винограду и груш. Мне было очень трудно ее присутствие. Лазурский добр и внимателен ко мне, как родной. Без него я пропал бы. Это такой хороший, деликатный человек. От Кармена получил письмо. Опять жалуется на Altalen’y. Что это значит – не пойму. Дождь.
Ночь на 23 августа. Во рту все вспухло. Спать не могу. 2 часа. Выпил немного бургундского вина.
23 августа. Нет большего счастья, чем миновавшее горе. Лежу в постели. Все у меня болит, а мне хорошо от отсутствия той боли. Заиграла шарманка, должно быть, 4-й час. Скоро чай принесут. Пробовал читать Свинборна – трудно. Не могу сосредоточиться. Сволочи! – Шарманщик вдобавок еще и поет. Ну ничего – пусть себе поет. На то здесь и freedom[47], чтобы нервов чужих не жалели. Боже, как это неприятно – быть глупым человеком. Мои интересы к жизни понизились – и вот уже дней 11 я живу, как улитка. Думаю о смерти – и ничего. Ни страха, ни ужаса, ни даже равнодушия не ощущаю. Поэт гораздо больше может, чем сколько знает, не поэт гораздо больше знает, чем сколько может. А Свинборн и то и др. Вспомнил Лелю Боскович. Она говорила, что хочет журнал издавать и меня в критики пригласит. Неумная она. Я еще не видел умного человека, который был бы самоуверенным. Она самоуверенная. А самоуверенная – значит, не ищет, значит, не хочет, значит, не уважает. И жизнь для нее ясна, как простая гамма. За что люблю Лазурского. За то, что он так-таки ничего не знает. У него нет ни единого мнения.
Воскресенье утром 28-го августа. Проявляю снимки.
Понедельник 29-го авг. Ничего не делаю. Так-таки ровно ничего. Дней 20 книги в руках у меня не было. Статей не пишу ровно месяц. Что будет, не знаю, – но если долго протянется – околею. Сейчас уже 4 часа – а я до сих пор только и сделал, что написал Лазурскому important letter[48]. Хочу писать о Свинборне, и мысли есть интересные, да как-то все [нрзб.] и неулежно выходит. Сесть негде, книжек нет подходящих и т. д. Кошмар моих последних дней – не шахматы, не лодка, не Kew Garden, а фотография. Я достал камеру по оптовой цене за 15 р., ту, что сто́ит 23 р., – и снимаю запоем. Потом часами стою в темном погребке подле кухни и при копоти красной лампы идиотски покачиваю «ванночки», где лежат стеклышки. Снимаю я сцены обыденной английской жизни и только теперь, испортив 2 дюжины пластинок, научился снимать порядочно. Из испорченных выберу более или менее сносные и вклею в эту тетрадь. Странно – я снимаю только то, что видела в Англии и жена. То, что мы вместе с ней пережили. Другое в моих глазах обесценивается.
Удивительная вещь – любовь: ее менее замечаешь в себе, чем она сильнее. Снял я все улицы, где жил, кроме Titchfield и Montague Place; первую оттого, что далеко, вторую оттого, что ее разрушили до основания. Недавно каменщики обнажили стену той комнаты, где мы с женой поселились, чуть приехали. Помню Hartnell – и змеиную ее дочку; помню испанку-русскую – Валеро, помню – Нойзершу, которая стучала долго-долго нам в стену, чуть мы зачитывались за полночь и мешали ей спать. Помню Шкловского-Дионео, который приходил к нам вместе с золотыми своими очками, согнутой спиной и цитатами изо всех писателей по поводу всех предметов: ветра, немцев, картин; помню московского приват-доцента (забыл фамилью), который приходил к нам и Зине очень нравился – у него великорусская повадка и широкие движенья. У Гартнель мы были 2 месяца – и за это время ни в музее Британском не были, ни в Kew, ничего не видали – сидели дома – и так скучали, как будто мы не в Лондоне, а в Овадионополе. Потом мы переехали на Store-Street. «It’s not quite nice for an adress»[49], – говорила про Store-Street Елена – maid[50] из Montague Place, намекая на соседство с Circus’ом, где много проституток. Но мы did not care much about it[51]. Мы переехали к косой даме на свои харчи. Вот эта Store Street, снятая мною в облачный день. Чернилами я обозначил тот дом, где мы с Машей жили на своих харчах. Может быть это и выгодно – жить на своих харчах, но – разрезая хлеб, я разрезал и скатерть, хозяйка воровала провизию нещадно и ставила за каждый прорез скатерти 2 шиллинга в счет. Потом – не знаю почему, климат вероятно был такой, но мы с женой каждый день теряли ключ от дверей и, как заговорщики, выглядывали по целым дням из окна, когда один был в отсутствии, – чтобы успеть открыть дверь до того, как хозяйка заметит. Боялись мы ее ужасно. Помню Машу в коротеньком фартушке и крошечных своих туфельках, как она сбегает по лестнице мне открыть. Там-то она и забеременела. Ровно год тому назад (26-го августа, когда Зинины именины) – оставался ровно месяц до зачатия нашего Коли. Вот она, живая-то хронология… Потом нас прогнала хозяйка – ибо: 1) ковер я облил чернилами. 2) Маша от cooking’а[52] своего испортила ночной столик – ставила горячую машинку на полированную его доску. 3) Мы были не настоящие «господа», я владел только одним костюмом, а у Маши и того не было. Осенью должны были мы переехать на Titchfield Street. Там прожили неделю, ибо в ночь на воскресенье (а мы перебрались в среду) ощутили у себя в постели мышь. Испугались очень (помню Машеньку дорогую, как она в простыню укуталась и у камина села); а я сел у стола и неожиданно для себя… написал корреспонденцию о Британском музее*. Потом на другой день мы были у Рапопорта. Рапопорт, человек неумный, заикающийся и в речи и в мыслях, завистливый, честолюбивый, – но от него всегда получается такое впечатление, будто он беззаботный и любящий. Как раз сейчас прочел я в «Мире Божьем» заметку о его книге «Деловая Англия», где его сравнивают с Дионео и говорят, что перед Дионео он совсем дурак и неуч. Вот, должно быть, злится один и радуется другой. Я бы на месте рецензента утешил обоих и сказал бы, что оба они равно никуда не годны. Один подводит все под теории, а так как русского читателя хлебом не корми, а подай теорию, то читатели и не замечают, что весь Дионео понатаскан из книжек, что ежели бы из его книги об Англии взять цитаты и отдать назад их авторам, то ото всей книги останется один корешок. Рапопорт тоже не без «теорий». Только они у него не совсем совпадают с передовицами «Русских Ведомостей» – отсюда его неуспех.
Вот карточки Gloucester Street, куда мы переехали с Titchfield Str. Снимок сделан в туманную пору, и потому он не совсем ясный – но это и лучше: разве Gloucester Str. была когда-нб. ясной. Здесь-то мы сблизились с Машей больше, чем где-либо. Здесь любовь наша стала другая, чем прежде. Мы все делали вместе. Помню наше ведро, которое так трудно было сносить вниз выливать, помню камин, который упорно потухал. Помню наш ужас, когда наверху муж бил свою жену-ирландку каждое воскресение, и ужас не потому, что бил, а потому что в воскресение. Помню запах этой ирландки и ее tut, tut[53] к своему сыну. Здесь на снимке видна лавочка, где мы покупали керосин, и как раз тот красивый угольщик, который взносил к нам наверх уголь. Потом жена уехала… Ужас – сплошной ужас. Слезы, и грязь, и голод – первые две-три недели. Потом переехал я на Upper Bedford Place. Я снял ее с нашего порога*, так что в конце ее видны деревья Russell Square’а. Но если стать посередине и глянуть в противоположную сторону, то покажется, что ты в гробу. Ни лавок, ни вывесок, ни разнообразия построек. Все бординг-хаузы без конца. И кирпичные, некрашеные. Здесь я живу 3 месяца, и только здесь научился я болтать по-английски и понимать английское житье-бытье. Здесь предо мною пронеслась целая вереница английских лиц: Робинз, бас из Австралии, пьющий, беспутный. Но не богема, не поэтичная и не поэтичничающая натура, а цитирующий Библию трус, живет на счет Уикинз, притворяясь, будто влюблен в нее. Уикинз – 40-летняя с чем-то, груди, как диван, а голова крошечная. Очень похожа на верблюда в юбке. Всякому комплименту верит, и я раз сказал ей, что ее руки (величиной с мои) очень изящны и красивы, – она поверила и стала всем их показывать. Потом miss Toley, певица, художница, драматическая артистка, которая говорит «ma head»[54], закатывает глаза и играет ляжками. Ее история с Робинзом и Уэдом (independent[55] джентльмен, зонтик у него с золотым набалдашником. Очень величествен, особенно когда молчит. Жесты медленные, речь мерная. А на самом деле холуй, трус и сплетник. Волосы красит) – эту историю и записывать не нужно, ибо я век ее помнить буду. Говорит о любви и закатывает вверх глаза – любовь это что-то святое, чистое, не всякому доступное, – а сама так и смотрит по сторонам, чтобы кто-нибудь ее лапнул. Играет хорошо и поет таким голосом, будто ничего, кроме пива, не употребляет. Лет ей тоже под 40. С Уикинз они друзья, а между тем, когда сегодня мы шли домой из Музея, она мне рассказала, что Вики живет с Робинзом. Потом мистер Пай, который рад, если ему дадут занавес прибить, или хлеб маслом намазать, или посплетничать с бабами насчет соседей. Это последняя степень бабничества – ассимилирование под бабу. Не знаю, почему все это выглядит очень гнусно. Сам он маленький, горбоносенький, гнусавый…
Продолжаю свое предисловие к «Евгению Онегину»: «Если бы такая заметка появилась в печати, я на нее ответил бы следующее. Вполне соглашаюсь со своим зоилом во всем, что ему угодно было высказать по поводу моей поэмы. Но с его замечанием относительно якобы святотатственного кощунства над именем Пушкина – согласиться никак не могу. Позволю себе напомнить моему зоилу такую сценку из пушкинской же пьесы: Моцарт приводит к Сальери уличного скрипача, который безобразно играет моцартову арию. Сальери кричит о кощунственном святотатстве, возмущается, гонит скрипача взашей; Моцарт же дает скрипачу денег – и весело хохочет…
Ах, почему это о “кощунственном святотатстве” всегда кричат не Моцарты, а Сальери, эти вечные убийцы Моцартов?»
И больше ни слова. Предисловие мне нравится больше самой поэмы.
Это я снял ради курьеза – одно из тысячи объявлений лондонской прессы, будто Порт-Артур пал. Это помечено 27 августа. Интересно узнать, сколько раз еще будут появляться точно такие же объявления. Этот мальчик, которого я снял, – всегда надрывал мне сердце. Он всегда кричит о русских неудачах таким радостным голосом, что становится жутко. Теперь я рад удостовериться, что он сам не понимает, что кричит. Он, должно быть, идиот. Когда я его снял, он стал требовать у меня карточку немедленно, а когда я ему сказал, что немедленно нельзя, он принялся кричать и требовать денег, хотя я вовсе не просил его позировать и очень рад был бы, ежели бы он двигался. Фотографическая карточка вышла бы живее.
Давно уже не писал я «Онегина». У меня так много работы накопилось, что я ровно ничего не делаю. Вчера, впрочем, сочинил такие 4 строчки к «Онегину»:
Пришел сентябрь – и наши дачи Осиротил. Как мертвецов, Влекли запыленные клячи Толпу кроватей и столов.Дальше что-то помешало. Сегодня после обеда – хочу продолжать. Дело в том, что я решил, что Татьяне пора забеременеть, а от кого – не знаю. Ну, да кто к рифме больше подойдет, тому и предоставлю это удовольствие.
Сегодня ужасный ветер. Как-то мне морем будет ехаться? Я сегодня написал Лазуричу очень дикое письмо – каково-то он мне ответит? Стал писать я в милом, игривом тоне, а потом сорвался – напрасно.
Ехать мне нужно поскорее. Есть у меня рекомендательное письмо к Смиту, а отчего я не иду к нему – смешно сказать. Нет 2-х пенсов на бритье; я же сейчас так бородою оброс, что ужас. Написал сегодня Эхтеру записку с извинением, что не могу отдать денег. Как это нехорошо вышло. Он одолжил мне их на два дня, а я смогу отдать через 6, если смогу.
Теперь Эхтеры – единственные люди, с которыми я встречаюсь. Она, Эхтерша, – рыхло глупая, самодовольная женщина. Когда она смеется, мне становится стыдно. Я готов закрыть глаза, чтобы не видеть такого обнажения глупости. Он – Эхтер – честолюбив, и все его честолюбие в том, чтобы вы про него подумали, будто он умеет все дешево купить, дорого продать, будто он очень изворотливый и будто ему пальца в рот не клади. Тут же есть теперь и Наташа Орнштейн – темный, ничем не интересующийся цыпленок. Приехала в Лондон, и когда будет уезжать из него, будет помнить только одно, что в Hatton Garden’е, № 45, есть контора Эхтера. Ни музеи, ни галереи, ни зданья – ничто ее не интересует. Впрочем, девочка она мягкая и мужу доставит немало удовольствия. Карточку женского персонала я наклею потом, а здесь вклеиваю снимок с Эхтеровой конторы с самим Эхтером на фоне ее. Руки по швам, цилиндр, усища и золотая цепь. Это на его языке зовется to keep up appearance[56]. Ах, сколько я денег должен! Лазурскому 2 ф. 10 ш. Эхтеру 2 ф. 10 ш. Итого 5 ф. Да в субботу хозяйке платить около 2 ф. Вот тебе и 70 р. Как я поеду, Бог знает. Никто другой, как Бог!
Сейчас только что за обедом Пай стал говорить о Русско-японской войне. И простер бестактность до того, что при мне завел беседу о том, что русские – азиаты, что у русских нет никакой культуры и т. д. Я смолчал, а немцу соседу на вопрос о моем мнении ответил, что у меня нет никакого мнения.
Пробовал только что писать «Онегина», не пишется. Следуя правилу Китса – бросаю. Только что вспомнил, что Пикок пригласила меня на сегодня. Ну, да я уже разделся. Не пойду. Что у них там было с Лазурским? Он говорит, что только объятья и что она ему теперь мучительно противна. Все понимаю, одного понять не могу, как можно обнять Пикок. Кость у нее широкая, крепкая, тяжелая. А тела нету. То же обстоит и с душою – душа у нее твердая, уверенная – и ни женственности, ни мелодии, ни красоты, ни даже обмана в ней нету. С Пикок связан для меня какой-то затхлый запах. Запах ее комнаты, ее платья, ее волос. Лицо у нее черное, глаза и зубы зеленые. Пишет она об искусстве, говорит о широте взглядов – и широта взгляда у нее простирается до того, что она даже likes very much[57] русские кружева, – но не дальше. Она никак мне простить не может, что я ел как-то клубнику, придвинув тарелку к самому подбородку. По поводу же того, что я в разговоре с нею вертел линейку, она написала целую поэму. Вот если найду ее – вклею сюда. Теперь я здесь помещаю: снимок с уличных читателей наклеенной на стену газеты (подле Oxford Street – Holborn Library) и снимок с выставленных у писчебумажной лавчонки объявлений о содержании газет. Недурно бы у нас завести такой обычай.
Незаметно для себя я снял подряд 3 снимка, касающихся газеты. А между тем я с каждым днем все больше ненавижу газету, и меня охватывает ужас, когда я подумаю, что и у нас она скоро полонит всю литературу. Благословлю ту минуту, когда вырвусь из газетных столбцов.
30 августа, вторник. Проснулся рано и, сотворив обычную свою молитву: Боже, пошли мне рубли! – завернулся в одеяло и вновь засел за дневник.
Что мне делать – нету денег на бритье, и я не могу пойти к Смиту. Все это очень досадно. Я ничего про себя не знаю, а знать мне уже пора бы – сентябрь уже идет. Эрманс мне даже не ответил на мое письмо – не по-джентльменски это. Посмотрю, как подействует на него письмо Лазурского. Лазурский своим лапидарным карамзинским стилем известил Эрманса: «Я очень люблю Чуковского, ценю его литературный талант и постараюсь добыть ему такое место, на которое он имеет все права и которого не добивается только по мягкости своего характера». И подписался: Приват-доцент… Главная прелесть в том, что он и сам не знает, любит ли он Чуковского, ценит ли его литературный талант и т. д.
Интересный человек этот Лазурич. Душа у него пустая, и, кажется, цокни по ней пальцем – раздастся «дзиннь», как если цокнуть по пустой кастрюле. Когда он задумывается – это значит, что у него нет ни одной мысли – и он «потупился». Когда же у него есть мысли, то они о погоде, о теплых кальсонах, о том, что нужно отдать в починку сапоги. Человек он практический, людей знает хорошо – а в жизни беспомощен, как ребенок. Недоверчив, недобр – а добра делает массу и деньгами ссудит кого угодно. Ко мне он привязался, мы с ним последний год видались ежедневно и месяца 3 прожили под одной крышей – а расстаться со мной ему так же было жаль, как и с Викинз. Словом, у него какое-то одервенение душевное; бывает, что когда «засидишь» ногу, так потом ее совсем не чувствуешь, – она занемела. Так же он «засидел» душу. Впечатления вливаются туда – и выливаются тотчас же, ничего после себя не оставляя. Скучный, неинтересный человек, а я привязался к нему всей душой. Есть у него какая-то искренность, которой он немножко кокетничает, – ну, так вот я к этому кокетству в нем и привязался. Это единственная грация его характера.
Притом же – мы с ним были за кулисами, так сказать. Перед всеми лондонскими знакомыми мы были на эстраде, только оставаясь вдвоем разбирали, что у нас картон, что из тафты, где белила и где стеклярусные бриллианты.
Снял я для Маши уголок Oxford Str., сейчас как миновать Totenham Court Rd. На левом плане очень интересная английская особенность – книжные лотки на улице. Каждый подходи, бери книгу, рассмотри ее – и за тобой никакого надзора со стороны хозяина лавки. Да здесь и хозяин любопытный. Среди книг его на улице помещен портрет Гладстона и газетная выдержка о том, как дружен был он, хозяин, с Гладстоном. Фоли сказывала, что он женился на уличной певице, – но это еще во мраке неизвестности. На этом же квартале дантист Russel Trick, который рвал Машеньке зуб под газом, – и как только она почуяла запах газа – она стала кричать и я чуть в шею дантисту не дал. Газ прекратили, он вырвал без газу, а деньги и за газ, и за без газу. Ах, отчего это от Машуни так долго нет письма? Колюшка болен, должно быть. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов пробило.) Вот, должно быть, истощились Маша с ребенком. Как бы сама не заболела… Ну, 8 часов, нужно одеваться. Воротничок у меня грязнейший, а чистые только завтра возвратятся из стирки. Чем я за них заплачу – неизвестно.
31 августа. Среда. Положение мое все хуже. Вчера был у Смитов в Great St. Helens. Сначала молодой, потом старый в бархатном жилете, очень похожий на своего брата. Обещали на пятницу, а что я сделаю, если в пятницу только получатся деньги? Завтра иду к консулу визировать паспорт. Сегодня дождь. Написал я Маше письмо – очень грубое, резкое, и теперь мне ужасно жаль. Только что просматривал письма, которые мне она писала за эти полгода, – и плакал, плакал над ящиком комода. Когда я приеду – и мы останемся с ней вдвоем, мы разложим эти письма в порядке, и я буду читать их ей от слова до слова, и она вспомнит многое, что уже забыла и что без этих писем навеки бы было вычеркнуто из ее жизни.
Я Машу люблю гораздо больше, чем сам это знаю, – и плакал я над ее письмами из ревности к себе прежнему. Покуда у нас не было сына, она любила меня совсем по-другому – и первые письма ее страшно отличаются от последних. Вот и сейчас пишу я это, а сердце у меня нехорошо колотится.
Сегодня написал строфу из «Онегина». Пора мне его связать. Все надежды теперь на пароход. На пароходе закончу.
Перечитал свою вторую часть «Онегина». Безнадежно плохо. И поправить, кажется, нельзя. Остроумие вымученное, как у Як. Соснова. Я писал ее, чуть Маша уехала, – чтоб забыться. Попробую переделать на пароходе. Постараюсь спасти ее живым описанием литературного клуба. Думаю закончить предисловие к «Онегину» так: «В заключение хочется мне предложить читателю небольшой опыт. “Онегин” написан очень пестро – в нем стиль меняется чуть ли не с каждой строфой. Поэтому он вряд ли понравится хоть одному смертному весь, целиком. Кому понравится 1-я песнь, тот будет неудовлетворен 2-й, и наоборот. Вот и хочу я просить каждого читателя: пусть он черкнет мне, что понравилось ему больше, а что меньше всего.
Изо всего этого вовсе не следует, что я угрожаю, основываясь на мнениях читателя, написать второй такой роман, и т. д.».
Только что вклеил в эту тетрадь ту поэму Пикок, о которой говорил выше. Дело в том, что я как-то сказал ей, что ни за что не женился бы на ней ввиду ее любви к порядку, чистоте и опрятности.
Только что принесли из прачешной белье – и, странная вещь! – в первый раз ничего не украли. Человек, привезший белье, заговорил было о miserable weather[58], но у меня нечего было дать ему.
1 сентября. Четверг. Нахожусь в обычном своем ожидании. В кармане 2 пенса. Боже, пошли мне рубли! Что делать? Дождь уже сутки не прекращается.
4 сентября. Воскресение. Укладываюсь, 1-го получил 100 р. от Манички. Туда-сюда – отдал долги, заплатил за квартиру, купил подарок Маничке – и осталось 3 ф. Как повернуться, не знаю. Сейчас ½ 9-го. У Эхтера занять не хочется. Пойду после обеда к Пикок, отнесу ей Легальена – и попрошу 2 ф. Эхтер мне 2 ф. даст – вот и хорошо. Завтра после обеда к Смиту – большой разговор с ним иметь хочу. Вчера был у Шкловского [Dioneo]. Прощался. Говорили: о Константинополе, что там нужен паспорт, что лучше мне ехать в Талатц или в Сулину? или в Хилию?
Потом о Уитмане, о рецензии на Рапопорта (он в тысячный раз сказал, что рецензенты стараются показать, будто умнее автора), о Горьком (в тысячный раз, что Горький поэт рефлекторный), о Иоллосе, об «Атенеуме», где Бальмонт назван первым поэтом, о сыне моем, потом о редакции моей. Я жаловался, что «Одесские Новости» стали хуже. Потом он проводил меня до станции, шел скоро-скоро и говорил скоро, скоро. О Чехове – он только что прочел «Вишневый cад»… (Сейчас из окна слышу крик газетчика: Great Russian Victory[59]. Все смеются и кричат ему вослед, – свистят. Сволочи.) Так что я, заговорившись с Dioneo, пришел домой в 9 ½ часов и потерял обед. Голоден был безумно. Пошел к Пикок. Она сварила мне яичко, чай закипятила: cake, хлеб, масло и kindness[60]. Голова болит. Был у меня сегодня Эхтер. Цилиндр. Белый жилет и сюртук. Я играл с ним в шахматы – и дал ему 3 мата подряд. Даже неловко. Голова болит. Упаковывать вещи очень трудно. Вообще все трудно. Что ни говори, а писательское дело легче всего. Не потому что – сиди и пописывай, а потому что наслаждение.
Среда, 7 [сентября]. Пишу это на пароходе «Гизелла». Приключений у меня тысяча – все они самые обыкновенные и в порядке вещей, но вспомнить будет приятно, так что я постараюсь занести их сюда со всевозможной точностью.
В понедельник пришел к Смиту. Он сидит у себя в кабинете за обитой зеленым сукном дверью, в коридорчике сидят просители – и он их принимает по рангу. Пришлось мне прождать минут десять. Я стал сердиться – и это сразу подняло мой ранг. Меня из коридорчика перевели в office, где я, усевшись, стал рассматривать карту мира на стене, и через несколько минут Смит вышел ко мне, так что я принимал его, а не он меня. Он мне сказал, что его письмо разминулось с капитаном и что он не знает, как поступить. Стараясь не лебезить, я стал грубым, и грубость спасла меня. Я оторвал от каких-то бумаг один листочек, дал ему и сказал: напишите сию минуту рекомендательное письмо капитану, дайте письмо мне и я сейчас же поеду в Кардифф. Он поглядел, не зная рассердиться или рассмеяться. Обдумывал он своими тяжелыми мозгами минуты 2 и наконец решил рассмеяться. Решивши, рассмеялся. И после этого – все прорвалось: он показывал мне портреты своих дочерей, рассказывал, что они хоть и замужем, но не хотят иметь детей (а когда я спросил: а если б они захотели? – судьба моя решилась: он дал мне introducing letter[61], где именовал меня другом своего брата, сказал, что для сына своего он не сделает того, что делает для друзей брата, предложил мне чашку чаю, от которой я не отказался), что ему очень неудобно бывать у брата, так как, если заговаривают о Русско-японской войне, он не знает, как ему быть: стань он за русских – брат обидится, стань он за японцев – обидится жена брата и т. д. Потом Эхтеры, Эхтеры и опять Эхтеры. Во вторник дождь. Упаковавши вещи, пошел к Эхтерам. Поговорил Эхтер со Смитом по телефону – оказалось, я к вечеру должен быть в Кардиффе. Опять у Эхтеров – за поясом для Маши. С зонтиком м-ра Пая. Ланч в British Tea Table. Угощаю Наташу Орнштайн Гариоса и немножечком лимонаду. Она спрашивает, «что хотел Чехов сказать своим «Вишневым садом». Глубокомысленно молчу. В 2 часа забираю вещи (причем от нового чемодана, столь хваленого Эхтером, отлетает ушко). Еду на Paddington Station – попадаю в вагон 3-го класса, где, кроме меня, еще один человек. Человек пустяковый, воробьиного вида человек. Не блондин, не брюнет, не стар, не молод, росту малого, а багажу – зонтик и папка. Не успел я войти в вагон, как он хитро подмигнул мне, рассыпался морщинистым смехом – и достал небольшую аптечную склянку, показал мне и, когда я спросил его – медицина ли это, – обиделся и сказал гордо: это виски. Когда же я заметил, что пить скверно, он тотчас же со мною согласился – и изо рта его сильно понесло спиртом. Поехали мы с необычайной быстротой – так что даже на расстоянии нельзя рассмотреть пейзажа: мелькает. Впереди туча – мы догнали ее, минут пять побыли под ее дождем, и вон из-под нее – под синеву, под солнце. Часто бывал в туннелях – иные 5 миль длины. Почва по дороге каменистая, и, когда случалось проезжать разрезанный холм, – было видно, что холм состоит из кремня. Останавливались мы раза 3, и то минуты на 2, не больше.
Ужасно однообразны английские города. Reading, например, – это ряд красных ровных домиков, построенных каким-то Аракчеевым, узколобым и фанатически бездарным. И таковы почти все улицы. Хотел бы я знать годовую цифру самоубийц в городе Reading, должно быть, ужасно громадная. Хотел высмотреть из окна тюрьму, где сидел Оскар Уайльд, – не нашел. Поезд двинулся. И я рад. Ибо если бы я еще секунду глядел бы на эту безнадежную череду перпендикулярных домиков – у меня разболелись бы зубы. Помню старый замок в Ньюпорте на берегу реки, окруженный илом.
Я приветствовал из окна какую-то старушку – она радостно ответила. Мой спутник меж тем придал своему воробьиному лицу значительность, отчего оно стало еще воробьинее, и заявил: mind you – I am engineer! Electric[62]. Опять бутылка и неизбежный разговор о войне. – Mind you – всякая война всегда нехороша. По крайней мере так было до сих пор. Так что я ни за Японию, ни за Россию. – А когда бурская война была, вы то же самое говорили? – Да. – Стало быть, вы не были за Англию. – Как можно – конечно, я был за Англию. – Опять бутылка. Оказалось, что этот воробей был и в Испании, и в Голландии. Но про Голландию он ничего не знает, а про Испанию знает только, что там апельсины. Среди пути он рассказал мне анекдот – феноменально глупый, неправдоподобный – но, по его мнению, чрезвычайно смешной:
Американец прибыл в Англию, сел в английский вагон. – «Кондуктор, когда мы тронемся?» – Погодите. – Тронулся поезд – сначала легонько; американец недоволен: мы никогда так тихо не ездим в Америке. Поезд пошел по 40 миль в час. Американец крикнул: мы никогда так скоро не ездим в Америке, и с испугу выпрыгнул в окошко. «И с испугу выпрыгнул в окошко», – повторял воробьиный человек – в восторге.
Приехал в Кардифф. Улицы старые, солидные, но какие-то линючие. Таблички с названием улиц стерлись и торчат совсем ненужные. Кеб тоже особенный был у меня, провинциальный. Больше ничего не заметил, темно. Еду к Holl B-ters – заперто. И ни звонка, ни молотка. Извозчик говорит: меньше, как за полкроны, я с вами на пристань не поеду. Едем. Гавань очень извилистая – много закорючин, и каждая закорючина зовется gate[63]. Через эти gates переброшены дряхлые мостки – деревянные. Едешь, а они дрожат. Вот-вот свалишься в бездну. Справились у сторожа, тот посмотрел на бумагу, висящую у домика, сказал cabby какую-то цифру – кэбби поехал веселей и, подъехавши к какому-то столбу угольной пыли – сажен пять в высоту и сажен 12 в ширину, – сказал: – вот! Стараясь не дышать – пробрался я по досочке на пароход. Вышел высокий мужчина. Я думал, что он капитан, дал ему письмо. Он письмо прочел, положил обратно в конверт, возвратил мне и только тогда сказал, что он не капитан. Пошел к кебмену, он взял мои вещи, принес на борт, я пошел помочь ему – и до сих пор удивляюсь, как это я с тяжелой корзиной смог пройти по этой доске. Прошел. Мне показал этот высокий человек мою каюту – большую, с диваном, койкой, комодом и шкафом – и smocking room[64]. А если вы любите музыку – так вот вам фонограф. К счастью, я не люблю музыку – не то бы я возмутился против такого силлогизма. Но фонограф оказался хорошим, бесшумным, нехрипящим, с оттенками. Сыграли мы несколько пьес – я попросил этого высокого человека показать мне, где почта – домой письмо отправить захотел, тот надел галстух и мы, дружески болтая, вышли. Вдруг человек прошептал: а вот и капитан, – и подбежал к кебу. Оттуда вышел усатый толстяк, мертвецки пьяный. Я на пристани сунул ему письмо. Он взял меня за рукав, да так крепко, что захватил и руку. Высокий человек раболепно помог ему пройти по дощечке и попросил денег для извозчика. Тот глянул на него и гаркнул: пускай подождет, bloody, damned[65]. Грузно сел и тупо стал глядеть на мое письмо, которое я так торжественно вез.
Высокий мой друг, к удивлению моему, оказался steward’ом и стоял перед капитаном в струнку. Закусили мы холодным мясом, капитан дрожащими пьяными руками заводил фонограф, и ко всему этому был аккомпанемент: заплатите, сэр, извозчику, извозчик дожидается. – В ад извозчика! – Я выпил две небольших бутылки пива – голова у меня разболелась мучительно. Стюард, наконец, пошел со мною на почту. На пристани встретили мы молодого человека, а неподалеку от него – кеб. – Вы кебмен? – спросил я его. – Я, – весело отвечал он. – И вам не надоело ждать? – Чего надоело? We are accustomed to it, Sir[66], – бодро ответил он; почему-то его бодрость напомнила мне, что теперь осень. День облачный. Все спали. На пристани ни души. Впереди башня с часами. Прошли по дрожащим мосткам. Привязался к нам еще один человек – толстый, широкогрудый матрос, рассказал, непрошеный, историю одного человека, который упал с этих мостков, пожелал нам спокойной ночи и ушел. Тут-то и начались мои мытарства. С почты, которая открыта круглую ночь, пошли мы домой. Стюард по дороге сказал мне, что он хотел бы пойти в норвежскую церковь (он норвежец). По дороге повстречали мы еще двух норвежцев – один молодой машинист, шапка с гербом, как у учеников реального училища, другого не помню. В церкви был я представлен еще одному джентльмену – повару нашего парохода. Церковь переделена невысокой перегородкой на две части. В одной расставлены столы – и за ними люди распивают чай, а в другой половине повешены норвежские флаги, на фоне их статуя Иисуса Христа, простершего объятья, а перед этой статуей – кафедра. Церковь деревянная. На одной стене сбоку черная доска, где показаны №№ гимнов, которые надлежит пропеть. Все показалось мне скучно, неизящно, нерелигиозно, – и я захотел уйти. Стюард попросил повара показать мне дорогу. Повар пошел. Вышли мы – и я из деликатности сказал: не трудитесь, покажите мне только дорогу, я найду.
Он показал мне башню с часами, сказал: нужно пройти ее и 2 мостка, потом налево, потом косяком – и пароход будет найден. Раз 20 ворочался я к башне с часами, прошел 40 мостков и в результате забыл кличку парохода – так что и спросить никого нельзя. Раз сторож по бумаге отыскал мне адрес парохода, опять указал башню с часами, опять поговорил про мостки, но внимание мое от пива, бессонной ночи и усталости притупилось, и пошел я опять, от мостка к мостку, побывал во всех почти доках – а найти не сумел. Двое босяков, – которые, как они говорили, работают с 5 час. утра до поздней ночи, – вызвались помочь мне и, хотя я заранее сказал им, что денег со мною нету, бегали, спрашивали, советовали. Ничего лучшего я не придумал, как отправиться вновь в норвежскую церковь и попросить повара указать дорогу. Но повар, увидав меня, кивнул мне головой – и отвернулся. Несколько раз дергал я его за рукав – но он – как мама отвечала мне, когда я приставал к ней в церкви, – отвечал мне: сейчас, сейчас кончится. И опять глаза в молитвенник. Так что я должен был выслушать на шведском языке проповедь одного священника, низенького и лысого, другого – высокого, седого и величавого, и в довершение всего – жены одного из них. А потом еще гимны. Наконец…
Пятница 9-е [сентября]. В Бискайском заливе. Вчера весь день пролежал в каюте и кроме лимонов, которые дал мне капитан, ничего не ел. Качало неимоверно. Я старался как можно меньше ощущать внешнюю жизнь, лежал с закрытыми глазами; лоб у меня был весь в холодном поту – но рвот не было. Изо вчерашнего дня помню одно: стюард показал мне карточку брюнетки какой-то. «Это, говорит, моя жена». – Красивая, – говорю я. «Да, она румынка. Гораздо лучше моей кардиффской жены». Я сначала не понял. «У нас, у моряков, в каждом порту по жене», – пояснил он. Сегодня на ту же тему разговор с капитаном. Он шотландец. Наивно религиозный. Здоровый, простой, естественный. Женат, 3-е детей. Жену видает 3–4 раза в год, и байдуже[67]. «Я, – он говорит, – не распутник. Со всякой женщиной не свяжусь. Чтоб связаться с женщиной, мне нужно, чтоб у нее было “something special”»[68]. Ему 40 лет. «До 55 лет проплаваю, а потом и начну жить с женой». Сегодня качает изрядно. Но я целый день просидел на мостике – и постепенно привык к качке. Обогнали другое судно – разговаривали флагами. Удивительно хорошие отношения у капитана и crew[69]. Вечером к нам в столовую заходит машинист. Молчаливый, курит трубку. Ни одной лебезящей улыбки пред начальством. Слушает фонограф молча, – и когда пьеса кончается – не высказывает ни порицания, ни одобрения. Но оба, видимо, любят и уважают друг друга. Теперь 8 ¼ вечера. Я хорошо поел, видимо, буду спать как убитый. Прошлую ночь плохо спал: бросало из одного конца койки в другой. Вчера и сегодня у меня в голове ни одной мысли не было. Завтра, как выберемся из Биская, будет теплее и тише. Вообще, я очень рад, что поехал морем. Я в море влюблен, так влюблен, что ни одной строчки о нем не мог бы написать. Это как о Маше – я ни слова о ней сказать не могу – добрая она, злая, умная, глупая – не знаю; она для меня все. И больше всего.
Качает – трудно писать. Докончу вкратце заметки о первом дне своего пути. Так что steward вывел меня из церкви – лег я спать. Было часов 11. Всю ночь мы снимались с якоря. Из окна было слышно: Are you ready? We are ready, – и ответ: We are ready. Are you ready?[70] – все были ready[71] – и ни с места до рассвета. На рассвете рабочие с берега просили у капитана на чай, он бранился, давал на чай, отказывал – и мы поплыли. Проплыли злополучную башню с часами, долго возились среди других пароходов, и нельзя было разобрать – плывут ли они, а мы стоим, или мы плывем, а они стоят. Потом проплыли мимо берега – вроде нашего малого фонтана, потом река с парусными суднами – и, пройдя часа 2, – стали. Ждали каких-то хронометров. Дождались, а я покуда записывал в дневник впечатления 2–3-х предыдущих дней. Тронулись – и началось у меня – не тошнота, а слабость и головная боль. Как понимаю я теперь мамочкину мигрень! Хочется уткнуться в постель, не думать, не чувствовать и лежать тихо-тихо. А тут тебя кидает и – что еще хуже – раскачивает широкой зыбью. Я лежал и сам чувствовал бледность своего лица. Дрожало все тело – словом, дрянь. Вот и сейчас это же начинается. До завтра.
Ночь на 10. Пароход ревет, как корова. Оделся. Спрашиваю стюарда: Что такое? – Фог[72], говорит. 3 часа ночи. Мне спать совсем не хочется. Качает. Сегодня будем Португалию обворачивать.
10-е, суббота. Никогда не думал, что море умеет быть таким голубым, пена такой белой, облачка такими легкими и воздух таким чистым. Качает, но я обвыкаюсь – и уверен, когда лягу дома в постель – голова у меня закружится оттого, что не качает. Сегодня примусь за «Онегина». Глядишь на всю эту благодать и только теперь понимаешь, какая дрянь эта Англия. Еще несколько часов, и мы будем между Испанией и Африкой.
Вечер 10-го. Пробовал писать «Онегина». Не пишется. Отчего? Обстановка самая обыкновенная. Ехали мы Бискайским заливом – и как я ни старался вызвать в себе удивление, чувство необычности – нет. Как будто Бискайский залив это Большая Арнаутская, как будто я каждый день по Бискайским заливам езжу. Сейчас опять к туману дело идет.
Капитан спал весь день, а сейчас перетащил свой фонограф наверх и угощает им кого-то. Я сегодня хочу пойти спать попозже, а то я целые ночи напролет томлюсь и ворочаюсь с боку на бок. Да, чтоб не забыть. Когда я только прибыл на «Гизеллу», капитан пьяный стал говорить о Русско-японской войне. «Japanese are bloody men, to be hanged[73]. Встреть я японца, я бы его так!» – и трах рукой по деревяной стене каюты. Он выговаривает – «Russian, Русшиан». Странную вещь я в себе подметил. Все такие мелочи жизни – даже не характерные, даже бессвязные, даже ничего ничему, кроме памяти, не говорящие, – я записываю с особым тщанием. И чем я здоровее, чем бодрее, тем более привязчив к таким мелочам. Отчего это? Значит ли это, что у меня нет «Бога живого человека»? Или это значит, что мой Бог – жизнь, все равно где, все равно какая – бессвязно плетущаяся, вне доктрин, вне наших систем, вне наших комментариев, вне нашего знания. Как бы то ни было – самые искренние и умные стихи, какие я когда-либо написал, – вот они —
И за прелесть речного изгиба, Уходящего в яркую тьму, Кому-то кричу я «Спасибо!» — И рад, что не знаю кому.[нарисован карандашом человек за рулем перед микрофоном. – Е. Ч.].
Хоть и писано в Атлантике, но плохо.
Подле Португалии, 10 сентября.
Когда вот этак поглядишь на жизнь – то только тогда поймешь ее, когда увидишь, что понимать нечего, что и без понимания все all right and God is in his Heaven[74]. Кричишь «спасибо» – и не знаешь кому, и что главное – не хочешь знать, кому, – и что еще главное – рад, что не знаешь, кому. Сверху слышно, как капитан приплясывает и подпевает своему фонографу. Четверть 8-го. План «Онегина» у меня помаленьку прочищается. Сейчас пойду, вскрою свою корзину. Хочу достать бумажки из «Онегина» и разобраться в них. Но нет – лучше завтра. А сегодня буду продолжать «Онегина».
11-го сентября, воскресение. Боже мой, за что мне все это счастье? Лучшего неба, лучшего моря, лучшего настроения – у меня никогда не было. Жарко. С утра принял морскую ванну. Снял капитана, капитан снял меня и steward’a. Сидел долго с капитаном на bridge’e[75].
Говорили о неграх. Он рассказывал, как негритянки любят белых мужчин. «Когда я был second-mate’ом[76] – курс наш был в Южную Африку. Там plenty of negro-women[77]. Идешь по деревне, а негритянки тебе кричат: пс! белый! Ну и зайдешь к ним. Денег не хотят – for pleasure[78]. А с негра или деньги – или женись! Вообще моряки – побывав во всех углах земли – из этнографии знают только о женщинах. Про Одессу steward так и говорит: много девочек хорошеньких. А когда я сегодня за breakfast’ом[79] сказал капитану, что Одесса wicked town[80], он запротестовал – и сказал: нет! Sleeping with women, вовсе не wickedness. This natural. All what’s natural is right[81]. Первого англичанина такого вижу! (Он англичанин, а не шотландец, – я давеча ошибся.) У него фонограф сегодня хрипеть стал, он взялся его чинить – и вконец изломал. Сейчас сидит на палубе со steward’ом и крутит. А стюард такой, что советы подавать умеет. Эту гаечку, сэр, привинтите, этот винтик, сэр, открутите. Сэр винтит и крутит. Только что видал Португалию, берег ее. Весь как есть. Полгоризонта на западе занял. Гористая, обрывистая – с беленькими домиками, в подзорную трубу хорошо видать. Перед нею мы миновали 2 скалистых острова, на одном – маяк. Пойду на мостик опять. Я от солнца удрал. Жарит здорово. Я фуфайку сниму – жарко. Читаю я Диккенса «Tale of two Cities». Capital[82]. Из окна своей каюты совсем ясно вижу Португалию. Несколько беленьких городков, и подле одного неимоверно громадное здание – величиной с треть всего городка. Кончается Португалия так:
[Нарисован рельеф местности. – Е. Ч.]
Мы прямо метим на точку а – немножко правей. Там из-под точки а – другая земля, как в тумане. Весь этот день тихо, а сейчас солнце забежало за облачко и пошло качать.
5 часов вечера. Теперь я вижу Португалию вот так. В бинокль ясно видны деревья, пена волн, бьющихся о берега, даже окна ближайших домов. Первый раз вижу сегодня, как тучи покрывают горы. Туча набежала и закрыла половину Португалии.
11 часов вечера. На горизонте показались огни большого парохода, supposed to be Russian battle ship[83].
Я ошибся, когда говорил, что всю Португалию вижу. Точка а вовсе не конец Португалии. Вечер. Капитан окончательно исковеркал свой фонограф и потому весь вечер читал мне про Брэйтмана. Мне понравилась эта [записаны слова песни: De Maiden mid nodings on[84]. – Е. Ч.].
12, понедельник. Мы идем прямо на солнце. Пароход не колыхнется. Раннее утро. Хочу приняться за «Онегина». Вкус у меня страшно развился за последние 2 года – совсем несоразмерно с моими способностями: сегодня просмотрел первую тетрадку «Онегина» за 902–903 год и вычеркнул почти все. Самого себя стыдно. Заново писать – куда легче, чем переделывать, а мне теперь предстоит переделать характеристику Ольги. Посмотрю, что выйдет. Глупо это – в тысячный раз обличать девушек за то, что они, чтобы выйти замуж – в науку пускаются. Ну, да уж это последний раз. Потом Татьяна – письмо ее, письмо Ленского к Онегину – и конец. Ах, если б удалось закончить на пароходе!
Вчера капитан наизусть читал длинное стихотворение о потерпевшем крушение… Прелесть. Никогда я так не хохотал. «Bab. Ballads» – это он записал мне заглавие книжки, где стихи эти имеются.
«С месяц плыли мы в лодке и наконец почувствовали голод. Съели капитана, матросов, – остался я и повар. И восстал деликатный вопрос – which[85]. Я любил повара, как брата, он уважал меня – но – повар говорит: знаешь, ты должен умереть. Потому что если я умру, ты ведь не сумеешь меня приготовить» и т. д.
Мы идем на восток, и потому часы наши страшно отстают.
На горизонте «Русский броненосец». Капитан шутит: I’ll clear the deck for action[86]. – Mate[87] отвечает: She is big enough for it[88]. «В Южной Африке в войну мы не останавливали немцев», – хотя только что сказал mate’у что русские имеют perfect right[89]. Только что остановили один пароход и отпустили. «Доброволец», а не «Броненосец».
13, вторник. Вчера в 1 час ночи прошли Гибралтар. Теперь в Средиземном море. Вдали как в тумане видны горы Испании. Закончил (почти) скучную работу переделки «Онегина» – сегодня примусь за самостоятельное творчество. Господи, благослови. На душе спокойно и хорошо. Почитаю Теннисона «Мод»*, чтобы к Татьяне с должным настроением подойти.
Впервые сегодня видел снег на горах. Горы Испании скрыты за горизонтом. Видны только вершины их, и на вершинах белыми пятнами снег. Небо синее, но море – такого моря я никогда не видел. Пена бела – как морская пена – другого сравнения не подберешь. Сочиняю письмо Татьяны и, кажется, стою на верном пути.
14 сентября, среда.
Я тебя не люблю, и порою Ненавидеть хочу я тебя, Но вина моя в том пред тобою, Что только любя Я могла ненавидеть тебя. Ты мне жалок теперь потому, Что жалеть тебя не за что, бедный. Ты смеющийся, смелый, победный, Ты не жалок себе самому. Твоя речь так ровна и тверда, И всегда твоя вера с тобою, И в неделе твоей чередою Вслед за вторником идет среда. И ты знаешь – тебя я не стою, — Оттого ты мне жалок всегда. Ты хозяин, ты в жизни судья. О! Когда бы ты был подсудимый! — Виноватый, смущенный, гонимый. Я пошла б за тобою – рабыня твоя, — И как своим рабством гордилась бы я.Вот такие-то вещи пишем мы в Средиземном море. У плохих писателей – стиль сильнее их. Они не могут выбиться из той стены, которую сами же создают. Я начал письмо Татьяны в высоком штиле – и каждую минуту сознаю, что это неестественно, что нужно взять октавой ниже, а выбиться не могу. Все слова высокие лезут в голову – а письмо Татьяны именно должно быть умилительно по своей простоте. Но где же взять умиленья? Вчера я впервые видал настоящее звездное небо – такое строгое, такое вечное, такое торжественное. Все звездные небеса, доселе мной виденные, – жалкая имитация, ничего больше. Спор с капитаном о России – долгий спор, – в котором я получил два удовольствия: во-1-х, отстоял честь своего отечества, а во-вторых, заметил, что довольно сносно говорю по-английски. Опять качает. Сегодня подле Африки будем, а завтра увидим ее, мамочку, вблизи. Вчера – к моему ужасу – фонограф был починен капитаном и вновь пошел «William» Телль. Play’d by Columbia Band. Columbia Record[90].
15, четверг. Вчера написал 2 ½ строфы из «Онегина». Доволен. Ибо вместо долгих повествований и отступлений сразу наметил положение дела. Строфу о попугае написал без единого перечеркивания, и только тогда заметил, что написал ее, когда написал. А сегодня дело идет гораздо туже! Отчего бы это? Между тем никогда я не представлял себе яснее, что я должен сказать и как сказать.
16-го, пятница. Знай, сын мой, что, выкинув одну скверную строфу из твоей поэмы, ты приобретаешь больше, чем если б ты написал 3 новых. Сегодня я в этом смысле сделал большое приобретение. Выкинул такую строфу, написанную вчера. (Часть III, XXVII.) «А после чем-то осиянна пришла к покойнику в покой и граммофон из-под дивана достала. «Ой, покойник мой, ты знаешь, был мужчина видный, да только очень уж солидный. Бывало, с Мотькою своей сидит, а мы дохнуть не смей. И все играет на машинке на этой. Что ж – теперь и я сыграю: очередь моя!» И т. д. Странно, как это я в начале не заметил, до чего плохи эти строки. Сегодняшний день такой: проснулся в 4 ½ ч. утра от сладостных сновидений, для избежания которых со всеми их последствиями – должен был встать голышом и делать гимнастику, тыкаясь руками в низкий потолок кабины. Стал думать, как я приеду в Одессу. Как я увижу жену, маму, Маничку, сына, как Боре Кацу преподнесу промокашку с его портретом и т. д. Мысли эти заняли 1 час. Стюард вошел, закрыл окно – дождь.
Дождь прошел необычайно сильный – и по воде пошли тонкие змейки пены. Из окна видна Альжирия – выжженная, холмистая. За все время высмотрел только одно жилье – и то не знаю, чем его обитатели питаются, – оно среди холмов, и возле ни лесу для охоты, вокруг ни одного паруса – для fishing[91], – да и для чего этому жилью торчать так одиноко? Прошли мимо двух больших скал, из которых одна – совсем как стол. Дождь прошел. После брэкфеста до ланча я сидел на bridge’e[92] и читал Свинборна. Легко. Сегодня нашел у него много прозаизмов, ловко замаскированных фразой. Видно, образа не хватило, он выработал его умом и хочет выдать за истинный образ. Нужно признать – это ему удается. Впрочем, все кажется фальшивым и деланым – на фоне этого моря, пены, ветра и неба. А сегодня прибавилось нечто необычайное. Из-под нашего ship’a[93] идет, идет волна и на некотором расстоянии встречается с боковой волной (мы теперь прямо против Генуи – так что волнам простор большой), они разбиваются в нежно-белую пену – от пены подымается водяная пыль – в которой всякий раз встает радуга. Так в сопровождении радуг мы плыли часа 3. Вряд ли я когда-нибудь вновь испытаю такое счастье. Вчера я стирал платочки и свою блузу.
17-го, суббота. Опять чистое море, ясное небо. Вчера стюард показывал мне фокусы – палку, стоящую «посредством электричества», 12 спичек, тарелку с сажей. Рассказывал про остров, где его жена. В Норвегии. Если стоишь на одном конце его – видишь другой. В пастора там все верят как в Бога. «Пастор сказал» – это крепче заповеди Моисея. Ежели в церкви нужны новые занавеси – пастор устраивает сбор и говорит по этому поводу проповедь. Стюард раз сказал – не дам. Жена просто в ужас пришла, и сейчас на него смотрит, как на вероотступника… По-русски сегодня 5-е, и 10-го или 11-го я увижу своих. Эта мысль до того меня волнует, что плохо сплю, часто просыпаюсь. Вчера и сегодня принимал теплые морские ванны – и увидел, что се благо, и возрадовался в сердце своем. Вчера капитан вновь угощал меня фонографом. Listen to the mocking bird (and yet I will remember, remember, remember). «My kingdom»[94] пошлый романс, где объявляется, что сердце девушки царство, и про который капитан говорит – ловко написано – и все суетится, понимаю ли я эти великолепные слова. «Ave Maria», «КэкУок»», «Бабочка» (вальс) и т. д. Я прочел вчера Конан Дойля – «Похождения Шерлока Холмса», где герой – русский профессор. Смеялся много. Закончил недавно Jacobs’а – «Skipper’s Wooing»[95], ничего смешнее не читал. Беспрерывно хохочешь. Автор многого от себя не требует, но дает больше, чем хочет дать. Он хочет дать ряд смешных эпизодов, а дает самое трепетание жизни, самый перелив вот этого самого, как его? История с креслом и поваром уморительна. Повар убил собаку, которая сторожила его, – удрал, устал и для отдыха попал в курятник. Куры закудахтали, – повара изловили и привязали к креслу. Он удрал с креслом.
[Страница перевода рассказа Джекобса исключена. – Е. Ч.]
Сейчас проезжаем остров Мальту. Мальта как Мальта – такою ей и быть полагается. Коротенькая. Всю видать. Снял нашу столовую. Написал строфу из «Онегина». Теперь 1 час.
Хорошие строчки: They are slaves who dare not be in the right with two or three[96].
Тоскую. Опять мысли о смерти. Вот уж месяц, как их не было. Ничего не хочется. 5 часов.
Пошел на корму после чаю. Солнце садилось. Роскошь была ослепительная, чрезмерная – смотреть было мучительно хорошо и хотелось, чтобы все это кончилось. А когда солнце зашло – нежные тона. Прямо над головой нежно-розовое – ниже темно-темно-синее, потом желтое, потом потонувшие недвижные облака, потом кроваво-красное. А на волнах розовый налет. И на ясном небе луна – и робкая от нее полоска на воде. И за пароходом светлая дорога. Я сел у log’а[97] на тумбу – и прочитал себе всю 3-ю часть «Онегина». Хорошо. Только длинно. Больше ни одной строки. Написанную сегодня после обеда – без милосердия гоню. Потом беседа с плотником-норвежцем. – Почему он (55-летний старик) не женился? – Я видел, как живет seafaring people[98].
[Перевод еще одной страницы Джекобса пропущен. – Е. Ч.]
19 сентября. Понедельник. Греция. Матакацский мыс – наиболее южная точка в Европе. Горы, а по ним какие-то камушки рассыпаны. – Что это такое, – спрашиваю капитана. – Кладбища? – Города, – говорит.
Мы теперь совсем близко. Зданья вижу простым глазом. Лестницы в горах. Изгороди. Пойду еще смотреть. 11 час. Проходим какой-то остров, а какой – не знаю.
1 час. Только что, поворачивая к северу, – видел пещеру отшельника. Весьма комфортабельная. Мостики, оливы, дорожки, все беленькое, чистенькое. Правее – его зимняя резиденция. Видимо, не дурак – даже виноградом обзавелся. В эту пятницу или субботу я буду среди своих. Себе просто не верю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Но чем короче дни разлуки, Тем дольше кажутся они.Чтобы скоротать их, буду исправлять «Онегина». Писать дальше не буду, но, если II-ую часть исправлю, сочту себя прошедшим 7/8 дороги.
20 сентября. Мы в Архипелаге. Что ни минута, то остров. Ветер, как скаженный все равно. Вчера вечером прочитал Конан Дойля – «Tragedy of Corosko»[99]. Страниц 100 продул сразу. Мы и 9 миль не делаем в час. Сегодня придется ночевать на якоре. Турки в Дарданеллы не пустят. Помаленьку вылащиваю[100] 1-ую часть «Онегина».
Проходим Тенедос. 5 минут 5-го. Поля, огороды. Город. Мельницы для накачивания воды. Вот такие (рисунок).
Развалины троп среди очень красивой и пышной зелени. Мы опоздали на 1 час только в Дарданеллы – и теперь теряем день.
Ветер против нас необычайный. И откуда взяться ветру, когда кругом островки; мы едем со всех сторон загорожены землею. Капитан, хоть и знает, что не поспеем, все глядит на солнце, справляется с логом.
9 часов вечера. Стоим на якоре. В архипелаге дул необычайный, сверхъестественный ветер. И волн он не подымал, а только резал поверхность воды на тончайшие полосы, бечевки какие-то. Два дня назад – я в белой куртке на голое тело щеголял, а теперь на мне фуфайка, жилет, теплый пиджак, шейный платок. И ветер, как нож. Мы надеялись до последней минуты, но когда засияла луна и свет ее сквозь тучи пятнами лег на воду – то не было уже никакой возможности считать эту пору суток днем – мы повернули назад и пошли мимо тех мест, которые уже были нами пройдены. Зеленые фонари, красные – мы повертелись и потом плотник-скандинавец пошел к якорю и стал вертеть какую-то ручку у машины. Якорь с треском – цепляя звеньями цепи – пошел вниз. – Сколько? – кричит капитан с мостика. – 45! (Звеньев) – It will do[101]. И, поставивши anchor watch[102], он сейчас же сошел в столовую – взял фонограф и заблагодушничал. Ему и дела нет, что «Грэдель» из-за остановки потеряет 250 рублей. – Теперь и звук у фонографа чище, когда мы стоим, – говорил он. Пришел chief engineer[103], трубка в зубах. Замечательно: сыграет фонограф tune[104], капитан принимается хвалить, рассыпается перед собственным фонографом в комплиментах, а машинист хоть бы что – знай пыхтит. Сегодня на радостях они даже whisky хватили. Только что был на мостике. Мы у турецкого берега. Слышно было, как прогремел рог в турецкой крепости. Поднял волны в архипелаге. Не волны, а пендосики какие-то – ехидные. Нет того, чтобы откровенно. Пройди мы Дарданеллы сейчас, завтра я уже видел бы родных. Ну ничего, они, бедные, уже, должно быть, беспокоятся.
21 сентября. Etnos, деревяная дощечка, пушка, канат им подали, остановились, красные крыши домов, мечеть, яхты, катера, рыбачьи лодки, поля. Турецкие броненосцы очень жалкие. «Одна английская бомба – и все они к черту».
Все зелено – лучше, чем Греция, плоские широкие холмы. За нами и перед нами гуськом пароходы. Теперь проходим Галлиполи.
Погода лучше.
Стюард дал мне свою карточку. Он только что рассказал мне про салун ов нэкд уимен[105] в Одессе. Везет своей румынской жене золотую брошь (дюжину таких он скупил за форпенс[106]), сделал из корзины перекладины для ковра.
Мы теперь в Sea of Marmaro (Мраморное, что ли?). Скучные виды по сторонам, ветер; только что chif mate[107] сказал, что раньше завтрева в Черном море не будем. Так что напрасно я тороплюсь с укладкой вещей.
½ 12-го. Мы в Константинополе. Тихо, тихо – каждый звук кажется оскорблением тишины – и ее не нарушает. Контраст необычайный. Слышно, как в городе бьют часы и где-то, сами себе надоев, лают собаки. Мечети, огни. Тучливо – но какая-то ясность вокруг. Вижу какую-то мечеть этакого вида [рисунок. – Е. Ч.]. С четырьмя башенками. Гавань широко и вольно раскинулась. Впереди, как вязка кораллов, огни, о о о о о о о. Как странна эта тишина. Видно, мы сильно шумели в море, и море шумело, только это было незаметно. Теперь уху как бы чего не хватает.
Вот тихо. Даже в ушах шумит. Опять ночь спать не буду. Ах, только представить себе: суббота, я с багажом на извозчике – еду на Базарную. Скорее, извозчик!
__________________
1904 [не датировано, предположительно, после смерти Чехова. – Е. Ч.]
Если чеховщина безжеланность, – то Чехов ненавидел свою чеховщину как величайший позор, клеймил ее всеми проклятьями, и жизнь свою положил, чтоб ее искоренить из души. Эта ненависть Чехова к чеховщине, героическая эта борьба с тем духом…
Равнодушие – для этой активнейшей, ярчайшей души было страшнее гангрены. Когда его охватило то, что теперь называется чеховщиной, он возненавидел ее в себе, как стыдную хворь. С отвращением к себе самому, с омерзением, с брезгливостью говорит он о чеховщине в своих письмах о ней, все силы тратит, чтобы искоренить ее из души.
Он мог бы кокетничать ею, бравировать, – (своей «нирванной безжеланности»). Мало ли было у тогдашних людей эффектнейших и красивейших тог для прикрытия своей безжеланности. Чехов, единственный изо всего поколения, почувствовал здесь грех, боль и стыд, – единственный жестоко стал бороться с собою, вступил в затяжную борьбу с собою и с дьявольским наваждением чеховщины. Странно, что этого никто не заметил. Ведь все его письма и большинство его книг – суть как бы летопись этой борьбы. (Туда занесены все подробности – весь героический бой человека со своею душою.) Там запечатлелись все победы, поражения.
Чехов как человек и поэт
Статья К. Чуковского*
И с этим студнем в душе он все же лечит, хлопочет, одолжает, ссужает, мечется от Красного моря до Белого, и только иногда проговаривается: – в Тироль ли ехать, в Бердичев, в Сибирь ли, все равно. Если б кто пригласил меня на виселицу, то я пошел бы.
Даже в его жадности к жизни было странно напряженное. Как будто он принуждал себя к жадности, насильно вызывал у себя аппетит. Аппетита порою и не было, а он все жевал и жевал, пихая в себя кусок за куском, насильно, почти с омерзением. И чем меньше было у него аппетита, тем больше он жевал и глотал. Похоже, что и в рулетку играл он нарочно, принуждая себя к страсти, к азарту, и на Сахалин отправил себя – против воли, против влечений всего своего естества: взял себя за шиворот и проволок все одиннадцать тысяч верст. Вообще, ко всему нашему житейскому деланию, к нашим человеческим суетам и страстям должен был всемерно себя понуждать.
Но вот подозрительны и странны строки:
«Ехать…»
Если всмотреться, покажется, что и на каторгу, и на земскую службу послал себя.
Все это правда, конечно, но правда однобокая.
– Но позвольте, – закричат мне иные, – вы что-то фантазируете…
Четверг. Написал реферат о Чехове. Плохи мои дела. Денежные и духовные. Маше* некогда быть со мною. Маничка* в проклятой своей школе исхудала – страсть. Я живу на чужих харчах. В каждом углу мне чудится Зак. Вознесенский – глуп. Кармен скучен и глуп. Альталены нету. Сын мой весел, здоров, и я – к своему удивлению, уже люблю его. Маша английского не позабыла – но зачем в сутках только 24 часа!
25 ноября. Пишу «Онегина». Написал:
1904
I часть – 424
II – 330
III – 365
IV – 215
Всего 1334
Погляжу, что дальше будет.
1905
5 февраля. Читаю о цензуре. Анекдоты*: Павел запретил слово «общество» (18). Коцебу говорит, что русским воспрещалось особым (см. 37) указом иметь родину (19), «я уезжаю в Россию, там холоднее здешнего» – цензор: «там только одни честные люди»; стр. 56 о цензуре Николая над Пушкиным; Даль и цензура (58). О дороговизне извозчиков (60). Подвергались цензуре даже пряничные узоры.
6 февраля. Прочитал у Бердяева («Новый Путь», III, 1904)* очень хорошее место, которое стоило бы вставить в статью о Минском:
«Ратнер понимает философскую сторону вопроса, но он не понимает проблем идеализма, они не являются для него психологическим переживанием, ответы на эти проблемы только тогда могут быть поняты человеком, когда эти проблемы переживались как важные и существенные моменты духовной жизни; тому, кто не пережил их подобным образом, знакомство с философией не может помочь. Оно научит человека различать разные направления, различные точки зрения, но не научит считать проблемы проблемами. На стр. 20. Исправляет Скабичевского. Выход из данных проблем представляется ему очень легким именно потому, что у него не было тех психологических переживаний, на почве которых возрастают эти проблемы».
7 февраля. Пришла в голову статейка о цензуре. О пряниках (Филипповских); О многоцензурии (Иоанн Кронштадтский); о нотах; о моей английской статье. «И твой сын отцу родному* не поверит в свой черед».
Вчерашний день провел я ужасно: был у Нюси и у Дудель. Поссорился с женой – ушел, не обедал, не читал, не писал. И потом шлялся, лишь бы день убить. Последнее время я повадился к Федорову – люблю его. Вот нет у него ни одной черты положительной – он и трус, и бахвал, и фразер, и за грош продаст тебя, а люблю я его – и все. Писал прошлую неделю о Минском, обедал с Минским, был в кафе-шантане с Минским, Минский был у меня – вот он мне не по душе. Холодный и четырехугольный какой-то. Мне вообще – Федоров представляется в таком виде: [рисунок],
а Минский в таком: [рисунок].
Ив. Бунин в таком: [рисунок].
Леонид Андреев в таком: [рисунок].
Боже мой, скольких я литераторов знаю: 1) Diоnео, 2) Пшибышевский, 3) Волынский, 4) Минский, 5) Федоров, 6) Бунин, 7) Евг. Соловьев, 8) Найденов, 9) Юшкевич, 10) Айзман – если не считать Жаботинского, Рапопорта, Кармена и себя. 11) проф. Милюков, 12) Свирский, 13) Л. Андреев, 14) З. Венгерова, 15) С. А. Венгеров. Но как это все отдельно – в стороне от кружков, от направлений. Теперь только литераторы сплачиваться стали, а доселе каждый особняком стоял – сам по себе. Пришли в голову рассказы – «Студент», «Жидовка»*.
10-го февраля. Утро. Насморк. Был вчера у m-me Дебуше. Маша пьет чай и говорит: с воскресенья ты дебушируешь.
18-го февраля. Вчера и третьего дня мои фельетоны*. Заработал 32 р. Сегодня и вчера ничего не делаю. Вечер уже.
Был у Духновского, Федоровой, Эрманса, Лифшиц. Всюду разговоры о готовящемся на завтра погроме. С Эрмансом говорил о своем желании ехать в Питер. Послезавтра ответ. Читаю теперь философию литературы Евг. Соловьева*. Ужасно поверхностно. Он говорит, что вся литература наша аболюционистская[108]. (При этом врет на Пушкина, стр. 13.) Это верно. Но аболюционизм он видит только в проповеднических творениях. А если шире глянуть, то аболюционизм и в декадентстве есть. Ведь говорит же он, что во имя общественного служения – литература выдвинула индивидуализм. Почему же не хочет понять, что во имя проповеди выдвинула она отрицание проповеди.
Итак, факторами, создавшими литературу, он признает 1) общественный строй (рабство); 2) Государство. Он все о влиянии Запада говорит. А ведь из Запада мы брали то, что к нам подходило. (Пример с Шопенгауэром у Чернышевского, см. Volynsky.)
Главная ошибка: он национальный характер литературы выводит из классового.
__________________
Ну, Бог с ним. Вот к 6-му февраля еще приписка. Тренделенбург, один из критиков Гегеля, обвинял его в том, что он в своей диалектике воспроизводит заранее известное из опыта, подобно фокуснику, вынимающему из шляпы только вещи, им заранее туда положенные.
Маша (кормилица) рассказывает, что ни в одной пекарне нельзя сегодня найти хлеба. Люди закупают, предвидя назавтра – забастовку. Что будет?
«Вопросы Жизни», II, 24. «Вообще нет ничего неправильнее, как определять какое-нб. жизненное или литературное направление по тем проявлениям, которые присущи ему в моменты той или иной борьбы и антагонизма. В борьбе каждый перестает быть самим собою и всецело определяется качествами моего противника». Аскольдов*. Об этом же у Бердяева. За 20 лет*.
16 марта 1905 [Петербург]. Писал 4 дня подряд. А сегодня не могу. Только что получил от Машутки телеграмму. Едет. Как я рад: я сегодня в окне видал хорошую вуаль, сарпинки хорошие – много всего кругом. И некому купить это. А в кармане деньги. Хорошо еще, что я не выслал их Маше. Начал писать статью об английском театре*, да нет, не могу.
16 марта. Телеграмма была получена таким образом: я пошел к Кнорозовскому за деньгами. Денег у него не было, он дал мне чек. Получив в Сибирском торговом (против Гостиного Двора) банке 25 р., я пошел домой по Невскому. Туман, как в Лондоне. Зашел к Вознесенскому – взять рубль и отдать ключ. Он читал мне свою рецензию, я ел орешки. По дороге купил колбасы – иду медленно, злобно, устало. Прихожу домой – Настя ничего не говорит… «Ну, неужели и письма нет!» – думаю себе. Иду – телеграмма и записка от Соколовской. Записка какая-то декадентская, Бог с нею. А телеграмма… – Боже мой – я стал ходить по комнате… Завтрашний день проживу, а послезавтра… Утром встал – на вокзал. Потом извозчик, вещи в корзине, – мы едем и разговариваем без конца. Хорошо! Потом вместе в галереи, на выставку, ловко! Потом к Тихоновым пойдем, к Минским пойдем, к З. Венгеровой. Пока она отдохнет, она откормится… Только бы по Кольке не скучала. Нет, дневник, сейчас сниму сюртук и все-таки сяду за статью. Хлеб вернее кушать будем. Да и досугу-то больше… Сейчас разоблачусь. Купил себе Smart[109], нет больше брюк? вот уж она и пришьет. Пойду только сейчас к хозяйке, условлюсь. Увижу, как и что. Если дорого – смыслу нет.
[Вклеена телеграмма]:
Из Одессы № 267
Принята 16 1905 г. 12–45 Подана 16 11-45
ВЫЕЗЖАЮ СЕГОДНЯ МАША
3 апреля. Приехала и вчера уехала. Эти две недели были лучшим временем моей жизни – и, боюсь, это время не повторится. Мы были в театре, видали «Безумную Юльку», «Ради счастья» и «Секрет Полишинеля». У Юреневой на Владимирском каждый день. Даня здесь был, – мы втроем на санях к Раисе ездили – на Васильевский Остров – нашли другую Раису Дав. Коган, – смеху столько. Потом были в Манеже, потом в Пале-Рояле – у Волынского, у Сорина, у Тихоновых, – потом у Жаботинского, потом в «Еврейской Жизни», потом у Миролюбова – потом в Эрмитаже, потом в музее Александра III и т. д. Словом, отдохнула моя девочка. Она поздоровела, повеселела, пополнела – выспалась, поела всласть, пива выпила. Мы только 2 раза поссорились: один раз из-за жены Минского, другой – из-за нее же. «Нет больше брюк» она мне пришила, к З. Венгеровой мы не ходили. – Но прожили чудно. Я при ней 5 статеек написал на 105 р. (об английском театре, о Л. Андрееве, о Новом театре (2), о Льве Толстом и интеллигенции). Вчера с вокзала пошел я по Забалканскому к Фонтанке, там Саша Фидман. Был у него часа 3, рассказывал, врал, пил чай с пирожными. Потом они с Володей меня проводили – пришел домой, нашел записку от Евг. Соловьева – что мои «Пионеры» – прелесть*, но что из пародии на Лохвицкую нужно 4 строчки выкинуть. И то, и другое – чепуха.
4 апр. Был с Юреневой и Вознесенским у Минского вчера. Четырехугольный этот джентльмен – противен донельзя. В маленьком, полупроститутском, полулитературном гостиной-будуаре-кабинете г-жи Вилькиной-Минской, где рядом с портретом Буренина и Случевского висит Божья Матерь Смягчение Всех Сердец, где жарко и душно топится камин, где духи, где альбомы, где Россетти, Берн-Джонсы, «Весы» и т. д., Вознесенский в своей белой рубахе, без галстуха и воротника – кричал о женщинах, проповедницах нового, как результате того, что драматурги стыдятся пользоваться для таких скверных целей (антихристианских) столь порядочными людьми, как мужчины… Минский соглашался, потом увел Юреневу в свой неискренний кабинет – болтал, показывал ей картины, причем медальон М. Белинского (Ясинского) она приняла за Виссариона Белинского – и спросила: а вы были с ним знакомы? Сегодня утром неожиданно для себя сочинил такие строчки, которые мне очень нравятся:
Я иду вдоль ласковой реки, Я плыву в объятиях весны, И огни небес – недалеки, И оковы мира не тесны. Бог и Смерть – ничего я не знаю. Я знать не могу, не хочу, Я верю певучему маю, Я молюсь огневому лучу. И струится песня из души, Но о чем – не ведаю, о чем. Все загадки мира хороши, Не руби же их безжалостным мечом.__________________
Тут мало сходства – не умеет Твою красу отобразить Искусство, – но и с ним светлеет Мой дух; и с ним надежда реет, И мне приказывает жить.Искандер: Везде, где людские муравейники и улья достигали относительного удовлетворения и уравновешения, движение вперед делалось тише и тише, фантазии, идеалы потухали. Довольство богатых и сильных подавляло стремления бедных и слабых.
Общественный уклад выходил тогда «из исторического треволнения в покойное status quo жизни, продолжающейся в бесспорной смене поколений – зимы, весны, лета.
9 апреля. Перевожу Байрона для Венгерова. Не знаю, удастся ли мне. Иногда нравится, иногда нет. Отобедал. Напротив сидит Балабуста. Ее Коля дрыхнет у меня на кровати. Суббота. Я поместил в «Театральной России» заметку о Сольнесе*.
12-е, вторник. 1) Член общества членовредителей… 2) Мистификация мистицизма.
Иду к Кнорозовскому за жалкими своими 23 рублями.
14 [апреля], четверг.
Гряньте, гряньте, барабаны, трубы, трубы, загремите*, Ваши звуки пронесутся беспощадною толпой. В церкви, церкви величавой – богомольцев разгоните, В школу душную бегите, книгу пыльную долой. Новобрачные забудут сладострастные восторги, Вы разбудите безумных в упоеньи шумных оргий, — Вы ворветесь в двери, в окна беспощадною толпой. Громче, громче, барабаны! Трубы, трубы загремите! Что? Разостланы постели? Разве нынче кто заснет? Чьи-то песни зазвенели… Их убейте, заглушите, Чьи-то стоны, чьи-то слезы… Громче, громче и вперед.15 [апреля], пятница. «Таким невозмещаемым шагом идет Англия к этому покою, к незыблемости форм, понятий, верований».(«Не оттого ли здесь дети старше своих дедов и могут их назвать a la Dumas junior[110] «блудными отцами», что старость-то и есть главная характеристика теперь живущего поколения?) По крайней мере, куда я ни смотрю, я везде вижу седые волосы, морщины, сгорбившиеся спины, завещания, итоги, выносы, концы и все ищу, ищу начал – они только в теории и отвлечениях»*.
19-е [апреля], вторник. Кстати: у Тихонова есть шуточная автобиография Чехова: Переведен на все языки, кроме иностранных. Немцы и гишпанцы одобряют. – Я сижу и пишу рецензию о спектакле в Художественном театре – об «Иванове»*.
29-е, кажется, апреля; а может быть, и нет.
Нашел у Майкова ошибку: пустынной манне предпочли пиры египетской земли (в «Савонароле» нужно наоборот)*.
16-е июня, [Одесса]. Ночью пришел на дачу Сладкопевцев с невестой. Они только что из города. Началась бомбардировка. Броненосец норовит в соборную площадь, где казаки. Бомбы летают около. В городе паника.
Я был самым близким свидетелем всего, что происходило 15-го. Опишу все поподробнее.
Утром, часов около 10-ти пошел я к Шаевскому, на бульвар – пить пиво. Далеко в море, между маяком и концом волнореза, лежал трехтрубный броненосец. Толпа говорила, что он выкинул красный флаг, что в нем все офицеры убиты, что матросы взбунтовались, что в гавани лежит убитый офицером матрос, из-за которого произошел бунт, что этот броненосец может в час разрушить весь наш город и т. д.
Говорю я соседу, судейскому: пойдем в гавань, поглядим матроса убитого. – Не могу, говорит, у меня кокарда.
Пошел я один. Народу в гавань идет тьма. Все к Новому молу. Ни полицейских, ни солдат, никого. На конце мола – самодельная палатка. В ней – труп, вокруг трупа толпа, и один матрос, черненький такой, юркий, наизусть читает прокламацию, которая лежит на груди у покойного: «Товарищи! Матрос Григорий Колесниченко (?) был зверски убит офицером за то только, что заявил, что борщ плох… Отмстите тиранам. Осените себя крестным знамением (а которые евреи – так по-своему). Да здравствует свобода!»
При последних словах народ в палатке орет «ура!» – это «ура» подхватывается сотнями голосов на пристани – и чтение прокламации возобновляется. Деньги сыплются дождем в кружку подле покойного; – они предназначены для похорон. В толпе шныряют юные эсде – и взывают к босякам: товарищи, товарищи!
Главное, на чем они настаивают: не расходиться, оставаться в гавани до распоряжений, могущих придти с броненосца*.
4 августа.
Басня Мура «Зеркала»*
В каком-то царстве, А в каком, кому какое дело! — По праву царственным венцом Семья красивейших владела. А в чем должна быть красота, Чтоб заслужить такое право — В изгибе носа или рта, — Об этом я не знаю, право. Но было так из рода в род: Прошли парламентские билли, И красотою наперед Род королевский наделили, А верноподданный народ Навек уродом объявили. И чуть в народе кто-нибудь Решался только намекнуть, Что царь плешив, а у царицы В Париже сделанная грудь, Тот умирал на дне темницы. Но это редко. В царстве том Народ царям был крепко верен, И в красоте их был уверен, И в безобразии своем. Хотите вы, чтоб я поведал Причину этого? – Зеркал Никто в том царстве не видал, А потому себя не ведал. Иной и видел у друзей Красивей лица и умней, Да ни гугу: кому охота Взлететь с петлею на ворота! Но время шло – и бурный вал Однажды к берегу пригнал Весьма таинственное судно, Доверху полное зеркал, Откуда – и придумать трудно! Кто говорил, что к ним его Сюда пригнали радикалы, Кто говорил, что колдовство, Кто говорил, что просто шквалы. Но, как бы ни было, – оно Пришло, и день его прихода Собой означил заодно Красивого паденье рода. Теперь уже любой бедняк Не выйдет из дому на шаг Без зеркальца – народ толпится И только в зеркальце глядится. Увы, напрасно царский двор Сулит им строгий приговор И зеркала, как наваждение, Велит разбить без замедления. Чтоб эту грамоту издать, Зачем потратил он бумагу? В тех зеркалах, забыв присягу, Народ себя стал узнавать. Чуть только князь румянорожий (герцог краснорожий) Почету требовать начнет, Тут кто-нибудь перед вельможей Безмолвно зеркало кладет. Пошла дивиться вся столица, Чуть поглядела в зеркала, — Как эти мерзостные лица, На троне вытерпеть могла! Штат лекарей царю составил Рецептов множество и правил Для исправления лица. Король читал их без конца, Лица же, бедный, не исправил. И вот однажды… Но, друзья, Здесь басня кончена моя… Значенье басни таково, Что нет, увы, ни у кого, От князя до каменотеса, Ни права высшего – ни носа, Священней носа моего.5 августа. Хирге, Шахрай и прочие лица иудейского вероисповедания. Певчики. Езжу в город. Ночую у мамы, клопы… Колька мой вчера начал ходить. Уморительно.
Перевел новую басню Мура. «Маленький Великий Лама»*.
Басня
Великий Лама очень мал, Ему лишь годик миновал. И говорили все в Тибете, Когда взошел Он на престол, Что первый у него едва зубок пошел, А может быть, второй, а может быть, и третий — Не более. (Досель на этот счет У всех историков великий спор идет.) Тибетцы так его любили, Что если б для его игры Понадобились вдруг шары, То головы свои они бы отрубили И Ламе подарили. Все было хорошо. Но вот Уж третий год Ему идет, И Маленький Великий Лама Становится несносен прямо. То генерала хвать за нос, То ножку герцогу подставит, То князю дряхлому до слез Мозоль заветную отдавит. Жезлом священным, как конем, Вдруг овладеет и верхом Ко храму бег его направит И бьет из пушек восковых Горохом подданных своих. Доходит дело до того, Что уж теперь без тайной дрожи Не подойдут к нему вельможи Одеть или раздеть его. И собралися патриоты — Вся высшая в Тибете знать — Не козни строить, не комплоты, А просто-напросто решать, Как Ламу-баловня унять. Свое ж решенье по секрету писал синклит. Шлют мамок Высшему Совету: «Вот так и так, Мы все за Ламу с дорогою Душою. Чуть оспа у него, коклюш иль дифтерит, Заразы не страшась, мы за него стеною. Но ныне смелость мы берем И бьем челом, И вот о чем: Мы просим милость вашу Для благоденствия страны Задрать величеству штаны И дать ему березовую кашу». Но, возмущением объята, Шумит Верховная палата. А в ней попы сильнее всех — «Ведь тело Ламы свято, свято. Его коснуться даже грех!» И скоро брат идет на брата, И скоро спором вся страна Разделена, раздроблена. «Сечь иль не сечь?» – о том переговоры И споры, ссоры И раздоры Достигли наконец того, Что мудрых лордов большинство (А мудрые бывают и в Тибете) Так положило на Совете: «Чтоб революцию отвлечь, Тибет от горя уберечь, То надобно державному ребенку Поднять доверху рубашонку И розгами его посечь». Вот так и сделали. И что же? Чуть их король вкусил плетей, Он сделался, храни нас Боже, Куда умнее и добрей.Ночь на 8-е августа. Манифест…* Ночь. Маша отослала Кольку к маме, а сама меня мучает и себя. Просто не знаю, что с ней. Она, бедная, психически больна. И серьезно. Эх, деньги, деньги! Ей бы полечиться, а я в Петербург хотел. Нет уж, дудки-с! С суконным рылом в калашный ряд! Мне Машу ужас как жалко, – да только неправа она. Ну, буду писать о чем-нибудь другом. Сегодня пришли мне в голову такие строки:
И побежденные, мы победили.8-е августа. Утро. В конце концов вышло вот что:
И побежденные, вы победили, И заточенные – стали свободны Честь вам и слава в далекой (бесславной) могиле! И погребенные, вы воскресили Голос народный, Голос свободный. Честь вам и слава в далекой могиле! Кровь засевалась, но чудные всходы, Чудные всходы взошли. В рабстве, в неволе, вы светоч свободы Из дальней земли пронесли. Слава вам, темным, нам свет даровавшим. Слава вам, павшим средь чуждых степей. Слава вам – павшим И к небу поднявшим Славу отчизны своей. Слава вам, темным, нам свет даровавшим, Там, за чертой океана, грудью вы пали – и вот Каждая, каждая рана Чудною розой цветет.Всемилостивый манифест*
Вот так и сделали. На днях меня встречает Приехавший из этих мест. Он весь от радости сияет: Их Лама подобрел – и так их обожает, Что в дар для них приготовляет Всемилостивый Манифест.1906
Кажется, 17 января. С удивлением застаю себя сидящим в Петербурге, в Академическом переулке, и пишущим такие глупые фразы Куприну:
Ваше превосходительство ауктор «Поединка»!
Как в учиненном Вами Тосте* оказывается быть 191 линия, и как Вы, милостивец, 130 линий из оного Тоста на тройках прокатать изволили. То я, верный твоего превосходительства Корней, шлю вам дифференцию в 41 линию, сия же суть 20 руб. с полтиною. В предвидении же последующих Тостов делаю тебе препозицию на пятьдесят рублей; пришли поскорея генеральского твоего ума размышления касательно [не дописано – Е. Ч.].
Да, господин дневник, многого Вы и не подозреваете. Я уже не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактором-издателем, сидел в тюрьме, познакомился с Мордуховичами, сейчас состою под судом*, за дверью висит моя шуба – и обедаю я почти каждый день.
Глаз у меня опух, что с ним, не знаю.
27 января. Пишу статью «Бельтов и Брюсов»*. Мне она нравится очень. Чувствую себя превосходно. Мне почему-то кажется, что сегодня приедет моя Маша. Вчера проводил Брюсова на вокзал и познакомился с Вячеславом Ивановым.
Боже, вот если б сегодня приехала Маша.
30 января, утро. Проснулся часа в 4. Читаю Thackeray’s «Humorists»*. Маши еще нету. Покуда я попал в глупую переделку. Получил от Обух-Вощатынского повестку – с приглашением явиться к нему в 12 час. Это уже 3-е дело, воздвигающееся против меня*.
Теперь возможна такая комбинация: Маша приезжает в половине десятого. Я встречаю ее мимоходом, иду к Обуху, меня арестовывают и Маша на улице без куска хлеба. А главное, мы даже и не поговорим друг с другом – ничего. Но гаже всего будет, если Маша и сегодня не приедет. Тут у меня нет ни одной души, кому бы до меня было хоть немного дела. Был несколько раз у Куприных: она глупая и вульгарная, он – искренне уверен в своем величии и так наивно делает вид, будто скрывает эту уверенность. Общество их кошмарно по своей пошлости: Кранихфельд – добрый, глупый, должно быть, влюбчивый; заика душевный – Цензор, Поликсена Соловьева с остановившимся лицом; Дымов – нечуткий и самодовольный, – скука, скука. У Слонимских мне хорошо. Там так патриархально, люди так ничего не знают – горя и радости, там такие уютные: мать-юдофобка – так деревянна, отец, известный публицист, – так добросовестно пришиблен Богом (он очень похож на портного Сорина), Диття так безнадежно невинна, брат Дитти так безнадежно туп, – что с ними легко, что с ними свободно, что с ними ничего не хочешь, не кокетничаешь, не ломаешься. Бываю у Саши Мордуховича. Там Элла, как хороший кисель, – без мыслей, без забот, без жизни. Там лысый Давид – скромный и ленивый, там мелкий, ломающийся, умный, самолюбивый Саша – и мать Арнштама, немецкая дама… У них я пообедаю, подкину стулья и уйду… Большей частью занимаюсь, а если нет – шляюсь, – у меня бесконечная, тяжелая, неразгоняемая тоска. Душа болит, как зубы, – как никого мне не надо, и ничего не хочу, и смерть, смерть, смерть – вот одно, что я знаю, о чем я думаю, что я ношу с собой. Недавно перечел сборник памяти Чехова* – и до сих пор не могу сбросить с себя безнадежной тоски, которую он нагнал на меня.
Этот месяц я занимался, как никогда. Во-первых, по-английски я успел больше, чем за целый год, – я прочел 3 книги, из которых – одна добрых 600 страниц будет; я выучил массу слов, я прочитал Короленку для своей о нем статьи, я написал статью о Бельтове и Брюсове, я возился с «Сигналами» – и т. д.
И это в пору, когда 7 дней я лежал с завязанными глазами – ибо у меня с 17 по 24 были на глазу нарывы – ячмени, и все что угодно. Кстати: сегодня у меня нарвало на другом глазу. Машенька, дорогая, приезжай!
30/1. 906. Ячмени на глазах. «Сигналы». Как уехать из СПб.?
Утро 31 января. Всю ночь не спал. Вчера, едучи к следователю, заехал на Морскую в English Library[111] купить Thomas Hardy, и массивная дверь так прищемила мне палец, что со мной приключился обморок. Теперь одно спасенье: холодная вода или свинцовая вода. Всю ночь просидел, встромив[112] палец в стакан с водою. Ровно через сутки приезжает Маша. Это единственное мое теперь счастье. Глаз у меня вспухает, читать я не смогу, и, если меня не посадят в тюрьму, Маша будет читать мне вслух Короленку, «Мир Божий», Гамсуна. С тех пор как я поселился на острову, я лучше работаю – и никуда не хожу: все равно далеко.
Сегодня надлежит идти к следователю. Вчера я его не застал. Хорош я буду перед ним: на глазу повязка, на пальце повязка, – сам после бессонницы желтый и нелепый… Моя комната превращается в больницу: гигроскопическая вата, борная кислота, стакан с водою – для глаза. Тряпочка полотняная, свинцовая вода, стакан с водой – для пальца. Машу я ждал вчера до того, что, уезжая к Обуху-Вощатынскому, послал левую руку «Сигнала» сказать моей жене, что я буду часа через 3. Он возвратился – говорит: «К. И., могу передать вам утешительную весть. (Пауза.) Супруга ваша не приехала». Я отчего-то так разозлился, что послал его к… Вчера обедал у Слонимских. Была З. Венгерова и Белла. Диття с Зиной ушли в театр Яворской, – и я с головной болью – сейчас же после обеда улизнул. Лег спать в 8 ½ ч. В 8 ½ пришли Айзеншер и Пустынин за Брюсовым. Дал им – и заснул до 10 ¼. За ночь докончил «Dungly Junction»[113] – давно не читал ничего такого глупого. Палец, как говорится, «стреляет». Кровь сильными редкими приливами стучит в нем – и всякий раз сердце у меня замирает, ноги холодеют, мысли и внимание останавливаются. Писать больше не могу – голова идет кругом…
Был у Обуха. Плохо мое дело. Придирка к совершенно невинной статье, лишь бы меня погубить. Но я не умею печалиться о будущем, когда в настоящем у меня такое страдание: палец. Какая страшная, непонятная работа происходит у него: ему нужно кровью и тканью воссоздать новый ноготь, прогнать старый, затянуть больное место – и нужно поторопиться, потому что он знает, как больно его хозяину. Теперь он весь опух – и стал такой величины, что кожа у него трескается.
Еще 8 часов – и я увижусь с Машей. Теперь начало 1-го часу.
4 февраля. Скоро меня судят. Седьмого. Никаких чувств по этому случаю не испытываю.
Маша уже здесь. Сейчас сидит против меня и режет шпилькой «Мир Божий». Мы только что были в «Вене», обедали с Омегой, Головковым и Случевским (какие непохожие, не нужные мне и друг другу люди!), а потом пошли к Чюминой. Зверь*, Зинаида, разговоры о сенаторах, о тюрьмах, Машин бенефис о моем гонораре у декадентов и т. д. Скучно и ненужно.
10-й час. Сейчас иду спать. Сегодня много работал в «Сигналах» и, встав в 4 часа, переводил для них стихи Браунинга. Перевел песню Пиппы из «Pippa Passes»[114], которую давно уже и тщетно хочу перевести всю.
Говорят, мне нужно бежать за границу. Чепуха. Я почему-то верю в свое счастье.
На заре вселенной близко к небесам была земля, Жил король тогда, и низко вились кудри короля. Над челом белоснежным и нежным, Как чело у вола, безмятежным, Развевались власы короля. Вечно спал он, и беспечно жизнь его текла вперед. И сдавалось – бесконечно он на свете проживет. Смерть спящих царей не нужна вам, о боги, Пусть вечно живет он, не зная тревоги, Пусть вечно и вечно живет. Он на солнце у порога… и т. д.Иду спать. Машка зевает над «Миром Божиим». Завтра с утра поработаю. Звонит кто-то. Только бы не к нам. Ну, прощай сегодняшний день – прощай навеки.
14 февраля, вторник. Читал эти несколько дней декадентов. Так надоели, что явилась потребность освежиться. Взял Hackel’я «The riddle of the Univers»[115]. Прочел две главы. В первой доказывается польза естественных наук, во второй происхождение человека от обезьяны. Нельзя сказать, чтоб это было ново, но чрезвычайно полезно после Вячеслава Иванова и Андрея Белого. (Сейчас получил новую повестку от Обуха – явиться в камеру его к 1 ч.)
Вклеена квитанция:
М.П.С. КАЗЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. Станция Псков 18/II месяца 1906 г. 5ч. 25 м. попол.
КВИТАНЦИЯ
За депешу № 196 в Ново-Александровск в 13 слов получил – руб. 80 к. (Подпись).
С этой квитанцией связаны у меня забавные воспоминания о бегстве в Меддум. Насколько я помню, дело было так. Я был редактором журнала «Сигнал». Меня привлекли к суду, посадили в предварилку, Марья Карловна Куприна внесла за меня 10 000 р. залогу [Абзац дописан позже. – Е. Ч.].
12 мая, пятница. Были у Чюминой – обедали. Сегодня она рассказывала свою биографию. Лет 19-ти она в Новгороде сочинила стихотворение «Памяти Скобелева», которое попало в комаровский «Свет». Отец Чюминой обеспокоился: что скажет его начальство, если узнает, что дочь его пишет стихи. Второе стихотворение (тоже о Скобелеве) в аксаковской «Руси». Потом она послала в «Новое Время» поэму «Христианка». Буренин ответил ей ласково – и пригласил зайти в редакцию. Она познакомилась тогда с Сувориным, Полонским etc. Потом Буренин стал делать ей гнусные предложения; она их отвергла, и с тех пор ее стали травить в «Новом Времени».
Сегодня нечто таинственное: приехала Паша в Питер и заявилась к нам на квартиру. Нина не запомнила ее адреса, и теперь мы не можем объяснить себе эту таинственность.
Теперь ночь – белая, – и я хочу сочинять балладу для «Адской Почты». Только что получены «Весы». Там есть «Хамство во Христе»*. Статья сама по себе неважная, – но по отношению к Волжскому – верная и выпуклая.
13 мая. Был сегодня у Зверя (муж Чюминой). Учил его фотографической мудрости. Речь Горемыкина, по-моему, прекрасна: ловкая и вежливая пощечина*. Поссорился с Марией Борисовной – из-за чего, не помню. В ресторане встретился с Володей Жаботинским; купил Менгера*, был у княгини Тархановой – старая, обольстительная женщина, – которая говорила только о себе. Теперь уже ночь, я провел вечер у Лемберка – так и убит мой день. Ужасно. В оправдание себе могу привести следующее стихотворение:
Жил-был штрейхбрехер молодой*, Жила-была с-р. И полюбила всей душой Штрейхбрехера с-р. Твердит рассудок ей одно: Штрейхбрехеру бойкот. А в сердце девушки давно Амнистия цветет. О, страсти власть! О, власть Эрота! Что пред тобою власть бойкота! Цвела весна, и, как цветник, Весь мир благоухал. И меньшевик, и большевик Душою расцветал. Средь черносотенных ночей Сбирался митинг звезд… О, провокатор соловей! О, агитатор дрозд! И не слышно в журчаньи ручьев беззаботных Ничего о страданьи рабов безработных.Плохо, по-моему. Нужно переделать совершенно. Черносотенные ночи – это не того. Дрозд здесь ни при чем. Не лучше ли так:
О, провокатор соловей! О, агитатор дрозд! О, средь лазоревых полей Весенний митинг звезд! О, если б журчанье ручьев беззаботных Воспело (Нам пело) страданье рабов безработных! И взгромоздяся на сосну, О, если б ворон рек: Читайте «Невскую Волну», Долой «XX Век».Несамостоятельность М. Б-ны вызывает во мне негодование. Стоит мне с ней поссориться – она не идет обедать. Сегодня у нее были деньги, я расстался с нею, и она, чтобы наказать меня, морит себя голодом. Пришла, ест хлеб. Смотрит на меня так, будто я виноват в ее голоде.
14 мая. Сегодня наверное убедился, что амнистии не будет. Значит, самое большее через 2 недели – меня посадят в крепость. Стихотворение закончу так:
О, зоркий месяц – соглядатай Четы, любовию объятой! Поверь вещанию весны, Прекрасная с-р: Весенней ночью все равны — Штрейхбрехер и с-р. Весенней ночью все равны — Штрейхбрехер и с-р… И поддалась речам весны Прекрасная с-р. О, страсти власть! О, власть Эрота! Что пред тобою власть бойкота!18 мая. Читаю Менгера. Нарочито социалистическая точка зрения. Много произвольного. Его теория совести. По-моему, совесть есть отражение былых социальных соотношений, ставших уже иррациональными, но продолжающими мнить себя абсолютными. Отсюда оптический обман, по которому кажется, что совесть нечто трансцендентальное, могущее побороть всякого Разумихина*. В конце-то концов Разумихин прав, но он упрощает действительность. (Менгер, 17 стр.)
29 мая. Эту неделю мы благодушествовали: я продал стихи в «Ниву» и в «Народный Вестник», отовсюду получил деньгу*. Теперь у Струве моя заметка о Горьком. Если пойдет, я получаю рублей 30. В «Вестнике Европы» моя заметка о Чюминой. Хочу продать издателю свою статью о Уоте Уитмане*.
Вчера была у нас Рая Лемберк – весь вечер.
31 мая. Сегодня утром написал два сонета для «Нивы». Потом пошел отдать Рае зонтик, Косоротову книжку, встретился с Осиповым, застрял. Был в Думе, виделся с Румановым и Сашкой Поляковым. Послал письма Луговому и в Комиссию по амнистии, хочу лекцию о Уитмане читать. Вечером были у нас Лемберки – и мы до часу ели клубнику, пили чай и вспоминали детство. Сегодня в последний раз я работал в Публичной библиотеке: она закрылась на два месяца.
4 июня. Маша именинница. Я с Натальей Никитишной сложились и купили ей коробку шоколаду. Мой «Штрейхбрехер» не пошел в «Адской Почте». Зато в «Ниве» за этот месяц принято 5 моих стихотворений – и, благодаря им, мог работать над Уитманом. Спасибо им, дорогие!
Из благодарности к ним воспроизвожу их здесь*:
Из Теннисона
Опочившего воина к ней принесли, Но она не сказала ни слова. И подруги ее говорили вдали, Что могила и ей роковая готова, Если слез ее очи обресть не могли. И негромко они поминали его: Почивающий воин был нежным супругом, Был он недругом смелым и сладостным другом, И негромко они восхваляли его, Но она не сказала о нем ничего. И подруга ее к мертвецу подошла И покрова откинула ткани. И стальное забрало с немого чела Пред очами ее молчаливо сняла, Но она благодарных рыданий В душе обрести не могла. Ее сын улыбался видениям сна. И малютку нежданно узрела она. И, как вешние грозы, веселые грозы, Набежали, нахлынули светлые слезы, И, рыдая, пред телом упала она.5 июня. Не могу ничего сочинить – даже таких скверных, кривых стихуль, как вышеприведенные. День совершенно пустой. Денег ни копейки, в голове ни одной мысли. Ни одной надежды. Никого не хочу знать. Остановка. Даже книжного дурмана не хочется. Нужно где-нибудь достать 10–15 р. и уехать к Луговому. Потом захочется возвратиться и… работать – без конца. Но где достать? Но как достать? Буду разве писать о Розанове.
Книжка Розанова очень талантливая. Чтобы написать такую талантливую книжку, Розанов должен был многого не знать, многого не понимать. Какая бы ценность была в стихах Лукреция, если бы он знал теорию Дарвина? «Солидные» революционеры, «революционных дел мастера» отвернутся от философских и психологических толкований Розанова – раньше всего потому, что солидные люди терпеть не могут философии, а во-вторых, потому что Розанов – посторонний. Человек подошел к кучке народа. Что здесь случилось? Убийство. Лежит убитая женщина, неподвижная, в кровяном ручье, а подле нее убийца с ножом. – Тут нужно доктора – не спасет ли он убитую, тут нужно здоровых, смелых людей – связать убийцу, обезоружить, не убил бы еще кого. И вдруг является Розанов, суется в толпу, мешает всем и нашептывает:
– Погодите, я объясню вам психологию убийцы; погодите, вы ничего не понимаете, он заносит нож – по таким-то и таким-то мотивам, он убегает от нас по таким-то и таким-то причинам.
Объяснения, может быть, и хороши, но только зачем же мешать ими доктору? – Каждая минута дорога. Доктора отвлечешь от работы и т. д. В участке разберут.
Розанов – посторонний. Разные посторонние бывают. Иной посторонний из окна глядел – сверху, все происшествие видел. Такому «со стороны видней» и понятней. А другой посторонний подошел к вам: а что здесь случилось, господа?
Г. Розанов, несомненно, именно такой посторонний. Он подошел к революции, когда она разыгралась уже вовсю (до тех пор он не замечал ее). Подошел к ней: что здесь случилось? Ему стали объяснять. Но он «мечтатель», «визионер», «самодум», человек из подполья. Недаром у него были статьи «В своем углу». Вся сила Розанова в том, что он никого и ничего не умеет слушать, никого и ничего не умеет понять. Ему объясняли, он не слушал и выдумал свое. Это свое совпало с Марксом (отчеркнутые страницы) – он и не знал этого, и отсюда та странная (вечная у Розанова) смесь хлестаковской поверхностности с глубинами Достоевского – не будь у Розанова Хлестакова, не было бы и Достоевского.
Отыскал 4 коп. Пойду за бумагой и сейчас же напишу*.
6 июня. Болит горло. Должен идти к Ляцкому – суп не готов. Денег нет. Написал статью о Розанове, снес в «Думу»*. Надежд на напечатание мало. Что делать, не знаю. Но и не забочусь, ибо болен, и слаб, и голоден. У меня жар. Завтра, может быть, будет в Сенате рассматриваться мое дело.
Читал «Весы» со всеми этими Кречетовыми, Садовскими и т. д. Дрянь и пошлость невозможная. Геккер, Зак, Балабан в «Одесских Новостях» и те лучше. Быть «декадентом» можно только при первоклассном таланте; для людей маленьких – это позор и унижение.
Читаю «King Richard III»[116], – вот оттуда хороший эпиграф:
Gloster
How hath your lordship brook’d imprisonment?Hastings
With patience, noble lord, as prisoners must: But I shall live, my lord, to give them thanks, That were the cause of my imprisonment[117].7 июня. Получил 10 р. авансу за «думскую» статью*. Сегодня нездоров. Пера в руке не держал.
Задумал статью о Самоцели. Люди симметричной души. Великая тавтология жизни: любовь для любви. Искусство для искусства. Жизнь для жизни. Бытие для бытия.
Нужно это только заново перечувствовать, а я только вспоминаю то, что когда-то чувствовал.
Перевожу Rossetti «Sudden Light»[118].
8 июня. Получил сегодня письмо от Ремизова. Странный человек. Он воспринимает очень много впечатлений, но душа у него, как закопченное стекло, пропускает их ужасно мало. И все это скупо, скудно, мучительно трудно. Вольного воздуха нет ни в чем, что он делает. Вот только что получил от него письмо. Все вымученно, все старательно. [Вклеено письмо. – Е. Ч.]:
Многоуважаемый Корней Иванович!
Вот Вам человек для «Плена».
Кланяюсь Марье Борисовне.
РемизовВот что я решил: каждый день переводить (прозой) по сонету из Россетти.
Сонет – это памятник минуте, – памятник мертвому, бессмертному часу, созданный вечностью души. Блюди, чтобы он не кичился своим тяжелым совершенством, – создан ли он для очистительной молитвы или для грозных знамений. Отчекань его из слоновой кости или из черного дерева, – да будет он подобен дню или ночи. И пусть увидит время его украшенный цветами шлем – блестящим и в жемчугах. Сонет – монета. Ее лицо – душа. А на обороте сказано, кому она служит воздаянием: служит ли она царственной податью, которой требует жизнь, или данью при высоком дворе любви. Или среди подземных ветров, в темных верфях он служит, он кладется в руки Харона как пошлина смерти[119].
Прекрасно! Я начал хромыми стихами:
О памятник мгновения – сонет, — Умершего бессмертного мгновенья.Исправил вторую строфу Rossetti:
Внезапный просвет
Я был уже здесь когда-то. Когда – отгадать не могу. Помню эту сладость аромата, Эту травку вдоль речного ската, Эти звуки, эти вздохи, и огни на берегу.__________________
Ты когда-то была моею, Не помню, не знаю, когда. Ласточка блеснула – и за нею, Ей вослед ты изогнула шею, И тебя узнал я тотчас, да, я знал тебя всегда!A New Year’s burden[120]
Гуляет ветер над полями, Над нашим радостным путем. Из песен, прежде петых нами, Какую ныне мы споем? Только не эту, моя дорогая, о нет. (2 р.) Были с нами они когда-то, Но часам заката неведом рассвет. Тумана бледного туманней Вдали аллея. Новый год Из солнца кровь, алея, пьет. О, из былых твоих лобзаний Какое ныне расцветет? Сплелися ветви над очами И небеса среди сетей. О чем, о чем под небесами Забыть мы рады меж теней? Не наше рожденье, о нет, Не нашу кончину, о нет! Но нашу любовь, что уж боле не наша…9 июня. Должен перевести свой очередной сонет. Но не перевел, а поехал к Луговым.
18 июня. Сегодня ездил к Юлии Безродной – в Финляндию. Был у Финского залива. В поезде обратно с Н. Н. Виноградовым. Там же член Думы Ледницкий. Там же девочка лет 16. Хорошенькая, блондинка – изящная. И финляндцы – кондуктора, которые высаживали пьяного. У Безродной – домик – точно декорация Художественного театра. А когда вышел ее хозяин, я подумал: как хорошо он загримирован. Они угощали усердно – но не радушно. Слонимски-венгеровский тон дешево насмешливого резонерства – свойствен и им: насмешливостью (как тоном) они прикрывают свое бессилье: это, как щит у дикаря. Но мне это все равно. Лишь бы иметь возможность вести этот дневник в Англии.
Заинтересовал меня Чаттертон. Вот что пишет о нем Rossetti: «С шекспировской зрелостью в диком сердце мальчишки; сомнением Гамлета близко соединенный с Шекспиром и родной Мильтону гордыней Сатаны, – он склонился только у дверей Смерти – и ждал стрелы. И к новому бесценному цветнику английского искусства – даже к этому алтарю, который Время уже сделало божественным, к невысказанному сердцу, которое противоборствовало с ним, – он направил ужасное острие и сорвал печати жизни. Five English Poets. Sonnet First»[121].
Кажется, у Китса есть о нем нечто подобное. Теперь ночь, но все же хочется справиться.
Начало сонета банально. Но конец хорош: «Ты погиб – полусвеянный цветочек, в который влюбились холодные ветры. Но это прошло. Ты между звезд теперь – на высочайших небесах. Твоим вращающимся мирам ты упоительно поешь теперь; ничто не портит твою песню – там, над бесчестным миром и над людскими страхами. На земле (этот) (добрый человек) заслоняет от низкой клеветы твое светлое имя – и орошает его слезами».
Нужно просмотреть переписку Байрона, да, кажется, у Шелли есть что-то. Какая-то вещь, посвященная Чаттертону.
19 июня. Решил взяться за рецензии для «Вестника Европы». Сегодня зубрил английские слова из прежде выученных. Стал было читать Менгера; нет, я раньше прочту Каутского. Итак, Каутский: «Этика и материалистическое понимание истории». [Конспект статьи и замечания по ее поводу опущены. – Е. Ч.]
Только что вышел скандал с хозяином. Требует денег: у нас нету. Бедная Маша наговорила ему грубостей, лишь бы оттянуть до завтра. Завтра у нас будут: Руманов выхлопотал в «Биржевых».
Я прочел ровно половину книжки Каутского. Теперь дочитаю до главы и брошу.
Как луч между тучей и тучей По лику речному бежит, Доколе не сгинет, – летучий, — Завистливой Ночью обвит, Завистливой к сердцу живому, Что так непокорно поет И неба ночного истому, И радость чернеющих вод. И небу и ветру ночному Приветы темнеющих вод…Переводил Суинборна. Но придется бросить. Трудность не по мне. Мне рецензировать марксистские брошюры. Сегодня никуда не выходил. И завтра не выйду. Покуда не напишу рецензий в «Вестник Европы».
Ночью уже позвонил Руманов. Отчего-то приходят в голову стихи:
О, каждого невежды ученик И каждого ученого учитель, К вратам познания ты ревностно приник, Но Мудрости хранитель Тебя не пропустил – и ты главой поник.20-е июня. Только что встал.
Вспомнил старое свое стихотворение*:
… И промолвил Саади, лукавый пророк: «Если солнце восходит, иди на восток; Если солнце заходит, на запад иди — Будет солнце всегда пред тобой впереди!» О, ты лжешь нам Саади, лукавый пророк! Если, солнце любя и о солнце скорбя, Ты за солнцем пойдешь без путей, без дорог, — И на западе солнце взойдет для тебя, И от запада солнце пойдет на восток!Еще 2–3 странички Каутского нарочно оставляю на завтра.
24 июня. Приходят бессвязные строки:
Отдадим в солдаты Хватов депутатов. Для такой палаты Хватит казематов. И потом обратился к Аладьину: А тебя раздавлю я, как гадину*.Очень нездоровится. Встал рано – с тяжелой головой. Нужно кончать мои писания. Третьего дня был у Ляцкого. Он рассказал мне смешную историю: Государю понравилась последняя хроника «Вестника Европы». Он запросил чрез канцелярию у Ляцкого – кто писал. Ляцкий ответил, что без разрешения автора не вправе ответить. А хронику писал Кузьмин-Караваев. Как получил он от Ляцкого запрос, можно ли открыть его фамилию Государю – прибежал бегом из Думы к Ляцкому, – рад чрезвычайно – тем или иным путем хочется человеку быть министром.
Третьего дня Маша снесла в «Ниву» стихи. Сегодня ответ. Если приняты – перебьемся как-нибудь. Главное – закончить эту дурацкую статью о Каутском. Отчего-то застряла в зубах – ни туда ни сюда. – Кончил после получасовой работы. Теперь переписать. Боюсь. Вчера нигде не был – целый день работал, сегодня тоже буду работать. Вообще эту неделю я просиживаю у письменного стола с утра до ночи. Маша спит в соседней комнате. А то бы я давно надел пиджак и послал Нину за газетой. Переделаю свою статью о Розанове – для «Страны»*. Она была принята для Думы, набрана – а Дума и лопнула.
В Лондон тянет страшно. Когда за окном кричат разносчики, мне все кажется, что это – строо-берри![122] Вот сейчас идет дождь – а напротив меня красный, облупленный дом, – ну даже запах вспоминается лондонский. А запах терпентину, когда войдешь в Британский музей!
4 июля. Сижу в Бологом у Ольги Николаевны. Уже четвертый день мы здесь. Очень, очень хорошо, а мне сильно нездоровится. Читаю Н. Бельтова «Критика наших критиков»* – и так рад, что не приходится думать о завтрашнем обеде, о завтрашнем взносе за квартиру. Книга Бельтова производит странное впечатление. Она очень неровная. Это статьи разного времени и для разных читателей. Их бы следовало переделать, а то странно, например, когда встречаешь в книге, изданной в 1906 г., такие строки: «Школа Маркса и у нас имела своих последователей. Книга Н. Зибера “Очерки первобытной экономической культуры” очень пригодилась бы Л. И. Мечникову в его исследованиях» (стр. 293). Дух книги ужасно неприятный: в полемике Бельтов груб и заносчив (например, стр. 137), во всех своих утверждениях самоуверен и поверхностен. Встречаются полемические выпады против г. Михайловского и против народников – которые в этом издании являются анахронизмом… Для разных аудиторий написана эта пестрая книга: стр. 282 – для детей.
5 июля. На случай, если я захочу заняться в Англии вопросом о прислуге, – вот источники: Бельтов, стр. 68–69.
10 июля. Ольга Николаевна – именинница. После двух дождливых дней – солнце. Мы совершенно потеряли здесь всякую власть над своими мыслями, сейчас сошлись на мостике и давай петь все, что в голову придет. Дошли до того, что если бы кто подслушал, подумал бы, что мы сумасшедшие. Ольга Николаевна надела свое пестрое платье, я – в высоком воротничке, Машка тоже вся в светлом, а Зверь увесил свой жилет массивной цепью – все мы ждем Фаворского, странного врача, который забросил практику, обратился в мужика, купил именьице и уже 15 лет живет в этом гнилом месте, получая «Новое Время» и сожительствуя с какой-то деревенской бабой. Я сейчас возился в трех лодках, подбрасывал палку, а теперь корплю наверху над своей рецензией на книгу Бельтова. Только что пришел Фаворский и принес страшное известие, что Дума распущена. У меня голова кружится, ноги меня не держат. Что будет? Что будет? Боже мой.
24 июля (или 23?). На новой квартире. «Нива» дала авансу. Маша купила мебель. Сняли 3 комнаты. А заплатить нечем. Взял подряд с «Нивы» написать об Омулевском и теперь читаю этого идиота. Тоска. Перевожу Джекобса, – а зачем, не знаю. Сегодня сдал в «Ниву» стишки. Маша дребезжит новой посудой, я заперся у себя в комнате – и вдруг почувствовал страшную жажду – любить себя, свою молодость, свое счастье, и любить не по мелочам, не ежедневно, – а обожать, боготворить. Это наделала новая квартира, которая двумя этажами выше той, в которой мы жили в начале прошлой зимы. До слез.
[Вклеено письмо. – Е. Ч.]:
Милый Чук!
Вы меня огорчили: во-первых, Вы меня взволновали Вашим письмом, во-вторых, я, вспоминая о Ваших словах, делаюсь серьезным, а я привык чудить и шалить при Вашем имени, в-третьих, я должен писать Вам, а письма я ненавижу так же, как своих кредиторов.
Вы – славный, Чук, Вы – трижды славный, и как обидно, что Вы при этом так дьявольски талантливы. Хочешь любить Вас, а должен гордиться Вами. Это осложняет отношения. Ну, баста со всем этим.
Марье Борисовне сердечный поклон.
В меня прошу верить. Я, все же, лучше своей славы.
«Прохожий и Революция» прилагаю*. Не дадите ли ее для «Биржевых»?
Засим обнимаю. А. Руманов
2–3/VI–906.
У меня точно нет молодости. Что такое свобода, я знаю только в применении к шатанию по мостовой. Впечатлений своих я не люблю и не живу ими. Вот был в Гос. Думе – и даже лень записать это в дневник. Что у Аладьина чемберленовская орхидея – вот и все, что я запомнил и полюбил как впечатление. Познакомился за зиму с Ясинским, Розановым, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, сблизился с Куприным, Дымовым, Ляцким, Чюминой, – а все-таки ничего записать не хочется.
Лучше впишу свое стихотворение, написанное 3 года назад и сегодня мною исправленное.
Средь чуждых стен приморского селенья Израильских гробниц я видел скорбный ряд. Спокойные – средь вечного смятенья, — У неумолчных вод – они молчат. Давно срослись могильные их плиты с землею кладбища, И мнится – предо мной скрижали древние, что некогда разбиты Пророком яростным у гор земли святой. О, что за вихрь вражды бесчеловечной, какие казни диких христиан Забросили Агарь за этот бесконечный, за беспощадный этот океан? Грехом безверия не искушен лукаво: «Смерть – это мир», – пророк скорбящий рек, — «Бог дал нам Смерть, ему за это слава, По Смерти жизнь не рушится вовек». Но Смерть настигла их, и темной синагоги Вовек не огласит торжественный псалом. Божественный завет, томительный и строгий, Вовек не прозвучит на языке святом. Что было раз, того не будет боле, Былым векам не возвратиться вспять. Для новых страждущих открыто жизни поле, А мертвецам вовек уже не встать. Неутолимые души своей алканья Они насытили обманом вечных грез, И злаками томленья и изгнанья, И горечью невыплаканных слез. Анафемы озлобленные крики Толкали их из края в новый край. От всех дверей, скорбящий и великий, — Отвергнут был презренный Мордохай. Но сила им дана, и нашей властью бренной Твердыни горестной никто не победит. Развеяны, как пыль во всех углах вселенной, Они тверды и крепки, как гранит. Призывы их отцов над ними властны снова, Им озаряя путь из мрака дней былых, И все великие предания былого В веках грядущего отражены для них. Что было раз – того не будет боле. Реке времен не возвратиться вспять. Иным бойцам открыто жизни поле, А мертвецам вовек уже не встать.И еще одно, особенно мне дорогое:
В печке огонь веселился, где-то дверьми зашумели, Задумчиво глядя, молчали вокруг зеркала. Снега пышного песни за окошком неслышно звенели, Ты куда-то на миг уходила и снова пришла. За окном проходили ненужные люди. В улице беспомощно за огоньки И плакал я весело – о счастьи, о Боге, о чуде У белой, холодной руки.Однако нужно приниматься за Омулевского. Про него я хочу сказать, что он художник, придавленный тенденцией. Любят в нем тенденцию, но теперь, когда для таких подпольных тенденций время прошло, – нужно проверить Омулевского со стороны искусства*. И он сам был неправ, когда писал в стихах, – а что, я еще не знаю…
3 августа. За Омулевского получил в «Ниве» 100 р. – истратил. Работал с ног до головы. На пальце от писания мозоль выскочил. Перевел Джекобса, написал стихи, теперь нужно за Траубеля браться.
Сейчас у нас Дина (беременная) и Кармен. У Ольги Николаевны операция сошла хорошо.
Спасаюсь от самого себя работой.
Снова примусь за работу, – вот только запишу сегодняшнее стихотворение.
В небе ли светлая полночь таится, В сердце ль моем? Небо в бреду разметалось и бледными снами томится, Сердце весенним обвито венком. Тише молчания, тише лесной тишины Эти томные стоны весны. Все словно светлую тайну, заветную тайну узнали, Словно приветная весть прозвучала для всех. Девушки в сумраке окон грезят о светлой печали, И всех осеняет какой-то бесстрастный, какой-то безрадостный грех. Девушки белых ночей! Как вы тревожно красивы, Чуда вы ждете, весеннего чуда, и чудо придет. Меркнущих улиц влекут, и пьянят, и томятся извивы, В небе и в сердце весенняя полночь, как белая чайка, плывет.Не знаю числа. Из «Нивы» возвратили мой перевод, над которым я работал 10 дней, не разгибаясь, и за который надеялся получить 200–250 р. У меня от нервов разболелись зубы, и я всю ночь почти не спал. Теперь перевел из Браунинга вот что:
Там, где тает, улыбаясь, вечер синий…*13 августа. Воспоминания Пассек*. Пасьянсы, люстры, парики, Плениры и Темиры, письмовник Курганова, фальконет, муромские сальные свечи, альбомы, куда вписывались такие строки:
Ручей два древа разделяет, Судьба два сердца разлучает.Девицы плакали над стихами.
Сентябрь, 5. Маша говорит: слава Богу, ты не болый и не госый.
1907
Январь, 6. У нас Маруся. Вон ворочается на диване.
Июль, 16. («Русское Богатство» (Дионео), 1907, 8–9).
Самоцель помогает (и единственно делает возможным) существование идеологий. Ибо каждая эпоха идеи своего времени представляет себе незыблемыми для всех времен и народов – раз навсегда данными – это представление и делает из комплекса идей идеологию.
Мы на даче в Финляндии. За стеной Ценский. Дождь. Читаю Дионео о Томсоне. Андреев, Рославлев, чушки. В окна видны сосны.
Июль, 17. Самый несчастный изо всех проведенных мною дней. Утром получил письмо от ростовщика Саксаганского с оскорблениями, которых не заслужил. О Чехове Миролюбову не написал. В «Речи» нет моего фельетона о короткомыслии. Встретил Пильского, которого презираю. Был непонятно зачем у Леонида Андреева. С ним к Федоровым. Потом через болото ночью домой. Бессонница. Теперь один час ночи. Даже Чехов не радует меня. Что сказать о нем в журнале Миролюбова?
О Чехове говорят как о ненавистнике жизни, пессимисте, брюзге. Клевета. Самый мрачный из его рассказов гармоничен. Его мир изящен, закончен, женственно очарователен. «Гусев» законченнее всего, что писал Толстой. Чехов самый стройный, самый музыкальный изо всех. «Гусев» – ведь даже не верится, чтобы такой клочок бумаги мог вместить и т. д. Завтра пойду куплю или выпишу Томсона и Мережковского. Нужно посетить Аничкова: он заказывает мне статью о русской поэзии 80-х годов.
С послезавтрева решаю работать так: утром чтение до часу. С часу до обеда прогулки. После обеда работа до шести. Потом прогулка до 10 – и спать. Потом еще: нужно стараться видеть возможно меньше людей и читать возможно меньше разнообразных книг. Своими последними статьями в «Речи» я более доволен: о Чехове, о короткомыслии, о Каменском*. Дельные статьи. Но предыдущие были плохи, и нужно стараться их загладить. Сегодня я написал две рецензии о книге Шестова и о «Белых ночах»*.
22 июля. Вчера Коленька долго смотрел из моего окна на сосну и сказал: «Шишки на дерево полезли как-то». Он привык видеть их на земле. Сегодня воскресение. Вчера напечатан мой фельетон в «Речи» – «О короткомыслии». Словно не мой, а чужой чей-то. Программу свою начинаю понемногу выполнять.
29 августа. – Жила-была Зиночка, и ее съела корова. – Корова не ест девочек, а только траву. – Не траву, а сено. – Сено – это трава. – Нет, трава синяя, а сено белое.
Вот какой прерафаэлит: плита варится. Много муравей лазают и камурашек.
Бабочки – трусишки, они большие, только трусишки. Они улетают: они думают, что люди – волк. Они другого не боятся. Шишки на дерево полезли как-то.
– Вот, папа, человечек. – Фу, нет, какой же это человек? – Ну, тогда я палку сделаю.
9 сентября. Сейчас у меня был И. Е. Репин. Он очень вежлив, борода седоватая, и, чего не ожидал по портретам, борода переходит в усы. Прост. Чуть пришел, взобрался на диван, с ногами, взял портрет Брюсова работы Врубеля*. – Хорошо, хорошо, так это и есть Брюсов? – Сомова портрет Иванова. – Хорошо, хорошо, так это и есть Иванов? – Про Бакстов портрет Белого сказал: старательно. Смотрел гравюры Байроновых портретов: вот пошлость, шаблонно. Карикатуру Любимова на меня одобрил. Сел, и мы заговорили про Россетти (академичен), про Леонида Андреева: – «Красный смех» – это все безумие современной войны. Губернатор – это Толстой, Гоголь и Андреев сразу. – Про С. Маковского: – Стихи хорошие, а критика – с чужого голоса, слова неосязательны. – Я ему показал его работы Алексея Толстого. Он говорит: – Это после смерти поэта. Под впечатлением. Какой-то негодяй заретушевал – ужасно! – Потом внизу пили чай; груши, сливы, Тановы дети. Колька пищал. Я говорил о Уотсе: дожил до 90 лет. Видимо обрадовался. Я сказал, что Уотс работал до 90. Забыл пальто наверху – взбежал наверх, – чтобы на него не смотрели, как на старика. Я проводил его до калитки – ушел, старик, сгорбившись, в крылатке.
Был утром у Андреева. У него запой. Только приехал в СПб. – сейчас же запил. Сына своего не видит – ходит и на головную боль жалуется. Квартира большая, пуста, окна высокие, он кажется сам меньше обычного роста – и жалкий. Ходит, грудь вперед, не переставая. Я прочитал ему письмо Мошина. – «Да, это патетично». Какая-то примиренность в нем, будто он старик: «я, – говорит, – простудился». Я в пальто графа Толстого, он помогал мне одеться и смеется: зато рукава короткие.
Октября, 21. Сегодня проснулся – все бело. И настроение, как о Рождестве в молодости. Вчера с Таном по обыкновению копал песок на речке; копаю затем, чтобы отвести русло, строю неимоверные плотины, кто-то их ломает, я опять строю. Уже больше месяца. Пришел, лег спать. Потом читал с Машей Овсянико-Куликовского о Достоевском – пресно. После чтения долго лежал. Думал о своей книге про самоцель. Напишу ли я ее – эту единственную книгу моей жизни? Я задумал ее в 17 лет, и мне казалось, что чуть я ее напишу – и Дарвин, и Маркс, и Шопенгауэр – все будут опровергнуты. Теперь я не верю в свою способность даже Чулкова опровергнуть и только притворяюсь, что высказываю мнение, а какие у меня мнения?
Репин за это время вышел из Академии*, был у Толстого и в Крыму и возвратился. Я был у него в среду. Неприятно. Был у него какой-то генерал, говорил о жидах, разграбленных имениях, бедных помещиках. Репин поддакивал. Показывал снимки с Толстого: граф с графиней – жалкий. Она, как его импресарио: «живой, говорящий Лев Толстой». Рассказывал Репин, как Толстой читал Куприна «Смена» и плакал при печальных эпизодах*. У Толстого мужики «экспроприировали» дубы. Графиня позвала стражников. Толстой взволновался, заплакал и сказал: я уйду. Этого не знает общество, и гнусные газетчики бранят Толстого. Узнал о смерти Зиновьевой-Аннибал. Огорчился очень. Она была хорошая, нелепая, верблюдообразная женщина. В октябре я написал статьи о Репине, о Мережковском, о Зайцеве*. Работал над ними целые дни и доволен ими больше, чем иным. Мама моя скоро приезжает.
25 октября, четверг. «А я печке делаю массаж», – говорит Колька. Я только что возвратился из города. Вчера утром отвозил фельетон о Дымове*. Мороз, а я был в легком пальто. К отцу Петрову. Не застал. Человек писал каталог. Сытин ждал у окна. Я разговорился – не зная, что Сытин. В 2 ч. пошел к Андрееву, – в Москве. Пришел к Петрову опять, завтракал, сладких пирогов изобилие, его жена курсистка.
Разговор о Будищеве, тот написал рассказ о сухой беременности мужика, о Божьей Матери Девятая Пятница и т. д… У Петрова масса книг – и все неразрезанные. От Петрова к Блоку: он в белом шиллеровском воротнике, порядок в квартире образцовейший. Я ему, видимо, не нравлюсь, но он дружествен. О Владимире Соловьеве, Пильском, Полонском, Андрееве. От Блока в «Биржевые». Из «Биржевых» к Василевскому – в электричке. Он рад. Я взял 30 рублей – и к Чюминой. Чюмина хнычет, работает бездну и о Ходском говорит уже без энтузиазма. Ей ее юбилей обошелся в круглую сумму. Ходский выклянчил у Зверя деньги. Она плакала, и звала себя кошкой, и, потупляя глаза, говорила шепотом, что она непрактичная, не умеет пристроиться, что она ездит на перевязку, чтобы сберечь 1 ½ рубля. Я дал ей пять рублей.
Ночью у меня бессонница. Думал о смерти. Все мне кажется, что я в Куоккала этой зимой умру. (Месяца 2 назад был я у Куприна. У него тогда родилась дочь от Елисаветы Морицовны. Он говорит: больше я ее не трону. Нужно ее пожалеть: узкий таз. Буду находить женщин на стороне. А ее пожалеть надо…) На вечере в «Шиповнике». Долго говорил с Андреевым. «О семи повешенных». «Цыганок* – это я. Я тоже орловский. Если бы меня вешали, я бы совсем был, как Цыганок». Я решил непременно уехать за границу. Для этого хочу овладеть английским в совершенстве (разговором) и беру учителя. До сих пор я обходился сам.
Оказывается, я женил Андреева на Денисевич. Я познакомил Толю Денисевич с Андреевым, а Толя – с Матильдой*.
1908
28 мая. Только что вернулся от Тана. Катался в лодке. Читал ему перевод из Киплинга – по-моему, неважный. Володя его очень изменился: похорошел и смеется иначе. Очень трудно идти такую даль. Иду я мимо дачи Репина, слышу, кто-то кричит: «Дрянь такая, пошла вон!» – на всю улицу. Это Репина жена m-me Нордман. Увидела меня, устыдилась. Говорят, она чухонка. Похоже. Дура и с затеями – какой-то Манилов в юбке. На почтовой бумаге она печатает:
Настроение
Температура воды
и пр. отделы, и на каждом письме приписывает: настроение, мол, вялое, температура 7° и т. д. На зеркале, которое разбилось, она заставила Репина нарисовать канареек, чтобы скрыть трещину. Репин и канарейки! Это просто символ ее влияния на Репина. Собачья будка – и та разрисована Репиным сентиментально. Когда я сказал об этом Андрееву, он сказал: «Это что! Вы бы посмотрели, какие у них клозеты!» У них в столовой баночка с отверстием для монет, и надписано: штраф за тщеславие, скупость, вспыльчивость и т. д. Кто проштрафился, плати 2 к. Я посмотрел в баночку: 6 копеек. Говорю: «Мало же в этом доме тщеславятся, вспыливаются, скупятся», – это ей не понравилось. Она вообще в душе цирлих-манирлих, с желанием быть снаружи нараспашку. Это хорошо, когда наоборот. Она консерваторша, насквозь, и впутала меня в дело с женской типографией, которая оказалась штрейкбрехерской. Немцы Добраницкие сегодня обедали у нас. Вчера Маша взялась меня учить в крокет, я оказался бездарность.
Хочу писать о Короленке. Что меня в нем раздражает – его уравновешенность. Он все понимает. Он духовный кадет. Иначе он был бы гений.
1 июня. Ах ты, папа, «дьяволенный», – говорит Коля. Я перевожу «Рикки-Тикки-Тави». Были у нас: Санжар и ее муж. Она читала пьесу – глупую. Я уже 8-й раз купаюсь в речке. Играл с немцем в городки – обогнал его на три фигуры. Ночью смотрели, как Гущины жгут свой лесок на болоте, чтобы землю пустить под огород. Ночью дописывал свой «урок».
2 июня. Сегодня Коля бунтовал против меня: – Закрой двери! – (а он с такой досадой, как взрослый): – Ах, отчего ты не закроешь сам!
Казик про ноги своей матери: у моей больше.
3 июня. Коля не хочет умываться. Маша его бьет и выгоняет. Он стоит во дворе, глубоко задумчивый. Я беру его за руку.
– Не бери, он не умывался! – Я отпускаю руку, говорю: иди умойся. – Он на цыпленка не поглядел даже, а серьезно и печально пошел умываться, очень задумчиво и грустно.
В 40 минут 11-го я начал переводить «Рикки-Тикки». Нужно перевести 4 стр., посмотрю, сколько в час.
Идут беременные: муж и жена. В этом есть что-то глубоко неприличное.
– Рипа! Рипа! (рыба) – кричит чухонец.
– Рыба, сударыня, не прикажете ли? Сигов, лососина хорошая.
Коля заболел. Жар. Как разваренный.
Сегодня купаюсь 10-й раз и только что искупался 11-й. «Купайся, купайся! – сказал кордонный солдат. – Я ничего!»
5 июня. Купаюсь 14-й раз. Вечером буду 15-й. У Коли оказалась малярия! Вчера Машино было рождение. Очень весело, 3 сибирячки, Вася с трубой, городки, костер. Агата.
Коля вчера: – Отчего Бог держится на небе и не падает вниз? У него есть крылья? А у Бога есть жена?
Вместо «дьяволенный» («диволенный»), он говорит сокращенно: «дива» – деревяный, и даже девятый.
Жара невыносимая – сижу на вышке голый. Не рисую уже две недели. Был в городе.
6 июня. Купался 18-й раз. У Коли оказался брюшной тиф, а не малярия. Он стал, как взрослый. От Манички нет вестей. Маша сегодня при Федосии опять звала меня Меланкиным сыном.
14 августа. Маничку отправил. Был в Зоо. Рисовал (у Репина) много и без удовольствия. Прочитал всего Толстого и Короленку, написал о том и о другом. Сегодня нужно писать о Каменском в «Вечер»*. Дождь идет страшный. Вчера мы с М. гуляли в полях – очень красивая рябина, вся в гроздьях. Скатывались с Колей с горок: приятно.
Татьяна Александровна Богданович – похожа на классную даму – я у нее бывал довольно часто, и ночью вороча́лся один. Хотим издавать вместе календарь писателя в пользу Красного Креста.
18 августа. Был у меня вчера Куприн и Щербов – и это было скучно. Потом я бегал вперегонки с Шурой и Соней Богданович – и это было весело. Куприн ждал от меня чего-то веселого и освежающего – а я был уныл и ждал: скоро ли он уйдет. У Куприна ишиас в ноге. Когда мы шли к станции, он прихрамывал и пот выступил у него на лбу от напряжения. Он стал как-то старчески неуклюж. Сегодня ходил к Тану ночью – править Уэльса. Провожала меня Татьяна Александровна; с нею мы пошли на море, бурное и осенний запах; слегка напоминает Черное море. Говорили о своем календаре. Приедут какие-то дамы – комитет, – все, как у людей. Сидящий где-то во мне авантюрист очень рад всему этому. У Тана сидим, занимаемся – мимо окна какая-то фигура – Ильюшок Василевский, редактор «Образования». Расцеловались, даже вдавились губами друг в дружку. Он просил Тана дать ему статью, просил меня, мы оба обещали, но оба вряд ли дадим. Я завтра же сажусь за «Пинкертона»*. Он ушел, – оказалось, что его ждала у калитки его метресса, жена сидящего в тюрьме Рахманова, и Борский. Я распрощался с ними и пошел босиком домой – за 7–8 верст. Иду «под осенними звездами» парком – перевожу в уме стихотворение Киплинга. Узенькая аллейка – в ней как будто шпоры. Прихожу на станцию – зарево. В Белоострове пожар. Почему-то зашел на вокзал: вижу – стол, Рахманова, Василевский и Борский едят колбасу, шоколад, огурцы. Устроились на вокзале, как в трактире. Удивительное умение носить повсюду за собою трактир… Мы много посмеялись, мой вид (без шапки и босиком) вызвал общую веселость – но вот поезд – прощайте, кланяйтесь Марье Борисовне и т. д. Я пошел в дальнейший путь. Дома у нас Агата. Добраницкие и Сербулы уехали вчера.
19 авг. Надо писать о Пинкертоне. Вспомнил о Куприне. Он говорил: «Зная ваш бойкий стиль, я хочу вам предложить: давайте издавать все о России*. – Как все? – Все. – У Достоевского в «Бесах» (не в «Идиоте» ли?) сказано, что такая книга была бы прелесть. Или давайте издавать газету». – Щербов мило картавил, и хотя я ему не понравился, он мне понравился очень. От Изгоева письмо: «Короленко» принят в «Руссскую Мысль».
20 авг. Вчера был с Машей у Татьяны Александровны. Анненский привез рукопись Короленки о Толстом*. Слабо. Даже в Толстом Короленко увидал мечтателя. Если человек не мечтатель – Короленко не может полюбить его. Получил от Куприна из Гатчины книгу. Рая приехала к Агате – мне от этого только гнусно. «Я слышу райские напевы», – говорит Маша. Нужно заниматься, но как? О кинематографе – надо посетить кинематограф. А где его возьмешь в Куоккала? Читаю Бердяева; вот его свойство: 12-я страница у него всегда скучна и уныла. Это дурной знак. 10 страниц всякий легко напишет, а вот 11-ю и 12-ю труднее всего написать.
7 сентября. Видел сейчас Анненского. Он сказал, что в сапожнике Андрее Ив. в «За иконой» Короленко вывел Ангела Ив. Богдановича – тот тоже был такой сердитый. Я почти этому не верю: невозможно такой тип не списать с натуры. За это время было: Даня и Маша – ужас, муки и пр. Я сам не знал, что это так на меня подействует. Коленька сказал, увидав горку, которую не видел год: о, как эта горка стала меньше. «Глаза зеленые, влюбленные, и запах изо рта». Мы на даче у Анненкова, и у нас гостит Пане-Братцев. Агата с Машей сегодня помирились.
Я пишу о Нате Пинкертоне. – Еще Анненский сказал мне, что Глеб Успенский говаривал Короленке: «Вы бы хоть раз изменили жене, Владимир Галактионович, а то какой из вас романист!»
10 сентября. «Пинкертон» хоть вяло, но подвигается. Сейчас стоит праздничная, яркая, осенняя погода. У меня пред окном белые березки умилительные. Правил сегодня корректуру предисловия к 3-му изд. «От Чехова до наших дней»*. Вчера дал Пане-Братцеву, который живет у нас, целую кипу книг, пусть продаст, авось выручит 3 р., – и чувствую, что он на эти деньги загулял: не возвращается.
11 сентября. Из «Ната Пинкертона»: «Кабер и Точен». «Вставные зубы преступницы стучали: цок-цок. Злодей, уничтожив ее, уничтожил в ту же ночь и свою сообщницу». Был с детками Богданович на море. Ходили с Коленькой и с ними в купальную будку, далеко влево по берегу, волны, я мыл в море ноги. Коля говорит: у волн черные спинки и белые животики. Сегодня с Машей ходил в парк. Было изумительно хорошо. Коля болтал без умолку. Мы садились на скамейки, смотрели высокие сосны, видели школу, основанную Репиным, любовались кленом: он, как из золота. Сейчас мне вспомнился Арцыбашев: какой он хороший человек. Я ругал его дьявольски в статьях. Он в последний раз, когда я был у него в «Пале-Рояле», так хорошо и просто отнесся к этому*.
Из «Слова» письмо – боюсь перечесть. Я у них взял аванс в 100 р. и не дал ни строки. С «Натом» я мучаюсь страшно. 2 недели пишу первые сто строк, и впереди нет ни одной мысли.
Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во мне загорится что-нб. эмоциональное. Если б у меня была «идея», я был бы писатель. А когда нет «пафоса», я почти безграмотен, беспомощнее всех и завидую репортерам, которые связно могут написать десять строк. Прав был Рейтер, который про первые мои писания говорил: вы человек нервный, не дурак. Вы хорошо пишете, покуда есть нервы. Станете старше – или хоть каплю вылечитесь, пропало. – И теперь это сбывается. Где теперь Рейтер? Вот единственный человек, который оказал на меня хорошее влияние. Он был эпикуреец, из тех, что кончают жизнь самоубийством. Бывало, иду через всю Одессу к нему на край города в 10–11 ч., подойду к его окну – и кричу: «Сергей Сергеевич!» Появляется сонное лицо совершенно голого человека – толстенького, румяного, лет 22-х. «Сейчас». Он открывает дверь, и когда я вхожу, он уже бросается на кушетку и снова засыпает. Он был математик, но читал все и знал все. Жаботинский хотел сделать его сионистом, Рейтер сделался: он ежедневно стал пить по полбутылки палестинского вина. Играл он в шахматы а ля вегль[123] со мною – и всегда выигрывал. Мы с ним вели переписку стихами, и я помню из его «Попурри» такие строки:
Лысый, с белой бородою (Никитин) Старый русский великан (Лермонтов) С догарессой молодою (Пушкин) Упадает на диван (Некрасов).Кончается это так:
И с каким-то армянином (Некрасов) Он загладил свой позор!* (Пушкин).У него был дар особенно хорошо смеяться. Мы ходили с ним на Фонтан пешком, и, помню, он читал мне вслух по дороге Щедрина и хохотал. Толстенький. Помню, как утром, завернутый в простыню, читал мне «Quo…que tandem, Catilina»[124], – и я чувствовал себя Катилиной – и потуплял глаза.
23-е сентября. Написал о смертной казни*, – в печати так переделано, что больно смотреть. Но от Чюминой уже получил восторженное письмо. Вчера отвозил Татьяну Александровну в город: она заболела. Жар. Чувствую себя бодро и сейчас написал смешное письмо Либровичу. Уверен, что лекцию напишу хорошую, а это самое, самое главное.
5 ноября. Сажусь за работу над Ибсеном*. Раннее утро. 8-го лекция повторяется.
1) От сестры Владимира Соловьева, Allegro, слышал: Вл. Соловьев сказал ей однажды: «Ты моя жена!» Она изумилась: почему? – «Мы же на ты» (женаты). 2) Ночевал прошлую ночь у Анненских. Рылся в библиотеке. Вижу книжку Чулкова «Тайга». На ней рукою Владимира Короленки написано: «В коллекцию глупостей». Хочу записывать такие литературные мелочи, авось хоть на что-нб. пригодятся. Для них заведу в дневнике особую страницу. Книжка моя только что вышла.
ОСОБАЯ СТРАНИЦА [не датировано; 1908–09 г. – Е. Ч.]
3) Пшибышевский рассказывал мне об Ибсене. Он познакомился с Ибсеном в Христиании на каком-то балу (рауте?). Ибсен пожал ему руку и, не глядя на него, сказал: «Я никогда не слыхал вашего имени. Но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы». Пшибышевский был счастлив. Через неделю он увидел Ибсена на улице и догнал его: «Я – Пшибышевский, здравствуйте».
Ибсен пожал ему руку и сказал: «Я никогда не слыхал вашего имени, но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы».
4) Гинцбург рассказывал о Репине: у него надпись над вешалкой: «Надевайте пальто сами», в столовой табличка: «Обед в 5 час. вечера» и еще одна: «Если вы проголодались, ударьте в гонг». – В гонг я ударил, – рассказывает Гинцбург, – но ничего не вышло, тогда я пошел на кухню и попросил кусок хлеба.
5) Репин рассказывал о последних днях Гаршина. Гаршин женился на Надежде Михайловне. У Надежды Михайловны была сестра Вера. И когда мать Гаршина познакомилась с Верой, та ей понравилась. – Непременно женись на ней! – сказала она Евгению Гаршину. Тот и сам не прочь, влюбился. Стал хлопотать в консистории, чтоб сестру жены брата отдали за него. Консистория разрешила. Женился. И тут-то мать Гаршина вдруг возненавидела Веру. Пошли семейные дрязги. Впутался в это Всеволод. А мать перевела все на его жену, Надежду. Оклеветала ее и до такого дошла исступления, что вдруг стала проклинать Всеволода. Он был ужасно подавлен материнским проклятием – и при встрече с Репиным ему все это рассказал. Он пред смертью делал закупки в Гостином Дворе – собираясь на Кавказ к Ярошенкам. От Фидлера узнал, что мать Гаршина была нимфоманка – и отдавалась каждому желающему.
Кстати. Репин говорил мне, что Гаршин очень любил играть в винт и, когда бывал у жены в сухопутной таможне, – то ежевечерне предавался этой игре.
От Репина: Гаршин тоже пробовал вегетарианствовать, но после 2–3 дней бросил: очень пучит горох.
У Наталии Борисовны в речи Трубецкого пропущено. Он сказал: «Меня упрекают, что я не кончаю. Я только не кончаю, а другие скульпторы даже не начинают»*.
О. О. Грузенберг мне рассказывал, что Чехов через Елпатьевского вызвал его – и толковал о том, как бы разрушить договор с «Нивой». – Не понравился он мне: вертит и туда и сюда. И хочет и не хочет. – Что же вы хотите, начать это дело? – «Нет, не надо». – Махнул рукой… («Зачем же тогда было вызывать меня?» – удивляется Грузенберг.)
1909
20 февраля. С вечерней почты. Агата только что приехала; у нее: яйца, Бонч-Бруевич, Достоевский и книжки Антика. Я в шутку: «Левочку поцелуйте!» Она так простодушно: А вы, пожалуйста, Лидочку и Коленьку, привет Марии Борисовне. – Вечер месячный, снегу много, ветер. У нас мама. Маша поехала к Рукавишниковой. Я обложен хохлацкими книгами, читаю, и странно: начинаю думать по-хохлацки, и еще страннее: мне на хохлацком языке (как целый день начитаюсь) сны снятся; и еще страннее: те хохлацкие стихи, которые я знал с детства и которые я теперь совсем, совсем забыл, заслонил Блоками и Брюсовыми, теперь выплывают в памяти, вспоминаются, и еду на лыжах и вдруг вспомню Гулака, или Квiку, или Кулиша. И еще страннее: в характере моем выступило – в виде настроения, оттенка – какое-то хохлацкое наивничанье, простодушничание и т. д. Вот: не только душа создает язык, но и язык (отчасти) создает душу. Лидочка сегодня надела коричневое Колино пальто и не хотела даже в комнате снять его. Странно, как у нее речь развивается совсем не тем путем, что у Кольки.
Колька создавал свои слова, запоминал только некоторые, расширяя постепенно свой лексикон. Лидочка все до одного слова может выговорить приблизительно, у нее огромный лексикон – но это не слова, а как бы тени слов. Это потому, что она не творит, а повторяет вслед за другими. Сегодня получил от своего переводчика письмо: просит предисловие. На лыжах бегал с Сербулом и Сербулихой. Снег пристает к лыжам, но на обледенелых местах хорошо. Сербул съехал с горы и в темноте не заметил горки снегу, упал: мужики гоготали. Съехали 3 раза и поехали домой.
24, вторник. Сижу в Машиной комнате, читаю Шевченка. В последнем стихотворении Шевченка встретил слово «горище» – но тут (а теперь уже вечер) приехал ко мне в гости Василевский.
25 февраля. Среда. Сегодня с Василевским приключилась какая-то хворь, он лежал у меня на диване, прикрытый шубой, и только хрипел. Потом уехал. Я его с радостью проводил на станцию и нес за ним чемодан. С Машей говорил по телефону, забежал к Полонскому. Маша говорит, что сегодня вечером все решится, и я насилу себя сдерживаю, чтобы не поехать в город, к ней. Завтра утром – к телефону. О Шевченко мне писалось: я весь день присаживался, потом сразу накатал что-то такое, что страшно перечесть. Вечером – от 8 до 10 сидел со своею умною, удивительною матерью – и она мне рассказывала (превосходно, с хохлацким юмором), как Маруся и Липочка живут вместе. Липа, точь-в-точь как наша Лидочка за Колькой, повторяет все за Марусей. Все Липочкины мнения, вкусы, симпатии от Маруси. И когда они поселились вместе, оказалось, что у Липочки такой же самый портрет Шаляпина, такой же самый портрет Чехова, Достоевского, Коленьки и т. д. Даже два одинаковых календаря. И – что смешнее всего – рядом два шкапа с одинаковейшими книгами в одинаковых переплетах… Теперь вспомню о «горище», о котором говорил вчера. Горище – это чердак в доме Макри. Ход в него был из подъезда по дробинке: дверь была в потолке. В д. № 6 не было над подъездом чердака, и потому было видно небо, а в доме № 14 – можно было во время дождя «сховаться» в подъезде. Из этой двери горища свешивался канат, туда по блоку поднимали колеса. Я однажды захотел подняться по блоку, встал на один канат (узел в конце), а за другой тянул, и упал навзничь, и до сих пор помню ощущение свинцовой примочки, которую мне прикладывали. В садике, который был возле кухни гг. Макри, была верба (пушинки от нее летали по всему двору), и розы, и «бузок». Я помню змея, которого я пускал с Леней Алигараки, и как окна того двора, что выходил на Малую Арнаутскую, были заколочены досками, и как шла через двор проволока со звоночком к дворнику, и какой был большой ключ от ворот, и как смолили «перерезы» и желоба для подполья воловьих стойл, и как я читал «Энеиду» Котляревского хохлам – биндюжникам, – и как приходил дядя Даня, и как я был у Бухтеевой с Гоннором, Мочульским, и как нас учила m-lle Вадзинская, и висел календарь с якорем и матросом. Нет, мне пора и в могилу – я так стар, я столько уже видел.
26 февраля. Четверг. Сейчас еду в город проведать Машу. Очень некогда. О Шевченке расписался – и, кажется, много пустяковых слов. Это так больно: я долго готовился, изучил Шевченка, как Библию, и теперь мыслей не соберу. Сегодня бал одесских студентов. День превосходный.
27 февраля. Был вчера в городе.
Сегодня пишется о Шевченке. Боюсь перечесть. Завтра авось кончу. Сегодня Коля говорит: «Когда из зимы сделается лето». Мы с ним строили снежный домик.
1-го марта. Написал Маше письмо. Это весна: чуть повеет, так сейчас же хочется кому-то письмо написать. Я читаю Гиппиус, но что мне делать? – прочитаю конец, забываю начало – все так налетает облаками, как клубы пара. Мой «Шевченко» сегодня напечатан – кажется, плох*. Ничего, я его переделаю для книжки: Альбов, Репин, Шевченко, Ремизов, Ибсен, Толстой, Короленко, Уитман, Лонгфелло, Детские журналы, Сборники «Знания», Андреев*.
8 марта. Маша лежит у меня на диване. Я читал ей Андрея Белого, Кузмина, Шевченка – она заснула. Вчера – в «Пантеон» – 25 р.; в «Речь» Гессен, – m-me Сорина, – 45 р. Переделать ответ по поводу Шевченка*. К Кармену. Голубенькие глазки, золотистые кудряшки, розовые щечки – прежний. Он был и в Палестине, и в Константинополе, но говорить с ним не о чем. Как с гуся вода. – «Дам я, понимаешь ли, картинку!» – это на его языке называется «написать очерк». Я спрашиваю: ну что же Палестина? – «А это, понимаешь ли, пальмочка, пилигримчик и небо голубое, как бирюза». Мне стало безнадежно. У него пишущая машинка, живет он с братом, который его бреет, моет, одевает, содержит и благоговеет. У него я переделал ответ по поводу Шевченка, отнес к 10-ти часам в «Речь», – потом до 12-ти часов с ним в «Пале-Рояль», за Яблочковым, не застали, в кондитерскую, напились чаю и обратно в «Речь». В конце концов я взял его к себе, приехали мы с 1) чемоданчиком, 2) бочонком огурцов, 3) яйцами и 4) соловьевской гастрономией – в 3 часа ночи. Я отдал ему свою подушку и одеяло, он ничего. Я всю ночь дрожал и не спал, а он – храпел во всю носовую завертку. Утром в 8 ч. чай – и гонки чухон на лыжах. Интересно, но снег набирался в калоши, холодно.
Мы шли утром, и со всей Куоккалы, как на какое-то важное дело, текли чухонцы. Кармен кстати вспомнил:
На Посидонов пир веселый*.Так же шли на Марафонские игры – пробирались радостно, перекликались, по три, по четыре, как-то особенно любовно. Девушки влезли в какие-то чужие сани, помчались, другие их догонять. Как черны и угрюмы на белом снегу черные фигуры чухонцев, – помощник начальника станции, дети Поповы, Свиньина, Сербулы.
Что мне делать? У меня теперь книжный потоп. Анненский прислал свои книги – много. На столе болтаются «Вершины», «Японское искусство», «Бодрое слово» и т. д. У меня нет никакой читательской дисциплины.
20 марта. У Блинова изумительные дети. Так страшно, что они вырастут и станут другими.
– Вы сочинитель? – Да. – А ну, сочините что-нб. сию минуту!
– Лидочку вы либо нашли, либо вам аист принес.
– Я именинник 23 июля. Приходите!
– А я 25 апреля. Очень хочу, чтобы вы пришли. Приходите!
Потом постояли у калитки, и 7-летний, словно вспомнил что-то важное:
– Кланяйтесь вашей жене!
Потом, когда я уже был далеко:
– Приходите завтра, пожалуйста!
Дождь, лужи, туман. Коля поехал с бабой и мамой в Зоологический сад. Изо всех газет сыплются на меня плевки. Вчера у Жаботинских. Потом ехали вместе с Машей домой. На площадке. Поцелуи. Тащили домой под луною корзины.
Коля:
– А Бог богатый? Божица – жена Бога.
Обсуждались проекты, как сделать крокодила умнее. Коля говорит:
– Пускай крокодила родят люди, вот он и будет умнее.
9 апреля. Копаю снег, читаю Гаршина. Третьего дня еще шел снег, а сегодня и вчера – гром, весна, весенний ветерок, лужи. В Гаршине покуда открыл одну только черту, никем не подмеченную: точность, отчетливость. Еду сегодня в Питер на реферат Тана.
15 апреля. Вчера забрал детишек Блинова и двух девочек Поповых и бегал с ними под солнцем весь день как бешеный. Костер, ловитки, жмурки – кое-где сыро, кое-где снег, но хорошо удивительно. Коленька весь день со мною. Блиновы-мальчики в меня влюблены. Я как-то при них сказал, что женился в 19 лет и тотчас же уехал в Англию.
Кука тотчас же сказал:
– Я тоже женюсь в 19 лет и тоже уеду в Англию.
Они пишут мне письма, дарят подарки, сегодня принесли Коле краски. Коленька даже побледнел от радости. Когда мне Марья Борисовна крикнула, чтобы я закрывал двери, Кука шепнул мне:
– А вы ее не люби́те. Зачем она на вас кричит? Вы ей говорите, будто любите, а на самом деле не люби́те.
Весна – шумят деревья, тучи округлились, укоротились.
Перечел Гаршина, составил гороскоп, есть интересные мысли, но писать не хочется. На небосклоне нынешнего дня дурак Полонский и пошляк Ашкинази.
30 апреля. Ночь. Вернулся из города. У Мережковских: читал свою статью о Гаршине*: слезы. До чего я изнервничался. К Гессену: 100 р. С Гумилевым к Яблочкову; – с Яблочковым обедать, к Вольфу и в кинематограф. Был у Фидлера. – Кука считает слово «черт» неприличным.
– К. И., кого вы больше любите, Лермонтова или же бы Пушкина?
– Пушкина.
– Я тоже: у Лермонтова есть про чертей.
Весны все еще нет.
7 мая. Читаю впервые «Идиота» Достоевского. И для меня ясно, что Мышкин – Христос. Эпизод с Мари – есть рассказ о Марии Магдалине. Любит детей. Проповедует. Князь из захудалого, но древнего рода. Придерживается равенства (с швейцаром). Говорит о казнях: не убий.
8 мая. Сегодня шел снег, у меня на вышке (на новой даче) было изрядно холодно. Тем не менее я доволен. Вчера и сегодня я целые дни – с 7 час. утра до 11 ч. вечера работаю, – и как это чудно, что у меня есть вышка. Теперь я понял причину своей нерадивости у Анненкова. Там я был на одном уровне с Машей, детьми, прислугой, и вечно мелькали люди, – и я первый ассимилируюсь с окружающим. Здесь же меня осеняет такое «счастье работы», какого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина – свою о нем статью – и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать – и на ночь буду читать «Идиота». Есть ли кто счастливее меня? Слава Тебе, Боже мой! Слава Тебе!
9 мая. Тоже весь день работал. Ходил с Коленькой на море. Заблудился немного. Оршеры приехали. Она, в летней шляпке, с мамкой, с самоваром в салфетке и ламповым колпаком, зашла по дороге к нам. Маша была у нее. Холод анафемский. У меня во дворе руки до того замерзают, что потом писать не могу. Собираю палки.
Достоевский, несомненно, вывел в «Идиоте» Христа. Коля воскликнул недаром: давай жить втроем. Ведь это же восклицание Петра на Фаворе. И вообще Коля – это Петр князя Мышкина.
Снег сегодня раз пять принимался идти. Даже белая ночь сейчас черна, как чернила. Как я рад, что кончилась эта дикая полоса:
От почты до почты живу я, От почты до почты я жду. И с почты, тоскуя, ревнуя, За нею влюбленный иду.Если у меня на вышке не будет очень жарко, я черт знает сколько наработаю за лето!
10 мая. Моя идиллия трещит по всем швам. Во-первых, потому, что приехали Василевские, Ольдоры, объявился Михайлович, Яблочков, Осипович – и отняли весь день, а во-вторых, оттого, что нужны деньги и нужно ехать в город и для этого комкать свою статью о Гаршине. Этой статьи я никогда не забуду. Раньше я написал ее для себя, – прочитал Мережковским, оказалось: слабовата. Тогда я переделал ее для «Речи». Не подошла. И вот теперь я третий раз заново пишу один печатный лист – и если включить сюда месяц подготовки, то выйдет, что я дней 45–50 томлюсь над одной, довольно незамысловатой, статейкой.
Сегодня хорошо играли в свинки.
11 мая. Больше переделываю, чем пишу. Жарко. Окно мое открыто. У Маши была истерика. Все не может успокоиться после смерти отца. Внизу, в одной сорочке, у зеркала сидела – вдруг вспомнила – и у-у-у…
2 июня. Были с Машей третьего дня у Андреева. Интересно, как женился Андреев. Я познакомил его с Толей Денисевич. Он сделал ей предложение. Она отказала. Тогда он сделал предложение ее сестре. Перед этим он предлагал Вере Евгеньевне Копельман бросить мужа. Вообще: у него раньше была дача, а потом для дачи он достал себе жену. Эту его новую жену никто терпеть не может, все бойкотируют. Прислуга сменяется феноменально часто.
Андреев говорил обо мне: – Вы нужны потому, что вы показываете у всякого стула его донышко. Мы и не подозревали, что у стула бывает дно, а вы показываете. Но с вами часто случается то, что случилось с одним героем у Эдгара По: он снимал человека с прыщиком, а вышел прыщик с человеком.
Читаю «Яму» Куприна* и Дарвина.
17 июля. Не сердитесь на меня [нрзб.] за тон, сегодня я последний из последних, и ничего не знаю, и сам на себя сержусь. Вы обо мне пишете, как о писателе, и даже, пожалуй, хорошем. Но, милая, ведь это неверно, ведь я еще ни одной строчки не написал и не напишу, и не хочу написать, – т. е. очень хочу, но до того знаю, что не напишу, что уж даже и не хочу. Я только притворяюсь перед другими, будто я «писатель» и будто «Чуковский» – это что-то такое. Но пред собою, пред своими зачем же я стану притворяться!
Снова дней пять я пишу о Гаршине.
31 июля.
– Папа, что такое век?
– Кто тебе сказал?
– Так, я знаю…
– Люди умирают, папа?
– Да.
– Почему?
– Так Бог сделал, чтобы мы умирали.
– А сам, небось, никогда не умирает!
Декабрь 18. Опять у Анненкова, пишу коротышку об Арцыбашеве*.
1910
Январь, 11. Чувствую себя хорошо. Вчера была луна – у Ильи Ефимовича затевают Народный Дом – урра! – пили – я предложил вечер сатириконцев – урра! – Василий Николаевич пел свое: Васька Щиголек, учительница сияет: есть корреспонденция о бароне, – потом Репины нас проводили – потом на санях – и потом мы с Машей обратно на море – под луной – на лыжах. Она встала на мои лыжи – и несмотря на 5 месяцев беременности – носилась по морю с полчаса. – Я после возбуждения почти не спал и теперь пишу это в без 10 минут 6 часов.
И. Е. говорил со мною о стихах К. Р. – «прелесть», о Г. Г. Мясоедове – «дрянь», о Бодаревском, об Эберлинге: его ученик, пан поляк, однажды искры, и т. д., и т. д. Сейчас буду править корректуру Сологуба*.
23 января. Вас. Ив. Немирович-Данченко был у меня сегодня и рассказывал между прочим про Чехова; он встретился с Чеховым в Ницце: Чехов отвечал на все письма, какие только он получал.
– Почему? – спросил Василий Иванович.
– А видите ли, был у нас учитель в Таганроге, которого я очень любил, и однажды я протянул ему руку, а он (не заметил) и не ответил на рукопожатье. И мне так больно было.
Вечером у Репиных. И. Е. говорил, что гений часто не понимает сам себя.
8 февраля. Ночь. Вчера болтался в городе: читал в Новом Театре о Чехове, без успеха и без аппетита. Был у Розанова: меня зовут в «Новое Время». Не хочется даже думать об этом. С Розановым на прощание расцеловался. Говорили: о Шперке, о том, что в книге Розанова 27 мест выбрасывается цензором, о Михайловском (оказывается, Розанов не знает, что Михайловский написал «Что такое прогресс?», «Борьба за индивидуальность» и т. д.). Познакомился там с Переферковичем: низколобый еврей. Ночевал у какого-то немца, Кайзера по фамилии.
Утром вчера у Немировича-Данченко: говорил, как Чехов боялся смерти и вечно твердил: когда я помру, вы… и т. д. Много водок, много книг, много японских картин, в ванной штук сорок бутылок от одеколону – множественность и пустопорожняя пышность – черта Немировича-Данченко. Даже фамилья у него двойная. Странный темперамент: умножать все вокруг себя. От Немировича в театр: там какие-то люди, которые хотели меня видеть, и в том числе Розенфельд: нужно предисловие к книге его жены. Оттуда в «Мир», оттуда к Альбову. Взял Альбова в ресторан «Москва» – он задыхается. Очарование чистоты и литературного благородства… Он терзается уж который год, что не может написать ни строки. «Что так-то небо коптить?» Замыслил теперь вещь – деньги на исходе – больной старик скоро останется без копейки. Спрашивает, не могу ли я свести его с «Шиповником». Это патетично. У меня даже «слезы были на глазах», когда он говорил об этом. Он не ноет, не скулит, он не кокетничает тоскою, но выходит оттого ужаснее. Вспоминал: как студентом, уже автором «Дня итога», в день казни Кибальчича («я все их рожи близко видел») зашел к бляди и как она спрашивала, за что их казнили, и сочувствовала революционерам. Мне бы лет 20 назад написать «Яму», а теперь, после Куприна, его уже не тянет. Вспоминал о монастыре Валаам, куда ездил с отцом лет 11-ти, о молчальнике, с которым накануне молчания приехала поговорить в последний раз семья, о кающемся купце, который для подвига – вымостил один дорогу от монастыря к морю, и т. д. «Отец его – дьякон. Здесь Чехов познакомился с Ив. Щегловым», – сказал он, уходя из ресторана. Кстати, мне понравилось: Андреев меня называет Иуда из Териок – Иуда Истериок.
От Альбова опять в «Мир» – застал мать издателя, старуху Богушевскую. Она мне сию же минуту с бацу рассказала, что ее сын издает журнал, т. к. его жена умерла, а ребенок родился идиотом, «вы не хотите ли денег, возьмите, пожалуйста, вы такой милый, сын мне доверил кассу, я и даю, кто ни попросит». Я отказался – но все мне казалось, как из романа какого-нб. За один только год у этих Богушевских 40 тысяч дефициту. Ослы неимоверные. От них – к проф. Погодину – дурак, каких мало: говорун, хвастун – жена его, блондинка, с улыбками, комнаты низенькие, сын худосочный, почему-то с медалью. Оттуда на лекцию Шестова – и в 1 час ночи домой. Лекция Шестова томительна и бездарно прочитана.
10 февраля. Сейчас был у меня в гостях Григорий Петров. Приехал из Выборга. В кацавейке и синих, каких-то жандармских, штанах. Позавтракали вместе. Голова седая стала, как у Станиславского. Пошли к Репину. Там постылая Яворская, Майская, Семенов, жидок-студентик, Булла. Я дурацки делал фокусы на лыжах. Вдруг приносят известие, что Ком[м]иссаржевская умерла. Толстый профессор Каль читает из «Биржевых». Я почему-то разревелся. Илья Еф. не заметил, что я реву, – и говорит:
– Немудрено и умереть. Вот если так, как Чуковский сегодня на лыжах…
Потом заметил, сконфузился и вышел из комнаты.
Сейчас читаю «Ключи счастья» Вербицкой. Жду, не придет ли от Репина Петров.
20 апреля. Репин в 3 сеанса написал мой портрет. Он рассказывал мне много интересного. Например, как Александр II посетил мастерскую Антокольского, где был «Иоанн Грозный». Пришел, взглянул на минуту, спросил:
– Какого вероисповедания?
– Еврей.
– Откуда?
– Из Вильны, Ваше Величество.
– По месту и кличка.
И вышел из комнаты. Больше ни звука.
Рассказывал о Мусоргском. Стасов хлопотал, чтобы Мусоргского поместили в Военном госпитале. Но ведь Мусоргский – не военный. Назовите его денщиком. И когда И. Е. пришел в госпиталь писать портрет композитора – над ним была табличка: «Денщик».
Вчера И. Е. был у нас. Какая у него стала память. Забывает, что было вчера. Гессен ему очевидно не понравился. И. Е. показывал нам свою картину «18 октября», где он хочет представить апофеоз революции, а Гессен посмотрел на картину и сказал: «Вот почему не удалась русская революция» – ведь это же карикатура на русскую революцию.
24 апр. Весна ранняя – необыкновенно хороша. Уже береза вся в листьях, я третий день – босиком, детки вчера тоже щеголяли без обуви. На душе – хорошо, ни о чем не думаю. Вчера изнуряли меня: Лидия Николаевна, Анненкова, Иванова, Пуни, – отняли полдня. Нужно от них отгородиться. Решено: на почту не хожу, и вставши – сейчас за стол.
Кука рассказывает: Коля сказал: папа, купи мне зай… – потом шлеп по колено в воду – и докончил:
– ца!
Ах, да. Когда И. Е. меня писал, он рассказал мне забавный анекдот об Аполлинарии Васнецове: тот, вятчанин, никогда не видал апельсинов. И вот в СПб. (или в Москве?), увидавши, как другие едят, он купил десяток с лотка; очистил один – видит, красный, подумал, что порченый, и выбросил прочь, другой – тоже, и, в конце концов, выбросил все. Потом обнаружилось, что то были «мандаринки».
Сегодня приехала Олдорша с нянькой, Надюшей и Бертой. Дождь. У нас обедал Анненков и Лидия Николаевна. Пиво и белое вино.
29 апреля. Коля лежит у меня в комнате и вдруг:
– Папа, я думаю, что из обезьян делается человек. Обезьяна страшно похожа на человека, только бороды у нее нету.
Коля сегодня за ужином с Егоркой об чем-то разговаривал. Егорка безбожно лгал. Я сказал: смотри, Егорка, не ври, Бог накажет.
Коля: – Но ведь же сам так и сделал, что человек врет… Сам делает и сам наказывает…
Детерминизм и свобода воли… Если б я сам не слыхал, не поверил бы. Егоркин папа – повар. Он с важностью говорит: 20 р. в месяц получает.
Конец апреля. Лида: – Сколько на свете есть Петербургов? – Один. – А Москвов? – Тоже одна. – Каждой станции по одной.
19 мая. Был у Репина: среда. Он зол как черт. Бенуашка*, Филосошка! За столом так и говорит: «Но ведь он бездарен, эта дрянь Филосошка!» Это по поводу письма Философова, где выражается сочувствие Бенуа (в «Речи»). Я возражал, он махал рукою. Художник Булатов играл на гитаре и гнусно пел. Дождь, туман. У меня ящерица и уж: привез к Колиным именинам. Работы гибель – и работа радостная. Писать о Уитмене и исправлять старые статьи. Продал книгу в «Шиповник». Маша не сегодня завтра родит. Настроение бодрое: покончил с Ремизовым, возьмусь за Андреева. После Андреева Горький: по поводу «Городка Окурова» хочу статью подробную писать. После Горького – Ценский – и тогда за Уитмена и за Шевченка – в июле. Шевченко войдет в критическую книгу, а Уитмен отдельно*. Весь июль буду писать длинные статьи, а июнь писать фельетоны. 10 же дней мая, о, переделывать, подчищать – превосходно. И потом в литературном обществе лекцию о Шевченко. Идеально! Сегодня читал Псалтырь.
Июнь который-то. Должно быть, 20-й. Оля Ямпольская – таланты приживалки. Унылая скульпторша. Полипсковский вчера приехал с женою. Жена – демонстративно прозаична. Все женщины прозаичны, но они это скрывают, а она даже и не знает, что нужно скрывать. Груба, громка, стара… Он говорит напряженно; самовлюбленно, как будто горло у него сдавленное. «Офицеры» у нас, – ужас. Маша не сегодня завтра родит. Завтра с утра едет в лечебницу Герзони. Я познакомился с Короленкой: очарование. Говорил об Александре III. Тот, оказывается, прощаясь с киевским губернатором, громко сказал:
– Смотри мне, очисти Киев от жидов.
По поводу «Бытового явления». Издает его книжкой, показывал корректуру – вспомнил тут же легенду[125], что Христос в Белоруссии посетил одного мужика, хотел переночевать, крыша текла, печь не топлена, лечь было негде:
– Почему ты крыши не починишь? Почему у тебя негде лечь?
– Господи! я сегодня умру! Мне это ни к чему.
(В то время люди еще знали наперед день своей смерти.) Христос тогда это отменил.
Земские начальники, отрубные участки, Баранов, финляндский законопроект, Бурцев и все это чуждое мне, конкретное – не сходит у него с языка. О Горьком он говорил: с запасом сведений, с умением изображать народную речь, он хочет построить либо тот, либо другой силлогизм. Теперь много таких писателей, – например, Дмитриева.
Я предложил ему дать несколько строк о смертной казни, у меня зародился план – напечатать в «Речи» мнение о смертной казни Репина, Леонида Андреева, Короленки, Горького, Льва Толстого!*
Пошел с Татьяной Александровной меня провожать – пройтись. Осторожный, умеренный, благожелательный, глуховатый. Увидел, что я босиком, предложил мне свои ботинки. Штаны широкие обвисают.
Фельетон об Андрееве у меня застопорился. Сижу за столом по 7, по 8 часов и слова грамотно не могу написать.
Татьяна Александровна тревожно, покраснев, следила за нашим разговором. Как будто я держал пред Короленкою экзамен – и если выдерживал, она кивала головою, как мать.
Конфеты были Жоржа Бормана, а море – очень бурное. Белые зайцы. У меня теперь азарт – полоть морковь.
20 июня. Анатолий Каменский и его товарищ у нас. Ехал в трамвае с господином, у которого ноги попахивали. Он вынул карточку и написал: «Вам необходимо вымыть ноги и переменить чулки. Анат. Каменский». Дурак! Вечером у Короленка – Редько – пошли проводили на станцию. Говорили о спиритизме. Короленко на точке зрения Бюхнера – Молешотта. Рассказывал о проф. Тимирязеве – весельчак: проделывал тончайшие работы, напевая из оперетки. И его враг, другой профессор, живший в нижнем этаже, – всегда возмущался: как серьезный ученый может напевать. Идиллия! Склад ума у Короленка идиллический. Вчера он рассказывал о своих дочерях: как где-то в славянских землях их встретили тамошние крестьянки, разговорились и дали дочерям яиц и ягод:
– За то, что вы умеете по-нашему (по-хорватски?) говорить.
Идиллия!
24 июня. Маша уехала в город. Тайком пробралась. У меня в то время сидели Татьяна Александровна и Короленко. Короленке я чаю не дал, он говорил о Гаршине: «был похож в бобровой шапке на армянского священника». Рассказывал о Нотовиче. (Оказывается, Короленко начал в «Новостях»; был корректором, и там описал репортерски драку в Апраксином переулке.) Один корреспондент (Слово-Глаголь) прислал Нотовичу письмо: кровопийца, богатеете, денег не платите и т. д. Нотович озаглавил «Положение провинциальных работников печати» и ругательное письмо тиснул в «Новостях» как статью. – Потом я пошел с ним к Татьяне Александровне. По дороге о Луговом, после о Бальмонте, о Врубеле, о передвижниках и т. д., о Мачтете и Гольцеве.
Репин об Андрееве: это жеребец – чистокровный.
О Розанове: это баба-сплетница.
7 июля. С Короленкою к Репину. Тюлина он так и назвал настоящей фамилией: «Тюлин» – тому потом прочитали рассказ, и он выразился так:
«А я ему дал-таки самую гнусную лодку! Только он врет: баба меня в другой раз била, не в этот». Тюлин жив, а вот «бедный Макар» скончался*: его звали Захар, и он потом так и рекомендовался: «Я – сон Макара», за что ему давали пятиалтынный.
«Таким образом, если я сделал карьеру на нем, то и он сделал карьеру на мне».
У Репиных на летней террасе: m-me Федорова и Гржебин. Короленко был в ударе. Рассказал, как по Невскому его везли в ссылку четыре жандарма в карете, и люди, глядя на карету, крестились, а потом передавали его от сотского к десятскому, к заседателю и в конце концов – к бабе Оприське. У И. Е. в мастерской картина «Пушкин и Державин» сильно подвинулась вперед. Общий тон мягче: генерал (Барклай де Толли) заменен отцом, рядом с Паганини еще воспитатели, вольница заменена рыдающими запорожцами, в «Крестном ходе» – переделки.
Неделю назад у меня родился сын.
10 июля. Бессонница. Лед к голове, ноги в горячую воду. Ходил на море. И все же не заснул ни на минуту. В отчаянии исковеркал статью об Андрееве* – и, чтобы как-нб. ее закончить, прибег утром к кофеину. Что это за мерзость – писание «под» стакан кофею, под стакан крепкого чаю и т. д. Свез в город – без галстуха – так торопился, в поезде дописывал карандашом. Гессен говорит: растянуто. В редакции Клячко с неприличными анекдотами доминирует над всеми. О. Л. Д’Ор просил отвезти О. Л. Д’Орше деньги. Я взял извозчика, приехал – она у Поляковых. Там Аверченко, вялый и самодовольный. Жил с Олей Поляковой. Я с ним облобызался – и, под предлогом, удрал к Татьяне Александровне.
Короленко встретил меня радостно. О Репине. О Мультановском деле*: как страшно ему хотелось спать, тут дочь у него при смерти – тут это дело – и бессонница. Пять дней не сомкнул глаз.
«В 80-х гг. безвременья – я увидел, что “общей идеи” у меня нет, и решил сделаться партизаном, всюду, где человек обижен, вступаться и т. д. – сделался корреспондентом – удовлетворил своей потребности служения».
15 июля. Катался с Короленкою в лодке. Татьяна Александровна, Оля (Полякова), Ася и я. О Лескове: «Я был корректором в “Новостях” у Нотовича, как вдруг прошел слух, что в эту бесцензурную газету приглашен будет цензор. Я насторожился. У нас шли “Мелочи архиерейской жизни”. Вдруг входит господин чиновничьего виду.
– Позвольте мне просмотреть Лескова “Мелочи”.
– Нет, не дам.
– Но как же вы это сделаете?
– Очень просто. Скажу наборщикам: не выдавать вам оттиска.
– Но почему же?
– Потому что газета у нас бесцензурная, и цензор…
– Но ведь я не цензор, я Лесков!
Потом я встретился с ним в редакции “Русской Мысли”. Свел нас Гольцев. (Я тогда был как-то заодно с Мачтетом.) Я подошел к Лескову с искренней симпатией и начал:
– Я, правда, не согласен с вашими мнениями, но считаю ваших “Соборян”…
Он не дослушал и сразу заершился: Фу! фу! Теперь… в такое время… Нельзя же так… Ничего не понимают…
Никакого разговору не вышло.
На перемену его взглядов в сторону радикализма имела влияние какая-то евреечка-курсистка. Я видел ее в “Новостях” – приносила статьи: самодовольная».
Татьяна Александровна еще раз подтвердила, что она не боится доверять мне детей, и Короленко:
– Только не усмотрите здесь аллюзии: нас, малышей, мама совершенно спокойно отпускала купаться с сумасшедшим. Сумасшедший сидел в желтом доме, иногда его отпускали, и тогда он водил нас купаться.
20 июля. Был Андреев у Короленка: приехал часов около семи. Никакого исторического события не вышло. Нудный Елпатьевский был со своим сыном и племянником, Кулаков, – Андреев долгожданный с женою и с Николаем Николаевичем на террасе. Все смотрели на Андреева, хотели слушать Андреева, а Короленко стал рассказывать один свой рассказ за другим: о комете, о том, как он был в Сербии, и т. д. Андреев ни слова, но, очевидно, хмурый: он не любит рассказов о второстепенностях, он хотел говорить о «главном», хотел побыть с Короленкою наедине, но ничего не вышло. Рассказал Андреев анекдот, как он, подделавши голос, звонил к Николаю Дмитриевичу Телешову, якобы Боборыкин.
– Кто говорит?
– Боборыкин.
(А Телешов – он такой почтительный.)
– Что угодно, Петр Дмитриевич?
– Хочу жениться, не пойдете ли ко мне в шафера?
Потом Короленко проводил меня с Татьяной Александровной домой. Говорил о том, что ему очень понравился последний мой фельетон об Андрееве*, но главная ли здесь черта Андреева, – он не знает.
Сегодня я был с Колей и Лидой в кинематографе; потом на Асиной лодке катался с Володей, Шурой, Асей, Олей, Соней и Таней*. К берегу выбросило утопленника.
5 октября. Был вчера у Розанова. Жену его 3 дня назад хватил удар. «Она женщина простая, мы с нею теперь были за границей, и она обо многом впервые дошла своим умом – как же это Бог? – и вот приехала в СПб., ее хватил удар, и она с первого же слова:
– Это оттого, что я жила умом, а не сердцем…»
У Мережковских – ревел, обедал – иллюстрированный журнал. Сологуб в борделе.
4 ноября. Эпиграмма Кузмина на Сологуба и Чеботаревскую:
Заветам следуя де Сада, Кузьмич вступил в конкубинат. Я счастью старца очень рад, Анастасии жаль мне зада.1911
Январь. Пишу о Шевченко. Т. е. не пишу, а примериваюсь. Сегодня приедет ко мне Григорий Петров. Он был очень мил с нами, когда мы с Машей 3 дня назад отправились в Выборг. Мы покупали мебель, он – по всем мебельным магазинам, даже в тюрьму, где изделия арестантов, к немому финну – за телятиной, нес телятину за нами и т. д. Он немного пресен, банален, но он по-настоящему, совсем не банально добр – без малейшей лапидарности, – и к тому же без позы. Он мне предложил, малознакомому, 200 р., я взял у него 100 – и никаких изъявлений благодарности.
28 янв. Сейчас раздавал Мане и Нюне пряники, которые прислала им Нордман. Она всегда, когда гости (более близкие) уходят, говорит с милой и деловитой улыбкой «подождите» и выносит штук 25 пряников и раздает для передачи всем членам семейства и «сестрицам» (прислуге). Точно так же после всякого обеда она говорит: – Надеюсь, что вы достаточно голодны. – Был теперь бас Державин, Ермаков, какой-то господин, который читал свою драму: о пауке, о Пытливости и Времени. Илья Ефимович слушал-слушал и сбежал, я сбежал раньше, сидел внизу, читал. Разговор о Шаляпине – «Утро России» назвало Шаляпина хамом*. – Браво, браво! – сказал И. Е. (Это его любимое слово: горловым голосом.)
30 янв. Сижу и жду И. Е. и Нат. Борисовну. Приедут ли они? Шкаф, наконец, привезли, и я не знаю, радоваться или печалиться. Вообще все мутно в моей жизни, и я не знаю, как к чему относиться. Резких, определительных линий нет в моих чувствах. Я сейчас занят Шевченкою, но, изучив его до конца, – не знаю, как мне к нему отнестись. Я чувствую его до осязательности, голос его слышу, походку вижу и сегодня даже не спал, до того ясно чувствовал, как он в 30-х гг. ходит по Невскому, волочится за девочками и т. д. Удастся ли мне все это написать? Куоккала для меня гибель. Сейчас здесь ровная на всем пелена снегу – и я чувствую, как она на мне. Я человек конкретных идей, мне нужны образы – в уединении хорошо жить человеку логическому – а вместо образов снег. Общества у меня нет, я Репина жду, как манны небесной, но ведь Репину на все наплевать, он не гибок мыслями, и как бы он ни говорил своим горловым голосом: браво! браво! – это не помешает ему в половине 9-го сказать: – Ну, мне пора.
Получил я от Розанова письмо с требованием вернуть ему его книги. Значит, полный разрыв*.
1 апреля. Только что с Татьяной Александровной приехал ко мне Короленко дачу искать. Борода рыжеватая от лекарства против экземы. Слышит он будто туже. Об Алексее Николаевиче Толстом, с которым я его давеча познакомил: – Представлял его себе худощавым и клок волос торчком торчит. Думал, что похож на Алексея Константиновича. – Но где же у Алексея Константиновича клок? – В молодости. – Про Петрова портрет: а вот и Чириков. – Детям дал апельсины. Сломались сани, наткнувшись на столбик. Он их умело чинил. Рассказал чудесный анекдот: было это в 1889 г. Он только что обвенчал студента и девицу. Студент поехал на облучке, а он с его женой рядом. Навстречу шла ватага студентов. Когда сошли у монастыря, стали молодожены целоваться. А Короленко ищет камушков. Один студент с насмешкою: профессор, какой породы этот камушек? Короленко:
– Во-первых, я не профессор, а во-2-х, это не моя жена.
5 мая. На новой даче. Лида берет деревянную ложку – и, взбираясь по лестнице, говорит: я его сейчас науздукаю; я сижу за столом – она открывает дверь – и бац.
Пишу заметку о воздухоплавании*. Сейчас сяду переводить «Dogland»*. Маша в Художественный театр поехала вчера и не вернулась. Мой нынешний пафос – уехать куда-нб.
10 мая. Опять Walt Whitman. Вспомнил, как Короленко говорил о выражении Брюсова «миги»: очень хорошо – напоминает фиги. У нас белые мыши.
20-го мая. 93 шага от нас живет М. Н. Альбов. Ф. Ф.[Фидлер] подбил поехать на дачу – Альбов не хотел: Святловский снял с ним пополам. Последние дни кислород. В последние дни от астмы не мог спать, и ночь на сегодня без сна на кровати в осеннем пальто.
22 мая. 4 раза был у Альбова. Морфий – и все же не спал. «Леонтьич (Щеглов) едет в Кисловодск – так-то нас всех понемножку подбирают». – Песня Щеглова – «Мы еще повоюем».
Альбов: «Типун тебе на язык». [2 листа вырезано. – Е. Ч.]
16 июня, четв. Репин в воскресение рассказывал много интересного. Был у нас Философов (привез пирог, синий костюм, галстух заколотый), Редько, О. Л. Д’Ор и др. Репин говорил про Малороссию. С 15-летним Серовым он ездил там «на этюды». «Хохлы так изолгались, что и другим не верят. Я всегда являлся к попу, к духовенству, чтобы не было никаких сомнений. И никто не верил, что я на этюды, думали, что я ищу клад. Один священник слушал меня, слушал, а потом и говорит:
– Скажите, это у вас “щуп”?»
Щуп для клада – про зонтик, который втыкается в землю.
На Волге не так:
– А и трудная же у вас должность! Все по горам – все по горам (Жигули) – бедные вы, бедные – и много ли вы получаете?
Про Мусоргского – как Стасов вез его портрет из госпиталя, где Мусоргский умер, – и, чтобы не размазать, держал его над головою, и был даже рад, что все смотрят.
Я указал – как многие, кого напишет Репин, тотчас же умирают: Мусоргский, Писемский и т. д. О. Л. Д’Ор сострил: а вот Столыпину не помогло. И. Е. (как будто оправдываясь): «Зато – Плеве, Игнатьев, Победоносцев – множество».
Умер Альбов*. Все письма у Т. Богданович. Как я забрался в квартиру к Т. А. – Старший дворник выгнал.
Как Баранцевич поминал Альбова: пошли мы вместе в бардачок, взяли девочку, я полежу с нею и доволен, а Нилыч мучает ее, мучает, и так и сяк – доведет до слез, до крику. Одна горячими утюгами стала себя прижигать – до того он ее довел. – Жестокий был человек! – подхватил Фидлер.
После похорон мы собрались у Давыдки: Измайлов, Фидлер, Венгеров, Б. Б. Глинский, Баранцевич и я.
Фидлер рассказывал, что покойный последнее время читал «Исторический Вестник».
– Ах да, послушай! – говорит он Глинскому, – как он возмущался той мерзостью, которую ты напечатал.
– Какою мерзостью?
– А про юбилей Баранцевича.
– Что про юбилей Баранцевича? – вскипел Баранцевич. И т. д.
Рассказали анекдот о Немировиче-Данченко. Как он в ресторане – чуть поцелует даму, вбегает лакей. Что такое? Оказывается, над диваном был звонок. Она откинется, нажмет кнопку – и трррр!
Вообще, только анекдоты и рассказывали на этих поминках. Бедный Святловский – один так сражен этой смертью, что уехал отдыхать.
24 [20] июня. Был с Машей в Гельсингфорсе – и с Колей. Выехали 19-го. Коля: «Какие коровки маленькие, – и овечки. Вот такие». «Я все смотрю в канавки, может быть, увижу головастиков». И заклинает, чтобы скорее приехать: Гельсингфорс, Гельсингфорс, Гельсингфорс. Потом мы были на кладбище. Море – и великолепные памятники. То дождь, то солнце. Коля заметил в железном веночке – совсем низко гнездо птенчиков. Потом случилось событие. Колю переехал извозчик – он соскочил с трамвая, и мы с Машей недоглядели за ним. Маша кричала, Коля кричал, изо рта у него кровь – сбежались люди – herurgissa – неизвестно, куда везет нас извозчик – евреи заговорили по-русски – в зале много калош. Доктор молодой, никаких слов утешения, – «разденьте его» – «оденьте его» – ждал, когда я его спрошу: «is it broken?»[126] – нет, холодную воду. – М. теплыми, плачущими губами единственный поцелуй. Коля спит. М., красная, лежит на кушетке. – Сочувствие бюстной чухонской fröken: ми, шетири дами, на автомобиле. – Сошел вниз: ел omlette, у меня желтая сорочка и грязный воротничок. Потом чудо. Коля встал и пошел обеими.
М.: «положительно увидала Бога, когда это случилось. Я готова была у всех проходящих целовать ноги».
20. Были на «Зверином острове». В ресторанчике – коза, памятник. Ели простоквашу. Коля дернул маму за нос. Олень, тюлень, который делал восьмерки. Павлин. Как Коля бегал безумно по острову. Он мечтает о необитаемом острове, о нескольких необитаемых островах. На одном мы сами поселимся, а все остальные «обитаем». Когда ему примерили костюм, он сказал:
Я Шендер-Мендер, Важный господин.Обедали в Fennia. Это самый счастливый мой день.
21. М. говорит Коле: жаль, что тебя не резал хирург, узнал бы ты, что такое настоящая боль. Его умывают, он плачет. Остров Folesen.
Уезжаем в 3-м классе. Мальчик ест банан: держит в обеих руках по куску в обоих кулачках. Откусит от правого, откусит от левого. Коля в восторге. – Маша хочет снять дачу на каждой станции, мимо которых мы проезжаем. Финские фрекен, похожие на герцогинь, и финские студентки, похожие на горничных. Играли в нолики и крестики. У нас Маруся.
23. Целый день пускал змея, т. к. негде заниматься.
24. Пишу программу детского журнала*. Дело идет очень вяло. Хочется махнуть рукой!
Среда 13 июля[127]. Все еще пишу программу детского журнала. Ужас. Был у Репина. Там некто Печаткин прочитал неостроумный рассказ, где все слова начинались на з. «Знакомый закупил землю. Знакомого запоздравили». И. Е. говорил:
– Браво, браво!
Потом он же рассказал армянский и еврейский анекдот, как армянин и еврей рассказывали басню о «лисеночке и m-me вороне». Потом одна седая, с короткими ногами, декламировала о каком-то кинжале. И. Е. говорил:
– Браво, браво.
Потом фотограф Глыбовский позорно прочитал о какой-то вакханке. Репин:
– Браво, браво!
Ужасное, однако, общество у Репина. Эстетика телеграфистов и юнкеров.
1912
Май 15ое. Я уже давно совсем больной, 3-й день лежу в постели. 12-го Маргарита Федоровна уехала на голод. Я ее провожал. Виделся с Короленко. Он замучен: Пешехонов и Мякотин в тюрьме, Анненский за границей – больной, – он один читает рукописи, держит корректуры и т. д. – «А все же вот средство против бессонницы: поезжайте на велосипеде. Мне помогло. Я сломал себе ногу – меня уложили в кровать, и бессонницы прекратились». Ужасно весь захлопоченный. Телефон. – Что такое? – Владимир Галактионович, у одной рабочей увечье; она затеяла процесс; выиграла; 600 р.; адвокат себе берет гонорару 400 – помогите! – Короленко, не допивши чаю, начинает звонить ко всем адвокатам, – хлопочет, суетится – и так каждый день! – Рассказывал, как он одного спас от повешения: бегал по судьям и в конце концов 31-го декабря обратился к Гучкову – тот сделал все возможное. – Состряпал с Татьяной Александровной «Голодный номер», приложение при «Современном Слове» – и даже карту сам нарисовал. Когда Анненский был болен, он спал на полу – возле: – «Кто ни придет, наступит».
Был у Розанова. Впечатление гадкое. Рассказывал умиленно, как он свою жену сажает на судно.
Жаловался, что жиды заедают в гимназии его детей. И главное чем: симпатичностью! Дети спрашивают: – Розенблюм – еврей? – Да! – Ах, какой милый. – А Набоков? – Набоков – русский. – Сволочь! – Вот чем евреи ужасны.
Показывал монету: тысячу рублей стоит – Венера, окруженная фаллосами: покажет и поцелует. Про Гиппиус: – у нее между ногами все срослось, зарубцевалось. – Библиотеку основывает в Костроме. Показывал домик, где родился: изба. На прощание целовал, благодарил – и в тот же день поехал ко мне – через час. Но я был с m-me Шабад.
Кстати, чтобы не забыть. Еду я на извозчике, а навстречу Короленко на велосипеде. Он мне сказал: я езжу всегда потихоньку, никогда не гоняюсь; в Полтаве еще некоторые поехали, поспешили, из последних сил, а я потихоньку, а я потихоньку – и что же, приехал не позже других… Я подумал: то же и в литературе. Андреев и Горький надрывались, а Короленко потихоньку, потихоньку…
Познакомился с женой его. Ровный голос, без психологических интонаций. Душа большая, но грубая.
И. Е. Репин был у нас уже раз пять. Я у него – раз. Он пишет теперь портрет фон Битнера, Леонида Андреева и «Перед закатом» – стилизованного Толстого. Толстой, осиянный заходящим солнцем, духовная экзальтация, таяние тела, одна душа. Но боюсь безвкусицы: ветка яблони – тенденциозна, сияние аляповато. Это, как стихотворение в прозе, – кажется легко, а доступно лишь немногим. И. Е. ждет, когда зацветет у него яблоня, чтобы с натуры написать. В воскресение он позвал меня развлекать Битнера: у того очень уж неподвижное лицо.
3 июня. С М. Б., И. Е-чем и Н. Б. ходили на станцию провожать кн. Гедройца. Илья Ефимович рассказывал, как он познакомился с Л. Н. Толстым. В 70-х гг. жил он на Плющихе, а Толстые в Денежном переулке. Как-то вечером докладывают ему, что пришел кто-то. Он выходит: Лев Николаевич. Борода серая. «Я считал по портрету Крамского, что он высокий, а он приземистый: немного выше меня». Пришел познакомиться. И сейчас же заговорил, о своем, – он тогда очень мучился. Что говорил, не помню, – очень глубокое, замечательно (я только уши развесил!). Но помню, что выпил целый графин воды.
Стали мы считать, сколько портретов Толстого написал И. Е. Оказывается, десять. – Неужели я 10 портретов написал!* – удивляется И. Е.
Очень смешной эпизод вышел с И. Е. недавно: в трамвае он встретился с инспектором Царскосельского лицея. И. Е. сказал, что едет на собрание Толстовского комитета.
– А вы были знакомы с самим «стариком»? – спрашивает невежда инспектор.
– Да, немного, – скромно отвечает И. Е.
И. Е. ходит купаться. Пошел в бурю и в грозу. Ветер купальную будку поднял на воздух, когда в ней находился И. Е., и разбил в щепки, а И. Е. цел и невредим оказался на коленях. – Совсем Борки*, – говорит Н. Б.
– И за что мне слава такая? – говорит И. Е. – Вот уж скоро на том свете с меня за это много спросят.
4 июня. У Бобочки уже месяца три завелось ругательное слово: дяба (должно быть: дьявол, а м. б. бяка), и вот первая связная фраза, которую он недавно сказал:
– Боба – пай, няня – дяба.
Короленко о Верещагине: когда умер Михайловский, Короленко ехал на погребение в СПб. В одном поезде с ним – В. В. Верещагин.
– Осиротело «Русское Богатство», – сказал Короленко. – Михайловский скончался.
– Дело поправимое! – сказал Верещагин. – Возьмите моего брата.
5 июня. Вчера опять был И. Е. – у Маши на именинах. Подарил ей свой старый фотографический портрет. Говорили о литературе. И. Е., оказывается, очень обожает Чернышевского, о «Что делать?» говорит, сверкая глазами. Тургеневские «Стихотворения в прозе» ненавидит.
11 июня. Вчера И. Е. рассказывал, как умер А. А. Иванов, художник. Он как пенсионер должен был явиться к Марии Николаевне, великой княгине. Борода: сбрейте бороду. – Нет, я не сбрею. Явился он к ней в 10 утра: а, борода! – его в задние ряды: только в 4 часа она его приняла. Он был голоден, угнетен (приняла сухо), измучен – поехал куда-то на дачу (в Павловск?) к Писемскому, там напился чаю, один стакан, другой, третий – и умер от холеры. – Вчера был Иванов день. Мы с Колей и Лидой в лодке – и с Бобой.
12 июня. Сегодня годовщина со дня смерти Альбова – и в «Речи» напечатано: годовщина смерти писателя Михаила Николаевича Альбова.
Отмечаю походку Ильи Ефимовича: ни за что не пройдет первым. Долго стоит у калитки: – Нет, вы первый, пожалуйста.
14 июня. Сегодня Лидочка первый раз сказала: я сама. До сих пор она говорила о себе в мужском роде: я пошел, я сказал, я сам. А сегодня я сижу и пишу о Чарской, Лида под окном собирает колокольчики, и вдруг я слышу, она говорит девочке-подруге: я сам, я сама сосчитаю.
Сейчас был Репин. Приглашает ехать в воскресение в Териоки – в театр. Хорошо! Рассказывал о композиторе Милии Балакиреве. Репин написал его в числе других русских композиторов для «Славянского базара». Милий позировал, но даже не заинтересовался взглянуть, когда портрет был готов.
16. Утонул 3-го дня Сапунов в Териоках. Коля сидит с Джимми у глобуса – и путешествует: тра-та-та-та-та! Он очень любит географию. – А тут уже начинается лед, лед, лед, лед…
17–18–19–20. События, события и события. Мы были с И. Е. и Н. Б. и Бродским в Териоках; были в общежитии актеров – у Мейерхольда. Илья Ефимович был весел и очарователен. Попался торговец-итальянец. – А ну, И. Е., как вы по-итальянски говорите? – И. Е. пошел «козырять» и купил у итальянца ненужную цепочку. Потом купил за 10 р. для нас ложу. Потом повел нас пить кофе: – Я угощаю, я плачу за все! – Мы пошли в этот милый Териокский ресторанчик. Он стал говорить: почему я не куплю дачу, на которой живу. Я сказал: я беден, я болен. И. Е. подмигнул как-то мило и простодушно: – Я вам дам 5 или 10 тысяч, а вы мне отдадите. Я ведь кулак, вы знаете, – и всю дорогу он уговаривал меня купить эту дачу на его деньги.
– А если вы купите – и она вам разонравится, то я… беру ее себе… видите, какой я кулак!
Н. Б. горячо убеждала нас согласиться на эту сделку.
Чарская не пишется совсем. Я и так, я и сяк.
Пол наших детей определился в это лето очень ясно: Лидочка, несмотря на прекрасную погоду, прячется с девочкой Паней в душных комнатках – и пестует куклу Володечку; а Коля по глобусу ездит открывать Северный полюс. Древние наследия веков в таких новеньких экземплярах! У Бобы все новые и новые фокусы. Всем показывает нос, плюет, иба, иба, иба.
Вот он, репинский темперамент. – Вчера, 1-го июля, был день «Колоса ржи». Мы собрались у Евгении Оскаровны Нордман – крюшон, пироги, земляника – все очень хорошо – О. Л. Д’Ор беседовал с И. Е., и вдруг – я слышу, И. Е. кричит: дрянь, всякая козявка – и слушать не хочу! – не желаю, – запыхтел, заволновался – слова не дал сказать О. Л. Д’Ору и пошел прочь по тропинке – в сером новом сюртуке – с серыми волосами – с коричневым лицом к Мейерхольду. Я читал.
6 июля. Про Чарскую окончательно не пишется. Сегодня на лодке с девицами. Закончил с Колей «Товарищество Неболет». Репин в прошлое воскресение читал лекцию, которую закончил: «И Бог, заканчивая каждый день творения, – говорил: это хорошо! Великий художник хвалил свое творение!» – Многие из «вестникознаньевцев» расспрашивали меня*: как это Репин говорил о Боге? Я ответил им, что это только метафора. Но третьего дня И. Е. за столом говорит мне: «Нет, это не метафора. Я так и верю. Бог должен быть художником, потому что иначе – как объяснить ту радость и тот молитвенный восторг, который испытываешь во время творчества, – и почему бы так дорого ценилось бесполезное искусство?»
Лидочка играет с Паней в куклы.
16 августа. Сейчас иду к И. Е., он будет писать Короленко. Это по моей инициативе. Я страшно почему-то хочу, чтоб И. Е. написал Короленку. Давно пристаю к нему. Теперь, когда умер Н. Ф. Анненский, на даче Терпан, где живет Короленко (и Марья Алекс., и Авд. Семен., и дочь Короленка, и Татьяна Александровна, и Маргарита Федоровна, и дети Т. А.), страшная скука. Вдова, которой уже 72 года, которая так старается «держаться», что возле открытого гроба Н. Ф. спросила меня, как моя бессонница, – очень тоскует, Короленко осунулся, – я и придумал свести их с И. Репиным. Короленко был очень занят, но я с художником Бродским за ним вторично. Он сейчас же за привычным самоваром – анекдот. Как у Нотовича служил какой-то забубенный репортер, бывший офицер. Привлекли за какую-то статью Нотовича к градоначальнику. «Кто написал эту статью?»
Репин о Короленке: но все же он – скучный человек! Рассказывает, как Короленко ехал на велосипеде – и налетел на человека. Чтобы не сбить того с ног – сознательно направил велосипед в канаву.
Ночью 20 августа я уже лег, как увидел, что мне не заснуть. Я оделся и пошел за 3 версты – чу́дной, сырой ночью, с мягкими светами вокруг каждой террасы – босиком и без шапки. Дети Богданович играли в карты. Александра Никитишна встретила меня приветливо. Владимир Галактионович и его жена были ласковы. Он даже провожал меня, тоже без шапки. Взял об руку, как делают глухие: «Скажу вам по секрету. Тетушка пишет мемуары о Н. Ф.». Рассказывает, как Николай Федорович ссорился с Александрой Никитишной:
– Открой мне дверь.
– Зачем?
– Я хочу тебе сказать, что я тебя презираю и ненавижу.
– Ну вот ты мне и так сказал.
И всегда из-за теоретических вопросов.
Как Анненский на Финляндском вокзале, когда думал, что меня возьмут, сунулся вперед к жандармскому офицеру – «вот, вот», – и совал свой паспорт*.
Портрет Репина работы Бродского кажется Короленке отвратительным: замороженный таракан какой-то.
12 октября. Маша рассказывает Бобе сказку (Бобе 2 года) о петухе и лисе. Он расплакался:
– А я ап кнут и ба лису!
Чувство справедливости. Он говорит: леладь (лошадь); пойдем мадонь (домой).
И. Е. был у меня, но я спал. Он расходится с Нат. Борисовной.
Суббота. Ночь. Не сплю. Четвертую неделю не могу найти вдохновения написать фельетон о самоубийцах*. Изумительная погода, великолепный кабинет, прекрасные условия для работы – и все кругом меня работают, а я ни с места. Сейчас опять буду принимать бром. Прошелся по берегу моря, истопил баню (сам наносил воду) – ничего не помогло, потому что имел глупость от 11 до 5 просидеть без перерыва за письменным столом. Ах, чудно подмерзает море. И луна.
В среду был у И. Е-ча. Натальи Борисовны нет. Приехали: Бродский, Ермаков, Шмаров; И. Е. не только не скрывает, что разошелся с Н. Б., а как будто похваляется этим. Ермаков шутил, что нас с М. Б. нужно развести. И. Е. вмешался:
– Брак только тот хорош, где одна сторона – раба другой. Покуда Н. Б. была моей рабой (буквально!), сидела себе в уголке, – все было хорошо. Теперь она тоже… Одним словом… и вот мы должны были разойтись. Впрочем, у нас был не брак, а просто – дружеское сожитие[128]. И с этих пор наши среды… Господа, это вас касается… Я потому и говорю… примут другой характер. Я старик, и того веселья, которое вносила в наши обеды Н. Б., я внести не могу. Не будет уже тостов – терпеть их не могу – каждый сможет сесть, где вздумается, и есть, что вздумается, и это уже не преступление – помочь своему соседу (у Н. Б. была самопомощь, и всякая услуга за столом каралась штрафом: тостом). Можно хотя бы начать с орехов, со сладкого – если таковое будет, – и кончить супом. Вот, кстати, и обед.
Заиграла шарманка. – Зачем завели шарманку? Больше не нужно заводить!
Потом И. Е. пошел меня проводить и рассказывал, как Н. Б. понесла на своей лекции 180 р. убытку – читала глупо – очень глупо! – но ей и сказать нельзя, – дурацкое самолюбие – вот болезнь: непременно хочет славу – и т. д. За столом читали статью О. Л. Д’Ора ругательную о Наталье Борисовне.
Читал длинную записку Леонтия Бенуа о введении в Академии церковной живописи. Не сомневается, что записку составил Беляев и что Бенуа проведет на это место Беляева. Говорили о том, что нужно иконы писать с молитвою. Подхватил: – Да, да! Вот Поленов, когда писал Мадонну, так даже постился (я присутствовал), и вышла… такая дрянь!
7 ноября. Все мои дела обстоят великолепно. Послезавтра лекция, и я никогда не верил, что с моими бессонницами мне удастся ее закончить. А теперь я верю. Дело, кажется, идет недурно. Я уже дал характеристику Ценского, Зайцева, Сургучева, Бунина (нужно Сологуба) – и могу перейти к самоубийцам. Там у меня много подготовлено. В самом худшем случае выйдет очень краткая лекция – так что ж такое. Во всяком случае, будет 2 фельетона.
12 ноября. Бобины слова: силокатка – лошадка. Лелядь – лошадь. (Он только о лошадях и говорит. Дяба – плохое. Дуля – брань (дура).) Бом-бом – гулять. Аую-ую – не хочу. Как Боба долго начинает плакать. Сегодня говорит: это вкуное. Я говорю: не понимаю. У него сначала все в лице останавливается, потом начинает чуть-чуть (очень медленно) подгибаться губа – выражение все беспомощнее – и только потом плач. Очень обижается, когда не понимают его слов.
Лида про пятую заповедь – «Вот бы хорошо: чти детей своих!» Ее любимые книги: «Каштанка» и «Березкины именины» Allegro. Она читает их по 3 раза в день.
Боба про очки.
1913
18 янв. 1913 года. Репин о И. Е. Цветкове, московском собирателе: скучный и безвкусный; если, бывало, предложишь ему на выбор (за одну цену) две или три картины, непременно выберет худшую.
Я спросил его, как его встречали в Москве? Он: «Колокольного звону не было!» Рассказывал, как Николай II наследником посетил выставку картин. Сопровождал его художник Литовченко. Увидел картину с неразборчивой фамилией. – Кто написал? – Вржещ, Ваше Высочество! – выпалил Литовченко. Тот даже вздрогнул, и впоследствии с каким-то Великим князем забавлялись:
– Вржещ, Ваше Высочество! – кричали друг другу.
8 февраля. И. Е. Репин, узнав, что поэт А. Богданов, подготовляясь к амнистии, хочет сесть в тюрьму, дал ему (без отдачи, тайно) 100 рублей. Потом гулял со мною и с Богдановым под луною (дивной!) по снегу – любовно смотрел на Богданова – как на сына. Рассказывал о своей маме: та, бывало, читает Библию, к ней придет соседка – и плачет: о чем же ты, Фимушка?
21 февраля 1913. Вчера в среду И. Е. Репин сказал мне и Ермакову по секрету: «только никому не говорите» – что он, исправляя, «тронул» «Иоанна» кистью во многих других местах – «чуть-чуть» – «не удержался».
О Волошине: «Возмутила бессовестность, приноравливается к валетам*. Но я ему не говорил, что не принял бы билета, я сказал:
– Пожалуйста, ничего не меняйте. Не стесняйтесь. Говорите так, как будто меня нет.
Он: – Я, если бы знал, что вы пожалуете, прислал бы вам почетный билет.
Я: – Ну зачем же вам беспокоиться.
И вообще мы беседовали очень добродушно».
– Был у Сытина – Ивана Дмитриевича. Ну и снимали же меня. И куда ни пойду – тррр – кинематограф.
Свирский прислал ему афоризмы – плоские.
22 февраля. Коленька в моей комнате пишет у меня чистописание «степь, пенье, век» и говорит: «Самое плохое во мне – это месть. Я, например, сегодня чуть не убил ломом Бобу. А за что?! Только за то, что он метелочку не так поставил. Когда я вчера ударил Лиду, ты думаешь – мне не было жалко? Очень было жалко, я очень раскаивался». Буквально.
25 февраля – или 26-е? – словом, понедельник. Был вчера у И. Е. – А у нас какой скандал на выставке. (Сидит с Васей и пьет в темноте чай.) – Что такое? – Этот дурак! (машет рукой). То есть он не дурак – он умнейшая голова – и… – Оказывается, третьего дня, когда выставку передвижную уже устроили, звонок от цензора: – Ничего нет сомнительного? Тогда открывайте. – Есть Репина картина. – Как называется? – «17 октября». – Как? – «17 октября». – А что изображено? – Манифестация. – С флагами? – С флагами. – Ни за что не открывать выставку. Я завтра утром приеду посмотрю. «А я, – рассказывает Репин, – сейчас же распорядился: повесить рядом с моей картиной этюдики Великой княгини Ольги Александровны и попросил Жуковского, который купил у меня (“за наличные”) “Венчание Государя Императора”, – тоже сюда, рядышком.
Великая Княгиня была, смотрела мое “17 октября”, ничего не сказала, – улыбнулась на моего генерала (который в картине фуражку снимает), – и назавтра, когда приехал цензор, ему все это рассказали, показали – разрешил.
– Слышали, адрес мне подносят – зачем? – дураки! – т. е. они не дураки, они умнейшие головы, но я… чувствую – я такое ничтожество…
– За вырезки газетные счет: 43 рубля в месяц. Скажу Наталье Борисовне: довольно. Надоело. И я – пройду мимо стола, где сложены вырезки – и целый час другой раз потеряю. Довольно!»
В 9 ½ час. вечера пришел с Васей к нам. Сел за еду. – Ах, маслины, чудо-маслины! Огурцы – где вы достали? Ешь, Вася, огурцы. Халва – с орехами, и, знаете, с ванилью, – прелесть. – У И. Е. два отношения к еде: либо восторженное, либо злобное. Он либо ест, причмокивает, громко всех приглашает есть, либо ненавидит и еду, и того, кто ему предлагает; скушайте прянички! – искривился: очень сладкие, приторны, черт знает, что такое…
Как он не любит фаворитизма, свиты, приближенных. Изо всех великих людей он один спасся от этого ужаса. Если дать ему стул или поднять платок, – он тебя возненавидит, ногами затопает. Я эту среду – черт меня дернул сказать, когда он приблизился к столу: – Садитесь, И. Е. – и я встал с места. Он не расслышал и приветливо, с любопытством: – Что вы говорите, К. И.?
– Садитесь. – Его лицо исказилось, и он произнес такое, что потом пришел извиняться.
20 марта, среда. Приехал из «Русской Молвы» сотрудник – расспросить Илью Ефимовича о Гаршине. Но И. Е. ему ничего не сказал, а когда сотрудника увлекла Наталья Борисовна и дала ему свою статейку, И. Е. за столом сказал: – Помните, К. И., я вас в первое время – в лавке фруктовой – все называл «Всеволод Михайлович». Вы ужас как похожи на Гаршина. И голос такой мелодический. А знаете, как я с ним познакомился? Я был в театре – кажется, в опере – и заметил черного южанина – молодого – думаю: земляк (у нас много таких: мы ведь с ним из одной губернии, из Харьковской), и он на меня так умильно и восторженно взглянул; я подумал: должно быть, студент. Потом еще где-то встретились, и он опять пялит глаза. Потом я был в Дворянском собрании (кажется), и целая группа подошла юношей: позвольте с вами познакомиться, и он с ними. – Как же ваша фамилия? – Гаршин.
– Вы Гаршин?!?
Так мы с ним и познакомились.
19 марта И. Е. повел меня и Марию Борисовну наверх и показал новую начатую картину «Дуэль». Мне показалась излишне театральной, нарочито эффектной. Я чуть-чуть намекнул. И что же? На следующий день он говорит: – А я переделал все ошибки. Хорошо, что я вам тогда показал. Спасибо, что сказали правду, – и т. д.
Я работаю много – и не знаю, что выходит, но эта квартира вдохновляет меня – очень удобно. Вчера работал 12 час. От 5 ч. утра до 6 ч. веч. с перерывом в 1 час, когда скалывал лед. Все не могу справиться с Джеком Лондоном для «Русского Слова»*.
Вчера в воскресенье – [6] апреля был И. Е. Пошел ко мне наверх – лег на диване – впервые за все время нашего знакомства – а я ему читал письма И. С. Тургенева к Стасюлевичу. Прежде, чем я начал читать, он сказал: «Любезнейший» – что это за привычка была у Тургенева начинать письмо словом «Любезнейший»! Василий Васильевич Верещагин так обиделся, что разорвал все письма Тургенева: какой я ему любезнейший! – Эх, у меня было прекрасное письмо от Тургенева: «Любезнейший Репин!» Он писал мне о том, что m-me Viardot не нравится, как я начал его портрет, и я, дурак, замазал – и на том же холсте написал другой.
Оказывается, И. Е. дал слесарю Иванову денег для того, чтоб не брал он сына своего из гимназии.
Четверг, 10 апреля. Сегодня в 1-й раз ходил босиком. Вдруг наступило лето, и тянет от книги, от мыслей, от работы в сад. Это очень неприятно, и я хочу хоть привязать себя к столу, а не сдаться. Нужно же воспользоваться тем, что вдруг наступил просвет. Я каждую ночь сплю – в течение месяца – без опия, без веронала и брома. Ведь два года я был полуидиотом, и только притворялся, что пишу и выражаю какие-то мысли, а на деле выжимал из вялого, сонного, бескровного мозга какие-то лживые мыслишки! Вчера я был у И. Е. – и, несмотря на шум и гам, прекрасно после этого спал, чего со мной никогда не бывает. Утром, позанявшись «по Некрасову», я пошел на станцию. Забрел к Брусянину, добыл книги «футуристов», иду назад. На станции говорят: «К вам поехали господин и дама!» Бегу, а потом не торопясь и с прохладцей иду домой (вместе с Юрием Репиным, который вежлив со мною, как китаец); у наших ворот вижу даму и дрожки. Бегу к даме, уверенный, что это жена Владимира Абрамовича Полякова, – а это Женни Штембер, пианистка, которая меня ненавидит. Я с размаху дал ей руку по ошибке – и потом, чтобы выйти из положения, сказал несколько примирительных слов – и она посетила нас, а потом мы пошли к И. Е. Репину. Женни играла – Бетховена – как машина, без выражения – и Репин, который любит музыку, – тонко ей это заметил. Она не поняла.
Были: Н. Д. Ермаков, который буффонил за обедом и чаем и в саду – по-армейски, самодовольно, однообразно. Это ловкий малый, он приезжает к И. Е. «за покупочками». Пошушукается где-ниб. в уголку и великолепный рисуночек выцарапает за 15–20 рублей. Ухаживает за И. Е. очень, возит его в Мариинский театр, и хотя И. Е. говорит иногда, что Ермаков «такая посредственность, ничтожество», но искренно к нему привязан. Была m-me Розо – полька, уродливая, как грех. Жила когда-то с «трактерным» художником Булатовым (по словам И. Е.) – теперь дама с ридикюлем: как бы сына женить на богатой – куда-то подает прошения, тоща, нудна, гугнява, говорит по-французски, по-итальянски, по-немецки – «фурия, горгона», как сказал мне вчера И. Е.
Потом был художник И. И. Бродский. Это божий теленок, как бывают «божьи коровки». Самовлюблен, в меру даровит и глуп до блаженства. Добр. Говорит только о себе и любит рассказывать, за сколько продал какую картину. Были за столом дворник, горничная и кухарка – но Наталье Борисовне не перед кем было вчера разыгрывать демократку – и они пребыли в тени.
Был Руманов. Он той же породы, что Илья Василевский, – задняя часть человечества. Филей. При отсутствии мышления – хитрая приноравливаемость, «беспокойная ласковость взгляда и поддельная краска ланит», – лживость беспросветная – и все же он мне приятен. Мы с ним друг перед другом кокетничаем.
Вечер был ничем не замечателен. Мне только понравилось, что И. Е. сказал о крупном репинском холсте: – Терпеть не могу! дрянь такая! вот мерзость! Я раз зашел в лавку, мне говорят: не угодно ли репинский холст, – я говорю: к черту!
Смешно он процитировал вчера Пушкина:
Ночной горшок тебе дороже…*Потом спохватился: – Марья Борисовна, простите.
25 апреля. Первый Бобочкин донос: – Мама, ты здесь? – Здесь. – (Помолчал.) Коля показывает нос Лиде… – Перед этим он плакал: – Я не Боба, я Бобочка.
Май. И. Е. когда-то на Западной Двине (в Двинске) написал картину – восход солнца. – «Знаете, как долго глядишь на солнце – то пред глазами пятачки: красный, зеленый – множество; – я так много и написал. Подарил С. И. Мамонтову. Как ему плохо пришлось, он и продал ее – кому?»
Июнь. Не сплю третью ночь, хотя скоро лекция. Именно потому и не сплю. Между тем лекция пустяшная – и будь здоровье, в два дня написал бы. Поэтому откладываю ее до здоровой головы. В интересах самой статьи – я должен отказаться от лекции. Не буду даже заглядывать в нее, покуда не высплюсь. С больной головой я только гажу и гажу лекцию. И притом нет вдохновения.
Июнь. Квартира Михаила Петровича Боткина превращена в миллионный Музей. Этого терпеть не мог его брат, доктор Сергей Петрович: «Нет у тебя ни одной порядочной комнаты, где бы выспаться. Даже негде переночевать, – говорил он брату. – Искусство в большом количестве – вещь нестерпимая!»
И. Е. со своим братом, с пейзажистом Васильевым и еще с кем-то четвертым в начале 70-х гг. поехал на Волгу. Денег не было. Васильев добыл для И. Е. в «Поощрении» 200 р. – Они все четверо выбрили головы, И. Е. купил револьвер и огромный сундук – и приехали в С. Извозчик говорит: «Повезу-ка я вас к Буянихе». Буяниха баба-разбойница, грудь, как два (кувшина с молоком), и ее дочка тоже Буяниха – юноши приехали и оробели: «Разбойничье гнездо». Как назло ни двери, ни окна не запираются. Они придвинули свои сундуки, всю мебель к окнам. И. Е. взял револьвер. Так переночевали. Наутро – Буяниха: – Провизия такая дорогая. Чем я вас кормить буду. Хотите – берите, хотите – нет: 11 коп. обед. – Прожили мы больше месяца, и оказывается, Буяниха так же в первое время боялась нас, как мы ее.
Тогда же: – Старика написать, старик похож на святителя, отказался: – А ты, бают, пригоняешь. – Куда пригоняю? – К Антихристу.
Тогда же: – Васильев был больше по хозяйственной части, мой брат – ему на дудке поиграть, а мы – в лодочке на ту сторону Волги – на Жигули – все выше, выше, куда не ступала нога: и бывало, сверху захочешь зарисовать: все мало бумаги, чтобы передать эту даль и ширь.
Затеял я две картины, «Бурлаков» и «Буря (Шторм) на Волге», и, признаюсь, гораздо больше дорожил «Бурей», но Великий Князь Владимир Александрович – когда в Академии ему показали оба этюда – сказал (был тогда молодой): – Пусть Репин сделает для меня «Бурлаков». А вот и он. Послушайте, «Бурлаков» я у вас покупаю.
Тогда «Бурлаки» были на фоне Жигулей. Я Жигули после замазал. Мне пейзажист N все не мог простить – и потом эти самые горы повторял на всех своих картинах.
Как это ни странно, но другая народническая моя картина была также по заказу Великого князя: «Проводы новобранца». Он приехал ко мне в Хамовники, в Теплый переулок – несмотря на то, что я отказался расписывать Храм Спасителя, который был под его покровительством, – увидел этюды, ничего не сказал, но потом из Пб. телеграмма: Великий Князь оставляет вашу картину за собой.
Когда в Хохландии писал «Запорожцев»:
– Вы що за людина? Та не дивиться, що я в латаной свитке, в мене й мундир е.
– Художник.
– Ну що ж, що художник? В мене й зять художник. А по якому художеству?
– Живописец.
– Ну що ж, що живописец? В мене й зять живописец.
А «Крестный ход»? Тут И. Е. встал и образными ругательными словами стал отделывать эту сволочь, идущую за иконой. Все кретины, вырождающиеся уроды, хамье – вот по Ломброзо – страшно глядеть – насмешка над человечеством. Жара, а мужики степенные с палками, как будто Богу служат, торжественно наотмашь палками: раз, два, раз, два, раз, два – иначе беда бы: все друг друга задавили бы, такой напор, только палками и можно. Не так страшно, когда урядники, но когда эти мужики, ужасно.
22 июля. Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым: – Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр.
– Бур шур Беляматокией —не могу писать прозы. Нет настроения. – Пришел Репин. Я стал демонстрировать творения Крученых. И. Е. сказал ему:
– У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм.
– Значит, теперь я идиот.
– Конечно, если вы верите в этот вздор.
1914
[Страница оборвана. – Е. Ч.] с молоком!!! Пользуясь отсутствием Натальи Борисовны, старичок потихоньку разбавляет свой кофей жидковатым молочком, заимствуясь у кухарки Анны Александровны. Очень хорошо было потом: я лег на диван у него в кабинете, а он мне читал продолжение воспоминаний о пребывании на Волге, которые будут напечатаны в «Голосе Минувшего»*. Может быть, воспоминания и сумбурны, но читал он их так превосходно, что я с восторгом слушал 2 часа. Волжский говор, мужичью речь – он воспроизводит в совершенстве; каждая сцена умело драматизирована, и выпуклость у каждой огромная. Говорили: о Б. Шуйском, журналисте. «Бездарность, ординарность». О его жене: «Ей 17 лет, и вечно будет 17!» (глупа). Оказывается, И. Е. в 1885 г. у Калинкина моста написал свои воспоминания о юношеских годах, до приезда в СПб., о флирте со своими кузинами, но потом ему стыдно стало, и он сжег.
После этого, по настоянию Стасова, написал воспоминания о Крамском. Это было первое его литературное творение.
Ах, как он вспылил накануне. Я никогда не видал его в такой ярости. Приехал к нему Б. Шуйский с женой, евреечкой, манерной и кокетливой, с очень грубым непсихологическим смехом. Был Ермаков, Шмаров. Заговорил об иконке, которую Бенуа выдал за Леонардо да Винчи, а Государь купил за 150 000 р. Илья Еф. говорил: «Дрянь! пухлый младенец! Должно быть, писал ученик, а мастер только “тронул” лицо. Но если б была и подлинная, нельзя платить такие деньжища, ведь у нас еще нет выставочного здания, нет денег, чтоб отливать в бронзу лучшую скульптуру учеников Академии, куда же нам… И все это афера барышников. Вот хотите пари: через месяц, через полтора приедет из Берлина какой-нб. Боде и объявит на весь мир, что это “школа Леонардо да Винчи” и что красная цена ей 100 р.».
Барыня вмешалась: – За Леонардо да Винчи и миллиона не жалко… Вся Европа… Чем же мы хуже… Мы уже достаточно культурны. – Илья Еф. так покраснел, что даже лысина стала багровой, чуть не схватил самовар.
– Да как вы смеете. Что за щедрость. Что вы понимаете… Тоже болтает, лишь бы сказать… Ни души, ни совести.
4 февраля. Сейчас ехал с детьми от Кармена на подкукелке. «Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства, – говорит Коля. – Дача Максимова – первое замечательство. Дом, где жила Паня, второе замечательство. Пенаты – третье замечательство».
Вчера был у нас И. Е. Рассказывал, как у него на родине мещане изготовляли пряники. – Чуть только женится сын, отойдет от родителей – в последний день Масленицы невестка испечет для тещи и тестя огромный феноменальный пряник, величиной с дверь – медовый – и несут через город старикам. Старички весь пост жуют по крошке. Я, бывало, смотрю на них в окошко.
Теперь все пишут по впечатлениям, а в наше время – тенденция. Ужас! Непременно чтоб идея… Шишкин, бывало, напишет мост и подпишет: «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду».
Когда в 70-х гг. я на Волге изобразил «по впечатлению» плоты – это такая прелесть: идут, идут плоты, огоньки на них, фигуры, река широкая – 7 недель идут – и вот я увлекся, писал – показываю Шишкину, а он: допишите, доделайте. Разве это плоты? Из какого дерева? Из березы или дубовые? (Сам Шишкин, бывало, выберет себе рощу, лесок, залезет вверх, устроит помост на дереве, кое-где просеку вырубит – и начнет весною, когда зелень чуть-чуть, а кончит уж, когда все желто, заморозки.
А то однажды у него всю зелень коровы объели.) Ну я, известно: ничтожество! – а я, господа, ничтожество полное! – поддался Шишкину, возненавидел свою картину и написал сверх той – другую, пожалел холста. Ах, как это ужасно, что я на одной другую, – сколько погубил фигур…
О Витте: это гениальный человек. Когда я его писал, он спрашивает: – Ну вот, вы написали весь Совет, у кого, по-вашему, самое выдающееся лицо? – Я подумал: самое картинное у такого-то. Борода до пояса. Говорю. Витте только фыркнул – посмотрел презрительно и, видно, думает: ах ты, ничтожество. – А об Игнатьеве что вы думаете? – Игнатьев, по-моему, это Фальстаф. – Какие у вас шаблонные понятия. Ну что за Фальстаф Игнатьев? Это – половой от Тестова, а не Фальстаф… – Я подумал: и действительно.
Был на Маринетти: ординарный туповатый итальянец, с маловыразительными свиными глазками, говорил с пафосом Аничкова элементарные вещи. Успех имел средний.
Был на выставке Ционглинского: черно, тускло, недоделанно, жидко, трепанно, «приблизительно». Какую скучную, должно быть, он прожил жизнь.
Детское слово: сухарики-кусарики.
Кстати: Кони мне рассказывал, как гр. Соллогуб, захворавший эротическим безумием («которое, как вам известно, почти всегда бывает на религиозной почве»), откинул однажды при нем одеяло, вынул член и, показывая его Богу, воскликнул:
– Боже, ты велел мне заселить этим членом всю землю, а у меня и на пол-Европы не хватит.
Около 10 февраля. «Как известно, Шаляпин гостит у И. Е. Репина; бегая на лыжах, артист сломал себе ногу и слег» – такая облыжная заметка была на днях напечатана в «Дне». Должно быть, она-то и вдохновила Шаляпина и вправду приехать к И. Е. Он на лиловой бумаге написал ему из Рауха письмо. «Приехал бы в понедельник или вторник – может быть пораскинете по полотну красочками». – Пасхально ликуем! – ответил телеграммой И. Е. И вот третьего дня в Пенатах горели весь вечер огни – все лампы – все окна освещены, но Шаляпин запоздал, не приехал. И. Е. с досады сел писать воспоминания о пребывании в Ширяеве – и вечером же прочитал мне их. Ах, какой ужас его статья о Соловьеве Владимире*. «Нива» попросила меня исправить ее, я исправил и заикнулся было, что то-то безграмотно, то-то изменить – он туповато, по-стариковски тыкался в мои исправления. – «Нет, К. И., так лучше» – и оставил свою галиматью.
На следующий день, т. е. – вчера, в 12 ч. дня, приехал Шаляпин, с собачкой и с китайцем Василием. Илья Еф. взял огромный холст – и пишет его в лежачем виде. Смотрит на него Репин, как кошка на сало: умиленно, влюбленно. А он на Репина – как на добренького старикашку, целует его в лоб, гладит по головке, говорит ему «баиньки». Тон у него не из приятных: высказывает заурядные мысли очень значительным голосом. Например, о Финляндии:
– И что же из этого будет? – упирает многозначительно на подчеркнутом слове, как будто он всю жизнь думал только о положении Финляндии и вот в отчаянии спрашивает теперь у собеседника, с мольбой, в мучительном недоумении. Переигрывает. За блинами о Коммиссаржевской. Теперь вылепил ее бюст Аронсон, и по этому случаю банкет… – Не понимаю, не понимаю. Вера Федоровна была милая женщина, но актриса посредственная – почему же это, скажите.
Я с ним согласился. Я тоже не люблю Коммиссаржевскую. – Это все молодежь.
Шаляпин изобразил на лице глупость, обкурносил свой нос, раззявил рот, «вот она, молодежь». Смотрит на вас влюбленно, самозабвенно, в трансе – и ничего не понимает. – Почему меня должен судить господин двадцати лет? – не по-ни-маю. Не понимаю.
– Ну, они пушечное мясо. Они всегда у нас застрельщики революции, борьбы, – сказал И. Е.
– Не по-ни-маю. Не понимаю.
Со своей собачкой очень смешно разговаривал по-турецки. Быстро, быстро. Перед блинами мы катались по заливу, я на подкукелке, он на коньках. Величественно, изящно, как лорд, как Гете на картине Каульбаха – без усилий, руки на груди – промахал он версты 2 в туманное темное море, садясь так же вельможно отдыхать. О «Деловом Дворе» взялся хлопотать у Танеева. Напишет для «Нивы»*.
После обеда пошли наверх, в мастерскую. Показывал извозчика (чудно), который дергает лошаденку, хватается ежесекундно за кнут и разговаривает с седоком. О портретах Головина: – Плохи. Федор Иоанныч – разве у меня такой? У меня ведь трагедия, а не просто так. И Олоферн тоже – внешний. Мне в костюме Олоферна много помогли Серов и Коровин. Мой портрет работы Серова – как будто сюртук длинен. Я ему сказал. Он взял половую щетку, смерил, говорит: верно.
Откуда я «Демона» взял своего? Вспомнил вдруг деревню, где мы жили, под Казанью; бедный отец был писец в городе и каждый день шагал верст семь туда и верст семь обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на полатях, а мама прядет и еще бабы. (Недавно я был в той избе: «вот мельница, она уж развалилась», снял даже фотографию.) Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают:
– Был Сатанаил, ангел. И был черт Миха. Миха – добродушный. Украл у Бога землю, насовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то и из ушей, и из носу, и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил был красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками – и отняли у него окончание ил, и передали его Михе. Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила – Сатана. Ну и я вдруг, как ставить «Демона» в свой бенефис – вспомнил это, и костюм у меня был готов. Нужно было черное прозрачное, – но чтобы то там, то здесь просвечивало золото, поверх золота надеть сутану. И он должен быть красавец со следами былого величия, статный, как бывший король.
Так иногда бабий разговор ведет к художественному воплощению.
Говорит о себе упоенно – сам любуется на себя и наивно себе удивляется. «Как я благодарен природе. Ведь могла же она создать меня ниже ростом или дать скверную память или впалую грудь – нет, все, все свои силы пригнала к тому, чтобы сделать из меня Шаляпина!» Привычка ежедневно ощущать на себе тысячи глаз и биноклей сделала его в жизни кокетом. Когда он гладит собаку и говорит: ах ты, дуралей дуралеевич, когда он говорит, что рад лечь даже на голых досках, что ему нравится домик И. Е.: все он говорит театрально, но не столь же театрально, как другие актеры.
Хочет купить здесь дачу для своих петербургских детей. – У меня в Москве дети и в Пб.* Не хочется, чтоб эти росли в гнили, в смраде. Показывал рисунок своего сына с надписью Б. Ш., т. е. Борис Шаляпин. И смотрел восторженно, как на сцене. И. Е. надел пенсне: браво, браво!
Книжку мою законфисковали. Заарестовали*. Я очень волновался, теперь спокоен. Сейчас сяду писать о Чехове. Я Чехова боготворю, таю в нем, исчезаю и потому не могу писать о нем – или пишу пустяки.
16 февраля, воскресение. Утром зашел к И. Е. – попросить, чтобы Вася отвез меня на станцию. Он повел показывать портрет Шаляпина. Очень мажорная, страстная, колоссальная вещь. Я так и крикнул: А!
– Когда вы успели за три дня это сделать?
– А я всего его написал по памяти: потом с натуры только проверил.
Вблизи замечаешь кое-какую дряблость, форсированность. Жалок был Шаляпин в эту среду. Все на него, как на идола. Он презрительно и тенденциозно молчал. С кем заговорит, тот чувствовал себя осчастливленным. Меня нарисовал карандашом, потом сделал свой автопортрет*. Рассказывал анекдоты – прекрасно, но как будто через силу и все время озирался: куда это я попал?
– Бедный И. Е., такой слабохарактерный! безвольный! – сказал он мне. – Кто только к нему не ездит в гости. Послушайте, кто такой этот Ермаков?
– Да ведь это же ваш знакомый; он говорил мне, что с вами знаком.
– Может быть, может быть.
Рассказал о своей собаке, той самой, которую Репин написал у него на коленях, что она одна в гостиную внесла ночной горшок. – И еще хвостом машет победоносно, каналья!
Говорил монолог из «Наталки Полтавки». Первое действие. Напевал: «и шумить, и гудить». – Одна артистка спросила меня: Федор Иванович, что такое ранняя урна – в «Евгении Онегине»?
– А это та урна, которая всякому нужна по утрам.
Показывал шаляпистку: – Ах, Ф. И., куда вы едете? – В Самару. – Я тоже поеду в Самару.
(И студент щиплет ус и укоризненно: который это раз вы убегаете?)
Потом рассказывал, как на Парижской выставке он зашел в один ресторанчик. Сидят два англичанина, пьют абсент – зеленое с водой. Входит, покачиваясь, россиянин и тупо глядит по сторонам. Гарсон!.. са! и тычет пальцем в абсент соседей по столику. Гарсон принес для абсента графин воды. Пьяный, качаясь, глянул, потом понюхал, потом глотнул из графина, потом буль, буль, буль, буль – вылил весь графин на пол.
Конец февраля. Дочь Репина Вера сегодня за обедом вспоминала, как Серов (Антон) изображал у Мамонтовых льва. А когда мы были маленькими, а мама ушла и оставила нам галеты – по два галета на каждого. Сели пить чай, Антон и говорит: иду я как-то мимо булочной, вижу кренделек… и так их «заговорил», что они только рты пораззевали, а он крендельки и съест. «Антона» они очень любили: только, бывало, он уставится на них каким-то особым образом, они сейчас – хохочут до колик.
2-го апреля. Шаляпин о Чехове. «Помню, мы по очереди читали Антону Павловичу его рассказы, – я, Бунин. Я читал «Дорогую собаку». Антон Павлович улыбался и все плевал в бумажку, в фунтик бумажный. Чахотка».
Вчера с Лидочкой по дороге (Лидочка плакала с утра: отчего рыбки умерли): – Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать бы богатыми – или нет, пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Какие есть люди безжалостные: как можно убивать животных, ловить рыбу. Если бы один человек собрал побольше денег, а потом и роздал бы всем, кому надо. И много такого.
Этого она нигде не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым, – впервые. Я слушал, как ошеломленный. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо, а здесь, в натуре, волновало до дрожи.
5 апреля. Завтра Пасха. И. Е.: – А ведь я когда-то красил яйца – и получал за это по 1 ½ р. Возьмешь яйцо, выпустишь из него белок и желток, натрешь пемзой, чтоб краска лучше приставала, и пишешь акварелькой Христа, Жен Мироносиц. Потом – спиртным лаком. Приготовишь полдюжину – вот и 9 рублей. Я в магазин относил. Да для родственников – сколько бесплатно.
Сегодня Вера Ильинична за обедом заикнулась, что хочет ехать к Чистяковым. – Зачем? Чистякова – немка, скучища, одна дочь параличка, другая – Господи, старая дева и проч.
– Но ведь, папа, это мои друзья (и на глазах слезы), я ведь к ним привыкла.
И. Е.: – Ну знаешь, Вера, если тебе со мной скучно, то вот у нас крест. Кончено. Уезжай сейчас же. Уезжай, уезжай! А я, чтоб не быть одиноким, возьму себе секретаря – нет, чтоб веселее, секретаршу, а ты уезжай.
– Что я сказала, Господи.
И долго сдерживалась… но потом разревелась по-детски. После она в мастерской читала свою небольшую статейку, и И. Е, кричал на нее: вздор, пустяки, порви это к черту. Она по моей просьбе пишет для «Нивы» воспоминания о нем.
– Да и какие воспоминания? – говорит она. – Самые гнусные. Он покинул нашу мать, когда мне было 11 лет, а как он ее обижал, как придирался к нам, сколько грубости, – и плачет опять…*
Я ушел.
15 апр.
Изе Яковлевне Кремер
О Иза, Муза кукурузы! К тебе так благосклонны Музы: Ты и певунья, и плясунья, и попрыгунья-стрекоза. А я… без песен и без солнца в болотах темного чухонца, Я только плачу, вспоминая твои веселые глаза. Покинь же, Иза, Молдаванку, возьми шарманку, обезьянку, Будь нашей песней, нашим солнцем, О Иза, Муза-Егоза.Лимон – все спасение в лимоне – как бы найти такой лимон – футуризм – акмеизм – переменить бы душу, не книгу, а все – хочется выйти и завыть по-собачьи.
Завыть бы по-собачьи, завизжать. Исцарапать себе ногтями лицо, закричать: перестаньте, не надо, не так! Все это очень благополучно. Танцы Далькроза, Мейерхольд… Все ищут… Сатирикон выходит… Как же! Акмеизм в пустяке переделался, а в крупном такой же ужас.
Мая 10. Очень приятно. Лидочка внизу, кричит мне:
Но коварный Меджикивис*, Бессердечный Меджикивис Уж покинул дочь Нокомис.Окна открыты. Пишу о романе Некрасова. Очень приятно.
8 июня. Пришли Шкловские – племянники Дионео. Виктор похож на Лермонтова – по определению Репина. А брат – хоть и из евреев – страшно религиозен, преподает в Духовной академии французский яз. – и весь склад имеет семинарский. Даже фразы семинарские: «Идеализация бывает отрицательная и положительная. У этого автора отрицательная идеализация». А фамилия: Шкловский! Был Шапиро: густой бас, толстоносый, потеющий. Все о кооперации, о трамваях в Париже. Б. А. Садовской очень симпатичен, архаичен, первого человека вижу, у которого и вправду есть в душе старинный склад, поэзия дворянства. Но все это мелко, куце, без философии. Была Нимфа, и в первый раз Молчанова, незаконная дочь Савиной, кажется? Пришел Репин. Я стал читать стихи Городецкого – ярило – ярился, которые Репину нравились, вдруг он рассвирепел:
– Чепуха! это теперь мода, думают, что прежние женщины были так же развратны, как они! Нет, древние женщины были целомудреннее нас. Почему-то воображают их такими же проститутками.
И, уже уходя от нас, кричал Нимфе:
– Те женщины не были так развратны, как вы.
– То есть как это вы?
– Вы, вы…
Потом спохватился: – Не только вы, но и все мы.
Перед этим я читал Достоевского и «Крокодил», и Репин фыркал, прервал и стал браниться: бездарно, не смешно. Вы меня хоть щекочите, не засмеюсь, это ничтожно, отвратительно.
И перевернул к стене диван.
Завтра еду к Андрееву. Уложил чемодан.
15 июня. Сегодня И. Е. пришел к нам серый, без улыбок. Очень взволнованный, ждал телеграммы. Послал за телеграммой на станцию Кузьму – велел на лошади, а Кузьма сдуру пешком. Не мог усидеть, я предложил пойти навстречу. – Ну что… Не нужно… еще разминемся, – но через минуту: – Хорошо, пойдем…
Мы пошли, – и И. Е., очень волнуясь, вглядывался в дорогу, не идет ли Кузьма. – Идет! Отчего так медленно? – Кузьма по-солдатски с бумажкой в руке. И. Е. взял бумагу: там написано Logarno (sic!) подана в 1 час дня. 28 june.
Peintre Elias Repine. Nordman Mourantex fornow Suisse.
Fornas[129],
бывший учитель французского языка в русской гимназии.
Умирает? Ни одного слова печали, но лицо совсем потухло, стало мертвое. Так мы стояли у забора, молча. «Но что значит fornow? Пойдем, у вас есть словарь?» Рылись в словаре. – «Какие у вас прекрасные яблоки. Прошлогодние, а как сохранились». Видимо, себя взбадривал. Кроме Бориса Садовского и Шкловского у нас не было никого. Дора. С паспортом у И. Е. странная канитель: он послал Васю в Териоки за благонадежностью, там сказали: не надо. Он послал в Куоккала: сказали: не надо. Но когда Крачковский, по поручению И. Е., явился в канцелярию градоначальника за паспортом, ему сказали: без бумаги из Куоккала не выдадим. Словом, уже вторая неделя, что Репин не может достать себе паспорта. Пошли наверх, я стал читать басни Крылова, Садовской сказал: вот великий поэт! А Репин вспомнил, что И. С. Тургенев отрицал в Крылове всякую поэзию. Потом мы с Садовским читали пьесу Садовского «Мальтийский рыцарь», и Репину очень нравилась, особенно вторая часть. Я подсунул ему альбомчик*, и он нарисовал пером и визитной карточкой, обмакиваемой в чернила, – Шкловского и Садовского. Потом мы в театр, где Гибшман – о Папе и султане, футбол в публике, и частушка, спетая хором, с припевом:
Я лимон рвала, Лимонад пила, В лимонадке я жила.Певцы загримированы фабричными, очень хорошо. Жена Блока, дочь Менделеева, не пела, а кричала, по-бабьи, выходило очень хорошо, до ужаса. Вообще было что-то из Достоевского в этой ужасной лимонадке, похоже на мухоедство*, – и какой лимон рвать она могла в России, где лимоны? Но неукоснительно, безжалостно, с голосом отчаяния и покорности Року эти бледные мастеровые и девки фабричные выкрикивали: – Я лимон рвала.
Погода – на обратном пути сверхъестественная,
разные облака, всех сортов, каждое дерево торжественно и разумно – все разные, – и, придя домой, Маша писала странное, о Евгении Оскаровне, Наталье Борисовне, Розе Мордухович.
Жива ли Н. Б.?
Сегодня, 15-го, я был у И. Е., он уже уехал в Пб. в 8 час.
У Шкловского украли лодку, перекрасили, сломали весла. Он спал на берегу, наконец нашел лодку и уехал в Дюны.
Дети учат немецкие дни недели. – Обоим трудно. Mittwoch[130].
19 июня. Вчера со Ст. П. Крачковским я пошел на Варшавский вокзал проводить И. Е. за границу. Он стоял в широкой черной шляпе у самой двери на сквозняке. Взял у Крачковского билет, поговорил о сдаче 3 р. 40 к. и потом сказал:
– А ведь она умерла.
Сказал очень печально. Потом перескочил на другое: – Я, К. И., два раза к вам посылал, искал вас повсюду: ведь я нашел фотографию для «Нивы» – и портрет матери! (для Репинского №)*.
Пришел Федор Борисович, брат Нат. Борисовны, циник, чиновник, пьянчужка. И. Е. дал ему много денег. Ф. Б. сказал, что получил от сестры милосердия извещение, написанное под диктовку Н. Б., что она желает быть погребенной в Suisse.
– Нет, нет, – сказал И. Е., – это она, чтоб дешевле. Нужно бальзамировать и в Россию, на мое место, в Невскую лавру.
Я послал контрдепешу, но не знаю, как по-французски – «бальзамировать», сказал Ф. Б. Он, впрочем, быстро откланялся и уехал, как ни в чем не бывало, на дачу. И. Е. тоже как ни в чем не бывало заговорил о «Деловом Дворе» и, взяв меня за талию, повел угощать нарзаном. Нарзану не случилось. Мы чокнулись ессентуками. – Теперь в Ессентуках – Вера. – Он поручил мне напечатать объявление от его имени. Просил написать что-ниб. от лица писателей:
– Ее это очень обрадует.
Мы вошли в вагон, и т. к. Репин дрожал, что мы останемся, не успеем соскочить, мы скоро ушли и оставили его одного. Я уверен, что он спал лучше меня.
22-го [июня], вчера. Сплю отвратительно. Ничего не пишу. Томительные дни: не знаю, что с И. Е., вот уже неделя, как он уехал – а от него никаких вестей. Был вчера в осиротелых Пенатах. Там ходит Гильма и Анна Александровна и собирают ягоды. А. А. вытирает – слезы ли, пот ли, не понять. Показала мне письмо Н. Б. – последнее, где умирающая обещает приехать и взять ее к себе в услужение. «Так как я совсем порвала с И. Е., – пишет она за неделю до смерти, – то до моего приезда сложите вместе в сундук все мое серебро, весь мой скарб. Венки уничтожьте, а ленты сложите. Не подавайте И. Е. моих чайных чашек» и т. д. Я искал в душе умиления, грусти – но не было ничего – как бесчувственный.
Третьего дня, в понедельник 15-го июля[131] – И. Е. вернулся. Загорелый, пополневший, с красивой траурной лентой на шляпе. Первым делом – к нам. Привез меду, пошли на море. Странно, что в этот самый миг мы сидели с Беном Лившицем и говорили о нем, я показывал его письма и рукописи. Флюиды! О ней он говорит с сокрушением, но утверждает, что, по словам врачей, она умерла от алкоголизма. Последнее время почти ничего не ела, но пила, пила. Денег там растранжирила множество.
Война… Бена берут в солдаты. Очень жалко. Он по мне. Большая личность: находчив, силен, остроумен, сентиментален, в дружбе крепок, и теперь пишет хорошие стихи. Вчера, в среду, я повел его, Арнштама и мраморную муху, Мандельштама*, в Пенаты, и Репину больше всех понравился Бен. Каков он будет, когда его коснется слава, не знаю; но сейчас он очень хорош. Прочитав в газетах о мобилизации, немедленно собрался – и весело зашагал. Я нашел ему комнату в лавке – наверху, на чердаке, он ее принял с удовольствием. Поэт в нем есть, но и нигилист. Он – одесский.
У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка – о Чехове – почти бездарна, а я корпел над нею с января*.
Характерно, что брат Натальи Борисовны – Федор Борисович – уже несколько раз справлялся о наследстве.
Был вчера, 26-го июля, в городе. За деньгами: отвозил статью в «Ниву». В «Ниве» плохо. За подписчиками еще дополучить 200 000 р. – сказал мне Панин. У них забрали 30 типографских служащих, 12 – из конторы, 6 – из имения г-жи Маркс. У писателей безденежье. Как томился длинноволосый – и час, и два – в прихожей с какой-то рукописью. Видел Сергея Городецкого. Он форсированно и демонстративно патриотичен: «К черту этого изменника Милюкова!» Пишет патриотические стихи, и когда мы проходили мимо германского посольства – выразил радость, что оно так разгромлено. «В деревне мобилизация – эпос!» – восхищается. Но за всем этим какое-то уныние: денег нет ничего, а Нимфа, должно быть, не придумала, какую позу принять.
Был у А. Ф. Кони. Он только что из Зимнего дворца, где Государь говорил речь народным представителям. Кони рассказал странное: будто когда Государю Германия уже объявила войну и Государь, поработав, пошел в 1 ч. ночи пить к Государыне чай, принесли телеграмму от Вильгельма II: прошу отложить мобилизацию. Но Кони, как и Репин, не оглушен этой войной. Репин во время всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом (снаружи) и до азарта занят насыпанием в Пенатах холма на том месте, где было болото: «потому что Н. Б-не болото было вредно». Кони с увлечением рассказывает о письмах Некрасова, к-рые ему подарила наследница Ераковых – Данилова*. Салтыкова письма: грубые. «Салтыков вообще был двуличный, грубый, неискренний человек». Неподражаемо подражая голосу Салтыкова, лающему и отрывисто буркающему, он живо восстановил несколько сцен. Напр., когда была дуэль Утина и Утин сидел под арестом, Кони встретился на улице с Салтыковым (мы жили с ним в одном доме):
– Бедный Утин, – говорю я.
– Бедный, бедный (передразнивает Салтыков). А кто виноват? Друзья виноваты.
– Почему?
– Это не друзья, а мерзавцы…
– Позвольте… ведь вы его друг… вы с ним в карты играете…
– В карты играю!.. Мало ли что в карты играю… Играю в карты… а не друг… В карты, а вовсе не друг.
– Но ведь и я к нему отношусь дружески…
– О вас не говорят…
– Но вот Арсеньев…
– Арсеньев… Арсеньев… А вы знаете, кто такой Арсеньев…*
– ?
– Арсеньев – василиск!
Назвать Арсеньева василиском! Это был василек, а не василиск. Малодаровитый, узкий, но – благороднейший.
Потом пошли разговоры о Суворине: оказывается, у Суворина в 1873 г. (или в 74) жена отправилась в гостиницу с каким-то уродом-офицером военным, и там они оба найдены были убитыми. Кони как прокурор вел это дело, и Суворин приходил к нему с просьбой рассказать всю правду. Кони, понятно, скрывал. Суворин был близок к самоубийству. Бывало, сидит в гостиной у Кони и изливает свои муки Щедрину, тот слушает с участием, но чуть Суворин уйдет, издевается над ним и ругает его. Некрасов был не таков: он был порочный, но не дурной человек.
О Зиночке. Бывало, говорит: – Зиночка, выдь, я сейчас нехорошее слово скажу. – Зиночка выходила.
Опять о Государе: побледнел, помолодел, похорошел, прежде был обрюзгший и неуверенный. – Я снова на улице. Извозчики заламывают страшные цены. В «Вене» снята вывеска. У Лейнера тоже: заменены белыми полотняными: «Ресторан о-ва официантов», «Ресторан И. С. Соколова». Вместо «St. Petersburger Zeitung» вывеска: «Немецкая газета». По улицам солдаты с котелками, с лопатами. Страшно, что такую тяжесть носит один человек. У «Вечернего Времени» толпа. Многие жертвуют на флот – сидит даже военный у кружки и дама, напропалую с ним кокетничающая. Какого-то зеленого чертежника, чахоточного, громко (со скандалом) бранят: как вы смели усумниться? как вы смели такое высказать… Он громко кричит «Это ложь!» (яростно). Дама очень добродушная – хохлушка? – читает в окне «Вечернего Времени»: «У Льежа погибло 15 000 немцев» и говорит: «Ну, слава Богу… я счастлива».
После долгих мытарств в «Ниве» иду в «Речь». Там встречаю Ярцева, театрального критика. Говорю: как будем мы снискивать хлеб свой, если единственный театр теперь – это театр военных действий, а единственная книга – это «Оранжевая книга»!* В «Современном Слове» Ганфман и Татьяна Александровна рассказывают о Зимнем дворце и о Думе*. В Думе: они находят декларацию поляков очень хитрой, тонкой, речь Керенского умной, речь Хаустова глупой, а во время речи Милюкова – плакал почему-то Бирилев… Говорят, что г-жа Милюкова, у которой дача в Финляндии, где до 6000 книг, заперла их на ключ и ключ вручила коменданту: пожалуйста, размещайте здесь офицеров, но солдат не надо.
У меня весь день омрачен тем, что, заглянув в свой паспорт, который я только вчера разыскал, я увидел в графе «отношение к воинской повинности» совершенно пустое место. Я отправился к воинскому начальнику с карточкой от одного чиновника – но ничего не мог добиться; сволочь писарь в Пскове – в мещанской управе спьяну не проставил, что я единственный сын! В вагоне разговоры о войне. – «С ума сошел Василий Федорович» – говорит мужик.
4 августа. Был у Кульбина. Там – как это ни дико – мы играли в «чепуху». Много смеялись. Острили. Евреинов рассказал анекдот о дьяконе и священнике, которые, затеяв устроить литературный вечерок, читали на церковный лад «Чуден Днепр» и «На смерть Пушкина». Была колбаса, много снеди – бегали вперегонки. Потом пошли – и прожекторы, которые шарят по небу, не летят ли с запада цеппелины. Я высказал уверенность, что немцы непременно на этой неделе пустят над Петербургом и Кронштадтом несколько парсифалей. По земле кронштадтцы уже не шарят прожекторами. (Евреинов всю дорогу меня под руку.) Оказалось, что газетчики все арестованы. – Почему? – Потому, что вместо 3 копеек брали за «Биржевку» по 5 и даже по 10 коп. Мы так подошли до дома Евреинова, которого издали окликнула Елена Анатольевна Молчанова (секретарша Николая Николаевича – умная, начитанная, кажется в него влюблена, очень нервная; рассказывая, вскакивает со стула и ходит; на лбу у нее от волнения красное пятно; курит; деятельна очень; падчерица Савиной и дочь председателя Театрального общества Молчанова), она была в городе и крикнула издали: новости. – Что такое? – Мы накануне войны с Турцией. Завтра будет объявлена! – Четыре мильона русских лавой идут на Берлин: там им такие волчьи ямы и западни. Два мильона пройдут, а два мильона в резерве. – В Берлине ужас – революция неминуема. Оказывается, кайзер в третьем поколении уже сифилитик: безумный! Что делали с русскими в Германии! Карсавина ехала, привязанная к площадке! 6 суток ехала! В Марию Федоровну плевали! Все это она говорила, трясясь, как-то сологубо-передоновски.
1916
21 июля. Вчера именины Репина. Руманов решил милостиво прислать ему добавочные 500 рублей при таком письме: «Глубокоуважаемый И. Е. Правление Т-ва А. Ф. Маркса в новом составе в лице И. Д. Сытина, В. П. Фролова и А. В. Руманова, ознакомившись с вашим прекрасным трудом и желанием получить дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей, не предусмотренное договором, считает своим приятным долгом препроводить вам эту сумму. С истинным уважением В. Фролов».
Я вошел в кабинет И. Е., поздравил и прочел письмо. Он изменился в лице, затопал ногами: – Вон, вон; мерзавец, хочет купить меня за 500 рублей, сволочь, сапоги бутылками (Сытин), отдайте ему назад эти 500 и вот еще тысяча (он полез в задний карман брюк)… отдайте… под суд! под суд, и т. д. – Я был очень огорчен, что эта чепуха доставила ему столько страдания. Сегодня снова хочу попытать свое счастье.
На именинах вчера – обедали в саду, великолепные фрукты, компот и т. д. Шкилондзь пела Репину «Чарочку». Бобочка с Женечкой Соколовым в пруду на веслах. Ермаков меня травил и дразнил: через месяц призыв ратников, и моя участь зависит от Ермакова, он (в шутку) этим пользуется.
Сегодня – после двухлетнего перерыва – я впервые взялся за стихи Блока – и словно ожил: вот мое, подлинное, а не Вильтон, не Кушинниковы – не Киселева – не Гец, – не все это мещанство, ликующее, праздно болтающее*, которое вокруг. Последние дни мое безделье – подлое – дошло до апогея, и я вдруг опомнился и сегодня весь день сижу за столом: все 4 тысячи, что дала мне книжка, да две тысячи, что дали мне статьи, ушли в полгода, не дав мне ни минуты радости. 18-го и 19-го: Бламанжеевское дело. Странно читать в газетах об этом холодильнике.
[Сентябрь, 22]*. Вчера познакомился с Горьким. Гржебин сказал, что едем к Репину в 1 ч. 15 м. Я на вокзал. Не нашел. Но глянув в окно купе 1-го класса – увидел оттуда шершавое нелепое лицо – понял: это он. Вошел. Он очень угрюм: сконфузился. Не глядя на меня, заговаривал с Гржебиным: – Чем торгует этот бритый, на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири – пари! Не верите, я пойду, спрошу. – Я видел, что он от застенчивости, и решил деловитыми словами устранить неловкость: заговорил о том, почему Розинеру до сих пор не сказали, что Сытин уже купил Репина. Горький присоединился: конечно, пора напомнить Розинеру, что он не редактор, а приказчик.
Заговорили о Венгрове, Маяковском – лицо его стало нежным, голос мягким – преувеличенно, – он заговорил в манере Миролюбова: «Им надо Библию читать… Библию… Да, Библию. В Маяковском что-то происходит в душе… да, в душе».
Но, видно, худо разбирается, ибо Венгров – нейрастенический, растрепанный, еще не существует, а Маяковский – однообразен и беден. Когда городская жизнь и то и другое…
Приехали на станцию – одна таратайка, да и ту заняли какие-то двое: седой муж и молодая жена. А у Горького больная нога, и ходить он не может. Те милостиво согласились посадить его на облучок – приняв его за бедного какого-то. У Репина Горький чувствовал себя связанным. Уныло толкался из угла в угол. Репин посадил его в профиль и стал писать. Но он позировал дико – болтал головою, смотрел на Репина – когда надо было смотреть на меня и на Гржебина. Рассказал несколько любопытных вещей. Как он ходил объясняться в цензуру.
Горький. Ваш цензор неинтеллигентный человек.
Главный Цензор. Да как вы смеете так говорить!
– Потому что это правда, сударь.
– Как вы смеете звать меня сударем. Я не сударь, я «ваше превосходительство».
– Идите, ваше превосходительство, к черту.
Оказывается, цензор не знал, что это Горький… – А потом мы оказались земляками (и Горький показал, как жмут руки). О Баранове нижегородском – все боялись, вор, сволочь – и вдруг оказывается, по утрам в 8 час. в переулке назначает свидание какой-то очень красивой даме, жене пивовара, – сам высокий, она низенькая, 40-летняя – так вдоль забора и гуляют… Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он – сверху вниз, а я из-за забора – очень мило, задушевно.
А то еще смотритель тюрьмы – мордобоец – знаменитый в Нижнем человек, так он поднимал воротничок и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме жила. Он – к ней тайком – и (тихо, почти шепотом) Лермонтова ей читал… «Печальный Демон, дух изгнанья».
Тут Юрий Репин робко: «Я очень сочувствую, как вы о войне пишете». Горький заговорил о войне: – Ни к чему… столько полезнейших мозгов по земле зря… французских, немецких, английских… да и наших, не дурацких. Англичане покуда на Урале (столько-то) десятин захватили. Был у нас в Нижнем купец – ах, странные русские люди! – так он недавно пришел из тех мест и из одного кармана вынимает золото, из другого вольфрам, из третьего серебро и т. д., вот, вот, вот все это на моей земле – неужто достанется англичанам – нет, нет! – ругает англичан. Вдруг видит карточку фотографическую на столе. – Кто это? – Англичанин. – Чем занимается? – Да вот этими делами… Покупает… – Голубчик, нельзя ли познакомить? Я бы ему за миллион продал.
Пошли обедать, и к концу обеда офицера, сидевшего весь обед спокойно, прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что мы победим, что наши французские союзники – доблестны, и английские союзники тоже доблестны… тра-та-та… и Россия, которая дала миру Петра Великого, Пушкина и Репина, должна быть грудью защищена против немецкого милитаризма.
– Съели! – сказал я Горькому.
– Этот человек, кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией… – сказал он.
Я пошел домой и не спал всю ночь.
17 октября. Вчера был у меня И. Е. Я вздумал читать ему «Бесы» (при Сухраварди). Он сдерживал себя как мог, только приговаривал: дрянь, негодная, мелкая душа и т. д. – и в конце концов не мог даже дослушать о Кармазинове. – И какой банальный язык, и сколько пустословия! Несчастный, он воображал, будто он остроумен… Нет, я как 40 лет назад швырнул эту книгу (а Поленов поднял), так и сейчас не могу.
1917[132]
1 января. Лида, Коля и Боба больны. Служанки нет. Я вчера вечером вернулся из города, Лида читает вслух:
– Клянусь Богом, – сказал евнуху султан, – я владею роскошнейшей женщиной в мире, и все одалиски гарема…
Я ушел из комнаты в ужасе: ай да редактор детского журнала*, у которого в собственной семье так.
28 января.
Ежедневное[133]
Яростно Боба на Колю накинулся, Он не жалел кулаков. Словно кабан разозленный он ринулся, Словно наш пес на волков. Бой закипел. Нет уж силы держаться: Боба бежит, он вспотел. Коля стоит и на месте смеется: «Куда удираешь, пострел?» Боба вскричал: «Дурачье, негодяй, Бог тебе рожу послал!» Крикнул затем он три раза: «ай, ай!» Шиш показал и удрал.21 февраля. Сейчас от Мережковских. Не могу забыть их собачьи голодные лица. У них план: взять в свои руки «Ниву». Я ничего этого не знал. Я просто приехал к ним, потому что болен Философов, а Философова я нежно люблю, и мне хотелось его навестить. Справился по телефону, можно ли. Гиппиус ответила неожиданно ласково: будем рады, пожалуйста, ждем. Я приехал. Милый Дмитрий Владимирович пополнел, кажется здоровым, но усталым. Чаепитие. Стали спрашивать обо мне и, конечно, о моих делах. Меня изумило: что за такой внезапный ко мне интерес? Я заговорил о «Ниве». Они встрепенулись. Выслушали «Крокодила» с большим вниманием. Гиппиус похвалила первую часть за то, что она глупая, – «вторая с планом, не так первобытна». Вошел Мережковский и тоже о «Ниве». В чем дело, отчего «Нива» такая плохая? Я сказал им все, что знаю: надо Эйзена вон, надо Далькевича вон. – Ну, а кого бы вы назначили (все это с огромным интересом). Я, не понимая, почему их заботит «Нива», ответил: – Ну хотя бы Ильюшку Василевского. – Они ухмыльнулись загадочно. «Ну а вы сами пошли бы?» Я ответил, что об этом уже был разговор, но я один боюсь. И вот после долгих нащупываний, переглядываний, очень хитрых умолчаний – они поставили дело так, что «Ниву» должна вести Зинаида. – Ну вот Зина, например. – Я ответил, не подумав: – Еще бы! Зинаида Николаевна отличный редактор. – Или я, – невинно сказал Мережковский, и я увидел, что разыграл дурака, что это давно лелеемый план, что затем меня и звали, что на меня и на «Крокодила» им плевать, что все это у них прорепетировано заранее, – и меня просто затошнило от отвращения, как будто я присутствую при чем-то неприличном. Вот тут-то у них и сделались собачьи, голодные лица, словно им показали кость.
– Мы бы верхние комнаты под Религиозно-философское о-во, – сказал он.
– И мои сочинения дать в приложении, – сказала она.
– И Андрея Белого, и Сологуба, и Брюсова дать на будущий год в приложении!
Словом, посыпались планы, словно специально рассчитанные на то, чтобы погубить «Ниву». Но какие жадные, голодные лица.
4 марта. Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккала в Питер. Тянет на улицу, ног нет. У Набокова: его пригласили писать амнистию.
10 марта. Вчера в поезде – домой. Какой-то круглолицый самодовольный жирный: «Бога нету! (на весь вагон). Смею уверить вас честным словом, что на свет я родился от матери, не без помощи отца, и Бог меня не делал. – Бог жулик, вы почитайте науки». А другой – седой, истовый, почти шепотом: «А я на себе испытал, есть Господь Бог Вседержитель», – и елейно глядит в потолок. Я стал его расспрашивать (когда стоеросовый атеист ушел), и он рассказал мне, какое чудо уверило его в бытии Божьем.
– Я сиделец монопольной лавки. Сижу и гляжу на образ – казенный – Божьей Матери. Вдруг экспроприаторы. Стреляют, один раз возле уха, а другой раз в упор, в живот. И что же – пуля скользнула по животу и отскочила. И я понял, что это чудо.
30 апреля. Сейчас к Репину ходили по воду: я, Боба, Коля, Лида, Маня и Казик. Мы взяли пустое ведро, надели на длинную палку и запели сочиненную детьми песню:
Два пня, Два корня (которые могут встретиться по пути), Чтобы не было разбито (ведро), Чтобы не было пролито, Блямс!Илья Еф. повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдится своей «сестры, ведущей солдат в атаку», и говорит:
– Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать. Про какой-то портрет: «Это, знаете, как футурист Хлебников говорил: мой портрет писал один Бурлюк в виде треугольника, но вышло непохоже». Про «Крестный ход»: «Теперь уже цензура разрешит». О своем новом портрете Толстого: «Я делал всегда Толстого – слишком мягкого, кроткого, а он был злой, у него глаза были злые – вот я теперь хочу сделать правдивее»*.
Показывал с удовольствием – сам – охотно. Я сказал про бандуриста, который с ребенком, что ребенок как у Уотса, он: «Верно, верно, жалко, что выходит на кого-нб. похоже».
Вынес детям по бубличку. Проводит новый водопровод в дом, чтоб зимою не замерзало. – А то умру, и дом останется не в порядке. Сказал он, не позируя.
Колька теперь усвоил: «Аллехен зидейч!» (Идите). «Глуп, как пуп», «лопе де вега» (кушать). Он выдержал экзамены в 4-й класс Тенишевского. Очень толст, упитан, грубоват, нет прежней изящной тонкости восприятий (по крайней мере, она не заметна снаружи) – нужно развить его физически, нужна лодка и трапеции.
Осенью И. Е. упал на куоккальской дороге и повредил себе правую руку. Теперь он пишет почти исключительно левой – семидесятитрехлетний старик!
– Я только портрет (г-жи Лемерсье) правой рукою пишу!
1 мая. Ничего не могу писать. Не спал всю ночь оттого, что «засиделся» до 10 часов с И. Е. Репиным. Дела по горло: нужно кончать сказку, писать «Крокодила», Уота Уитмэна, а я сижу ослом – и хоть бы слово. Такова вся моя литературная карьера. Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница.
12 мая. Боба каждый день традиционно пугает Евгению Владиславну – учительницу. Ежеутренно становится за дверью и – бах. Она традиционно пугается. Коля, обладающий сверхъестественным аппетитом, сочинил сейчас:
Здравствуй, папаша. Ты радость наша — Когда есть щи и каша, А как нету щей и каши, То не надо и папаши.Совсем не спал. Лодка. Мечислав. Боба считает по-фински: юкса, какса, колма, пли, пу!
Коля и Лида признались мне в лодке, что они начали бояться смерти. Я успокоил их, что это пройдет.
[Страница вырвана. – Е. Ч.]…Дети играют с Соколовым Женей в крокет, и мне приятно слышать их смех. Теперь я понял блаженство отцовства – только теперь, когда мне исполнилось 35 лет. Очевидно, раньше – дети ненормальность, обуза, и нужно начать рожать в 35 лет. Потому-то большинство и женится в 33 года.
Читаю Уитмэна – новый писатель. До сих пор я не заботился о том, нравится ли он мне или нет, а только о том, понравится ли он публике, если я о нем напишу. Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе, – и поэтому я впервые стал мерить Уитмэна собою – и диво! Уитмэн для меня оказался нужный, жизненно спасительный писатель. Я уезжаю в лодке – и читаю упиваясь.
Did we think victory great?* So it is – but now it seems to me, when it cannot be help’d, that defeat is great, And that death and dismay are great[134].Это мне раньше казалось только словами и wanton[135] формулой, а теперь это для меня – полно человечного смысла.
1917, май. Колькины вирши:
Порка
Раз поспорил с Васей я, И дошло до драки. Уж покажет папа мне, Где зимуют раки. Вот позвал меня отец И велел ложиться. Я почувствовал вконец, Как рак шевелится. Больно-больно так скребет И сдирает кожу, И по пяткам сильно бьет, Попадает в рожу.Июнь. Ходил с детьми к Гржебину в Канерву. Гржебин, заведующий конторой «Новой Жизни» – из партии социал-прохвостов. Должен мне 200 р., у Чехонина похитил рисунки (о чем говорил мне сам Чехонин); у Кардовского похитил рисунок (о чем говорил мне Ре-Ми); у Кустодиева похитил рисунок (о чем говорил мне Кустодиев); подписался на квитанции фамилией Сомова (о чем, со слов Сомова, говорил мне Гюг Вальполь); подделал подпись Леонида Андреева (о чем говорил мне Леонид Андреев). Словом, человек вполне ясный, и все же он мне ужасно симпатичен. Он такой неуклюжий, патриархальный, покладистый. У него чудные три дочери – Капа, Ляля, Буба – милая семья. Говоря с ним, я ни минуты не ощущаю в нем мазурика. Он кажется мне солидным и надежным.
Здесь у нас целая колония.
1) Ада Корвин. Безобидная босоножка. Пожилая и немного жалкая эстонка. Учит пластике Лиду, Женю (Соколова), внуков Репина и т. д. Скорее приятная.
2) Соколовы. Она круглая бездельница; хохлушка; сплетница; соглядатайша – и уверена, что она передовая и несет какое-то знамя; он – самодовольный, неглупый, кругленький, лысенький буржуа, профессор, скорее хороший.
3) Цирус. Муж и жена. Известны мне мало.
4) Н. А. Перевертанный-Черный – добр, ничтожен, плюгавая душа, весь в мелочах, в пошлом (впоследствии оказался бандитом. – 1953).
5) Полякова Ада – томная певица, связавшаяся с пожилым певцом. Матовая.
6) Добраницкий Мечислав – человек недалекий, но поэтический. Член Исполнительного Комитета (где?). Его жена – добрая, талантливая.
7) Ре-Ми, карикатурист. Хотя я в письмах пишу ему «дорогой», но втайне думаю глубокоуважаемый. Это человек твердый, работяга, сильной воли, знает, чего хочет. Его дарование стало теперь механическим, он чуть-чуть превратился в ремесленника, «Сатирикон» сделал его вульгарным, но я люблю его и его рисунки и всю вокруг него атмосферу чистоты, труда, незлобивости, ясности. Возле него, как жаба, его старая жена Софья Наумовна, жившая с Аверченко и еще с кем-то, ненавидящая Ре-Ми и вышедшая за него ради денег, о чем она сама говорит. Она боится его и при нем притворяется любящей, нежной женой, но без него говорит о нем цинично и грубо, мне кажется, она может его зарезать при случае.
Потапенко, Игнатий Ник. Относится к себе иронически. Мил. Прост. Самый законченный обыватель, какого я когда-либо видал.
Среда. Июнь. Были у Репина. Скучно. Но к вечеру, когда остались только я, Бродский, Зильберштейн и П. Шмаров – все свои, – Илья Еф. стал рассказывать. Рассказывал о Ропете. – Ах, это был чудный архитектор. В то время фотографий не было, и архитекторы так рисовали! Он, Ропет, был очень похож на меня, лицом, фигурой – (помнишь, Вера?) – но он чу́дно, чудно рисовал. И вот с ним случился случай. Он поехал в заграничную поездку… от Академии… я тогда отказался, остался в России. Он окончил почти в одно время со мной… поехал в Италию… всюду… и все рисует… церкви, здания… мотивы… И все в чемоданчик… рисует, рисует… и чемоданчик для него дороже всего на свете… Ну, едет в Вену… и так много рисовал, что сомлел – ехал, должно быть, 3-м классом, – сомлел, обморок, – носильщики его вынесли… и он очнулся только в номере гостиницы.
– А где мой чемоданчик? Где рисунки? – Туда, сюда… нету. Ай-ай-ай, ищут, ищут, нету… А Ропет, он вдруг вот так (скрючился) – да так и остался шесть лет… И с тех пор он не мог оправиться. Потом он рисовал, но уже не то… Так и погибла карьера. (Лицо И. Е. изображает страдание.)
Вот Куинджи, тот не так… Тому нужно было 35 тысяч перевезти в Крым, в Симеиз, за имение… Так он взял корзинку от земляники, уложил туда деньги, зашил, и конец.
– Носильщик!
И все морщится, когда носильщик несет к нему в вагон «земляничную» корзинку:
– А, и эта дрянь тоже здесь.
Так и доехал. А Орловский (художники, слушайте!), когда ему нужно было везти деньги, брал порожние тюбики и набивал их червонцами. Казалось, что краски.
Все стали рассказывать случаи, как кого обокрали. И. Е. рассказал:
– Ехал я в Одессу из Киева. В Киеве получил 1500 р., положил их в конверт, и в карман. Бумажник в левом, а конверт в правом. Хорошо. Еду. Только входит в купе красавец, брюнет, выше среднего росту. Я как глянул на него, так сейчас за карман и схватился. Он острым глазом подметил этот жест и отвел глаза. И вот я заснул – на меня нашел столбняк, сплю и чувствую, как кто-то шарит у меня в карманах, и ничего… а потом проснулся: Одесса. Беру извозчика, еду в гостиницу… и вдруг на дороге, ай-ай-ай, нет конверта… назад! – искали, публикацию делали, ничего не помогло. А брюнет со мной в одной гостинице остановился – я его встретил и говорю:
– Знаете, меня обокрали.
Он вежливо, но не очень горячо выразил сочувствие… Полиция нашла у него много денег. Но я заметил, что далеко зашел (?), и в конце концов сказал полиции, что никаких претензий ни против кого не имею. Ну вот и все.
Заговорили о купании.
– У нас в Чугуеве был мальчик Вася Кузьмин… Так он, бывало, возьмет камень, положит его себе на голову и идет через Донец под водой. Две минуты кажутся получасом, и все думаешь: нет, не вынырнет. Но Вася всегда вынырял.
Я, бывало, хорошо плавал. В Петергофе там один остров был – так я до него доплывал. Многие удивлялись.
(Заметив, что здесь тень хвастовства.) – Но потом, через 25 лет, попробовал с Матэ и Ропетом у Стасова, в Парголове – и черт знает что вышло!
16 июня. Вчера я тонул. Прыгнул с лодки в воду, на глубину, поплавал, и тянет меня в воду. А Коле крикнуть не могу, все слова забыл, только глазами показываю. (Я с детства был уверен, что умру в воде. Как русские критики: Писарев, Валерьян Майков.) Наконец-то Коля догадался.
Играю по вечерам с детьми в шарады. Вчера они представляли – линолеум, я с Лидой и Гретой – карниз и светелка. Коля играет плохо, суетится, кричит, ненаходчив. Я вчера читал ему о Robert Owen’e.
19 июня. Совсем не сплю. И вторую ночь читаю «Красное и черное» Стендаля, толстый 2-томный роман, упоительный. Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. Иначе нельзя оторваться – нужен героический жест; через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петрограде вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена, бывшие в 1830 г.
Я сочинил пьеску для детей. Вернее, первый акт. Лида сказала мне: – Папа, у тебя бывает бесписное время (когда не пишется); пиши тогда для детей.
Был с Репиным вчера у Ре-Ми. Он какой-то вялый. Не оживился ни разу. У Ре-Ми Буховы и Богуславская, которая вчера рассказывала о Бурцеве, а я сдуру смеялся над нею и, кажется, обидел. Зря.
20-го июня 1917. Пишу пьесу про царя Пузана*. Дети заставили. Им была нужна какая-нб. пьеска, чтобы разыграть, вот я в два дня и катаю. Пишу с азартом, а что выйдет… Черт его знает. Потуги на остроумие. Места, не смешные для взрослых, смешат детей до слез. Вчера пришли Кушинниковы и сообщили, что немецкий фронт прорван в 3-х местах.
22 июня. Вдруг у меня прошумело в ушах: Керенского убьют анархисты.
24 июня 1917. Делаем детский спектакль. У нас есть конкуренты. Катя говорит: у них будет оркестр кронштадтского горизонта (гарнизона). Коля в восторге. О, с каким пылом я писал эту пьесенку и какая вышла дрянь. 3-го дня у Репина были скандалы: явился Миша Вербов, всюду объявляющий себя учеником Репина и т. д. Репин его выгнал при всех и взволновался. И. Е. пишет Ре-Ми. Утомляется, не имеет времени поспать после обеда, и оттого злится. Шмаров прочитал невинные стишки – об измене России союзникам, И. Е. не разобрал, в чем дело – и давай кричать на Шмарова:
– Черносотенные стишки! – Адель Львовна вступилась, он набросился и на нее, как будто она автор стишков. Гости были терроризованы.
28 [июня]. Сон. Снился мне сон по-английски. Когда я проснулся, в ушах еще звучали слова: and we shall bestow on you the cake of the «Peredvigniki» soap[136] – фраза слишком заковыристая, типично английская, какой я ни за что не мог бы придумать в нормальном состоянии. Снился мне Репин и Андреева-Шкилондзь. Как будто синее море кончается какой-то бухтой, я и сейчас вижу угол бухты, по набережной проходит конка, и я знаю, что это наша набережная, против нашей дачи, и тут же гостиница, модная, шикарная, где и стоит Репин, хотя это в двух шагах от Пенатов. И вот я стою где-то на дикой скале и вижу с тоскою, что внизу поет Шкилондзь для Репина и его гостей. Мне страшно хочется туда, я иду коридорами, иду, иду, – вижу номерок, никаких гостей нету (тоска, тоска). Репин сердитый, черноволосый. А на стене портрет еврея на фоне Малороссии. Помню рыбьи глаза на портрете, помню, был другой портрет – какой, уже забыл. И весь сон – по-английски. Я беру с этажерки сатирический журнал, вижу карикатуру на Репина и читаю: and we shall bestow on you the cake of the «Peredwigniki» soap – и просыпаюсь. Как раздражали Репина звонки конок!
Забастовали кондукторы Финляндской ж. д., и бедная Марья Борисовна застряла в городе. Бобочкино рождение. По Куоккале расклеены объявления, будто Межуев (лавочник) выдает конину за говядину. Значит, мы ели конину и сами того не знали. Меня укусила бешеная собака. Я – байдуже[137].
10 июля. Маша утром: «Знаешь, в России диктататура!» От волнения. Еще месяц назад я недоумевал, каким образом буржуазия получит на свою сторону войска, и казну, и власть; казалось, вопреки всем законам истории, Россия после векового самодержавия вдруг сразу становится государством социалистическим. Но нет-с, история своего никому не подарит. Вот, одним мановением руки она отняла у передовых кучек крайнего социализма власть и дала ее умеренным социалистам; у социалистов отнимет и передаст кадетам – не позднее, чем через 3 недели. Теперь это быстро. Ускорили исторический процесс.
В дневник 15 июля. Был вчера у американки Mrs. Farwell, в Царском Селе, вместе с Murphy и Gall из Comission. Хохотали много. Она сказала, что за все 6 мес., проведенных ею в России, она первый раз проводит время так приятно. Мне она показалась банальной американкой, которая хочет казаться экстравагантной. Ей под сорок лет – и вряд ли она подозревала, что я больше всего стремился говорить с нею for practice[138].
Здорово! Сегодня в «Англо-русское бюро» Murphy не явился*. Почему? У него лопнули башмаки, а других нету. Так сказал мне Mr. Dickinson. Я сдуру предложил Голлу: «Пойдем со мною, у меня есть пара английских сапог, я их не ношу, дам вам, вы передадите Murphy»… Голл в ужасе: ради Бога не делайте этого: у Murphy у самого есть башмаки, но он хочет устроить себе холидэй[139]. Вы погубите все дело.
Похороны казаков. Попы. Митры. – «Вениамин, добренький, только голос слабенький». Лошади.
Сочинил стихи:
Ты еще не рождалась*, Тебя еще нет, Ты испугалась Родиться на свет. Ты кем-то несмелым — – Как будто во сне — Начертана мелом На белой стене.Руманов говорил мне о Лебедеве, зяте Кропоткина: – Это незаметный человечек, в тени, – а между тем, не будь его, Кропоткину и всей семье нечего было бы есть! Кропоткин анархист, как же! – он не может брать за свои сочинения деньги, и вот незаметный безымянный человечек – содержит для него прислугу, кормит его и т. д.
В последний раз, когда я видел Кропоткина, он говорил о несомненном перерождении рабочего класса после войны. – Рабочие уже созревают для другого быта! – говорил он американцу. – Вот мистер Томсон из Клориона говорил мне, что транспортные рабочие, ткачи и железоделательные уже могли бы получить производство в свои руки and control it[140].
23 июля. Итак, я сегодня у Кропоткина. Он живет на Каменном острове, 45. Дом нидерландского консула. Комфортабельный, большой, двухэтажный. Я запоздал к нему – и все из-за бритья. Нет в Питере ни одного парикмахера – в воскресение. Я был в «Пале-Рояле», в «Северной», в «Селенте» – нет нигде. Взял извозчика в «Европейскую», забегал с заднего крыльца в парикмахерские, и все же поехал к Кропоткину небритый. Сад у Кропоткина сыроватый, комильфотный. Голландцы играют лаун-теннис. В розовой длинной кофте – сидит на террасе усталая Александра Петровна – силится улыбнуться и не может. – «О! я так устала… Зимний дворец… телефоны… О! я четыре часа звонила, искала Савинкова – нет нигде… Папа сейчас будет… У него Бурцев». Мы пошли пить чай. Племянница Кропоткина, Катерина Николаевна, женщина лет 45-ти, наливает чай – сладким старичкам с фальшивыми зубами и военно-морскому агенту Британского посольства, фамилии коего не знаю. Она рассказывает, как недели две назад солдаты делали у них на даче обыск – нет ли запасов продовольствия. Она говорила им: – Да вы знаете, кто здесь живет? – Кто? – Кропоткин, революционер! – А нам плевать… – И давай ломать дверь на чердак. Кропоткины позвонили комиссару Неведомскому (Миклашевскому), и солдаты поджали хвосты. В это время в боковых комнатах проходит плечистый, массивный с пиквикским цветом лица Кропоткин, вслед за ним Бурцев… Я раскланялся с Бурцевым издали, а Кропоткин через минуту радушно и бодро подошел ко мне: – Как же! как же! Я вас всегда читаю. Здравствуйте, здравствуйте… – и сел рядом со мною, и с аппетитом принялся болтать, обнаруживая светскую привычку заинтересовываться любой темой, которую затронет собеседник. Мы заговорили о Некрасове. Он: – Да, да, потерял рукопись Чернышевского «Что делать?», потерял*. Ему князь Суворов (тогдашний генерал-губернатор) – добыл ее из Петропавловской крепости, а он потерял. Я вам сейчас скажу стихотворение Некрасова, которое нигде не было напечатано. – И стал декламировать (по-стариковски подмигивая) известное стихотворение:
Было года мне четыре, Мне отец сказал: Все пустое в этом мире, Дело капитал!Декламацию сопровождал жестами. Когда шла речь о кармане – хлопнул себя по карману. «Я ведь много стихов знаю» – вот, например, «Курдюкову»*, и процитировал из «Курдюковой» то место, где говорится о городе Бонне. Я почувствовал себя в знакомой атмосфере Короленко, – атмосфере благодушия, самовара, стишков, анекдотов. Я бывал у Короленки каждый вечер в то время, когда он писал о смертной казни, – и это всегда была семейная благодушная идиллия.
– Стишкам Некрасова научил меня мой учитель Смирнов, – сказал Кропоткин. Тут подошла княгиня. – Как вам не стыдно, что не заехали к нам в Англии! – сказала она равнодушно-радушно. Тут я сразу почувствовал, что они устали, что я им в тягость, но что они покорно подчиняются уже сорок лет этой участи: принимать гостей – и выслушивать их внимательно, любезно, дружески и равнодушно. Он спросил меня, где я живу. Я подробно описал ему нашу коммуну – и сказал, что это совершенно новая для меня среда, да и вообще еще не учтенная нашей беллетристикой – рабочие, интеллигентные девушки. Я сказал ему, как мало они зарабатывают. Как скромно, достойно они живут. И, знаете, ничего двусмысленного… – Ну, а односмысленного много? – спросил он и, по-стариковски хихикая, сказал: – Смотрите не влюбитесь!
Если бы я не знал, что передо мною сидит один из величайших пророков, гениальный борец за высший идеал человечества, я бы подумал, что это просто добродушный папаша. Чувство домашности, простоты. – Вот вы из этих ваших барышень найдите мне секретаршу. У меня была одна бельгийка в Англии – и хорошо справлялась – да приехал русский балет, и она увлеклась.
Он опять по-стариковски подмигнул.
– Вот вы опишите-ка то, что рассказывали.
– Увы, я как беллетрист бездарен.
– Вовсе нет. Ваши критические статьи – ведь та же беллетристика.
– П. А. всегда читал вас в «Русском Слове», – вставил зять.
– Нет, в «Речи». Главным образом, в «Речи». – Он опять заговорил о секретаршах. – Странно, в России никто не знает стенографии. Меня на Финляндском вокзале встретили репортеры; я стал с ними беседовать, и ни один из них не записал беседы точно. Все переврали. Потому что не стенографы!
Заговорили о Достоевском, у которого жена – стенографистка. – Ренегат! – сказал Кропоткин. – Вернулся из Сибири и восстал против Фурье, против социализма. И замечательно, что все ренегаты после ренегатства становятся бездарны, теряют талант.
Меня изумило это мнение, ибо Достоевский после каторги – и окрылился, но я почувствовал, что на огромном черепе князя Кропоткина нет эстетической шишки. Я сказал ему, как мне нравится стиль Михайловского… Он говорит: – Да, но я никогда не мог ему простить его политической трусости. Я виделся с ним в 1867 г. Он показался мне красной девицей. Как он боялся меня и брата!.. Это он поправлял Льву Тихомирову статьи.
Княгиня спросила, есть ли в Куоккала провизия. Я сказал: – Не знаю. – Ну, значит, есть, – сказал Кропоткин. – А вот сегодня я был в Зимнем дворце у Керенского – и на нас, 4-х человек, дали на огромной тарелке с царскими вензелями, с коронами – четыре вот таких ломтика хлеба… И вода! (Он поморщился.) Мы с Сашей переломили один ломтик – а остальное оставили Керенскому.
Разговор перескочил на пишущие машины. Он стал расхваливать их с восторгом. Ну, зато ж и дорого! Простая 20 ф., а с усовершенствованиями и все 30 отдай!! То же машины Зингера – длиннейший панегирик машинам Зингера: они и чулки штопают, и петли метают. (Он указал рукой на воротник.) Вообще страшное гостеприимство чужим темам, чужим мыслям, чужой душе. Он готов приспособиться к любому уровню, и я уверен, что приди к нему клоун, кокотка, гимназист, он с каждым нашел бы его тему – и был бы с каждым на равной ноге, по-товарищески. Заговорили о Репине:
– Давайте, Корней Ив., поедем к нему.
Я сказал Кропоткину, что в Куоккала меня уверяли, будто он живет там.
– Вот напишите, К. Ив., как создаются легенды. Я ехал с Элизе Реклю, и тот в поезде упомянул мое имя. Вдруг южанин француз:
– О! prince Kropotkine убит… Да, да! – и рассказал ему целую историю о кн. Кропоткине. – Или вот мой брат: в 1861 г. он участвовал в студенческих беспорядках, т. е. просто пошел вместе с компанией других в генерал-губернаторский дом и заявил там какую-то претензию. Он был впереди всех и взошел с товарищем на верхнюю ступеньку, и его избили жандармы и поволокли в тюрьму… Проходит 3 дня, я получаю от него бисерным почерком написанную записку – все благополучно. Вдруг вбегает ко мне дядя Сулима и говорит:
– А знаешь, Петя, наш-то Саша… о!
– Что такое?
– Неужто не знаешь? Казацкая лошадь ударила его копытом в глаз, пенсне разбилось, и осколки застряли в глазу.
– Чепуха! Брат не носит пенсне! Я сегодня получил от него записку.
Но молва ходила по Москве и ширилась, и я слышал через год ту же историю.
– Кланяйтесь Илье Ефимовичу. Я чту его. Я знаю все его картины (увы!) по снимкам.
Мне почудилось, что Кропоткину не нравилось то, что Репин писал портреты самодержцев, великих княгинь, и я еще раз почувствовал, что искусству он чужд совершенно.
– «Записки революционера» я диктовал по-английски. Потом Дионео переводил их. Переведет лист-полтора и приедет ко мне в Бромли, я исправляю – целый день. Он даже обижался. Я совершенно переделывал, писал заново. Но иначе было нельзя. A «Mutual Aid» я написал по-английски для «Nineteenth century»[141].
Рассказал он о Г. З. Елисееве. – Суровый был человек. Я был в «Отечественных Записках», в редакции. Там обсуждал письмо Суворина к одной шансонетной певице. Она снялась в непристойной позе, на коленях у Париса из Белой Лены (Belle Helene) – и Суворин выругал ее.
– Стыдно вам, талантливой, позорить себя!
Так вот, по этому поводу Минаев написал стишки, высмеивающие Суворина, – и все: Курочкин, Пятковский и др. – эти стишки одобряли. Вдруг вошел Г. З. Елисеев, угрюмо взял стихи, прочитал, отложил в сторону, сказав лениво:
– Дрянь.
Тут я почувствовал, что Кропоткин очень устал, и стал прощаться. Он и княгиня ушли спать. Остался я и Александра Петровна.
– О, как я устала… Устроить министерство удалось ровно на 10 дней – и потом опять все будет сначала.
– Советы депутатов мешают? – спросил кто-то.
– Нет, Некрасов – вот кто. Интриган, мелкий… Подлизался к совету, натравливает всех на Керенского. Поддерживает Чернова. Я так прямо и сказала Керенскому: у вас есть враг… Но Керенский и слышать не хочет. Папа дернул меня за рукав: молчи! – но я сказала: этот враг – Некрасов.
Керенский поморщился: это у вас домашнее. (У Лебедева ссора с Некрасовым.)
И все эта баба – Малаховская. Она ведь спит рядом со спальней Керенского в Зимнем дворце – а сама глазами так и ест Савинкова.
– А как вам показался Савинков?
– Хулиган.
Я запротестовал. Савинков мне показался могучим, кряжистым человеком, с сильной волей. Недаром он был столько во Франции, он истинный тип французского революционера.
И начался разговор, столь обычный во всех гостиных нынче. Потом пришли 2 француза – анархического вида, лысый и седой – богема, такие к Герцену часто ходили, и я ушел.
Шел по улице с военно-морским агентом, который просидел у Кропоткина полдня – и все же не читал ни одной его строчки.
24 [июля]. Совершеннейший идеал Кропоткина – мое жилье. Сегодня утром безо всякого кокетства, естественно одна из живущих в нашей коммуне девиц попросила меня, чтобы я выдернул из ее каблука какой-то винт, а то она не может пойти на службу. Я пошел с каблуком к Маше и та выдернула. Узнав, что у меня нет хлеба, – обе девицы предложили мне по кусочку своего и т. д. Они вечно берут друг у друга швейную машину, щипцы для завивки волос и т. д. Ночь. I am still trying to think in English because I was in the company of Americans since 7 o’clock. And talked very indifferent English without stopping. Professor Emery, clever little quiet humourous man and his young wife with the old old profile of the old old woman, simple and natural. And Mistress Farwell[142] – остроумная, пожилая, талантливая натура, немного стыдящаяся своего американизма. Они говорили обо всем: о прагматизме: проф. Эмери – прагматик, об О’Henry (он поклонник О’Генри), о детях, – и профессор рассказал о двух девочках, которые в неведении изучили самые неприличные места из Шекспира и читали их пред гостями. Потом мы пошли в Интимный театр и видели там Виктора Шкловского, который был комиссаром 8-й армии. Он рассказывает ужасы. Он вел себя как герой и получил новенький Георгиевский крестик. Замечательно, что его двоюродный брат Жоржик ранен на Западном фронте – в тот же день. Когда Шкловский рассказывает о чем-ниб. страшном, он улыбается и даже смеется. Это выходит особенно привлекательно. – «Счастье мое, что я был ранен, не то застрелился бы!» Он ранен в живот – пуля навылет – а он как ни в чем не бывало.
29 июля 1917. Нужно же запечатлеть историю с Беком. Этот неистовый черкес был приглашен вечно торопящимся Вальполем на огромное жалование для руководства великобританской, французской и американской пропагандой. А он ни по-английски, ни по-французски ни в зуб! – знает только entrez[143]. По-русски пишет безграмотно. Циркуляры, которые он сочиняет, совершенно щедринские – безграмотны и витиеваты. Я рассказал о нем Вильямсу, и он от лица комитетов – решил его уволить. Вильямс – заика, человек благородный – пошел заикаться… Тот вспылил и стал орать, скандалить, угрожать, а Вильямс та-та-та… На следующий день я, Гольден и Louden вошли к Беку в кабинет. Он закричал: «Вон, пошли вон! Ни одному англичанину я отныне не подам руки!» Объявив всю Англию под бойкотом, он обратился ко мне:
– Я готов вам дать удовлетворение у барьера! Я вас знать не желаю.
Я заикнулся, что Великобританское посольство…
– Плевать я хочу на посольство!
Скандалил он весело, со смаком, вдохновенно. Что будет – неизвестно.
31 [июля], воскресение[144]. Опять у Кропоткина. Он сидел с высоким американцем и беседовал о тракторах. Американец оказался инженер, который привез сюда ж.-д. вагоны для Сибирской железной дороги. Кропоткин говорит: незачем доставлять сюда военные снаряды, нам нужны тракторы, рельсовые перекрестки (crossing & switches). Он пальцами показал перекрещивающиеся рельсы. «Мне все говорят, что нам нужны тракторы и рельсовые перекрестки. Я хотел бы повидаться с американским послом и сказать ему об этом».
– О, это легко устроить! – сказал инженер. – И я очень хотел бы, чтобы вы поехали в Америку…
– К сожалению, Америка для меня закрыта.
– Закрыта?!
– Да, как для анархиста…
– Are you really an anarchist?!.[145] – воскликнул американец.
Я посмотрел на учтивого старикана и в каждой его черточке увидел дворянина, князя, придворного.
– Да, да! я анархист, – сказал он, словно извиняясь за свой анархизм.
Мы заговорили о проф. Гарпере, который изучает Россию, проводя здесь каждое лето.
– О, я знал его отца… – сказал Кропоткин, – он пригласил меня читать лекции в Гарвардском университете. Лекции о русской литературе. Он был ректором университета. Я приехал в Америку, прочитал в [в оригинале пропуск. – Е. Ч.] лекции и собрался в университет к Гарперу. Но за это время Гарпер был принят в Петрограде царем, царь очаровал его – и Гарпер нашел неудобным, чтобы я читал лекции у него в университете, и мне было отказано. Тогда студенты из протеста против Гарпера устроили мне дружественную манифестацию.
Американец был очень величествен.
До революции американцы стремились познакомиться с возможно большим количеством великих князей. Теперь они собирают коллекцию анархистов.
У Кропоткина собралось самое разнообразное общество, замучивающее всю его семью. На каждого новоприбывшего смотрят как на несчастье, с которым нужно терпеливо бороться до конца.
Я заговорил о Уоте Уитмэне.
– Никакого, к сожалению, не питаю к нему интереса. Что это за поэзия, которая выражается прозой. К тому же он был педераст! Я говорил Карпентеру… я прямо кричал на него. Помилуйте, как это можно! На Кавказе – кто соблазнит мальчика – сейчас в него кинжалом! Я знаю, у нас в корпусе – это разврат! Приучает детей к онанизму!
Рикошетом он сердился на меня, словно я виноват в гомосексуализме Уитмэна.
– И Оскар Уайльд… У него была такая милая жена. Двое детей. Моя жена давала им уроки. И он был талантливый человек: Элизе Реклю говорил, что написанное им об анархизме (?) нужно высечь на медных досках, как делали римляне. Каждое изречение – шедевр. Но сам он был – пухлый, гнусный, фи! Я видел его раз – ужас!
– В «De Profundis» он назвал вас «белым Христом из России»… *
– Да, да… Чепуха. «De Profundis» – неискренняя книга.
Мы расстались, и хотя я согласен с его мнением о «De Profundis», я ушел с чувством недоумения и обиды. То же чувство я испытывал, когда читал его бескрылую книгу о русской литературе*. Словно выкопали из могилы Писарева – и заставили писать о Чехове. Туповатым и ограниченным шестидесятником пахнуло на меня. В Кропоткине есть и это.
14 августа. Получил вчера тысячу рублей. Был у Буренина вечером. Старикашка. Один. Желтоватый костюмчик – серые туфли, лиловый галстук. Обстановка безвкусная. В прихожей – бюст в мерзейшем стиле модерн: он показывал мне, восхищаясь – смотрите, веками как будто шевелит. Все стены в картинах – дешевка. «Куплено в Венеции», – говорил он, показывая какую-то грошовую, фальшивую дрянь.
– Ну, это вещь неважная! – сказал я.
– Зато рамка хороша.
Когда я пришел, он читал книгу – о крысах. – «Представьте, у крыс бывает такая болезнь: сцепятся хвостами в кучу штук десять, и не расцепить. Так и подыхают. Совсем, как наше правительство теперь».
О Судейкине: – Я отца Судейкина помню, полковника. Видел его за неделю до смерти. Он был полковник, начальник охранки. Охранка находилась на Морской, при градоначальстве. Я был тогда редактором какого-то журнальца, выходившего при «Новом Времени». И вот меня пригласили в охранку. Я пошел. Ждал долго. Вышел ко мне, – ну совсем Иисус Христос. Такая же прическа, как у тициановского Христа (я всегда удивлялся, у какого парикмахера Христос причесывался). Такая же борода. Только глаза нехороши: сыщицкие.
– Тут к вам есть письмо от одного политического преступника.
– Политического преступника?! Ко мне?
– Да. Балакина. Вы его знаете?
– Знаю. Он сотрудничал в нашей газете. И когда его однажды посадили в тюрьму и приговорили к ссылке черт знает куда – я похлопотал (через Скальковского) перед Лорис-Меликовым, и его сослали всего только в Пермь.
– Да, да! он и теперь просит вашего заступничества.
– Но увы, Лорис-Меликова уже нет. У меня нет теперь сановных знакомых. А между тем Балакин достоин всякого участия. Не поможете ли ему вы?
– Ах, что вы? Балакин серьезный преступник.
Так мы разошлись. А через неделю Дегаев заманул Судейкина в конспиративную квартиру и укокошил. Ровно через неделю. Дожидаясь Судейкина, я увидел на подоконнике карточку, – среди них портрет кн. Кропоткина с надписью:
И на чело его легла Печать высоких размышлений.Я рассказывал сыну Судейкина всю эту историю.
О Некрасове: – Некрасов называл свою редакцию: «Наша консистория». Я принес ему переводы из Мюссе. Через неделю он вернул их мне назад. – «Вот, отец. Наша консистория не желает печатать». Конечно, он не был добряк. Но умница, и писателям делал немало добра. И однажды читал мне стихи – вот эти самые… «Рыцарь на час» – и разревелся. Я удивился. Мне даже невозможно было вообразить себе, чтобы Некрасов мог плакать.
Был как-то я у Ивана Аксакова… девственника… Тот был редактором «Дня». Когда он женился на дочери Тютчева, Тютчев сказал о нем:
– У него был скверный «День», а теперь будет скверная ночь.
О Всеволоде Крестовском: – Вызывал меня на дуэль.
Много говорил о своем архитекторстве: – Мой отец штук 30 церквей в Москве построил. Я от 11-ти лет до 18-ти учился этому делу. И вот посмотрите: как симметрически у меня в комнате картины развешаны. Я и стихи пишу симметрически. Беспорядка не люблю. Никакой разбросанности. Куплеты. Вот мои рисунки, – и показал мне акварель: «Три грации». Кто бы мог подумать, что Буренин рисовал «Три грации»! Это все равно, как если бы Джек Потрошитель вышивал шелками незабудки! Три грации действительно нарисованы очень отчетливо – по-архитекторски.
5 сентября. Подошел ко мне солдат, с грязными глазами, но бравый. – Товарищ, позвольте попросить… я пострадавший… мне нужно лечиться.
Я вынул кошелек, думал, что есть рубль – оказались одни пятишницы, я дал ему пять рублей поневоле.
– А в чем ваша болезнь?
– Венерическая… Твердый шанкр, – весело объяснил он, не испытывая ни малейшего стыда. – Член залечили, а теперь в… перешло.
Он говорил, даже не подозревая, что сказанные им слова неприличны. «Вот и медицинское свидетельство!» – и он вынул из кошелька (где я заметил кучу кредиток) какую-то бумажку, подписанную «сестра милосердия такая-то».
– Что это за сестра? Почему сестра, а не доктор?
– Да она же, сука, меня и заразила!
27 сентября. Самый изумительный факт моей жизни. Только что получились (на Загородном, 27, в комнату 30) газеты. Я, не разворачивая, сказал себе стихи:
Ползком переползаючи.И потом поправил:
Нет, низком. – Разворачиваю «Речь»: там эти же стихи с той же опечаткой!
И опять: вчера я – за два года впервые – вспомнил Ф. И. Благова и говорил о нем с Лаудоном. А сегодня, оказывается, Благов умер! Что записать о нем? Он в «Русском Слове» был выдаватель денег, «ассигновок» и т. д. Вот и все его редакторские обязанности. Обыватель он был анекдотический. Бывало, сидит – и вдруг скажет: – Чтой-то я сегодня ночью плохо спал. Слышу, в ухе свербит. Я палец в ухо, а там – огромнейший клоп. Вынул клопа – и заснул!
Самое его любимое место было баня. Да будет ему жарка баня паки бытия. Я познакомился с ним у Дорошевича.
__________________
Копельман (издатель «Шиповника») рассказывал, что на фронте он каждый день умывался на виду у всех у дороги. И вот, когда он мыл зубы, проходили мимо солдаты:
– Гм! Зубы моет! Видать, что жид.
__________________
Розанов рассказывал (в 1908 г.), как он всю жизнь мечтал о штанах – сделать себе штаны – как у всех. Наконец, получил у Суворина аванс (это был великий пункт его жизни!) – и заказал! Шил «жид» – очень хороший портной – и сшил коротки. Я как обваренный – бегу к нему, ругаю его ужасно – (он мечту мою, мечту всей жизни оскорбил!) – смотрю, а у него, у его ног болтается черноглазый жиденок – и гладит его по ногам, по коленям, и смотрит на меня с ненавистью. «Папочку обижают, я папочку приласкаю». И так мне стал мил этот жиденок, что я забормотал что-то, сконфузился и ушел. И ужасно я с тех пор жидов люблю…
Розанов писал Репину длинные письма – с кокетством. Репин не отвечал: разве мы женщины, чтобы кокетничать. Я мастеровой, чернорабочий. Репин начал акварелью портрет Розанова, но не кончил: уж очень противное лицо!
4 октября. Среда. Или 3-е?[146] Нет календаря. Вчера сдуру я поехал в Куоккала после 3-х месяцев отсутствия. Симфония осенних деревьев в парке. Рябина. Море, новый изгиб реки, в которую я уложил столько себя. Но ключа мне М. Б. не дала, и я проехал напрасно. Зашел к Репину, спросить его, что он хочет за портрет Бьюкенена: 10 000 р. или золотую тарелку. Репин (мертвецки бледный, с тенями трупа под носом и глазами, но все такой же обаятельный): – Знаете, конечно, тарелка очень хороша, но… я не достоин… не в коня корм… да и как ее продать. На ней гербы, неловко, – из чего я понял, что ему хочется денег. Я дал ему 500 р. долга за дачу – он очень повеселел, пошел показывать перемены в парке в озере Глинки, которое он высушил, провел дренаж, вырубил деревья – всюду устроил свет и сквозняк. Потом показывал картины. Бурлаки: «Ой как пожухло… Теперь я вижу, что я сделаю… я этому сифилитику (впереди всех) дам кумачовую (не яркую, а стираную) рубаху (вместо синей), а красную у заднего уберу – дам ему синюю – а то задний план чересчур кричит… Кушинников говорил: разве Волга бывает зеленой? Посмотрел бы он в Жигулях. Но я, кажется, перезеленил. Это место я написал неподалеку от заказчика – Шаталова (?) – он там, в Самаре».
Посидели, помолчали… – А вы знаете другую… которая «делается» (не сказал пишется) – и прескверно делается, как луна в Гамбурге. Вот… – И он вытащил несуразную голую женщину, с освещенным животом и закрытым сверху туловищем. У нее странная рука – и у руки собачка. – Ах, да ведь это шаляпинская собачка! – воскликнул я. – Да, да… это был портрет Шаляпина… Не удавался… Я вертел и так и сяк… И вот сделал женщину. Надо проверить по натуре. Пуп велик.
– Ай, ай! Илья Ефимович! Вы замазали дивный автопортрет, который вы сбоку делали на этом же холсте!! – Да, да, долой его, – и как вы его увидали!
Шаляпин, переделанный в женщину, огромный холст – поверхность которого испещрена прежними густыми мазками.
Про женщину я не сказал ничего, и И. Е. показал мне третью картину – «Освящение ножей», с масками вместо лиц, но – с интересной светотенью. В каждом мазке чувствуется, что Репин умер и не воскреснет, хотя портрет Ре-Ми (даже два портрета) похож и портрет Керенского смел, Керенский тускло глядит с тускло написанного, зализанного коричневого портрета, но на волосах у него безвкуснейший и претенциознейший зайчик. – Так и нужно! – объясняет Репин. – Тут не монументальный портрет, а случайный – случайного человека… Правда, гениального человека – у меня есть фантазия, – и обывательски стал комментировать дело Корнилова. Перед Керенским он преклоняется, а Корнилов – «нет, недалекий, солдафон».
10 октября. Целые дни трачу на организацию американского и английского подарка русскому народу: 2 000 000 экземпляров учебников – бесплатных, – изнемог – не сплю от переутомления все ночи – старею – голова седеет. Скоро издохну. А зима только еще начинается, а отдыха впереди никакого. Так и пропадет Корней ни за что. Семья? Но Колька растет – недумающий эгоист, а Лида хилая, зеленая, замученная.
Лида: «Я не люблю тратить сказки попусту на неспящего человека».
Чтобы я заснул.
И снег сверкает белизной, И еду я, блестя красой.(Из рук вон интересная книга.)
__________________
Когда Андреев приезжал в гости к Короленке (который жил в Куоккале, у Богданович, племянницы Анненских), Н. Ф. Анненский приготовил ему тарелку карамели – красной и черной. Андреев не приезжал, и мы угощались без него. – Кушайте эту, – говорил Николай Федорович. – Это Черные маски. А потом эту – это Красный смех. – А что же ему? – спросил я. – А ему «Царь Голод»*.
__________________
Была такая девица – Ганжулевич. Она писала критические статьи, читала рефераты. Однажды, во время ее доклада, – Анненский наклонился ко мне:
– Как вы думаете: если Боцяновского женить на Колтоновской – родится у них Ганжулевич?
Я как-то прочитал Николаю Федоровичу Анненскому стихи Бунина: «И сказал проводник – господин, я еврей! и, быть может, потомок царей. Посмотри на цветы, что растут по стенам…»* Велико было мое удивление, когда этот редактор «Русского Богатства» – на следующий день – на перроне поезда в Куоккала пел: «И шказал прроводник: гашпадин, я еврей». У него это выходило изящно и не пошло. Он был из тех, которые помнят все смешные стишки, эпиграммы, чужие забавные ошибки – какие они когда-либо в жизни читали. Он был немного Туркин из чеховского «Ионыча»: «Здравствуйте, пожалуйста». – «А ну, Пава, изобрази». – «И машет платком». Он был благороднейший общественный деятель, столп народовольческой веры, окончил два факультета, редактор «Русского Богатства», но всегда говорил чепуху, почти автоматически. Сейчас вижу его – среди внуков: «Шел грек через реку, видит грек в реке рак.» Дети его очень любили. Он ходил среди них колесом, все подтягивая штаны.
__________________
Розанов как-то в поезде распек П. Берлина за то, что у того фамилия совпадает с названием города. – А то есть еще Дж. Лондон! Что за мода! Ведь я не называю себя – Петербург. Чуковский не зовется Москва. Мы скромные люди. А то вот еще Анатоль Франс. Ведь Франс – это Франция. Хорош бы я был Василий Россия. Да я стыдился бы нос показать.
1918
14 февраля 1918. У Луначарского. Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нб., сделать одолжение – для него [нет] ничего приятнее! Он мерещится себе, как некое всесильное благостное существо, источающее на всех благодать: – Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, – и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно – и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота – в паршивенькой квартирке – наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага (роскошная, английская): «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем дворце, тогда-то в Министерстве просвещения и т. д.». Но публика на бумажку никакого внимания – так и прет к нему в двери, – и артисты Императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке. «Ведь написано [низ страницы срезан. – Е. Ч.].
И тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный, хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле. При мне пришел фотограф – и принес Луначарскому образцы своих изделий. – «Гениально!» – залепетал Луначарский и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непременно приеду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне раньше, и, когда он приедет, – я поднесу ему ваш портрет… Приезжайте с ребеночком, – уй, какое цацеле».
Зильберштейн – художник, мастер на такие художества, за которые иногда полагается каторга, – присосался к нему, печатает его портреты в сотнях тысячах – точь-в-точь как раньше печатал портреты царя, потом Керенского.
В Министерстве просвещения Луначарский запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете – из либерализма – не завешен. Вызывает он посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственною мудростью Анатолия Васильевича… Кокетство наивное и безобидное. [Низ страницы срезан – Е. Ч.]
Я попросил его написать письмо Комиссару почт и телеграфов Прошиану. Он с удовольствием нащелкал на машинке, что я такой и сякой, что он будет в восторге, если «Космос» будет Прошианом открыт. Я к Прошиану – в Комиссариат почт и телеграфов. Секретарь Прошиана – сейчас выложил мне всю свою биографию: я бывший анархист, писал стихи в «Буревестнике», а теперь у меня ревматизм и сердце больное. Относится к себе самому подобострастно. На почте все разнузданно. Ходят белобрысые девицы горнично-кондукторского типа, щелкают каблучками и щебечут, поглядывая на себя в каждое оконное стекло (вместо зеркала). Никто не работает, кроме самого Прошиана. Прошиан добродушно-угрюм: «Я третий день не мылся, не чесался». Улыбка у него армянская: грустно-замученная. «Зайдите завтра». Я ходил к нему с неделю без толку, наконец мне сказали, что дано распоряжение товарищу Цареву, коменданту почт и телеграфов, распечатать «Космос». Я туда. Там огромная очередь, как на конину. Комендант оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в вицмундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного. У стола, за которым помещался этот детина, – огромная очередь. Он должен был выдать чиновникам какие-то особые бланки – о непривлечении их к общественным работам – это было канительно и долго. Я сидел на диванчике, и вдруг меня осенило: – Товарищ Царев, едем сию минуту, вам будет знатная выпивка! – А машинка есть? – спросил он. Я вначале не понял. – Автомобиль, – пояснил он. – Нет, мы дадим вам на обратного извозчика. – Идем! – сказал он, надел кацавейку и распечатал «Космос», ухаживая напропалую за нашими служанками – козыряя перед ними по-матросски.
Но о Луначарском: жена его, проходя в капоте через прихожую, говорит: – Анатоль, Анатоль… Вы к Анатолию? – спрашивает она у членов всевозможных депутаций…
Июнь, 10. Был сейчас в Царском Селе у Луначарского. Он в Лицее. Болен: от переутомления у него на руках какие-то наросты – или нарывы, не знаю. Я его не видал. Видал его жену Анну Александровну, и вот какую дикую вещь она мне рассказала. Сын ее, Тото, мальчик лет 9–10, влюбился в девочку Эльфу. Эльфе 12 лет, она дочь большевика Телепнева, коменданта царскосельских дворцов. Он пришел к маме – дня три назад – и говорит: «Мама, я люблю Эльфу, у нее глаза, как звезды, а волосы до колен. Я обожаю Эльфу. – ?! – Вчера я целовал ее при всех, а завтра буду целовать в темной комнате». И целый день они целуются, он так и говорит:
– Мама, я иду целоваться с Эльфой.
Все это меня потрясло, но Луначарская была даже довольна. – Он у меня такой сексуальный, чувственный, но чувственность его элегантная. – А нельзя ли их видеть? – спросил я. Она послала за ними. Он вошел в дивную комнату Лицея в шапке и сказал мне покровительственно, капризно, картавя:
– Здравствуй, великан!
За ним шла девочка с распущенными, но грязными волосами – умненькое, но некрасивое существо. Зная, что нас интересуют их отношения – (очевидно, из этих отношений взрослые сделали себе забаву), – он сам стал рассказывать о своей любви.
– Мы с нею баловались и целовались. Я садился ей на живот…
– А ей не было больно?
– Нет. Мы в парке, в пруду, видели вот таких рыб.
Тут он подбежал к сахарнице – цапнул огромный кусище сахару и за щеку. Потом к буфету – мармелад. А своей возлюбленной ни куска.
– Разве тебе не жарко в шапке? (Шапка барашковая.)
– Жарко. Прошу маму – не покупает.
Тут его стошнило от сладостей – и он, открыв плевательницу, большую, переполненную, – пустил туда длинную струю слюны.
__________________
Дня два назад у Анатолия Федоровича Кони. Бодр. Глаза васильковые. Очень разговорились. Он рассказал, как его отец приучил его курить. Когда Кони был маленьким мальчиком, отец взял с него слово, что он до 16-ти лет не будет курить. – Я дал слово и сдержал его. Ну, чуть мне наступило 16, отец подарил мне портсигар и все принадлежности. – Ну не пропадать же портсигару! – и я пристрастился.
__________________
С Анной Александровной Луначарской беседа: «Я вообще аморальна. Если бы мой брат захотел со мной жить, пожалуйста! Если это доставляет ему или мне удовольствие. Поэтому я вполне оправдываю Сологуба!»
__________________
Шатуновский рассказывает, что секретарь Луначарского берет взятки даже у писателей. Будто бы Ефим Зозуля захотел издать книгу своих рассказов – обратился в какую-то Центропечать, секретарь говорит: если хотите, чтобы была издана, – пополам. Вам 20 000 и мне – 20 000!
__________________
Бывая у Леонида Андреева, я неизменно страдал бессонницами: потому что Андреев спал (после обеда) всегда до 8-ми час. вечера, в 8 вставал и заводил разговор до 4–5 часов ночи. После такого разговора – я не мог заснуть и, обыкновенно, к 10-ти час. сходил вниз – зеленый, несчастный. Там внизу копошились дети – (помню, как Савва на руках у няни тянется к медному гонгу) – на террасе чай, кофе, хлеб с маслом – мама Леонида Николаевича – милая, с хриплым голосом, с пробором посреди седой головы – Анастасья Николаевна. Она рассказывала мне про «Леонида» множество историй, я записал их, но не в дневник, а куда-то – и пропало. Помню, она рассказывала про своего мужа Николая Ивановича: – Силач был – первый на всю слободу. Когда мы только что повенчались, накинула я шаль, иду по мосту, а я была недурненькая, ко мне и пристали двое каких-то… в военном. Николай Иванович увидел это, подошел неспешно, взял одного за шиворот, перекинул через мост и держит над водою… Тот барахтается, Н. И. никакого внимания. А я стою и апельцыны кушаю. Он знал, что я люблю бублики. Купит для меня целую сотню, наденет на шею – вязка чуть не до полу – идет, и все говорят: вот как Н. Ив. любит свою жену!
А то купит два-три воза игрушек – привезет в слободу (кажется, на Немецкую улицу) и раздает всем детям.
__________________
Андреев очень любил читать свои вещи Гржебину. – Но ведь Гржебин ничего не понимает? – говорили ему. «Очень хорошо понимает. Гастрономически. Брюхом. Когда Гржебину что нравится, он начинает нюхать воздух, как будто где пахнет бифштексом жареным. И гладит себя по животу…»
__________________
Андреев однажды увлекся лечением при помощи мороза. И вот помню – в валенках и в чесучовом пиджачке – с палкой шагает быстро-быстро по оврагам и сугробам, а мы за ним еле-еле, как на картине Серова за Петром Великим* – я, Гржебин, Копельман, Осип Дымов, а он идет и говорит заиндевевшими губами о великом значении мороза.
15 октября, вторн. 1918. Вчера повестка от Луначарского – придти в три часа в Комиссариат просвещения на совещание: взял Кольку и Лидку – айда! В Комиссариате – в той самой комнате, где заседали Кассо, Боголепов, гр. Д. Толстой, – сидят тов. Бессалько, тов. Кириллов (поэты Пролеткульта), Луначарского нет. Коля и Лида садятся с ними. Некий Оцуп, тут же прочитавший мне плохие свои стихи о Марате и предложивший (очень дешево!) крупу. Ждем. Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров – очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего. Любопытно, как ехидствовали на их счет пролеткультцы. По-хамски: «Эге, хлопочут о своей шкуре». – «Смотри, тот закрывает форточку – боится гишпанской болезни». Они ходят по кабинету Луначарского, как по собственному, выпивают десятки стаканов чаю – с огромными кусками карамели – вообще ведут себя вызывающе спокойно (в стиле Маяковского)… Добро бы они были талантливы, но Колька подошел ко мне в ужасе: – Папа, если б ты знал, какие бездарные стихи у Кириллова! – я смутно вспомнил что-то бальмонтовское. Отпустив профессоров, Луначарский пригласил всех нас к общему большому столу – и сказал речь – очень остроумную и милолегкомысленную. Он сказал, что тов. Горький должен был пожаловать на заседание, но произошло недоразумение, тов. Горький думал, что за ним пришлют автомобиль, и, прождав целый час зря, теперь уже занят и приехать не может. (Перед этим Луначарский при нас говорил с Горьким – заискивающе, но не очень.) Луначарский сказал, что тов. Горький обратил его внимание на ненормальность того обстоятельства, что в Москве издаются книги Полянским, в Питере Ионовым – черт знает какие, без системы, и что все это надо объединить в одних руках – в горьковских. Горький собрал группу писателей – он хочет образовать из них комитет. А то теперь до меня дошли глухие слухи, что тов. Лебедев-Полянский затеял издавать «несколько социальных романов». Я думал, что это утопия, пять или шесть томов. Оказывается, под социальными романами тов. Лебедев-Полянский понимает романы Золя, Гюго, Теккерея – и вообще все романы. Тов. Ионов издает «Жан Кристофа», в то время как все эти книги должен бы издавать Горький в «Иностранной библиотеке». И не то жалко, что эти малокомпетентные люди тратят народные деньги на бездарных писак, – жалко, что они тратят бумагу, на которой можно было бы напечатать деньги. (Острота, очень оцененная Колей, который ел Луначарского глазами.)
Говоря все эти вещи, Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше – его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски кроткая – делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него большое сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду.
Зинаида Гиппиус написала мне милое письмо, приглашая придти, – недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич – согнутый дугою, неискреннее участие во мне – и просьба: свести его с Луначарским! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкипанидзе? Не могу ли я достать им бумагу – охрану от уплотнения квартир? Не могу ли я устроить, чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его «Павла», «Александра» и т. д.? Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит – Мережковские первые будут клеветать на меня.
Тов. Ионов: маленький, бездарный, молниеносный, как холера, крикливый, грубый.
Воскресение, 27 октября. Был у Эйхвальд – покупать английские книги. Живут на Сергиевской, в богатой квартире – вдова и дочь знаменитого хирурга или вообще врача – но бедность непокрытая. Даже картошки нету. Таковы, кажется, все обитатели Кирочной, Шпалерной, Сергиевской и всего этого района.
Оттуда к Мережковским.
Зинаида Николаевна раскрашенная, в парике, оглохшая от болезни, но милая. Сидит за самоваром – и в течение года ругает с утра до ночи большевиков, ничего кроме самовара не видя и не слыша. Сразу накинулась на Колю: «В зеленое кольцо!» Рассказывала о встрече с Блоком: «Я встретилась с ним в трамвае: он вялый, сконфуженный.
– Вы подадите мне руку, З. Н.?
– Как знакомому подам, но как Блоку нет*.
Весь трамвай слышал. Думали, уж не возлюбленный ли он мой!»
28 октября. Тихонов пригласил меня недели две назад редактировать английскую и американскую литературу для «Издательства Всемирной Литературы при Комиссариате народного просвещения», во главе которого стоит Горький. Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колоссальным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, О’Генри, Сэмюэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с утра до ночи – а иногда и ночи напролет. Самое мучительное – это заседания под председательством Горького. Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его сторону – и нравится мне он очень, хотя мне и кажется, что его манера наигранная. Он приезжает на заседания в черных лайковых перчатках, чисто выбритый, угрюмый, прибавляет при каждой фразе: «Я позволю себе сказать», «Я позволю себе предложить» и т. д. (Один раз его отозвали в другую комнату перекусить, он вынул после еды из кармана коробочку, из коробочки зубочистку – и возился с нею целый час.) Обсуждали вопрос о Гюго: сколько томов давать? Горький требует поменьше. «Я позволю себе предложить изъять “Несчастных”… да, изъять, не надо “Несчастных”» (он любит повторять одно и то же слово несколько раз, с разными оттенками, – эту черту я заметил у Шаляпина и Андреева). Я спросил, почему он против «Несчастных», Горький заволновался и сказал:
– Теперь, когда за катушку ниток (вот такую катушку… маленькую…) в Самарской губернии дают два пуда муки… два пуда (он показал руками, как это много: два пуда) вот за такую маленькую катушку…
Он закашлялся, но и кашляя показывал руками, какая маленькая катушка.
– Не люблю Гюго.
Он не любит «Мизераблей»[147] за проповедь терпения, смирения и т. д.
Я сказал:
– А «Труженики моря»?..
– Не люблю…
– Но ведь там проповедь энергии, человеческой победы над стихиями, это мажорная вещь…
(Я хотел поддеть его на его удочку.)
– Ну если так, – то хорошо. Вот вы и напишите предисловие. Если кто напишет такое предисловие – отлично будет.
Он заботится только о народной библиотеке. Та основная, которую мы затеваем параллельно, – к ней он равнодушен. Сведения его поразительны. Кроме нас участвуют в заседании: проф. Ф. Д. Батюшков (полный рамоли, пришибленный), проф. Ф. А. Браун, поэт Гумилев (моя креатура), приват-доцент А. Я. Левинсон – и Горький обнаруживает больше сведений, чем все они. Называют имя французского второстепенного писателя, которого я никогда не слыхал, профессора, как школьники, не выучившие урока, опускают глаза, а Горький говорит:
– У этого автора есть такие-то и такие-то вещи… Эта вещь слабоватая, а вот эта (тут он просияивает) отличная… хорошая вещь…
Собрания происходят в помещении бывшей Конторы «Новая Жизнь» (Невский, 64). Прислуга новая. Горького не знает. Один мальчишка разогнался к Горькому:
– Где стаканы? Не видали вы, где тут стаканы? (Он принял Горького за служителя.)
– Я этим делом не заведую.
Ноябрь, 12. Вчера Коля читал нам свой дневник. Очень хорошо. Стихи он пишет совсем недурные – дюжинами! Но какой невозможный: забывает потушить электричество, треплет книги, портит, теряет вещи.
Вчера заседание – с Горьким. Горький рассказывал мне, какое он напишет предисловие к нашему конспекту, – и вдруг потупился, заулыбался вкось, заиграл пальцами.
– Я скажу, что вот, мол, только при Рабоче-крестьянском правительстве возможны такие великолепные издания. Надо же задобрить. Да, задобрить. Чтобы, понимаете, не придирались. А то ведь они черти – интриганы. Нужно, понимаете ли, задобрить…
На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник – вздумал составлять Правила для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила – один переводчик сочиняет, и выходит отлично, а другой и ритм дает, и все, – а нет, не шевелит. Какие же правила? А он – рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятный, и я его люблю.
Как по-стариковски напяливает Горький свои серебряные простоватые очки – когда ему надо что-нибудь прочитать. Он получает кучу писем и брошюр (даже теперь – из Америки) – и быстро просматривает их – с ухватками хозяина москательной лавки, истово перебирающего счета.
Коля, может быть, и не поэт, но он – сама поэзия!
22 ноября. Заседания нашей «Всемирной Литературы» идут полным ходом. Я сижу рядом с Горьким. Он ко мне благоволит. Вчера рассказал анекдот: еду я, понимаете, на извозчике – трамваи стали – извозчик клячу кнутом. «Н-но, большевичка проклятая! все равно скоро упадешь». А мимо, понимаете ли, забранные, арестованные под конвоем идут. (И он показывает пальцами – пальцы у него при рассказе всегда в движении.)
Вчера я впервые видел на глазах у Горького его знаменитые слезы. Он стал рассказывать мне о предисловии к книгам «Всемирной Литературы» – вот сколько икон люди создали, и каких великих – черт возьми (и посмотрел вверх, будто на небо, – и глаза у него стали мокрыми, и он, разжигая в себе экстаз и умиление), – дураки, они и сами не знают, какие они превосходные, и все, даже негры… у всех одни и те же божества – есть, есть… Я видел, был в Америке… видел Букера Вашингтона… да, да, да…
Меня это как-то не зажгло; это в нем волжское, сектантское; тут есть что-то отвлеченное, догматическое. Я говорил ему, что мне приятнее писать о писателе не sub specie[148] человечества, не как о деятеле планетарного искусства, а как о самом по себе, стоящем вне школ, направлений, – как о единственной, не повторяющейся в мире душе – не о том, чем он похож на других, а о том, чем он не похож. Но Горький теперь весь – в «коллективной работе людей».
Раз я видел у него блаженное выражение лица. Он шел с Варварой Васильевной Шайкевич (женой Тихонова), к которой он явно неравнодушен, – в это время навстречу ему попался я – он схватил меня за руки и с тем жаром, которым пылал к ней, стал любовно пожимать ее [мои] руки. Лицо у него было влюбленное, умиленное, гимназическое.
23 ноября. Был с Бобой во «Всемирной Литературе». Мы с Бобой по дороге считаем людей: он мужчин, я женщин. Это очень увлекает его, он не замечает дороги. Женщин гораздо меньше. За каждого лишнего мужчину я плачу ему по копейке. [Вырваны страницы. – Е. Ч.]
…Во «Всемирной Литературе» видел Сологуба. Он фыркает. Зовет это учреждение «ВсеЛит» – т. е. вселить пролетариев в квартиру, и говорит, что это грабиловка. Там же был Блок. Он служит в Комиссариате просвещения по театральной части. Жалуется, что нет времени не только для стихов, но даже для снов порядочных. Все снится служба, телефоны, казенные бумаги и т. д. «Придет Гнедич и расскажет анекдот. Потом придет другой и расскажет анекдот наоборот. Вот и день прошел». Гумилев отозвал меня в сторону и по секрету сообщил мне, что Горький обо мне «хорошо отзывался». В Гумилеве много гимназического, милого.
Третьего дня я написал о Райдере Хаггарде. Вчера о Твене. Сегодня об Уайльде*. Фабрика!
24 ноября. Вчера во «ВсеЛите» должны были собраться переводчики и Гумилев должен был прочитать им свою Декларацию*. Но вчера было воскресение[149], «ВсеЛит» заперт, переводчики столпились на лестнице, и решено было всем гурьбой ехать к Горькому. Все в трамвай! Гумилев прочел им программу максимум и минимум – великолепную, но неисполнимую, – и потом выступил Горький.
Скуксив физиономию в застенчиво-умиленно-восторженную гримасу (которая при желании всегда к его услугам), он стал просить-умолять переводчиков переводить честно и талантливо: «Потому что мы держим экзамен… да, да, экзамен… Наша программа будет послана в Италию, во Францию, знаменитым писателям, в журналы – и надо, чтобы все было хорошо…[150] Именно потому, что теперь эпоха разрушения, развала, – мы должны созидать… Я именно потому и взял это дело в свои руки, хотя, конечно, с моей стороны не будет рисовкой, если я скажу, что я знаю его меньше, чем каждый из вас…» Все это очень мне не понравилось – почему-то. Может быть, потому, что я увидел, как по заказу он вызывает в себе умиление. Переводчики тоже не растрогались. Горький ушел. Они загалдели.
У меня Ив. Пуни с женой и Замятин. Был сегодня у меня Потапенко. Я поручаю ему Вальтер Скотта.
4 декабря. Я запутываюсь. Нужно хорошенько обдумать положение вещей. Дело в том, что я сейчас нахожусь в самом удобном денежном положении: у меня есть денег на три месяца жизни вперед. Еще никогда я не был так обеспечен. Теперь, казалось бы, надо было бы посвятить все силы Некрасову и вообще писательству, а я гублю день за днем – тратя себя на редактирование иностранных писателей, чтобы выработать еще денег. Это – нелепость, о которой я потом пожалею. Даю себе торжественное слово, что чуть я сдам срочные работы – предисловие к «Tale of two Cities»[151], предисловие к «Саломее», – доклад о принципах прозаического перевода и введение в историю английской литературы* – взяться вплотную за русскую литературу, за наибольшую меру доступного мне творчества.
Мне нужно обратиться к доктору по поводу моих болезней, купить себе калоши и шапку – и вплотную взяться за Некрасова.
Вот уже 1919 год
5 января, воскр. Хочу записать две вещи. Первая: в эту пятницу у нас было во «Всемирной Литературе» заседание, – без Тихонова. Все вели себя, как школьники без учителя. Горький вольнее всех. Сидел, сидел – и вдруг засмеялся. – Прошу прощения… ради Бога извините… господа… (и опять засмеялся)… я ни об ком из вас… это не имеет никакого отношения… Просто Федор Шаляпин вчера вечером рассказал анекдот… ха-ха-ха… Так я весь день смеюсь… Ночью вспомнил и ночью смеялся… Как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: извините, пожалуйста, не сердитесь… я сейчас заржу… и заржала, а за нею другие… Кто гневно, кто робко… Удивительно это у Шаляпина, черт его возьми, вышло…
Так велось все заседание. Бросили дела и стали рассказывать анекдоты.
Это раз. А второе – о Луначарском.
Вчера я ходил к нему хлопотать о Вере Репиной. Он сказал: подождите меня, после заседания мы поедем в автомобиле в театр, вы мне все расскажете. Я ждал часа полтора. Он вышел оживленный. «Едем, едем! Заранее предвкушаю приятность» (Ему Пронины расхвалили меня как собеседника.) – и что же! Вдруг из темноты коридора выходит некая девица лет 22-х – красивая, сладострастно большеротая… к нему, он оживился, познакомил нас, а вот моя дочка – и вскоре выяснилось, что она тоже в автомобиле. Я смекнул – хотя поздно, – что я буду лишний, что с такой девицей в авто – надо непременно вдвоем, – и я сказал ему, что хотел лично повидаться с ним завтра. Как он оживился:
«Да, да… завтра… когда хотите… я специально повезу вас в автомобиле куда вы захотите. Вы читаете лекцию… я отвезу вас на лекцию… Мы обо всем потолкуем».
У меня бессонница – в полной мере. Сейчас ездил с Луначарским на военный транспорт на Неву, он говорил речь пленным – о социализме, о том, что Горький теперь с ними, что победы Красной Армии огромны; те угрюмо слушали, и нельзя было понять, что они думают. Корабль весь обтянут красным, даже электрические лампочки на нем – красные, но все грязно, всюду кишат грудастые девицы, лица тупые, равнодушные.
Луначарский рассказал мне, что Ленин прислал в Комиссариат внутренних дел такую депешу: «С Новым годом! Желаю, чтобы в Новом году делали меньше глупостей, чем в прошлом».
12 января. Воскресение. Читал в Обществе профессиональных переводчиков доклад «Принципы художественного перевода». Сологуб председательствовал. Камин. Боба. Мария Борисовна. Самовар. Чай – по рублю стакан. Евг. Ив. Замятин. Еврейская роскошь в особняке барона Гинсбурга. Безвкусица.
У Горького был в четверг. Он ел яичницу – не хотите ли? Стакан молока? Хлеба с маслом? Множество шкафов с книгами стоят не плашмя к стене, а боком… На шкафах – вазы голубые, редкие. Маска Пушкина, стилизованный (гнусный) портрет Ницше – чуть ли не поляка Стыка; сам Горький – весь доброта, деликатность, желание помочь. Я говорил ему о бессонницах, он вынул визитную карточку и тут же, не прекращая беседы, написал рекомендацию к Манухину. «Я позвоню ему по телефону, вот». «У Манухина очень любопытные домыслы. Сексуальные причины в неврастении на первом плане».
Потом заговорил о женщинах. Одна провокаторша… была у меня, покаялась, плакала, слезы текли даже из ушей… а теперь встречаю ее в Комиссариате труда: «Здравствуйте, Алексей Максимович». – «Здравствуйте, говорю, здравствуйте».
Горький хлопотал об Изгоеве, чтобы Изгоева вернули из ссылки. Теперь хлопочет о сыне К. Иванова – Александре Константиновиче – прапорщике.
20 января. Читаю Бобе былины. Ему очень нравятся. Особенно ему по душе строчка «Уж я Киев-град во полон возьму». Он воспринял ее так: Уж я Киев-град в «Аполлон» возьму. «Аполлон» – редакция журнала, куда я брал его много раз. Сегодня я с Лозинским ходили по скользким улицам.
Был сейчас у Елены Михайловны Юст, той самой Е. М., которой Чехов писал столько писем. Это раскрашенная, слезливая, льстивая дама, – очень жалкая. Я дал ей перевести Thurston’a «City of Beautiful Nonsense»[152]. Она разжалобила меня своими слезами и причитаньями. Я дал ей 250 р. – взаймы. Встретясь со мной вновь, она прошептала: вы так любите Чехова, он моя первая любовь – ах, ах – я дам вам его письма, у меня есть ненапечатанные, и портрет, приходите ко мне. Я сдуру пошел на Коломенскую, 7, кв. 21. И о ужас – пошлейшая, раззолоченная трактирная мебель, безвкуснейшие, подлые олеографии, зеркала, у нее расслабленно гранддамистый тон, – «ах голубчик, не знаю, куда дела ключи!» – словом, никакого Чехова я не видал, а было все античеховское. Я сорвался с места и сейчас же ушел. Она врала мне про нищету, а у самой бриллианты, горничная и пр. Какие ужасные статуэтки, – гипсовые. Все – фальшь, ложь, вздор, пошлость. Лепетала какую-то сплетню о Тэффи.
6 февраля. Сон: будто я с Гумилевым у Горького. Тот дает Гумилеву 2 тыс. рублей. Я засиживаюсь дольше 7-ми час.; и все же засыпаю. Наутро иду к Горькому, но не решаюсь подняться. Его дом – на берегу южного моря. Я иду под его балкон – на какой-то бульвар, сажусь и слежу за балконом – не появится ли Горький. На балконе никого. На соседнем какие-то люди громко говорят о Горьком. Подъезжает Марья Федоровна в авто. За нею горьковский экипаж. Я вскакиваю в экипаж с каким-то юношей, и мы мчимся – но недоразумение! Какое, не помню. Стоп! Кучер возвращается, я даю ему 19 коп. мелкими дрянными бумажками. Больше нет. Но он не сердится. Потом в саду сбоку два пиршественных стола. У Горького огромный, с бутылками вина, шумно, гостей много. И наш, устроенный Марьей Борисовной, которую Гржебин почему-то не пустил наверх.
13 февраля. Вчера было заседание редакционной коллегии «Союза Деятелей Художественного Слова». На Васильевском острове в 2 часа собрались Кони, Гумилев, Слезкин, Немирович-Данченко, Эйзен, Евг. Замятин и я. Впечатление гнусное. Обратно трамваем с Кони и Немировичем-Данченко. Кони забыл, что уже четыре раза рассказывал мне содержание своих лекций об этике, – и рассказал опять с теми же интонациями, той же вибрацией голоса и т. д. Он – против врачебной тайны. Представьте себе, что вы отец, и у вас есть дочь – вся ваша отрада, и сватается к ней молодой человек, вы идете к доктору и говорите: «Я знаю, что к моей дочери скоро посватается такой-то, мне также известно, что он ходит к вам. Скажите, пожалуйста, от какой болезни вы его лечите. Хорошо, если от экземы. Экзема незаразительна. Но что, если от вторичного сифилиса?!» А доктор отвечает: «Извините, это врачебная тайна». Или например… и он в хорошо обработанных фразах буква в букву повторял старое. Он на двух палочках, идет скрюченный. Когда мы сели в трамвай, он со смехом рассказал, как впервые лет пятнадцать назад его назвали старичком. Он остановился за нуждой перед домом Стасюлевича, а городовой ему говорил: «Шел бы ты, старичок, в ворота. Тут неудобно!» А недавно двое красноармейцев (веселые) сказали ему: «Ах ты, дедушка. Ползешь на четырех! Ну ползи, ползи, Бог с тобой!»
22 или 24 февраля 1919. У Горького. Я совершил безумный поступок и нажил себе вечного врага. По поручению коллегии Деятелей Художественного Слова я взялся прочитать «Год» Муйжеля, который состоит председателем этой коллегии, – и сказать о нем мнение. «Год» оказался нудной канителью, я так и написал в моем довольно длинном отчете – и имел мужество прочитать это вслух Муйжелю в присутствии Гумилева, Горького, Замятина, Слезкина, Эйзена. Во время этой экзекуции у Муйжеля было выражение сложное, но преобладала темная и тусклая злоба. Муйжель говорит столь же скучно, как пишет: «виндите», «виндите». А какие длинные он пишет письма!
Мы в коллегию «Деятелей Художественного Слова» избрали Мережковского по моему настоянию. Тут-то и начались мои муки. Ежеминутно звонит по телефону. – «Нужно ли мне баллотироваться?» Вчера мы решили вместе идти к Горькому. Он зашел ко мне. Сколько градусов? Не холодно ли? Ходят ли трамваи? Что надеть? и т. д., и т д. Идти или не идти? В конце концов мы пошли. Он, как старая баба, забегал во все лавчонки, нет ли дешевого кофею, в конце концов сел у Летнего сада на какие-то доски – и заявил, что дальше не идет.
5 марта 1919. Вчера у меня было небывалое собрание знаменитых писателей: М. Горький, А. Куприн, Д. С. Мережковский, В. Муйжель, А. Блок, Слезкин, Гумилев и Эйзен. Это нужно описать подробно. У меня болит нога. Поэтому решено устроить заседание у меня – заседание Деятелей Художественного Слова. Раньше всех пришел Куприн. Он с некоторых пор усвоил себе привычки учтивейшего из маркизов. Смотрит в глаза предупредительно, извиняется, целует дамам ручки и т. д. Он пришел со свертком рукописей, – без галстуха – в линялой русской грязно-лиловой рубахе, с исхудалым, но не таким остекленелым лицом, как года два назад, и сел играть с нами в «пять в ряд» – игра, которой мы теперь увлекаемся. Побил я его два раза, – входит Горький. «Я у вас тут звонок оторвал, а дверь открыта». У Горького есть два выражения на лице: либо умиление и ласка, либо угрюмая отчужденность. Начинает он большей частью с угрюмого. Куприн кинулся к нему, любовно и кротко: «Ну, как здоровье, А. М.? Все после Москвы поправляетесь?» – Да, если бы не Манухин, я подох бы. Опять надо освещаться, да все времени нет. Сейчас я из Главбума – потеха! Вот официальный документ – (пошел и вынул из кармана пальто) – черти! (и читает, что бумаги нет никакой, что «из 70 000 пудов 140 000 нужно Комиссариату» и т. д.). Безграмотные ослы, даже сосчитать не умеют. На днях едем мы с Шаляпиным на Кронверкский – видим, солдаты везут орудия. – Куда? – Да на Финский вокзал. – А что там? – Да сражение. – С восторгом: – Бьют, колют, колотят… здорово! – Кого колотят? – Да нас! – Шаляпин всю дорогу смеялся.
Тут пришел Блок. За ним Муйжель. За Муйжелем Слезкин и т. д. Интересна была встреча Блока с Мережковским. Мережковские объявили Блоку бойкот, у них всю зиму только и было разговоров, что «долой Блока», он звонил мне: – Как же я встречусь с Блоком! – и вот встретились и оказались даже рядом. Блок молчалив, медлителен, а Мережковский… С утра он тормошил меня по телефону:
– Корней Ив., вы не знаете, что делать, если у теленка соба́чий хвост? – А что? – Купили мы телятину, а кухарка говорит, что это собачина. Мы отказались, а Гржебин купил. И т. д.
Он ведет себя демонстративно обывательски. Уходя, взволновался, что у него украли калоши, и даже присел от волнения. – Что будет? Что будет? У меня 20 000 рублей ушло в этот месяц, а у вас? Ах, ах…
Я читал доклад о «Старике» Горького и зря пустился в философию. Доклад глуповат. – Горький сказал: Не люблю я русских старичков. Мережковский: То есть каких старичков? – Да всяких… вот этаких (и он великолепно состроил стариковскую рожу). Куприн: Вы молодцом… Вот мне 49 лет. Горький: Вы передо мной мальчишка и щенок: мне пятьдесят!! Куприн: И смотрите: ни одного седого волоса!
Вообще заседание ведется раскидисто. Куприн стал вдруг рассказывать, как у него делали обыск. «Я сегодня не мог приехать в Петербург. Нужно разрешение, стой два часа в очереди. Вдруг вижу солдата, который у меня обыск делал. Говорю: – Голубчик, ведь вы меня знаете… Вы у меня в гостях были! – Да, да! (И вмиг добыл мне разрешение)»…
Куприн сделал доклад об Айзмане, неторопливо, матово, солидно, хорошо. Ругают большевиков все – особенно большевик Горький. Черти! бюрократы! Чтобы добиться чего-нб., нужно пятьдесят неграмотных подписей… Шкловскому (который преподает в школе шоферов) понадобились для учебных целей поломанные автомобильные части, – он обратился в Комиссариат. Целый день ходил от стола к столу – понадобилась тысяча бумаг, удостоверений, прошений – а автомобильных частей он так и не достал.
– Приехал ко мне американец, К. И., – говорит Горький, – я направил его к вам. Высокий, с переводчицей. И так застенчиво говорит: у вас еще будет крестьянский террор. Непременно будет. Извините, но будет. И это факт!
Гумилев с Блоком стали ворковать. Они оба поэты – ведают у нас стихи. Блок Гумилеву любезности, Гумилев Блоку: – Вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные. (Были и еще – я забыл – Евг. Ив. Замятин в зеленом английском костюмчике – и Шишков, автор «Тайги».)
Боба был привратником. Лида, чтобы добыть ноты, – чуть не прорыла подземный ход. Аннушка смотрела в щелку: каков Горький.
Сегодня была М. И. Бенкендорф. Она приведет ко мне этого американца.
Мы долго решали вопрос, что делать с Сологубом. Союз Деятелей Художественного Слова хотел купить у него «Мелкого беса». Сологуб отказался. А сам подал тайком Луначарскому бумагу, что следовало бы издать 27 томов «Полного собрания сочинений Сологуба».
– Так как, – говорит Горький, – Луначарский считает меня уж не знаю чем, – он послал мне Сологубово прошение для резолюции. Я и заявил, что теперь нет бумаги, издавать полные собрания сочинений нельзя. Сологуб, очевидно, ужасно на меня обиделся, а я нисколько не виноват. Издавать полные собрания сочинений нельзя. У Сологуба следовало бы купить «Мелкий бес», «Заклинательницу змей» и «Стихи». – «Нет, – говорит Мережковский, – ‘Заклинательницу” издавать не следует. Она написана не без Анастасии».
И все стали бранить Анастасию (Чеботаревскую), испортившую жизнь и творчество Сологуба.
10 марта 1919. Как Боба ждал Красноперова! Красноперов казался нам каким-то необыкновенным, а пришел замухрышка, визгливый. Я все еще болен. Был у меня Гумилев вчера. Говорили о Горьком. – «Помяните мое слово, Горький пойдет в монахи. В нем есть религиозный дух. Он так говорил о литературе, что я подумал: ого!» (Это мнение Гумилева выразило то, что думал и я.) Потом Гумилев рассказал, что к 7-ми час. он должен ехать на Васильевский остров чествовать ужином Муйжеля. С персоны – 200 рублей, но можно привести с собою даму. Гумилев истратил 200 рублей, но дамы у него нет. Требуется голодный женский желудок! Стали мы по телефону искать дам – и наконец нашли некую совершенно незнакомую Гумилеву девицу, которую Гумилев и взялся отвезти на извозчике (50–60 р.) на Васильевский остров, накормить ужином и доставить на извозчике обратно (50–60 р.). И все за то, что она дама!
Очень мало в городе керосину. Почти нет меду. Должно быть, потому Кооператив журналистов выдает нам мед с примесью керосина. Была вечером М. В. Ватсон, которую Мария Борисовна прикармливает. Играли мы с детьми в «пять в ряд».
12 марта. Вчера во «Всемирной Литературе» заседание. Впервые присутствовал Блок, не произнесший ни единого слова. У меня все еще болит нога, Маша довезла меня на извозчике. Когда я вошел, Горький поднялся ко мне навстречу, пожал обеими руками руку, спросил о здоровье. Потом сел. Потом опять подошел ко мне и дал мне «Чукоккалу». Потом опять сел. Потом опять встал, отвел меня к печке и стал убеждать лечиться у Манухина. «Я вчера был у него – помогает удивительно». В «Чукоккалу» он написал мне отличные строки, которые меня страшно обрадовали, – не рассуждения, а краски и образы*. Заседание кончилось очень скоро. Тихонов пригласил меня к себе – меня и Гумилева – посмотреть Джорджоне и персидские миниатюры.
Сегодня я весь день писал. К вечеру взял Бобу и Колю – и мы пошли пройтись. Погода великопостная: каплет. Пошли по Надеждинской – к Кони. По дороге я рассказывал Коле план своей работы о Некрасове. Он, слава Богу, одобрил. Кони, кажется, дремал, когда мы пришли. Он в халатике, скрюченный. Засуетился: дать Бобе угощенье. Я отговорил. Мы сели и заговорили о «Всемирной Литературе». Он сказал, что рекомендует для издания книгу Коппе «Истинное богатство» – и тут же подробно рассказал ее содержание. Мастерство рассказа и отличная память произвели впечатление на Бобу и на Колю. Когда мы вышли, Коля сказал: как жаль, что такой человек, как Кони, должен скоро умереть. Ах, какой человек! Нам, после революции, уже таких людей не видать!
Кони показывал нам стихи, которые ему посвятил один молодой человек по случаю его 75-летия. Оказывается, на днях ему исполнилось 75 лет, Институт живого слова поднес ему адрес и хлеб-соль, а студенты другого университета поднесли ему адрес и крендель, и он показывал и читал мне (и меня просил читать) особенно трогательные места из этих адресов. Потом поведал мне под строжайшим секретом то, что я знал и раньше: что к нему заезжал Луначарский, долго беседовал с ним и просил взять на себя пост заведующего публичными лекциями. Читал мне Кони список тех лиц, коих он намеревается привлечь, – не блестяще, не деловито. Включены какие-то второстепенности – в том числе и я, – а такие люди, как Бенуа, Мережковский, забыты.
_________________
У меня опять бессонница. Меня разбудила старуха-швея, Авдотья Михайловна, живущая у нас в доме, и я уже никак не могу заснуть. Дай Бог, чтобы в новой тетради, в будущем моем дневнике, таких записей не было больше.
14 [марта]. Я и не подозревал, что Горький такой ребенок. Вчера во «Всемирной Литературе» (Невск., 64) было заседание нашего Союза. Собрались: Мережковский, Блок, Куприн, Гумилев и др., но в сущности никакого заседания не было, ибо Горький председательствовал и потому – при первом удобном случае отвлекался от интересующих нас тем и переходил к темам, интересующим его. Мережковский заявил, что он хочет поскорее получить свои деньги за «Александра», т. к. он собирается уехать в Финляндию. Горький говорит:
– Если бы у нас не было бы деловое собрание, я сказал бы: не советую ездить, и вот почему… – Следует длинный перечень причин, по которым не следует ездить в Финляндию: там теперь назревают две революции – одна монархическая, другая – большевистская. Тех россиян, которые не монархисты, поселяют в деревнях, – в каждой деревне не больше пяти человек и т. д.
– Кстати, о положении в Финляндии. Вчера приехал ко мне оттуда один белогвардеец, «деловик», – говорит: у них положение отчаянное: они наготовили лесу, бумаги, плугов, а Антанта говорит: не желаю покупать, мне из Канады доставят эти товары дешевле! Прогадали финны. Многие торговцы становятся русофилами: Россия наш естественный рынок… А Леонид Андреев воззвание к «Антанте» написал – манифест: «вы, мол, победили благодаря нам». Никакого впечатления. А Арабажин в своей газете… * и т. д., и т. д.
– Да ведь мы здесь с голоду околеем! – говорит Мережковский.
– Отчего же! Вот Владимир Ильич (Ленин) вчера говорил мне, что из Симбирска…
Так прошло почти все заседание… В этой недисциплинированности мышления Горький напоминает Репина. И. Е. вел бы себя точь-в-точь так.
Только когда Горький ушел, Блок прочел свои три рецензии о поэзии Цензора, Георгия Иванова и Долинова*. Рецензии глубокие, с большими перспективами, меткие, чудесно написанные. Как жаль, что Блок так редко пишет об искусстве.
17 марта. Был вчера с Лидочкой у Гржебина. Лида мне читает по вечерам, чтобы я уснул – иногда 3, иногда 4 часа, – кроме того, занимается английским и музыкой – и вот я хотел ее покатать на извозчике – чтобы она отдохнула. Душевный тон у нее (пока!), очень благородный, быть в ее обществе очень приятно. У Гржебина (на Потемкинской, 7) поразительное великолепие. Вазы, зеркала, Левитан, Репин, старинные мастера, диваны, которым нет цены, и т. д. Откуда все это у того самого Гржебина, коего я помню сионистом без гроша за душою, а потом художничком, попавшим в тюрьму за рисунок в «Жупеле» (рисунок изображал Николая II с оголенной задницей). Толкуют о его внезапном богатстве разное, но во всяком случае он умеет по-настоящему пользоваться этим богатством. Вокруг него кормится целая куча народу: сестра жены, ее сынок (чудный стройный мальчик), мать жены (Ольга Ивановна), еще одна сестра жены, какой-то юноша, какая-то седовласая дама и т. д. Чувствуется библейский иудей: сгрудились в кучу все единокровные – и оттого тепло, даже жарко. Рядом с гостиной – спальня, и чувствуется, что в доме это главная комната. Новенький детеныш Гржебина (четвертый) мил, черноглаз, все девочки, Капа, Ляля, Буба, нежно за ним ухаживают. А какое воспитание дает он этим трем удивительным девочкам! К ним ездит художник Попов, зять Бенуа, и учит их рисовать – я видел рисунки – сверхъестественные. Вообще вкус у этого толстяка – тонкий, нюх – безошибочный, а энергия – как у маньяка. Это его великая сила. Сколько я помню его, он всегда влюблялся в какую-нб. одну идею – и отдавал ей всего себя, только о ней и говорил, видел ее во сне. Теперь он весь охвачен планами издательскими. Он купил сочинения Мережковского, Розанова, Гиппиус, Ремизова, Гумилева, Кузмина и т. д. – и ни минуты не говорил со мной ни о чем ином, а только о них. Как вы думаете: купить Иннокентия Анненского? Как назвать издательство? и т. д. Я помню, что точно так же он пламенел идеей о картинах для школ, и потом – о заселении и застроении острова Голодая, а потом о создании журнала «Отечество», а потом – о создании детских сборников и т. д. Когда видишь этот энтузиазм, то невольно желаешь человеку успеха.
Вернулся домой – у меня был с визитом Кони. Он принес Бобочке книжку – Клавдии Лукашевич.
18 марта. У Гринберга – в Комиссариате просвещения. Гринберг – черноволосый, очень картавящий виленский еврей – деятельный, благодушный, лет тридцати пяти. У него у дверей – рыжий человек, большевик, церковный сторож:
«Я против начальства большевик, а против Бога я не большевик».
Так как я всегда хлопочу о разных людях, Гринберг говорит: «А где же ваши протеже?» Я говорю: «Сейчас» и ввожу к нему Бенкендорф. «Хорошо! Отлично! Будет сделано!» – говорит Гринберг, и других слов я никогда не слыхал от него. Я стал просить о Кони – «Да, да, я распорядился, чтобы академику Кони дали лошадке! Ему будет лошадка непременно!»
24 марта. Лидкино рождение. Она готовилась к этому дню две недели и заразила всех нас. Ей сказали, что она родилась только в 11 часов дня. – Я побегу в гимназию, и когда Женя мне скажет, что без пяти одиннадцать, начну рождаться. Колька сочинил оду. Боба – чашку. Я – Всеволода Соловьева, мама – часы. Будет белый крендель из последней муки.
26 марта 1919 г. Вчера на заседании «Всемирной Литературы» Блок читал о переводах Гейне, которого он редактирует*. Он был прекрасен – словно гравюра какого-то германского поэта. Лицо спокойно мудрое. Читал о том, что Гейне был антигуманист, что теперь, когда гуманистическая цивилизация XIX века кончилась, когда колокол антигуманизма слышен звучнее всего, Гейне будет понят по-новому. Читал о том, что либерализм пытался сделать Гейне своим, и Аполлон Григорьев, замученный либерализмом, и т. д.
Горький очень волновался, барабанил своими большими пальцами по нашему черному столу, курил, не докуривал одну папиросу, брал другую, ставил окурки в виде колонн стоймя на столе, отрывал от бумаги ленту – и быстро делал из нее петушков (обычное его занятие во время волнения: в день он изготовляет не меньше десятка таких петушков), и чуть Блок кончил, сказал:
– Я человек бытовой – и, конечно, мы с вами (с Блоком) люди разные – и вы удивитесь тому, что я скажу, – но мне тоже кажется, что гуманизм – именно гуманизм (в христианском смысле) должен полететь ко всем чертям. Я чувствую, я… недавно был на съезде деревенской бедноты – десять тысяч морд – деревня и город должны непременно столкнуться, деревня питает животную ненависть к городу, мы будем как на острове, люди науки будут осаждены, здесь даже не борьба – дело глубже… здесь как бы две расы… гуманистическим идеям надо заостриться до последней крайности – гуманистам надо стать мучениками, стать христоподобными – и это будет, будет… Я чувствую в словах Ал. Ал. (Блока) много пророческого… Нужно только слово гуманизм заменить словом: нигилизм*.
Странно, что Горький не почувствовал, что Блок против гуманизма, что он с теми, звероподобными; причисляет к ним и Гейне; что его вражда против либерализма – главный представитель коего – Горький. Изумительно, как овладевает Горьким какая-нибудь одна идея! Теперь о чем бы он ни заговорил, он все сводит к розни деревни и города: у нас было заседание по вопросу о детском журнале – он говорил о городе и деревне, было заседание по поводу журнала для провинции, и там: проклинайте деревню, славьте город и т. д.
Теперь он пригласил меня читать лекции во Дворце Труда; я спросил его, о чем будет читать он. Он сказал: о русском мужике. – Ну и достанется же мужику! – сказал я. – Не без того, – ответил он. – Я затем и читаю, чтобы наложить ему как следует. Ничего не поделаешь. Наш враг… Наш враг…
Волынский на заседании, как Степан Трофимович Верховенский, защищал принсипы и Венеру Милосскую… Говорил молниеносно. Приятно было видеть, что этот человек, столь падший, может так разгораться и вставать на защиту святого.
– Это близорукость, а не пророчество! – кричал он Горькому. – Гуманизм есть явление космическое и иссякнуть не может. Есть вечный запас неизрасходованных гуманистических идей…
ВОТ СХЕМА НАШЕГО ЗАСЕДАНИЯ:
30 марта. Чествование Горького в «Всемирной Литературе». Я взял Бобу, Лиду, Колю и айда! По дороге я рассказывал им о Горьком – вдруг смотрим, едет он в сероватой шапке – он снял эту шапку и долго ею махал. Потом он сказал мне: – Вы ужасно смешно шагаете с детьми, и… хорошо… Как журавль. – Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: «вы – авангард революции и нашей типографии»… «вы поэт униженных и оскорбленных». Особенно ужасна была речь Ф. Д. Батюшкова. Тот наплел: «гуманист, гуманный человек, поэт человека» – и в конце сказал: «Еще недавно даже в загадочном старце вы открыли душу живу» (намекая на пьесу Горького «Старик»). Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хорошо: «Конечно, вы преувеличиваете… Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак в тридцать пять (т. е. что теперь он не написал бы ни «Челкаша», ни «Сокола»). Что делать, но это так! Это так! Это так. Я вообще не каюсь… ни о чем не жалею, но кому нужно понять то, что я говорю, тот поймет… А Федору Дмитриевичу я хочу сказать, что он ошибся… Я старца и не думал одобрять. Я старичков ненавижу… он подобен тому дрянному Луке (из пьесы «На дне») и другому в “Матвее Кожемякине”, которому говорили: есть Бог? а он: “Есть, отстаньте”. Ему говорили: нет Бога? – “Нет, отстань”. Ему ни до чего нет дела, а есть дело только до себя, до своей маленькой мести, которая часто бывает очень большой. Вот», – и он развел руками. Во время фотографирования он сел с Бобой и Лидой и все время с ними разговаривал. Бобе говорил: – когда тебе будет 50 лет, не празднуй ты юбилеев, скажи, что тебе 51 год или 52 года, а все печения сам съешь.
Тихоновы постарались: много устроили печений, на дивном масле – в бокалах подавали чай. Горький сидел между Любовь Абрамовной и Варварой Васильевной. Речь Блока была кратка и маловразумительна, но мне понравилась. Был Амфитеатров. Потом я пошел на кухню, взял одни башмаки под мышку, а другие надел – и мы пошли.
1 апреля, т. е. 19 марта, т. е. мое рождение. Почти совсем не спал и сейчас чувствую, какое у меня истрепанное и зеленое лицо. Утром мне пришел в голову такой эмбрион экспромта на юбилее Горького.
Чаши с чаем, чаши с чаем, чаши с чаем* Очищаем. Осушаем И при звоне чайных чаш, чайных чаш, чайных чаш, Что ваш Челкаш и Ералаш очень хорош, даже лучше, чем Гильгамеш и Чудра-Мудра.Что-нибудь в этом роде. Потом оказывается, что Горький открыл испанского писателя Дель Греко.
Вчера я случайно пошел в нижнюю квартиру и увидел там готовимые мне в подарок М. Б. – книжные полки. Теперь сижу и волнуюсь: что подарят мне дети. Я думал, что страшно быть 37-летним мужчиной, – а это ничего. Вот пришла Аннушка и принесла дров: будет топить. Вчера с Мережковским у меня был длинный разговор. Началось с того, что Гумилев сказал Мережковскому: – У вас там в романе* Бестужев – штабс-капитан. – Да, да. – Но ведь Бестужев был кавалерист и штабс-капитанов в кавалерии нету. Он был штаб-ротмистр. – Мережковский смутился. Я подсел к нему и спросил: почему у вас Голицын цитирует Бальмонта: «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить». – Разве это Бальмонт? – Ну да. – Потом я похвалил конструкцию романа, которая гораздо отчетливее и целомудреннее, чем в других вещах Мережковского, и сказал: это, должно быть, оттого, что вы писали роман против самодержавия, а потом самодержавие рухнуло – и вот вы вычеркнули всю философско-религиозную отсебятину. Он сказал: – Да, да! – и прибавил: – А в последних главах я даже намекнул, что народовластие тоже – дьявольщина. Я писал роман об одном – оказалось другое – и (он рассмеялся невинно) пришлось писать наоборот… – В эту минуту входят Боба и Лида – блаженно веселые. – Закрой глаза. Сморщи нос. Положи указательный палец левой руки на указательный палец правой руки – вот! – Часы! У меня наконец-то часы. Они счастливы – убегают. Приходит М. Б., дарит мне сургуч, бумагу, четыре пера, карандаши – предметы ныне недосягаемые. От Слонимского баночка патоки с трогательнейшей надписью.
2 апреля. Не сплю опять. Вчера Горький, приблизив ко мне синие свои глаза, стал рассказывать мне на заседании шепотом, что вчера, по случаю дня его 50-летия, ему прислал из тюрьмы один заключенный прошение. Прошение написано фиолетовым карандашом, очевидно обслюниваемым снова и снова; дорогой писатель, не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства. Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы, так как оказался бессилен, не мог лишить ее девственности, – нельзя ли устроить амнистию.
Вчера Горький был простуженный, хмурый, больной. Устал тащиться с тяжелым портфелем. Принес (как всегда) кучу чужих рукописей – исправленных до неузнаваемости. Когда он успевает делать эту гигантскую работу, зачем он ее делает, непостижимо! Я показал ему лодочку, которую он незаметно для себя сделал из бумаги. Он сказал: «Это все, что осталось от волжского флота» – и зашептал: «А они опять арестовывают… Вчера арестовали Филипченко и др.» О большевиках он всегда говорит: они! Ни разу не сказал мы. Всегда говорит о них как о врагах.
__________________
Боба: откуда ученые знают маршрут человеческой крови?
17 апреля. Четверг. Страстная неделя. Лида только что причащалась – обнаружила необычайное религиозное рвение, а когда я спросил ее о причастии: ну что? она говорит: ой, какая гадость! кислое! Фу!
Зачем же вставала в такую рань и натощак торопилась в церковь.
18 апреля. Пятница. Ночь. Не сплю вторую ночь. Только что переехал на новую квартиру – гнусно: светло, окна большие, – то-то взвою, когда начнутся белые ночи.
Решил записывать о Горьком. Я был у него на прошлой неделе два дня подряд – часов по пяти, и он рассказывал мне многое о себе. Ничего подобного в жизни своей я не слыхал. Это в десять раз талантливее его писания. Я слушал зачарованный. Вот «музыкальный» всепонимающий талант. Мне было особенно странно после его сектантских, наивных статеек о Толстом выслушать его сложные, многообразно окрашенные воспоминания о Льве Николаевиче. Как будто совсем другой Горький.
Его принято считать небрежным и неуклюжим писателем. Иногда он и был таким. Но едва только дело доходило до дактиля [фраза недописана. – Е. Ч.].
– Я был молодой человек, только что написал Вареньку Олесову и «Двадцать шесть и одну», пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицкими словами: что, не онанировал ли приват доцент на песке? и где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа «Двадцать шесть и одна». Я тогда был молод, не понимал, к чему это, и, помню, рассердился, а теперь вижу: именно, именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами – куда Розанову! – и даже пальцем в воздухе изображал круг – женскую вульву и пальцем тыкал: цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафисты, и легенды, и все искусство, и все геройство, и все. Софью Андреевну он любил половой любовью, ревновал ее к Танееву, и ненавидел, и она ненавидела его, эта гнусная антрепренерша. Понимал он нас всех, всех людей: только глянет и готово – пожжалуйте! раскусит вот, как орешек мелкими хищными зубами, не угодно ли! Врать ему нельзя было – все равно все видит: «Вы меня не любите, Алексей Максимович?» – спрашивает меня. «Нет, не люблю, Лев Николаевич», – отвечаю. (Даже Поссе тогда испугался, говорит: как тебе не стыдно, но ему нельзя соврать.) С людьми он делал что хотел. – «Вот на этом месте мне Фет стихи свои читал, – сказал он мне как-то, когда мы гуляли по лесу. – Ах, смешной был человек Фет!» – Смешной? – «Ну да, смешной, все люди смешные, и вы смешной, Алексей Максимович, и я смешной – все». С каждым он умел обойтись по-своему. Сидят у него, например: Бальмонт, я, рабочий социал-демократ (такой-то), великий князь Николай Михайлович (портсигар с бриллиантами и монограммами), Танеев, – со всеми он говорит по-другому, в стиле своего собеседника, – с князем по-княжески, с рабочим демократически и т. д. Я помню в Крыму – иду я как-то к нему – на небе мелкие тучи, на море маленькие волночки, – иду, смотрю, внизу на берегу среди камней – он. Вдел пальцы снизу в бороду, сидит, глядит. И мне показалось, что и эти волны, и эти тучи – все это сделал он, что он надо всем этим командир, начальник, да так оно, в сущности, и было. Он – вы подумайте, в Индии о нем в эту минуту думают, в Нью-Йорке спорят, в Кинешме обожают, он самый знаменитый на весь мир человек, одних писем ежедневно получал пуда полтора – и вот должен умереть. Смерть ему была страшнее всего – она мучила его всю жизнь. Смерть – и женщина.
Шаляпин как-то христосуется с ним: Христос Воскресе! Он смолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, а потом и говорит: «Христос не воскрес, Федор Иванович»*.
Когда я записываю эти разговоры, я вижу, что вся их сила – в мимике, в интонациях, в паузах, ибо сами по себе они, как оказывается, весьма простенькие и даже чуть-чуть плосковаты. На другой день говорили о Чехове:
– …Чехов… Мои «Воспоминания» о нем плохи. Надо бы написать другие: он со мной все время советовался, жениться ли ему на Книппер. Дело в том, что у всех чахоточных, особенно к концу, очень повышена половая сфера, ибо яды болезни действуют на спинной хребет, и Чехов, как врач, очень хорошо это знал, и как человек с гипертрофированной совестью считал недопустимым жениться, боясь заразить жену. Но боялся он напрасно… напрасно. Он не знал Ольгу Леонардовну. Это женщина здоровая, я ее знаю хорошо, к ней ничего не пристанет… и вообще он мог бы не стесняться…
Во второе свое посещение он пригласил меня остаться завтракать. В кабинет влетела комиссарша Марья Федоровна Андреева, отлично одетая, в шляпке – «да, да, я распоряжусь, вам сейчас подадут», но ждать пришлось часа два, и боюсь, что мой затянувшийся визит утомил Алексея Максимовича.
Во время беседы с Горьким я заметил его особенность: он отлично помнит сотни имен, отчеств, фамилий, названий городов, заглавий книг. Ему необходимо рассказывать так: это было при губернаторе Леониде Евгеньевиче фон Крузе, а митрополитом был тогда Амвросий, в это время на фабрике у братьев Кудашиных – Степане Степановиче и Митрофане Степановиче был бухгалтер Коренев, Александр Иванович. У него-то я и увидел книгу Михайловского «О Щедрине» издания 1889 года. Думаю, что вся его огромная и поражающая эрудиция сводится именно к этому – к номенклатуре. Он верит в названия, в собственные имена, в заглавия, в реестр и каталог.
Пасха. Апрель. Ночь. Не сплю четвертую ночь. Не понимаю, как мне удается это вынести. Меня можно показывать за деньги: человек, который не спит четыре ночи и все еще не зарезался. Читаю «Ералаш» Горького. Болят глаза. Чувствую, что постарел года на три.
27 апреля. Сейчас в Петрогорсоюзе был вечер литературный. Участвовали Горький, Блок, Гумилев и я. Это смешно и нелепо, но успех имел только я. Что это может значить? Блок читал свои стихи линялым голосом, и публика слушала с удовольствием, но не с восторгом, не опьянялась лирикой, как было в 1907, 1908 году, Горький забыл дома очки, взял чужое пенсне у кого-то из публики (не тот номер) и вяло промямлил «Страсти-мордасти», испортив отличный рассказ. Слушали с почтением, но без бури. Когда же явился я, мне зааплодировали, как Шаляпину. Я пишу это без какого-нб. самохвальства, знаю, что виною мой голос, но все же приятно – очень, очень внимательно слушали мою статью о Маяковском и требовали еще. Я прочитал о Некрасове, а публика требовала еще. Угощали нас бутербродами с ветчиной (!), сырными сладкими кругляшками, чаем и шоколадом. Я летел домой, как на крыльях – с чувством благодарности и радости. Хочется писать о Некрасове дальше, а я должен читать дурацкие корректуры, править «Пустынный дом» Диккенса. Да будет проклят Тихонов, наш плантатор. Сукин сын, мертвая душа.
28 апреля. Воскресение[153]. Целодневный проливной дождь. Ходил на Петербургскую сторону – к Тихонову. Не застал. Хотел идти к Горькому, раздумал. Играл с детьми в том доме, где живет Тихонов, – и как странно! Их зовут, как моих: Лида, Коля и Боря. Когда я услышал, что девочку зовут Лида, а мальчика – Коля, я уверенно сказал третьему: а ты – Боря. Девочка рассказала мне о гимназии. Она часто ссорится с подругами и мирится – по телефону. Не иначе. «Кондрашова, прошу прощения». А назавтра, после такого телефонного разговора – ни слова о нем. Считается неприличным упоминать о нем.
Хотел идти к Горькому, но по дороге сел на скамью против мечети. Сижу – мимо быстро мчится юноша и кланяется. Оказывается, это Герд, племянник жены Горького, Марии Федоровны. Он живет сейчас у Горького. Я привязался к нему. Или он враль, или действительно невероятный герой. Он рассказывает, как бежал от солдат, которые хотели его убить, как убил, из самозащиты, 6 или 7 человек, и одного поленом, другого штыком, и т. д., как возил тайные письма в Румынию, как был при гетьмане Скоропадском и пр., и пр. При этом высказывал самые белогвардейские взгляды – и намекал, что он состоит в контрреволюционной организации. Думаю, врет, иначе не стал бы говорить об этом первому встречному. Но поразителен Горький. У него в доме скрывается – ярый милитарист и белогвардеец.
__________________
Горький дал мне некоторые материалы – о себе. Много его статей, писем, набросков*. Прихожу к заключению, что всякий большой писатель – отчасти графоман. Он должен писать, хотя бы чепуху, – но писать. В чаянии сделаться большим писателем, даю себе слово, при всякой возможности – водить пером по бумаге. Розанов говорил мне: когда я не ем и не сплю, я пишу.
Апрель. Последний день. Боба до идиотизма увлекается одной игрой: ходит по комнате и подбрасывает плоской щепкой мяч: вся штука в том, чтобы мяч возможно дольше не падал на пол. Вчера он 800 раз подряд подбросил мяч, не роняя его на землю.
Вчера я был в Михайловском театре. Видел Женю Редько в роли Марии Стюарт – отлично! Как волновалась бедная Евгения Исааковна перед спектаклем, холодная, мертвая, и Александр Мефодьевич! Женя играла восхитительно. Зрелая игра опытной актрисы.
Май. Хорошая погода, в течение целой недели. Солнце. Трава, благодать. Мы на новой квартире. Пишу главу о технике Некрасова – и не знаю во всей России ни одного человека, которому она была бы интересна. Вчера я устроил в Петрогорсоюзе литературный вечер: пригласил Куприна, Ремизова и Замятина. Куприн прочитал ужасный рассказ – пошлую банальщину – «Сад Пречистой Девы»; Ремизов хорошо прочитал «Пляску Иродиады», но огромный неожиданный успех имел Замятин, прочитавший «Алатырь» – вещь никому не известную. Когда он останавливался, ему кричали: дальше! пожалуйста! – (вещь очень длинная, но всю прослушали благоговейно), аплодировали без конца. Была Шура Богданович, был Коля, Миша Слонимский и барышня из аптеки.
Коля стал франтом. Сегодня входит: папа, научи меня завязывать галстух.
Сегодня с Колей и Бобой я был в Институте живого слова (на Знаменской). Кони вел там семинарий по судебному, ораторскому искусству. Было человек 18 – никак не 20 – все больше девицы. Когда мы вошли, судебный процесс был в полном разгаре. Кони председательствовал. Одна девица была прокурором, другая – адвокатом. Разбирали дело какого-то варшавского военного доктора, который вместе с женой истязал малолетнюю дочь. Дело было давно, и эта малолетняя дочь теперь, должно быть, имеет внуков. Кукольный, игрушечный, фиктивный процесс затянулся, и Кони был в полном восторге, – вероятно, ему казалось, что он по-прежнему обер-прокурор и что этот процесс настоящий. Он напомнил мне отставного адмирала, который за неимением настоящей эскадры пускает в лохани бумажные лодочки, и хлопает в ладоши, и командует, и ему кажется, что ничего не изменилось, что он по-прежнему глава и командир крейсеров, миноносцев. Он машет руками, неистовствует, бегает вокруг лохани, и дай Бог ему никогда не очнуться. Так и Кони: – «Не правда ли, отличный процесс?» – спросил он, когда мы сходили вниз по лестнице.
Был у Гржебина. Гржебин предлагает мне за мои сочинения 280 000 рублей – и мне кажется, я соглашусь.
Теперь всюду у ворот введены дежурства. Особенно часто дежурит Блок. Он рассказывает, что вчера, когда отправлялся на дежурство, какой-то господин произнес ему вслед:
И каждый вечер в час назначенный, Иль это только снится мне… («Незнакомка»)Теперь время сокращений: есть слово МОПС – оно означает Московский Округ Путей Сообщения. Люди, встречаясь, говорят: Чик, – это значит: Честь Имею Кланяться. Нет, это не должно умереть для потомства: дети Лозинского гуляли по Каменноостровскому – и вдруг с неба на них упал фунт колбасы. Оказалось, летели вороны – и уронили, ура! Дети сыты – и теперь ходят по Каменноостровскому с утра до ночи и глядят с надеждой на ворон.
4 июня. У Бобы – корь. Я читаю ему былины, отгоняю мух. – Белые ночи, но выходить из дому нельзя.
7 июня. Воскресение[154]. Мы с Тихоновым и Замятиным затеяли журнал «Завтра»*. Горькому журнал очень люб. Он набросал целый ряд статеек – некоторые читал, некоторые пересказывал – и все антибольшевистские. Я поехал в Смольный к Лисовскому просить разрешения; Лисовский разрешил, но, выдавая разрешение, сказал: прошу каждый номер доставлять мне предварительно на просмотр. Потому что мы совсем не уверены в Горьком.
Горький член их исполнительного комитета, а они хотят цензуровать его. Чудеса!
12 июня. У Коли завтра экзамены. Лида (второклассница) взяла его (шестиклассника) под свою опеку – заставила его повторить химию, а в 12 ч. ночи, когда я вернулся домой, – я услышал: ну, теперь все. Иди спать. А завтра, когда встанешь, повтори аммоний и амияк.
5 июля. Вчера в Институте Зубова Гумилев читал о Блоке лекцию* – четвертую. Я уговорил Блока пойти. Блок думал, что будет бездна народу, за спинами которого можно спрятаться, и пошел. Оказались девицы, сидящие полукругом. Нас угостили супом и хлебом. Гумилев читал о «Двенадцати» – вздор – девицы записывали. Блок слушал, как каменный. Было очень жарко. Я смотрел: – его лицо и потное было величественно: Гете и Данте. Когда кончилось, он сказал очень значительно, с паузами: мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил, я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «к сожалению, Христос. К сожалению, именно Христос»*.
Любопытно: когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: «Нисколько. До войны я был брезглив. После войны – ничего». В моем представлении это как-то слилось с «Двенадцатью». Не написал бы «Двенадцати», если бы был брезглив.
Вчера Сологуб явился во «Всемирную Литературу» раздраженный. На всех глядел, как на врагов. Отказался ответить мне на мою анкету о Некрасове*. Фыркнул на Гумилева. Мы говорили об этом в Коллегии. Горький сидел хмурый; потом толкнул меня локтем, говорит:
– Сологуб встречает Саваофа. Обиделся. Как вы смеете бриться. Ведь я же не бритый!
Я не улыбнулся. Горький нахмурился.
Сегодня был у Шаляпина. Шаляпин удручен: – Цены растут – я трачу 5–6 тысяч в день. Чем я дальше буду жить? Продавать вещи? Но ведь мне за них ничего не дадут. Да и покупателей нету. И какой ужас: видеть своих детей, умирающих с голоду.
И он по-актерски разыграл предо мною эту сцену.
9 июля. Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:
– Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».
Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за «Александра»*, да двадцать тысяч, полученных Зинаидой Николаевной Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцарапать еще тысяч сто.
Сегодня Шкловский написал обо мне фельетон – о моей лекции про «Технику некрасовской лирики»*. Но мне лень даже развернуть газету: голод, смерть, не до того.
[Июль – август 1919]*. [Дата поставлена предположительно. – Е. Ч.] Итак, первый день – первые впечатления: сытость. Уже подъезжая к Москве, видишь огромное множество молока, варенца, хлеба. На вокзале в Клину 15 р. огромная кружка простокваши. На вокзале Николаевском – швейцарский сыр, чай и т. д. В Москве лица сытые, веселые. Народу гибель. В трамвай не попасть. Мы около часу бились у остановки трамвая, пока попали в № 4-й, – с чемоданами и прибыли к теще Анненкова. Там именины: пироги, вино, конфеты – и все в огромном количестве. Оттуда к Луначарскому. Ест вишни. Принял хорошо, написал письмо к Воровскому, Воровский – очень мил, по дороге к Воровскому – вижу Александру Чеботаревскую, захожу в кондитерскую покупаю за 20 р. пирожное и стакан простокваши. У Воровского встречаю Гржебина. Зовет обедать. Иду. Хоромы. Еда: рыба, телятина, щи, пирожное, – в изобилии. Обедают Строев, Горький, я, Гржебин старший, Гржебин младший, – и его невеста, красавица такая, что даже страшно. Горький рассказал анекдот, как к нему пришел Поддубный и сказал: в России есть только три знаменитых человека – я (т. е. Поддубный), Вяльцева и Куприн. О Горьком забыл. От Гржебина – к Чеботаревской.
Угощала вишнями, кашей, хлеба вдоволь и т. д. Оттуда в Мертвый переулок: состязание Вячеслава Иванова с Луначарским. Странно: Луначарский отстаивал индивидуалистическое творчество, а Вячеслав Иванов коллективное. Все это очень любопытно, но все это Москва. Там буфет.
Второй день – идиотский. Утром не пил чаю – в молочную. Сто рублей – зря. Обед во «Дворце Искусств». Рукавишников – мил, добродушен: искусство вещь оккультная. Ходасевич. Великолепные стихи. Подал Воровскому бумагу.
4 сентября. Сейчас видел плачущего Горького – «Арестован Сергей Федорович Ольденбург!» – вскричал он, вбегая в комнату издательства Гржебина, – и пробежал к Строеву. Я пошел за ним попросить о Бенкендорф (моей помощнице в Студии), которую почему-то тоже арестовали. Я подошел к нему, а он начал какую-то длинную фразу в ответ и безмолвно проделал всю жестикуляцию, соответствующую этой несказанной фразе. «Ну что же я могу, – наконец выговорил он. – Ведь Ольденбург дороже стоит. Я им, подлецам – то есть подлецу, – заявил, что если он не выпустит их сию минуту… я им сделаю скандал, я уйду совсем – из коммунистов. Ну их к черту». Глаза у него были мокрые.
Третьего дня Блок рассказывал, как он с кем-то в «Альконосте» запьянствовал, засиделся, и их чуть не заарестовали: – Почему сидите в чужой квартире после 12-ти час. Ваши паспорта?.. Я должен вас задержать…
К счастью, председателем домового комитета оказался Азов. Он заявил арестовывающему: – Да ведь это известный поэт Ал. Блок. – И отпустили.
Блок аккуратен до болезненности. У него по карманам рассовано несколько записных книжечек, и он все, что ему нужно, аккуратненько записывает во все книжечки; он читает все декреты, те, которые хотя бы косвенно относятся к нему, вырезывает – сортирует, носит в пиджаке. Нельзя себе представить, чтобы возле него был мусор, кавардак – на столе или на диване. Все линии отчетливы и чисты.
18 сентября 1919. Только что была у меня Лизанька, воспитанница Авдотьи Яковлевны. Теперь ей лет 70. Она выдает себя за сестру Некрасова. В комиссариате не разбираются, что ее отчество Александровна. По моей просьбе ей выдали валенки и 5 000 руб.
– Помню, – говорит она, – Некрасов приехал в Грешнево, когда мне было 8 лет. Меня поразило, что у него были носки цветные, тогда таких не бывало. Я принесла ему полную тарелку малины, он сказал мне:
– Спасибо, Лизанька.
Она вспоминала братьев Добролюбовых, Чернышевского, Зинаиду Николаевну.
По ее мнению, З. Н. в последние минуты обокрала Некрасова. Ей рассказывал Федор Алексеевич, брат Некрасова, что перед смертью Некрасов несколько раз говорил: ключ, ключ! Стали искать под подушкой, ничего. Она вытащила раньше, а потом подсунула. Старуха проклинает Унковского, который обвенчал Николая Алексеевича с Зинаидой Николаевной.
Я угостил обедом старуху – аппетит сверхъестественный, голод – ее единственное чувство, они с дочерью ели так дружно, как заговорщицы.
_______________
У меня жена беременна, Но, конечно, это временно.20 сентября. Вчера Горький читал в нашей «Студии» о картинах для кинематографа и театра. Слушателей было мало. Я предложил ему сесть за стол, он сказал: «Нет, лучше сюда! – и сел за детскую парту: – В детстве не довелось посидеть на этой скамье». Он очень удручен смертью Леонида Андреева. «Это был огромный талант. Я такого не видал. У него было воображение – бешеное. Скажи ему, какая вещь лежала на столе, он сразу скажет все остальные вещи. Нужно написать воспоминания о Леониде Андрееве. И вы, Корней Ив., напишите. Помню, на Капри, мы шли и увидели отвесную стену, высокую, – и я сказал ему: вообразите, что там наверху – человек. Он мгновенно построил рассказ «Любовь к ближнему» – но рассказал его лучше, чем у него написалось».
24 сентября. Заседание по сценариям. Впервые присутствует Марья Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький, хотя и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу.
26 октября. У Тихоновых. Холод. Чай у Махлиных. Горький вспоминал о Чехове: был в Ялте татарин, – все подмигивал одним глазом: ходил к знаменитостям и подмигивал. Чехов его не любил. Один раз спрашивает маму: – Мамаша, зачем приходил этот татарин? – А он, Антоша, хотел спросить у тебя одну вещь. – Какую? – Как ловят китов? – Китов? Ну, это очень просто: берут много селедок, целую сотню, и бросают киту. Кит наестся соленого и захочет пить. А пить ему не дают – нарочно! В море вода тоже соленая – вот он и плывет к реке, где пресная вода. Чуть он заберется в реку, люди делают в реке загородку, чтобы назад ему ходу не было, и кит пойман. – Мамаша кинулась разыскивать татарина, чтобы рассказать ему, как ловят китов. Дразнил бедную старуху.
28 октября. Должно было быть заседание Исторических картин, но не состоялось (Тихонов заболтался с дамой – Кемеровой) – и Горький стал рассказывать нам разные истории. Мы сидели как очарованные. Рассказывал конфузливо, в усы – а потом разошелся. Начал с обезьяны – как он пошел с Шаляпиным в цирк, и там показывали обезьяну, которая кушала, курила и т. д. И вот неожиданно – смотрю: Федор тут же, при публике, делает все обезьяньи жесты – чешет рукою за ухом и т. д. Изумительно! Потом Горький перешел на селедку – как сельдь «идет»: вот этакий остров – появляется в Каспийском (опаловом, зеленоватом) море и движется. Слой сельдей такой густой, что вставь весло – стоит. Верхние уже не в воде, а сверху, в воздухе – уже сонные – очень красиво. Есть такие озорники (люди), что ныряют вглубь, но потом не вынырнуть, все равно как под лед нырнули, тонут.
– А вы тонули? – спросил С. Ф. Ольденбург.
– Раз шесть. Один раз в Нижнем. Зацепился ногою за якорный канат (там был на дне якорь) и не мог освободить ногу. Так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчик, который ехал по откосу, – он увидел, что вон человек нырнул, и кинулся поскорее. Ну, конечно, я без чувств был – и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувство приводят. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок (за якорь зацепили), а потом, как приводили в чувство, катали меня по камням, по доскам – все тело занозили, исцарапали; я глянул и думаю: здорово! Ведь они меня швыряли, как мертвого. И чуть очнулся, я сейчас же драться с околоточным – тот меня в участок свести хотел. Я не давался, но все же попал.
А другой раз нас оторвало в Каспийском море – баржу – человек сто было – ну, бабы вели себя отлично, а мужчины сплоховали, двое с ума сошли: нас носило по волнам 62 часа…
Ах, ну и бабы же там на рыбных промыслах! Например, вот этакий стол – вдвое длиннее этого, они стоят рядом, и вот попадает к ним трехпудовая рыба – и так из рук в руки катится, ни минуты не задерживается – вырежут икру, молоки… (он назвал штук десять специальных терминов) – и даже не заметишь, как они это делают. Вот такие – руки голые – мускулистые дамы – и вот (он показал на груди); этот промысел у них наследственный – они еще при Екатерине этим занимались. Отличные бабы.
Потом рассказывал, как он перебегал перед самым паровозом – рельсы. Страшно и весело: вот-вот наскочит. Научил его этому Стрел [конец фамилии оторван. – Е. Ч.] товарищ, вихрастый – он делал это тысячу раз – и вот Горький ему позавидовал.
Мы все слушали, как очарованные, – особенно Блок. Никакого заседания не было – никто и не вспомнил о заседании. Потом Ольденбург говорил о том, что он ни за что не поедет за границу, что ему стыдно, что теперь в Европе к русским отношение собачье. Когда Ольденбург высказывает какое-нб. мнение, кажется, что он ждет от вас похвального отзыва – что вы скажете ему «паинька». Он даже поглядывает на вас искоса – тайком – видите ли вы, какой он славный? И когда ласковым вкрадчивым голосом он выражает научные мнения, – он высказывает их, как первый ученик – застенчиво, задушевно, и ждет одобрительного кивка головы (главным образом, со стороны Горького, но и нашими не брезгует). Горький в него влюблен, они сидят визави и все время переглядываются; Горький говорит: «Вот какой должен быть ученый». А откуда он знает! Мне кажется, что Ольденбург – усваиватель, но не создатель. Ему легче прочитать тысячу книг, чем написать одну.
На заседании «Всемирной Литературы» произошел смешной эпизод. Гумилев приготовил для народного издания Саути* – и вдруг Горький заявил, что оттуда надо изъять… все переводы Жуковского, которые рядом с переводами Гумилева страшно теряют! Блок пришел в священный ужас, я визжал – я говорил, что мои дети читают Варвика и Гаттона с восторгом*. Горький стоял на своем. По-моему, его представление о народе – неверное. Народ отличит хорошее от дурного – сам, а если не отличит, тем хуже для него. Но мы не должны прятать от него Жуковского и подсовывать ему Гумилева.
Сегодня я написал воспоминания об Андрееве. В комнате холодно. Руки покрываются красными пятнами.
Блок показывал мне свои воспоминания об Андрееве: по-моему, мямление и канитель. Тихонов сегодня вместо «фантасмагория» сказал «фантасгармония». Горький подмигнул мне: здорово!
1 ноября. Сегодня Волынский выразил желание протестовать против горьковского выступления (насчет Жуковского).
Возле нашего переулка – палая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вырезал у нее из крупа фунтов десять – надеюсь, на продажу, а не для себя. Вчера я был в Доме Литераторов: у всех одежа мятая, обвислая, видно, что люди спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины – как жеваные. Будто их кто жевал – и выплюнул. Горький на днях очень хорошо показывал Блоку, как какой-то подмигивающий обыватель постукивал по дереву на Петербургской стороне, у трамвая. «Ночью он его срубит», – таинственно шептал Горький. Юрий Анненков – начал писать мой портрет*. Но как у него холодно! Он топит дверьми: снимет дверь, рубит на куски – и вместе с ручками в плиту!
2 ноября. Я сижу и редактирую «Копперфильда» в переводе Введенского*. Перевод гнусный, пьяный. Бобу научила Женя делать из бумаги стрелы, которые он зовет аэропланами. Два дня подряд он делает стрелы – без конца – бросает их целые дни. – Бенкендорф рассказывает, что в церкви, когда люди станут на колени, очень любопытно рассматривать целую коллекцию дыр на подошвах. Ни одной подошвы – без дыры!
3 ноября. Был у меня как-то Кузмин. Войдя, он воскликнул:
– Ваш кабинет похож на детскую!
Взял у меня «до вечера» 500 рублей – и сгинул.
Секция исторических картин, коей я состою членом, отрядила меня к Горнфельду для переговоров. Я пошел. Горнфельд живет на Бассейной – ход со двора, с Фонтанной – крошечный горбатый человечек, с личиком в кулачок; ходит, волоча за собою ногу; руками чуть не касается полу. Пройдя полкомнаты, запыхивается, устает, падает в изнеможении. Но, несмотря на это, всегда чисто выбрит, щегольски одет, острит – с капризными интонациями избалованного умного мальчика – и через 10 минут разговора вы забываете, что перед вами – урод. Теперь он в перчатках – руки мерзнут. Голос у него едкий – умного еврея. Уже около года он не выходит из комнаты. Дров у него нет – надежд на дрова никаких – развлечений только книги, но он не унывает. Я прочитал ему свою статью об Андрееве*. Вначале он говорил: «ой, как зло!» А потом: «нет, нет!» Общий его приговор: «Написано эффектно, но неверно. Андреев был пошляк, мещанин. У него был талант, но не было ни воли, ни ума». Я думаю, Горнфельд прав; он рассказывал, как Андреев был у него – предлагал подписать какой-то протест. «Я увидел, что его не столько интересует самый протест, сколько то, что в том протесте участвует Бунин. Он был мелкий, мелочной человек». Завтра к Горнфельду придут печники, будут ломать стену в кухню – «все же теплее будет». Кстати: жена Дионео когда-то в Лондоне говорила мне, что она была влюблена в Горнфельда. – И вы могли бы быть его женой? – Мечтала об этом.
Вообще среди друзей Горнфельда – большинство женщины. И я уверен, что у него было много романов.
4 ноября. Мне все кажется, что Андреев жив. Я писал воспоминания о нем – и ни одной минуты не думал о нем как о покойнике. Неделю назад мы с Гржебиным возвращались от Тихонова – он рассказывал, как Андреев, вернувшись из Берлина, влюбился в жену Копельмана и она отвечала ему взаимностью – но, увы, в то время она была беременна – и Андреев тотчас же сделал предложение сестрам Денисевич – обеим сразу. Это помню и я. Толя сказала, что она замужем – (тайно!). Тогда он к Маргарите, которую переделал в Анну.
Гржебин зашел ко мне на кухню вечером – и, ходя по кухне, вспоминал, как Андреев пил – и к нему в трактире подходила одна компания за другой, а он все сидел и пил – всех перепивал. «Я устроил для него ванну, – он не хотел купаться, тогда мы подвели его к ванне одетого – и будто нечаянно толкнули в воду – ему поневоле пришлось раздеться – и он принял ванну. После ванны он сейчас же засыпал».
5 ноября. Вчера ходил я на Смольный проспект, на почту, получать посылку. Получил мешок отличных сухарей – полпуда! Кто послал? Какой-то Яковенко, – а кто он такой, не знаю. Какому-то Яковенко было не жалко – отдать превосходный мешок, сушить сухари – пойти на почту и т. д., и т. д. Я нес этот мешок, как бриллианты. Все смотрели на меня и завидовали. Дети пришли в экстаз.
Вчера Горький рассказывал, что он получил из Кремля упрек, что мы во время заседания ведем [оставлено место для слова. – Е. Ч.] разговоры. Это очень взволновало его. Он говорит, что пришла к нему дама – на ней фунта четыре серебра, фунта два золота, – и просит о двух мужчинах, которые сидят на Гороховой: они оба мои мужья. «Я обещал похлопотать… А она спрашивает: сколько же вы за это возьмете?» Вопрос о Жуковском кончился очень забавно: Гумилев поспорил с Горьким о Жуковском – и ждал, что Горький прогонит его, а Горький – поручил Гумилеву редактировать Жуковского для Гржебина*.
Боба читает «Тома Сойера на воздушном шаре». Редактирую «Копперфильда» – работа кропотливая.
Обсуждали мы, какого художника пригласить в декораторы к пьесе Гумилева. Кто-то предложил Анненкова. Горький сказал: Но ведь у него будут все треугольники… Предложили Радакова. Но ведь у него все первобытные люди выйдут похожи на Аверченко*. Сейчас Оцуп читал мне сонет о Горьком. Начинается «с улыбкой хитрой». Горький хитрый?! Он не хитрый, а простодушный до невменяемости. Он ничего в действительной жизни не понимает – младенчески. Если все вокруг него (те, кого он любит) расположены к какому-нб. человеку, и он инстинктивно, не думая, не рассуждая – любит этого человека. Если кто-нб. из его близких (m-me Шайкевич, Марья Федоровна, «купчиха»* Ходасевич, Тихонов, Гржебин) вдруг невзлюбят кого-нб. – кончено! Для тех, кто принадлежит к своим, он делает все, подписывает всякую бумагу, становится в их руках пешкою. Гржебин из Горького может веревки вить. Но все чужие – враги. Я теперь (после полуторагодовой совместной работы) так ясно вижу этого человека, как втянули его в «Новую Жизнь», в большевизм, во что хотите – во «Всемирную Литературу». Обмануть его легче легкого – наш Боба обманет его. В кругу своих он доверчив и покорен. Оттого что спекулянт Махлин живет рядом с Тихоновым, на одной лестнице, Горький высвободил этого человека из Чрезвычайки, спас от расстрела…
6 ноября. Первый зимний (солнечный) день. В такие дни особенно прекрасны дымы из труб. Но теперь – ни одного дыма: никто не топит. Сейчас был у меня Мережковский – второй раз. Он хочет, чтобы я похлопотал за него пред Ионовым, чтобы тот купил у него «Трилогию»*, которая уже продана Мережковским Гржебину. Вопреки обычаю, Мережковский произвел на этот раз отличное впечатление. Я прочитал ему статейку об Андрееве – ему она не понравилась, и он очень интересно говорил о ней. Он говорил, что Андреев все же не плевел, что в нем был туман, а туман вечнее гранита, он убеждал меня написать о том, что Андреев был писатель метафизический, – хоть и дрянь, а метафизик. Мережковский увлекся, встал (в шубе) с диванчика – и глаза у него заблестели наивно, живо. Это бывает очень редко. Марья Борисовна предложила ему пирожка, он попросил бумажку, завернул – и понес Зинаиде Николаевне. Публичная библиотека купила у него рукопись «14 декабря» за 15 000 рублей. Говорил Мережковский о том, что Андреев гораздо выше Горького, ибо Горький не чувствует мира, не чувствует вечности, не чувствует Бога. Горький – высшая и страшная пошлость.
7 ноября. Сейчас вспомнил, как Андреев, получив от Цетлина аванс за собрание своих сочинений, купил себе – ни с того ни с сего – осла. – Для чего вам осел? – Очень нужен. Он напоминает мне Цетлина. Чуть я забуду о своем счастьи, осел закричит, я вспомню. – Лет восемь назад он рассказывал мне и Брусянину, что, будучи московским студентом, он, бывало, с пятирублевкой в кармане совершал по Москве кругосветное плавание, т. е. кружил по переулкам и улицам, заходя по дороге во все кабаки и трактиры, и в каждом выпивал по рюмке. Вся цель такого плавания заключалась в том, чтобы не пропустить ни одного заведения и добросовестно придти круговым путем, откуда вышел. – Сперва все шло у меня хорошо, я плыл на всех парусах, но в середине пути всякий раз натыкался на мель. Дело в том, что в одном переулке две пивные помещались визави, дверь против двери; выходя из одной, я шел в другую и оттуда опять возвращался в первую: всякий раз, когда я выходил из одной, меня брало сомнение, был ли я во второй, и т. к. я человек добросовестный, то я и ходил два часа между двумя заведениями, пока не погибал окончательно.
Обо мне Андреев говорил: «Иуда из Териок». Однажды он сказал: – Вот вы, К. И., видите в людях то, чего не видит никто. Все видят стулья снаружи, а вы берете каждый стул и рассматриваете ту, заднюю часть сидения, и показываете всем – вот какая эта часть! Но кому это нужно – знать заднюю часть сидения!
Был у Горнфельда, и только сегодня заметил, что даже на стуле сидеть он не может без костылька. Был у Гумилева. Гумилев очень любит звать к себе на обед, на чай, но не потому, что он хочет угостить, а потому, что ему нравится торжественность трапезования: он сажает гостя на почетное место, церемонно ухаживает за его женой, все чинно и благолепно, а тарелки могут быть хоть пустые. Он любит во всем истовость, форму, порядок. Это в нем очень мило. Мы мечтали с ним о том, как бы уехать на Майорку. «Ведь от Майорки всюду близко – рукой подать! – говорил он. – И Австралия, и Южная Америка, и Испания!» Пришел я домой от него (много снегу, луна), и о ужас! – у меня Шатуновские. А я уж опять наладился ложиться в 8 час. Они просидели до 11, и вследствие этого я не сплю всю ночь. Пишу это ночью. Мы беседовали о политике – и о моем безденежьи. Они выразили столько участья – отчаянному моему положению (тому, что у меня шесть человек, которых я должен кормить), что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все, что мог, и получил 90 000 рублей. В этом месяце мне мало 90 000 рублей, – а взять неоткуда ни гроша! – Сегодня празднества по случаю двухлетия Советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: шапки вверх, делайте веселые лица!
8 ноября. Горький всегда говорит о них в нашей компании: «Да я им говорю: черти вы, мерзавцы, да что вы делаете? да разве так можно?»
Сегодня вечер памяти Леонида Андреева. Вчера я с детьми готовил афиши. Вечер возник по моей инициативе. Горький затеял сборник* – я сказал: «А раньше прочтем эти статьи публично». Мы сняли Тенишевский зал, Марья Игнатьевна и Оцуп – хлопочут. Кажется, публики не будет, и, главное, главное, главное – я уверен, что Андреев жив.
9 ноября. Ночь. Опять не сплю – все думаю о вчерашнем вечере «Памяти Андреева» – всю ночь ни одной другой мысли!.. Вышло глупо и неуклюже – и я промучился часа три подряд. Начать с того, что было очень холодно в Тенишевском училище. Публика сидела нахохлившись. Было человек 200: но никакого единения не чувствовалось. Был Белопольский, мать Оцупа. Вся свита Горького: Гржебин, Тихонов, их жены, m-me Ходасевич, ее муж, Батюшков, конторщицы «Всемирной Литературы», два-три комиссара, с десяток студентов новейшей формации. Редько. Были мои слушатели по студии: Надежда Филипповна, Полонская, Володя Познер, Векслер, но все это не сливалось, а торчало особняком. Литературной атмосферы не было, и температура не поднялась ни на градус, когда Алекс. Блок матовым голосом прочитал свою водянистую вещь, где слово я… я… я… я – мелькало гораздо чаще, чем слово «Андреев». Так, впрочем, и должно быть у лирических поэтов, и для изучающих творчество Блока эта статья очень интересна, но в память Леонида Андреева не годится. Потом хотели читать актеры, но неожиданно выскочил на эстраду Горький – и этим изгадил все дело. Он, что называется, «сорвал вечер». Он читал глухим басом, читал длинно и тускло, очень невнятно, растекался в подробностях и малоинтересных анекдотах, – без задушевности, – характеристики никакой не дал, – атмосфера не поднялась ни на градус… Когда он кончил, наступило шесть часов – все стали стремиться к последним трамваям, – и вот когда появились актеры, читать сцену из «Проф. Сторицына», началось истечение из залы: комиссаров, всей свиты Горького, и т. д., и т. д. Это так возмутило меня, что когда настала моя очередь, я предложил публике (осталось человек сто) либо уйти сейчас, либо прослушать чтение до конца. Все остались, многие из уходивших вернулись. Читал я очень нервно, громко, то вставая, то садясь (многое пропуская) – и чрезвычайно любя Андреева. Статейка моя вышла жесткая, в иных местах язвительная, но, в общем и главном, Андреев мне мил. Поэтому меня очень огорчила Даманская (почему-то с подбитым глазом), когда она отвела меня в сторону и сказала: «Многие недовольны, говорят, что слишком зло, но мне понравилось». Потом выступил Замятин и прелестно прочитал свой анекдот об Андрееве и зонтике. Все тепло смеялись, и температура начала подниматься, – но этим и кончилось. Я вложил в этот вечер много себя, сам клеил афиши, готовился – и потому теперь не сплю. Мне почему-то показалось, что Горький – малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. сложного не понимают. Я люблю Андреева сквозь иронию, – но это уже недоступно. Иронию понимают только тонкие люди, а не комиссары, не мама Оцупа, – Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен[155].
Видел Мережковского. Он написал письмо Горькому с просьбой повлиять на Ионова, – чтобы тот купил у Мережковского его «Трилогию».
Блок как-то на днях обратился ко мне: не знаю ли я богатого и глупого человека, который купил бы у него библиотеку: «Мир Искусства», «Весы» и т. д. Деньги очень нужны.
Я хочу исподволь приучить Бобу к географии. Вчера я сказал ему, что Гумилев едет на Майорку, а мы уедем на Минорку. Я прочитал ему из «Энциклопедии Британника» об этих островах – и он весь день бредил ими. Мы рассматривали Майорку на карте. Присланные милым Яковенко сухари называются у них «Яковенки». Боба сейчас кричит: «Яковенки с чаем! Яковенки с чаем!»
11 ноября. Был в военном комиссариате у товарища Тойво – очень милый человек. Кабинет полон высоких генералов. В комнате жиденький, бледными красками написанный портрет Ленина. Заговорили о Ленине. Кто-то восторженно: – А как он по матери ругается. Великолепно!
Сегодня во «Всемирке» – Амфитеатров читал своего «Ваську Буслаева». Былинный размер очень хорош, но когда переходит на пятистопный ямб – сразу другим языком. Вместе с размером меняется и стиль. Амфитеатров очень способный, но совсем не талантливый человек. Читая, он поглядывал на Горького. «Гондлу» Гумилева провалили. Потом – заседание «Всемирной Литературы». По моей инициативе был возбужден вопрос о питании членов литературной коллегии. Никаких денег не хватает – нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил с аппетитом. – «Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо – пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. Ведь вот сейчас – оказывается, в тюрьме лучше, чем на воле: я сейчас хлопотал о сидящих на Шпалерной, их выпустили, а они не хотят уходить: и теплее и сытнее! А провизия есть… есть… Это я знаю наверное… есть… в Смольном куча… икры – целые бочки – в Петербурге жить можно… Можно… Вчера у меня одна баба из Смольного была… там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом…» и все в таком роде.
Был у Сазонова. Дом Искусства как будто на мази!
_______________
Володя Познер сидит в соседней комнате и переписывает на машинке свою пьеску о Студии «Учение свет – неучение тьма». Ему 14 лет – а пьеска очень едкая, есть недурные стихи.
12 ноября. Встал часа в 3 и стал писать бумагу о положении литераторов в России. Бумага будет прочтена завтра в заседании «Всемирной Литературы». Сейчас примусь за Уитмэна. Хочу перевести что-нибудь из его прозы.
13 ноября. Вчера встретился во «Всемирной» с Волынским. Говорили о бумаге насчет ужасного положения писателей. Волынский: «Лучше промолчать, это будет достойнее. Я не политик, не дипломат»… – А разве Горький – дипломат? – «Еще бы! У меня есть точные сведения, что здесь с нами он говорит одно, а там – с ними – другое! Это дипломатия очень тонкая!» Я сказал Волынскому, что и сам был свидетелем этого: как большевистски говорил Горький с тов. Зариным, – я не верил ушам, и ушел, видя, что мешаю. Но я объясняю это художественной впечатлительностью Горького, а не преднамеренным планом. Повторяется то же, что было с Некрасовым. Он тоже был на два фронта оттого, что – художник*. Из «Всемирной» к Гржебину. Выпросил десять тысяч – и в Комиссариат просвещения к Сазонову. Гринберг обещает в ноябре полмиллиона и в декабре – полмиллиона. Оставил валенки – и с Оцупом и Слонимским к Тойво. У Тойво большой, очень чистый кабинет, на столах разложена огромная штабная карта. Он показал кому-то, что Ямбург взят, и как именно взят: – те садились на корабли, а мы их отсюда крыли артиллерией. – У него в гостях был какой-то милый красноармеец. Разговор шепотом: – Ну, а многих расстреляли в Луге? – Нет. Одного. – Ну и хорошо. Крупенникова-старика не расстреляли? – Нет. – Очень хорошо. – А белые много там напакостили? – Нет. Не успели. Они удрали, и с ними ушло много народу… Большинство евреев. – Ну, вот это хорошо. Ну их! Нам они не нужны! – Я удивился.
Вчера я лег голодный. За весь день только сухари и суп! Хочу написать рассказ – о своих приключениях.
Сегодня должно было состояться заседание по поводу продовольствия. Но – Горький забыл о нем и не пришел! Был Сазонов, проф. Алексеев, Батюшков, Гумилев, Блок, Лернер… И Тихонов запоздал. Мы ждали 1 ½ часа. Наконец выяснилось, что Горький прямо проехал к Гржебину. Я поговорил по телефону с Горьким – и мы начали заседание без него. Потом – пошли к Гржебину. По дороге Сазонов спрашивал, что – Гумилев – хороший поэт? Стоит ему прислать дров или нет? Я сказал, что Гумилев – отличный поэт. А Батюшков – хороший профессор? О да! Батюшков отличный профессор. Горький принял нас нежно и любяще (как будто он видит нас впервые и слыхал о нас одно хорошее). Усадил и взволнованно стал говорить о серии книг: Избранные произведения русских писателей XIX в., затеваемой Гржебиным. Предложил образовать коллегию по изданию этой серии. В коллегию входим: Н. Лернер, А. Блок, Горький, Гржебин, Замятин, Гумилев и я. Потом Горького вызвали спешно в «Асторию» – и он уехал: прибыл Воровский. Блок жаловался: как ужасно, что тушат электричество на 4 часа – вчера он хотел писать три статьи – и темно.
14 ноября. Обедал в Смольном – селедочный суп и каша. За ложку залогу – сто рублей. В трамвае – во «Всемирную». Заседание по картинам – в анекдотах. Горький вчера был в заседании – с Ионовым, Зиновьевым, Быстрянским и Воровским. Быстрянского он показывал, делал физиономию – «вот такой». Эт-то, понимаете, «человек из подполья», – из подполья Достоевского. Сидит, молчит – обиженно и тяжело. А потом как заговорит, а у самого за ушами немыто и подошвы толстые, вот такие! И всегда он обижен, сердит, надут – на кого, неизвестно.
– Ну потом – шуточки! Стали говорить, что в Зоологическом саду умерли детеныши носорога. Я и спрашиваю: чем вы их кормить будете? Зиновьев отвечает: буржуями.
И начали обсуждать вопрос: резать буржуев или нет? Серьезно вам говорю… Серьезно… Спрашивается: когда эти люди были искренни: тогда ли, когда притворялись порядочными людьми, или теперь? Говорил я сегодня с Лениным по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот человек всегда хохочет. Обещает устроить все, но спрашивает: «Что же это вас еще не взяли… Ведь вас (питерцев) собираются взять». По рассказам Горького, Воровский был всегда хорошим человеком, честным, энергичным работником…
К Марье Игнатьевне Горький относится ласково. Дал ей приют у себя. Вчера: – М. И., вы идете на Кронверкский, подождите до 5-ти час., я вас отвезу, у меня будет лошадь.
Сейчас вспомнил, как Леонид Андреев ругал мне Горького: «Обратите внимание: Горький пролетарий, а все льнет к богатым – к Морозову, к Сытину, к (он назвал ряд имен). Я попробовал с ним в Италии ехать в одном поезде – куда тебе! разорился. Нет никаких сил: путешествует, как принц». Горький в письмах к Андрееву ругал меня; Андреев неукоснительно сообщал мне об этом.
Блок дал мне проредактированный им том Гейне*. Я нашел там немало ошибок. Некоторые меня удивили: например, слово подмастерье Блок склоняет так: родительный падеж подмастерьи, дательный падеж подмастерье – как будто это Дарья.
Мы самоуплотняемся: сдвинули всю мебель в три комнатки. Коля будет спать в комнате для прислуги. Темнеет – надо зажигать лампу, но керосину нет почти.
16 ноября. Блок патологически аккуратный человек. Это совершенно не вяжется с той поэзией безумия и гибели, которая ему так удается. Любит каждую вещь обвернуть бумажечкой, перевязать веревочкой; страшно ему нравятся футлярчики, коробочки. Самая растрепанная книга, побывавшая у него в руках, становится чище, приглаженнее. Я ему это сказал, и теперь мы знающе переглядываемся, когда он проявляет свою манию опрятности. Все, что он слышит, он норовит зафиксировать в записной книжке – вынимает ее раз двадцать во время заседания, записывает (что? что?) – и, аккуратно сложив и чуть не дунув на нее, неторопливо кладет в специально предназначенный карман.
17 ноября. Воскресение[156]. Был у меня Гумилев: принес от Анны Николаевны (своей жены) ½ фунта крупы – в подарок – из Бежецка. Говорит, что дров никаких: топили шкафом, но шкаф дал мало жару. Я дал ему взаймы 36 полен. Он увез их на Бобиных санях. – Был Мережковский. Жалуется, хочет уехать из Питера. Шуба у него – изумительная. Высокие калоши. Шапка соболья. Говорили о Горьком. «Горький двурушник: вот такой же, как Суворин. Он азефствует искренне. Когда он с нами – он наш. Когда он с ними – он ихний. Таковы талантливые русские люди. Он искренен и там и здесь». С Мережковским мы ходили в «Колос» – там читал Блок – свой доклад о музыкальности и цивилизации*, который я уже слышал. Впечатление жалкое. Носы у всех красные, в комнате холод, Блок – в фуфайке, при всяком слове у него изо рта – пар. Несчастные, обглоданные люди – слушают о том, что у нас было слишком много цивилизации, что мы погибли от цивилизации. Видал я Сюннерберга, Иванова-Разумника – все какие-то бывшие люди. Оттуда с Глазановым и Познером – на квартиру д-ра (забыл фамилию) – там Жирмунский читал свой доклад о «Поэтике» Шкловского. Были: Эйхенбаум в шарфе до полу, Шкловский (в обмотках ноги), – Сергей Бонди, артист Бахта, Векслер, Чудовский, Гумилев, Полонская с братом и др. Жирмунский произвел впечатление умного, образованного, но тривиального человека, который ни с чем не спорит, все понимает, все одобряет – и доводит свои мысли до тусклости. Шкловский возражал – угловато, задорно и очень талантливо. Векслер заподозрила Жирмунского, что он где-то упомянул душу писателя, – и сделала ему за это нагоняй. Какая же у писателя душа? К чему нам душа писателя? Нам нужна композиционная основа, а не душа. – Теперь все эти девочки, натасканные Шкловским, больше всего боятся, чтобы, не дай Бог, не сказалась душа*. При всяком намеке на психологизм (в литературной критике) они хором вопят:
Ах, какой он пошляк! Ах, как он неразвит!*
Современности вовсе не видно.
Но все же собрание произвело впечатление будоражащее, освежающее. Потом с Глазановым мы пошли ко мне и читали его доклад об Андрее Белом. – У меня от холоду опухли руки.
18 ноября. Целый день в хлопотах о продовольствии для писателей.
19 ноября. Среда. Вчера три заседания подряд: первое – Секция исторических картин, второе – «Всемирная Литература», третье – у Гржебина, «Сто лучших русских книг». Так как я очень забывчив на обстановку и подробности быта – запишу раз навсегда, как это происходит у нас. Теперь мы собираемся уже не на Невском, а на Моховой, против Тенишевского училища. Нам предоставлены два этажа барского особняка генеральши Хариной. Поднимаешься по мраморной лестнице – усатый меланхоличный Антон, и седовласый Михаил Яковлевич, бывший лакей Пуни, потом лакей Репина – «Панин папа» – как называют его у нас. Сейчас же налево – зал заседаний – длинная большая комната, соединенная лестницей с кабинетом Тихонова – наверху. В зале множество безвкусных картин – пейзажей – третьего сорта, мебель рыночная, но с претензиями. Там за круглым длинным столом мы заседаем в таком порядке
Я прихожу на заседания рано. Иду в зал заседаний – против окон видны силуэты: Горький беседует с Ольденбургом. Тот, как воробей, прыгает вверх – (Ольденбург всегда форсированный, демонстрирующий энергию). Там же сидит одиноко Блок – с обычным видом грустного и покорного недоумения: «И зачем я здесь? И что со мной сделали? И почему здесь Чуковский? Здравствуйте, Корней Иванович!» Я иду наверх – мимо нашей собственной мешочницы «Розы Васильевны». Роза Васильевна стала у нас учреждением – она сидит в верхней прихожей, у кабинета Тихонова – разложив на столе сторублевые коврижки, сторублевые карамельки – и все профессора и поэты здороваются с нею за руку, с каждым у нее своя интонация, свои счеты – и всех она презирает великолепным еврейским презрением и перед всеми лебезит. В следующей комнате – прием посетителей; теперь там пустовато. В следующей Вера Александровна – секретарша, подсчитывающая нам гонорары, – впечатлительная, обидчивая, без подбородка, податливая на ласку, втайне влюбленная в Тихонова; у ее стола по целым часам млеет Сильверсван. Кабинет Тихонова огромен. Там сидит он – в кабинете, свеженький, хорошенький, очень деловитый и в деловитости простодушный. Он обложен рукописями, к нему ежеминутно являются с докладом из конторы, из разных учреждений, он серьезный социал-демократ, друг Горького и т. д., но я не удивился бы, если бы оказалось, что… впрочем, Бог с ним. Я его люблю. В одном из ящиков его стола мешочек с сахаром, в другом – яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, перед концом заседания, к нему приходит его возлюбленная – в красной шубке – и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел тихоновский мешочек с сахаром там на столе – и только потом рассмотрел в углу Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова, в виде американца, и в первый же сеанс великолепно взял главное – и артистически разработал все плоскости подбородка. Глаз еще нет, но даже кожа – тихоновская. Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричной трубы, плакатов – вообще обамериканить портрет. Горький на заседание не пришел: болен. Он прислал мне записку, которую при сем прилагаю*. На первом заседании я читал своего Персея*, который неожиданно всем понравился. На втором заседании мы говорили о записке от лица литераторов, которую мы намерены послать Ленину. К концу заседания мне сообщили, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилев, Замятин – в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг. Блок неожиданно, замогильным голосом сказал, что литература XIX века не показательна для России, что в XIX в. вся Европа (и Россия) сошла с ума, что Гоголь, Толстой, Достоевский – сумасшедшие. Гумилев говорил, что Майков был бездарный поэт, что Иванов-Разумник – отвратительный критик. Гржебин в шутку назвал меня негодяем, я швырнул в него портфелем Гумилева – и сломал ручку. Говорили о деньгах – очень горячо – выяснилось, что все мы – нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно. Потом я вернулся домой – и Лидочка читала мне Шекспира «Генрих IV», чтобы усыпить меня. Я боялся, что не усну, т. к. сегодня открытие Дома Искусств, а я никогда не сплю накануне событий. – Лида теперь занята рефератом о Москве – забавная трудолюбивая носатка!
20 ноября 1919. Итак, вчера мы открывали Дом Искусства. Огромная холодная квартира, в которой каким-то чудом натопили две комнаты – стол с дивными письменными принадлежностями, все – как по маслу: прислуга, в уборной графин и стакан, гости. Горького не было, он болен. Все были так изумлены, когда им подали карамельки, стаканы горячего чаю и булочки, что немедленно избрали Сазонова товарищем председателя! Прежде Сазонов – в качестве эконома – и доступа не имел бы в зал заседаний коллегии! Теперь эконом – первая фигура в ученых и литературных собраниях. На него смотрели молитвенно: авось даст свечку. Он тоже не ударил в грязь лицом: узнав, что не хватает стаканов, он собственноручно принес свои собственные с Фонтанки на Мойку – в чемодане. Заседания не описываю, ибо Блок описал его для меня в Чукоккале*. Кое-что подсказывал ему я (об Анненкове). Немирович председательствовал – беспомощно: ему приходилось суфлировать каждое слово. – Холодно у вас? – спросил я его. – Да, три градуса, но я пишу об Африке, об Испании, – и согреваюсь! – отвечал бравый старикан. Мы ходили осматривать елисеевскую квартиру (нанятую нами для Дома Искусств). Безвкусица оглушительная. Уборная m– me Елисеевой вся расписана: морские волны, кораблекрушение. Множество каких-то гимнастических приборов, напоминающих орудия пытки. Блок ходил и с недоумением спрашивал: – А это для чего?
Коля говорит очень быстро: в кце кцов, в тсоттретьем году, нмер (например) и т. д. Он читает теперь Бобе роман об острове Борнео. Оба увлекаются очень.
Блок очень впечатлителен и переимчив. Я недавно читал в коллегии докладец о том, что в 40-х гг. писали: аплодисманы, мебели (множественное число) и т. д. Теперь в его статейке об Андрееве встретилось слово мебели (множественное число) и в отчете о заседании – «аплодисманы».
Не явились на открытие Дома Искусств: Федор Сологуб, Мережковский, Петров-Водкин. Мережковский в это время был у меня и спорил с Шатуновским. Очень, очень хочется мне помочь Анненкову, он ужасно нуждается. Он пишет портрет Тихонова за пуд белой муки, но Тихонов еще не дал ему этого пуда. По окончании заседания он подозвал меня к себе, увел в другую комнату – и показал неоконченный акварельный портрет Шкловского* (больше натуры – изумительно схвачено сложное выражение глаз и губ, присущее одному только Шкловскому). Мне страшно вдруг захотелось, чтобы он докончил мой портрет. Я начал переделывать «Принципы художественного перевода», но вдруг заскучал и бросил.
21 ноября 1919 года. С. Ф. Ольденбург дал мне любопытную книгу «The Legend of Perseus» by E. Sidney Hartland[157]. Утром сегодня я проснулся, предвкушая блаженство: читать эту незатейливую, но увлекательную вещь; но нет огня, нет спичек, и я промучился около часу. Теперь даже понять не могу, почему мне так хотелось читать эту книгу.
23 [ноября]. Был у Кони. Бодр. Его недавно арестовали. Не жалуется. «Там (в арестантской) я встретил миссионера Айвазова – и мы сейчас же заспорили с ним о сектантах.
Вся камера слушала наш ученый диспут. Очень забавно меня допрашивал – какой-то мальчик лет шестнадцати. – Ваше имя, звание? – Говорю: академик. – Чем занимаетесь?.. – Профессор… – А разве это возможно? – Что? – Быть и профессором и академиком сразу. – Для вас, говорю, невозможно, а для меня возможно».
Старик забыл, что уже показывал мне стихи, которые были поднесены ему слушателями «Живого Слова», – и показал вновь.
_______________
Блок читал сценарий своей египетской пьесы (по Масперо)*. Мне понравилось – другим не очень. Тихонов возражал: не пьеса, нет драматичности. Блок в объяснение говорил непонятное: у меня там выведен царь, который растет вот так – и он начертил руками такую фигуру V; а потом цари стали расти вот так: Л…
Очень забавен эпизод со стихами некоему служащему нашей конторы, Давиду Самойловичу Левину. Когда-то он снабдил Блока дровами, всех остальных обманул. Но и Блок и обманутые чувствуют какую-то надежду – авось пришлет еще дров. Теперь Левин завел альбом, и ему наперебой сочиняют стишки о дровах – Блок, Гумилев, Лернер. Блок сначала думал, что он Соломонович, – я сказал ему, что он Самойлович, Блок тайком вырвал страницу и написал вновь*.
_______________
Горький о Мережковском: он у меня, как фокстерьер, повис на горле – вцепился зубами и повис.
_______________
Я достал Гумилеву через Сазонова дров – получил от него во время заседания такую записку:
[Вклеена записка, почерк Н. Гумилева. – E. Ч.]:
Дрова пришли, сажень, дивные. Вечная моя благодарность Вам. Пойду благодарить П. В.
Вечно Ваш Н. Г.
П. В. – это Петр Владимирович Сазонов, чуть ли не бывший пристав, который теперь в глазах писателей, художников и пр. – единственный источник света, тепла, красоты. Он состоит заведывающим хозяйством Главархива – туда доставили дрова, он взял и распорядился направить их нам – в Дом Искусства. Какая нелепость, что Тихонов заведует там литературой, а я… театром.
24 ноября 1919. Вчера у Горького, на Кронверкском. У него Зиновьев. У подъезда меня поразил великолепный авто, на диван которого небрежно брошена роскошная медвежья полость. В прихожей я встретил Ольденбурга – он только что виделся с Зиновьевым. Я ждал, пока Зиновьев уедет (у Ходасевич), а потом пошел в столовую. Там печник ставил печку и ругал Советскую власть за то, что им – мобилизованным – третий месяц не дают жалования. «Вот погоди, пройдет тут Зиновьев, я ему скажу». Зиновьев прошел – толстый, невысокого роста. Печник за ним в прихожую. «Тов. Зиновьев, а почему?» Зиновьев отвечал сиплым и сытым голосом. Печник воротился торжествуя: «Я ведь никого не боюсь. Я самому Великому князю Владимиру Александровичу…»
Горький очень утомлен. Я сократил свой визит до минимума – и ушел к Тихонову – в квартиру его тестя – черт знает где! Там меня угостили необыкновенным обедом: вареное мясо, мясной суп, чай с сахаром – и мы выработали программу заседания в Доме Искусств. Итак, Дом Искусств дает мне в месяц 7 000, Гржебин 22 500, Картины – 6 000, «Всемирная Литература» 6 000, итого 41 500. Откуда же я беру остальные 60 000? Сверяю письма Щедрина. Очень хочется писать статьи – о Блоке. Вчера написал новую версию Персея.
25 ноября. Особенность моей теперешней деятельности в том, что каждый день я начинаю какую-нб. новую работу и, не кончив, принимаюсь за следующую. Сейчас, напр., у меня на столе: редактура Гулливера (Полонской), редактура Диккенса в переводе Иринарха Введенского, список ста лучших книг для издательства Гржебина, «Принципы художественного перевода», статья о письмах Щедрина к Некрасову, Докладная записка о Студии, и т. д., и т. д.
27 [ноября]. Третьего дня заседание во «Всемирной». Горький – Марье Игнатьевне очень сурово: «И откуда у вас берется время заниматься такими пустяками (с очаровательной улыбкой), да! да! такими пустяками». (Оказывается, М. И. прислала к Горькому врача-хирурга, и тот нашел, что Горькому нужно лечь немедленно в постель. Теперь Горький благодарит М. И. – называя себя и свою болезнь пустяками.) Заседание по Историческим картинам. Амфитеатров читает свою пьесу о Ваське Буслаеве. Пьеса отличная – чуть ли не лучше всего, что написал Амфитеатров. Тихонов довольно бестактно делал старику замечания. Амфитеатров, читая, поглядывал украдкой на одного только Горького: прочтет удачное, выигрышное место и взглянет. Горький очень нежен с Ольденбургом – теперь у них медовый месяц. Ольденбург старается изо всех сил. После заседания «Всемирной Литературы» – Горький с Ольденбургом уезжают в «Асторию» – в экипажике Горького. Потом я, Блок, Гумилев, Замятин и Лернер отправляемся в «комнату, где умывальник» – к машинисткам – и начинаем обсуждать программу ста лучших писателей. Гумилев представил импрессионистскую: включен Денис Давыдов (потому что гусар) и нет Никитина. Замятин примкнул к Гумилеву. Блок стоит на исторической точке зрения – и составил программу идеальную: она и свежа, и будоражит, в ней нет пошлости – и научна. Мы спорили долго. Гумилев говорит по поводу моей: это провинциальный музей, где есть папироса, которую курил Толстой, а самого Толстого нет. Я издевался над гумилевской, но в глубине души уважал его очень: цельный человек. Вообще все заседание носило характер гумилевской чистоты и наивности. Блок – со своей любовью к системе – изготовил несколько табличек: сколько поэтов, сколько прозаиков, какой процент юмористов и т. д. Я включил в свою программу модернистов. «К чему вы этих молодых людей включили?», «я в этих молодых людях ничего не понимаю», – твердил Блок. Я наметил для Сологуба 2 тома. Блок: «Неужели Сологуб есть 1/50 всей русской литературы». На следующий день (вчера) мы встретились на заседании Дома Искусств, Блок продолжал: «Гумилев хочет дать только хорошее, абсолютное. Тогда нужно дать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского». Я говорю: а Тютчева? «Ну что такое Тютчев? Коротко, мало, все отрывочки. К тому же он немец, отвлеченный». Я взялся в Доме Искусств организовать Студию, библиотеку, Детский театр. И уже изнемог: всю ночь не спал – в темноте без свечи думал об этих вещах – а про литературу и забыл. Надо поскорее сбыть с рук эти работы, а то захвораю от переутомления. На заседании Дворца был Мережковский, который говорил мне, кокетничая: «Ну и надоел я вам, воображаю. Я самому себе надоел в аспекте Чуковского. Надоел, надоел, не отрицайте. Надоел ужасно! Надоел! Но вы – добрый. Вот З. Н. (Гиппиус) не верит, что вы добрый, а я знаю, вы добрый, но насмешливый. Насмешливый и добрый!» – все это громко, за столом, вдохновенно.
28 ноября 1919. Я забыл записать, что при открытии Дома Искусств присутствовал С. Ольденбург. Я познакомил его с Немировичем-Данченкой. Ольденбург протянул ему руку, а потом отвел меня в сторону:
– Неужели он еще жив. Я думал, он давно умер!
Я почему-то рассердился. – Что ж, вы думаете, я их с того света выписываю? На кладбище посылаю им повестки?
Я сейчас пишу о «Принципах перевода» – вновь. К чему – не знаю. Вчера мы впервые собрались в новом помещении – мы, т. е. слушатели Студии. Дом Искусств их разочаровал. Они ожидали Бог знает чего.
29 ноября 1919 г. Горького посетила во «Всемирной Литературе» Наталия Грушко – и беседовала с ним наедине. Когда она ушла, Горький сказал Марье Игнатьевне: «Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, – а они как ни в чем не бывало – извольте!» Оказывается, что у Грушко на днях родилась девочка (или мальчик), и она пригласила Горького в крестные отцы… «Ведь это моя жена, – вы знаете?» Как-то пришла бумага: «Разрешаю молочнице возить молоко жене Максима Горького – Наталье Грушко!» Блок написал пьесу о фараонах – Горький очень хвалил: «Только говорят они у вас слишком по-русски, надо немного вот так» (и он вытянул руки вбок – как древний египтянин – стилизовал свою нижегородскую физиономию под Анубиса) – нужно каждую фразу поставить в профиль. Было у нас заседание по программе для Гржебина. Горький говорил, что все нужно расширить: не сто книг, а двести пятьдесят. Впервые на заседании присутствовал Иванов-Разумник, облезлый (в калошах), с прыщами на носу, молчаливый, чужой. Блок очень хлопотал привлечь его на наши заседания. Я научил Блока – как это сделать: послать Горькому письмо. Он так и поступил. Теперь они явились на заседание вдвоем, – я отодвинулся и дал им возможность сесть рядом. И вот – чуть они вошли, – Горький изменился, стал «кокетничать», «играть», «рассыпать перлы». Чувствовалось, что все говорится для нового человека. Горький очень любит нового человека – и всякий раз при первых встречах волнуется романтически – это в нем наивно и мило. Но Иванов-Разумник оставался неподатлив и угрюм. – Потом заседание «Всемирной Литературы» – а потом я, Тихонов (Боба сейчас читает на кухне былины. Он страшно любит былины – больше всех стихов) и Замятин в трамвае – в Дом Искусства. За столом – Бенуа, Добужинский, Ходасевич, Анненков, В. Н. Аргутинский. Мы устроили свое заседание в комнатке прислуги при кухне. Я безумно хотел есть, но после заседания пошел все же пешком к Сазонову, – тот лежит больной – и оттуда через силу домой. От усталости – почти не спал. Вертятся в голове разные планы и мысли – ни к чему, беспомощно, отрывочно.
30 ноября. Воскресение. Сижу при огарке и пишу об Иринархе Введенском. Для «Принципов художественного перевода».
Блок, когда ему сказали, что его египтяне в «Рамзесе» говорят слишком развязно, слишком по-русски, – сказал: «Я боюсь книжности своих писаний. Я боюсь своей книжности». Как странно – его вещи производят впечатление дневника, – раздавленных кишок. А он – книжность! Устраиваю библиотеку для Дома Искусств. С этой целью был вчера с Колей в Книжном фонде – ах, как там холодно, хламно, безнадежно. Конфискованные книги, сваленные в глупую кучу, по которой бродит, как птица, озябшая девственница – и клюет – там книжку, здесь книжку, и складывает в другую кучу. Она в валенках, в пальто, в перчатках. Начальник девицы – Иван Иванович, в запачканной летней шляпе (фетровой с полями), с красным носиком – медленный и, кажется, очень честный. Когда я спросил, не найдется ли у них для Студии Потебня или Веселовский, он сказал:
– Нашелся бы, если бы Алексей Павлович не интересовался этими книгами. – Алексей Павлович (Кудрявцев), комиссар Библиотечной комиссии – вор и пьяница – я сам видел, как в книжной лавке на Литейном какой-то букинист совал ему из-за прилавка бутылку; у меня Кудрявцев зажилил сахар – на два дня и до сих пор не отдал. Те книги, которыми он интересуется, попадают к нему – в его собственную библиотеку. В Фонде порядки странные. Книги там складываются по алфавиту – и если какая-нб. частная библиотека просит книги, ей дают какую-нибудь букву. Я сам слышал, как там говорили:
– Дай пекарям букву Г.
Это значит, что библиотека пекарей получит Григоровича, Григорьева, Герцена, Гончарова, Гербеля – но не Пушкина, не Толстого. Я подумал: спасибо, что не фиту.
3 декабря 1919 г. Со вчерашнего дня у нас немка – рыжая старая дева. Мы сдвинулись до последней возможности. Вчера день сплошного заседания. Начало ровно в час – о программе для Гржебина. Опять присутствует Иванов-Разумник. Я пришел, Горький уже был на месте. Когда мы заговорили о Слепцове, Горький рассказал, как Толстой читал один рассказ Слепцова – и сказал: это (сцена на печи) похоже на моего Поликушку, только у меня похуже будет. Одно только Толстому не нравилось: «стеженое одеяло»*, Толстой страшно ругался. Когда мы заговорили о Загоскине и Лажечникове – Горький сказал: «Не люблю. Плохие Вальтер Скотты». Опять он поражал меня доскональным знанием отечественной словесности. Когда зашла речь о Вельтмане, он сказал: а вы читали Софью Вельтман, жену романиста? Замечательный роман в «Отечественных Записках» – с огромным знанием эпохи – в 50-х гг. издан*. Блок представил список, очень подробный, по годам рождения – и не спорил, когда, напр., Дельвига из второй очереди перевели в первую. Во время чтения программы Иванова-Разумника – произошел инцидент. Иванов-Разумник сказал: «Одну книжку – бывшим акмеистам». Гумилев попросил слова по личному поводу и спросил надменно: кого именно Иванов-Разумник считает бывшими акмеистами? Разумник ответил: – Вас, С. Городецкого и других. – Нет, мы не бывшие, мы… – Я потушил эту схватку. В начале заседания по Картинам (Ольденбург не пришел) Горький с просветленным и сконфуженным лицом сказал Блоку:
– Александр Александрович! Сын рассказывает – послушайте – приехал в Москву офицер – сунулся на квартиру к одной даме – откровенно: я офицер, был с Деникиным, не дадите ли приюта? – Пожалуйста! – Живет он у нее десять дней, вступил в близкие с ней отношения, все как следует, а потом та предложила ему: не собрать ли еще других деникинцев? Пожалуй, собери, потолкуем. Сошлось человек двадцать, он сделал им доклад о положении дел у Деникина, а потом вынул револьвер, – руки вверх – и всех арестовал и доставил начальству. Оказывается, он и вправду бывший деникинец, теперь давно перешел на сторону Советской власти и вот теперь занимается спортом. Недурно, а? Неглупо, не правда ли?
4 декабря. Память у Горького выше всех других его умственных способностей. – Способность логически рассуждать у него мизерна, способность к научным обобщениям меньше, чем у всякого 14-летнего мальчика. О Книжном фонде. Стремясь создать библиотеку для Дома Искусств, Коля вчера пошел к несчастному Ивану Ивановичу. Тот сказал ему простуженным голосом: «Видите ли, все мои помощники заболели: тут так сыро и холодно, что воспаление легких – почти неизбежно. Но я еще держусь на ногах. Если продержусь до среды – приготовлю. Слягу – не взыщите». Ай да Комиссариат просвещения! – Вчера Демчинский читал о Христе (очень тупо, – хотя по внешности широко и небанально) – в Доме Искусств, была Ватагина – «моя девочка» – а потом мы по неимоверной слякоти шли домой. Боба читал мне былины.
6 декабря. О, как холодно в Публичной библиотеке. Я взял вчера несколько книг: Мандельштама. О стиле Гоголя*, «Наши» (альманах), стихи Востокова – и должен был расписаться на квитках: прикосновение к ледяной бумаге – ощущалось так, словно я писал на раскаленной плите.
Канитель с Левинсоном по поводу Дома Искусств.
7 декабря. Вчера в Доме Искусств – скандал. Бенуа восстал против картин, которые собрал для аукциона Сазонов. Бенуа забраковал конфетные изделья каких-то ублюдков – и Сазонов в ужасе. «У нас лавочка, а не выставка картин. Мы не воспитываем публику, а покупаем и продаем». Бенуа грозит выйти в отставку.
Долго беседовал с Виктором Шкловским. Он хочет пристроить всех своих мальчиков (так он называет своих единомышленников) – к чтению лекций в Доме Искусств. Мы торговались. Я отказывался от Бонди, он всучивал мне Бернштейна.
Третьего дня – Блок и Гумилев – в зале заседаний – сидя друг против друга – внезапно заспорили о символизме и акмеизме. Очень умно и глубоко. Я любовался обоими. Гумилев: символисты в большинстве аферисты. Специалисты по прозрениям в нездешнее. Взяли гирю, написали 10 пудов, но выдолбили всю середину. И вот швыряют гирю и так и сяк. А она пустая.
Блок осторожно, словно к чему-то в себе прислушиваясь, однотонно: «Но ведь это делают все последователи и подражатели – во всех течениях. Но вообще – вы как-то не так: то, что вы говорите, – для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски. Вы как-то слишком литератор. Я – на все смотрю сквозь политику, общественность»…
Чем больше я наблюдаю Блока, тем яснее мне становится, что к 50-ти годам он бросит стихи и будет писать что-то публицистико-художественно-пророческое (в духе «Дневника писателя»). – Иванова-Разумника на нашем Гржебинском заседании не было: его, кажется, взяли в солдаты. Мы составили большой и гармонический список. Блок настоял на том, чтобы выкинули Кольцова и включили Аполлона Григорьева. Я говорил Блоку о том, что если в 16–20 лет меня спросили: кто выше, Шекспир или Чехов, я ответил бы: Чехов. Он сказал: – Для меня было то же самое с Фетом. Ах, какой Фет! И Полонский! – И стал читать наизусть Полонского. На театральное заседание Горький привел каких-то своих людей: некоего Андреева, с которым он на ты, режиссера Лаврентьева – оказывается, нам предоставляют театр «Спартак». Прибыл комиссар красноармейских театров – который, нисколько не смущаясь присутствием Горького, куря, произнес речь о темной массе красноармейцев, коих мы должны просвещать. В каждом предложении у него было несколько «значит». «Значит, товарищи, мы покажем им Канто-Лапласовское учение о мироздании». Видно по всему, что был телеграфистом, читающим «Вестник Знания». И я вспомнил другого такого агитатора – перед пьесой «Разбойники» в Большом Драматическом он сказал:
– Товарищи, русский писатель, товарищи, Гоголь, товарищи, сказал, что Россия это тройка, товарищи. Россия это тройка, товарищи, – и везут эту тройку, товарищи, – крестьяне, кормильцы революционных городов, товарищи, рабочие, создавшие революцию, товарищи, и, товарищи, – вы, дорогие красноармейцы, товарищи. Так сказать, Гоголь, товарищи, великий русский революционный писатель земли русской (не делая паузы), товарищи, курить в театре строго воспрещается, а кто хочет курить, товарищи, выходи в коридор.
Я написал сейчас письмо Андрею Белому. Зову его в Петербург.
9 декабря. Сейчас было десять заседаний подряд. Вчера я получил прелестные стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове – очень меня обрадовавшие*.
На заседание о картинах Горький принес «Шута» – юмористический журнал. Замятин сказал: у русских мало юмора. Горький: «Что вы! Русские такие юмористы! Сейчас знакомая учительница мне рассказывала, что в ее школе одна девочка выиграла в перышки 16 000. Это ли не юмор!» Девочек уже впрочем нет. Все находятся в браке с мальчиками – и живут, хозяйственно живут вместе. Очень хозяйственно.
_______________
Сегодня я впервые заметил, что Блок ко мне благоволит. Когда на заседании о картинах я сказал, что пятистопный ямб не годится для трагедии из еврейской жизни – что пятистопный ямб это эсперанто, – он сказал: «Мудрое замечание». Сообщил мне, что в его шуточном послании ко мне строчку о Брюсове* сочинила его жена – «лучшую, в сущности, строчку». В «Двенадцати» у нее тоже есть строка:
Шоколад миньон жрала.Я спросил, а как же было прежде? – А прежде было худо: Юбкой улицу мела.
А у них ведь юбки короткие.
Мои денежные дела ужасны, и спасти меня может только чудо.
11 декабря. Вторую ночь не заснул ни на миг – но голова работает отлично – сделал открытие (?) о дактилизации русских слов – и это во многом осветило для меня поэзию Некрасова. Вчера было третье заседание Дома Искусств. Блок принес мне в подарок для Чукоккалы – новое стихотворение: пародию на Брюсова – отличное*. Был Мережковский. Он в будущий четверг едет вон из Петербурга – помолодел, подтянулся, горит, шепчет, говорит вдохновенно: «Все, все устроено до ниточки, мы жидов подкупили, мы… А Дмитрий Влад. – бездарный, он нас погубит, у него походка белогвардейская… А тов. Каплун дал мне паек – прегнусный – хотя и сахар и хлеб – но хочет, чтобы я читал красноармейцам о Гоголе…» Я спросил: «Почему же и не читать? Ведь полезно, чтобы красноармейцы знали о Гоголе». – «Нет, нет, вы положительно волна… Я вам напишу… Ведь не могу же я сказать красноармейцам о Гоголе-христианине… а без этого какой же Гоголь?» Тут подошел Немирович-Данченко и спросил Мережковского в упор, громко: – Ну что? Когда вы едете? – Тот засуетился… – Тш… тш… Никуда я не еду! Разве можно при людях! – Немирович отошел прочь.
– Видите, старик тоже хочет к нам примазаться. Ни за что… Боже сохрани. У нас теперь обратная конспирация: никто не верит, что мы едем! Мы столько всем говорили, болтали, что уже никто не верит… Ну, если не удастся, мы вернемся и я пущусь во все тяжкие. Буду лекции читать – Пол и религия – «Тайна двоих» – не дурно ведь заглавие? а? Это как раз то, что им нужно…
Не дождавшись начала заседания – бойкий богоносец упорхнул. На заседании Нерадовский нарисовал в Чукоккалу – Александра Бенуа, а Яремич – Немировича*. Когда мы обсуждали, какую устроить вечеринку, Блок сказал:
– Нужно – цыганские песни.
15 декабря. По совету Коли, взял для Бобы «Дети капитана Гранта». Боба читает через силу. Его страшно увлекали те книги, которые он читал, а прочел он немного: «Том Сойер», «Геккельбери Финн», «Том Сойер сыщик», «Путешествие Тома Сойера», «Принц и нищий» (сокращ.), «Швейцарский Робинзон», «Робинзон Крузо». А эта ему и трудна – и географии в ней много. Вчера Полонская рассказывала мне, что ее сын, услыхав песню:
Мы дадим тебе конфет, Чаю с сухарями, —запел: «Мы дадим тебе конфет, чаю с сахарином», – думая, что повторяет услышанное. Был вчера на «Конференции пролетарских поэтов», которых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непроходимо нагло, что я демонстративно ушел – хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту с обедом! Вышел какой-то дубиноподобный мужчина (из породы Степанов – похож на вышибалу; такие также бывают корректора́, земские статистики) и стал гвоздить: «буржуазный актер не понимат наших страданий, не знат наших печалей и радостей – он нам только вреден (это Шаляпин-то вреден); мы должны сами создать актеров, и они есть, товарищи, я, например…» А сам бездарен, как голенище. И все эти бездарности, пошлые фразеры, кропатели казенных клише аплодировали. Это было им по нутру. Подумать, что у этих людей был Серов, Чехов, Блок.
Потом в Дом Искусств. Пришли шкловитяне. Я предоставил им теплое, прекрасное, освещенное помещение, выхлопотал для лектора вознаграждение – и вот они впервые появились тут. – А что, есть буфет? Не дадут ли чего поесть? А это пианино – нельзя ли поиграть? – Я ушел домой опечаленный. Днем у меня был Мережковский в шубе и шапке, но легкий, как перышко. – Евреи уехали, нас не дождавшись. А как мы уедем не в спальном вагоне? Ведь для З. Н. это смерть. – Похоже, что он очень хотел бы, если бы встретилось какое-нб. непреодолимое препятствие, мешающее ему выехать. – Я опять не спал всю ночь – и чувствую себя знакомо гадко.
17 декабря. Сейчас возвращался домой с Лозинским. Он сказал о Браудо: «Браудо счастливец: страстно влюблен в себя и не имеет соперников».
1920
2 января. Две недели полуболен, полусплю. Жизнь моя стала фантастическая. Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегаю по комиссарам и ловлю паек. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба – я не ощущаю никакого унижения, и всегда с радостью – как самец в гнездо – бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т. д. Начну с Каплуна. Это приятный – с деликатными манерами – тихим голосом, ленивыми жестами – молодой сановник. Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина. Со мной Каплун говорит милостиво, благоволительно. У его дверей сидит барышня – секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шику, high life’y[158]. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так:
– Представьте, какой ужас, – моя портниха…
Словом, еще два года – и эти пролетарии сами попросят – ресторанов, кокоток, поваров, Монте-Карло, биржу и пр., и пр., и пр. Каплун предложил мне заведовать просветительным отделом – Театра Городской охраны (Горохр). Это на Троицкой. Я пошел туда с Анненковым. Холод в театре звериный. На все здание – одна теплушка. Там и рабочие, и Кондрат Яковлев, и бабы – пришедшие в кооператив за провизией. Я сказал, что хочу просвещать милиционеров (и вправду хочу). Мне сказали: не беспокойтесь – жалованье вы будете получать с завтрашнего дня – а просвещать не торопитесь, и когда я сказал, что действительно, на самом деле хочу давать уроки и вообще работать – на меня воззрились с изумлением.
Пучков – честолюбив, студентообразен, бывший футурист, в кожаной куртке, суетлив, делает 40 дел сразу, не кончает ни одного, кокетничает своей энергичностью, – голос изумительно похож на Леонида Андреева.
3 января. Вчера взял Женю (нашу милую служаночку, которую я нежно люблю – она такая кроткая, деликатная, деятельная – опора всей семьи: ее мог бы изобразить Диккенс или Толстой) – она взяла сани, и мы пошли за обещанной провизией к тов. Пучкову. Я прострадал в коридоре часа три – и никакой провизии не получил: кооператив заперт. Я – к Каплуну. Он принял радушно – но поговорить с ним не было возможности – он входил в кабинет к Равич и выходил ежеминутно. Вот он подошел к телефону: – Это вы, тов. Бакаев? Иван Петрович? Нельзя ли нам получить то, о чем мы говорили? С белыми головками? Шаляпин очень просит, чтобы с белыми головками… Я знаю, что у вас опечатано три ящика (на Потемкинской, 3), велите распечатать. Скажите, что для лечебных целей…
Мережковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слонимский. Говорит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа оттеснила их к разным вагонам – разделила. Они потеряли чемоданы. До последней минуты они не могли попасть в вагоны… Мережковский кричал:
– Я член совета… Я из Смольного!
Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: Шуба! – у него, очевидно, в толпе срывали шубу.
Вчера Блок сказал: «Прежде матросы были в стиле Маяковского. Теперь их стиль – Игорь Северянин». Это глубоко верно. Вчера в Доме Искусств был диспут «О будущем искусстве», – но я туда не пошел: измучен, голоден, небрит.
Рождество 1920 г. (т. е. 1919, ибо теперь 7ое января 1920). Конечно, не спал всю ночь. Луна светила как бешеная. Сочельник провел у Даниила Гессена (из Балтфлота) в «Астории». У Гессена прелестные, миндалевидные глаза, очень молодая жена и балтфлотский паек. Угощение на славу, хотя – на пятерых – две вилки, чай заваривали в кувшине для умывания и т. д. Была студентка, которая явно влюблена в Гессена, и, кажется, он в нее. Одессизм чрезвычайный.
Подслушанное: Ах, у меня тело замечательное. Когда я в Крыму была и купалась – все мужчины приходили смотреть. Только на меня и на Киру Симакову – только на нас двоих и смотрели. И вот все это пропадает зря, теперь никто не обращает внимания. Нет мужчин. Нет ни женихов, ни любовников. У меня классические ноги, а я ношу ва-а-ленки (плачет). Когда-то были тройки, ужины, веселые мужчины… (Это говорит 19-летняя.)
Я весь поглощен дактилическими окончаниями, но сколько вещей между мною и ими: Машины роды, ежесекундное безденежье, бесхлебье, бездровье, бессонница, «Всемирная Литература», Секция исторических картин, Студия, Дом Искусств и проч., и проч., и проч.
Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые давали им в гимназии, сушили их – и вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой – как подарки родителям! Дети, которые готовят к Рождеству сюрприз для отца и матери! Не хватает еще, чтобы они убедили нас, что все это дело Санта Клауса! В следующем году выставлю у кровати чулок! В довершение этого a rebours[159] наша Женя, коей мы по бедности не сделали к Рождеству никакого подарка, поднесла Лиде, Коле и Бобе – шерстяные вытиралки для перьев – собственного изготовления – и перья.
2-й день Рождества 1920 г. я провел не дома. Утром в 11 ч. побежал к Луначарскому, он приехал на несколько дней и остановился в Зимнем дворце; мне нужно было попасть к 11 1/2 , и потому я бежал с тяжелым портфелем. Бегу – смотрю, рядом со мною краснолицая, запыхавшаяся, потная, с распущенными косами девица, в каракулевом пальто на красной подкладке. Куда она бежала, не знаю, но мы проскакали рядом с нею, как кони, до Пролеткульта. Луначарского я пригласил в Дом Искусств – он милостиво согласился. Оттуда я пошел в Дом Искусств, занимался – и вечером в 4 часа – к Горькому. В комнате на Кронверкском темно – топится печка – Горький, Марья Игнатьевна, Иван Николаевич и Крючков сумерничают. Я спросил: – Ну что, как вам понравился американец? (Я послал к нему американца.) – «Ничего, человек действительно очень высокий, но глупый»… Возится с печью и говорит сам себе: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович, позвольте вас предупредить, что вы обожгетесь… Вот, К. И., пусть Федор (Шаляпин) расскажет вам, как мы одного гофмейстера в молоке купали. Он, понимаете, лежит, читает, а мы взяли крынки – и льем. Он очнулся – весь в молоке. А потом поехали купаться, в челне, я предусмотрительно вынул пробки, и на середине реки стали погружаться в воду. Гофмейстер просит, нельзя ли ему выстрелить из ружья. Мы позволили». Помолчал. «Смешно Луначарский рассказывал, как в Москве мальчики товарища съели. Зарезали и съели. Долго резали. Наконец один догадался: его за ухом резать нужно. Перерезали сонную артерию – и стали варить! Очень аппетитно Луначарский рассказывал. Со смаком. А вот в прошлом году муж зарезал жену, это я понимаю. Почтово-телеграфный чиновник. Они очень умные, почтово-телеграфные чиновники. 4 года жил с нею, на пятый съел. – Я, говорит, давно думал о том, что у нее тело должно быть очень вкусное. Ударил по голове – и отрезал кусочек. Ел он ее неделю, а потом – запах. Мясо стало портиться. Соседи пришли, но нашли одни кости да порченое мясо. Вот видите, Марья Игнатьевна, какие вы, женщины, нехорошие. Портитесь даже после смерти. По-моему, теперь очередь за Марьей Валентиновной (Шаляпиной). Я смотрю на нее и облизываюсь». – А вторая – вы, – сказал Марье Игнатьевне Иван Николаевич. – Я уже давно высмотрел у вас четыре вкусных кусочка. – Какие же у меня кусочки? – наивничала Марья Игнатьевна.
А я уже стал вполне pater familias[160]. Вчера Боба торжественно подал мне листок бумаги с немецкими стихами и стал декламировать Liebe Vater[161]. Немка научила. Через 10 дней родится новое существо – неизвестного пола.
11 янв., вокресение. У Бобы была в гостях Наташенька Жуховецкая. Они на диване играли в «жаркое». Сначала он жарил ее, она шипела ш-ш-ш, потом она его и т. д. Вдруг он ее поцеловал. Она рассердилась:
– Зачем ты меня целуешь жареную?
З. Венгерова рассказывала мне, что Аким Волынский содрал с Гринберга некую сумму на издание Еврейской Энциклопедии. Конечно, никакой Энциклопедии он не издал, а стал выписывать себе пожетонное за заседания. Что ни день, то заседания. На это обратил внимание контроль, и отобрал у Акима деньги.
Поразительный человек! Природный приживальщик. Живет у нас в Доме Искусств – припеваючи и все ноет, все жалуется – заработки у него огромные, – человек он одинокий, но все попрошайничает…
17 янв. Сейчас Боба вбежал в комнату с двумя картофелинами и, размахивая ими, сказал: папа, сегодня один мальчик сказал мне такие стихи: «Нету хлеба – нет муки, не дают большевики. Нету хлеба – нету масла, электричество погасло». Стукнул картофелинами – и упорхнул.
19 янв. 1920. Бобу в гимназии зовут Чука-Щука-рыбий хвост. У него есть товарищ Вертинский, который как-то спросил: «А разве селедку ловят несоленую?» Он был уверен, что вобла копченая плавает в реке. Мальчики дразнят его: «Гриб соленый, гриб сушеный». Когда они идут парами, они поют: Чука-Щука-рыбий хвост! Гриб соленый. Гриб копченый. Чука-Щука-рыбий хвост. – Вчера – у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате, – за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково – иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами – a livre ouvert[162] – целую балладу – диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм». Я заговорил о Гумилеве: как ужасно он перевел Кольриджа «Старого моряка». Она: «А разве вы не знали. Ужасный переводчик». Это уже не первый раз она подхватывает дурное о Гумилеве. Вчера утром звонит ко мне Ник. Оцуп: нельзя ли узнать у Горького, расстрелян ли Павел Авдеич (его брат). Я позвонил, подошла Марья Игнатьевна. – Да, да, К. И., он расстрелян. – Мне очень трудно было сообщить об этом Ник. Авдеичу, но я в конце концов сообщил.
Вчера же – прихожу вечером в Студию – я вчера читал у шкловитян о дактилическом окончании – мне говорят, что у повара Степана припадок. Иду к повару. Он лежит поперек кровати – желтый, глаза закатились, зубы оскалились. Студент Р. неустанно движет его рукою – как ручной насос. Я взял другую руку – и мы заработали как на пожаре. Но он умер прочно, навсегда, во всяком случае очень надолго. Возле него лежала недоеденная каша, которую он так хорошо готовил. Это он изготовил кастрюлю отличнейшей каши с ванилью – которой мы лакомились, встречая в Студии Новый год. Как торжественно, деликатно и музыкально – снимал он с кастрюли крышку – подав эту кашу на стол! Теперь уже никто не повторит этих жестов. Его искусство умерло вместе с ним…
25 января. Толки о снятии блокады*. Боба (больной) рассказывает: вошла 5-летняя девочка Альпер и сказала Наташеньке Жуховецкой:
– Знаешь, облака сняли.
– А как же дождик?
Лида спросила Наташу: – Из чего делают хлеб? – Из рожи.
Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок – сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она была чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году – на моде 1916 года.
8 февраля. Я вымыл голову. У меня от головы идет пар (в комнате очень холодно!). Боба кричит: У папы не голова, а Парголово!
Приближаются Машины роды. Она лежит больная – простуженная, заразилась от Бобы испанской болезнью. В комнате холодно. Каплун прислал дрова, но мокрые, огромные – нет пилы перепилить.
Моя неделя слагается теперь так. В понедельник лекция в Балтфлоте, во вторник – заседание с Горьким по секции картин, заседание по «Всемирной Литературе», лекция в Горохре; в среду лекция в Пролеткульте, в четверг – вечеринка в Студии, в пятницу – заседание по Секции картин, по «Всемирной Литературе», по лекции в Доме Искусств.
Завтра, кроме Балтфлота, я читаю также в Доме Искусств.
9 февраля. Это нужно записать. Вчера у нас должно было быть заседание по гржебинскому изданию классиков. Мы условились с Горьким, что я приду к Гржебину в три часа, и он (Горький) пришлет за нами своего рысака. Прихожу к Гржебину, а у него в вестибюле внизу, возле комнаты швейцара сидит Горький, молодой, синеглазый, в серой шапке, красивый. – «Был у Константина Пятницкого… Он тифом сыпным заболел – его обрили… очень смешной… в больнице грязь буграми… сволочи… Доктор говорит: это не мое дело». Потом мы сели на лихача и поехали – я на облучке. Марья Игн. Бенкендорф окончательно поселилась у Горького – они в страшной дружбе – у них установились игриво-полемические отношения, – она шутя бьет его по рукам, он говорит: ай-ай-ай, как она дерется! – словом, ей отвели на Кронверкском комнату, и она переехала туда со всеми своими предками (портретами Бенкендорфов и… забыл, чьими еще). На собрании были Замятин, Гржебин, Горький, Лернер, Гумилев и я – но так как 1) больному Пятницкому нужно вино и 2) Гумилеву нужны дрова, мы с Гумилевым отправились к Каплуну в Управление Советов. Этот вельможа тотчас же предоставил нам бутылку вина (я, конечно, не прикоснулся) и дивное, дивное печенье. Рассказывал, как он борется с проституцией, устраивает бани и т. д. – а мне казалось, что я у помощника градоначальника и что сейчас войдет пристав и скажет:
– Привели арестованных студентов, что с ними делать?
Нашел у Каплуна книгу Мережковского – с очень льстивой и подобострастной надписью… Гумилев один вылакал всю большую бутылку вина – очень раскис… побежал на свидание к Кульбабе*, забыв о лекции.
12 февраля. Описать бы мой вчерашний день – типический. Ночь. У Марьи Борисовны жар, испанская болезнь, ноги распухли, родов ждем с секунды на секунду. Я встаю – занимаюсь былинами, так как в понедельник у меня в Балтфлоте лекция о былинах. Читаю предисловие Сперанского к изд. Сабашникова, делаю выписки. Потом бегу в холодную комнату к телефону и звоню в телефон Каплуну, в Горохр, в Политотдел Балтфлота и ко множеству людей, нисколько не похожих на Илью Муромца. Воды в кране нет, дрова нужно пилить, приходит какой-то лысый (по виду спекулянт), просит устроить командировку, звонит г-жа Саха́р: нет ли возможности достать от Горького письмо для выезда в Швейцарию, звонит Штейн, нельзя ли спасти библиотеку уехавшего Гессена (и я действительно спасал ее, сражался за каждую книжку), и т. д. Читаю работы студистов об Ахматовой.
Где-то как далекая мечта – мерещится день, когда я мог бы почитать книжку для себя самого или просто посидеть с детьми… В три часа суп и картошка – и бегом во «Всемирную». Там заседание писателей, коих я хочу объединить в Подвижной Университет. Пришли Амфитеатров, обросший бородой, Волынский, Лернер – и вообще шпанка. Все нескладно и глупо. Явился на 5 мин. Горький и, когда мы попросили его сообщить его взгляды на это дело, сказал: «Нужно читать просто… да, просто… Ведь все это дети – милиционеры, матросы и т. д.» Шкловский заговорил о том, что нужны школы грамоты, нужно, чтобы и мы преподавали грамоту… Штрайх (сам малограмотный) заявил, что он – арабская лошадь и не желает возить воду. И все признали себя арабскими лошадьми. Оттуда к Ахматовой (бегом), у меня нет «Четок», а я хотел читать о «Четках» в Пролеткульте. От Ахматовой (бегом) в Пролеткульт. Какой ветер, какие высокие безжалостные лестницы в Пролеткульте! Там читал каким-то замухрышкам и горничным об Анне Ахматовой – слушали, кажется, хорошо! – и оттуда (бегом) к Каплуну на Дворцовую площадь. Его нету, я опоздал, он уже у Горького. Иду к его сестре и ем хлеб, который мне дал Самобытник, пролетарский поэт. Хлеб оказывается зацветший, меня тошнит. Я прошу прислать от Горького автомобиль Каплуна. Через несколько минут является мальчишка и говорит: – Тут писатель, за которым послал Каплун? – Тут. – Сейчас шофер звонил по телефону, просил сообщить, что он запоздает, так как он по дороге раздавил женщину. – Опять? – говорит сестра Каплуна. Через несколько минут шофер приезжает. «Насмерть?» – «Насмерть!» Я еду к Горькому. От голода у меня мутится голова, я почти в обмороке. У Горького в двух комнатах заседания – и он ходит из комнаты в комнату, словно шахматист, играющий одновременно несколько партий. Потом оба заседания соединяются. Профессора и – мы. Среди профессоров сидит некто черненький, который с пятого слова говорит: Наркомпрос, Наркомпрос, Наркомпрос. – К черту Наркомпрос! – рычу я и ни с того ни с сего ругаю это учреждение. Потом оказывается, что это и есть Наркомпрос. – Зеликсон, тот самый, коего мы очень боимся, хотели бы всячески задобрить и т. д. Я так и похолодел. Возвращаюсь около часу ночи домой – М. Б. худо, вся в поту, не спит ночей пять, голова болит очень, просит шерстяной платок. Ложусь и, конечно, не сплю. Вскакиваю утром – Женя замучена, у меня пальцы холодные, иду пилить дрова.
14 февраля. Нынешний день пуст – без книг и работы. Связывал сломанные сани – послезавтра Жене ехать за пайком в Балтфлот. Привязал к саням ключ, звонок, обмотал их веревкой. Неприятное столкновение с Штейном. Был у меня Гумилев. – Блок третьего дня рассказывал мне: «Странно! Член Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, М. Горький – высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом, а он говорит: «Ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!» Шествуя с Блоком по Невскому, мы обогнали Сологуба – в шубе и шапке – бодро и отчаянно шагавшего по рельсам – с чемоданом. Он сейчас же заговорил о французах – безо всякого повода – «Вот французы составляют словари… Мы с Анастасией Николаевной приехали в Париж… Я сейчас же купил себе цилиндр»… И вообще распекал нас обоих за то, что мы не французы.
23 февраля, понедельник. Сегодня какой-то праздник, но я тем не менее читал лекцию в Балтфлоте – о дактилях и анапестах. Черноглазый Хренов – и тот [фамилия зачеркнута. – Е. Ч.] малограмотный, но очень деликатный, изящный, похожий на приват-доцента. Пайка никакого не дали мне до сих пор. Из Балтфлота по сказочно-прекрасной Дворцовой площади иду к Каплуну: месяц пронзительный, весенний, небо зеленое, сладострастное, лужи – силуэты Зимнего дворца, Адмиралтейства, деревьев – и звезды, очень редкие – и как будто впервые понимаешь, что такое жизнь, музыка, Бог. Каплун у дверей – ждет автомобиля. Я бегу домой: не родилось бы без меня то долгожданное чадо, которое – черт его знает – зачем захотело родиться в 1920 году, в эпоху Горохра и тифа.
Вчера дети на кухне рассматривали телефонную книжку, находили такие фамилии, как Жаба, Бобр, Жук, Мышь, Окунь, и хохотали до колик. Особенно Боба – изумительный мастер смеяться! «Дети капитана Гранта» он кончил, теперь читает Андерсена, но хочет еще какую-нб. «приключенческую книгу». Я пробовал увлечь его «Одиссеей» – нет, он слушал – но и только. Сегодня вечером я загляделся на месяц, и мне показалось, что Маша непременно должна сегодня родить: что-то такое в природе. Мы сейчас с ней обо всем переговорили – и вот она позвала меня в свою комнату – дрожит от озноба: «Тебе, К. И., придется ехать (?) за ней» (за акушоркой). Женя топит в ее комнате печку. Я сижу в своей комнате и смотрю в окно на пронзительный месяц. Буду читать былины. У Жени прелестное, вдохновенное, торжественное лицо. На днях обнаружилось, что у Жени есть альбом, куда ее братья и сестры писали ей корявые стишки. Нужно будет и мне сочинить ей какие-нб. стишки. Боба сегодня весь день возился с лопатой – расчищал снег, проделывал ручейки – неужели о моем будущем сыне (Гржебин клянется, что это будет дочь), неужели о нем будущие историки будут писать: род. 23 февр. 1920 г. в 2 часа ночи, скончался 9 ноября 1985 года. Как дико: я, я не доживу ни за что до 1985 года, а ему в эту пору будет всего лишь 65 лет. Он будет не старше Сологуба. Кстати: сегодня в Доме Литераторов «Вечер Сологуба». На всех заборах афиши. Ах какой сегодня ветер – диккенсовский. С далеких снежных полей – идешь из-за угла, а тебя гонит назад, и ты скользишь по обледенелому тротуару задом, задом, задом. Близится торжественный миг: иду за говорливой акушоркой. Хорошо, что в доме все есть: и хлеб, и чай, и сахар, и сухари, и картошка, и дрова – акушорки любят попить и поесть. Бегу за Мартой Фердинандовной.
Вот я и вернулся. Руки еще дрожат: нес тяжелые чемоданы Марты Фердинандовны: она впереди, махая руками, вправо-влево, вправо-влево! Проходя мимо белого дома: «Здесь меня тоже ждут – не сегодня-завтра… Нарышкины!»
Изумительно, что я ее нашел: не видно номеров на домах. По интуиции отыскал № 39-й, но где же квартира вторая? Позвонил в 17-ю, выругали; позвонил в 4-ю, какая-то иностранка объяснила, но путанно. Я пришел – длинногубая старуха зажгла лучину. – Теперь около 2-х ч. ночи. Марья Борис. в белой косынке сидит на диванчике. Боба спит у меня. Всюду свет. Топится плита. Из-за двери слышен Машкин смех. Что, если это ложная тревога? Теперь 4-й час. Пишу примечания к гржебинскому изданию Некрасова. Акушорке готовят кофей. 6 ½ ч. «Я клубышком каталася, я червышком свивалася» – схватки ежесекундные – меня разбудили через 1/4 часа после того, как я заснул: бегу за проф. Якобцевым. Телефон – слышно как два. Крик петуха – откуда? 8 1/2 часов, только что вернувшись с проф. Якобцевым – я переменил мокрый сапог на валенок – и стою на кухне – вдруг хрюкающий вопль – и плач-мяуканье: мяу – голос доктора: дочка! Коля входит на кухню: девочка! У меня никаких чувств: слушаю плач – и ничего.
29 февраля. 1920. Как скоро забываются сны. Сегодня всю ночь мне снилось, как моя мама выходила замуж за присяжного поверенного Богомольца – я пережил столько чувств, и вот теперь забыл все решительно! Только и помню, как открываются двери и куда-то, в очень людное место входят об руку жених и невеста! Помню свое лицо – в это время! Пишу для Гржебина краткую биографию Некрасова. Очень легко.
Гумилев (Оцупу): «О! Каплун – это аристократический дом! Это тебе не герцогиня Лейхтенбергская».
15 марта 1920. На днях скончалась Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Константиновны Гржебиной. Я был на панихиде. Анненкова попросили нарисовать покойницу. Он встал у гроба, за шкафом, так что его никто не видел; я глянул, вижу: плачет. Рисует и плачет. Слезы капают на рисунок! Я подошел, ему стало стыдно. «О, какая милая, милая была бабушка!» – сказал он, как бы извиняясь.
20 марта. Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. В последнее время он был очень плох: колит, ноги не действовали, и вечно за ним тянулись какие-то тряпки, подтяжки, вечно незастегнуты брюки, – весь запыленный, руки грязные. В последний раз мы с ним разговорились неделю назад, он сказал: мне бы только на две недели отдохнуть в больнице, полежать, и я стану другим человеком. Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, джентльменнейший изо всей нашей коллегии.
Я помню его почти молодым: он был влюблен в Марию Карловну Куприну. Та над ним трунила – и брала взаймы деньги для журнала «Мир Божий». (Батюшков был членом редакции.) Он закладывал имения – и давал, давал, давал. Помню вечера у Марии Карловны: она чуть-чуть пьяная, с голой шеей, двадцатишестилетняя и вокруг нее трое влюбленных: Иорданский, Ценский и Батюшков. Иорданский отнесся к делу просто – и сразу стал хозяином положения, а Батюшков приходил, вздыхал, сидел, молчал, выпивал десять стаканов чаю – и уходил. Дворянин! Писал он вязко, тинно, тягуче, но был образован и знал много.
Вчера заседание у Гржебина – в среду[163]. Я, Блок, Гумилев, Замятин, Лернер и Варвара Васильевна. Началось с того, что Горький, сурово шевеля усами, сказал Лернеру: «Если вы на этой неделе не принесете “Казаков” (которые заказаны Лернеру около полугода назад), я закажу их кому-нб. другому». Лернер пролепетал что-то о том, что через три дня работа будет закончена вполне. Он говорит это каждый день. – Где заказанный вам Пушкин? – Я уже начал. – Но ведь на этой неделе вы должны сдать… (На лице у Лернера – ужас. Видно, что он и не начинал работать.) Потом разговор с Гумилевым. Гумилев взялся проредактировать Алексея Толстого – и сделал черт знает что. Нарезал беспомощно книжку – сдал и получил 20 000 р. Горький перечислил до 40 ошибок и промахов. Потом – разговор с Блоком. Блок взялся проредактировать Лермонтова – и, конечно, его работа прекрасна. Очень хорошо подобраны стихи – но статья написана не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном блоковском, с напрасными усилиями принизиться до уровня малокультурных читателей. Для Блока Лермонтов – маг, тайновидец, сновидец, богоборец; для Горького это «культурная сила», «двигатель прогресса», здесь дело не в стиле, а в сути. Положение Блока – трагическое. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе: «дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал “На смерть Пушкина”», тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное прекрасное лицо Блока.
Замятин еще не закончил Чехова. Я – после звериных трудов сдал, наконец, Некрасова. Когда мы с Горьким случайно оказались в другой комнате – он очень огорченно и веско сказал:
– Вот наши писатели. Ничего не могут! Ничего. Нет, Корней Иваныч, ученые лучше. Вот мы вчера заседали здесь – это люди! Ферзман, Ольденбург и Пинкевич! Как работают. А из писателей вы один. Я вами любуюсь… Да, любуюсь…
Он только что получил от Уэльса письмо – и книжки, написанные Уэльсом, – популяризация естественных наук*. Это Горькому очень дорого: популяризация. Он никак не хочет понять, что Блок создан не для популяризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше добра от одного лирического стихотворения Блока, чем от десяти его же популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант, вроде меня.
После заседания я (бегом, бегом) на Васильевский Остров на 11 линию – в Морской корпус – там прочитал лекцию – и (бегом, бегом) назад – черт знает какую даль! Просветители из-под палки! Из-за пайка! О, если бы дали мне месяц – хоть раз за всю мою жизнь – просто сесть и написать то, что мне дорого, то, что я думаю! Теперь у меня есть единственный день четверг – свободный от лекций. Завтра – в Доме Искусств. Послезавтра – в Управлении Советов, Каплунам. О! О! О! О!
30 марта. Как при Николае I образовался замкнутый в себе класс чиновничьей, департаментской тли, со своим языком, своими нравами. Появился особый жаргон «комиссариатских девиц». Говорят, напр., «определенно нравится», «он определенно хорош» и даже «я определенно иду туда». Вместо – «до свидания» говорят: «пока». Вместо: «до скорого свидания» – «Ну, до скорого».
Вчера читал лекцию в Педагогическом институте Герцена – Каменноостровский, 66 – и обратно ночью домой. Устал до судорог. Ночь почти не спал – и болит сердце.
Горький по моему приглашению читает лекции в Горохре (Клуб милиционеров) и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродушно, держит себя в высшей степени демократично, а его все боятся, шарахаются от него, – особенно в милиции. – Не простой он человек! – объясняют они.
На днях Гржебин звонил Блоку: «Я купил Ахматову». Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, которое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же – к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей.
Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». Первый раз вижу их обоих вместе… Замечательно – у Блока лицо непроницаемое – и только движется все время, зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было высказано много.
Розинер рассказывает, что на базарах продают коробочки с вшами. Цена коробочки 200 р. Солдаты покупают нарасхват. Предъявит начальству – отпуск.
1 апреля 1920 г. Вот мне и 38 лет! Уже два часа. Составляю каталог детских книг для Гржебина – и жду подарков. Вечер. Днем спал под чтение Бобы (Боба читал Сэттона Томпсона), и мое старое, старое, старое сердце болело не так сильно. Отдохнуло. Потом пили чай с дивным пирогом: изюм, корица, миндалин. Вычисляли: изюм – из Студии, корица – из Горохра, патока – из Балтфлота и т. д. Словом, для того, чтобы испечь раз в год пирог, нужно служить в пяти учреждениях. Я спросил как-то у Блока, почему он посвятил свое стихотворение
Шар раскаленный золотойБорису Садовскому, которому он так чужд. Он помолчал и ответил:
– Садовской попросил, чтобы я посвятил ему, нельзя было отказать.
Обычный пассивизм Блока. «Что быть должно, то быть должно». «И приходилось их ставить на стол»*.
10 апреля. Пертурбации с Домом Искусства. Меня вызвали повесткой в Комиссариат просвещения. Я пришел. Там – в кабинете Зеликсона – был уже Добужинский. Зеликсон, черненький, в очках, за большим столом – кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось заседание. На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч. Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы и рады бы, но… Особенно горячо говорила одна акушорка – повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов. Лилина, жена Зиновьева. Мой ответ сводился к тому, что «у вас секция, а у нас Андрей Белый; у вас подотделы, у нас – вся поэзия, литература, искусство». Меня не удивила эта страшная способность женщин к мертвому бюрократизму, к спору о формах и видимостях, безо всякой заботы о сущности. Ведь сущность ясна для всякого: у нас, и только у нас, бьется пульс культурной жизни, истинно просветительной работы. Все клубы – существуют лишь на бумаге, а в этом здании на Морской кипит творческая большая работа. Конечно, нужно нас уничтожить. И вот поднимается тов. Ятманов и говорит от лица Пролеткульта, что он имеет основание не доверять «господам из Дома Искусств» и требует, чтобы туда послали ревизию. И именно пролеткультовцев в качестве ревизора. Зеликсон отпарировал: – А не послать ли ревизоров к вам?
И потом опять начался непонятный мне бюрократический спор: почему мы не секция, не подсекция, не отдел, не подотдел? Престарелые акушорки предавались этому спору взасос. Так странно слышать в связи с этими чиновничьими ярлычками слово «Искусство» и видеть среди этих людей – Добужинского.
Вечером того же дня – вечер Гумилева. Гумилев имел успех. Особенно аплодировали стихотворению «Бушменская космогония». Во время перерыва меня подзывает пролеткультский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультцами:
– Вы заметили?
– Что?
– Ну… не притворяйтесь… Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?
– Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать…
– Не притворяйтесь, К. И. Аплодируют, потому что там говорится о птице…
– О какой птице?..
– О белой… Вот! Белая птица. Все и рады… здесь намек на Деникина.
У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал:
– Там у Гумилева говорится: «портрет моего государя». Какого государя? Что за государь?*
Пасхальная ночь. Звонят колокола. Я рассматриваю «Русскую Старину»: нет ли чего о Муравьеве-Вешателе? Плита на кухне красная: пахнет куличами. Дети сидят в спальне с Жоржиком Познером и говорят о книгах: о Всеволоде Соловьеве, Жюль Верне и т. д. Только и слышишь: А вы читали? А вы читали? Боба вставил слово: он только что прочитал «Детей капитана Гранта» и сейчас читает «80 000 лье под водой». – По-моему это энциклопедический словарь. – Мурочка проснулась. М. Б.: «Дети, наденьте пальто, идите на балкон: Крестный ход!»
4-й или 5-й день Пасхи. У Лиды – в гимназии постановка «Дюймовочки». Она исхудала, почти не спала. Уже месяца два она только и думает об этом дне. Мой цилиндр, мамины платья – все пошло в дело. Сегодня утром она входит и дает мне бинокль, а я болен, кашляю, измучен.
19 апреля. Сегодня впервые я видел прекрасного Горького – и упивался зрелищем. Дело в том, что против Дома Искусств уже давно ведется подкоп. Почему у нас аукцион? Почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин, комиссар изобразительных искусств*. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая субсидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим идеям? и проч.
Горький, с черной широкополой шляпой в руках, очень свысока, властным и свободным голосом:
«Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как и всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизации – мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы говорите, что у нас в Доме Искусств буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо одеваются – тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционе – пусть! – человек повесит картинку – и жизнь его изменится. Он работать станет, чтоб купить другую. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, который их высказывает, баллотировался в Дом Искусства и был забаллотирован»…
Против меня сидел Пунин. На столе перед ним лежал портфель. Пунин то закрывал его ключиком, то открывал, то закрывал, то открывал. Лицо у него дергалось от нервного тика. Он сказал, что он гордится тем, что его забаллотировали в Дом Искусства, ибо это показывает, что буржуазные отбросы ненавидят его…
Вдруг Горький встал, кивнул мне головой на прощанье – очень строгий, стал надевать перчатку – и, стоя среди комнаты, сказал:
– Вот он говорит, что его ненавидят в Доме Искусств. Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и… в их коммунизм не верю.
Подождал и вышел. Потом на лестнице представители военного ведомства говорили мне:
– Мы на этом заседании потеряли миллион. Но мы не жалеем: мы видели Горького. Это стоит миллиона! Он растоптал Пунина, как вошь.
Перед этим я говорил с Горьким. Ему следует получить на Мурманской ж. д. паек: он читает там лекции. Он говорит: нельзя ли устроить так, чтобы этот паек получала Маруся (Бенкендорф). Я спросил, не записать ли ее его родственницей.
– Напишите: родная сестра!
Конец мая. Белая ночь. Был только что у Белицкого. Он официально сошелся с сестрой Каплуна и поселился на Мойке, 11. Я Белицкого очень люблю. Были: брат Каплуна, четырехугольный мужчина, из тех недалеких людей, которые не умеют разговаривать, а умеют только говорить на какую-нб. одну тему, маленькая Лидия Павловна Брюллова, умная, с большим вкусом (бывшая жена Пильского), теперь правая рука Каплуна, и секретарша Каплуна, Мария Иосифовна, черкешенка. Словом, все – департаментские крысы, статские и действительные статские советники. И департаментский разговор. За сладким пирогом – говорят о третьем лагере принудительных работ – лагере для женщин (проституток). Как он возник, какие у него цели. Брюллова рассказывает. Было первое заседание. Каплун сказал речь. «Пролетарий должен протянуть руку… Проститутки те же пролетарии… Проституция и социализм… Софья Мармеладова» и проч., и проч. Потом встает Белицкий: «Счастье проституток – дело самих проституток. Нужно основать профессиональный союз проституток. Это улучшит качество их труда и т. д». Встала я. Говорю: «Сами мужчины часто совращают женщин… Особенно матросы пристают к так называемым порядочным. Вчера я иду по улице, и какой-то матрос стал насвистывать мне на ухо какую-то песню. Вот нужно бы бороться с мужским совращением…»
Встает какой-то коммунист и говорит: «предыдущая ораторша сказала, что вчера ей только посвистели, и она уже стала проституткой. В этом никого винить нельзя. Тут виноваты не различие полов, а различие классов».
Потом говорили о сестре Некрасова, Елисавете Александровне Рюмлинг – кошмаре всего Управления Советов. Ее облагодетельствовали с ног до головы, она просит наянливо, монотонно, часами – «А нельзя ли какао? Нельзя ли керосину? Вот говорят, что такому-то вы выдали башмаки, и т. д.» Ее дочь была принята Каплуном на службу. 3 месяца не являлась, но мать пришла за жалованием. Каплун и Белицкий выдали ей свои деньги. 12 тысяч. Она пересчитывала раз десять и сказала:
– Дайте еще 400 рублей, потому что в месяц выдают 4 100 рублей (или что-то в этом роде).
Напрасно они уверяли ее, что дают ей свои деньги, она не верила и смотрела на них, как на мазуриков. Это вообще ее черта: смотреть на людей, как на мазуриков. Я часто отдавал ей зимою последнее полено – она брала – никогда не благодарила – и всегда смотрела на меня с подозрением. Однажды она сказала мне:
– Когда я была вам нужна, вы хлопотали обо мне…
Чем же она была мне нужна? Тем, что я устроил для нее паек, отдавал ей лампу, кофей, спички и т. д. Она думает, что я, пригласив ее выступить вместе с собою, участвовать в вечере памяти Некрасова, сделал какую-то ловкую карьеру. А между тем это была чистейшая благотворительность, очень повредившая моей лекции.
26 июня. Наши на даче, я в городе. Неделю назад был в третьем лагере принудительных работ – что на Разливе. Лагерь – для проституток. Большое белое здание, бывший детский приют – населен малорослыми, веснущатыми, хриплоголосыми, очень некрасивыми девками. Белицкий приехал туда на ревизию. Они обступили его: «Тов. Белицкий, почему нам не дают сахару? Обещали сахар и не дают!» Ходят по дому свободно – щеголяя кривыми, толстыми, мясистыми ногами. Белицкий деликатно мигает глазами и обещает все поправить. А поправлять нечего: все сплошная ерунда. Этот белый дом – не лагерь принудительных работ, а правительственный дом терпимости, содержимый на счет государства. Работ никаких не производится. Даже огорода нет. Обещали устроить мастерские – но нет ни швейных машин, ни ниток. И вот бездельные девки слоняются по большому дому, дурея от скуки, хрипя идиотские песни. Комендант – коммунист, как обнаружилось на днях, взял как-то четырех наиболее смазливых – и уехал с ними кататься в лодке; – сахару, ханжи, спирту – было сколько угодно. Его арестовали. Оказывалось, что он отпускал своих любимиц в город – и они (по крайней мере, одна из них) после каждой поездки привозила тысяч 20, украденных ею в трамваях. Она воровка, специалистка по трамвайным кражам. Она так и говорила: – Отпустите меня покататься в трамваях. Я вам денег привезу.
Отпуски давались всем – и все они (содержимые на счет социалистического государства) – уезжали в город проститутничать. Они уже не боялись арестов, – ибо они и так арестованные. Когда им сказали: «Зачем вы продолжаете ваше гнусное дело?» – они отвечали: «Нам не хватает еды: нужно же приработать!»
_______________
У Каплуна издох волчонок. Он кормит своих волчат молоком – в то время как многие матери сохнут от ужаса, что не могут напоить детей!
_______________
«Вечер Блока»*. Блок учил свои стихи 2 дня наизусть – ему очень трудно помнить свои стихи. Успех грандиозный – но Блок печален и говорит:
– Все же этого не было! – показывая на грудь.
28 июня. Дом Искусств. Пишу о Пожаровой. Вспомнил, что на кухне Дома Искусств получают дешевые обеды, встречаясь галантно, два таких пролетария, как бывший князь Волконский и бывшая княжна Урусова. У них в разговоре французские, английские фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы и на лице покорная тоска умирания. Я сказал ему в шутку на днях:
– Здравствуйте, ваше сиятельство.
Он обиженно и не шутя поправил:
– Я не сиятельство, а светлость…
И стал подробно рассказывать, почему его дед стал светлейшим. В руках у него было помойное ведро.
Сколько английских книг я прочитал ни с того ни с сего. Начал с Pickwick’a – коего грандиозное великолепие уразумел только теперь. Читаешь – и будто в тебя вливается молодая, двадцатилетняя бессмертно-веселая кровь. После – безумную книгу Честертона «Manalive» с подозрительными афоризмами и притворной задорной мудростью, потом «Kidnapped» Стивенсона – восхитительно написанную, увлекательнейшую, потом отрывки из Барнеби Рэджа, потом Conan Doyle – мелкие рассказы (ловко написанные, но забываемые и – в глубине – бесталанные) и т. д., и т. д. И мне кажется, что при теперешней усталости я ни к какому иному чтению не способен. Ничего систематического сделать не могу. Книгу дочитать – и то труд. Начал «Анну Каренину» и бросил. Начал «Catriona» (Stevenson) и бросил*.
У нас в Доме Искусств на кухне около 15 человек прислуги – и ни одного вора, ни одной воровки! Поразительно. Я слежу за ними пристально – и восхищаюсь, как они идиллически честны! Это аристократия нашего простонародия. Если Россия в такие годы могла дать столько честных, милых, кротких людей – Россия не погибла. Или взять хотя бы нашу Женю, милую нашу служанку, которая отдает нашей семье всю себя! Но где найти 15 честных интеллигентных людей? Я еще не видел в эту эпоху ни одного.
Читая «Анну Каренину», я вдруг почувствовал, что это – уже старинный роман. Когда я читал его прежде, это был современный роман, а теперь это произведение древней культуры, – что Китти, Облонский, Левин и Ал. Ал. Каренин так же древни, как, напр., Посошков или князь Курбский. Теперь – в эпоху советских девиц, Балтфлота, комиссарш, милиционерш, кондукторш, – те формы ревности, любви, измены, брака, которые изображаются Толстым, кажутся допотопными. И то психологичничанье, то вниканье [в оригинале пропуск. – Е. Ч.].
Придумал сюжет продолжения своего «Крокодила». Такой: звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди – в Зоологическом саду – а звери ходят и щекочут их тросточками. Ваня Васильчиков спасает их.
Июль. Жара. Ермоловская*. Наташа Жуховецкая (6 лет) говорит:
– Пшеница – жена, а пшено – ее муж!
Вспоминаю, как недавно я брился в парикмахерской на Морской, а парикмахер, бреющий другого клиента, рассказывал, как его знакомый поймал на Фонтанке – вот такую щуку – фунтов 10. Мой парикмахер и обиделся, и вознегодовал: – Вот такую щуку! На удочку! Из Фонтанки! – Бросил меня брить, подошел вплотную к тому парикмахеру – и стал издеваться над ним. Тот солидно клялся и божился – и говорил: «Что вы ко мне пристаете?» – а оба клиента сидели с намыленными щеками и целая очередь небритых мужчин ждала. Такова революция.
Октябрь 1920. Только что вернувшись из Москвы, Горький разбирал бумаги на столе и нашел телеграмму:
«Максиму Горькому. Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк и 16 000 рублей денег».
Подписано именем, Горькому неизвестным.
_______________
Когда встречали Wells’a, Горький не ответил на поклон Пунина – не ответил сознательно. Когда же я сказал ему: зачем вы не ответили Пунину? – он пошел, разыскал Пунина и поздоровался.
_______________
Амфитеатров – человек дешевый и пошлый. Двадцать лет был нововременцем. Перекинулся в радикальный лагерь – написал несчастных Обмановых (тусклую сатиру на царя, в духе Щедрина) – и был со всем комфортом сослан на короткое время в Минусинск*. С тех пор разыгрывает из себя политического мученика. «Когда я был сослан»… «Когда я сидел в тюрьме»… «В бытность мою в Сибири». Чуть не ежедневно писал он о своих политических страданиях – во всех газетных фельетонах. Спекулировал на Минусинске, как мог.
_______________
Нужно возможно скорее найти себе тему. В сотый раз я берусь писать о Блоке – и падаю под неудачей. «Блок» требует уединенной души. «Анну Ахматову и Маяковского»* я мог написать только потому, что заболел дизентерией. У меня оказался не то что досуг, но уединенный досуг.
______________
Замятин беседовал с Уэльсом о социализме. Уэльс был против общей собственности, Горький защищал ее. – А зубные щетки у вас тоже будут общие? – спросил Уэльс.
_______________
Когда я только что «возник» в Петербурге, я был очень молод. Моя молодость скоро всем надоела. «Чуковский скоро празднует 25-летие своего 17-летия», – говорил Куприн.
3 октября 1920 г. Третьего дня был у Горького. Говорил с ним о Лернере. История такая: месяца полтора назад Горький вдруг явился во «Всемирную» и на заседании назвал Лернера подлецом. «Лернер передает всякие цифры и сведения, касающиеся “Всемирной Литературы”, нашим врагам, Лемке и Ионову. Поэтому его поступок подлый, и сам он подлец, да, подлец». Лернера эти слова раздавили. Он перестал писать, есть, пить, спать – ходит по улицам и плачет. Ничего подобного я не видал. В Сестрорецке мне, больному, приходилось вставать с постели и водить его по берегу – целые часы, как помешанного. Оскорбление, нанесенное Горьким, стало его манией. Ужаснее всего было то, что, оскорбив Лернера, Горький уехал в Москву, где и пребывал больше месяца. За это время Лернер извелся совсем. Наконец Горький вернулся – но приехал Wells и началась неделя о Уэльсе. Было не до Лернера. Я попробовал было заикнуться о его деле, но Горький нахмурился: «Может быть, он и не подлец, но болтун мерзейший… Он и Сергею Городецкому болтал о “Всемирной Литературе” и т. д.». Я отошел ни с чем. Но вот третьего дня вечером я пошел к Алексею Максимовичу на Кронверкский – и, несмотря на присутствие Уэльса, поговорил с Горьким вплотную. Горький прочел письмо Лернера и сказал: да, да, Лернер прав, нужно вот что: соберите членов «Всемирной Литературы» в том же составе, и я извинюсь перед Лернером – причем отнесусь к себе так же строго, как отнесся к нему. Это меня страшно обрадовало. – Почему вы разлюбили «Всемирную Литературу»? – спросил я. – Теперь вы любите Дом Ученых? – Очень просто! – ведь из Дома Ученых никто не посылал на меня доносов, а из «Всемирной Литературы» я сам видел 4 доноса в Москве, в Кремле (у Каменева). В одном даны характеристики всех сотрудников «Всемирной Литерературы» – передано все, что говорит Алексеев, Волынский и т. д. Один только Амфитеатров представлен в мягком, деликатном виде. (Намек на то, что Амфитеатров и есть доносчик.) Другой донос – касается денежных сумм. Все это мерзко. Не потому, что касается меня, я вовсе не претендую на чью-нибудь любовь, как-то никогда это не занимало меня. Я знаю, что меня должны не любить, не могут любить, – и примирился с этим. Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя. Я сидел ошеломленный.
Сейчас Горький поссорился с властью и поставил Москве ряд условий. Если эти условия будут не приняты, Горький, по его словам, уйдет от всего: от Гржебина, от «Всемирной Литературы», от Дома Искусств и проч.
19 ноября. Встретил на Невском Амфитеатрова: «Слыхали, Горький уезжает за границу: Горький, Марья Федоровна и Родэ. Родэ устроит маленький кафешантанчик, Мар. Ф. будет петь, а Горький будет у них вышибалой, вроде Васьки Красного». Вот до каких пределов дошла у Амфитеатрова ненависть к Горькому.
23 ноября. Утром при светлячке пишу. Только что кончил «Муравьева и Некрасова»* и снова берусь за Блока. Но как-то потерял аппетит. «Стихи о Прекрасной Даме», столь чаровавшие меня в юности, словно умерли для меня. Читаю – одни слова! На шестое декабря я назначил снова свою лекцию об Муравьеве и Некрасове. – Не знаю, будет ли сбор. Сейчас побегу хлопотать. Мурочке 9 месяцев, она делает невообразимые гримасы. Когда я беру ее на руки, она первым долгом берет меня за усы, потому что усы – мой главный отличительный признак от всех окружающих ее безусых. Ее очень забавляет вентилятор у меня в комнате, кукла с проломленной головой без рук, «огонечек» и «лошадка». Стоит только сказать слово «огонечек», и она поднимает голову вверх. Ребенок она вполне законченный, очень закругленный, без недомолвок, неясных очертаний. Все в ней очень отчетливо – точно она взрослая. Теперь у нее начинают действовать ножки, ее тянет танцевать, и когда берешь ее на руки и помогаешь ей прыгать, упираясь ножками, она прыгает раз тысячу, доводя всех до изнеможения – сама в экстазе.
Ах, милый вентилятор в моей комнате, он поет так по-диккенсовски уютно, усыпительно, разнообразно. Третьего дня в Доме Искусств обнаружилась кража: кто-то поднял чехлы у диванов и срезал ножом дорогую обивку – теперь это сотни тысяч: прислуга Дома Искусств и все обитатели разделились по этому поводу на две партии. Одни утверждают, что обивку похитил поэт Мандельштам, а другие, что это дело рук поэта Рюрика Ивнева, которому мы дали приют на неделю. Хороши же у поэтов репутации!
25 ноября. Вчера Блок на заседании у Тихонова («Всемирная Литература») подошел ко мне и словоохотливо рассказал, что он был у художника Браза и что там был немецкий писатель Голичер, который приехал изучать советский быт. Голичер говорил: – Не желайте лучшего, теперь всякий другой строй будет хуже большевистского. (Очевидно, для Блока эти слова очень значительны.) – И вы согласились с ним? – «Не с ним, а с тоном его голоса. Он говорил газетные затасканные вещи, но тон был очень глубокий»*. Заговорили о Горьком. «Горький притворяется, что он решил все вопросы и что он не верит в Бога… Есть в нем что-то поэтическое, затаенное». Мурочке наша соседка, жена домкомбедчика, сшила пальто. Марья Борисовна второй день выносит ее на улицу. Каждая лошадка вызывает сенсацию. Ноги у нее очень крепкие, ей нравится давать им работу – и она смеется, когда упирается на них. Ко мне относится с кокетливой застенчивостью – если я подхожу, потупляется, и только по движениям ее рук и нервному перебиранию ног я вижу, что она ощущает мое приближение. Когда М. Б. укачивает ее, она говорит ей: собачка спит, папа спит, лошадка спит, вентилятор спит.
26 ноября. Вчера я читал в Петрокомнате [так в оригинале. – Е. Ч.] о Достоевском. Я читаю о Достоевском каждый четверг. Слушают меня влюбленно, и г-жа Безперечная вчера в знак приязни подарила мне 4 свечи. Чем я отблагодарю ее? Неделю назад Вера Бор. Киселева вывязала для меня 2 пары носков. Ее муж принес их в Дом Искусств. Марья Сергеевна передала их Коле, и Коля их потерял!! Коля явно неравнодушен к Кире. Сегодня я начал заниматься Блоком вплотную. Даже набросал несколько строк.
27 ноября 1920. 4 ½ ч. ночи. Сейчас сон: будто я что-то такое прочитал в Доме Литераторов, а потом дал в корректуре Тихонову. Тихонов будто живет в Куоккала, там, где Пуни. Рядом с ним – Евдокия Петровна. Прихожу к ней – она что-то ласковое. В углу сидит Замятин – «не мешайте мне думать». Очень грубо. – Что это с ним? – спрашивает Евдокия Петровна. «Он хочет со мною поссориться», – отвечаю я с болью, с тоскою. Иду в другую дачу, где Тихонов. Он выходит ко мне бледный, изможденный, без улыбки. – Что с вами, Тишенька? – спрашиваю я ласково. А он: «Я думаю, что вас исключат» и показывает мне корректуру с моими помарками. Тут я понял холодность Замятина: очевидно, в этой корректуре что-то чудовищное, и меня сейчас выгонят из «Всемирной Литературы», и я пропал.
Тут суммировались все впечатления за последние дни. Дело в том, что Ольденбург во «Всемирной Литературе», делая отчет о моем предисловии к «Барнеби Рэджу», – сказал, что предисловие чудесное, великолепное, лучше всех. Потом он же делал отчет о моем исправленном Уитмэне – и, хваля, бранил. Из его похвал и брани я видел, что книжки он не читал, а только глянул в нее. Дальше: Замятин делал отчет о моей редактуре «Барнеби Рэджа» и, действительно, нашел немало изъянов. Дальше: мы с Замятиным редактировали № 1-й журнала «Дом Искусств» – и он грубовато сказал мне, что я плохо держал корректуру; меня тогда же удивил его тон. Обычно он почтителен и джентльменист. Вчера я был в Доме Литераторов, обедал – хлопотал о билетах на свою лекцию – и вот в результате месиво, в виде сна.
28 ноября. Весь день вчера читал Влад. Соловьева: о Конте, о Платоне, о Пушкине, о Лермонтове – туповато. Покуда высказывает общеобязательные мысли – хорошо, умно; чуть перейдет к своим – натяжки и плоскость. Читал Вяч. Иванова: о Достоевском, о Чурлянисе. Вечером – лекция о Достоевском. Нас снимали при магнии. Слушателей было множество. Была, между прочим, Ирина Одоевцева, с которой – в Дом Искусств и обратно. Лида ударилась в стихотворство. – Лида играет (кажется, Баха), я смотрю на беловатый дым, который кусками, порывисто вздымается вверх (во дворе напротив, от костра), и мне кажется, что он пляшет под Лидину музыку, то замедляя, то ускоряя темп. – Вчера я ужинал на кухне и впервые беседовал с нашей новой кухаркой, узкоглазой старухой Натальей Андреевной. Она сообщила мне, что в Библии было пророчество, что через три года и 6 месяцев после свержения царя – наступит конец жидовскому царству, что жидам предсказано, что они будут царствовать 3 раза: раз в древности, второй раз – когда Христа распяли, и в России – третий раз теперь. Но скоро их царству конец. Также она поведала мне, что одна ее знакомая была 8 дней в летаргическом сне (слово «летаргический» с большой гордостью) и теперь предсказывает: скоро жидовскому царству конец. Потом она сообщила, как та вылечила ей молитвой руку (а доктора не могли и хотели резать), потом – как она хочет пойти на богомолье, как она была в Сарове и т. д.
29 ноября. Читал Шеллинга, Жирмунского и проч. Вечером был в Доме Кшесинской, в Клубе, на Кронверкском. Думал читать большую лекцию для 10–15 человек, но оказалось, что по воскресеньям – кинематограф – и пришла куча народу, с детьми. Я решил читать не больше 10–15 минут, – и это безумно понравилось публике. Аплодировали за краткость. Бедные, им так надоели эти профессиональные мямли, которые перед каждым спектаклем, перед каждым развлечением канителят по 3 часа об индивидуализме, солипсизме и проч. Вечером – дома с детьми. Лида с Женей Лунц расшалились – Женя легла на стулья – якобы умершая египтянка, а Лида по всем правилам «бальзамного искусства» приготовила из нее мумию.
1 декабря 1920 г. Сейчас я позвал нашу новую служанку: – «Наталья Андреевна, дайте мне, пожалуйста, хлеба!» Она обиделась: «Как благородно! (буквально, буквально). Это по новому закону. Прежде только старых нянь так звали». Ей очень нравится, что ее, пожилую женщину, лет 50-ти, зовут Наташей. – Сегодня похерил все, что писал о Блоке, и начал по-другому.
Анекдоты: сходство между советским супом и коммунистом: оба жидковаты; что мы увидим, если снимем штаны с 6-ти коммунистов? 12 колен Израиля; почему РСФСР читается с обоих концов одинаково? чтоб могли прочитать и Ленин и Троцкий. – Все это показывает рост в обществе антисемитских настроений.
Вчера витиеватый Левинсон на заседании «Всемирной Литературы» – сказал Блоку: «Чуковский похож на какого-то диккенсовского героя». Это удивило меня своей меткостью. Я действительно чувствую себя каким-то смешным, жалким, очень милым и забавно-живописным. Даже то, как висят на мне брюки, делает меня диккенсовским героем. Но никакой поддержки, ниоткуда. Одиночество, каторга и – ничего! Живу, смеюсь, бегаю – диккенсовский герой, и да поможет мне диккенсовский Бог, тот великий Юморист, который сидит на диккенсовском небе. Был вчера у Бачманова – в Совнархозе – о! как мы ехали туда на кляче…
5 декабря. Все дни был болен своей старой гнусностью: бессонницей. Вчера почтовым поездом в Питер прибыл, по моему приглашению, Маяковский. Когда я виделся с ним месяц назад в Москве, я соблазнял его в Питер всякими соблазнами. Он пребывал непреклонен. Но когда я упомянул, что в Доме Искусств, где у него будет жилье, есть биллиард, он тотчас же согласился. Прибыл он с женою Брика, Лилли Юрьевной, которая держится с ним чудесно: дружески, весело и непутанно. Видно, что связаны они крепко – и сколько уже лет: с 1915. Никогда не мог я подумать, чтобы такой человек, как Маяковский, мог столько лет остаться в браке с одною. Но теперь бросается в глаза именно то, чего прежде никто не замечал: основательность, прочность, солидность всего, что он делает. Он – верный и надежный человек: все его связи со старыми друзьями, с Пуниным, Шкловским и проч. остались добрыми и задушевными. Прибыли они в Дом Искусств – часа в 2; им отвели библиотеку – близ столовой – нетопленную. Я постучался к ним в четвертом часу. Он спокоен и уверенно прост. Не позирует нисколько. Рассказывает, что в Москве Дворец Искусства называют Дворец Паскудства, что Дом Печати зовется там Дом Скучати, что Шкловский в Доме Скучати схватился с Керженцевым (который доказывал, будто творчество Луначарского мелкобуржуазно) и сказал: «Луначарский потому не пролетарский писатель, что он плохой писатель». Луначарский присутствовал. «Луначарский говорил как Бог, отлично говорил… Но про Володю (Маяковского) сказал: жаль, что Маяковский под влиянием Брика и Шкловского», – вмешалась Лиля Юрьевна. Мы пообедали вчетвером: Маяковский, Лиля, Шкловский и я. «Кушайте наш белый хлеб! – потчевал Маяковский. – Все равно, если вы не съедите, съест Осип Мандельштам». Доброта Лили: она привезла разным здешним голодающим: целый чемоданчик манных круп: кому фунт, кому два. Для полуидиотки Гартевельд (которую даже я не могу выносить больше часу) – привезла папирос, печений, масла. У нас (у членов Дома Искусств) было заседание – скучное, я сбежал, – а потом началась Ходынка: перла публика на Маяковского. Я пошел к нему опять – мы пили чай – и говорили о Лурье. Я рассказал, как милая, талантливая Ольга Афанасьевна Судейкина здесь, одна, в холоде и грязи, без дров, без пайков сидела и шила свои прелестные куклы, а он там в Москве жил себе по-комиссарски.
– Сволочь, – говорит Маяковский. – Тоже… всякое Лурье лезет в комиссары, от этого Лурья жизни нет! Как-то мы сидели вместе, заговорили о Блоке, о цыганах, он и говорит: едем (туда-то), там цыгане, они нам все сыграют, все споют… я ведь комиссар музыкального отдела.
А я говорю: «Это все равно, что с околоточным в публичный дом».
Потом Ходынка. Дм. Цензор, Замятин, Зин. Венгерова, Серафима Павловна Ремизова, Гумилев, Жоржик Иванов, Киселева, Конухес, Альтман, Викт. Ховин, Гребенщиков, Пунин, Мандельштам, художник Лебедев и проч., и проч., и проч. Очень трогательный и забавный угол составили дети: ученики Тенишевского училища. Впереди всех Дрейден – в очках – маленькая мартышка. Боже, как они аплодировали. Маяковский вышел – очень молодой (на вид 24 года), плечи ненормально широки, развязный, но не слишком. Я сказал ему со своего места: сядьте за стол. Он ответил тихо: вы с ума сошли. Очень не удалась ему вступительная речь: вас собралось так много оттого, что вы думали, что 150 000 000 – это рубли. Нет, это не рубли. Я дал в Государственное издательство эту вещь. А потом стал требовать назад: стали говорить: Маяковский требует 150 000 000 и т. д.
Потом начались стихи – об Иване. Патетическую часть прослушали скучая, но когда началась ерническая вторая часть о Чикаго – публика пришла в умиление. Я заметил, что всех радуют те места, где Маяковский пользуется интонациями разговорной речи нашей эпохи, 1920 г.: это кажется и ново, и свежо, и дерзко:
– Аделину Патти знаете? Тоже тут.
– И никаких гвоздей.
Должно быть, когда Крылов или Грибоедов воспроизводили естественные интонации своей эпохи – это производило такой же эффект. Третья часть утомила, но аплодисменты были сумасшедшие. Конухес только плечами пожимал: «Это идиотство!» Многие говорили мне: «Теперь мы видим, как верна ваша статья о Маяковском!»* Угол с тенишевцами бесновался. Не забуду черненького, маленького Познера, который отшибал свои детские ладошки. Я сказал Маяковскому: – Прочтите еще стихи. – Ничего, что революционные? – спросил он, и публика рассмеялась. Он читал и читал – я заметил, что публика лучше откликается на его юмор, чем на его пафос. А потом тенишевцы, предводимые Лидой, ворвались к нему в комнату – и потребовали «Облако в штанах». Он прочитал им «Лошадь». Замятина я познакомил с Маяковским. Потом большая компания осталась пить с Маяковским чай, но я ушел с детьми домой – спать. Замятин познакомил с ним свою стервозу-жену – и последнее, что я видел, был доктор Манухин, который говорил: – Какая чепуха! Какая наглая бездарность!
6 декабря. Сегодня у меня 2 лекции: одна в Красноармейском университете, другая – в Доме Искусств, публичная – о Некрасове и Муравьеве. А я не спал ночь, усталый – после вчерашней лекции в библиотеке, на краю города. За эту неделю я спал одну только ночь и уже не пробую писать, а так, слоняюсь из угла в угол. Коля вчера был шафером на свадьбе Маштаковой. – Боба упал с Мурой и повредил ей крестец. – В библиотеке мне рассказывали, что какой-то библиотекарь (из нынешних) составил такой каталог, где не было ни Пушкина, ни Лермонтова. Ищут, ищут – не найти. Случайно глянули на букву С, там они все, под рубрикой «Сочинения»! По словам библиотекарши, взрослые теперь усерднее всего читают Густава Эмара и Жюль Верна. Библиотекарша – прелесть. Всю жизнь (19 лет) отдала библиотеке. – «У меня уже внучки есть!» – говорила она. Я не понял: «То есть у меня читала одна барышня, потом читала ее дочка, а теперь дочка этой дочки читает». Анекдот: «Высший Совет Народного Хозяйства: – воруй смело нет хозяина. – А по-еврейски: Холера на Советскую власть». Конечно, анекдот рассказан евреем, принадлежащим к кругам. – Теперь, когда Владимирский проспект называется проспектом Нахимсона, как назвать Владимирский собор. Одна лояльная дама: Собор Нахимсона. Вечером у нас мадам Редько. У нее умерла племянница.
7 декабря. Вчера я имел очень большой успех – во время повторения лекции о Муравьеве. Ничего такого я не ждал. Во-первых, была приятная теснота и давка – стояли в проходах, у стен, не хватило стульев. Приняли холодно, ни одного хлопка, но потом – все теплее и теплее, в смешных местах много смеялись – и вообще приласкали меня. Маяковский послушал 5 минут и ушел. Были старички, лысые – не моя публика. Барышень мало. Когда я кончил и ушел к Мише Слонимскому, меня вызвали какие-то девы и потребовали, чтобы я прочитал о Маяковском. – У Маяковского я сидел весь день – между своей утренней лекцией в Красноармейском университете и – вечерней. Очень метко сказала о нем Лили Юрьевна: «Он теперь обо всех говорит хорошо, всех хвалит, все ему нравятся». Это именно то, что заметил в нем я, – большая перемена. «Это оттого, что он стал уверен в себе», – сказал я. «Нет, напротив, он каждую минуту сомневается в себе», – сказала она. Она по-прежнему радушна – и кто ни придет: «кушайте, пожалуйста». Это слово «кушайте» не сходит у нее с языка. Вчера она кормила безрукого какого-то филолога* и какую-то приезжую танцовщицу. Пришла Марья Сергеевна платить Маяковскому гонорар. Он взял 150 000 не считая, не пожелал смотреть счет, угостил ее пирожным и преувеличенно любезно потчевал ее. В Доме Искусств он разоряется на пирожном: ловко, скоро, умело накладывает на блюдо штук тридцать печений и платит десятки тысяч. Ванну принимали они вдвоем – сразу. Она рассказывала мне, как шофер Троцкого и какие-то другие хулиганы выхватывают на улицах Москвы самых красивых барышень, завозят в лес – и там насилуют. Она знает все эти подробности от своего мужа, следователя Чеки, Брика. Все утро Маяковский искал у нас в библиотеке Дюма, а после обеда учил Лили играть на биллиарде. Она говорит, что ей 29 лет, ему лет 27–28, он любит ее благодушно и спокойно. Я записал его стихи о Солнце* – в чтении они произвели на меня большое впечатление, а в написанном виде – почти никакого. Он говорит, что мой «Крокодил» известен каждому московскому ребенку.
8 декабря. Маяковский забавно рассказывал, как он был когда-то давно у Блока. Лили была именинница, приготовила блины – велела не запаздывать. Он пошел к Блоку, решив вернуться к такому-то часу. Она же велела ему достать у Блока его книги – с автографом. – Я пошел. Сижу. Блок говорит, говорит. Я смотрю на часы и рассчитываю: десять минут на разговор, десять минут на просьбу о книгах и автографах и минуты три на изготовление автографа. Все шло хорошо – Блок сам предложил свои книги и сказал, что хочет сделать надпись. Сел за стол, взял перо – сидит пять минут, десять, пятнадцать. Я в ужасе – хочу крикнуть: скорее! – он сидит и думает. Я говорю вежливо: вы не старайтесь, напишите первое, что придет в голову, – он сидит с пером в руке и думает. Пропали блины! Я мечусь по комнате, как бешеный. Боюсь посмотреть на часы. Наконец Блок кончил. Я захлопнул книгу – немного размазал, благодарю, бегу, читаю: Вл. Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю.
Вчера у нас было заседание «Всемирной Литературы». У-ух, длинное. Я докладывал о Уордсворте, о Жирмунском и о будущих лекциях «Всемирной Литературы». Сильверсван – убийственный доклад об Эйхенбауме как редакторе Шиллера. Потом изумительная Евдокия Петровна вызвала меня в другую комнату и сделала мне предложение: она знает, как много гнусного говорят про меня конторщики «Всемирной Литературы» по поводу того, что я должен им около 60 тыс. рублей, и вот одна ее приятельница предлагает мне 50 000 в долг. – «Ей теперь деньги не нужны, она с радостью даст их вам»… Это меня так растрогало, что я чуть не заревел. От денег пока отказался, ибо лекции…
18 декабря 1920. Боба болен скарлатиной. Форма легкая. Лежит читает «Наду» Райдера Хаггарда. У нас завелся котенок – игривый, как бес. Кухарка любит его преувеличенно, спит с ним, дает ему сосать свою грудь (она сама говорит). Котенок играет маятником наших часов, сбивает его лапками – наконец сбил – и часы пошли как сумасшедшие. «Надо спать, не зевать, чтобы завтра не кричать, не мешать маме спать» – вот Бобины стихи, сочиненные им для Мурки. У Мурки не ноги, а пружины: 40 минут подряд она экстатически прыгает на руках – заморит двух-трех человек – а сама хоть бы что.
22 декабря 1920. Вчера на заседании правления Союза писателей кто-то сообщил, что из-за недостатка бумаги около 800 книг остаются в рукописи и не доходят до читателей. Блок (весело, мне): – Вот хорошо! Слава Богу! – Коля болен, не знаю – чем. Уже 4-й день в Доме Искусств. У него жар, пот – доктора не знают, скарлатина или нет. Боба кончил Райдера Хаггарда и с увлечением читает Майн-Рида «Ползуны по скалам».
Читали на заседании «Всемирной Литературы» ругательства Мережковского – против Горького*. Блок (шепотом мне): – А ведь Мережковский прав.
Говорили о том, что очень нуждается Буренин. Волынский, которого Буренин травил всю жизнь, пошел к нему и снес ему 10 000 рублей, от Лит. фонда (который тоже был травим Бурениным). Блок сказал: – Если бы устроили подписку в пользу Буренина, я с удовольствием внес бы свою лепту. Я всегда любил его.
31 декабря. Боба встал вчера с постели после скарлатины. Сейчас же полез на шкаф. Скарлатина для него университет. Он прочитал несколько книг: «Трое в лодке», рассказы из «Мира приключений» и т. д. Мы занимаемся с ним грамматикой. Ум у него очень точный и въедливый. Читая «Кому на Руси жить хорошо», он спросил: почему же мужики были из семи деревень, если двое из них (Рубины) были братья и жили в одной деревне – («С недоуздочком, в свое же стадо шли»). – Мурка окружена мифами – к которым прибавился еще один: самовар. Я говорю: пойдем смотреть самовар, она так и трепыхается. Слово «вентилятор» вызывает в ней огромные эмоции. Итак, ее вселенная: козлик из целлулоида, такая же кукла без рук и без ног с проломанным черепом, птички деревянные с (бывшими) длинными носами, свинка деревянная, матрешка деревянная – и зеркальная рамка без стекла. Существуют где-то невидимые, но вечно священные образы лошадки и собаки, при напоминании о коих она так и рвется вдаль.
Вчера было у нас труднейшее заседание членов Дома Искусств (Чудовский: устаф, устаф тре-бу-ет), потом я с Тихоновым домой, – зашел к нему: у камина разговор. О Гржебине. Теперь о Гржебине распускают слухи, что он облапошил Андреева – и подписывал векселя его именем или что-то в этом роде. Сам Андреев говорил об этом открыто (помню и мне говорил)*. Тихонов утверждает, что дело было так: Андреев был влюблен здесь в какую-то даму, которая стоила ему много денег, он скрывал свою связь от жены и просил Гржебина – помочь ему в каких-то вексельных операциях. Гржебин из дружбы согласился. Когда же это дело всплыло, то Андреев, чтобы скрыть это от жены, стал говорить, что векселя были поддельные, – и тем скомпрометировал Гржебина. Бедный Гржебин! Но я помню, что Андреев говорил мне наедине – безо всякой политики по отношению к жене, – что Гржебин объегорил его, и сообщал о какой-то махинации Гржебина с изданием книги «Король, народ и свобода».
1921
1-ое января. Я встречал Новый год поневоле. Лег в 9 час. – не заснуть. Встал, оделся, пошел в столовую, зажег лампу и стал корректировать Уитмэна. Потом – сделал записи о Блоке. Потом прочитал рассказ Миши Слонимского – один – в пальто – торжественно и очень, очень печально. Сейчас сяду писать статью для журнала милиционеров!!* Вчера было заседание по Дому Искусств во «Всемирной Литературе». Примирился с Чудовским.
3 января. Вчера черт меня дернул к Белицким. Там я познакомился с черноволосой и тощей Спесивцевой, балериной – нынешней женой Каплуна. Был Борис Каплун – в желтых сапогах, – очень милый. Он бренчал на пьянино, скучал и жаждал развлечений. – Не поехать ли в крематорий? – сказал он, как прежде говорили: «Не поехать ли к “Кюба” или в “Виллу Родэ”?» – А покойники есть? – спросил кто-то. – Сейчас узнаю. – Созвонились с крематорием, и оказалось, что, на наше счастье, есть девять покойников. – Едем! – крикнул Каплун. Поехал один я да Спесивцева, остальные отказались*. Я предложил поехать за Колей в Дом Искусств. Поехали. Коля – в жару, он бегал на лыжах в Удельную, простудился – и лежит. Я взял Лиду, она надела два пальто, и мы двинулись. Мотор чудесный. Прохожие так и шарахались. Правил Борис Каплун. Через 20 минут мы были в бывших банях, преобразованных по мановению Каплуна в крематорий. Опять архитектор, взятый из арестантских рот, задавивший какого-то старика и воздвигший для Каплуна крематорий, почтительно показывает здание; здание недоделанное, но претензии видны колоссальные. Нужно оголтелое здание преобразовать в изящное и грациозное. Баня кое-где облицована мрамором, но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того чтобы сделать потолки сводчатыми, устроены арки – из… из… дерева, которое затянуто лучиной. Стоит перегореть проводам – и весь крематорий в пламени. Каплун ехал туда, как в театр, и с аппетитом стал водить нас по этим исковерканным залам, имеющим довольно сифилитический вид. И все кругом вообще сифилитическое: мрачные, каторжные лица с выражением застарелой зубной боли мрачно цепенеют у стен. К досаде пикникующего комиссара, печь оказалась не в порядке: соскочила какая-то гайка. Послали за спецом Виноградовым, но он оказался в кинематографе. Покуда его искали, дежурный инженер уверял нас, что через 20 минут все будет готово. Мы стоим у печи и ждем. Лиде холодно – на лице покорность и скука. Есть хочется невероятно. В печи отверстие, затянутое слюдой, – там видно беловатое пламя – вернее, пары – напускаемого в печь газа. Мы смеемся, никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения. Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих. Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах. Я пошел со Спесивцевой в мертвецкую. Мы открыли один гроб (всех гробов было 9). Там лежал – пятками к нам – какой-то оранжевого цвета мужчина, совершенно голый, без малейшей тряпочки, только на ноге его белела записка «Попов, умер тогда-то». – Странно, что записка! – говорил впоследствии Каплун. – Обыкновенно делают проще: плюнут на пятку и пишут чернильным карандашом фамилию.
В самом деле: что за церемонии! У меня все время было чувство, что церемоний вообще никаких не осталось, все начистоту, откровенно. Кому какое дело, как зовут ту ненужную падаль, которую сейчас сунут в печь. Сгорела бы поскорее – вот и все. Но падаль, как назло, не горела. Печь была советская, инженеры были советские, покойники были советские – все в разладе, кое-как, еле-еле. Печь была холодная, комиссар торопился уехать. – Скоро ли? Поскорее, пожалуйста. – Еще 20 минут! – повторял каждый час комиссар. Печь остыла совсем. Сифилитики двигались, как полумертвые.
Но для развлечения гроб приволокли раньше времени. В гробу лежал коричневый, как индус, хорошенький юноша красноармеец, с обнаженными зубами, как будто смеющийся, с распоротым животом, по фамилии Грачев. (Перед этим мы смотрели на какую-то умершую старушку – прикрытую кисеей – синюю, как синие чернила.) Долго и канительно возились сифилитики с газом. Наконец, молодой строитель печи крикнул: – Накладывай! – похоронщики в белых балахонах схватились за огромные железные щипцы, висящие с потолка на цепи, и, неуклюже ворочая ими и чуть не съездив по физиономиям всех присутствующих, возложили на них вихляющийся гроб и сунули в печь, разобрав предварительно кирпичи у заслонки. Смеющийся Грачев очутился в огне. Сквозь отверстие было видно, как горит его гроб – медленно (печь совсем холодная), как весело и гостеприимно встретило его пламя. Пустили газу – и дело пошло еще веселее. Комиссар был вполне доволен: особенно понравилось всем, что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца и поднялась вверх – «Рука! рука! смотрите, рука!» – потом сжигаемый весь почернел, из индуса сделался негром, и из его глаз поднялись хорошенькие голубые огоньки. «Горит мозг!» – сказал архитектор. Рабочие толпились вокруг. Мы по очереди заглядывали в щелочку и с аппетитом говорили друг другу: «раскололся череп», «загорелись легкие», вежливо уступая дамам первое место. Гуляя по окрестным комнатам, я со Спесивцевой незадолго до того нашел в углу… свалку человеческих костей. Такими костями набито несколько запасных гробов, но гробов недостаточно, и кости валяются вокруг. Я поднял одну из них рассыпчатую и написал ею на печной дверце: Б. К. (Борис Каплун). Зачем я это сделал, не знаю, поддался общему отношению к покойникам. Потом это огорчило меня; кругом говорили о том, что урн еще нету, а есть ящики, сделанные из листового железа («из старых вывесок»), и что жаль закапывать эти урны. «Все равно весь прах не помещается». «Летом мы устроим удобрение!» – потирал инженер руки. Я взял кость в карман – и, приехав домой, показал Наталье. Не захотела смотреть. «Грешно!» – и смотрела на меня с неодобрением.
Инженер рассказывал, что его дети играют в крематорий. Стул – это печь, девочка – покойник. А мальчик подлетит к печи и бу-бу-бу! – Это – Каплун, который мчится на автомобиле.
Вчера Мура впервые – по своей воле – произносила па-па: научилась настолько следить за своей речью и управлять ею. Все эти оранжевые голые трупы тоже были когда-то Мурочками и тоже говорили когда-то впервые – па-па! Даже синяя старушка – была Мурочкой.
4 января. Вчера должно было состояться первое выступление «Всемирной Литературы». Ввиду того, что правительство относится к нам недоверчиво и небрежно, мы решили создать себе рекламу среди публики, «апеллировать к народу». Это была всецело моя затея, одобренная коллегией, и я был уверен, что эта затея отлично усвоена Горьким, которому она должна быть особенно близка. Мы решили, что Горький скажет несколько слов о деяниях «Всемирной Литературы». Но случилось другое.
Начать с того, что Горький прибыл в Дом Искусств очень рано. Зашел зачем-то к Шкловскому, где стоял среди комнаты, нагоняя на всех тоску. (Шкловского не было.) Потом прошел ко мне. Я с Добужинским попробовал вовлечь его в обсуждение программы Народных чтений о литературе в деревне, но Горький понес такую скучную учительную чепуху, что я прекратил разговор: он говорил, напр., что Достоевского не нужно, что вместо характеристик Гоголя и Пушкина нужно дать «краткий очерк законов развития литературы». Это деревенским бабам и девкам. Потом пришел Белопольский, Горький еще больше насупился. Только с Марьей Игнатьевной Бенкендорф у него продолжался игривый и интимный разговор. Торопился он выступить ужасно. Я насилу удержал его до четверти 8-го. Публика еще собиралась. Тем не менее он пошел на эстраду, сел за стол и сказал: «Я должен говорить о всемирной литературе. Но я лучше скажу о литературе русской. Это вам ближе. Что такое была русская литература до сих пор? Белое пятно на щеке у негра, и негр не знал, хорошо это или это болезнь… Мерили литературу не ее достоинствами, а ее политическим направлением. Либералы любили только либеральную литературу, консерваторы только консервативную. Очень хороший писатель Достоевский не имел успеха потому, что не был либералом. Смелый молодой человек Дмитрий Писарев уничтожил Пушкина. Теперь то же самое. Писатель должен быть коммунистом. Если он коммунист, он хорош. А не коммунист – плох. Что же делать писателям не коммунистам? Они поневоле молчат. Конечно, в каждом деле, как и в каждом доме, есть два выхода, парадный и черный. Можно было бы выйти на парадный ход и заявить требования, заявить протест, но – приведет ли это к каким-ниб. результатам? Потому-то писатели теперь молчат, а те, которые пишут, это, главным образом, потомки Смердякова. Если кто хочет мне возразить – пожалуйста!»
Никто не захотел. «Как любит Горький говорить на два фронта», – прошептал мне Анненков. Я кинулся за Горьким. – «Ведь нам нужно было совсем не то». И рассказал ему про нашу затею. Оказывается, он ничего не знал. Только теперь ему стало ясно – и он обещал завтра (т. е. сегодня) прочитать о «Всемирной Литературе».
5 января. Вчера Боба, рассматривая шоколадку (на которой выбиты слова Жоржъ Борманъ), сказал: «Как хорошо, что прежде были твердые знаки». – Почему? – «Шоколадки были длиннее. Теперь можно было бы написать „Жорж Борман“ вот на столько короче». Боба вообще прелесть. После скарлатины он бледный, зеленый, сидит что-то клеит, читает Некрасова, вкладывая во все всю свою душу до последнего вершка. Вчера ему Лида рассказала о пружинках: ходят по улицам люди на пружинках, завертываются в саван и грабят других. Он весь день был в страшной ажитации; когда Лида ушла к Ткачатам*, он все беспокоился: когда же Лида вернется домой: вздрагивал, бегал к окну: не идет ли. Говорил М. Б-не: «как ты могла отпустить ее?» Вчера Лида и Коля самочинно явились домой*, – Коля больной, в жару. Во «Всемирной Литературе» проф. Алексеев читал глупый и длинный доклад – об английской литературе (сейчас) – и в этом докладе меня очаровала чья-то статья о Чехове (переведенная из «Аthenaeum’а») – и опять сердце залило как вином, и я понял, что по-прежнему Чехов – мой единственный писатель. В Доме Искусств повторение лекции Горького и Замятина. Но Горький – бесстыдно – не явился.
6 января. Вчера со мной произошло событие, которое так ошеломило меня, что не дало мне заснуть. Путем всяких правд и неправд, многочасовых хлопот я добыл в Красноармейском университете 38 фунтов хлеба, баранину и крупу, завязал в мешок, дотащил до Дома Искусств, буквально падая под тяжестью, – потом достал извозчика и – потерял сверток по дороге. А в этом свертке был весь мой рождественский отдых! Ну, не беда! Хлеб есть покуда. Сазонов дал гуся (вонючего и тощего). Вера Борисовна тоже дала к празднику какие-то великие блага. – Но ведь я хотел уехать и оставить семью обеспеченной!
Боба вчера должен был приготовить примеры подлежащего, стоящего во множественном числе, и сказуемого, стоящего в единственном. Он придумал: Кони – человек. (Анатолий Федорович.)
12 января. Боба читает «Пищу Богов». Слыша, как мы приучаем Мурку «делать пипи на чашечку» – и говорим: «вентилятор… на чашечку, кошечка на чашечку и самовар на чашечку», он сказал: самовар всегда делает на чашечку. – Был я третьего дня у Блока. Тесно: жена, мать, сестра жены, кошкообразная Книпович. О стихах Блока: «Незнакомку» писал, когда был у него Белый – целый день. Белый взвизгивал, говорил – «а я послушаю и опять попишу». Показывал мне парижские издания «Двенадцати». Я заговорил о европейской славе. «Нет, мне представляется, что есть в Париже еврейская лавчонка – которой никто не знает – и она смастерила 12». – «Почему вы пишете ужь, а не ужъ?»* – «Буренин высмеял стихотворение, где ужъ, приняв за живого ужа». – «Что такое у вас в стихах за “звездная месть”?» – «“Звездная месть” – чепуха, придуманная черт знает зачем, а у меня было раньше: “ах, как хочется пить и есть”».
«Мой Христос в конце “Двенадцати”, конечно, наполовину литературный, – но в нем есть и правда. Я вдруг увидал, что с ними Христос – это было мне очень неприятно – и я нехотя, скрепя сердце – должен был поставить Христа».
Он показал мне черновик «Двенадцати» – удивительно мало вариантов отвергнутых. Первую часть – больше половины – он написал сразу – а потом, начиная с «Невской башни», «пошли литературные фокусы». Я задавал ему столько вопросов о его стихах, что он сказал: «Вы удивительно похожи на следователя в Ч. К.», – но отвечал на вопросы с удовольствием*. «Я все ваши советы помню, – сказал он мне. – Вы советовали выкинуть куски в стихотворении “России”, я их выкину. Даты поставлю». Ему очень понравилось, когда я сказал, что «в своих гласных он не виноват»; «да, да, я их не замечаю, я думаю только про согласные, отношусь к ним сознательно, в них я виноват. Мои “Двенадцать” и начались с согласной ж:
Уж я ножичком Полосну, полосну».16 января. Злоба к Горькому. Вчера во «Всемирной Литературе» швейцар говорил мне: «Когда, К. И., мы будем их бить?» и со сладострастием ткнул в воздух кулаком. «Бог не даст себя поруганию!» Я спросил: неужели всех? А Горький? – «Что ж Горький? Горькому первому! Он за жидов первый. Вот сколько лет у него была Наташа, служанка, а назвала Израилевича жидом – он ее и выгнал моментально!» Я знал Наташу: кроткая и работящая. Сколько верст она делала в день из кухни в прихожую, открыть двери, отозваться на телефонный звонок. После пропажи денег у Горького – ей сказали, чтобы она никого не пускала в кабинет. Пришел Израилевич. Она не пустила его. Он рассвирепел: дура! Мерзавка! Она и назвала его жидом.
2 февраля. Гумилев – Сальери, который даже не завидует Моцарту. Как вчера он доказывал мне, Блоку, Замятину, Тихонову, что Блок бессознательно доходит до совершенства, а он – сознательно. Он, как средневековый схоласт, верует в свои догматы абсолютно прекрасного искусства. Вчера – он молол вздор о правилах для писания и понимания стихов. – Ревизия. Боба читает «Гайавату». – Коля у Лебедева. – «Роста». – В своей каторжной маяте – работая за десятерых – для того чтобы накормить 8 человек, которых содержу я один, – я имел утренние часы для себя, только ими и жил. Я ложился в 7–8 часов, вставал в 4 и писал или читал. Теперь чуть я сяду за стол, Марья Борисовна несет ко мне Мурку – подержи! – и пропало все, я сижу и болтаю два-три часа: кисанька, кисанька мяу, мяу, кисанька делает мяу, а собачка: гав, гав, собачка делает гав, гав, а лошадка но, но! гоп! гоп! – и это каждый день. Безумно завидую тем, кто имеют хоть 4 часа в день – для писания. Это время есть у всех. Я один – такой проклятый. После убаюкивания Мурки я занимаюсь с Бобой. Вот и улетает мое утро. А в 11 час. куда-нибудь – в Петросовет попросить пилу для распилки дров, или в Дом Ученых, не дают ли перчатки, или в Дом Литераторов – нет ли капусты, или в Петрокомнетр, когда же будут давать паек, или на Мурманку – нельзя ли получить продукты без карточки и т. д. А воинская повинность, а детские документы, а дрова, а манная крупа для Мурочки – из-за фунта этой крупы я иногда трачу десятки часов.
3 февраля. Вчера в Доме Ученых встретил в вестибюле Анну Ахматову: весела, молода, пополнела! «Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока – для вашей девочки». Вечером я забежал к ней – и дала! Чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому – бутылку молока!
6 февраля 1921 г. Вчера первый успех 16-летнего Коли на литературном поприще. Третьего дня он был в «Росте» и получил заказ написать стишки о поддельной «Правде», якобы выпускаемой в Берлине. Вчера утром стишки были написаны – в форме частушек – и вот Колю одобрили, стишки приняли, гонорар в 8 тысяч обещали выдать в понедельник и заказали пьесу к понедельнику. В субботу заказали, а в понедельник должна быть готова! Во вторник будет поставлена в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Коля так ошалел от восторга, что побежал по Невскому как угорелый. Было очень скользко, он с разбегу упал на панель и не заметил. «Продолжаю думать о своем. Не прерываю мыслей». Встал и опять – бац. Встал и опять – бац! И только тогда заметил, что падал. Прохожие с удивлением смотрят: «падает, а на лице никакого выражения!..» – У Мурки каждый день новые причуды. Сегодня утром она впервые обратила внимание на свою тень. Тень от огонька – на стене. Увидела – и потянулась руками, хотела ухватиться за тень и отодрать ее от стены. – Замечательно, что изо всех игрушек, которые у нее есть, она больше всего любит спичку – обгорелую. Всякий ее крик можно унять, дав ей в руки спичку. – Вчера Добужинский рассказывал, что в Москве ходячее слово: Твербульпампуш. Т. е. «Тверской бульвар памятник Пушкина». Назначая свидание, говорят: У Твербульпампуша. Добужинский как-то сказал: я был в восторге… – Восторге? – Это что за учреждение? – Приехал из Берлина Гржебин. Опять возникли слухи о М. Игн. Бенкендорф, – будто она агент чрезвычайки. Странное у нее свойство: когда здесь были англичане, они были уверены, что она немецкий шпион. Большевики считают ее белогвардейской ищейкой. Я не удивлюсь, если окажется, что она и то, и другое, и третье… Написав пьесу, Коля пошел слушать лекцию Пумпянского у Тани Зейденберг. Гонорар за слушание лекции – полено – для растопки дров.
9 февраля. Вчера вечером я был взволнован до слез беседой со старушкой Морозовой, вдовой Петра Осиповича. Меня позвали к ней вниз, в коридор, где живут наиболее захудалые жильцы Дома Искусств. Она поведала мне свое горе: после Петра Осиповича осталась огромная библиотека, стоящая несколько миллионов – а может быть и миллиард. Комиссариат хочет разрознить эту библиотеку: часть послать в провинцию, в какой-то нынешний университет, часть еще куда-то, а часть – отдать в Институт живого слова – Гернгросу. – А Гернгрос жулик! – восклицает она. – Он на Александрийской сцене недаром так хорошо играет жуликов. Он сам прохвост! И я ему ни одной книжки не дам. Мое желание отдать всю библиотеку бесплатно Второму педагогическому институту, что на площади св. Марка («ах, нет, не Марка, а Маркса, я все путаю!»). В этом институте покойный Петр Осипович читал, там его любили, я хочу всю библиотеку отдать бесплатно в этот институт. – Но ведь Гернгрос вам заплатит! – Не хочу я книгами своего мужа торговать. Я продам его шубу, брюки продам, но книг я продавать не желаю. Я лучше с голоду помру, чем продавать книги…
И действительно помирает с голоду. Никаких денег, ни крошки хлеба. Меня привела к ней добрейшая душа (сестра художника) Мария Александровна Врубель*, которая и сказала ей, что, увы, хлеба она нигде не достала. И вот, сидя в холодной комнатенке, одна, седая, хилая старушонка справляет голодную тризну в годовщину со дня смерти своего Петра Осиповича. Один только Модзалевский вспомнил об этой годовщине – и прислал ей сочувственное письмо.
– Я каждый день ходила в Комиссариат просвещения к Кристи. И он велел меня не принимать. – Должно быть, у вас много времени, если вы каждый день являетесь ко мне на прием, – говорил он. – И буду являться, буду, буду, не желаю я, чтобы вы отдавали библиотеку прохвосту. Только через мой труп вы унесете хоть одну книжку Петра Осиповича к Гернгросу.
Это очень патетично: вдова, спасающая честь библиотеки своего мужа. Она подробно рассказывала мне о смерти Петра Осиповича; а я слушал и холодел, она так похожа на Марию Борисовну – и весьма возможно, даже несомненно, что лет через 10 моя вдова будет таким же манером, в холодной богаделенской комнатке, одна, всеми кинутая, будет говорить и обо мне.
13 февраля 1921 г. Только что в 1 час ночи вернулся с Пушкинского празднества в Доме Литераторов. Собрание историческое. Стол – за столом Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Кристи, Кони, Александр Блок, Котляревский, Щеголев и Илья Садофьев (из Пролеткульта). Должен был быть Кузьмин из Наробраза, но его не было. Жаль, за столом не сидел Ал. Ремизов. Пригласили и меня, но я отказался. Впрочем, меня пригласили в задний ряд, где сидели: Волынский, Губер, Волковыский и др. Речь Кони (в котором я почему-то разочаровался) – внутренне равнодушна и внешня. За дешевыми ораторскими фразами чувствовалась пустота. Стишки М. Кузмина, прошепелявенные не без ужимки, – стихи на случай – очень обыкновенные. После Кузмина – Блок. Он в белой фуфайке и в пиджаке. Сидел за столом неподвижно. (Еще до начала спрашивал: – Будет ли Ионов? И вообще из официальных кругов?) Пошел к кафедре, развернул бумагу и матовым голосом стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновенья поэта, как душат его теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а нам (поэтам) теперь – смерть*. Сказано это было так прикровенно, что некоторые не поняли. Садофьев, напр., аплодировал. Но большинство поняло и аплодировало долго. После в артистической – трясущая головой Марья Валентиновна Ватсон, фанатичка антибольшевизма, долго благодарила его, утверждая, что он «загладил» свои «Двенадцать». Кристи сказал: «Вот не думал, что Блок, написавший “Двенадцать”, сделает такой выпад». Волынский говорил: «Это глубокая вещь». Блок несуетливо и медленно разговаривал потом с Гумилевым. Потом концерт. Пела Бриан «письмо Татьяны» – никакого на меня впечатления. Когда я сказал, что Бриан – акушорка, Волынский отозвался: «Ну вот, вы недостаточно чутки…» Блок вдруг оживился: да, да, акушорка, верно! – и даже благодарно посмотрел на меня. Волынский: «Значит, вы очень чутки». Потом заседание «Всероссийского Союза Писателей» – о моем письме по поводу Уэльса. Спасибо всем. Каждый сочувствовал мне и хотел меня защитить. Очень горячо говорил Шкловский, Губер, Гумилев. Я и не ожидал, что люди вообще могут так горячо отозваться на чужую обиду*. Губер живо составил текст постановления, и я ушел с заседания в восторге. От восторга я пошел проводить Мишу Слонимского, Шкловского, Оцупа – вернулся домой и почти не спал. – Опять идет бесхлебица, тоска недоедания. Уже хлеб стал каким-то редким лакомством – и Коле Мар. Бор. ежеминутно должна говорить: «Зачем ты взял до обеда кусок? Отложи». Коля пишет в «Росте» стихи, но они оказывются нецензурными. Их не только не принимают, но делают ему выговоры за белогвардейство.
14 февраля. Утро – т. е. ночь. Читаю – «Сокровище смиренных» Метерлинка, о звездах, судьбах, ангелах, тайнах – и невольно думаю: а все же Метерлинк был сыт. Теперь мне нельзя читать ни о чем, я всегда думаю о пище; вчера читал Чехова «Учитель словесности», и меня ужасно поразило то место, где говорится, что они посетили молочницу, спросили молока, но не пили. Не пили молока!!! Я сказал детям, и оказывается, они все запомнили это место и удивлялись ему, как я. – (В последнее время со мной странное: даже в мелочах не могу лгать. Какая-то нездешняя сила говорит: не лги.) Боба начал писать стихи – былину о пружинщиках*. Третьего дня он впервые был на уроке у новой учительницы. – А все же Метерлинк – велосипедист мистицизма. Я запретил Коле сотрудничать в «Роста», потому что там каждое его стихотворение считается контрреволюционным. Когда Маяковский звал Колю туда, мы думали, что там можно будет работать в поэтической и честной среде. Оказывается, казенщина и смерть. Завтра я еду вместе с Добужинским в Псковскую губернию, в имение Дома Искусств Холомки, спасать свою семью и себя – от голода, который надвигается все злее. На улице мальчишка:
Если, баба, ты не дашь, Я устрою саботаж.18 февраля 1921. Холомки. Вот частушки, которые пела нам (мне, Попову и Добужинскому) 18-летняя Нюша, в избе дяди Васи.
Свою милую подружку Ни на кого не сменю, Вспоминаю тую вербочку, Которую люблю. Цветочки миленьки-красивеньки Во полюшке во ржи, Не уважала и не буду, Мой кудриночка, не жди._______________
Говорят, вербочка женится, Не люби, подруга, дальнего. Венчается – не жаль, Цветик дальний – сухота. Немножко срамовато, Люби своего деревенского, Что гулял да и не взял. Увидишь – навсегда._______________
Женись, мой забавочка, Тебе добрая путь, За любовь куплю рубашку, За страданье вышью грудь. Все забава коло прялки. Говори(т): скорей пряди! Я в ответ ему сказала: Не твое дело, сиди._______________
Все забава первый раз, Сказал: капризная горазд. Интересная мятлинка В полюшке травинка. За людей гулять бросаю, Моя ягодиночка. Какая есть, такая буду, Уважать тебя не буду.Кончив, Нюша сказала: «вот я вам сколько насобачила!» Она и большая актерка. Балагурит. Говорит, как в театре. Ее тетка дала нам молока два кувшина; – молоко топленое – восторг. И говорит – как в романе. Вообще, я на 4-м десятке открыл деревню, впервые увидал русского мужика. И вижу, что в основе это очень правильный жизнеспособный несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. Главная его сила – доброта. Я никогда не видел столько по-настоящему добрых людей, как в эти три дня. Баба подарила княгине Гагариной валенки: на, возьми Христа ради. Сторож у Гагариных – сейчас из Парголова. «Было у меня пуда два хлеба, солдаты просили, я и давал; всю картошку отдал и сам стал голодать». А какой язык, какие слова. Вчера сообщили, что около белого дома – воры. Мы – туда. Добужинский, княгиня, княжна, мужики. – Сторож: «Мы их еще теплых поймаем». Жаловались на комиссара, который отобрал коров: ведь коровы не грибы, от дождя не растут. Рассказывали про митинг. На митинге один мужик поднялся и стал говорить. Председатель стал звонить, чтобы прекратить его речь. «Ладно, ладно! мой поезд не уйдет». Считаю, что для Коли и Лиды (и особенно Бобы) будет полезнее всего провести среди этих людей лето.
Здесь все чудесно – только холод лютый. Третий день у меня все внутренности дрожат. Я сегодня сверх пальто надел ротонду княгини – и в городе про меня сказали: страшнее покойника! Очень забавны плакаты в городе Порхове. – В одном окошке выставлено что-то о сверхчеловеке и подписано: «Так говорил Заратустра». Заратустра в Порхове! Сегодня у мужика за лошадью. Как бабы прядут – а дед слепой никуда не глядит.
20 февраля. Добужинский дома – игрив и весел. Вечно напевает, ходит, танцуя. Зашел ко мне в комнату, рассказал о священнике, который икнул в вагоне и сказал: это я ротом. В первый же день постучал в мою дверь – и просунул лицо с напяленной маской для губ – бумажными оскаленными зубами. Любит мистификации, игры слов и т. д. Его сын Додя – с очень милыми смешными волосами – затейливый и способный подросток. Сколько колпачков он сделал на керосиновые светлячки! Как дивно он разрисовал эти колпачки – квадратиками, аккуратненькими – на одном квадратике змея, на другом очки, на третьем – лягушка, на четвертом крендель и т. д. Им отлично сделаны из проволоки приспособления для этих колпачков – а как он пилит, рубит, бегает на лыжах, носит воду. В хозяйстве он незаменимый помощник. – О, как хочется спать. Мозги склеенные. Ночью не сплю, а чуть день, чуть сяду за стол – и в сон. Так и валюсь со стула. Думаю, это от пищи. Давно я не был так сыт, как теперь. Пью молоко, ем масло!!! От непривычки – тяжелею очень. Хочу записать о Софье Андр. Гагариной. В первый раз она не произвела на меня впечатления и даже показалась дурнушкой – но вчера очаровала своей грацией, музыкальностью движения, внутренним тактом. В каждой ее позе – поэзия. Но что она говорит? А говорит она следующее: я давала вашим коровам свою солому – а вы отдаете мне позем, который получился от сена. Позем – это навоз, который не убирался под коровами всю зиму. Практично и демократично. Обожают С. А. мужики очень. Она говорит не мужики, а деревенские. Они зовут ее княжна, княгинька и Сонька. Она для них свой человек, и то, что она пострадала, сделало ее близкой и понятной для всех. Княгиня Мария Дмитриевна, вдова директора Политехнического института, показывала вчера те благодарственные приветственные адреса, которые были поднесены старому князю во время его борьбы с правительством Николая. Среди студенческих подписей есть там и подпись Евг. Замятина. Сегодня видел деревенскую свадьбу. Сани шикарные, лошади сытые. Мужики и бабы в санях на подушках. Посаженый отец вел невесту и жениха, как детей, по улице. Ленты, бусы, бубенцы – крепкое предание, крепкий быт. Русь крепка и прочна: бабы рожают, попы остаются попами, князья князьями – все по-старому на глубине. Сломался только городской быт, да и то возникнет в пять минут. Никогда еще Россия, как нация, не была так несокрушима.
Княжна говорит: я одним пыхом.
22 февраля. Какой изумительный возница – вез меня и Добужинского в Порхов. «Вы такие образованные люди, доброкачественные люди, и как вы меж собою уважительно, и я вам молока – не за деньги, а так! и гороховой муки!» – словом, нежный, синеглазый, простодушный. Зовут его Федор Иванович. Был он в Питере – погнал «наш товарищ Троцкий». И опять то же самое: отдал весь свой хлеб – солдатам. Я жую, а они глядят. Я и отрезал, и маслом намазал. Так один даже заплакал. Другие за деньги продавали, а я – Христос с ним!
Здесь в Холомках – мы живем забавнейшей жизнью. У Добужинских есть немка-бонна, Анна Густавна. У Гагариных – француженка. Анна Густавна – благороднейший человек – но деспотический, прямолинейный до жестокости. Сколько ни просят ее Добужинские резать хлеб тонкими ломтиками (к обеду), она режет толстыми, потому что убеждена, что «так лучше!». Она всегда убеждена в своей правоте, в правильности и целесообразности всех своих поступков. С нею спорить невозможно. Она считает всех неизмеримо глупее себя. Но работница она чудесная, гармоничный, ценный человек, и Добужинские подчиняются ее деспотизму без особого бунта. У Гагариных такое же владычество Франции. Мадам управляет их домом. Ей, например, не нравится, что я беру их дрова, и она запретила им выдавать мне топливо, так что старуха Гагарина, Марья Дмитриевна, тайком от мадамы воровала сама у себя дрова, чтобы затопить мне печку. Словом, весь дом во власти какой-то Антанты. Замечательно, что немку зовут Анна, а француженку Жанна.
Вчера я читал в Порхове – в библиотеке. Брился у парикмахера Федора Федоровича из кантонистов, – которому 87 лет. Бритва пляшет в его дрожащих руках – но выбрил он чисто и скоро. Я спросил, что он делал, что дожил до такой старости. Он ответил:
– Никогда не пил водки. В рот не брал. Разве иногда графинчик!
Женился он вторично – когда ему было 65 лет. Весел, ругает советскую власть и спрашивает: «когда это кончится?» Как будто собирается жить и жить.
24 февраля. Ах, какая милая княжна. Вчера, тронувшись моими печалями, что мне нечего привезти домой, она предложила мне отсыпать гороховой муки, овсянки и т. д. «Я получила за лечение, берите». Потом пошла со мною по снегу за 4 версты в деревню Турово – к знакомым мужикам – к Игнатию Яковлевичу Яковлеву. Игнатий Як. без единого седого волоса, красавец, с белыми зубами – сидит и плетет лапти – художественно. – Да сколько вам лет? – «А мне две семерки: 77. И не будь моя баба смямшись, я бы еще ого-го! А вот отцу моей бабы в прошлом годе стукнуло сто – ничего – живет». Мы достали мой пиджак, и Маша, молодая крестьянка, побежала по избам – не купит ли кто, причем за пиджак мы потребовали 3 ф. масла, 15 ф. шпику и 10 ф. крупы. Скоро какая-то курносая краснощекая впилась в пиджак – и мяла, щупала его, рассматривала каждую ворсинку, отходила от него, примеривала его на всех мужиков и наконец пошла за провиантом. Между тем в избу вошел столетний. Медленно, неуверенно прошел он к лавке, сел – я подбежал к нему. Поздоровался. Он взял мою руку и потянул поцеловать. «Здравствуй, миленый, жаланный сыночек… И скажи, кормилец, когда это кончится? Я, жаланный, помню крепостное право, мне лет тридцать было, как помещики рушились, а такого не помню… Где ж это видано?.. (И он отчетливо стал перечислять, кого убили в эту революцию.) Попа убили, попа. Неужели за попа ничего не будет? Вот при крепостном праве старуха была помещица (и он рассказал, как прежде помещики жалели людей)… А теперь?»
– Теперь свобода, – сказал 77-летний. – Свобода в животе.
Тут пришли от бабы сказать, что она отказывается от пиджака. Опять тоска, канитель, и после 3-х часов канители пиджак остался при мне, хотя княжна и взяла на счастье красный мешочек.
Третьего дня я с Додей Добужинским ночевал в Порхово в библиотеке. Утром осматривал общежитие. Дети спят по двое на одной кровати, в крошечной комнате – 10 человек. Нас обратно везла баба, которая рассказала, как ее дети без сапог побежали однажды к мосту на реку, потому что разнесся слух, что поймали пружинщика и на два часа посадили его, голого, в снег. Духовные развлечения Порхова.
При нас одна порховская девица говорила по телефону. Телефонную барышню вызывают прямо по имени: «Нюра, а, Нюрь! дай-ко мне»… Самое аристократическое развлечение – катание с горы. Барышня так жантильно говорила по телефону об этом катаньи, будто это раут у британского посла.
Когда мы с Додей спрашивали в Порхове дорогу – баба сказала: это в самом цилиндре города.
4 марта 1921. Когда мы с Добужинским ехали обратно в Петербург, мы попали в актерский вагон. Там ехал «артист» Давидович – с матерью, которую он тоже записал в актрисы «для продовольствия». У матери была очень пышная грудь, которая вдруг закокала: ко-ко-ко – и высунулись куриные головы! Очень забавно рассказывала в пути Е. О. Добужинская, какая у нее многолетняя безмолвная полемика с немкой Анной Густавной. Анна Густавна считает нужным стлать ковер одной стороной, а Е. О. – другой. И утром Анна Густавна стелет так-то, а вечером Е. О. – так-то. Друг другу они ничего об этом не говорят. – Газетные сплетни обо мне – будто я бывший агент – возмутили Профессиональный союз писателей, который единодушно постановил выразить свой протест. Протест был послан в «Жизнь Искусства» вместе с моим письмом о Уэльсе – и там Марья Федоровна Андреева уничтожила его своей комиссарской властью. Вчера в Лавке писателей при Доме Искусств был Блок, Добужинский, Ф. Ф. Нотгафт. Блок, оказывается, ничего не знал о кронштадтских событиях*, – узнал все сразу и захотел спать. «Я всегда хочу спать, когда события. Клонит в сон. И вообще становлюсь вялым. Так во всю революцию». И я вспомнил, что то же бывало и с Репиным. Чуть тревога – спать! Добужинский тоже говорит: – Я ничего не чувствую… Наша Наташа торжествует: «бегут уже жиды? Бьют их?», хотя ей-то евреи ничего не сделали и большевизм принес даже выгоду. Но она вчера всю ночь молилась Богу «об уничтожении жидов». А я не сплю – и голова болит. Вчерашнее происшествие с Павлушей очень взволновало детей*.
7 марта. Необыкновенный ветер на Невском, не устоять. Вчера меня вызвали к Горькому – я думал, по поводу журнала, оказалось – по поводу пайков. Кристи, Пунин, представители Сорабиса, Изо, Музо и т. д. Добужинский, Волынский, Харитон и Волковыский – в качестве частных лиц с правом совещательного голоса. Заговорили о комиссиях, подкомиссиях и т. д., и я ушел в комнату Горького. Горький раздражительно стучал своими толстыми и властными пальцами по столу – то быстрее, то медленнее – как будто играл какой-то непрерывный пассаж, иногда только отрываясь от этого, чтобы послюнить свою правую руку и закрутить длинный, рыжий ус (движение судорожное, повторяемое тысячу раз). Мы с Замятиным сели за его стол – на котором (на особом подносике) дюжины полторы длинных и коротких, красных и синих карандашей, красные (он пишет только – красными), Ибн Туфейль, только что изданный «Всемирной Литературой», – все в дивном порядке. На другом столе – груда книг. «Вот для библиотеки Дома Искусств… я отобрал книги… вот…» – сказал он мне. Он сух и мне чужд. Мы отлично и споро занялись с Замятиным. Замятин, как всегда, сговорчив, понятлив, работящ, easy going[164] – отобрали стихи, прозу. Потом пришел Добужинский и Горький. Горькому приносили письма (между прочим от Философова?), он подписывал, выбегал, вбегал – эластичен, как всегда (у него всегда, когда он сидит, чувствуется готовность встать и пойти: зовут, напр., к телефону или кто пришел, он сейчас: идет, скажет и назад – продолжает ту же канитель). «Слаб номер “Дома Искусств”. Как сказал бы Толстой – без изюминки. Да, да. Нет изюминки. Зачем статья Блока?..* Нет, нет. Как будто в безвоздушном пространстве» (он сделал лицо нежным и сладким, чтобы не звучало как выговор). Я сказал ему, что у публики другое чувство, что в Доме Литераторов, напр., журнал очень хвалили, что я получаю приветственные письма, что статья Замятина «Я боюсь» пользуется общим фавором, и разговор, как всегда у Горького, перешел на политику. И, как всегда, он понес ахинею. Наивные люди, редко встречавшие Горького, придают поначалу большое значение тому, что говорит Горький о политике. Но я знаю, с каким авторитетным и тяжелодумным видом он повторял в течение этих двух лет самые несусветные сплетни и пуффы. Теперь он говорил об ультиматуме, о том, что в 6 часов может начаться пальба, о том, что большевикам несдобровать. Заговорили об аресте Амфитеатрова. «Боюсь, что ему помочь будет трудно, хотя какая же за ним вина? Я понимаю Дан – тот печатал прокламации и проч., но Амфитеатров… одна болтовня…» То же думаю и я. Амфитеатрову нужна только реклама, потом 20 лет он будет в каждом фельетоне писать об ужасах Чрезвычайки и изображать себя политическим мучеником. Ну, пора за Блока – уже рассвело. Боюсь, что он у меня вял и мертв.
9 марта. Среда. Больше всего поразило меня в деревне то, что мужик, угощая меня, нищего, все же называл меня «кормилец». «Покушай, кормилец…» «Покушай, кормилец…» В воскресение был я у Гржебина. Он лежит зеленый – мертвец: его доконали большевики. Он три года уложил работы, чтобы дать для России хорошие книги; сколько заседаний, комиссий для выработки плана, сколько денег, тревог. Съездил за границу, напечатал десятки книг – в переплетах, с картинками, и – теперь все провалилось. «Государственное издательство» не хочет взять у него эти книги (которые были заказаны ему Гос. изд-вом), придираясь к каким-то пустякам. Все дело в том, что во главе изд-ва стоит красноглазый вор Вейс, который служил когда-то у Гржебина в «Шиповнике». Теперь от него зависит судьба этого большого и даровитого человека. – Вчера было заседание Профессионального союза писателей о пайках. Блок сидел рядом со мною и перелистывал Гржебинское издание «Лермонтова», изданного под его, Блока, редакцией*. «Не правда ли, такой Лермонтов, только такой? – спросил он, указывая [на] портрет, приложенный к изданию. – Другие портреты – вздор, только этот…» Когда голосовали, дать ли паек Оцупу, Блок был против. Когда заговорили о Павлович – он: «Непременно дать». Мы с Замятиным сбежали с заседания «Всемирной» и бегом в Дом Искусств в книжный пункт. Я хочу продать мои сказки – т. к. у меня ни гроша, а нужно полтораста или двести тысяч немедленно. Каждый день нам грозит голод. Ученого пайка не дали на этой неделе, когда Нюша захотела получить паек на Васильевском Острове у курсантов, ее арестовали. Туда без пропуска ходить теперь нельзя. Был я у Горнфельда. «Извините, я не открываю глаз, буду слушать вас с закрытыми глазами, – сказал он, – потому что у меня» [край страницы оторван. – Е. Ч.]. Действительно, вся комната наполнена чадом. – Изо всех писателей лучше всех живется Ремизову: их двое, муж и жена. Получают они четыре пайка, имеют казенную квартиру в советском отеле – отопление, освещение, прислуга, никаких забот. Отовсюду им подачки. А между тем он всегда ноет, жалуется, клянчит, хнычет. Замятин говорит, что когда ни придешь к нему, он жалуется на бесхлебицу. Сахару ни за что не даст. А между тем я сам видел, как из Петросовета он взял столько провизии, что ему дали извозчика. В гостях у него на днях была Равич – и потом сказала Белицкому [недописано, следующая тетрадь № 4 – начинается с трех разрозненных выдранных листов. – Е. Ч.].
…говорил он. – Сейчас пойду в Дом Литераторов. Оттуда к финнам, отнесу им Репина, оттуда к miss Weiss – американке-еврейке, тупой, претенциозной и сентиментальной.
Правлю корректуру Синклера. Какая гадость.
30 марта. Завтра мое рождение. Сегодня все утро читал нью-йоркскую «Nation» и лондонское «Nation and Athenaeum». Читал с упоением: какой культурный стиль – всемирная широта интересов. Как остроумна полемика Бернарда Шоу с Честертоном. Как язвительны статьи о Ллойд Джордже!
Новые матерьялы о Уоте Уитмэне! И главное: как сблизились все части мира: англичане пишут о французах, французы откликаются, вмешиваются греки – все нации туго сплетены, цивилизация становится широкой и единой. Как будто меня вытащили из лужи и окунули в океан!
Отныне я решил не писать о Некрасове, не копаться в литературных дрязгах, а смело приобщиться к мировой литературе. Писать для «Nation» мне легче, чем для «Летописи Дома Литераторов». Буду же писать для «Nation». Первое, что я напишу, будет «Честертон».
31 марта. Я вызвал духа, которого уже не могу вернуть в склянку. Я вдруг после огромного перерыва прочитал «Times» – и весь мир нахлынул на меня.
1 апреля. Мое рождение. Месяца два тому назад Аким Волынский объявил, что ему очень не нравится то, что лекции в Доме Искусств ведутся без программы. Сегодня одна, завтра другая. Я тогда же сказал, что иначе нельзя. У русского общества нет идеологии. Интеллигенция распылена. Нет единой Темы, но есть много тем, и я считаю огромной своей заслугой, что время [недописано. Следующая страница отдельная, вырванная из тетради. – Е. Ч.].
…Я опять не спал: Замятин сказал мне, что в Союзе писателей пронесся слух, будто я заработал на издании Репина, между тем как я ни одной копейки за работу не получил и не намерен получить. Это так взволновало меня, что я всю ночь лежал с головной болью. Я начал преподавать Зине географию и поражен ее памятью – она сразу запоминает названия рек, городов, стран. С одного разу, по слуху! «Far from the madding Crowd»[165] блаженство, но автор не сливается с героями (как в «Анне Карениной»), а стоит в стороне от них – щеголяя изысканностью своих фраз, своим классическим образованием и проч. Вчерашний фельетон Лемке в «Правде» сослужил огромную службу журналу «Начала». Книжки, о которых печатаются ругательства в «Правде», тотчас же привлекают сочувственное внимание публики. Стоило только московским «Известиям» напечатать ругательства по адресу «Петербургского сборника», как книга эта пошла нарасхват! До чего гнусен фельетон О. Л. Д’Ора о неизданных произведениях Пушкина! Кто мог бы поверить, что сам О. Л. Д’Ор – недурной и неглупый человек. Я вчера как раз встретился с ним – и мы мило проболтали полчаса. Он только некультурен, темен, и озлобленно темен. Помню, он искренне считал Падеревского жуликом и утверждал, что он так же может бить по клавишам и что у него получится та же музыка. Все дело в силе удара! – [Следующая страница отдельная, вырванная из тетради. – Е. Ч.]
25 апреля. Сегодня вечер Блока*. Я в судороге. 3 ночи не спал. Есть почти нечего. Сегодня на каждого пришлось по крошечному кусочку хлеба. Коля гудел неодобрительно. – Беда в том, что я лекцией своей совсем недоволен. Я написал о Блоке книгу и вот теперь, выбирая для лекции из этой книги отрывки, замечаю, что хорошее читать нельзя в театре (а мы сняли ТЕАТР. Большой Драматический, бывш. Суворинский, на Фонтанке), нужно читать общие места, то, что похуже. Это закон театральных лекций. Мои многие статьи потому и фальшивы и неприятны для чтения, что я писал их как лекции, которые имеют свои законы – почти те же, что и драма. Здесь должно быть действие, движение, борьба, азарт – никаких тонкостей, все площадное. Вчера я позвал Колю – и с больной головой прочитал ему свою лекцию. Если бы он сказал: хорошо, я лег бы спать и вообще отдохнул, но он сказал плохо и вообще во все время чтения смотрел на меня с неприязнью. «Все это не то. Это не характеристика. Все какие-то фразы. Блок совсем не такой. И как отрывисто. Прыгают какие-то кусочки».
Его приговор показался мне столь верным, что я взмылил себя кофеином и переклеил все заново. Но настоящей лекции опять не получилось… Уже половина седьмого. Я совершил туалет осужденного к казни: нагуталинил ботинки, надел одну манжету, дал выгладить брюки и иду. Сердце болит – до мерзости. Через ½ часа начало. Что-то я напишу сюда, когда вернусь вечером? Помоги мне Бог. Сегодня мне вообще везло. Я добыл чашки для чаепития, стаканы, восстановил апрельский мурманский паек, – и вот иду!
_______________
А вечером ужас – неуспех. Блок был ласков ко мне, как к больному. Актеры все окружили меня и стали говорить: «наша публика не понимает» и пр. Блок говорил: «Маме понравилось», но я знал, что я провалился. Блок настоял, чтобы мы снялись у Наппельбаума*, дал мне цветок из поднесенных ему, шел со мной домой – но я провалился.
[С новой страницы, после вырванных листов. – Е. Ч.]. Бедные дети. Встать утром – и один чай! Бобе насилу наскребли какие-то два ломтика в дорогу! Коля сейчас сочинил четверостишие:
Чтоб помочь икоте, Котик, Разотри-ка свой животик, Чтобы съеденное там Разместилось по местам.Пасхальная ночь. С 30 апреля на 1 мая. Зазвонили. Складываю чемодан. Завтра еду. Ну ж и странный день! Если бы у Соломона Грушевского сегодня не делали обрезания сыну, я умер бы с голоду. Но увидев у его дверей экипаж и расспросив кучера, в чем дело, я поднялся к Соломону Грушевскому – и был угощаем мацой, лепешками, кофеем. Произошло это так: утром – я почти не ел ничего. Писал целую кучу бумаг для Горького – чтобы он подписал. Потом в Дом Искусств: продиктовал эти бумаги Коле, он писал их на машинке. По дороге вспоминал, как Пильняк ночью говорил мне:
– А Горький устарел. Хороший человек, но – как 1921 писатель устарел.
Из Дома Искусств – к Горькому. Он сумрачен, с похмелья очень сух. Просмотрел письма, приготовленные для подписи. «Этих я не подпишу. Нет, нет!» И посмотрел на меня пронзительно. Я залепетал о голоде писателей… «Да, да, вот я сейчас письмо получил – пишут» (он взял письмо и стал читать, как мужики из деревни в город несут назад портьеры, вещи, вышивки, которые некогда они выменяли на продукты, – и просят в обмен – хлеба и картошки). Я заговорил о голоде писателей. Он оставался непреклонен – и подписал только мои бумаги, а не те, которые составлены Сазоновым и Иоффе. Оттуда я к Родэ. Гигант, весь состоящий из животов и подбородков. Черные маслянистые глаза. Сначала закричал: приходите во вторник, но потом, узнав, что я еду завтра, милостиво принял меня и даже удостоил разговора. Впрочем, это был не разговор, а гимн. Гимн во славу одного человека, энергичного, благородного, увлекающегося, самоотверженного, – и этот человек – сам Родэ. – У меня капиталы в City Bank, в Commercial American Trust…[166] и т. д. Я человек независимый. Мне ничего не нужно. Я иностранный подданный и завтра же мог бы уехать за границу – и жил бы себе припеваючи… Но меня влечет творчество, грандиозный размах. Что будут делать мои ученые (он раз восемь сказал «мои ученые»). Я все создал сам, я начал без копейки, без образования, а теперь у меня миллионы долларов, вы понимаете? – теперь я знаю 8 языков – и т. д., и т. д. Когда я уходил от него, он (не фигурально) похлопал меня по плечу и сказал:
– Жаль, что уезжаете. Я бы вас угостил. Я всегда почитал ваш талант.
Квартира у него длинная, узкая. Есть лакей, которому он сказал:
– Можешь идти. Но в 12 час. придешь одевать меня к заутрене.
В гостиной куличи и выпивка.
– Это для прислуги, – сказал он. И действительно, приходили какие-то люди, и он наделял их куличами.
1-ое мая. Поездка в Москву. Блок подъехал в бричке ко мне, я снес вниз чемодан, и мы поехали. Извозчику дали 3 т. рублей и 2 фунта хлеба. Сидели на вокзале час. У Блока подагра. За два часа до отбытия, сегодня утром, он категорически отказался ехать, но я уговорил его. Дело в том, что дома у него плохо: он знает об измене жены, и я хотел его вытащить из этой атмосферы. Мы сидели с ним на моем чемодане, а на площади шло торжество – 1-го мая. Ораторы. Уланы. Он встал и пошел посмотреть – вернулся: нога болит. В вагоне мы говорили про его стихи.
– Где та, которой посвящены ваши стихи «Через 12 лет»*.
– Я надеюсь, что она уже умерла.
– Сколько ей было бы лет теперь? Девяносто?
– Я был тогда гимназист, а она – увядающая женщина.
Об Ахматовой: «Ее стихи никогда не трогали меня. В ее “Подорожнике” мне понравилось только одно стихотворение: “Когда в тоске самоубийства”», – и он стал читать его наизусть. Об остальных стихах Ахматовой он отзывался презрительно:
«– Твои нечисты ночи.Это, должно быть, опечатка. Должно быть, она хотела сказать:
Твои нечисты ноги.Ахматову я знаю мало. Она зашла ко мне как-то в воскресение (см. об этом ее стихи), потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та, в которой она позировала Альтману. И какая у нее неуверенная дикция:
Чтобы кровь из сердца хлынула Поскорее на постель.После «хлынула» нужно поставить запятую и получится:
Чтобы кровь из сердца хлынула, — Поскорее – на постель. Какое неприличие».Рассказывал о Шаляпине – со слов Монахова. Шаляпин очень груб с артистками – кричит им неприличное слово. Если те обижаются, Исайка им говорит:
– Дай вам Бог столько долларов получить за границей, сколько раз Федор Иванович говорил это слово мне.
Говорил о маме: – Мама уезжает в Лугу к сестре. Там они поссорятся. Не сейчас. Через месяц.
– Вы ощущаете как-нб. свою славу? – Ну, какая же слава? Большинство населения даже фамилии не знает.
Так мы ехали благодушно и весело. У него болела нога, но не очень. С нами были Алянский* и еще одна женщина, которая любила слово «бесительно». Ночью было бесительно холодно. Я читал в вагоне O’Henry.
2 мая. В 2 часа мы приехали. На вокзале никакой Облонской. Вдруг идет к нам в шелковом пребезобразном шарфе беременная и экзальтированная г-жа Коган. «У меня машина. Идем». Машина – чудо, бывшая Николая Второго, колеса двойные, ревет, как белуга. Добыли у Каменева. Сын Каменева с глуповатым и наглым лицом беспросветно испорченного хаменка. Довезли в несколько минут на Арбат к Коганам. У Коганов бедно и напыщенно, но люди они приятные. Чай, скисшая сырная пасха, кулич. Входит с букетом Долидзе. Ругает Облонскую, устроительницу лекций. Я иду к Облонской. Веду ее на расправу к Коганам. Совещаемся. Все устраивается. Беру чемодан и портфель и с помощью Алянского и Когана (которые трогательно несут эти тяжести) устраиваюсь у Архипова. Комнату мне дают темную, грязную, шумную. У Архипова много детей, много гостей, много еды. Какая-то баба в окно поет ребенку:
Солнышко, солнышко, Полети на небо, Там твои детки Кушают котлетки.3 мая. Спал чуть-чуть, часа 3. Непривычное чувство: сытость. Мудрю над лекцией о Блоке – все плохо. Не знаю, где побриться. Дождь. Колокола. Пишу к Кони. Лекция вышла дрянь. Сбор неполный. Это так ошеломило Блока, что он не хотел читать. Наконец, согласился – и механически, спустя рукава, прочитал 4 стихотворения. Публика встретила его не теми аплодисментами, к каким он привык. Он ушел в комнату – и ни за что, несмотря на мольбы мои и Когана. Наконец, вышел и прочел стихи Фра Филиппе Липпи по-латыни, без перевода*, с упрямым, но не вызывающим лицом.
– Зачем вы это сделали? – спросил я.
– Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой на шапке. Я ему и прочитал.
Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы, что зал совсем пуст и т. д. Меня это очень потрясло! Вызвав нескольких знакомых барышень, я сказал им: чтобы завтра были восторги. Зовите всех курсисток с букетами, мобилизуйте хорошеньких и пусть стоят вокруг него стеной. Аплодировать после каждого стихотворения. Барышни согласились – и я совсем раздребезженный пошел домой с участливой Суткевич. Хотел передать семье 100.000, через Евдокию Петровну, но ее не застал. У Архипова ночью бездна народу: все думали, что у него будет Блок. Блока не было, но были: Вознесенский, Ефим Зозуля, Зайцев, Лидин и т. д. Я умирал от сонливости, но разошлись только в 4 часа. Бедный я, бедный.
4 мая. Встал в 6 часов. Спать хочется, и негде. Читал лекцию о Некрасове при 200 человеках. Блок говорит одно: какого черта я поехал? (очень медленно, без ударений).
5 мая. Лекция о Блоке прошла оживленно. Слушали хорошо, задавали вопросы. Мы мобилизовали девственниц с цветами, чуть ли не наняли студентов, симулирующих энтузиазм, и Блок читал, читал без конца, совсем иначе – и имел огромный успех. Смешная жена Когана, беременная, сопровождает его всюду и демонстрируется перед публикой на каждом шагу, носит за ним букеты, диктует ему, что читать, – это шокирует многих. Одна девица из публики послала ей записку:
– Зачем вы так волнуетесь? Вам вредно.
Про Блока m-me Коган говорит:
– Это же ребенок (жеребенок?).
На лекции был Маяковский, в длинном пиджаке до колен, просторном, художническом; все наше действо казалось ему скукой и смертью*. Он зевал, подсказывал вперед рифмы и ушел домой спать: ночью он едет в Пушкино, на дачу. Сегодня я обедал у него. Он ко мне холоден, но я его люблю. Говорили про «Мистерию Буфф», которая ставится теперь в театре бывш. Зона. Он бранит Мейерхольда, который во многом испортил пьесу, но как о человеке отзывается о нем любовно и нежно. Рассказывает, что когда на репетиции ставилась палуба, какая-то артистка спросила:
– А борт будет?
Ей ответил какой-то артист:
– Не беспокойтесь. Аборт будет.
Ему вообще свойственно такое каламбурное мышление. Я сказал фамилию: Сидоров. «Сидоров – не неси даров», – сказал он… Я рассказывал, что Андреев одно время был в России как бы главный комиссар по самоубийствам. – Да, да! – подхватил он. – Завсамуб; заведующий самоубийствами. – Говорил про фамилию Разутак: – У нас в Москве говорят:
– Разутак его и разуэтак!
Лили Юрьевна мила и добра. Меня восхищают отношения Маяковского и Брика. Брик – муж. Маяковский – друг дома. Оба они приходят к ней как к жене. Каждый целует ее; оба садятся по обеим ее сторонам, и один ласкает ее правую руку, а другой – левую. Это не кажется странным. К Брику она нежна. Он теперь много занимается Некрасовым. Она (как жена) тоже говорит о Некрасове с большим интересом. В доме милый беспорядок: два рояля в одной комнате. Кровать разорена. Маяковский бухнулся на кровать и спросил:
– Я ничего не смял?
– Нет, ничего.
Оказывается, что Лили Брик все прячет под матрац: шпильки, туфли, шоколад. – Иначе потеряет.
Маяковский рассказал о мытарствах с пьесой. Накануне постановки его вызвали в Кремль две какие-то акушорки и сказали, что пьесу нельзя ставить, т. к. им не нравятся стихи.
– Я накричал на них, но они все же подгадили, и 1-го мая пьеса не шла.
Он обнял Лили, а я пошел в комнатку Брика и заснул на 1 час. Это было божественно!
6–7–8 мая. Все дни перепутались. Был я на «Мистерии Буфф». Впечатление жалкое. Нет настоящей вульгарности. Каламбурные рифмы производят впечатление натяжек, придумочек, связывают действие. Нет свободной песенной дикции, нет шансов для хорошей декламации – которая так нужна в таких пьесах. Чего только не накрутил Мейерхольд: играют и вверху, и внизу, и циркачи, и ад в зрительном зале – но все мелко, дробно и дрябло, не сливается воедино – в широкое действо. Ужасно гнусно изображение Льва Толстого в забавном виде.
Был с Добужинским в Главконе: забавый старикан Холевинский, хохол, заведующий коннозаводством. Принял нас любезно. Цитировал Пушкина и Лермонтова о лошадях, славил мордобой, ссылаясь на Льва Толстого (сцена из «Войны и мира» – как Николай Ростов дал старосте Дрону по морде и т. д.). Дал мне свою брошюру «о случке кобыл».
Лекция моя «Поэт и палач» сошла прегнусно. Редкие афиши гласили:
Фет.
Блок.
Леонид Андреев.
Чуковский.
Поэт и палач.
Что это значит, неизвестно. Никому и в голову не пришло, что это я читаю лекцию о Некрасове. Пришло человек 200. Публика случайная, невежественная, полуинтеллигентная, – мне ненавистная. К Архипову идти я не мог: далеко, а я устал до ужаса. Не спал 4 ночи. Среди публики оказалась Нюся Горовиц. Эта стоеросовая дева повлекла меня к себе ночевать, уверяя, что она живет в огромной и пустой квартире Кизеветтера, что она меня положит в отдельной (совсем отдельной) комнате и т. д. Оказалось: отдельной комнаты нет, а есть ее комната, где за стеною шумят, где кроватка коротенькая, где тараканы величиною с сардинку, – насилу я ушел от нее.
Мой новый знакомый Акинфиев, Николай Федорович, уверил меня, что я могу заснуть у него. Он живет с братом на телефоне, но брата нет, и комната к моим услугам. Я, совсем больной, пошел на телефон: оказалось, что брат не уехал, что к брату приехала гостья. Оставалось одно: умереть на мостовой. Тут-то я и вспомнил о Шатуновском. Шатуновский, еврей, с волосами на носу, невысокого роста, с наивными глазами, наивными интонациями, большевик, друг Троцкого, имеющий от Ленина магические бумаги, которые другому составили бы состояние, живет впроголодь, в маленьком номерочке «Метрополя». Он повел меня к себе, сам самоотверженно ушел, и у него я среди дня заснул часа на два и чуть-чуть отдохнули мои бессонные глаза. – Он весь полон электрификацией, говорит о ней наивно и прелестно.
В Доме Печати против Блока открылся поход. Блока очень приглашали в Дом Печати. Он пришел туда и прочитал несколько стихотворений. Тогда вышел какой-то черный тов. Струве* и сказал: «Товарищи! я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок – мертвец».
– Верно, верно! – сказал мне Блок, сидевший за занавеской. – Я действительно мертвец.
Потом вышел П. С. Коган и очень пошло, ссылаясь на Маркса, доказывал, что Блок не мертвец.
– Надо уходить, – сказал я Блоку. Мы пошли в Итальянское общество. Увидев, что Блок уходит, часть публики тоже ушла. Блок шел в стороне, – вспоминая стихи. Погода южная, ночь восхитительная. По переулкам молча и задумчиво шагает поэт, и за ним, тоже тихо и торжественно, шествуют его верные. Но в Итальянском обществе шел доклад Осоргина об Италии. Пришлось ждать в прихожей. Блок сел рядом со мною на скамейку – и барышни окружили его. Две мои знакомые робко угощали его монпансье. Он даже шутил – но негромко и сдержанно. Потом, когда Осоргин кончил, мы вошли в зал. Публика не та, что в Доме Печати, а набожная, образованная. Муратов (председатель) приветствовал Блока краткой речью: «Не знаю, как люди другого поколения, но для нас, родившихся между 1880 и 1890 годом, Александр Блок – самое дорогое имя».
Публика слушала Блока влюбленно. Он читал упоительно: густым, страдающим, певучим, медленным голосом.
На следующий день то же произошло в Союзе писателей. Из Союза мы с Маринкой пошли к Коганам. Блок долго считал деньги, говорил по телефону со Станиславским, а потом сел и сказал:
– До чего у меня все перепуталось. Я сейчас хотел писать письмо в Союз писателей – с извинениями, что не мог быть там.
Он получил от мамы письмо. Мама уже уехала в Лугу.
Странно в России барышни слушают стихи. В этом слушанье есть что-то половое. Беременеют от стихов. Массовое стихобезумие. Единственная страна, где так публично упиваются стихами. Москва вообще вся теперь живет ниже диафрагмы: желудочнополовой жизнью. У женщин губы толстые, глаза пьяные, все говорят о развлечениях, никакого интеллигентского делания. Бульвары, кафе, извозчики, рестораны, анекдоты – черемуха, мечты о миллионах.
12 мая. У Луначарского в Кремле. Прихожая. Рояль, велосипед, колонны, золоченые стулья, старикан за столом, вежливый ученый секретарь, петухи горланят ежесекундно. В другой комнате он диктует. Слышно, как стучит машинка. Слышен его милый голос, наивно выговаривающий л. Я был у него минуту. Возле него – с трубкой, черно-седой, красивый, спокойный, нестарый еврей очень художественного вида. Луначарский приветствовал меня не слишком восторженно, но все, о чем я просил, сделал. Он вообще какой-то подобравшийся. Спрашивал о Мариэтте Шагинян, обещал защищать Дом Искусств.
Оттуда к Гринбергу на Остоженку. Гринберг на заседании. Сижу, слушаю. Обычные в комиссариатах – разговоры. Говорит ревизор – тов. Николаева.
– Я с двумя мужьями развелась, замужем за третьим. И всегда у меня так, что с бывшими отношения хорошие, а с нынешним – дрянь… Я уже 24 года замужем.
– У вас срок на каждого 8 лет? – спрашивает секретарша Гринберга Ольга Григорьевна с золотыми зубами и пухло-белыми голыми руками.
– А не бывает одновременно? – спросила игриво какая-то третья.
Я правлю корректуру гржебинского Алексея Толстого (под редакц. Н. Гумилева).
А между тем из Комиссариата идет разговор по телефону, и мне странно слышать, что какая-то длинноносая Зильберман прямо говорит в телефон:
– Барышня, дайте Кремль.
И та дает ей Кремль. (Кремль!)
– Аllо! Это Кремль? Дайте квартиру Гринберга (Гринберга!). Дуня, это вы? Дуня, пойдите к тов. Канцеловской, и т. д. (личные дела).
Пришел Гринберг и указал мне на какого-то плотного еврея: вы незнакомы? Это Бялик. Бялик, знаменитый поэт, самый обыкновенный (жирный и спокойный) мужчина, розовый затылок, лысина. С палочкой. Он говорит мне, заунывно и равнодушно: О, как вы изменились! Боже мой, как вы изменились! Я вас помню совсем другим.
Я спросил его, что он делает. – Я пишу свою биографию – Wahrheit und Dichtung[167]. Мы в Одессе много работаем с Равницким. Редактируем научно-академическое издание Ибн Габриоли, Иегуды Галев, Ибн Эзры. – Как вы относитесь к переводам Жаботинского? – Жаботинский подрядчик. Нельзя переводить стихотворения подряд. (Бялик слово «подряд» производит от наречия подряд.) Лирику вообще нельзя переводить. Что сделали с Гейне! Ведь на русском языке не существует ни одного перевода из Гейне… – А в еврейской литературе ваши стихи признаны всеми? Существует школа Бялика? – Увы, она считается уже устарелой. – А кричат «долой Бялика!»? – Не кричат, но скоро будут кричать.
Очень спокойный, уравновешенный. Уезжает с Равницким за границу.
Во Дворце Искусств познакомился с поэтессой Адалис – новой метрессой Брюсова. Уютная одесситка: ей 22 года, а по лицу ясно видно, какой она будет в 45. Есть такие южные лица. Чтобы заснуть, принял веронал. Спал у Суткевич. Утром худо, голова болит. В 4 мне подали бричку. На вокзал я приехал рано. А поезд в ½ 9-го. Сижу у входа с чемоданом. Жарко. Вдруг идет высокий – красавец-карьерист, подгорьковец Пинкевич, приятный, но бездарный человек. Идем с ним в вагон! – Оказывается, они на вокзале имеют свои вагоны, где и живут. Прихожу, а там Родэ – заполнил собою весь вагон. Перед ним чай. «Жарко, пейте». Атмосфера выпивательская. Родэ с Пинкевичем на ты, и я с голоду позавидовал Пинкевичу: о, сколько у меня было дней, когда вся жизнь моя была бы иная, если бы я с Родэ был на ты. Родэ рассказывает неприличные анекдоты (про Харьковский уездный Исполком) – ученые прихлебатели смеются. – «Скажите Зигамале, чтобы он прислал мне то самое, что (?) он дал финскому консулу Энкелю», – попросил меня Родэ. О, если бы за это он мне дал фунта три хлеба!
В вагоне чудесно выспался: проводник видел, что я знаком с Родэ, и дал мне отдельное купе, пустое. Вспоминаю, как жадно Маяковский впитывает в себя всякие анекдоты и каламбуры. За обедом он рассказал мне:
1. Что Лито в Москве называется Нето.
2. Что еврей, услыхав в вагоне, что меняют паровоз, выскочил и спросил: на что меняют?
3. Что другой еврей хвалил какую-то даму: у нее нос в 25 каратов!
4. Что третий еврей увидел царя и поклонился. Царь спросил: – Откуда ты меня узнал? – «Вылитый рупь!» – отвечал еврей.
22 мая. Сидим за столом. Коля: – Странно, нынешняя поэзия все теснее и теснее примыкает к прозе, заимствует у прозы все ее интонации и слова. А проза становится все поэтичнее – певучее… Боба: – Так что года через два проза будет называться поэзией, а поэзия – прозой. Вот и все.
Был у Горького. Он только что приехал из Москвы. По дороге к нему встретил Родэ – на извозчике. Тот помахал мне ручкой. Я подошел. Родэ показал мне бумагу, что для литераторов специально сюда приезжает комиссия (для обсуждения вопроса о пайках), и сказал: «Вы к Горькому? Не ходите. Устал Алексей Максимович!» Родэ, оберегающий Горького от меня! Я сказал, что авось Горький сам решит, хочет он меня видеть или нет, – и все же по дороге оробел. После Москвы Горький приезжает такой измученный. Я сел в садике насупротив. Сидела какая-то старуха в синих очках. Потом к ней подошли двое – старичок и женщина. – Ну, что? – спросила старуха. – Плохо! – сказал старичок. – Простоял весь день напрасно. (И он открыл футляр и показал серебряные ложки.) Никто не покупает. Все пришли на рынок с товарами, одни продавцы, а покупателей нет. Да и продуктов нет никаких.
Тут я узнал, что уже 20 м. шестого, и пошел к Горькому. Меня окликнул Шкловский, и мы пошли через кухню (парадный заперт). Вошли – Горький в прихожей говорит по телефону. Говорит и кашляет. Я ему: «Если вы очень устали, мы скажем все Валентине Михайловне (Ходасевич). – Нет, уж лучше прямо (без улыбки). Идите. (Нет уже его прежнего со мною кокетства, нет игры, нет милого «театра для себя», который бывает у Горького с новыми людьми, которых он хочет почему-то примагнитить.) Мы вошли, он усталый, но бодрящийся, сел и стал слушать. Я сказал ему про инженера Денисова. – Это тот, что жену задушил? – Нет, другой, – и я рассказал все. – Ну что ж, отлично! – сказал он с полным равнодушием. Никакого интереса к Дому Искусств у него нет. Литераторы чужды ему совершенно. Немного оживился, когда Шкловский стал говорить ему о Всеволоде Иванове. – «Неужели у него штанов нет? Нужно будет достать… Нужно будет достать». Второе дело: мое письмо к Гржебину. По поводу плохо изданных книг. Я дал Горькому прочитать. Он читал по-горьковски, как он читает все: медленно, строка за строкой. Он никогда не пробегает писем, не ищет главного, пропуская второстепенное, а читает добросовестно, по-стариковски, в очках. Кончил и сказал равнодушно: «Ну что ж, устраивайте коллегию: вы, Лернер и Ходасевич. Чего же лучше». Но я видел, что лично ему все равно. Он охладел и к Гржебину. Это уже третье охлаждение Горького. Я помню его влюбленность в Тихонова. На первом месте у него был Тихонов и Тихонов. Без Тихонова он не дышал. Во всякое дело, куда его приглашали, звал Тихонова. Потом его потянуло к более толстому – Гржебину. За Гржебина он был готов умереть. И вот теперь еще более толстый Родэ. Но как он утомлен: хрипит. Мы ушли – он не задерживал. К сожалению, Шкловский услыхал, что я ругаю проредактированных Эйхенбаумом «Карамазовых», и взъелся. Эйхенбаум сделал такое: ему поручили редактировать «Братьев Карамазовых». Он засел минут на десять, написал пять-шесть примечаний: «Шиллер – германский поэт», «Белинский – критик 30-х и 40-х гг.», – и больше ничего! И больше ничего. Получил огромную полистную плату и поставил сейчас же после Достоевского свою фамилию. «Под редакцией Б. М. Эйхенбаума». Шкловский объяснял это тем, что Эйхенбаум – другой литературной школы, других убеждений. Но какие же литературные убеждения могут превратить корректуру в редактуру – и двухчасовую работу оценить как двухлетнюю! Если это не хулиганство, то беспросветная тупость. Мы пришли в Дом Искусств. Вечер Ходасевича. Народу 42 человека – каких-то замухрышных. Ходасевич убежал на кухню: – Я не буду читать. Не желаю я читать в пустом зале. – Насилу я его уломал.
24 мая. Вчера в Доме Искусств увидел Гумилева с какой-то бледной и запуганной женщиной. Оказалось, что это его жена Анна Николаевна, урожд. Энгельгардт, дочь того забавного нововременского историка литературы, который прославился своими плагиатами. Гумилев обращается с ней деспотически. Молодую хорошенькую женщину отправил с ребенком в Бежецк – в заточение, а сам здесь процветал и блаженствовал. Она там зачахла, поблекла, он выписал ее сюда и приказал ей отдать девочку в приют в Парголово. Она – из безотчетного страха перед ним – подчинилась. Ей 23 года, а она какая-то облезлая; я встретил их обоих в библиотеке. Пугливо поглядывая на Гумилева, она говорила: – Не правда ли, девочке там будет хорошо? Даже лучше, чем дома? Ей там позволили брать с собой в постель хлеб… У нее есть такая дурная привычка: брать с собой в постель хлеб… очень дурная привычка… потом там воздух… а я буду приезжать… Не правда ли, Коля, я буду к ней приезжать…
Денег по-прежнему у меня нет ни копейки. Между тем я заработал тысяч 300 на гржебинской работе – и вот Гржебин не платит. Что делать? Я из-за этого не еду в Порхов… Черт знает что! Болтаюсь зря 20 дней – писать хочется необычайно. Хлеба опять нет.
Вчера вечером в Доме Искусств был вечер «Сегодня», с участием Ремизова, Замятина – и молодых: Никитина, Лунца и Зощенко. Замятин в деревне – не приехал. Зощенко – темный, больной, милый, слабый, вышел на кафедру (т. е. сел за столик) и своим еле слышным голосом прочитал «Старуху Врангель» – с гоголевскими интонациями, в духе раннего Достоевского. Современности не было никакой – но очень приятно. Отношение к слову – фонетическое.
Для актеров такие рассказы – благодать. «Не для цели торговли, а для цели матери» – очень понравилось Ремизову, который даже толканул меня в бок. Жаль, что Зощенко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри. Ему трудно ходить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки. Вышел Никитин: бездарь. Длинно, претенциозно, под Замятина, без изюминки. Но публика аплодировала и ему.
Человек было 150, не больше. Лунц (за которого я волновался, как за себя) очень дерзко (почти развязно) прочитал свой сатирический рассказ «Дневник Исходящей»*. До публики не дошло главное: стилизация под современный жаргон: «выход из безвыходного положения», «наконец, иными словами, в-четвертых» и т. д. Смеялись только в несмешных местах, относящихся к фабуле. Если так происходит в Петербурге, что же в провинции! Нет нашей публики. Нет тех, кто может оценить иронию, тонкость, игру ума, изящество мысли, стиль и т. д. Я хохотал, когда Лунц говорил «о цели своих рассуждений», и нарочно следил за соседями: сидели, как каменные. В антракте вышел немолодой блондин, сын Фофанова, Константин Олимпов, и, делая вид, что он бунтует, благополучно прокричал свои вдохновенные вопли о том, что он пролетарий, что он нарком всего мира и т. д. Публика визжала и хлопала – но в меру, словно по долгу службы.
25 мая. Замятин в Холомках, Тихонов в Москве, а между тем номер «Литературной газеты» сверстан – нужно его печатать. Штрайх (выпускающий) дал вчера 2 номера: мне и другому редактору, Волынскому. Нужно было спешно за ночь продержать корректуру. Я бегал целый день по городу, вечером читал лекцию, а в 10 час. сел за работу над номером. Около часу ночи я, очень усталый, закрыл глаза, и мне показалось, что я вижу Волынского и слышу, как он говорит:
– А я, Корней Ив., не держал корректуры. Я знал, что если эту корректуру держите вы, она в верных руках, и все будет хорошо!
Я открыл глаза и решил отложить корректуру на утро. Проработав утром часа два, я кончил весь номер, послал его в редакцию «Литературной газеты», а сам пошел в Дом Ученых похлопотать о тканях. Встречаю на Мойке Волынского, и он говорит мне слово в слово:
– А я, Корней Ив., не держал корректуры. Я знал, что если эту корректуру держите вы, она в верных руках, и все будет хорошо.
Слово в слово. Всякую свою лень Волынский оправдывает либо угодливой лестью другому, либо – чаще всего – высокими благочестивыми словами. Когда он испугался читать о свободе печати, он сказал, что он не желает спорить с правительством в столь низменном тоне, что есть другие, более высокие принципы и т. д.
25 мая. Среда. Готовлюсь уехать. Целодневная работа. Денег нет. Гржебин не вернулся. Провизии ни дома, ни в дорогу нет. Все раздирательно и очень трудно. Добыл лошадь – прибыл домой, – пообедал одной картошкой – приехал на вокзал. Канитель 3-часовая, чтобы попасть в служебный вагон – ужасный и набитый доверху. В вагоне слышал частушки:
Я на бочке сижу, А под бочкой каша. Вы не думайте, жиды, Что Россия – ваша. Сидит Ленин на березе, Держит серп и молоток. А за ним товарищ Троцкий Бежит с фронта без порток. Я на бочке сижу, А под бочкой кожа. Ленин Троцкому сказал Жидовская рожа. Я на бочке сижу, А под бочкой мышка. Скоро белые придут, Коммунистам крышка.Глупая песня!
Потом в вагоне я познакомился с коммунистом-чекистом. Разговорились. Сумбур благородных слов и внезапных самоуправных поступков. В вагон вошел маленький человечек – пьяный. Подмигивая, он стал бранить советскую власть: «всех прикрыла красная книжка!» – Чекист взволновался: нет, товарищ, я этого не позволю. Вы не исполняете долга. – Плевать мне на долг! Я сам начальство, я служу в Уголовном розыске и еду по секретному поручению. – А, вот как! погодите. – Вышел на станции Гатчина – и многозначительно объявил, что преступник завтра же полетит со службы. Уголовный розыскист был так пьян, что между прочим сказал:
– «Покуда мужик не грянет, гром не перекрестится!»
Он сказал это дважды, и никто не заметил.
Еще частушка:
Сидит Троцкий на заборе, Плетет лапти костычом, Коммунистов обувает, Дезертиры босиком.26 мая. Утром в Пскове. Иду в уборную 1-го класса, все двери оторваны, и люди испражняются на виду у всех. Ни тени стыда. Разговаривают – но чаще молчат. Сдать вещи на хранение – двухчасовая волокита: один медленнейший хохол принимает их, он же расставляет их по полкам, он же расклеивает ярлычки, он же выдает квитанции. Как бы вы ни горячились, он действует методически, флегматически и через пять минут объявляет:
– Довольно.
– Что довольно?
– Больше вещей не возьму.
– Почему?
– Потому что довольно.
– Чего довольно?
– Вещей. Больше не влезет.
Ему указывают множество мест, но он непреклонен. Наконец, является некто и берет свои сданные вчера вещи. Тогда взамен его вещей он принимает такую же порцию других. Остальные жди.
– Скорее приходите за вещами, – говорит он. – Бо тут много крыс, и они едят мои наклейки.
На свое счастье, я на вокзале встретил всех пороховчанок, коим читал некогда лекции. Они отнеслись ко мне сердечно, угостили яйцом, постерегли мой чемодан, коего я вначале не сдал, и т. д.
На вокзале в зале III класса среди других начальствующих лиц висит фотографический портрет Максима Горького – рядом с портретом Калинина. Визави картины Роста – о хлебном налоге.
Говорит по совести Советская власть: Не пришлось крестьянству пожить всласть, Не давали враги стране передышки, Пришлось забирать у фронта излишки. Рвал на себе Наркомпрод волосы, А мужички не засевали полосы, Потому «оставляют на крестьянский рот» И ничего в оборот.Теперь, по словам Роста, будет иначе:
Не все, что посеял, лишь часть отвали — Законную меру, процент с десятины, А все остальное твое – не скули. Никто не полезет в амбар да в овины. Расчет есть засеять поболе земли, Пуды государству, тебе же кули.К Первому мая псковским начальством была выпущена такая печатная бумага, расклеенная всюду на вокзале: «Мировой капитал, чуя свою неминуемую гибель, в предсмертной агонии тянется окровавленными руками к горлу расцветающей весны обновленного человечества. Вторая госуд. типография. 400 (экз.) Р. В. Ц. Псков».
Вот вполне чиновничье измышление. Все шаблоны взяты из газет и склеены равнодушной рукой как придется. Получилось: «горло весны» – все равно. Канцелярский декаданс!
Барышня в лиловом говорит: «Это не фунт изюму!», «Побачим, що воно за человиче», мужа называет батько и т. д.
Сдуру я взял огромный портфель, напялил пальто и пошел в город Псков, где промыкался по всем канцеляриям и познакомился с бездной народу. Добыл лошадь для колонии и отвоевал Бельское Устье. Все время на ногах, с портфелем, я к 2 часам окончательно сомлел. Пошел на базарчик поесть. Уличка. Вдоль обочины тротуаров справа и слева сидят за табуретками бабы (иные под зонтиками), продают раков, масло, яйца, молоко, гвозди. Масло 13–16 т. рублей. Яйцо – 600 р. штука. Молоко ½ тыс. бутылка. Я купил 3 яйца и съел без соли. Очень долго хлопотал в Уеисполкоме, чтобы мне разрешили пообедать в Доме Крестьянина (бывш. Дворянское Собрание), наконец мне дали квиток, и я, придавленный своим пальто и портфелем, стою в десятке очередей – получаю: кислые щи (несъедобные), горсть грязного гороху и грязную деревянную ложку. После всей маяты иду через весь город на Покровскую к Хрисанфову (Завед. отделом Наробраза) – и сажусь по дороге на скамейку. Это был мой первый отдых. Солнце печет. Две 30-летние мещанки (интеллигентного вида) сходятся на скамье – «Купила три куры за 25 фунтов соли! Это как раз у которой мы петуха купили… Соль все-таки 2 200 р.». Потом шушукаются: «Там у меня служит знакомая барышня, в отделе тканей, она меня и научила: подай второе заявление и получай вторично. Я получила второй раз и третий раз. Барышня мне сказала: мы по двадцать раз получаем!» Я смотрю на говорящих: у них мелкие, едва ли человеческие лица, и ребенок, которого одна держит, тоже мелкий, беспросветный, очень скучный. Таковы псковичи. Черт знает как в таком изумительном городе, среди таких церквей, на такой реке – копошится такая унылая и бездарная дрянь. Ни одного замечательного человека, ни одной истинно человеческой личности. Очень благородны по строгим линиям Поганкины палаты (музей). Но на дверях рука псковича начертала:
Я вас люблю, и вы поверьте, Я вам пришлю блоху в конверте.А в самом музее недавно произошло такое: заметили, что внезапно огромный наплыв публики. Публика так и прет в музей и все чего-то ищет. Чего? Заглядывает во все витрины, шарит глазами. Наконец какой-то прямо обратился к заведующему: показывай черта. Оказывается, пронесся слух, что баба тамошняя родила от коммуниста черта – и что его спрятали в банку со спиртом и теперь он в музее. Вот и ищут его в Поганкиных палатах.
27 мая. Впервые за две недели выспался у Хрисанфова. Он ушел и оставил меня одного во всей квартире. Умывался в реке – река белая предрассветная, в ней отражается чудесный длинный белый монастырь. Прошел несколько верст на вокзал, встал в очередь, и вдруг оказалось, что у меня нет какой-то печати, дающей право выехать из Пскова. Все в очереди смотрели на меня как на дурака: как же можно без такой печати становиться… Что ж вы порядков не знаете?.. С тоскою бросился я к начальнику станции, к коменданту – о, о, о, о! – и комендант поставил мне какую-то печать. Я вернулся. Все изумлялись, что я все же устроил то дело, на которое они тратят по 3, по 4 дня своей жизни. Наконец, я в вагоне. Школьники. Приласкали меня. Уступили мне место. Сижу. В соседнем отделении, на самом верху, сидит какой-то солдат, крестьянин, с лицом актера и чудесным голосом, с богатейшими интонациями рассказывает кому-то сказку. Весь вагон слушает внимательно, с упоением. Содержание его рассказа такое. Один мужик узнал, что его жена балует с мельником. Уехал будто на охоту, а сам зашел за ледник, привязал собачек к дереву – и назад. Смотрит в щелку. Видит – жена ласкается к мельнику, печет ему блины. Испекла она блины и говорит мельнику: «Миленький, миленький, я пойду в погреб за маслом, а ты покуда не кушай блинов: без масла невкусно».
– Хорошо, – говорит мельник. – Не буду.
Ушла она за маслом, а муж и убил мельника. Убил и сунул ему в рот три блина. А сам спрятался. Жена пришла с маслом, видит, убитый лежит, а во рту у него три блина:
– Ах, миленький, говорила я тебе – не ешь без масла, без масла вредно.
А мимо шел солдат. Видит: такой хорошенький домик, богатый. Не удастся ли закусить? Зайду. Входит, видит: дамочка на стуле сидит, плачет. Солдат смотрит: что такое? Овдовела она, что ли? – Хозяюшка, нет ли чего попить? (Поесть он попросить не решается, сразу нельзя.) – Увидела она солдата, испугалась. (В ту пору солдат боялись.) – «Батюшки, солдат!» А он этак жалостливо: отчего вы плачете? – Эй, служивый, лучше не спрашивай. Такой накачался на мою голову муж. Ну женское ли дело – лошадь запрягчи, а он у меня требует на морозе – и запрягчи и распрягчи (а рукам холодно), и кули в избу носить.
– О, елки зеленые! вот чем он пользуется, я его отучу, погоди! – говорит солдат. – На, надевай мою форму и беги его встречать – и бей его по морде, бей все время.
Жена так и сделала. Вышла в солдатской форме, ну совсем солдат, а с дороги была тропочка; аккурат в гору подымается ее муж.
Жена (басом): Стой!.. Стой!.. Стой, тебе говорят! – Подходит и раз! его по уху.
– Ты как смеешь жену заставлять запрягать лошадь?
– Прости Христа ради.
– Зарублю!
– У тебя лошадь по-бабьи запряжена. Ух ты мерзавец, как ты смеешь жене доверять лошадь. От этого у тебя лошадь пропадет. Перепрягай сию минуту.
Стал мужик перепрягать лошадь, лошадь в это время отдохнула и пошла шибче. – Ну, вот видишь: бабья упряжка никуда не годится. Всегда сам запрягай – и ехать будешь скорее.
– Правда, теперь лошадь лучше идет.
– Ну, вот видишь. Никогда не давай бабе запрягать.
Приехал мужик домой. А жена побежала вперед, переоделась и выбегает навстречу. А мороз ужасный! Жена берется выпрягать кобылу, а мужик:
– Уйди в дом! Не распрягай! Не смей распрягать. – Прежде он заставлял ее мешки носить, а теперь: не тронь. – Ступай в дом, а не то убью! – Она и рада…
Едет Троцкий на моторе, говорит своим жидкам: Дайте соли и фасоли этим русским дуракам, —поет какой-то солдат с идиотическим лицом – вряд ли понимая, какую ерунду он поет…
3 июня. У Горького. Он сидел и читал «Последние Известия», где перепечатан фельетон И. Сургучева о нем*. Мы поговорили о Доме Искусств – доложили о каком-то Чернышеве. Вошел молодой человек лет 20. «Я должен вам сказать, – сказал Горький, – что нет отца вашего». Наступило очень долгое молчание, в течение которого Горький барабанил по столу пальцами. Наконец молодой человек сказал: плохо. И опять замолчал. Потом долго рассуждали, когда отец был в Кронштадте, когда в Ладоге, и молодой человек часто говорил неподходящие слова: «видите, какая штука!». Потом, уходя, он сказал:
– Видите, какая штука! Он умер сам по себе – своими средствами… У него желудок был плох…
Когда он ушел, Горький сказал:
– Хороших мстителей воспитывает Советская власть. Это сын д-ра Чернышева. И догадался он верно, его отец действительно не расстрелян, но умер. Умер. Это он верно. Угадал.
Потом доложили о приходе Серапионовых братьев, и мы прошли в столовую. В столовой собрались: Шкловский (босиком), Лева Лунц (с бритой головой), франтоватый Никитин, Константин Федин, Миша Слонимский (в белых штанах и с открытым воротом), Коля (в рубахе, демонстративно залатанной), Груздев (с тросточкой).
Заговорили о пустяках. – Что в Москве? – спросил Горький. – Базар и канцелярия! – ответил Федин. – Да, туда попадаешь, как в паутину, – сказал Горький. – Говорят, Ленин одержал блестящую победу. Он прямо так и сказал: нужно отложить коммунизм лет на 25. Отложить. Те хоть и возражали, а согласились. – А что с Троцким? – Троцкий жестоко болен. Он на границе смерти. У него сердце. У Зиновьева тоже сердце больное. У многих. Это самоотравление гневом. Некий физиологический фактор. Среди интеллигентных работников заболеваний меньше. Но бывшие рабочие – вследствие непривычки к умственному труду истощены до крайности. Естественное явление.
Н. Н. Никитин заговорил очень бойко, медленно, солидно – живешь старым запасом идей, истрепался и т. д.
Горький: – Ах, какого я слышал вчера куплетиста, талант. Он даже потеет талантом:
Анархист с меня стащил Полушубок теткин. Ах, тому ль его учил Господин Кропоткин.И еще пел марсельезу, вплетая в нее мотивы из «Славься ты, славься!».
Н. Н. Никитин и тут нашел нужное слово, чему-то поддакнул, с чем-то не согласился. Федин рассказал, как в Москве его больше всего поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались – а он никакого внимания.
– И не бил никого? – спросил Горький.
– Нет. Проехал куда надо, прошел через вагон и вышел на передней площадке.
– Хозяин! – сказал Горький.
– Ах, еще о деревне, – подхватил Федин и басом очень живо изобразил измученную городскую девицу, которая принесла в деревню мануфактуру, деньги и проч., чтобы достать съестного. «Деньги? – сказала ей баба. – Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся. Глубже, до дна… Вся кадка у меня ими набита. И каждый день муж играет в очко – и выигрывает тысяч 100–150». Барышня в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» – «Зуб». – «Золотой? Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы наперед. Вот ты зуб бы мне оставила. Оставь». Барышня взяла вилку и отковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз, набери картошки сколько хошь, сколько поднимешь». Та навалила столько, что не поднять. Баба равнодушно: «Ну отсыпь».
Горький на это сказал: «Вчера я иду домой. Вижу в окне свет. Глянул в щель: сидит человек и ремингтон подчиняет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел милиционер, бородатый, тоже в щель, и вдруг:
– Сволочи! Чего придумали! Мало им писать, как все люди, нет, им и тут машина нужна. Сволочи».
Потом Горький заговорил о рассказах этих молодых людей. Рассказы должны выйти под его редакцией в издательстве Гржебина. Заглавие «Двадцать первый год».
«Позвольте поделиться мнениями о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никогда никого не желал поучать. Начну с комплимента. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще нигде не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне как бытовику очень дорог ее общий тон. Если посмотреть поверхностно: контрреволюционный сборник. Но это хорошо. Это очень хорошо. Очень сильно, правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книжка».
Очень много говорил Горький о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека:
«Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут в умалении человека некоторая ошибочка. Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? История сыронизировала, и очень зло. Казалось, что революция должна быть торжеством идей коллективизма, но нет. Роль личности оказалась огромной. Например, Ленин или Ллойд Джордж. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку. А все-таки (в жизни) человек свою человечью роль выполняет…»
Поговорив довольно нудно на эту привычную тему, Горький, конечно, перешел к мужику.
«Мужик, извините меня, все еще не человек. Он не обещает быть таковым скоро. Это не значит, что я говорю в защиту Советской власти, а в защиту личности. Героев мало, часто они зоологичны, но они есть, есть и в крестьянстве – рождающем своих Бонапартов. Бонапарт для данной волости…
Я знаю, что и в Чрезвычайке есть герои. Носит в известке костей своих – любовь к человеку, а должен убивать. У него морда пятнами идет, а должен. Тут сугубая достоевщина… Недавно тут сидел человек и слушал рассказы чекиста. Тот похвалялся черт знает каким душегубством. И вдруг улыбнулся. Все-таки улыбнулся. Тот человек обрадовался: “Видите, даже чекист улыбнулся. Значит, и в нем человеческое”. Это вроде луковицы у Достоевского (“Братья Карамазовы”). Луковички – и от них надо отрешиться. (Вообще в этой речи, как и во всех его статьях и речах, очень часто это нудное надо, а он думает, что он не дидактик!) Не забудьте и о женском поле. Там тоже много героев. Вот, напр., одна – в Сибири: с упрямством звонит в свой маленький колокольчик: “Это не так”. Звонит: “Это не так! Я не согласна!” Все мы в мир пришли, чтобы не соглашаться. Гредескула в герои не возведешь. Человек у вас чересчур запылен».
Вся эта речь особенно кочевряжила Шкловского, который никаких идеологий и вообще никаких надо не признает, а знает только «установку на стиль». Он сидел с иронической улыбкой и нервно ковырял пальцем в пальцах правой босой ноги, вскинутой на левую. Наконец не выдержал. «Я думаю, Алексей Максимович, – сказал он глухо, – человек здесь запылен оттого, что у авторов были иные задачи, чисто стилистического характера. Здесь установка на стиль».
– Я принял это во внимание. Но за этим остается еще то, о чем я говорю.
4 июня. Вчера вечером княжна призналась мне, что влюбилась в Замятина. Очень счастлива, но сомневается, отвечает ли ей. Изумительно, как никто не видит, что Замятин – туповатый солдафон, не без способностей, весьма элементарных.
6 июня. Лида мне: «Я всегда в последнее время чувствую себя так, будто случилось большое несчастье. Ночью проснусь: что такое? надо что-то забыть, от чего-то избавиться». А ей 15 лет. О, какой мед между Замятиным и княжной.
8 июня. Забыл записать, что в воскресение Горький говорил о Сургучеве. Я прочитал в «Последних Известиях» преглупый фельетон Сургучева «М. Горький». В фельетоне сказано, что Горький привык сидеть на бриллиантовых тронах и вообще нетерпим к чужому мнению, будто бы он, Сургучев, разошелся с Горьким после одного пустякового спора.
– Охота вам была водиться с таким идиотом! – сказал я.
– Нет, он человек даровитый, – сказал Горький. – У него есть хорошая повесть. (Он назвал заглавие, я забыл.) Но беда в том, что он развращенный в половом отношении человек. Черт знает какая была у него история с одной девицей на Капри. С дочерью доктора. И потом другая. Я даже одно время не принимал его. Было даже намерение выслать его с Капри. Сексуальное извращение.
10 июня после всех заседаний, измученные, мы легли с ним на ковер Дома Искусства – и я молил об одном: «не давите ее сапожищем». Он: «вы напрасно думаете, что я не увлекаюсь. Я тоже – не знаю… Я буду прям. Если бы моя жена была не больна, тогда другое дело, но она больна» и т. д. Я не могу себе представить, что будет с ней, если он отвернется: она вся тает перед ним, как мороженое.
3 июля. Мы уже две недели в Холомках. Я бегаю по делам колонии и ничего не делаю. Дожди каждый день и целый день. Коля в первый день, когда приехал, услыхал перекличку мужиков: что это такое? – Это сова, – ответил я. – А вот как кричит сова! Очень похоже на людей. Но что это? (Сова вдруг закричала: «Василий».)
За 40 дней я 30 раз ездил в город на гнусной лошади и на телеге, которую из деликатности зовут только Бедой, а не чумой, дыбой.
5 июля. Я единолично добыл Колонию Бельское Устье, добыл сад, из-за сада я ездил в город 4 раза, из-за огорода 1 раз, из-за покосов 4 раза (сперва дали, потом отняли), добыл две десятины ржи, десятину клевера, добыл двух лошадей, жмыхи, я один, безо всякой помощи. Ради меня, по моей просьбе Зайцев отделал верх для колонии, устроил кухню, починил окна и замки на дверях. Я добыл фураж для лошадей – и, что главное, добыл второй паек для всех членов колонии и их семейств – паек с сахаром и крупой.
Все это мучительная, неподсильная одному работа. Из-за этого я был в Кремле, ездил в Псков, обивал пороги в Петербургских канцеляриях. Все это я должен был делать исключительно для литературного отдела, но я решил передать это и художественному, так как думал, что художники и будут мне надежными товарищами. Но товарищеская помощь художников выразилась вот в чем:
4 дня Б. И. Попов не давал мне следуемого мне молока, доказывая, что ему самому мало.
Когда я приехал с детьми, Бобе дали кровать с клопами. Ежесекундно попрекают нас, что мы жжем бездну дров, хотя, конечно, дров у нас уходит гораздо меньше, ибо до сих пор мы жили впроголодь и в лучшем случае ели щи и кашу. Кроме того, мною добыто для колонии три сажени дров.
– Когда я, больной, трясся на Беде в Порхов выхлопатывать кровати для колонистов, пайки, рожь и т. д., мне говорила Елисавета Осиповна:
– Вот вы каждый день катаетесь в Порхов, а нам не дадите лошадки даже на день – съездить на мельницу.
А у меня от этой езды всякий раз – колотья в пояснице.
Такова атмосфера, в которой мне приходится работать. Попов сейчас же, чуть я добыл лошадей, взял лучшую и уехал на 3 дня в Порхов. Бедная моя жена работает, как каторжная – четверо детей, ни прислуги, ничего и ниоткуда никакой помощи. Что, если бы вместо меня приехал сюда не член Совета, не заведующий Литературным отделом, а заурядный литератор, с семьею – и не достал бы всем ни пайка, ни ржи, ни огорода, ни покосов, ни лошадей? Здесь на меня смотрят как на приказчика и говорят:
– Когда же будут дрова? Корней Ив., вы приняли меры, чтобы были дрова?
Хотя я мог бы спросить у г-жи Добужинской: – Когда же будут дрова? Елисавета Осиповна, вы приняли меры, чтобы были дрова?
Г-жа Добужинская и в частных беседах, в Петербурге, и на собраниях заявила, что она слагает с себя обязанности заведующей общежитием и свою служащую, Анну Густавну, просит не считать служащей колонии Дома Искусств. Но после заседания в частной беседе попросила снова считать. И действительно, невозможно считать Анну Густавну служащей колонии – она при всяком обращенном к ней вопросе заявляет: – Я служу только господам Добужинским. – Вся ее служба мне, напр., заключалась в том, что она продала мне полпуда ржи, получила деньги, а потом, когда рожь вздорожала во сто раз, – взяла эту рожь из моего пайка – без моего разрешения. Помощь Елисаветы Осиповны заключается в том, что сегодня, напр., когда я распорядился послать в Порхов за следуемыми мне кроватями для колонии, Е. О. потребовала лошадь для своих личных надобностей, и лошадь была ей дана, а колония осталась без кроватей. Что делать? Конечно, уехать. Я в пятницу прочту свою первую и последнюю лекцию, добуду себе в Наробразе командировку в Питер, заявлю властям, что снимаю с себя всякую ответственность за дела колонии – и еду в Питер, в чудесную свою квартиру, где авось не умру. Если бы я на устройство своего благополучия истратил хоть сотую долю той энергии, которую я истратил на устройство Дома Искусств и колонии «Бельское Устье» – я жил бы, как Родэ, богачом. Пошлю телеграмму Горькому, чтобы он задержал писателей, собирающихся сюда, и сохраню свое здоровье до осени. А я болен, у меня психостения, и я имею право отдохнуть. Здесь некому меня заменить, и никто не хочет заменять. Добужинского я не понимаю: такой джентльмен, художник с головы до ног – неужели он будет настаивать, чтобы все эти отвратительные порядки, в которых нет ни справедливости, ни уважения к чужому труду, продолжались. Не странно ли, что самую большую помощь оказали мне люди наиболее беспомощные: больной д-р Феголи да Софья Андреевна – и совсем мне посторонние, как Мария Дмитриевна, для которой все мы – докука и тягость. Сегодня полол огород для Евдокии Семеновны, няни Гагариных. Она очень мне нравится. Степенная, с самоуважением, в шляпке, но босиком; совершила каторжную работу, одна устроив большой огород, который и поливала каждый день одна, и полола одна и т. д.
Рассказывала: Соня, когда была маленькая, очень любила пить из блюдца горячее молоко. И все, бывало, дует на него ноздрями, так что в молоке две дырочки. Дети сегодня рвали в саду смородину. Они очень увлекаются городками. В этой игре есть поп. Княгиня вспомнила, что однажды, когда ее сын сказал в лицо священнику: эй ты, поп, и ему сказали, что священника нельзя называть попом, он и во время этой игры в городки кричал: «у меня священник!»
Интересную шараду, сочиненную Андреем Григ. Гагариным, вспомнила княгиня: Первое спасает третье от второго, а целое есть жена первого:
Поп – ад – я.
Княгиня вся состоит из воспоминаний, главным образом семейных. По поводу любого случая, сообщенного ей, она говорит: Когда я с покойным братом Оболенским или: когда Соне было 8 лет и т. д. Как бы она ни торопилась, она бросит все и отдастся этому потоку мнемоники. В конце концов она, несмотря на свою разнообразную жизнь, вся в небольшом уголке 10–15 аристократических семейств: Урусовы, Оболенские, Трубецкие, Столыпины, Лопухины и т. д.
Все стены в ее комнатах увешаны портретами, и о каждом портрете она с удовольствием расскажет – кто это – и при каких обстоятельствах он был снят, кем, почему и т. д. Здесь то старинное и мне неизвестное, что для нас, мещан, кажется архаизмом. Но вынь ее из этих портретиков, и она умрет в тот же день. Она чувствует себя веточкой – одной из веточек – на огромном дереве, и для нее имеет большое значение, что вот ее кузине (или тетке) Урусовой, которая все сидела в кресле по болезни, князь Вяземский посвятил такие-то стихи, а у папы был стол, за который садилось человек 40, важные генералы и мы, детвора. Важная часть стола называлась север, а детская – юг. И вот на юге был однажды такой хохот и такая возня, что север запротестовал. Юг решил показать северу – и на следующий день взрослые были изумлены: вместо галдежа – мертвая тишина. Ни звука. Дети сговорились и молчали весь обед, как убитые. Это княгиня рассказала по поводу того, что мои дети очень галдят за рюхами. По поводу всего у нее готов рассказ. Она не спорит, не доказывает, не разговаривает с вами, она только вспоминает – и не меланхолично, а весело, чуть-чуть становясь на носки при главном эффекте рассказа и глядя на вас милыми и наивными голубыми глазами. С нею заодно ее Дуня, нянька ее детей. Дуня полноправный член семьи, – вечно с папироской – (со сдержанными интонациями умного голоса) – продолжает ту же семейную хронику:
– Петя, я помню, никогда никому не верил – когда ему было года два. Бывало, в Технологическом институте сидит у окна и спрашивает:
– Кто (это идет)?
– Студент.
– Не! Это солдат.
Такой был недоверчивый. А Соня, когда была маленькая, любила сама доставать свой горшочек и садиться. Однажды пришел к нам один господин – и вдруг Соня выходит из чуланчика, вынимает горшочек и дрр!
6 июля. Бедные здешние учительницы! В Бельском Устье Советская власть дала им школу для колонии. В двух небольших комнатках ютятся 30 девочек и 8 учительниц. Одиночества ни у одной. Ни книжку почитать, ни полежать. Девочки грубые, унылые, с пошлыми умишками взрослых мещанок. Ни игры, ни песни их не интересуют. Души практические – до смешного. Учительница естествоведения позвала, напр., девочек на экскурсию. Хотела объяснить им возникновение грибов, побеседовать о грибнице и т. д. Даже приготовила микроскоп. Но девочек во всем этом интересовало одно: грибы. Каждая норовила собрать побольше, нанизать их на нитку, и ни одну не заинтересовали ни клеточки, ни ядрышки, ничего. На следующий день пошли собирать травы для гербария. Девочки собирали только один злак: тмин, из которого и вылущивали семечки, – остальное их не интересовало нисколько. Учительницы тоже не гении: когда ни подойдешь к школе, из нее из окон уныло висят мокрые чулки – сохнут. Лица у большинства – порховские.
8 июля. Был сегодня в Порхове. Замечательно оригинальна помощь, которую мне оказывает Ухарский. Ухарский, помощник Попова по заведыванию нашей колонией, обещал мне, что к четвергу он устроит в Холомках кинематограф. Мы собрали множество народу, оповестили всех – и, конечно, никакого кинематографа не было. Собрались мужики, ждали часа 4. Когда я просил Попова уволить Ухарского как бездействующего паразита, Ионов сказал, что Ухарский добыл для нас кровати. Я пошел туда, где сложены эти кровати, и там мне сказали, что мне эти кровати выдадут, но Ухарскому – ни одной. Несколько дней назад я предупредил его, что в пятницу еду в Порхов. Он обещал с четверга выслать мне телегу и лошадь. Я был так наивен, что сегодня прошел в конюшню, нет ли там лошадки Ухарского. Конечно, ее не было, и кто знает, был ли бы я в городе, если бы поп не дал мне свою тележку, а захожий мужик – свой хомут.
По дороге Зайцев рассказывал мне свою семейную историю: он ударил жену по щеке, она, мерзавка, донесла на него в суд, и ему на днях предстоит позорное выступление перед «всенародными очами», а затем темница.
Б. П. Попов обрадовал нас тем, что достал еще одну лошадь. Но лошадь оказалась шелудивая, грозящая заразой другим лошадям, добытым мною. Вчера едет он на своей лошади по дороге в Устье. – Куда? – К столяру, посмотреть, много ли он сделал. – «Ну, вот и хорошо». А он, оказывается, поехал на любовное свидание с Ухарской, которая убежала в лес (а за ней ее мать: вернись!). Ухарская ополоумела от любви к нему – тут идет жестокий и трудный роман. Роман интересный, но при чем же тут колония? Зачем мы выдаем Ухарскому паек?
10 июля. Сегодня меня очень взволновала встреча с крестьянином Овсянкиным. Это хитроватый актер, талантливый, прелестно изящный. Речь его – бисер. Подъезжая к Холомкам, он остановился, слез с тележки и рассказал мне историю с князем Гагариным. История ужасная. «Вот на этом самом месте была моя рожь, когда евонный дом еще строился. Были четыре полосы его, пятая моя. Я с весны сказал ему: – Ваше сиятельство, не троньте мою рожь, не сомните ее. – Нет, нет, не беспокойся, я ее даже колышками отгорожу. – Приходит лето, иду я сюда, вижу на моей полосе – каменья. Князь свалил на мою полосу каменья для постройки. Я к нему. Его нет. Застаю князя Льва, его сына. – Ваше сиятельство, я к вашей милости. – Чего тебе, Игнаша? – Неправильно вы с моей рожью поступили… – Я, дорогой, ничего не знаю… вот приедет отец, разберет… – через день прихожу я опять – к старику: ваше сиятельство, так и так. Вдруг молодой как кинется на меня: – А, мерзавец, ты опять пришел! – как начнет меня душить – своротил мне шею и все душит… а потом схватил меня за волосы и сует мою морду в каменья. Народ кругом стоит, смотрит – каменщики из Петербурга были приехатчи – а он меня мордой так и тычет. Кровь по морде бежит, что вода. Я только и говорю: ваше сиятельство! ваше сиятельство! а он испугался – отпустил меня, да при всем народе на колени: – Игнаша, прости меня, видишь, я старик, я князь, а перед тобой на коленях. – А я ему говорю: – Я вас, ваше сиятельство, не просил, чтобы вы предо мной на колени стали. Вы сами по собственной воле стали. – Тут он и Лева вдруг кинулись на меня снова и стали загонять меня в домик – в этот беленький. А я вырываюсь, кричу: караул! думаю: убьют. Но они впихнули меня в дверь, князь вынул рубль и дает мне: – Вот тебе, прими и не сердись. – Я сказал ему: – Не нужно мне рубля; ты именитый человек, князь, а с побирашкой связался. Стыдно тебе. – А кровь течет. Я к ручью. А шея не ворочается. Хочу слово сказать, голосу нет. Доктор Феголи лечил меня, лечил месяца два – и он вам скажет[168]. А я пошел к Николаю Угоднику и стал молиться: Николай Угодник, поломай ему либо руку, либо ногу. Так по-моему и вышло. Он сломал себе ногу. Я к нему подошел: – А помнишь, ваше сиятельство, как ты мне шею душил? Вот тебя Господь и наказал.
А потом, когда изделалась революция, мы пришли все, округ стали, а он вышел и говорит: “Товарищи, я вас никогда не забижал, будьте милостивы, не губите меня”. А мы думаем: “ладно!” А он нас и конями топтал, и без рубля не выходи, все штрафовал. То овцу поймает, то корову. “Я, – говорит, – обведу Холомки этакой решеткой и на ней ножи приноровлю, чтобы ваши овцы носом тыкались – и кровавились”. А мы думаем: “ладно”. Вот и дотыкались. Дочка его, Софья Андреевна, ходит, бывалича, по избам: “дай, Иван Федосеевич, хлебца”, “дай, Анна Степановна, хлебца”. Отрежешь ей кусочек, она в муфточку: “спасибо, благодарю тебя”, и руку жмет. А прежде к ней не подступись. Было рукой не достать».
Это все меня очень взволновало. Я никак не ожидал, чтобы либеральнейший князь, профессор вдруг дошел до такого мордобоя. Я думал, что это было с ним только раз, в пылу горячности, в виде припадка, но в тот же день Луша рассказала мне, что он этаким же манером душил Лизавету.
Сегодня я написал Коле укоризненное письмо*. Он зашалопайствовал. Хочу, чтоб опомнился.
15 июля. Я стал форменным приказчиком колонии. Я на службе у Анны Густавны. Нужно рассказать все по порядку. Около 1-го числа мне удалось выхлопотать в здешнем Упродкоме для каждого члена колонии – овсяную муку, сахар, соль, горох и др. продукты. Кроме того, всех нас приписали к молочному пункту. Но случилась обычная заминка. Я не привез пайков в тот день, когда ожидали, и на молочном пункте не выдали молока – по случайной причине. Анна Густавна сказала:
– Вот, К. И. умеет доставать все для семьи, а для колонии – нет.
Сказала вслух моей жене.
Получено письмо, что едут Леткова с сыном, Нельдихен, Милашевский и др. Как верный приказчик, я побежал в Устье, пошел по незнакомым домам, выклянчивал у всех мебель, дайте стул на недельку, дайте стол на десять дней и т. д. Истратил на это полдня. Пошел к учительницам: изготовляйте, пожалуйста, еду и для колонистов. – Нет, мы не можем. У нас нет дров. – Я дам вам дрова. – У нас кастрюли малы. – Мы дадим вам кастрюли. – Наша кухарка… – Я дам вам кухарку. – Но у нас нет предписания от Зав. Наробразом. – Завтра принесу вам предписание от Зав. Наробразом. Устроив и это, я пошел, переутомленный, домой. Накануне было заседание, и я просил Попова хоть теперь, хоть в последнюю минуту, хоть до приезда Дзыговского взяться за работу. – Я говорил, что стыдно ему так отвратительно лодырничать, взваливая на меня всю черную работу, что должен же он в конце концов меня пожалеть и т. д. Попов согласился со мною, что до сих пор он действовал постыдно, сказал, что на это были какие-то причины, и обещал подтянуться. Я обрадовался. Назавтра иду к Попову: у него на двери замок. Вот и вся его помощь мне! А из Порхова нужно возить кровати, нужна лошадь, нужен Попов. Я в Устье – и о ужас! исчез не только Попов, исчезла и лошадь!!! Это в такое горячее время, когда нужно приготовить все, когда завтра приедут люди! Оказалось – (это невероятно, но это так), – что Попов взял нашу служанку Лизу, взял нашу лошадь и как ни в чем не бывало – уехал в Межник по своему маленькому делу – за картошечкой. У меня семья сидит не только без картошечки, но и без хлеба, – у меня нет секунды подумать о семье – а этот господин, с великолепным презрением ко мне – к колонии – уехал за картошечкой. Где взять лошадь? Кто поедет за кроватями? Выпросил тележку у попа, взял Колю – еду за кроватями. Приезжаю в Порхов. Иду в лавку Упродкома. Приказчик (за 20.000, данных ему накануне якобы для покупки сахару), шепчет мне, что в кладовой есть рожь, но нужно брать сейчас же, не то возьмут другие. Я в Упродком. Дайте рожь. Председатель говорит: «ржи нет». Я говорю: «рожь есть». – В конце концов совершилось неслыханное. Дали нам 9 пудов ржи. Ура! Нет мешков. Ссудили и мешками. Я опять в Упродком. Добыл для Народного Дома керосину. Ура! Удалось сделать так, что нам дали и рожь, и овсяную муку. Везу и то, и другое в Холомки. Перед этим читаю в Детской библиотеке лекцию о Достоевском. Присутствует вся интеллигенция города. И председатель Исполкома Иванов. После лекции приезжаю домой, захватив с собою две кровати. Дома, в семье, ад. У М. Б. нет времени голову причесать. Лиду замучила Мурка и т. д., и т. д., и т. д. Спрашиваю у г-жи Добужинской: кто разделит привезенные мною продукты на 26 частей?
Ответ г-жи Добужинской должен сохраниться на скрижалях истории. Г-жа Добужинская подумала довольно долго – очевидно размышляя, кто изо всех колонистов наиболее свободен. Можно было поручить это Анне Густавне – на ней лежит забота только о двух людях, или Анне Александровне. На ней лежит забота только о двух людях. Или Елис. Осиповне. У нее есть помощница и на ней лежит забота лишь об одном члене семьи. Но Ел. О. сказала:
– Пусть разделит продукты М. Б. (так как на М. Б. лежит забота о шестерых – у нее ребенок и нет служанки). – Я ответил: тогда у вас будет два приказчика. Чуковский будет привозить вам продукты. Чуковская будет их делить. А вы с Анной Густавовной их есть. Это и есть настоящее разделение труда.
Тут я ушел – и заплакал. Софья Андреевна увела меня к себе и утешала. Плакать было от чего. Проходит лето. Единственное время, когда можно писать. Я ничего не пишу. Не взял пера в руки. Мне нужен отдых. Я еще ни на один день не был свободен от хлопот и забот о колонии. А колонии и нету. Есть самоокопавшиеся дачники, которые не только ничем не помогли мне, но даже дразнят меня своим бездействием. Как будто нарочно: работай, дурачок, а мы посмотрим. Художественный отдел в лице Попова и Ухарского пальцем о палец не ударил, чтобы помочь Литературному. Иногда это бывало даже смешно: Ухарский говорит: завтра у вас будет телега. – Телеги нет. – Ухарский говорит: завтра у вас будет кинематограф. – Кинематографа нет. – Ухарский говорит: завтра у вас будут кровати. – Кроватей нету. – Ухарский говорит: завтра привезу в Бельское Устье мебель. – А мебели и нет. Но мебель он, быть может, и достанет, потому что уж очень законфузились.
17 июля. Каков Попов как администратор. Месяц назад он сказал нашей Лизе, что она на службе не состоит. Но нашел ли он другую служанку? Нет. Отрешил он Лизу от исполнения занятий коровницы и хлебопекарки? Нет. Он только заявил, что она больше у нас не служит. А она по-прежнему доит коров, по-прежнему печет хлебы, он принимает у нее из рук молоко – и считает, что она у него не служит. Пайка ей не выписал.
Когда я спросил у него, почему? – он ответил: она у нас не на службе. Когда я спросил: почему же она по-прежнему доит коров, он ответил: она заменяет Федора. Когда я спросил: разве в обязанности Федора входит доение коров? он обиделся и ушел к себе в дом. А птичник?
Лида больна, лежит у меня в комнате. Я очень голоден – по-петербургски.
Спрашиваю сегодня плотника: ну, что вы делали?
– Починял тележку.
– Чью?
– Для колонии.
– У колонии нет тележки.
– Мне дал Ухарский.
Понемногу выясняю, что Ухарский сломал чью-то тележку и, оторвав нашего плотника от работы, дал ему починить эту тележку, якобы для колонии.
Борис Петрович опять услал Лизу за своими сапогами.
После нашего разговора он сказал Лизе: «Ты не смей доить!» А потом: ты или Федор поедете в город.
Как же он может посылать ее, если она уволена?
Уезжает на целые дни. На работы для колонии? Нет. Там он отсутствует.
Княгиня готовит для нашего пастуха. Княгиня кормит нашего сторожа. Софья Андреевна не получает ни пайка, ни денег.
______________
Вся эта злая болтовня Давно измучила меня, Мне тошно слушать каждый день Одну и ту же дребедень.25 июля. Утро. 6 час. Будит Лиза: коровы потравили чужую рожь в деревне Дрисново. Одеваюсь, иду с Софьей Андр. к мужикам, нас ведут в поле, показывают потраву, измываются над нами и освобождают коров. Борис Петрович в Порхове. Добужинский отдыхает с дороги. Сергей Моисеевич собирает для своей семьи яблоки.
Очень голодный, без хлеба, прихожу домой – там история: Анна Густавна обвинила нашу милую Зиночку, изящную и простодушную девочку, в воровстве. Все оказывается чепухой, но день у меня испорчен.
Через час приходит Дзыговский и зовет меня в Захонье, собрать мужиков для сбора нашей ржи. Беру на руки Муру и голодный иду в деревню. Тяжело, голова кружится, хочется писать, я опять с мужиками, опять хлопочу, как приказчик, Добужинский отдыхает с дороги, Борис Петрович в Порхове.
_______________
Вся деятельность колонии художников в Холомках за 1920 и 1921 г. до мая месяца, когда в эту колонию вошли литераторы, заключается в том, что два лета одна семья жила преспокойно в доме Гагариных. Это они называли – «организационным периодом».
1 августа. Наконец-то и Мстислав Валерианович взялся мне помочь: поехать с бумагами в Порхов. Но, конечно, встал он поздновато. Собирался долго. Долго седлал коня. Приехал в Порхов к 4 часам. Ни одной бумаги не подал – поручил все Ухарскому, который у нас уже не состоит на службе, и приехал обратно, не прочитав лекции. Это случается со всяким, но, вернувшись, он говорит: «никогда больше не поеду по делам».
К княжне приехал сын Теляковского делать предложение. Доктор Фегели между жизнью и смертью. Я сегодня снова взялся за статью о Блоке – после 3-хмесячного перерыва. – «Спасибо, что приехали, благодарствуйте», – сухо говорит княгиня Теляковскому – провожая его до двери.
6 августа. Ночь. Коля на именинах у Б. П. Ухарского. Здесь в деревне что ни день, то именины. Мы здесь около месяца, но мы уже праздновали именины Пети, священника (отца Сергия), г-жи Добужинской, учительницы Ольги Николаевны и т. д., и т. д. Все это мне чуждо до слез, и меня иногда разъяряет, что Коля вот уже больше месяца ничего не делает, а только справляет именины полузнакомых людей. Дождь, ветер. На столе у меня Блок, D. G. Rossetti, «Cristabell» Колриджа, «Бесы» Достоевского – но никогда, никогда я не был так далек от литературы, как в это подлое лето. Я здесь не вижу никого, кому бы все это было хоть в малой мере нужно, а ежедневные столкновения с Анной Густавной и прочая канитель не располагает к работе над Блоком. Сейчас я читал Гершензона «Видение поэта»* – книжка плоская и туповатая, несмотря на свой видимый блеск. Почему, не знаю, но при всем своем образовании, при огромных заслугах Гершензон кажется мне человеком без высшего чутья – и в основе своей резонером (еврейская черта), и тем больнее, что он высказывает мысли, которые дороги мне.
Сегодня событие: приезд Ходасевичей. Приехали ли они? Вчера в Порхове Сергей Моисеевич дал мне депешу Лефлера: «Пришлите лошадей для троих Ходасевичей». Я сейчас же пошел в Исполком – выхлопотал для них подводу, нарочно задержался из-за них в Порхове – и вот сегодня звонят с Бычка, что они приехали, а подводы нет. Как взволновался Добужинский, стремительно мы откомандировали Бобу в Устье за подводой. Боба сообщил, что подвода выехала, но вернулась ли она, не знаю. Мурка процветает: ей очень хочется поговорить обо всем, что она видит, но ее мучает ее немота. Она подходит ко мне и показывает пуговку. Я говорю: пуговка, ее очень радует, что я говорю за нее, высказываю ее мысли. Она показывает на огонь. Я говорю: огонечек горит. Она в экстазе: да, да (единственное ее слово, очень для нее трудное, она всегда приостанавливается, прежде чем его произнести). Следит за мухой. Я говорю: муха летает. Мура хохочет от радости узнавания своих собственных мыслей, а мысли у нее уже есть, то есть почти есть – в словесной форме. «Выпуклая радость узнаванья».
7 авг. Лида написала пьесу о Холомках*. Очень забавную. Добужинский сделал очень много рисунков: написал маслом своего сына Додю – в комнате – с красной книжкой, нарисовал углем княжну (очень похоже, но обидно для нее – слишком похоже, немолодая и черная), Милашевского (блистательный рисунок) и несколько карикатур: княжна на лошади вместе с зевающим Борисом Петровичем и пр. Все это очень хорошо. Но когда заговариваешь с ним о хозяйстве, он морщится – и норовит переменить разговор. Ему не хочется ни волноваться, ни работать для общего дела. Он вчера сидел вечером у меня с княжной и рассказывал анекдоты (с намеками на непристойности: «это я ротом» и пр.), и я чувствовал, что с моей стороны было бы бестактностью заговорить с ним о хозяйстве.
11 августа. Итак, я дал Попову: несколько пудов ржаной муки, лишний паек, лошадь, яблоки, огурцы, персики, капусту, табак, – я облегчил его жизнь на 50 %, что же дал он мне взамен: он отнял у меня мое молоко, распределил молоко бессовестно, испортил мне все лето своим темным сопротивлением всему, что я делал. Он любит все подставное, поддельное: напр., основал школу живописи, где одна ученица – Мордвинова (а числится 15 человек). Ходит в эту школу преподаватель раз в три недели. Промышляет надписями: да здравствует 3-й Интернационал! И этого-то человека у нас считают поэтическим, загадочным и проч. Где же взаимность? [половина страницы оторвана. – Е. Ч.].
Добужинский при своей невинности в житейских делах не знает, что колония, если бы я ей не придал ее настоящий вид, была бы давно закрыта, что если [бы] я не оборудовал ее для Ходасевича, Милашевского, Летковой, Зощенко и т. д. – оказалась бы скандальным учреждением, которое кончило бы свое бытие – весьма позорно. Что я укротил Шкловского, гнев Горького, и пр. Добужинский не знает, даже не подозревает, что такое добыть клевер или жмыхи, или хомут, или рабочего, или вообще что-нибудь. Для этого надо не спать ночь, сбегать чуть свет на мельницу, выпросить вожжи, снести к дяде Васе кусок мыла, выпросить телегу, послать к Овсянкину за хомутом, потом трястись под дождем, не евши, 12 верст, потом ходить из одной канцелярии в другую, выстаивать в очереди, потом, получив, напр., разрешение на хомут – трястись в сторону, в деревню, где оказывается, что человек, у которого есть хомут, находится в поле – идти к этому человеку за три-четыре версты, дарить ему собственные папиросы – вернуться с ним и узнать, что хомута нет, и получить от него какую-то дрянь, и ехать обратно, не евши, 17 верст, с болью в голове, и думать:
– Боже, когда же я буду писать!
И вернуться домой с отбитыми внутренностями, вечером, в грязи, а дома (как это было первые дни) нечего есть, дома жена в слезах, дома – помощи ниоткуда. Г-жа Добужинская, видя, что человек ездил для нее, работал для нее (потому что я работал и для нее), могла бы облегчить покуда чуть-чуть его жизнь, а она вдруг выходит на крыльцо и говорит:
– Трое вас заведующих, а толку никакого. Когда вам кататься, есть лошадь, а когда нам по делу, никогда нет.
Вот и вся помощь со стороны Добужинских. Мстиславу Валериановичу даже бумажку написать трудно, он ленится сходить лишний раз в Устье, он даже не попробовал достать, напр., телегу, коров, он даже не заинтересовался, откуда взялись кровати, матрацы, одеяла, стулья, столы в Бельском Устье – он не думает, что половину этой работы по оборудованию всего должен был делать он для того, чтобы колония была колонией художников и литераторов, что если художники ничего для Устья не сделали, то положение их там весьма неловкое. Они ничего не сделали, Попов только мешал, делая дурацкие распоряжения Зайцеву, после чего тот бросал работу, и вся их забота была не о том, как помочь Чуковскому, а о том, как бы Чуковский не взял себе чего-нб. лишнего.
Добужинский не пришел ко мне и не сказал:
– Вы измучены работой для всех нас. Давайте теперь буду работать я. Отдохните.
А он пришел и сказал:
– Вам прислали яблоки, кажется, несколько лучшего сорта, чем нам.
Это оказалось вздором – и нам и ему прислали дрянь, но что было бы, если бы я за всю работу и в самом деле получил лишнее сладкое яблоко! А ведь мое молоко и сейчас пьет Попов.
Я прочитал в Порхове 12 лекций, за это получил паек. Анна Густавна говорит: Чуковский для себя достает, а для нас ничего.
С Анной Густавной вообще положение замечательное. Когда нужно работать, она здесь была не служащая, когда нужно получать паек, она – служащая. Но вот однажды случилось, что пайки выдают только членам семьи. Добужинский сейчас же объявил ее членом семьи. Но если она член семьи – пусть же он примет ответственность за все, что она делает и говорит. А говорит она вслух следующее:
– Чуковский – советский. Я всем говорю, что он советский. Он нахал. Он хотел у меня замошенничать рожь.
Добужинский этого не замечает. Его каждый день и целый день настраивают против меня. И я утомляю его. Но меня он не утомляет, если я для него, для Попова, для Анны Густавны, для Милашевского – бегаю из Упродкома в Леском, из Утрамора в Уземотдел – в то время, как он отдыхает, рисует, спит. И он ни разу не сказал: давайте подумаем, как сделать, чтобы этот писатель, так обремененный семьей, мог писать. Давайте подумаем, как облегчить его жизнь. Вот ему сладкое яблоко, – вот ему его молоко – он заслужил это все. Не будем думать, как бы выселить его семью из большого дома, а возьмем на себя его труд.
11 августа. Только что вошел Добужинский и сказал, что Блок скончался. Реву – и что де [оторван кусок страницы. – Е. Ч.].
12 августа. Никогда в жизни мне не было так грустно, как когда я ехал из Порхова – с Лидой – на линейке мельничихи – грустно до самоубийства. Мне казалось, что вот в Порхов я поехал молодым и веселым, а обратно еду – старик, выпитый, выжатый – такой же скучный, как то проклятое дерево, которое торчит за версту от Порхова. Серое, сухое – воплощение здешней тоски. Каждый дом в проклятой Слободе, казалось, был сделан из скуки – и все это превратилось в длинную тоску по Александру Блоку*. Я даже не думал о нем, но я чувствовал боль о нем – и просил Лиду учить вслух английские слова, чтобы хоть немного не плакать. Каждый дом, кривой, серый, говорил: «А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок». И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его – т. е. не как фраза чувствовалась, а на самом деле: я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и – порховская, самогонная скука. Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто – все вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. «Вот едет старик, мертвый, задушенный – без ничего». Я думал о детях – и они показались мне скукой. Думал о литературе – и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр – не умеющий по-настоящему и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое-то очарование, какая-то подслащающая ложь – и все скелеты наружу. – Я вспомнил, как он загорал, благодатно, как загорают очень спокойные и прочные люди, какое у него было – при кажущейся окаменелости – восприимчивое и подвижное лицо – вечно было в еле заметном движении, зыблилось, втягивало в себя впечатления. В последнее время он не выносил Горького, Тихонова – и его лицо умирало в их присутствии, но если вдруг в толпе и толчее «Всемирной Литературы» появляется дорогой ему человек – ну хоть Зоргенфрей, хоть Книпович – лицо, почти не меняясь, всеми порами втягивало то, что ему было радостно. За три или четыре шага, прежде чем подать руку, он делал приветливые глаза – прежде чем поздороваться и вместо привета просто констатировал: ваше имя и отчество: «Корней Иванович», «Николай Степанович», произнося это имя как «здравствуйте». И по телефону 6 12 00. Бывало, позвонишь, и раздается, как из могилы, печальный и густой голос: «Я вас слушаю» (никогда не иначе. Всегда так). И потом: Корней Иваныч (опять констатирует). Странно, что я вспоминаю не события, а вот такую физиологию. Как он во время чтения своих стихов – (читал он всегда стоя, всегда без бумажки, ровно и печально) – чуть-чуть переступит с ноги на ногу и шагнет полшага назад; – как он однажды, когда Любовь Дм. прочитала «Двенадцать» – и сидела в гостиной Дома Искусств, вошел к ней из залы с любящим и восхищенным лицом. Как лет 15 назад я видел его в игорном доме (был Иорданский и Ценский). Он сидел с женою О. Норвежского Поленькой Сас, играл с нею в лото, был пьян и возбужден, как на Васильевском Острове он был на представлении пьесы Дымова «Слушай Израиль» и ушел с Чулковым, как у Вячеслава Иванова на Таврической, на крыше, он читал свою «Незнакомку», как он у Сологуба читал «Снежную Маску», как у Острогорского в «Образовании» читал «Над [черной] слякотью дороги». И эту обреченную походку – и всегдашнюю невольную величавость – даже когда забегал в Дом Литераторов перехватить стакан чаю или бутерброд – всю эту непередаваемую словами атмосферу Блока я вспомнил – и мне стало страшно, что этого нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любви, «его декадентство», «его реализм», его морщины – все это под землей, в земле, земля.
Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. Литература – это работа поколений, ни на минуту не прекращающаяся – сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение столетий массой – и… [страница не дописана. – Е. Ч.].
В его жизни не было событий. «Ездил в Bad Nauheim». Он ничего не делал – только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет с 98 по 1918. И потом он остановился – и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он.
_______________
Я не хочу каждый день попрекать, напр., Попова: я достал для тебя картошку, я достал для тебя муку, я достал для тебя пуды яблок, я достал для тебя лошадей – но пусть же и он хоть знает об этом – и чувствует хоть наружную благодарность, а не пристает ко мне с вопросом:
– Когда вы отдадите мне ½ сажени дров, которыми я вас ссудил?
Конечно, это не подлость, а пошлость, мелкенькая пошлость мелкенького человечка. Он теперь просит, чтобы ему, как одинокому, был предоставлен паек в двойном количестве.
Если Холомки и Устье одно, то правила для Устья и Холомков – одинаковые.
Если она член семьи, пусть и отвечает за нее как за члена семьи. Черкесовы. Вознаграждение. О моих ошибках, но не о моих делах. Принимая во внимание всю огромную работу, произведенную К. Ч.
Я думал: художники совещаются: Чуковский уходит, как выразить ему благодарность за его безвозмездную работу. Мы два года мудрили и ничего не сделали, а он сделал. Может быть, они затевают какой-нб. банкет в честь Чуковского. Или хотят отказаться от картошки в пользу Чуковского.
А они: отдал ½ сажени дров.
Я отошел от дела. Заболел. Яблоки гниют десятками пудов. Никто из администрации не может даже получить следуемые нам дрова по добытым мною ордерам. Пайки никем не получены. (В шкафах и сундуках внизу мои товарищи прячут от меня дрова. Я с больной ногой хожу в лес и собираю сучья. Если бы месяц назад мне сказали ласковое слово и не смотрели на меня как на врага и не хоронили от меня печать, я не бросил бы работать и теперь у колонии была бы мебель) и самое ужасное: Добужинский особой бумагой напомнил Штабу, что пора отобрать у нас лошадей. У нас и отобрали.
Художественный отдел в 1½ года. Двух коров.
Лит. отдел добыл в 1 месяц:
Молочный пункт. На каждого члена колонии по бутылке молока.
Паек детской колонии (сахар, рожь, крупа и т. д.).
Огород.
Сад.
3 лошадей.
2 десятины ржи.
1 десятина клеверу.
Ежемесячное получение жмыхов.
Организовал приток колонистов.
Распропагандировал колонию.
Добужинский называет меня «неврастеником», «опасным и утомительным человеком». Он говорит, что мне везет в такого рода делах. Сам он действительно трогательно и патетично в них беспомощен. Так-таки не достал пайков, не отвоевал лошадей, не послал никого за дровами. Он не знает, что для того, чтобы везло, нужно:
1. встать в 5 час. утра.
2. бегом побежать на мельницу – за хомутом.
3. побежать в Захонье за упряжью.
4. оставить семью без хлеба.
5. прошататься не евши по учреждениям.
6. вернуться домой и услышать:
– В прошлом году здесь жилось хорошо и сытно, а теперь приехали «литераторы» – и всюду грязь, шум и проч.
20 или больше августа. Был Мстислав Валерианович у меня. Едва только я стал читать ему отрывки из этой тетради, он сказал, что все это «кухонные мелочи» и что я совершу пошлость, если кому-нибудь покажу изложенное здесь.
[Вклеен лист. – Е. Ч.]:
МОЙ ОТЗЫВ О РАБОТЕ АМФИТЕАТРОВА
(Этого отзыва Амфитеатров никогда не мог мне простить.)
В статейке Амфитеатрова много вычур. Если нужно сказать: «вскоре он умер», автор пишет: «судьба настигла его быстрою смертью». Ему нравятся такие выражения, как:
«Попытка, пропитанная самовлюбленностъю», стр. 4.
«Гений вклинил поэта» (3).
«Ползет отрава талантливой злости» (5).
Вот как на стр. 6-й автор выражает ту мысль, что в одном романе д’Аннунцио слишком подчеркнул разницу лет двух супругов:
…«В ловко поставленном возрастном контрасте… д’Аннунцио поставил в рассчитанную противоположность торжествующей, победоносной юности (он) и увядающей, покатившейся к вечеру своему жизни, уже ступившей на порог старости (она)»…
Все это похоже на пародию. Этот дешевый стиль декаданс сочетается с наивно-фельетонным:
«Титан музыки XIX века Рихард Вагнер».
«Виктор Гюго и Шекспир, сияющие в репертуаре великой артистки…»
Даже русский язык, обыкновенно столь добротный у автора, изменил ему на этот раз.
I (1 стр.) он пишет: «намечная литература» – пасквильная л-ра
VI «снобизм, отразившийся из Парижа» (5 стр.)
II «толкующий свет» (9 стр.)
V «Д’Аннунцио пишет и рисует свои воззрения» (8 стр.)
III «Почерпнет много знающих указаний» (11 стр.)
IV «Молодой сценический сор».
Немало таких выражений, как: до дочери Горио (стр. 3).
Но, конечно, все это было бы пустяк, ежели бы самое содержание статьи не было столь чуждо нашим задачам. Представим себе, что мы издаем «Евгения Онегина» – и в предисловии пишем: как не стыдно Пушкину, он проиграл вторую главу своего романа. В карты очень стыдно играть. Моральное негодование так охватило Амфитеатрова, что он излил его на десяти страницах, а когда очнулся, было поздно: статья уже кончена. Между тем роман «Огонь» есть роман об искусстве. В нем целая система эстетики. В то время, когда появился роман, взгляды, изложенные в этом романе, были новы, революционны, значительны. Предисловие должно было тоже свестись, главным образом, к объяснению этих эстетических воззрений д’Аннунцио. В чем была их новизна? Как они связаны с общеевропейским неоромантизмом той поры? С этого надо было начать, сделать это центром статьи*.
6 декабря 1921. Очень грущу, что так давно не писал: был в обычном вихре, черт знает как завертело меня. Вчера вышли сразу три мои книжонки о Некрасове* – в ужасно плюгавом виде. Сейчас держу корректуру «Книги о Блоке», которая (книга) кажется мне отвратительной. Вчера в оперном зале Народного Дома состоялся митинг, посвященный Некрасову по случаю столетия со дня его рождения. Я бежал с этого митинга в ужасе.
Дело было так: недели две назад ко мне подошел Евгеньев-Максимов и пригласил меня на заседание по основанию Некрасовского общества. Я с радостью согласился. Но на заседании выяснилось, что Максимов, председательствуя, так лебезил перед какими-то акушорками, которые представляли собою какие-то Губполитпросветы, так раскланивался перед властями, что было отвратительно слушать. На заседании был кроткий Осип Романович Белопольский – представитель Государственного издательства. «Он и к тому, и тем не пренебрег»[169]: «Честь и слава Госиздату, который издал к Некрасовским дням столько полезнейших книг!»
А между тем Госиздат не издал ничего, кроме брошюр самого Максимова* да дурацкого альбома Картавова. Изданное же этим издательством «Собрание стихотворений Некрасова» (под моей редакцией) гаже всего, что можно себе представить*. Меня возмутил тон Максимова, я уговаривал его, ради Некрасова, не столько раскланиваться с всевозможными акушорками, вроде Лилиной, Ядвиги и т. д., сколько завести отношения с общественными организациями – Домом Литераторов, Домом Искусств и проч. Он горячо ухватился за эту мысль – и вот дней 5 назад было заседание в Губполитпросвете. Пришли: Иванов-Разумник, Волковыский и я. Максимов разводил турусы на колесах, утверждал, что все празднество будет в руках у Общества, что казенные люди из Губполитпросвета сами отдают все в руки Общества. Я долго торговался, чтобы афиша была сочинена в желательном для общественных организаций виде – и что же оказалось? – о Боже! когда мы пришли в оперный зал Народного Дома – всюду был тот полицейский, казенный, вульгарный тон, который связан с комиссарами. Погода была ужасная, некрасовская. Мокрый снег яростно бил в лицо. В мокром пальто, в дырявых башмаках, попал я в холодное, нетопленое помещение театра. Приходила детвора, все лет 10–12, не старше. Пришел и Нестор Котляревский, в воротничке без галстуха, в шапке собачьего меха. Мы прошли в партер. Вдруг прибегает взволнованный Яковлев (кажется, так) и говорит, что приехал Комиссар по Просвещению Кузьмин, который и хочет председательствовать. Нестор пошел вместе со мною к Кузьмину и сказал: «Я выбран в качестве председателя. Теперь вы желаете председательствовать. Пожалуйста! мне здесь нечего делать».
– И мне! – сказал я. Мы надели шапки и ушли. В кучке большевиков, которые к тому времени сгрудились у гипсового бюста Некрасова, стоявшего на сцене, за занавесью, произошло совещание. Был какой-то очень красивый, молодой – который, должно быть, говорил: «Ну их к черту», и были другие, которые взывали к примирению. В числе этих последних был глава Госиздата Ионов, который бросился догонять нас – и сказал, что Ник. Ник. Кузьмин не будет председательствовать, а только откроет заседание и уйдет. Мы согласились на это. Но это была ловушка. Вдруг наехал целый сонм акушерок – и все уселись за красным столом – рядом с нами! Нас было мало: я, Котляревский да представительница Вольфилы, – больше никого. Спели жидковатую славу, и председатель выпустил Максимова. Боже, что говорил этот человек. Он в шубе и шапке подошел к эстраде и, мощно двигая челюстями, стал истошным голосом кричать, что Некрасов был печальник народного горя, причем, цитируя стихи, придавал своему белужьему реву сентиментальную икоту. Было больно и страшно смотреть. Кончая, он вдруг сказал, что теперь у памятника Некрасова объединились представители народа и интеллигенции. Мне стало тошно. Я не пожелал сказать свое слово и ушел, бежал.
12 декабря 1921 года. На днях объявилась еще одна родственница Некрасова – г-жа Чистякова. Ко мне прибежала внучка Еракова, Лидия Михайловна Давыдова, и сказала, что в Питере найдена ею «Луша», дочь Некрасова, с которой она вместе воспитывалась, и т. д. И дала мне адрес: Николаевская, 65, кв. 9. Я пошел туда.
Мороз ужасный. Петербург дымится от мороза. Открыла мне маленькая, горбоносая старушка, в куцавейке. Повела в большую, хорошо убранную холодную комнату.
– Собственно, я не дочь Некрасова, а его сестра. Я дочь одной деревенской женщины и Некрасова-отца…
В комнате большая икона Иисуса Христа (которого она называет Саваофом) и перед иконой неугасимая лампадка… с керосином. Мы с нею оживленно болтали обо всем. Она рассказала мне, что знаменитую Зину, Зинаиду Николаевну – Некрасов взял из публичного дома, что эта Зина перед смертью обокрала его, и т. д.
Я предложил ей написать воспоминания. От Белицкого получил письмо – лежит на столе – я из малодушия боюсь прочитать: не читаю со вчера.
Вот за стеною Мура уже начала свои словесные экзерцисы; кричит: А-ва! А-ва! Ава – значит собака. Кроме того, это самое легкое слово. Случается, что она, желая поговорить, выговаривает бессмысленно ава и только потом притягивает к этому крику значение: показывает картинку с собачкой. Раньше фонетика, а потом семантика. Заумное слово уже после произнесения становится «умным».
Кошек она любит до страсти. Зовет их ксс. И всякую меховую вещь тоже зовет ксс. Тянется к моему воротнику, чтобы погладить, – и говорит: ксс, ксс. И когда я даю ей мою серую шапку, она кормит ее, укладывает спать и т. д.
Когда она подходит ко мне и выражает какие-ниб. желания, которые мне приходится угадывать, она неопределенно мычит. Но когда я угадаю, она, как из пушки выпаливает: да! Видно, что в это да уходят все силы ее существа.
Сейчас сяду составлять для Сазонова антологию поэтов. Ой, как мне хочется писать, а не стряпать книжонки.
Декабрь 19, понедельник. Мурка говорит «дяба», то самое слово, которое когда-то говорил Боба. Сегодня я буду читать «Воспоминания о Блоке» – в четвертый раз. От Кони – хвалебное письмо по поводу моих книжек о Некрасове*. Был вчера у Ходасевича, он читал мне свою прекрасную статью об Иннокентии Анненском*. Статья взволновала меня и обрадовала. Вдруг мне открылось, что Ходасевич, хоть и небольшой человек, но умеет иногда быть большим, и что у него есть своя очень хорошая линия. От Ходасевича – к Белицкому. Белицкий приютил мамашу Андрея Белого, она пообедала, а потом ушла в свою комнату.
24 декабря. Сейчас от Анны Ахматовой: она на Фонтанке, 18, в квартире Ольги Афанасьевны Судейкиной. «Олечки нет в Петербурге, я покуда у нее, а вернется она, надо будет уезжать». Комнатка маленькая, большая кровать не застлана. На шкафу – на левой дверке – прибита икона Божьей Матери в серебряной ризе. Возле кровати столик, на столике масло, черный хлеб. Дверь открыла мне служанка-старуха: «Дверь у нас карактерная». У Ахматовой на ногах плед: «Я простудилась, кашляю». Мы беседовали долго, и тут я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя. Носит себя повсюду, только и думает о себе – и других слушает только из вежливости.
– У меня большая неприятность с «Петрополисом». Они должны были заплатить мне 9 миллионов, но стали считать «по валюте» – и дали только четыре. Я попросила Алянского сходить к ним для переговоров, они прислали мне грубое письмо: как я смела разговаривать с ними через третье лицо – и приглашают меня в Правление в понедельник! Нахалы. Я ничего не ответила им, а послала им их письмо обратно. Теперь приходил Лозинский, говорит, что я обидела Блоха и т. д… Скоро выходят «Четки». Ах как я не люблю этой книги. Книжка для девочек. Вы читали журнал «Начала»? – Нет, – сказал я, – но видел, что там есть рецензия о вас. – Ах, да! – сказала она равнодушно, но потом столько раз возвращалась к этой рецензии, что стало ясно, какую рану представляет для нее эта глупая заметка Чудовского*. – Я, конечно, желаю Анне Радловой всякого успеха, но зачем же уничтожать всех других» (в рецензии уколы по адресу Блока, Ахматовой, Белого)… Я сказал: – Зачем притворяться? Будем откровенны: Чудовский – махровый дурак, а Радлова – негодная калоша. – Я боюсь осуждать ее, грех осуждать, но… – сказала она и, видимо, была довольна. – Меня зовут в Москву, но Щеголев отговаривает. Говорит, что там меня ненавидят, что имажинисты устроят скандал, а я в скандалах не умею участвовать, вон и Блока обругали в Москве… – Потом старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что дров к завтрему нет. – Ничего, – сказала Ахматова. – Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим. (Сегодня я посылаю к ней Колю.) Она лежала на кровати в пальто – сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. – Это балет «Снежная Маска» по Блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой. – И она стала читать сочиненное ею либретто*, которое было дорого мне как дивный тонкий комментарий к «Снежной Маске». Не знаю, хороший ли это балет, но разбор «Снежной Маски» отличный. – Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже.
Потом она стала читать мне свои стихи, и когда прочитала о Блоке – я разревелся и выбежал*.
Третьего дня я был у Замятина. Он переехал во «Всемирную». Слава Богу! Для него было так мучительно бегать на заседания с Петербургской стороны. Обедом угостили на славу – и вообще приласкали. Потом в комнату ввалился Щеголев – и полились анекдоты. Щеголев хохочет потрясающе, сед, крепок, лицо ленивое и добродушное, но лукавое. Он рассказывал, как он помирился с Лернером. Были они, как два пушкиниста, в самой непримиримой вражде. Но с Пушкинских торжеств возвращались вместе с Замятиными домой – через Неву, Лернер шел сзади один, вдруг случилась полынья. Через полынью доска. Все прошли по доске, один Лернер – трусит. Пройдет два шага и назад. Тогда Щеголев – «с того берега» крикнул:
– Ну, Николай Осипович, идите смелей! Стыдно так трусить!
С тех пор они и помирились. Но Лернер все же вернулся назад и пошел верхом, по мосту.
26 декабря, понедельник. Мурка Зину называет Зизи. – Вчера был на панихиде по А. Е. Кауфман. В нетопленой комнате – все в шапках – по-еврейски. Я, входя, снял шапку, мне крикнули: наденьте! Народу много. Пришел еврейский кантор – и запел какие-то очень плачевные вещи, причем пар валил у него изо рта! Пение растрогало меня до слез, но было странно смотреть, что на камине стоит бюст Достоевского. Речи говорились неверные: Харитон сказал даже, будто Кауфман основал в Одессе серьезную печать, придал ей серьезный тон. Все это вздор. Кауфман был бездарный и непросвещенный писатель, – и ничему он не мог придать никакого серьезного оттенка. В Одессе над ним потешались. Но его любовь к русской литературе была огромная. Он не понимал ее, и не читал ее, но любил ее – торжественно. И служил ей – нелицемерно, и сделал ей много добра. В гробу он лежал спокойно, истово и хорошо. Немирович-Данченко – вынул бумажку – подошел к гробу – снял шапку, отложил в сторону, на помост палку – и стал читать по бумажке надгробную речь – задушевную! Волковыский, говоря свою речь, прослезился, но в меру.
Был вчера с Лидой у Анненкова. Он сидит с женой – и вместе они переводят «Атлантиду» Бенуа. Пробуют. Квартирка чистенькая – много картинок. Я загадал: если застану его дома, посвящу ему свою книжку о Блоке*. Застал. Рассматривали вместе журнал «Петербург», только что присланный мне Белицким.
28 декабря 1921, среда. Вчера читал на Корбутовских курсах лекцию – бесплатно – в пользу уезжающих на родину студентов. Они живут в ужасных условиях. Установилась очередь на плиту, где тепло спать, один студент живет в шкафу, провел туда электрическое освещение. Ехать они хотят в багажном вагоне малой скоростью – багажом: 80 пудов студентов!
Конспекты по философии
1901
1 марта. Смешная глупость – эти споры утилитаристов и чистых эстетиков. Ведь никак не могут понять люди одной штуки. Всякая данная вещь нужна, необходима в итоге вечном бытия. Всякая. Кн. Мещерский и кн. Барятинский, капиталист и рабочий – все они тянут в одну сторону. Идея красоты так же необходима для общества, как и идея нравственности, она совершенно отделена от других идей (на основании закона о самодовлеющих идеях). Предположим, что у меня есть удобная бричка, в которой я езжу, куда вздумается. Я забываю, что бричка мне полезна, и говорю: бричка тогда будет хороша, когда она будет пахать землю. Приделываю к бричке омешики[170] и пашу. Но ведь теперь, во-первых, бричка сузила свою деятельность. Она уже не повезет меня на базар, а во-вторых, она, как и соха, – нехороша. То же и с искусством. Вдруг решили, что оно не приносит им пользы, и разделились на 2 партии.
Одни говорят: Э! нужно сделать так, чтобы оно приносило пользу. Для этого повезем бричку на поле (а громадная область, где она прежде работала, теперь уже будет изъята). А другие заявляют: искусство, говорите вы, не полезно. Очень хорошо. Оно и не должно быть полезным. Как будто они не ездят на базар! Как будто существует только одна полезность: работа на поле. Дураки! Стало бы общество держать лишний арсенал, ему ненужный! Ему, а не мне. Как же, держи карман! С точки зренья какого-нб. генерала от инфантерии – все это ерунда-с! Одно умопомрачение-с. Ну на что оно нужно, скажите, пожалуйста. Он думает, что справляются с его мненьем.
Нет ничего отраднее, чем мысль, что люди в поступках умом руководятся. Юная эллинская философия, молодая, неопытная, упоенная силой и могуществом ума, верит ему, преклоняется пред ним, надеется на него. Сократ выпил яд, потому что доказал себе умом необходимость сделать это, доказал и спросил учеников, могут ли они доказать ему, что он не должен делать этого. Те не могли ему доказать. Если бы я был его учеником, я сказал бы ему: докажи мне, о Сократ, что должен жить доказательствами умом. Он бы это живо доказал. Хорошо! Теперь докажи мне, о Сократ, что я могу жить умом. Что одежда моя, отношения мои к семье, к государству, к божеству, правосудье, нравственность, – докажи мне, что все это и тысячи других вещей – есть результат действия ума, а не стихийной, присущей всему живому, вечной бессознательной силе – стремлением к существованью, что только то, что способствует моему существованию, я называю разумным, нравственным, красивым и т. д. Ты, любезный Сократ, думаешь, будто ты хочешь прекратить существование, подчиняясь уму, а на самом деле ты, оказав повиновенье законам, поддержишь их авторитет, сделаешь то, что им будут следовать более рьяно, и тем самым в обществе будет больше благоденствия, больше спокойствия, тем самым – общественное существование упрочится. Ты думаешь, что, прекратив существование, ты уменьшил число членов общества, разрушил один кусок его, отломил ломтик. Нет, это только кажется тебе, а на самом деле ты удовлетворяешь не требованьям ума, а требованьям чужим, тебя не касающимся, т. е. не чужим, а требованьям общества, в которое ты вступил для лучшей борьбы… за что?.. да за то же существование… За чье? За свое существование. И для того, чтоб оно твоему существованию способствовало, ты должен способствовать его существованию. Выпив яду, ты упрочил его существование, упрочив его существование, ты упрочил свое.
– Но, любезный Корнелий, – сказал бы мне Сократ, – не видишь ли ты здесь противоречия? Как же я, прекратив свое существование, могу его упрочить? Разве Муций Сцеволла, решившись погибнуть ради родины, думал о своем существовании? – Я и не говорю, что он думал. Ты забываешь про общую идею, милый мой мудрец. (Не про ту идею, о которой потом наговорит нам столько хороших вещей любезный Платон, стоящий теперь с опущенным носом. Не про ту, которой через 2000 лет будут пугать крещеный народ хитрые тевтоны.) Если я приказываю что-нб. рабу, он не должен думать, нужно это или нет. Если какое-нб. мое приказание, встретив в нем усердного исполнителя, будет приложено им к 1000 вещей и окажется в 5 случаях неразумным, неужели я переменю приказание? Что было бы с землею, с нами, со вселенной, если б не существовало законов тяготенья? Но, повинуясь этим законам, человек упал с крыши и разбился, неужели природе поэтому переменять свои законы?
Ты стремишься продлить свое существование. Не умом, не постом ты дошел до этого желанья, нет, этого все твое существо хочет. Но руководясь этим стремлением, ты делаешь то, другое, третье. Стремление это скрыто в тебе незаметно. (Продолжение следует.)
8-го же марта. Новое Слово. 95. Ноябрь
ВВ упрекает Бельтова в противоречии*. «Бельтов-де обязан говорить, что идея есть лишь снимок с действительности, обязан “по долгу службы”, а на самом деле заявляет, что “исследователи, даже не знакомые с Гегелем, находят в природе то же, о чем Гегель предсказал на бумаге; теории их, если только они верны, являются новой иллюстрацией гегельянства”, – стало быть, заключает ВВ, “по Бельтову” действительность есть отражение идеи». Насколько я понимаю, упрек ВВ несправедлив: Бельтов, основываясь на переходе количества в качество (и наоборот), заявляет, что строить такой силлогизм: «все явления совершаются по триаде, я имею дело с явлением, стало быть, обращусь к триаде» – глупо. Он смеется над людьми, которые предполагают укрыться от жизни под сень триады, он говорит, что мы можем познать субстанцию по модусам, а не наоборот; по его словам, Гегель никогда не рекомендовал делать отвлеченные выводы из отвлеченных положений, Гегель, по словам Чернышевского, своим диалектическим методом обязывал мыслителя к всестороннему рассмотрению предмета, к отыскиванию в нем качеств и сил, которые представляются на первый взгляд противоположными, – все это, надеюсь, не похоже на укрывательство под сень диалектики, на объяснение фактов идеями, и насмешливая просьба ВВ, чтобы Бельтов на основании общих положений гегельянства предсказал грядущие модификации идеи эволюции, которых ожидают в будущем психологи, физики, геологи, – эта просьба не имеет никакого полемического значения – так кажется мне. (109.)
2) Почему Бельтов обратился к философии наших дедушек? Потому, что «русский дух зады твердит» – отвечает ВВ. (Это знамение по ВВ. Вл. Соловьев, метафизик, редактор философского отдела Энциклопедического словаря; «С. В.» завел метафизический отдел, успех «Вопросов философии и психологии» и т. д.)
У Бельтова ясно сказано: «идеалисты-диалектики покинули точку зрения человеческой природы – и хорошо сделали. Но окольным путем олицетворенья процесса нашего логического мышления (т. е. опять-таки одной из сторон человеческой природы) они вернулись к прежним заблужденьям, и потому им осталась непонятной истинная природа – общественных отношений…» За что же упрекать Бельтова в том, что он основывается на Гегеле, ворочается к Гегелю, твердит зады – когда он признает, что гегельянству осталась непонятною истинная природа общественных отношений… Бельтов просто писал историю мнений об историческом процессе – пришлось говорить о Гегеле, он и указал достоинства и недостатки его системы. Правда, он в Гегеле видит предтечу Мессии – Маркса – и потому говорит о нем несколько иначе, чем о других-прочих, – но…
Дальше не могу читать ВВ, так как по лени своей не прочел еще Бельтова. Отсюда следует план завтрашнего дня: Придя от Вельчева, сесть за Бельтова. Непременно.
9 марта. 3) Из всего, что говорит Бельтов в трех первых главах своего мальчишеского труда, явствует: основываться на человеческой природе нельзя. Гегельянцы всем бы взяли, да олицетворили процесс нашего логического мышления историческим процессом – и тем вернулись к человеческой природе – их теория швах…[171] А посылка, что на человеческой природе основываться нельзя, для меня и до Бельтова была понятна. Тут не вылезешь из причин, которые становятся следствием, и из следствий, которые делаются причинами. Вода – причина льда, лед – причина воды, ни льда, ни воды понять нельзя. Человек – причина изгибов истории, изгибы истории причина человека, понимай как знаешь! Логически это ошибочно. Это все равно как бы утверждение, что уравнение, где по обе стороны знака равенства есть неизвестные, решено. В. В. говорит: «Признание взаимодействия между мненьями людей и их общественными отношениями нимало не препятствует исследованию происхождения данных мнений и данных общественных отношений, этим признанием не устанавливается однообразное для всех веков соотношение между мненьями и средой, почему следя за историческим развитием обоих факторов можно и не выходя из сферы взаимодействия усмотреть преимущественное значение, в одном случае, интеллектуального фактора, в другом – общественного».
Конечно, можно! Вот уравнение: XY = 15; а ну, узнай-ка, чему равняется Х и чему – Y. Х =15/Y; Y =15/X; вразумительно? То же и здесь, насколько я понял… Боюсь ошибиться, но мне кажется, что В. В. поступает именно так. Но причем здесь данное положение, данное мнение?
Всегда, когда мы будем иметь такое уравнение, – мы решить его не сможем. Да и хорошо, я узнаю данное положение, данное мненье жителей Испании, жителей Германии, выведу ли я общие законы отношений между мненьями и положением (и наоборот)?
Нет, этих законов я не выведу и во веки веков, но если я (см. Бельтов, 253–4).
…стало быть, упрекать его в том, что он достигает знания законов развития общества путем спусканья от общего к частному – нечего (113).
4) На стр. 47–48 Бельтов указывает противоречие ВВ. – Прежде ВВ говорил, что экономическое развитие составляет основу всех остальных проявлений жизни страны, теперь он уверяет, что «духовный мир человека производит социальные отношения. Бельтов говорит, что В. В. искал «закон экономического развития России», воображая, что этот закон будет лишь научным выражением его собственных идеалов. А потом, когда увидал, что закон и состоит в развитии капитализма, когда увидал, что Россия идет по европейской дороге, – ВВ отказался от своего взгляда.
Эти слова Бельтова доказывают, что он тоже черпает свои умозаключения из действительности, что он тоже увидал развитие капитализма в России, а если так, то какой же он метафизик? На стр. 113 В. В. возражает Бельтову, но не против указания на противоречие, а против упрека в том, что В. В. ищет законов одной только России и приписывает марксистам те же желания (признаюсь, для меня странен этот упрек: В. В., по-моему, справедливо указал на противоречие со стр. 253–254. Маркс в письме к Михайловскому протестует против приписываемого ему желания из общественных законов развития вывести частный. Он называет такое приписывание стремления – бесчестием для него. Но ведь Бельтов, кажется, единственный раз прорвался здесь – на одной строчке, а во-вторых, он и на стр. 253 оставляет общее утверждение, «что развитие данного общества всегда зависит от соотношений общественных сил», и на этом общем фоне рисует частные узоры изучения отношений в данной стране. (Он не противоречит себе, а только требует и того и другого. Так ли?)
На стр. 115. В. В. опять утверждает, что Бельтов хочет познавать явления a priori, а не in concreto…[172] Откуда он взял это?
12 марта, понедельник. Братья Бауэры восстали против идеализма и, главным образом, против «абсолютной идеи». Разум не отвлеченная сила – человек не представляет по отношению к нему чего-то субъективного, случайного, преходящего. Нет, господствующая сила он сам, его самосознание. Разум видоизменяется с развитием самосознания – видоизменяющегося – и в конечном виде не существует. Что же причина законосообразности явлений, если абсолютной идеи нет?.. Если господствующей силой истории является изменчивый разум? Отчего человеческий ум делает шаги именно в ту, а не в другую сторону? Отвечать на это свойствами конечного разума – значит воскрешать абсолютную идею. Дуализм. В природе явлений объяснение материей, а в истории – разумом… Воскрешение старого: «мненья правят миром». А если мненья – то, стало быть, та личность, которая имеет мненья, которая, их переработав, критикует. Противопоставление личности «демиурга» – массе. Самомненье. Маркс: «противопоставление личности демиурга массе – карикатура на Гегеля. Там ведь абсолютная идея – относится к массе как к материалу. У Гегеля философия – материал, проводник абсолютного духа, а Бауэр объявляет себя – критикой, а критику – абсолютным духом. Элемент критики изгоняется из массы, элемент массы – из критики. У Гегеля дух творит историю post factum, у Бауэра – он сочиняет ее обдуманно. Акт общественного преобразования сводится к мозговой деятельности критической критики» («Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik»[173]).
Отсюда нежелание признать историю, как она действительно совершалась (массу во всей ее массовидности), отсюда указание истории, как она должна идти (субъективизм).
Исторические великие столкновения объяснялись столкновеньями идей. Маркс замечает, что идеи посрамлялись всякий раз, как не соответствовали реальным интересам того общественного класса, который является носителем исторического прогресса. Познав интересы – мы познаем историю. (Франц: мненья создают интересы – это торжество идеализма.) Маркс: правовые отношенья, государственные формы не объясняются ни своей природой, ни так называемым общим развитием человеческого духа; но коренятся в материальных жизненных отношеньях, совокупность которых называется «гражданским обществом». Анатомия общества в экономике. Но отчего зависит экономия общества? В ответах на этот вопрос все ссылались на «природу человека» «прямо или косвенно». Маркс первый сказал, что причина вне человека. Чтобы существовать, человек должен поддерживать свой организм внешней природой, и это предполагает его воздействие на природу. Но действуя на природу вне его, человек изменяет свою природу.
_______________
Человек – tool making animal[174]. (Не только человек. Дарвин: «Слон срывает ветку и отгоняет мух».) Но ведь это нисколько не влияет на образование вида: «слон». Слоны не потому стали слонами, что отмахивались от мух. Австралийский дикарь зависит от своего бумеранга. История человека раньше сводилась к истории его естественных органов, теперь (так как благодаря орудиям как бы приобретает новые органы) – к истории усовершенствования его искусственных органов, роста его производительных сил. Человек – общественное животное. С тех пор как искусственные органы стали играть такую решающую роль в его существовании – общественная жизнь стала видоизменяться в зависимости от хода развития производительных сил. Чтобы производить, люди вступают в определенные отношенья, стало быть, орудия труда – органы не отдельного, а общественного человека. (Изобретение огнестрельного оружия – изменение внутренней организации армии, перемена всех тех взаимных отношений, в которых стоят входящие в состав армии личности, изменяются взаимные отношения армий.) Общественные отношения производителей, общественные условия производства меняются с изменением и развитием материальных средств производства, т. е. производительных сил. Условия производства создают общественные отношения, общество (находящееся на известной определенной ступени развития, общество определенного характера, античное общество, феодальное, буржуазное).
Возражение. Орудия – следствие ума. Стало быть, ум, «мнение» все же причина общественных отношений.
Ответ: Человек достиг своего господствующего положенья благодаря рукам, этим дивным орудиям, столь послушным его воле» (Darwin). Откуда взялись руки? Они – следствие некоторых особенностей географической среды, сделавшей полезным разделение труда между передними и задними конечностями. Разум – одно из следствий этого разделения труда… и дальнейшая причина других орудий. Эти орудия – причина новых успехов ума и т. д. Здесь не простое взаимодействие. Для успехов нужны 1) материалы для усовершенствования, 2) предметы, обработка которых предполагала бы усовершенствованные орудия… Умственное развитие происходит быстрее при большем количестве столкновений с другими народами. А это чем обуславливается? Разнообразием географической среды. Чем меньше похожи условия той местности, где я живу, на условия, где живет мой сосед, тем меньше будут похожи продукты труда, тем более взаимных сношений.
_______________
Географическая среда влияет и на судьбу государств. Не плодородие почвы, а ее дифференцирование – вот естественная причина общественного разделения труда, – а это заставляет человека разнообразить свои собственные потребности, способности, средства, способы производства, общественный контроль. Способность человека к деланию орудий – величина постоянная, условия употребления этой способности – величина изменяющаяся.
Различие результатов (ступеней культурного развития) объясняется различием условий. Школа антропологов, объясняющая различие результатов свойствами расы, – исходит из «человеческой природы».
Действуя на природу вне его, человек изменяет свою природу (между прочим и способностью к деланию орудий), но в каждое данное время мера этой способности измеряется мерой уже достигнутого развития производительных сил.
Возражение. Плутарх считает нужным оправдать Архимеда. А нам не нужно оправдывать Эдиссона. Стало быть, делание орудий считалось прежде предосудительным. Стало быть, делаем ли мы орудия, или нет – это зависит от мнений.
Ответ. Физический труд прежде был делом рабов. Почему он стал делом рабов? Потому что настало время, когда грекам стало выгоднее заставлять пленников работать, чем жарить их (а не потому, что греки, в силу некоторых ошибок «разума», сочли рабский строй наилучшим). Когда возникло рабство, взгляд на труд изменился. Рабство падет тогда, когда эксплуатация свободного труда станет более выгодной, чем эксплуатация рабского. То самое развитие производительных сил, которое породило его, убьет его.
(Вот тебе и Тургенев! и освободители народа.)
Возражение Вейзенгрюна, Кареева и Михайловского:
Энгельс под конец принял как причину не только производство, но и семейное устройство.
Ответ: До употребления орудий отношения людей определялись другими причинами, но после этого семейное устройство стало, в свою очередь, определяться – развитием производительных сил. Сначала про человека должен говорить натуралист, но потом он должен передать это дело историку. Историк да расскажет нам, какие изменения претерпела «семья» после зоологического периода. Вот мненье Энгельса. Но разве можно объяснять историю семьи историей экономических отношений?
Вот что говорит Жиро Талон («Les origines de la famille»[175]): Введение в употребление или открытие какого-нб. хлебного растения, приручение какого-нб. вида животных – вот причины коренных преобразований в диком обществе. Причина возникновения обособленных семейных групп – связана с ростом богатства этого племени. Переход от системы женского родства к мужскому – ознаменование столкновения юридического характера на почве права собственности (Мак Ленан. Убийство девочек).
(Взять Зибера «Очерки первобытной экономической культуры». Там доказывается, что способы присвоения определяются способами производства.)
Права… А право (вопреки утверждению Пухты и Савиньи), правовые понятия определяются способами производства (M. Kovalevsky. Tableau des origines et de l’elevation de la famille et de la propriete[176], 1890, рр. 52, 53, 57, 93, 95). Житейская практика предшествует правовому убеждению, и это последнее обязано своим происхождением не свойствам «духа» собственника, а свойствам вещей, с которыми он имеет дело. Иногда бывает даже так: способы производства изменились, правовые отношенья тоже, а «убежденья» остались неизмененными, рудиментарными. Для устранения таких противоречий – фикции, символические знаки действий.
Излишек, хотя бы он был приобретен трудом рук дикаря, уступается им безвозмездно. Незнакомство со сбережением. Невозможность сбереженья. Мясо завоняется. (Продать его и деньги сберечь.) «Денег еще не существует на этой стадии экономического развития». Стало быть, экономия ставит пределы сбережению. Убеждение следует за экономией.
Пример Родбертуса: Катон (и отцы церкви) очень преследовал ростовщиков. Он сурово относился к денежному ростовщичеству, а к ростовщичеству «натурой» куда мягче. Почему же у него было убеждение, что одно нравственнее другого? Потому что – денежный ростовщический капитал губил тогда всю Италию. Право – продукт необходимости или, точнее, нужды, и напрасно стали бы мы искать в нем какой-нб. идеальной основы.
Да, но это не исключает идеальных отношений к данной системе со стороны членов данного общества. И в переходное время, когда старая система права перестает удовлетворять нуждам, порожденным дальнейшим развитием производительных сил, – идеализация новой системы нужна. Т. к. нужда вовсе не обретается в области грубой материи, нужда – причина идеальных стремлений. Исключения объясняются тем, что вследствие развития общества его идеалы нередко отстают от его новых нужд.
_______________
В способах производства, в состоянии производительных сил народа нужно искать не только объяснения истории права, но и всего общественного устройства.
Французские материалисты: человек, со всеми чувствами, стремлениями, мыслями, зависит от среды. Строение общественной среды – от мнений, чувств и стремлений человека.
Историки времен Реставрации: Мысли человека и стремления от социальных отношений, социальные отношения от состояния собственности. Состояние собственности от чего? Черт его знает. От свойств человека. Круг. Идеалисты стали искать вне человека. Заслуга. Но абсолютной идеей ничего не поделаешь. Абсолютная идея – олицетворение нашего логического процесса мышления. Опять к человеку, к натуре его.
Маркс: между тем как человек действует на природу вне его, природа действует на него.
До Маркса общественная наука не могла быть точной наукой. (Ум человеческий движет историю, ум свободен, понятие о необходимости, о законосообразности пропадает, и уж какая тут наука!) Но свобода должна быть необходимостью… Выгоните необходимость, свобода потускнеет и будет малоутешительна. Исходя из свободы исследователи наталкиваются на необходимость.
«Я раздавлен ужасным фатализмом истории, я вижу в человеческой природе отвратительную заурядность, в человеческих же отношениях непреодолимую силу, принадлежащую всем вообще и никому в частности. Отдельная личность – пена на поверхности волны, величие лишь случай, власть гения лишь кукольная комедия, смешное стремление бороться против железного закона, который в лучшем случае можно лишь узнать, но который невозможно подчинить своей воле» (Георг Бюхнер в письме к невесте, 33 г.). Чтобы избавиться от припадков такого отчаяния, нужно было освободить свободу – призвать необходимость. Пересмотр вопроса: не вытекает ли свобода из необходимости.
_______________
Общественная собственность необходима для процесса первобытного производства. Она поддерживает существование первобытного общества; содействует дальнейшему развитию его производительных сил. И люди считают его естественным. Но когда благодаря таким отношениям собственности производительные силы развились – общественная собственность иногда не полезна для них, вредна, и вот она уступает место личному присвоению. И правовые учреждения общества сообразно этому изменяются. А за ними и понятия людей: стали люди думать, что общественная собственность безнравственна. Дело на самом деле, конечно, иначе: вследствие развития производительных сил должны были измениться фактические отношения людей в процессе производства, и эти новые фактические отношения выразились в новых правовых понятиях. Не сознание людей определяет их бытие, а их общественное бытие определяет их сознание. Изменение производительных сил влечет за собою кого? что? изменение общественных отношений людей, изменение отношений собственности. Но ведь в отношениях собственности коренятся политические конституции. Кровный союз сменяется территориальным вследствие перемен отношений собственности. Т. е. не только внутренние отношения общества, но и внешние отношения его к другим обществам вытекают из состояния производительных сил. Внешние отношения порождают новые нужды, для удовлетворения которых вырастают новые органы. Не политические действия, а экономия определяет действительные (а не казовые) поводы к междуплеменным и международным отношениям – и их результаты. Каждой ступени развития производительных сил соответствует своя система вооружений, своя тактика, своя дипломатия, свое международное право. (Конечно, бывают случайные столкновения. Но на какой почве выросло данное международное право, что создало возможность международных столкновений – экономия.)
Возражение. Маркс говорит, что английская аристократия пользовалась своей политической властью, чтобы обделывать свои делишки по части землевладения. Стало быть, он сам признает взаимодействие. Стало быть, и по его мнению политическая роль, выпадающая на долю данного народа, оказывает влияние на дальнейшее развитие его сил, на склад и выражение его социальных учреждений.
Ответ: Взаимодействие между политикой и экономией существует. Но это нисколько не мешает нам идти дальше.
Политические учреждения или 1) содействуют развитию хозяйственной жизни 2) или препятствуют ему. Но ведь политическая система затем и создается, чтобы содействовать дальнейшему развитию производительных сил. (Большей частью, бессознательно создается). Если препятствует, то она клонится к упадку и… устраняется. Стало быть, экономия господствует над политикой. Над сознанием она тоже господствует. Производительные силы, развиваясь, влекут за собою перевороты в правовых учреждениях. Интересы группируются иначе. Одному выгодно одно, другому другое. Одним старое, другим новое. Ставятся вопросы: насколько новый порядок соответствует старым понятиям о справедливости. Если не соответствует, то ломают и перестраивают понятия о справедливости, а не наоборот. Справедливость приноровят к экономии, а не экономию к справедливости. И этим Маркс вовсе не отвергает великого значения духовной деятельности людей, он только указывает ей место. Привычки, нравы, взгляды людей группируются, чтобы приспособиться к их способу добывания себе пищи. Психология общества определяется его экономией.
Собственно говоря, экономия и психология – это две стороны одного и того же явления: «производства жизни» людей… Экономия тоже функция производительных сил.
Дух все время только и делал, что писал под диктовку материи.
1) Возражение: Как же экономия не первичная причина всех общественных явлений, когда психология приспособляется к экономии?
Ответ: Рассмотрим возникновение частной собственности. Развитие производительных сил ставит людей в такие отношения производства, когда личное присвоение – удобнее для производственного процесса. Перемена сообразно c этим правовых понятий. Психология приноровляется к экономии. Идеологическая надстройка. Но, с другой стороны, развитие производительных сил ставит людей всякую минуту в их повседневной практике в новые положения, не соответствующие отживающим отношениям производства. Одни отстаивают отживающие формы, другие – те, которые еще придут на смену. Психология приспособляется к будущей экономии и с первого виду кажется ее причиной. На новой экономии живо потом вырастет психология и будет соответствовать ей впредь до нового несоответствия.
Ну разве это не две стороны одного процесса?
_______________
С идеологией права покончили. Ну, а как понимает Маркс идеологию науки, философии?
Уже приведенный взгляд Платона и Плутарха:
Направление умственной работы в обществе определяется его отношениями производства.
Взаимные отношения классов (отношения производства) влекут – изменения в общественной организации. Отсюда политическая теория. Столкновение светской и духовной власти – отсюда государственное право…
Наука бессознательно приспособляется к условиям производства. Кант совершенно бескорыстно, из любви к истине, разводил свои «критики» да «антиномии», а противники Маркса думают, будто он выставляет дело так: Кант решил: «Я представитель немецкой буржуазии, теперь мне выгодно заниматься «трансцендентальностями», вот я и занимаюсь, а они мне совсем не интересны, интересна мне, в данном случае, только выгода, а до антиномии мне никакого дела нет».
С искусством то же самое. Победа греков над персами – трагедия Эсхила, Софокла, Еврипида. Готика – феодальный режим XI столетия. Исчезает, чуть начинает развиваться военный режим ХV столетия.
_______________
Мы приспособляемся к среде и приспособляем ее к своим нуждам. Но откуда берутся у нас нужды, вне среды приобретаемые? Они порождаются будущей комбинацией производительных сил. Нужды (следствия) опять якобы опередили свою причину. Как же это? Во все рассуждения нужно внести еще один элемент, который теперь только сможет не затемнять.
Мы говорим о влиянии на общественную организацию исторической среды, окружающей каждое данное общество. Нет одинаковой среды, отсюда разнообразие культур. Например:
Характер частной собственности, возникающей на развалинах первобытного коммунизма, разнообразится влиянием исторической среды. С идеологией общества то же самое. (Сравнение «Энеиды» с «Одиссеей»; «Ахилл» Расина – talon rouge[177] XVII в.) (Разница между Локком и его французскими учениками = разнице между французами [англичанами] за несколько десятилетий до «great rebellion» и англичанами [французами] времен «glorious revolution»[178].
Итак, влияние литературы одной страны на литературу другой прямо пропорционально сходству общественных отношений этих стран. Его нет, если нет сходства. Африканские негры не испытали влияния европейской литературы. Это влияние односторонне, когда один народ по своей отсталости не может дать ничего взамен. Оно взаимно, когда вследствие сходства общественного быта и культурного развития каждый из двух народов может позаимствовать что-нб. у другого (французская и английская литература). Прочитать Брандеса о причинах романтизма во время Реставрации и при Луи Филиппе. Чтобы понять взаимодействия – нужно выяснить свойства взаимодействующих сил, а эти свойства не находят себе последнего объяснения в факте взаимодействия – они объясняются экономической структурой этих организмов, а структура – состоянием их производительных сил. Классовая борьба. Чтобы одно сословие явилось освободителем, par excellance[179], нужно, чтобы какое-нб. другое сословие явилось в общем сознании поработителем, но в первобытных обществах нет классов. (Брюнетьер говорит, что у потомков всегда является [потребность] противоречить предкам; отсюда разница направлений литературы.) Но почему они противоречат? В их сознании даже идеи поработителя враждебны им – но не все идеи: французские материалисты, ведя борьбу против духовенства и монархии, философских и политических идей старого режима, оставили нетронутыми литературные преданья.
От экономического положенья страны можно было бы умозаключить о ее идеологии, если бы не связь ее с прежними. Нельзя понять без знания предыдущего. Итак, противоречие – двигающее и формирующее начало. Роль личности в истории идеологий: гений в области общественных наук раньше других схватывает смысл новых (– будущих) общественных отношений, в области естествознания – общество 1) направляет внимание гения в ту, а не другую сторону, 2) дает ему возможность сделать открытия; в области эстетики гений выражает лучше других преобладающую эстетическую склонность данного общества (Чернышевский. «Эстетика и поэзия», 6–8); конечно, всю индивидуальность гения мы не объясним этим, но ведь точность расчетов баллистики не ослабляется тем, что она не может определить, на сколько осколков разлетится снаряд и куда полетит каждый осколок.
Объективная истина (несмотря на то, что всякое поколение противоречит предыдущему) существует. (Противоречие противоречию. Меркантилисты смотрели на деньги как на богатство par excellance. Юм отрицал всякое их значение. Оба не правы. Третье противоречие – истина). Ксенофонт назвал бы нелепостью экономические взгляды Сея. Сей назвал нелепостью экономические взгляды Ксенофонта. Почему? Мы знаем. И вот это – объективная, вечная истина. «Открытие» Маркса, конечно, не остановится, оно будет идти дальше, порождать новые открытия и т. д.
Субъективность (личности) не нужно противопоставлять объективности толпы. Толпа тоже субъективна. Объективны существующие вне ее отношения. Истинны взгляды, правильно представляющие эти отношения. Историк, который правильно изобразит реальные экономические причины явлений, может сочувствовать одним явлениям и не сочувствовать другим (субъективизм).
Но если он, кроме сочувствия, не даст ничего?
Правилен идеал, соответствующий экономической действительности, и, приспособляя свои идеалы к действительности, я не служу «ликующим», под той отживающей действительностью, на которую опираются «ликующие», есть новая, будущая. Служить ей – значит служить «великому делу любви»*. Глупо упрекать Маркса в непридавании никакого значения «идеалам». Маркс говорит: зная объективную действительность, мы поймем субъективную сторону истории. Его упрекают, принимая первое его слово за последнее.
Нельзя признавать «экономию» Маркса, отрицая его историю. В «Капитале» говорится, например, что стоимость есть общественное отношение производства, т. е. что существующие независимо от воли людей, действующие за их спиной их собственные отношения производства отражаются в их головах в виде стоимости, в виде денег, – т. е. что на известной экономической почве непременно вырастают известные идеологические надстройки. Приложите этот взгляд к праву, к справедливости.
_______________
Упрекают Маркса за то, что он не оставил книги (истории), где бы конкретно доказывалась его теория. Но ведь такие книги и писать нечего, потому что во-1-х – вся история за Маркса; II – история предшествующей философии за него; в-3-х – сухой остов экономии покрывается живой плотью политических форм, а затем человеческих идей, чувств и стремлений. Маркс, конечно, далеко не исчерпал всей задачи. Он занялся только первой ее частью. Упрекать не за что: «Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben»[180].
А почему не сделали этого последователи Маркса? Они были заняты другим. Они боролись против тех отношений производства, которые давят современное человечество. Итак: вначале человек был вполне бессознательно подчинен природе, физической необходимости. Эта физическая необходимость поставила его на ступень tool making animal[181]. Tool – это новый орган. Орган, подчиняющий необходимость сознанию. И степень власти человека над природой определяется – степенью развития производительных сил. Степень развития производительных сил – географической средой. Географическая среда сама дает средства покорить себя. Общественный человек зависит и определяется производственными силами (а стало быть, и средою), но развитие общественных отношений, чуть оно возникло, подчиняется дальше своим собственным законам, внутренним. Действие этих законов или замедляется, или усиливается производительными силами. Географическая среда влияет через общественную. И, стало быть, отношение человека к географической среде – крайне изменчиво. Географическая среда иначе влияет на британцев времен Цезаря, чем на нынешних англичан. Вот разрешение диалектического противоречия, с которым никак не справлялись материалисты ХVIII в. (продолжение впредь).
Licht, mehr Licht![182]
16 марта. Монтескье говорил: дана географическая среда – даны свойства общественного союза; в одной стране может быть только монархия, в другой независимые государства и т. д. Вольтер возражал: в одной географической среде бывают различные общественные отношения, следовательно, географическая среда не имеет влияния на историческую жизнь человечества. Эти мненья – две стороны антиномии. Разрешить ее с помощью взаимодействия? Но как объяснить взаимодействие? Экономический материализм с помощью производительных сил.
Развитие общественной среды не зависит от ее воли, а подчиняется своим собственным законам. Отсюда новый род зависимости человека: экономическая необходимость. Чем более растет его власть над природой, тем более развиваются его производительные силы, тем более упрочивается это новое рабство: с развитием производительных сил усложняются взаимные отношения людей в общественном производственном процессе; ход этого процесса вне контроля человека; производитель оказывается во власти своего произведения (капиталистическая анархия производства).
Но, подобно тому, как окружающая человека природа дала ему способ поработить себя, – необходимость логическим ходом своим привела его к сознанию причин рабства. Новое торжество сознания над необходимостью. Сознав, что причина порабощения продукту лежит в анархии производства, производитель организует это производство, – и вот конец необходимости, начало свободы (которая сама оказывается необходимостью!). Сколько надежды, сколько силы. Какими жалкими и беспомощными окажутся слова Георга Бюхнера. Человеческий разум – продукт истории, а не ее демиург. Но он не подчинится завещанной прежней историей действительности, он сделает ее разумной. In Anfang war die Tat[183]. Диалектический материализм есть философия действия. Человеческий разум восторжествует над необходимостью, познав ее – отсюда благороднейшая задача Licht, mehr Licht! Света толпе, не противопоставляя ее героям. Сделав ее самое тоже героем. Развить самосознание производителей. Субъективная философия вредна, потому что она мешает интеллигенции способствовать развитию этого самосознания [край страницы оторван. – Е. Ч.] …тому героям. «Мненья правят миром. Мы имеем мненья. Мы правим миром» – вот что говорили буржуазные философы XVIII в. Диалектический материализм, стремящийся устранить классы, – обращается к производителям и соединяет науку с работниками – отсюда сознательное движение.
[Рисунок.]
Вот ответ В. В. на его придирки к прикрытию фактов триадой (Зибер Жуковскому). У Маркса исследование материальной задачи предшествует формальной стороне его работы. Разве материальные условия фабричной промышленности не являются подготовительной средой для новых форм общественного склада, общественной кооперации? К той же цели ведет: сокращение рабочего дня, соперничество разных стран на общем рынке, победа большого капитала над меньшим. Ведь все это материальные, а не формальные преобразования. Исследователю наличного общественно экономического быта вовсе нет надобности в искусственном подведении капиталистического производства под заранее придуманные формальные диалектические противоречия, на его век хватит действительных противоречий (средства к уменьшению работы (механические улучшения) капитализм превращает в средства удлинения рабочего дня; заваливает всемирный рынок и заставляет голодать миллионы, ратуя за неприкосновенность собственности, лишает крестьян земли и т. д.). Разве все это метафизика («Отечественные Записки», II, IX)?
Или смотри Михайловского т. II.
К. Маркс перед судом Жуковского.
Там Михайловский говорит, что гегельянство можно снять с Марксовой теории, как шляпу с головы, ничего не повредив, а в 94 г. в 11-й книжке «Русского Богатства» он говорит, что вопрос о будущем поставлен у Маркса диалектически. А это, дескать, «не убеждает нас, а может быть принято только на веру». Т. е. делает то самое, за что он обрушился на Жуковского. Он прежде говорил, что капитализм не может выдержать дальнейших изменений материальных условий своего существования. А теперь здесь-то… и т. д.
_______________
Возражения Гейнцена: С точки зрения Маркса, дескать, нечего делать в тогдашней Германии человеку с благородными стремлениями, сначала должно наступить господство буржуазии, потом ею сфабрикуется фабричный пролетариат – который уже начнет действовать. А «пока, дескать, положение народа пусть себе будет ужасно».
Но ведь Маркс и Энгельс делали кое-что и не дожидаясь превращения, не закрывая глаз на бедственное положение немецкого рабочего. У нас на Руси все, кто приписывает марксистам желание служить Колупаеву, повторяют ошибку Гейнцена. Ну что ж? На известной стадии экономического развития страны в головах ее интеллигенции – необходимы благоглупости.
Гейнцен требовал у Маркса подробного «идеала» будущего. Маркс отвечал, что может указать общее направление общественного развития, но говорить подробно о том, каковы должны быть пределы частной собственности, каковы должны быть имущественные отношения – он этого выработать не может, т. к. в каждый данный момент имущественные отношения определяются состоянием производительных сил общества. Можно сказать, что обобществление труда поведет к национализации орудий труда и т. д. Но в каких пределах будет национализация – нельзя сказать. – «Стало быть, у вас и нет идеалов, – ответил Гейнцен, – хорош идеал, сфабрикованный на машине!»
Утопист, который, исходя из какого-нб. отвлеченного понятия о «правах личности», о человеческой «природе», строит на этом якобы неизменном базисе – идеалы, не может понять высокого идеала Маркса: подчинение необходимости – свободе, экономических сил – силе разума. И не служили Маркс и Энгельс буржуазии – нет, они развивали самосознание производителей, которые должны со временем стать господами своих продуктов. Да и нечего было заботиться о буржуазии. Она и без забот развивалась, да и вредны стали старые экономические порядки – вредны для всех. У буржуазии есть слуги ее кошелька; развить их самосознание – вот цель, вот идеал. Думают, будто Маркс говорил: помирись с действительностью. Понимают дело метафизически. Но ведь во всяком экономическом действии – противоположные элементы. Один господствует, другой зреет. Они берут этот будущий элемент за критерий идеала – ну и что ж. Нравственный критерий не указывает нам пути к служению интересам ближних – «мало сочувствовать, нужно и помочь».
Неизбежен ли капитализм? – Маркс в письме к Михайловскому не признает его обязательности. Но ведь всякий процесс обязателен там, где он существует; диалектический материализм никаких стран ни к чему не приговаривает – изучи страну и узнаешь, что обязательно, что нет (а В. В.!).
Ведь Рим не прошел через капитализм, стало быть, он вовсе не «обязателен». Гейнцен хоть и приписывал Марксу намерение оставить немецкий народ hungern und verhungern[184], но уверенность в благожелании Маркса к рабочим у Гейнцена была. Русские экономисты и того видеть не хотят. Они приписывают марксистам: а) стремление выкурить лишнего мужика из деревни. (Ответ: Зачем? Прилив рабочих вызовет понижение заработной платы.) b) стремление развить кулачество, разрушить общину, обезземелить население. (Зачем? Это понизит покупательную способность населения, стало быть, понизит спрос на фабричные изделия, а это понизит заработную плату.) с) капитализация промыслов – этот процесс двухсторонен: появляются люди 1) скопляющие в своих руках средства производства, 2) употребляющие их в дело производительные средства. Пусть деятельность первых нечистоплотна, буду помогать вторым. И моя помощь не замедлит развития капитализма. Она даже приблизит процесс и скорее приведет к решению многих вопросов. (Продолжение впредь.)
17 [марта]. Прочитал В. В. возражение Бельтову. Все построено на том, что Бельтов исходит от теории к действительности, а не наоборот, что на действительность он набрасывает готовый шаблон. Это не так. Шаблон получился после исследования. Правда, Бельтов не дал этого исследования, он дал шаблон; но ясно, что раньше, что потом. Ты суди о том, что есть, а не о том, чего нет. В. В. говорит, что Бельтов не представил исследования, но потом предполагает, что у него есть «в портфеле» такое исследование, потом говорит даже о свойствах такого исследования: «одностороннее, говорит, на ниточку нанизанное». Заявляет: такие (?) исследования легко писать…
Сам же приводит доказательства того, что Бельтов требует исследования действительности раньше (стр. 129, «Новое Слово», 35, 11). Правда, на 133 стр. он находит крошечное противоречие. А весь дух книжки Бельтова? (Продолжение, стр. 57.)
_______________
Разрушение общины тоже двухсторонний процесс. 1) Крестьянские наделы скопляются в руках кулаков. 2) Самостоятельные хозяева превращаются в пролетариев. Все это сопровождается столкновением интересов, борьбой. Кулак и мужик. Марксист станет на сторону мужика и ничуть не замедлит этим развития экономизма. Ведь у общины – единственное действительное стремление – к разложению; и при лучшем положении это разложение пойдет быстрее. Да и если б могли «задержать» это разложение, то как поступить с «разложенными», с пролетарием? Да и что дает мужику община? Порку в волостном, расходы, платеж «спуста». Не лучше ли ему порвать с нею всякую связь? Она стала вредна. Утописты своей проповедью стали вредны. Они служат капитализму в самом грубом, самом гнусном, в самом вредном его виде…
Когда развивающийся капитализм создал в Германии пролетариат, интеллигенция, чтобы помочь ему уничтожить его, затеяла торговые союзы. Но ведь это была глупость. Буль предсказывал, что Союз не искоренит бедности, не воспрепятствует появлению ее в будущем. Ведь бедность происходит от недостатка спроса на труд. Чтоб увеличить спрос на труд, нужно увеличить спрос на его продукты, а спрос может увеличиться только с увеличением заработка трудящейся массы. Вот мы и подошли к первому вопросу. Нужно рассматривать экономическое движение данной страны в связи с теми обществнными силами, которые, вырастая на его почве, сами влияют на его дальнейшее направление. (Производительные силы Англии – создали те общественные силы, которые, скажем, заседали в парламенте, и действие этих сил было условием дальнейшего развития экономического положения, а направление их действия – обусловливалось свойствами этого положения.) Буль не считался с этими общественными влияниями, он брал один закон вне связи с другими.
22 марта. Читаю В. В. Оказывается, я его даром обидел и назвал его статью дрянью. Я прочитал только 2-ю книжку «Нового Слова». А в 3-ей продолжение.
23 [марта]. Вот что он говорит: 1. В числе средств, при помощи которых одни экономические отношения заменяются другими, – есть политические. Почему политическая сила не закрепит себя настолько, чтобы, когда она перестанет соответствовать состоянию производительных сил, все же удержаться? Почему она дозволяет другому экономическому строю победить те основы, на которых держится она?
Критикуя с точки зрения материализма борьбу идей современного общества, мы должны признать прогрессивной ту систему, которая представляет экономическую структуру ведущей к росту матерьяльных богатств. Но если сильна противоположная – не смущайтесь-де. Психологическая эволюция – медленна.
Но если появится такой «материалист», который станет критиковать новое учение, смеясь над его утопизмом и надеясь своими доказательствами остановить общественные силы (прежние), то он будет компрометировать новое учение 1) т. к. сошлется в последнем счете на политические факторы, а во-2-х) т. к. отдал объективную систему миросозерцания на службу отживающего. 3) т. к. называет утопизмом то, что на самом деле является необходимой идеализацией новой когда-то системы. Бельтов таков. Поняв, что классовая борьба – важный исторический фактор, он обратился к оценке действий русской интеллигенции и увидел, что она игнорирует существующее распределение общественных сил – и занимается вопросом, как отражается развитие капиталистических сил на настоящем нашей страны.
[Рисунок: труба.] Вот картинка. Куда девался мой талант.
Не умея связать политику с экономикой, не понимая, как важно изучение экономической эволюции, Бельтов мог, конечно, отнестись одобрительно к этому изучению. Программа же народников (включающая вопросы 1) Как отражается развитие капитализма на a) отделении доходов мелкого промысла от лиц, представляющих их, b) на разобщении орудий от труда, с) на организации работников, освобожденных от средств производства? Правда, 2) Не происходит ли у нас а) и b) без с)? 3) Насколько это прочно? Скоропреходяще это? 4) Как отразится благополучие интеллигентных тружеников? 5) На чью сторону стать интеллигентам? 6) Каково должно быть отношение правительства к этому направлению?) признает, что:
I. экономические отношения – важнейшие в ряду отношений общественной жизни;
II. характер экономического развития влияет на психологию культурных классов и т. д. и, стало быть, вполне соответствует основным положениям экономического материализма. Исследования, произведенные по этой программе, показали, что, являясь во всех странах прогрессивным течением, капитализм у нас задерживает развитие нашей страны. Пусть эти выводы неверны, но нельзя отрицать, что программа эта приспособляет психологию общества к экономии будущего.
Экономический материализм.
26 [марта]. Хорошая сильная обнадеживающая мысль:
Среда вырабатывает у человека идеалы. Раньше она заставляет его хотеть, а потом, когда он получит то, чего хочет, а он, дурак, говорит: я всемогущ!
28 марта. Буду писать про Маркса.
Вот его письмо к Т. Синдерсу:
«Друг мой.
Письмо от меня, старого, больного изгнанника, несомненно, удивит Вас. Но меня томит желание отвести душу с моим единомышленником. В Вене теперь много говорят о нас. Воспользовались преступным деянием нескольких мерзавцев или дураков для того, чтобы…
О Боже мой! Для того ли дожил я до старости, чтобы видеть, что большинство моих соотечественников менее чем когда-либо понимает истинную социал-демократию?.. Неужели благомыслящие люди могут смешивать анархизм с моим учением? Как это ни печально, но я боюсь, что это так. Всякому, кто знает меня, известно, что я с юных лет гнушался и преследовал анархистов»…
А его зовут анархистом. Да и как эволюционист может придавать значение внешней силе? Родился в 18 г. Отец – еврей. В 42 году кандидат философии. Кандидатура Бруно Бауэра помешала. Писатель. Редактор «Rheinische Zeitung». В 43 г. в Париже. В 45 изгнан из Франции. В Бельгию, в Брюссель. (45)
2) Discours sur le libre echange[185] (47).
3) «Misere de la philisophie»[186] (47). В 48 г. за политическую агитацию его изгоняют из Бельгии. Потом опять в Париже, опять изгнание. Жизнь в Лондоне. Работа в Британском Музее. Смерть в 83 г.
_______________
Метод изложения – абстрактный (словно микроскоп и химические реактивы в естественных науках). Конечно, дедукция подтверждается данными индукции.
Систематика – группировка вокруг капитала (во всех его проявлениях и функциях) всех остальных экономических явлений.
Вот план: I. Процесс производства капитала. II. Процесс его циркуляции. III. История этой теории.
В начале первого тома – теория ценности. Потребительная стоимость и меновая вовсе не связаны друг с другом. Они противоположны. Полезность вещи – вот основа потребительной стоимости. Сумма потребительных стоимостей (или товаров) – вот богатство народа. Потребительная стоимость разнится по качеству. Качество зависит от потребности, которую они удовлетворяют. При рассмотрении потребительной стоимости мы имеем в виду ее количество (фунт, дюжина). Потребительная стоимость – это материальные оболочки, при помощи которых выражается меновая стоимость. Меновая стоимость является как количественное отношение, как пропорция, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода – пропорция эта изменяется сообразно времени и месту. Пшеница и железо уравниваются друг с другом благодаря 3-й величине (с которой они, собственно, и сравниваются) – человеческому труду. Только благодаря труду товар становится меновой стоимостью. Стоимость измеряется трудом, труд – временем. Рабочим временем. Ну, конечно, отсюда не следует, что чем (отдельный) работник ленивее, тем ценнее продукт. Нет, ценность определяется средней общественной рабочей силой. Поэтому стоимость определяется средним общественно необходимым рабочим временем.
Как стоимости все товары – суть определенные количества «застывшего рабочего времени». Изменение стоимости объясняется изменением производительной силы труда.
Человеческий труд различается по тому роду полезностей, которые он производит. Обмен совершается при условии качественного различия товаров, как предметов потребления. Различие товаров – вот основа общественного различения труда. Но для измерения товаров трудом нужно всякий сложный труд свести на простой, на труд, который может совершить всякий человек без особой подготовки. Это «сведение» всегда совершается при обмене. Абстрактный труд образует меновую стоимость. Конкретный – потребительную (полезный труд!).
Сопоставление одного товара с другим лучше всего выражает стоимость его, и такое выражение – случайно, единично, просто: 20 арш. холста (относительная стоимость) = сюртуку (эквивалентная форма стоимости).
В относительной форме стоимости товар появляется как потребительная стоимость. Ее меновая стоимость выражается в другом товаре в эквивалентной форме.
_______________
«Простая форма стоимости – обыкновенная (простая) форма проявления заключающейся в товаре противоположности между потребительной стоимостью и стоимостью вообще, как результата человеческого труда». Простая форма стоимости совершенствуется, если один товар приравнивается ко многим. Это полная, или развернутая, форма стоимости. (Она уже более установлена, не так случайна. Обмен регулирует ее форму (а не наоборот). Но самая устойчивая – это всеобщая форма стоимости – денежная форма ее.
Обмен совершается на основании меновых стоимостей товара. Для покупателя он имеет потребительную ценность, для продавца – нет. Прежде была потребитительная стоимость для обеих сторон, теперь нет. Прежде меновая способность товаров не имела независимой формы стоимости, она была подчинена потребительной. Самостоятельная независимая форма стоимости образуется только с ростом процесса обмена и находит себе выражение то в одном, то в другом товаре. Наконец, кристаллизуется в форме денег. Меновой эквивалент стал непосредственным выражением абстрактного труда.
«Цена есть денежное название рабочего труда, овеществленного в товаре. (Это не мешает цене не совпадать с величиной стоимости, что объясняется тем способом производства, в котором правило может обнаруживаться только как слепо действующий средний закон)». Другая функция денег – средство обращения, содействующее обмену. Один владелец передает товар другому, товар этот для первого не имеет никакой потребительной стоимости, и на вырученные деньги покупает товар, удовлетвяющий его потребностям.
Т1 – Д – Т2 (Т1 = Т2)
29 [марта]. Товары совершают только один оборот. Деньги же никогда не ворочаются к своему прежнему владельцу, они с циркуляцией товаров удаляются от исходного пункта.
Товары постепенно делаются предметом потребления, деньги – никогда.
Количество денег, находящихся в обращении, зависит от S [суммы] цен, имеющих быть реализированными. S цен – зависит от высоты цен товаров и количества их. (Чем больше количество товаров, тем выше цены их, тем больше циркулирует денег, и наоборот.) S цен зависит также от быстроты обращения денег (чем быстрее денежное обращение, тем меньше циркулирующих денег). Высота цен не зависит от количества средств обращения, но количество средств обращения зависит от высоты цен! (и других факторов).
Как орудия обращения – деньги perpetum mobile[187]. Как орудия накопления – они богатство. Цель накопления – регулировать сумму денег, находящихся в обращении.
Но есть у денег еще одна новейшая функция – они обращаются в капитал. В формуле товарного обращения (Т1 – Д. – Т2) продавец получает другой товар, и экономический смысл этого нужно искать в различии Т1 и Т2 (при их равенстве?).
Ну, а какой смысл имеет формула Д1 – Т – Д2? Ведь обмениваются равные величины. Стало быть, Д1 = Д2? Зачем же тогда Д1 было пущено в оборот? Качественно Д не различается. Стало быть, чтобы в этом был raison d’être[188], нужно, чтобы Д2 было больше Д1…(Д2=Дг+бД.) Это виднее всего в коммерческом капитале – покупается, чтобы быть проданным с барышом. Но и в промышленном капитале то же самое. А в процентном капитале эта формула только сокращена (Д1 – Д2). Стало быть, это (Д1 – Т – Д2) «общая формула капитала, каким он является в сфере обращения».
Но откуда берется бД? Ведь обмениваются равные стоимости. Ну, положим, капиталист продает свои товары выше их стоимости, ну, он выиграет, но ведь потеряют покупатели и бД не получится (бД – добавочная стоимость). Сумма наличных стоимостей не образовалась бы. Стало быть, бД не следствие обмена. Источник ее в том товаре, который покупает капиталист, чтобы продать. А какой товар может быть источником стоимости? Человеческий труд. Условия, при которых труд – может продаваться 1) рабочий свободен (не раб); он вынужден вместо продуктов – продавать труд.
Стоимость и цена обуславливаются рабочим временем. Время зависит от S суммы жизненных средств, потребных для поддержания жизни рабочим.
Стало быть, стоимость рабочей силы определяется тем количеством рабочего времени, которое необходимо для производства такого количества продукта, сколько нужно для поддержания жизни рабочего и продолжения рода.
Эта стоимость платится капиталистом после работы. Рабочий кредитует капиталиста. Для процесса производства нужны машины и материал, который впитает человеческий труд. Процесс производства уже заключает в себе процесс образования бД. S (сумма) – рабочее время для приготовления материала, время для приготовления орудий (поскольку они износились в процессе) и нового рабочего времени – стоимость произведенного продукта. Стоимость для капиталиста. Чтоб извлечь прибыль, он извлекает из новой рабочей силы больше стоимости, чем он заплатил за нее. Стоит удлинить время. При произведении жизненных средств рабочего требуется 6 часов. Капиталист платит эту сумму за 12. Стоимость этого излишка времени = бД. Та часть капитала, которая не изменяет его величины после обмена (рабочее время – на машину, на материал) – неизменный постоянный капитал.
Переменная та, которая образует бД. Высота добавочной стоимости не зависит от постоянного капитала.
Добавочная стоимость / к переменному капиталу = добавочный труд / к необходимому труду.
Это отношение определяет степень эксплуатации рабочего труда.
Отсюда борьба капиталистов с рабочими из-за длины рабочего дня.
Образования бД можно достигнуть, сократив время необходимого труда (см. пропорции).
И эта бД называется относительною, а та, которую получают от удлинения добавочного труда, – абсолютной.
Сократить необходимый рабочий день можно, повысив производительность труда. Повысить производительность труда можно 1) кооперацией рабочих, 2) мануфактурным разделением труда, 3) введением машин и крупной индустрией.
A. Кооперация – порождая соревнование, дает большие результаты, чем индивидуальный труд. Но для кооперации нужны единения капитала – это возможно при низких степенях капиталистического производства.
B. Мануфактура развивается из ремесел 1) или когда ремесло одно распадается на части, которыми заведует отдельный работник; 2) или когда различные ремесла, комбинированные в мануфактуре, теряют свою самостоятельность и делаются односторонними, дополняющими друг друга. Отсюда две формы мануфактуры – сложная, или разнородная (целый ряд независимых, частных операций), и органическая, простая (последовательные ступени развития одного и того же продукта; предыдущий рабочий доставляет последующему сырой материал).
Разница между общественным и мануфактурным делением труда. В общественном делении труда – «анархия» – каждый производит продукт самостоятельно, а в мануфактурном разделении труда – «под твердой рукой капитала» (целая цепь продуктов). У капиталиста мануфактуры – относительная бД. Рабочий становится все несамостоятельнее, автоматичнее.
C. Но окончательно порабощают его машины и крупная индустрия.
Кооперация машин – влечет кооперацию людей. Влияние ее на людей: 1) возможен и детский труд, вследствие легкости (относительное понижение необходимого рабочего времени – понижение платы)(отец – необходим для семьи), 2) удлинение рабочего дня, 3) напряженность, 4) переменный капитал, тратящийся прежде на покупку рабочей силы, теперь обращается в постоянный капитал.
Новая машина оставляет тьму людей без хлеба.
Конкурируя с крупной индустрией, мануфактура и ремесло притесняют своих рабочих, стараясь успешно работать без машин. Скоро они уступают под влиянием мелких машин (швейных машин) и законодательства, которое, хотя и тянет руку рабочих, но гонит их на фабрику.
Улучшение производительности труда вредно влияет на рабочих, увеличивая цифру бД.
Рабочая плата капиталиста оплачивает только необходимое рабочее время, однако плата эта обозначается как цена всего рабочего труда (т. е. не труда, а рабочей силы, источника его, т. е. необходимых жизнененных средств, на производство которых нужна часть рабочего дня (поштучно ли или подённо).
бД достается не одному капиталисту, а и землевладельцу. Превращение бД в капитал – источник накопления капитала. (S сумма денег, представляющих бД) – приобщается к капиталу для покупки добавочной рабочей платы, воспроизведение капитала имеет прогрессивный характер. Старая бД производит новую. Степень накопления зависит от а) величины части бД, потребляемой на капитал; b) степени эксплуатации труда; с) количества труда, идущего на производство бД; d) возвышения производительности труда; е) накопления же. (С ростом накопления возрастает и переменная часть капитала, назначенного для покупки рабочей силы, а стало быть, количества ее.) Отсюда временное повышение заработной платы. Отсюда уменьшение бД, а это влечет понижение побуждения к накоплению – и вот падает причина повышения заработной платы.
Постоянная часть растет на счет переменной, но спрос на труд не пропорционален с ее возрастанием.
Параллельно с накоплением концентрация крупных капиталистов вытесняет мелкоту. Это для рабочих вредно.
Колебания в процессе накопления вызывают колебания в числе рабочих.
То спрос, то выталкивание. Каждое время имеет такой колеблющийся избыток населения – промышленную армию. Она служит то расширению, то сокращению производства (процессу овеществления стоимости). Эти «освобожденные» служат капиталистам и давят на заработок занятых работников. И никакие Trades Unions не помогут в этом деле.
Армия растет с накоплением – так что положение рабочих тем ненадежнее, чем интенсивнее рост капитала. Для роста капитала нужен капитал. Как получился первоначальный капитал?
Капитализм – исторические отношения предполагают право собственности на орудия труда не в руках тех, кто работает этими орудиями. Процесс отделения рабочего от орудий – предшествовал и созидал капиталистические отношения. «Отделение» совершалось при переходе общества из феодального в капиталистическое. Сам производитель был связан при феодальном строе (цехами). Он не был свободен. Для того же, чтоб он стал рабочим, нужно было дать ему свободу (!) и отнять у него средства производства. Земледельческий (з) капитал образуется благодаря экспроприации. В Англии это было в ХV и XVI вв. Феодальные владетели прогнали крестьян и разрушили жилища их. Потом конфискация монастырских имуществ и отдача их спекулянтам и фаворитам. Феодальная собственность превращается в буржуазную. Собственники и пролетариат. Потом из среды крепостных выделился еще класс – арендаторов.
За земельным капиталом появился и промышленный (п.). Его создали 1) эти самые пролетарии. Ведь они явились теперь и потребителями, они создали рынок. 2) Ростовщический и торговый капиталы. 3) Колониальная система, способствовавшая успеху в торговле товарами и рабами и создавшая капиталистов. 4) Система государственных налогов, ложащихся на рабочий класс. 5) Протекционизм фабрикует фабрикантов, экспроприирует независимых рабочих, капитализирует национальные средства производства и насильственно тянет к капиталистическому строю. Но чуть капиталистический способ производства достиг господства, – обратный процесс. Концентрация капиталов достигает напряжения, и прежний строй не выдерживает: экспроприирующих экспроприируют…
_______________
Краеугольный камень – теория бД. Соглашается с Адамом Смитом, Рикардо и Стюартом, что труд – творец всякой ценности. Стоимость для него – не случайный признак, а необходимый атрибут товара. Стоимость всех без исключения товаров он рассматривает как продукт овеществленного труда.
Субъективной природы стоимости он совершенно не признает. Прибавочная стоимость, по Марксу, не имеет никакого влияния на меновую. Меновая стоимость зависит от величины стоимости производства, которая зависит от количества затраченного труда. Он отрицает участие сил природы, самостоятельное влияние орудий – в создании меновой стоимости.
Стоимость – и цена не тождественны. Маркс сознавал это и потому (?) ссылался на «средний закон».
«Капитал» не = вещественным предметам производства – но исключительно та сумма, которая предназначена с помощью наемного труда и неодушевленных средств производства производить товары.
2 апреля.
5) Ну, а в крупных землевладениях это может повлечь даже противоположные результаты. Ведь у сельских хозяев – не в пример промышленникам – есть выбор, – станут «охранять» рабочих – сельские хозяева – возьмут да и переменят систему сельского хозяйства на менее продуктивное. И это будет, стало быть, связано с регрессом производства. А то станут сдавать участки в аренду, раздроблять. (Да и как практически устроить надзор за рабочими, которые (не то что на фабрике) работают вразброс…) Предложение земли усилится и новое хозяйство расцветет…
Капиталисты, вследствие того, что в статистике лица, занимающиеся кроме сельского хозяйства и промыслами, называют их Pr [нрзб.].
Это неверно. Его нечего «охранять», эксплуатация здесь не имеется. Да и не может проявиться антагонизм благодаря родственным связям (!)
Теперь всюду твердят: Англия – зеркало нашего (немецкого) будущего. Как здесь, так и там – исчезает мелкое крестьянство. А когда Беренштейн пишет правду про Англию, говорят: одно дело Англия, другое Австрия. Капитализм характеризуется:
а) юридически – как народнохозяйственная система, которая основывается на свободе личности и собственности;
в) технически – как производство в широких размерах (ну, а мелкая аренда, теснящая крупное хозяйство?);
с) социально – отделение средств производства от производителя, (ну, а кустарная промышленность, ипотечные владения, мелкие ремесла, служащие дополнением фабричным?);
д) политически – обладание капиталистической центральной властью – даже в Англии большая часть земли не свободна;
е) Реально – система, в которой производство находится под контролем капиталистов (ну, а торговые и банковые капиталисты, не имеющие никакого прямого влияния на производство?).
_______________
А вот генетическое, которое тем хорошо, что не содержит в себе перечня признаков и избегает столкновения с разнообразием капиталистического явления: строй, в котором осуществление принципов свободного оборота, свободы личности и собственности достигло высшей (относительной) точки, определяемой эмпирическими условиями, в которых находится народное хозяйство отдельных государств, и экономическим развитием. Поэтому нет всеобщего капитализма. Есть национальный, и нигде так резко не выделяется национальный характер капитализма, как в народн[ом] [хозяйстве]. Что город, то норов. Влияние природы и истории сказывается здесь сильнее всего…
Капиталистическое хозяйство – старается овладеть комбинациями истории и природы и – повлиять на них своей интернациональной стороной. Ну, чуть комбинаци[ям] не поддадутся – капиталистическое хозяйство само приспособляется и делается национальным. Национализм его мешает ему. История дает себя чувствовать. Но если эксплуатация-то существует, но перехода к крупному производству не получается? Что тогда? Вот труднейшая дилемма, стоящая перед исследователем.
12 апреля. Города притягивают к себе деньги (в форме налогов и арендной платы), продукты (посредством мировой конкуренции, которая, понижая цену товаров, направляя их к городам), людей (потерявших в борьбе общинные поземельные владения, семейную собственность, разорвавших связь с кустарной промышленностью).
Все страны: 1) в Англии осталось 800 000 земледельцев, остальная половина в городе;
2) во Франции в 46-м было 24 %, теперь 37 % населения в городах (каждые 5 лет переселяются из городов в деревни 300 000 французов);
3) в Германии за 15 лет – 2 ½ миллиона; Sering говорит, что это передвижение важнее великого переселения;
4) в Бельгии: Фламандцы, которых в 50 г. экономист Ducpetiaux называл «самым усидчивым» народом, теперь, по Wanderwelde, передвигаются в города (расположенные на 2-х часовом расстоянии) по 80 000 в день. Что заставило их так перемениться? Кризис льняной промышленности: в 43-м году работников над льном было 300 000, а в 80-м г. только 35 000. Остальные в города. Правительство послало их колонизировать Hainaut, и теперь там, где все говорят по-французски, священники должны говорить по-фламандски в деревне; а некоторые живут во Фландрии и ездят ежедневно работать в Hainaut.
А пивоварение? В 35-м г. в Бельгии было 2000 мелких заводов. Осталась сотня. В 96-м г. правительство, желая помочь мелкому производству – льготы. Крестьяне не решились рисковать, а капиталисты земледельцы, желая получить льготу, устраивали подделку кооперации. Дутые предприятия. Благодаря этому мелкие исчезли еще быстрее.
А другие промысла, ведомые крестьянами для поддержки и продолжения своего земледельческого бытия. Оружейники, кожевники и т. д. Их убила английская конкуренция. Ну вот они и ходят по сахарным заводам – точат ножи для резки свеклы. Ткачи в Waterloo стали каменщиками; плетельщики шляп (промысел которых обусловлен особыми свойствами соломы их страны) стали углекопами, а вместо них работают в Париже 25 % их женщин, принося с собою в лирические фламандские деревушки всю мерзость парижской культуры.
Вот полный процесс разложения. Посевы ячменя сократились, заменились пастбищами, женщины заменяли мужчин, мужчины нередко сами плетут шляпы, конкурируя с женами.
Прибавить к этим причинам эмиграции еще: земледельческий кризис, легкость передвижения, новые потребности, желание свободы.
Ну, а каково влияние эмиграции?
а) На состав сельского населения
1) уменьшение его, в Бельгии осталось 16 % населения. Есть роман Немировича-Данченко «Драма за сценой». Там провинциальная труппа для поднятия сборов ставит «Отелло». Антрепренер объясняет это так: каждый солдат знает «Отелло». И всякая баба говорит своему возлюбленному: «Ах ты, Отела». А все-таки у нас Отелло сделал только половинный сбор.
Мая 28. 10 часов вечера. Попадая в обращение, товары первым делом выставляют свою субстанцию: общий рабочий труд, общее рабочее время, для этого они выделяют из своей среды – один товар, скажем: золото, – как овеществление всего рабочего времени, как всеобщий эквивалент. (Это я хотел популяризировать Маркса, но популярнее, чем он, не скажешь.) К черту.
Вот лучше – статейки Лосицкого «Научное Обозрение» 10. 1898. (По поводу статьи Пешехонова в «Русском Богатстве», 97, VII*.) Пешехонов говорит о многоземельном слое крестьянства, что он земли не собирает, что он – остаток общей зажиточности, что поэтому никого он не эксплуатирует, что у малоземельных и земля лучше, и урожай обильнее. Народники, как видно из этих строк, быстро переменили своё отношение к кулакам. Пешехонов пользуется частными фактами Калужской губернии. Но если б он воспользовался общей статистикой, то результаты вышли бы другие.
Если считать многоземельным каждого, кто имеет 10 десятин земли (а таких 20–25 %, как считает Пешехонов), то получилось бы, что их не 1,3 %, а 8,3 со средним землепользованием 28,4 десятины против 6,8. Вышло бы также, что у «крупных» не 11 % общей площади крестьянского землепользования, а 25.
«Собиратели» – по большей части и «арендатели».
Благодаря этому они имеют в пользовании 130,756 десятин земли вместе с надельной, в то время как малоземельные обладают только 53,118 десятин. А если включить сюда еще купчую землю!
Годичные арендатели по большей части народ мелкий – (2 ½ арендные десятины). Когда они продадут продукт для оплаты аренды – у них остается денег меньше заработной платы и вознаграждения за инвентарь. Предпринимательской прибыли у него нет. И арендует он землю для того, чтобы иметь хлеб для собственного потребления.
(Кто берет землю в долгосрочную аренду, тому она на 16 % ниже стоит – и земли берет он, в среднем, больше 4 десятин.)
Но больше всех получает выгоды надельная аренда (в среднем она – 5 ½ десятин, но если выкинуть мелкие аренды – выйдет десятин 13). Эта аренда дешевле вненадельной на 30 %.
Надельную землю снимают 6 090 хозяев, а вненадельную 4 300 (годичной) и 3 206 – долгосрочной. Ну, а если еще вспомнить, что 42 % хозяев снимают землю и так и сяк! Выйдет, что у 6 тысяч арендателей скопляется 74 % всей арендуемой площади.
Принудительная сдача земли в аренду, делаемая сходом для уплаты податей, – увеличивает число «обломков прежнего», по выражению Пешехонова.
Признаки нефтепроизводящего кризиса. Сначала статья NN внушает нам ужас: предложение превысило спрос, площадь добычи расширилась, интенсивность работы повысилась ужасно, – цены, конечно, пали: в январе этого года нефть 11,5 коп. – теперь 6,5; остатки 13,5 к. – теперь 9 к.; керосин в январе 14 к. – теперь 6,5. Добыча увеличилась на 214 миллионов пудов – вывоз на 78 миллионов. Спрос понизился вследствие сокращения в отраслях железной и мануфактурной. Да и повысься спрос, дело было бы плохо. Провозоспособность путей сообщения – очень низка. Товары так и останутся у промышленников. Но… тут идет самое неожиданное но… Предложение понижается, ибо старые фонтаны истощаются, а на новые надежда плоха, буровые работы достигли кульминационной точки, дальше не пойдет (да и понижение спроса уменьшит буровую деятельность). Поэтому ужасного ничего нет, увеличьте только провозоспособность железной дороги, и все будет хорошо. Тем более, что и спрос, собственно, не так уж и низок: многие внутренние рынки далеко еще не все заняты, про заграничные и говорить нечего. Там все обстоит благополучно. Спокойная конкуренция твердо установила разницу. Америка уже не давит нас своими ценами. Понимай как знаешь.
Вот телеграмма из Баку о положении нефтяного рынка: 21 апреля. Нефть 6,5, остатки 8.
Выплавка чугуна:
Торгово-промышленный рост не так велик, как в предыдущем году.
Хотя привоз из-за границы сократился в сравнении с прошлым годом на 26 миллионов пудов, но русские заводы, увеличив только на 12 миллионов свое производство, не могли поместить его на русском рынке. Количество непроданного на юге чугуна к 1 января текущего года – 9,5 миллионов пудов. На складах громадные количества железа и стали не проданы.
29 мая. Вопреки указаниям Пешехонова, хозяйство «собирателей» – куда лучше малоземельных. У тех с головы скота скопляется 208 навозу, у многоземельных – 391 пуд. На десятину у одних 64 пуда, у других 72. Удобрения у малоземельных – 26 голов скота на 100 десятин; у многоземельных – 18, и все же у первых 54 пуда на десятину, у вторых 71 (ибо навоз не весь вывозится в поле. Малоземельные часто не имеют лошади). Но все же Пешехонов прав, указывая, что у малоземельных больше лошадей. Но ведь если на десятину нужно 2 лошади, то ведь на 1000 десятин не нужно 2000 лошадей. Производительность же крупных хозяйств на 14 % выше мелких.
При более выгодных условиях аренды, при более продуктивной производительности крупные хозяйства поставлены лучше по отношению к сбыту продуктов, к кредиту, к платежу податей; – и развитие его в будущем обеспечено, дифференциация крестьянства неизбежна… Выводы Пешехонова, противоположные этим, – получились благодаря тому, что население Калужской губернии, над которой он оперировал, – в большей своей части 3/5 мужчин идут на заработки. Ну, при таких условиях капитализация само собою не расцветет.
_______________
Чем больше развит в уезде отхожий промысел, тем ниже арендная плата.
Размеры арендного хозяйства сокращаются в зависимости от высоты промысловых заработков. Цены на арендную землю понижаются. В тех уездах, где отходящих менее 40 %, – арендная плата за 1 десятину 7,4 р., там же, где их 60 %, – плата 5,4. Заработок промышленника на 60 % выше заработка сельскохозяйственного рабочего. Степень эскплуатации батрака увеличивается. В рабочих – недостаток. В деревне – опустение. Гармонии интересов помещика и крестьянина нет и в помине.
_______________
Лосицкий.
Некий «гражданин» Вестон, как видно, стал доказывать рабочим, что их попытки повысить заработную плату тщетны, что, повысив заработную плату, рабочие повысят цену продуктов и вследствие этого им придется платить за все жизненные припасы дороже. Капиталист, стало быть, будет не внакладе, и дело пойдет по-прежнему. «Если супник содержит определенное количество супу, который должен быть съеден определенным числом лиц, то на долю каждого не придется больше, если мы увеличим ложки…» Заработная плата в конце концов – величина постоянная. Маркс, возражая Вестону, указывает, что это его утверждение построено на двух положениях:
1) будто национальное производство (суть) величина постоянная.
2) будто сумма действительной заработной платы, сумма, измеряемая количеством предметов потребления, величина постоянная.
Но ведь объем национального производства меняется ежедневно (вследствие накопления капитала и увеличения производительности труда). Изменение объема национального производства имеет влияние на высоту заработной платы, но не наоборот: национальное производство как было, так и осталось не установленным.
Но предположим даже, что заработная плата – величина постоянная. Рабочие глупы, если стараются повысить ее, но ведь и капиталисты глупы, понижая ее. Вестон говорит, что после повышения наступит реакция, ну а после понижения? Стало быть, из этого самого принципа следует, что рабочие должны повышать ее.
Если Вестон не согласен с этим, он не согласен со своим принципом повышения заработной платы. Он должен признать, что высота платы зависит от желания капиталистов – (разница между желаниями американских и английских капиталистов, уж, конечно, не от разницы Божьих желаний), а раз высота заработной платы может быть изменена по желанию капиталиста – она может быть изменена и без его желания.
Вестон говорит, что рабочие все равно возвратят в карман капиталиста тот прибавок заработной платы, которого они добьются, возвратят как потребители.
Ну, а разве рабочие потребляют все свои продукты? А предметы роскоши? (2/3 национального производства потребляются 1/5 частью населения.) Или разве все жизненные припасы потребляются рабочими? А кошки, а лакеи?
Каково же положение тех капиталистов, которые производят предметы роскоши? Их доходы упали. Из этих доходов они должны платить за повысившиеся в цене жизненные припасы. А предметы роскоши стали бы потребляться ими гораздо меньше, и вследствие этого взаимный спрос на их продукты уменьшился бы, цена на эти продукты понизилась бы, и понизилась не в пропорции с понижением заработной платы.
Итак, производить жизненные припасы стало выгоднее, чем производить предметы роскоши. Труд и капитал станут вкладываться туда, где выгоднее – и вот 1) капитал достигнет спроса жизненного припаса (цена понизится до прежнего уровня); 2) уменьшение капитала станет соответствовать уменьшенному спросу (на предметы роскоши) (цена их повысится). Дело пошло бы по-прежнему только в другой форме: жизненных необходимых припасов больше, а предметов роскоши – меньше.
Это если рабочие потребляют те же продукты, что и до повышения заработной платы. Ну, а если другие, новые? Тогда дело тоже не изменится, ибо – прежде капиталисты покупали эти предметы. Рыночная цена – в прежнем положении.
Итак, повышение заработной платы ни в каком случае не имеет другого результата, кроме упадка общей прибыли.
Ну, а если исходить из неизменности количества производства, то, конечно, выйдет, что повышение спроса никогда не повысит предложения, а вызовет только повышение цен.
Вестон на другой день дебатов стал утверждать, что увеличение заработной платы должно повысить количество денег, находящихся в обращении. Но ведь это предсказание неверно в стране с такою совершенной платежной системой, как Шотландия, где рабочий, получив известную заработную плату, вносит ее лавочнику, тот банкиру, а банкир капиталисту. При такой циркуляции понятно, например, почему в 60-м г., когда хлопчатобумажная промышленность (да и все другие) была на высоте своего развития и оплачивала рабочих очень высоко, количество денег было меньше, чем потом после американского кризиса. Число пострадавших вдвое превышало число сельских рабочих, а вместе с тем – количество денег, – за вычетом банкнот, – в 61 г. увеличилось на 4 миллиона фунтов стерлингов. Или вот еще пример. В 42 г. было столько же денег, сколько и в 62-м, а между тем в 42-м было бы невозможно уплатить за железную дорогу 320 000 000 фунта!
Да и вообще в то время, как ценность массы товаров имеет тенденцию к увеличению, деньги стремятся уменьшиться в числе.
Вестон не понимает, что 1) платежи, реализуемые без помощи денег, посредством расчетных банков, векселей, чеков, – ежедневно меняются; 2) отношение между обращающимися и хранящимися в банках деньгами ежедневно меняется; 3) ценность (и масса) обращающихся товаров и ценность заключенных сделок – считая даже заработную плату величиной постоянной – ежедневно меняется; 4) что сумма металлических денег – ежедневно меняется; не понимает, что его догма о твердо установленной сумме обращающихся денег – абсурд.
_______________
Да и что такое высокая заработная плата? Зачем смотреть на нее как на результат повышения? Где мерило высокой и низкой заработной платы? Если 20 миллионов – высокая по сравнению с 5-ю, то 100 – высокая по сравнению с 20-ю. А нормальная мерка где?
Почему за известное количество труда дают известное количество денег – гражданин Вестон не ответит со своей точки зрения, ибо чем же регулируются спрос и предложение, регулирующие заработную плату?
А если это так, то нечего и спорить против стремления рабочих повысить заработную плату.
А если это не так, вопрос остается открытым: почему за известное количество труда дают известную сумму денег.
(Но ведь предложение и спрос вызывают только временные колебания на рынке, и цены за труд определяют не они. В тот момент, когда интенсивность этих двух противодействующих сил одинакова, – влияние их на рыночные цены равно нулю. То же можно сказать и про заработную плату и про цены всех других товаров.)
Аргументы Вестона сводятся[189] к утверждению, что цены товаров определяются заработной платой. (Почему сельские рабочие Англии, получая за труд гроши, производят продукты дорогие по цене, а горные рабочие ее, получая высокую заработную плату, производят дешевые продукты?)
Говоря, что цены товаров определяются заработной платой, мы говорим, что цены товаров определяются ценой труда, т. к. заработная плата – название цены труда. (Цена есть денежное выражение меновой ценности, а стало быть, ценность труда есть общее мерило ценности. Ну, а ценность труда чем определяется? Вестон, не зная этого, вот как вертится. То он говорит, что цена товаров определяется ценою труда. То, доказывая, что ценность труда повышать бесполезно, он говорит, что повышением цен товаров вызвалось бы понижение заработной платы.
Если мы один товар (деньги, зерно) сделаем определителем ценности другого, то выйдет, что ценность определяется ценностью.
Что же такое цена?
Казалось бы, что цена проявляется только в сопоставлении с другим товаром, что в данном товаре ее нет. Ведь когда говорят о цене, говорят о количестве других товаров, на которые данный товар обменивается. Но чем регулируются эти пропорциональные отношения? К чему приравниваю я и золото, и его эквивалент – шерсть? Что это за третья величина? (Сходство с измерением треугольников.)
А если мы приводим их к общему выражению, то меновая ценность есть общественное выражение этого предмета – общественная субстанция. А в чем общественная субстанция? В труде. В общественном труде (ибо если я произвожу предмет для себя – я произвожу продукт, но не товар). Производитель, содержащий себя, ничего общего с обществом не имеет… Только тот, кто создает товары и отдает свой труд обществу – только тот создает меновую ценность. Кристаллизированный общественный труд.
4 июня. Слонимский: Теория Маркса – меряет трудом ценность, сводя труд к издержкам производства. Из этого мало выжмешь материала для метафизики. Сущность ценности. Познавать – дело лишнее и бесполезное. Да и невозможное. Ценность отлично определяется затратой капитала (=ценности) + обычная прибыль (ц) цен + ценностью. Но ведь и тяжесть определяется тяжесть + тяжесть, однако мы не ее сущности.
Нежданов: Труд свести к издержкам производства нельзя. Сущность ценности Маркс не старался познать, он, напротив, указывал, что ценность предмета – вне его, в нашей оценке, а не в нем самом. Тот, кто сравнивает ценность с тяжестью, – больший метафизик; он смотрит на ценность как на внутреннее объективное свойство товара. Только благодаря этому он может говорить, что предметы потому стали товарами, что они имеют ценность, а не наоборот. Будто ценность изначальна.
9 декабря. Грубейший утилитарист, он в своей философской ограниченности рассматривает все наши культурные богатства с точки зрения их применения, их пользы, а все остальные… вы думаете, выбрасывает? отрицает?
Знание – ежели на него смотреть как на средство, полезно, – говорит он, – но как цель – оно только вредит людям…
Наш «философ» не понимает, что, может быть, людям полезно смотреть на свои орудия как на цель, может быть, им выгоднее не замечать истинной цели вещей, – и – в непонимании своем он с эффектом, достойным иной участи, предлагает человечеству выкинуть из своего обихода – астрономию, математику – если она не относится к аршинам и фунтам, и вообще всякую науку, которая не дает ему сию же минуту своих материальных результатов.
Никакой Америки он, конечно, не открывает. Заблуждение это старо – как мир. Его можно опровергнуть с утилитарной же точки зрения – указав, как эти самоцельные явления, все эти чистые науки удовлетворяют наши потребности, наши первейшие нужды. Для этого вовсе не нужно играть словами и подставлять вместо материальных потребностей духовные, как это делают наши доморощенные мудрецы. Когда Писарев объявил войну всем культурным явлениям, польза которых была для него не очевидна – наипаче же чистому искусству, – противники его именно потому и оказались так бессильны, что они игнорировали его точку зренья: возражая ему, они не пытались доказать, что искусство выгодно и полезно обществу. Нет, они заявляли, что дико и пошло требовать от святого Искусства какой-то низкой пользы, и вместо того, чтобы доказать, какое близкое отношение имеет Аполлон к печному горшку*, – они бессмысленно повторяли: но мрамор сей есть Бог – и, конечно, терпели поражение за поражением. А между тем они были правы. И возьми они то же оружие, что и Писарев, исход битвы был бы иной.
Выдвигая домашне-утилитарный принцип и тем поблажая самым коренным вкусам буржуазии, он успевает потрафить и на другие ее требования.
_______________
Комбинация: Консерватизм… Большинство людей относятся к нему отрицательно. Говорят: «как бы хорош порядок ни был, но возможен и лучший». Говорят это потому, что кажется им, будто мир развивается бесконечно. Это не так. Мир и теперь уже идеален в плане своем. Для дерева нет иного идеала, как дерево, для человека – как человек. Мир не развивается. Его развитию положены известные границы. Дальше идти некуда. Возникает ультиматум: стоять или идти вспять.
Стоять, конечно, лучше. Оно и удобно. Ни думать, ни страдать, ни напрягать зрения для выбора дороги. Одевайтесь, как все, живите, как все, думайте, как все – это дело куда легче, чем всякие «порывания». Мы люди маленькие, серенькие, нам широких захватов не надобно.
И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою, как сказал про г. Меньшикова «циник» Горький, ученик «антихриста» Ницше (говоря выражениями самого же Меньшикова).
10 [декабря]. С чистой наукой то же самое. Вспомните Льва Толстого с его «Неделаньем».
12 декабря. Прогресс – состоит в неизменяемости и т. д. Представление о совершенстве – самодовлеющий взгляд на вещи. Совершенства нет. Условия меняются – и мы меняемся – отношение между нами (всеми целиком) и средой (внешней) остается одинаково, всегда одно и то же. Наше представление об этом отношении мы называем счастьем.
Общественное счастье неизменно. Меняется индивидуальное. Да и то, если хотите, – ведь, в сущности, настоящего-то счастья и нет. Вот я, например, посмотрю на какую-нб. вещь как на самоцельную (будь хоть она вещь самоцельной – мы лично были бы счастливы) – и сердце у меня щемит от счастья: думаю, любовь для любви – стихи, постоянные мысли о предмете, желания хотя прикоснуться к ее руке, – а потом, когда это достигнуто и тебя ведут по этой дороге дальше и дальше к делу, которое составляет истинную цель всех этих перипетий, – делу, цель которого – меня не касается, – у тебя все время есть чувство: не то, не то, не то.
Механика общественных идеалов. Статья Ф. Софронова – «Вопросы философии», 4-я кн.
Всякое отвлеченное мышление называют иногда метафизикой. Но с большим правом называют так гипостазирование абстракций – обработку их как реальных сущностей. И ежели мы из этих отвлечений захотим сделать выводы таких реальных качеств, которых нет в реальности, – то все же можем оставаться в научных пределах – и метафизики у нас не будет никакой. Древнее мышление – вовсе не метафизика. Недостаточное научное мышление.
Новейшие системы – стремление к монизму – тоже научны. Поиски реальных отношений сущего и явления – наука.
Гипостазирование понятия – не обязательно метафизика. Оно метафизика тогда, когда их делают трансцендентными миру и определяют мир способом, не находящим себе соответств[ия], в эмпирии.
Каузальное (наука) и телеологическое (метафизика) мышление.
Эмпирическому бытию, конечно, каузальное, а трансцендентному телеологическое (Кант). Наше обычное мышление, отражая на себе необходимое в нашей повседневной практике стремление к известной цели, оценку при выборе нескольких целей, целесообразные поступки после выбора, – конечно, почти всегда бессознательно телеологично… Обычная домашняя философия – непременно признаёт свободу воли – иллюзия… Идея, как цель, представляется нам и мерилом оценки и побудителем к действию именно при последствии этой оценки. [Пропущено переписанное в дневник по-английски стихотворение Р. Стивенсона «To my wife. Stanza 1» и строфа из его «Завещания». – Е. Ч.]
14 декабря. В «Русском Вестнике», II кн., есть статья Емельянова «Земство и народное образование», в которой автор опровергает надобность в образовании так: нынешнему мужику не к чему приложить своей грамоты. Он ее и забывает. Чтоб он не забыл, устраивают читальни, библиотеки… Но ведь нельзя же учить человека только для того, чтобы он читал книжки из земских складов… (Т. е. нельзя средство делать целью.) Ежели так, то почему же «Русский Вестник» стоял до сих пор за классическую гимназию, т. е. за такое заведение, которое годится лишь для того, чтобы научившийся латыни обучал ей другого. Какая из наук, изучавшихся в гимназии, была применяема потом в жизни? А чистое искусство? Будто «Русский Вестник» и не сторонник его. Я сам сторонник, но я – хоть признаю его пользу, а «Русский Вестник» прямо так-таки без всяких оснований. А чуть дело дошло до образования народного, так оно цели захотело. А ежели я, становясь на его же точку зренья, да потребую и для народа тех же духовных наслаждений ради них самих, что и мы получаем, что «Русский Вестник» скажет тогда? Я-то не скажу. Я выставляю положение, что всякий самоцельный элемент полезен, ну а «Русский Вестник»-то что?
Да и еще такое дело: ни за что, ни у какой части общества никогда не может возникнуть вдруг стремления к средству. Этого быть не может. Нет также стремления к наслаждению. Есть стремление к производству – к большей высоте его. И ничего иного нет. Дико и невежественно понимает историю тот, кто объясняет какое-нибудь проявление общественной жизни стремлением к славе, к деньгам и т. д. Моя бабушка объясняла существование врачей тем обстоятельством, что «абы деньги как-нибудь вытянуть», мы объяснять историю так не можем. Стараясь раньше оправдать положение, что цель общества – существовать; и пояснив, что для существования нужна только еда, сон, одежа – я теперь могу настаивать на том, что всё «остальное» для одежи, пищи и т. д., всё, всё. Для того, чтобы наилучше произвести эту самую – —. Обучать грамоте для того, чтобы наш ученик обучал другого, третьего и т. д. дико и бесцельно. Но 1) от частого употребления орудия – мы привыкаем к нему, оно нам начинает доставлять удовольствие, мы делаем его целью (вот теория счастья), и потому, чтобы доставить удовольствие ближнему, мы должны этого ближнего приучить к орудию (как к цели). И большинство интеллигенции только потому так ревностно строит библиотеки и с таким уважением относится к этому делу, что хочет другому передать те наисладчайшие и высочайшие счастливейшие минуты. Это элемент этический. Но история этику считает таким же орудием, как и все другое. Этических целей не существует.
Это приодетая полезность… И не какая-нибудь там духовная, а самая настоящая, материальнейшая что ни на есть. Так что я a priori не верю, если и наталкиваюсь на такой факт.
15 декабря. Н. Бердяев:
Недоразумение: с идеализмом связывают реакционизм, с материализмом прогрессизм. Оно и понятно. Разваливая средневековую схоластику, французские материалисты ХУШ в. тем самым рушили средневековый уклад общества; Фейербах в 40 гг. своим материализмом то же самое. Наши 60 гг. разбивали метафизику, ибо за нее был Юркевич, били чистую эстетику, ибо это была эстетика крепостников. Нынче не то: народ стал буржуазией. Сделав из жизни лавку – буржуазия убивает идеализм. Прежний реализм, натурализм и материализм был идеализмом. Оппозиция буржуазии стала сама буржуазной. Пришибленные рабочие не могли выдвинуть высоких идеалов, борясь за минимум существования.
Человек не был самоцелью – он был средством. Возникший в такую тусклую эпоху марксизм поэтому оставил втуне бывшую в нем идеалистическую струю. Вот доктрина: Материальная общественная организация – базис для идеалистического развития человеческой жизни. Человеческие цели(?) будут достигнуты лишь при экономическом господстве над природой. Но в ту темную эпоху – внимание обращалось на средства, а не цели. Ученики не прибавили к марксизму ничего ценного. В рабочем движении, создавшем материалистическую теорию Маркса, есть идеализм, сказывающийся в готовности стать мучеником за идею. И когда она исчезнет, буржуазность захватит общество целиком. Критическое направление (=Бернштейнианство) также буржуазно. Когда Беренштейн сказал: цель для меня ничто, – он не прав с философской точки зрения. Материальные средства мы признаем только во имя идеальных целей. Цель человечества – счастье. Но не всякое. Есть возвышенное, а есть и низменное. Утилитаристы, превознося недовольного Сократа на счет довольной свиньи – тем самым признавали категории счастья. Научная (а не философская) психология констатирует тот факт, что действия человека не к счастью направлены, по крайней мере не только к счастью.
Зри 16 декабря «Вестник Европы». 71, 4.
Читаю Грота: Попытка нового определения прогресса. Огюст Конт и Спенсер были объективисты, и на Западе есть только субъективисты-историки. У нас Миртов, Лесевич, Михайловский, Южаков, Кареев. Конт в системе позитивной политики признавал Субъективный метод, но 1) политика – искусство, а соц[иология] – наука. 2) Субъективисты сами признают позитивную политику Конта плодом расстроенной мысли. Субъективисты взяли у Конта требование, чтобы социолог был нравственным человеком (Cours IV, 190). Но, во-первых, почему социолог, а не астроном, а во-вторых, ведь социолог потом выработает себе идеалы, после исследования, как же он сможет иметь их до него? В-третьих, кто признает социолога нравственным? Ведь критерии нравственности выработал он сам… Он сам и признает. Значит, всякий, если он сам признает себя нравственным человеком, может быть социологом и будет иметь право навязывать нам свои идеалы.
Субъективисты говорят: социология такая уж наука, что объективно к ней относиться нельзя. Страсти, слезы, кровь человеческая и все такое. Но разве анализ субъективного сам должен быть субъективен? факты прогресса в прошлом дадут нам идеал его в будущем. Субъективисты исследуют прогресс только для человека, объективисты всей природы Гр<ажданского> об<щества>. Ибо 1) природа была эксплуатируема человеком для своего прогресса. 2) Человек есть конечный результат той же природы, а ежели субъективисты станут говорить про свойственные человеку цели, в то время как у природы их нет, то 1) прогресс и у человека был бессознателен (до идеи о прогрессе); 2) почему мы так замыкаемся и [не] признаем у другого существа возможности целей.
Спенсер в своих «Основаниях биологии» сделал крупную ошибку. Допустив регрессивность в социальных явлениях, он не захотел признать ее в природе. Вследствие этого Спенсер пришел к неверному определению прогресса как дифференциации и интеграции. Понятие прогресса – понятие человеческого ума, и определить смысл этого явления можно только наблюдая надорганическую среду. Но где критерий?
Идея прогресса – нечто желательное для человека. Желательно то, что доставляет человеку приятные ощущения, увеличивающиеся наслаждения – 1-й признак прогресса. Но приятное может быть приятно большему или меньшему числу людей – а идея прогресса – у всех. Чтобы дать объективное содержание идеи прогресса, нужно найти источник приятного для всех людей… Реже всего люди сходятся в оценке степени приятности (т. е. прогрессивности) общественных учреждений; чаще (но все же редко) в оценке степени приятности поступательных движений науки. Чаще в прогрессивности орудий, которые участвуют во взаимодействии между человеком и природой. Факты прогресса нужно искать: где? – в природе. Как? – с помощью приложения различных фактов к субъективной идее прогресса – анализируя частную идею, лежащую в основе искусственного произведения человеческих рук – в машинах. Цель их – экономия энергии. Может быть, мнимая? Ибо изобрести и построить машину – нужна энергия. И с другой стороны, может быть, выигрывая в одном отношении, он теряет в другом. Леса жжет. (Бальфур Стюарт: о сохранении энергии.)
А если мы это допустим, выйдет, что человек способен увеличить сумму энергий – т. е. тратить те энергии, которых и не было.
Но возьмем во внимание, что, неизменная в количестве, энергия может изменяться в качестве (энергия движения в свете) и в состоянии (движения и бездействия). Человек может на счёт бездействующих энергий увеличивать действующие, из одного действия перевести их в другое. Механика учит, что усовершенствование машины состоит в увеличении суммы напряженных энергий, идущих на работу, и уменьшения суммы их, остающихся в напряжении.
[Нрзб.] человек 1) может достигнуть большой энергии, затратив малую, 2) употреблять только мертвую, а не ту живую, которая и без того ему служит.
А внутренний смысл этого дела тот, что человек увеличивает свою энергию и изменяет способы затраты этих энергий. А идея приятности? Возрастает ли приятность с увеличением энергии?
Все наши чувствования 4-х сортов: «1) отрицательное страдание: энергия есть, а деятельности нет, 2) положительное удовольствие, сопровождающее нормальную работу нашу, не выходящую за пределы энергии наших органов, 3) положительное страдание – работа превосходящего наличные силы органа – и требующая дополнительной энергии организма, 4) отрицательное удовольствие: заполнение энергий в органе после затраты».
В той 11-й книжке «Русского Вестника» не вред образования доказывался, как утверждал в «Новом Времени» Артемьев, а только та глубокая мысль, что подождать капельку надо, пока экономическое благосостояние мужика подымется.
Н. Емельянов – постоянный ихний рыцарь.
_______________
«Борьба за идеализм» Бердяева 6 кн. «Мир Божий»…
Прежде борьба марксистов и народников, а теперь ортодоксов и критиков. Песенка позитивизма, гедонизма и натурализма спета. В философии метафизика. В искусстве романтизм, вопросы философии, искусства, нравственности опять привлекают русское общество. Потом прочту.
16 декабря, воскресенье. Приходится начать день с констатированья этого грустного и гнусного факта – счастье вовсе не цель, оно средство. Оно последствие нравственной жизни человека. Нравственность – самостоятельное качество(?). Умственное развитие есть приближение к истине и т. д.
Все это насильственно: декаденты только потому хотят поэзии, что наука убила ее, а без поэзии тошно. Но ведь науки не опровергнешь. Бердяев только потому и вводит идеализм, что без него скука. А если и не потому?
Бердяев называет безвыходным кругом: философия, наука, искусство для жизни; ну а жизнь для чего? Говорят: все это полезности в данное время. Все это для жизни. И я говорю: для жизни, для возвышенной – и этим я признаю цель жизни… Прогресс и совершенствование – выше счастья и довольства.
Кантианство – самоцельность человеческой личности. Эволюционист покажет вам относительность истины, абсолютно ценной для вас, и ничего не останется от нее.
Добро безусловно ценная вещь – вы это чувствуете всем существом своим! Это служение Богу правды. Но вот эволюционист показывает вам полезную иллюзорность этого взгляда. Мы когда боремся из-за чего-нб. (12, 13 и 14 стр.). Всё это не протест против эволюционной критики. Только протест против общего захвата всей жизни. Nihil est nihil[190], развитие есть – но должно быть то, что развивается. Психика, красота – и все такое.
Телеологический принцип нужно внести – прогресс есть движение сущего к должному.
Требовать от идеалистов, чтобы они указали абсолютную, вечную красоту, вечное добро, вечную истину – недоразумение. Они по дороге к этим абсолютам, – а те не у них в руках. К Лассалю…
Как ужасно: мы готовы принять мученичество за идеал, а идеал оказывается крошечным и ничтожным.
Нет величия в идее жертвы собственным духом во имя мещанского благополучия.
Переменить: строя жилища для людей, нужно вселить в этих людей другие души.
Марксизм споткнулся, желая дать эволюционное научное обоснование идеализма. Корни идеализма метафизичны, и эволюция исторического процесса лишь условие, а не причина для его проявления. Идеализм с точки зрения (20 стр.) марксистов – преждевременен – ибо энергия общества должна быть поглощена материальной борьбой.
Или он может оказаться запоздавшим, т. к. буржуазное довольство может распространиться. Мы суживаем область того, что необходимо произойдет, и расширяем область должного и справедливого. Раз материальный базис есть средство для достижения идеальных целей (кто ему сказал, что целей! – К. Ч.) – то значит идеология самостоятельна!
Бердяев: процесс познания истины не только средство, но и цель.
Во всех культурных силах: в искусстве (декадентство – тонкие оттенки небуржуйной души), в этике (самоценность добра), в философии (познание истины – цель), в любви (любовь сама цель, а «свобода любви» – «социальное равенство мужчин и женщин» – средства, сами в себе любви не содержащие), в политике («естественное право» – святыня, а с точки зрения утилитаризма можно всякую безнравственность оправдать (с моей нельзя, а я утилитарист. – К. Ч.).
Религия (не нужно сознания ее исторических форм, всякое цельное понимание мира – религия).
Башня строится на материальном базисе, это верно, но ведь дороже сама она, чем «дом для людей», так что признавая полезность и необходимость этого дома – усилим наш идеализм. Finis… Finis et Dei Gloria[191].
_______________
Продолжаю записывать Грота «Опыт нового определения прогресса». Стр. 12. Одно состояние энергии непременно должно сменяться другим… Но не всякая работа сопровождается всеми состояниями. Ведь может отрицательное удовольствие смениться положительным без промежутка страдания, или, например, трата нашей энергии прекратится, чуть только достигнет нормы и пойдет на возобновление.
18 декабря. Рассматриваю книжку «Вестника Европы» и уже готов возвратить – скучно и пусто. Вдруг с дрожанием рук и с содроганьем сердечным нахожу статью Слонимского: «Наши направления» – «На славном посту». Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому и Н. Бердяеву. Субъективизм и индивидуализм*.
Отметив нашу русскую склонность к отвлеченным умствованиям при полнейшем игнорировании реальной жизни – Слонимский именно этим обстоятельством объясняет преувеличенное наше представление о социологических работах Михайловского. Далее беглыми – но очень выпуклыми – нужно признаться, чертами – он пересказывает теорию Михайловского. Ну, она мне хорошо известна. Потом Слонимский указывает на несостоятельность этой системы: 1) она исходит из аллегории – общество – организм. По словам Тарда, всякая наука начинается с аллегорий (Les lois sociales)[192]. Она в своем стремлении опереться на какое-нб. основание, при отсутствии его, пользуется аналогией. 2) Ведь каждый общественный орган постоянно изменяется в своем составе, привлекая для своего всестороннего развития отдельных личностей, создает и необходимые условия для их бытия, так что бояться за потерю индивидуальности нечего и утверждать это – значит абстрагировать и личность, и общество. Михайловский, по словам П. Струве, поступает очень ненаучно, рассматривая личность для общества как орган и для себя как организм.
3) Михайловский дал не анализ явления развития общества и личности, а определение этого явления и дедукцию из понятий.
Из П. Струве. «Критическое сознание всякого действительно мыслящего человека неотразимо поставит перед ним эти вопросы (=основные вопросы познания бытия), и горе тому общественному направлению, которое забывает об их постановке и решении или же решает их без напряженной работы собственной мысли по рутине и традиции» (VII).
25 декабря. 1) Достоверности: а) Все частное, индивидуальное калечится во имя общего, во имя природы. Цели свои природа внушила нам в виде наших потребностей, потому-то, удовлетворив их, мы и чувствуем себя неудовлетворенными, что это не наши цели… (Нецеломудренность мужчины и женщины, первая поощряется, вторая преследуется. Здесь проглядывают чужие цели с особой ясностью.) b) нами управляет высший план, которого мы не замечаем. Мудрец – это тот, кто поймет этот план и покорится ему. Он покорит массу. Мудрецов мало, а плохого масса. Значит, олигархия лучше демократии, а монархия и того лучше. Высший тип вовсе не будет счастлив – он оставит счастье толпе, женщины тоже останутся толпе. А мудрец будет силой для воцарения разума.
2) Вероятности. Идея – это музыка (а не скрипка). Мысль, а не человек – носитель их – вот что вывело вещи из движения. Мировая цель в господстве разума.
3) Мечта: Клеточка существует больше, чем атом, и т. д. Масса выработает сверхчеловека.
1902
2 января. Знание, добродетель, любовь – всё это не характеризует личности, не принадлежит ей – всё это всецело навязано обществом. Для оценки индивидуума, стало быть, не существенно, не важно, нравственна она или безнравственна, любит она или ненавидит – важно одно: с какою силой делает она это. Сила – единственно существующий критерий личности, сила абстрактная, свободная от всякой конкретной оболочки, лежащая по ту сторону добра и зла. Не существенно, по какой дороге идет личность – дорога ведь не вне её, – важно, как идет она по этой дороге. Вот, – как мне кажется, – довольно примитивные философские основания индивидуализма – для возвеличения основы энергии – как единственного мерила общественных явлений. А приложить это мерило ко всем проявлениям нашего бытия – это значит перевернуть вверх дном все коренные наши убеждения, все святые предания, – это значит произвести трудную и шумную работу переоценки всех ценностей… Новая мораль, новая истина, новая красота – вот понятия, тесно связанные с индивидуализмом – и, каково бы ни было ваше отношение к этому учению – вы, конечно, согласитесь со мною, что редкая философская система была так плодотворна новыми идеями, как система индивидуализма.
_______________
Перед этим, говоря об экономическом материализме, я должен сказать: г. Altalena может сказать*, что он не об идеях вообще говорил, а исключительно об идеях научных, философских, социально-этических. Но – во-первых, я до сих пор тоже говорил именно об этих идеях, и только последняя стадия публицистики имеет несколько специальный, а не научный интерес, а во-вторых, «идея, попавшая на улицу», газетная, так сказать, идея – вовсе не может быть предметом обсуждения при разговоре о критике. Газета и посейчас делит все мнения на две категории – прогрессивные и консервативные, других делений она и знать не хочет… И потому, ежели судить по идеям, «на улицу попавшим», – то мир действительно стоит на одном месте. Но в данном случае идея улицы – вряд ли должна быть принимаема в расчет. Говорю это не из презренья идей презирать – ибо идея, попавшая к ней на нашу улицу, для меня свята, а просто потому [что] идеи поступательные – считаю как бы мехами, в которые вливается всё новое и новое вино. И, право, нечего жалеть, что меха эти всё одни и те же – вы на вино посмотрите… Как быстро выпивается одно и заменяется другим!
Все это, конечно, исправить нужно, обточить фразу, определить (сделать более определенными) мысли – и вот потом, говоря об индивидуализме:
Должен оговориться. Не вообще идеями, а именно попавшими на улицу, элементарными, доступными толпе, определяющими повседневную деятельность человека в его обыденных отношениях. Значит, г. Altalena, если даже подразумевал только общественно-этические идеи, был неправ, говоря, что у нас старых довольно и что новых мы произвести не можем, ибо старых-де не употребили.
Индивидуализм широко проявился в нашей изящной литературе – которая проповедует его, подчеркиваю это, далеко не «настроением». Взять хотя бы нашего Горького. Он в своих произведениях только и делает, что новую идею нам внушает. И происходит это внушение с внешней стороны так: выставит он двух людей, из которых А симпатичен, если брать общественную мерку явлений, а В несимпатичен. Потом силою творчества он внушает нам симпатии к В в ущерб А. И проделав такой фокус, он говорит: «Вот видите, я показал вам качество людей в голом абстрактном виде, без общественных наслоений, и симпатии ваши переместились. Почему? Да потому, что общественное мерило неверно, фальшиво, глупо; вот вам другая мера. Мерьте ею». И сотни тысяч положительно влюбились в эту идею, улица приветствует её от всего своего сердца, – а г. Альталена черкнул пером, и нет новых идей!
_______________
[Сочинение о борьбе человека с природой исключено. – Е. Ч.]
7 января. Теперь о Ruskin’е. Вкус, говорит он, это не только признак нравственного достоинства. – Это единственная нравственность. Узнай, что любит человек, и ты узнаешь его всего, целиком. Отсюда Рескин выводит, что наука вкуса – эстетика важнейшая, в своем роде единственная наука. Мне кажется, выдвигаемое им мерило наук глубоко неверно. Всякая область духовной жизни нашей может выдвинуть такой вопрос, ответ на который был бы определителем данного человека. Возьмем хоть философию. Не всякую. А хоть рационалистическую XVIII в. Упоенная верой в разум – она уверенно выдвигала такой вопрос. Скажи мне, что ты думаешь, и я скажу тебе, кто ты. Вера в разум – я не говорю о ней, как о постулате – постулат этот во всякой науке – незримо присутствует, – эта вера делала разум чем-то единственным, чем-то непреходящим, что характеризует данного человека. Узнав мысли, узнаю желания, внешний быт человека, характер его и т. д. Политическая экономия со своей стороны выдвинула критерием то, что составляет объект ее исследования – участие человека в производстве благ, и вот является такое заявление: скажи мне, какова твоя роль в производстве, и я скажу тебе, на основании этих чисто экономических признаков, твое общественное положение, а определив общественное положение – уясню себе твою психику: желания, вкусы, наклонности. И вот, каждая из этих областей нашего духа: наука, философия и эстетика – претендуют на первое место, только благодаря тому, что считают обнимаемую ими область единственной, способной до корня определить всю сущность человека. Они рассуждают так: если свойства, изучаемые мною, – служат основанием для других свойств – значит, узнать их важнее, чем знать другие – значит, моя наука важнее, существеннее других. Здесь вот какое заблуждение. Каждая из этих областей – и знание, и чувство красоты, и способ применения энергии – все это вместе способно определить человека. Каждая же часть порознь – не может сослужить этой службы. Здесь, значит, вопрос в том, какая из этих трех областей может служить основанием для двух других? Эти две мы сможем привести к одному знаменателю и получим старый и простой вопрос: что от чего зависит: идеология наша от бытия или бытие от идеологии?
Ответ таков: Здесь происходит непрерывная цепь: за известными нашими желаниями вытекает известное бытие, а на этом бытии вырастают наши желания… Стало быть, как то, так и другое может быть определителем человека. Претензии их равны. И ни одной из этих двух областей нельзя отдать преимущества.
Между нравственным и красивым Рескин находит коренную зависимость. «Спросите себя относительно какого-нб. чувства, желания, овладевшего вами, – может ли оно быть воспето поэтом – и если да, знайте, что чувство это нравственно… Это несомненно так. Но почему это так? Потому, что общество навязало понятие красоты и понятие нравственности только в то, что ему полезно. И этот необходимейший атрибут нравственности и красоты – несомненно связует их. Но у личности, благодаря особым свойствам ее психики, – есть стремление смотреть на всякую [вещь] как на самоцельную, самодовлеющую. Вследствие этого она ведет форму данной вещи дальше ее сущности, – и вследствие того, что форма всегда априорна, – мы склонны считать и сущность содержания тоже априорным, – об этом я имел случай говорить печатно. (Сосредоточение лагерей. Редактору «The Times». Милостивый Государь! Я не могу не чувствовать, что письмо г. Брэлсфорда на столбцах вашей газеты далеко идет.)
9 января. Этические вопросы экономического материализма. Все без исключения статьи Михайловского по этому поводу трактуют этот вопрос с социально-этической точки зрения.
Г. Altalena может возразить мне: правда, хотя в публицистику и вошли новые плодотворные идеи, но ведь это идеи специальные, так сказать, идеи, не имеющие широкого общего значения, они не могут отразиться в литературе, они не отразились – так что литературная критика и впрямь без пищи осталась, и мое утверждение об ее ненадобности так и остается в силе. – Идеи, давшие содержание публицистике, дали его и беллетристике – а стало быть, и природа голодать не будет. Дело только в том, что пока идея до беллетристики дошла – она так изменила форму свою, что ее и не узнаешь. – Вовсе нет! Идеи публицистики – заимствуя содержание свое в строгой и бесстрастной науке – выносят ее на улицу, окрашивают в яркую краску человеческих интересов – и эти интересы в отраженном и преломленном виде – делаются предметом художественного творчества – и преподносятся улице расцвеченные и приукрашенные. Энергия для энергии, каково бы ни было ее направление! – знаете ли вы, господа, что это такое? С первого взгляда кажется, что это учение индивидуализма стоит совершенно в стороне от большой дороги других идей наших. Это потому, что иногда мысль наша, разжижаясь и падая до понимания улицы, – совершенно теряет свою логическую сторону – и у нее остается одна чувственная, красочная сторона, – так что получается не стройный ряд научных положений, определяющих ваше поведение – в случае признания их правильности, – нет, до улицы идея доходит в виде требования, крика, проклятия. Так и в данном случае. Но, повторяю, связь между идеей улицы и идеей бельэтажа есть. Здесь, например, – говорю намеком – а то и так статья вон как растянулась.
Это там, в отвлеченных эмпиреях дело обстоит так, будто выискиваются атрибуты личности, на самом-то деле проповедь литературы в приложении к земным делишкам нашим – вот в чем состоит: не будь буржуем – этим бездеятельным накопителем! – Работай, не заплывай жиром – энергии больше! И потому публика так и схватилась за индивидуализм, потому-то так и приняла она близко к сердцу судьбу личности, что были в ней эти наклонности и… закончить.
11 января. Altalena может возразить мне: – так что, хотя в публицистику и вошли новые плодотворные идеи, но идеи это специальные, не имеющие широкого захвата и не способные руководить нами в повседневной жизни нашей, – не о таких говорил я в своем фельетоне. Они не могут, конечно, отразиться в изящной беллетристике, в произведениях общего характера, так что литературная критика и впрямь без пищи осталась, а, стало быть, его утверждение о ненадобности этой критики ни на каплю силы своей не потеряло…
На это я отвечу, что действительно – идеи, изложенные мною в конце этой схемы развития русской публицистики, носят несколько специальный характер, – но это ничуть не помешало им на улицу выйти, сделаться предметом художественного творчества и ярко отразиться в общем сознании. Только дело в том, что пока они дошли до улицы, они так изменились по дороге, форма, в которую облеклись они, до такой степени не похожа на их первоначальную форму, что с первого взгляда кажется, будто имеешь дело с двумя различными идеями. Это потому, что иногда содержание мысли нашей, разжижаясь и падая до понимания улицы, – совершенно теряет свою логическую сторону, и у него остается одна чувственная, красочная сторона. Так что получается не стройный ряд научных положений, определяющих ваше поведение – в случае признания их правильности, нет, до улицы идея доходит в виде требования, крика, проклятия. Но, повторяю, связь между этими двумя сторонами есть. Так, например, в данном случае публицистика, вопреки утверждению г. Altalena, занимается разработкой тех вопросов, которые именно теперь (а не 40 лет назад) выдвигает жизнь наша, те же вопросы затрагиваются и в художественных произведениях изящной литературы русской, – о том же толкует и критика…
Содержание их всюду одно и то же. У меня совершенно нет места, но я все же хоть намеком иллюстрирую это положение; укажу хоть две-три черты. Беллетристика наша прославляет гордую, сильную личность – энергичную, страстную, «умеющую желать», и публицистика привлекает наши симпатии на сторону нового нарождающегося общественного класса, руководясь, конечно, не субъективными вкусами, и жестоко борется с нашими «хозяевами исторической сцены», с этими неподвижными, самоуверенными, заплывшими жиром лавочниками – накопителями, жизнь которых ведется исключительно по их приходо-расходной книге, с этими имущими и просвещенными представителями нации. И если г. Altalena спросит, что же общего в этих двух направлениях? спросит г. Altalena, – я отвечу, что их объединяет:
– Бытовое их значение, заключающееся в той антитезе действительности, которую с такой силой выдвинула наша литература. Укажу хотя бы на то, что горьковский босяк – эта абстрактная фикция, созданная, однако, не в кабинете, а на улице, – характеризуется всеми противоположными буржуазии чертами, и характеристика эта сделана самой жизнью, а не теорией. Девиз босяка: энергия ради энергии! На приложение этой энергии, на выгоду глядеть нечего! – во-первых, представляет собою с философской стороны сущность учения индивидуализма, ибо поэтому количество затрачиваемой ею энергии – единственным проявлением личности, единственным ее атрибутом служит, а качество этой энергии, оценка ее – это чуждые индивидууму общественные наслоения, на которые совсем не нужно обращать внимания при суждении о личности. Отсюда прославление силы – как единственного достоинства. Добр ты или зол, нравствен или порочен – это неважно. Важно одно: с какой силой проявляются в тебе эти качества; во-вторых, с социальной точки зрения принцип этот представляет собою – и в основании своем и в цели – реакцию против имущих и просвещенных представителей нации, их тяжелого гнета готового взгляда на вещи. И смысл этого принципа, смотрю на него с отвергаемой им утилитарной точки зрения – в том, что муки родов при нарождении нового общественного класса будут значительно облегчены. Быть акушорами – вот назначение большинства из нынешних идеалов.
Итак, из специальной идеи вытекают другие, имеющие настолько общий характер, что вполне пригодны для оценки окружающей действительности, и это ускользнуло от взора г. Altalen’ы.
Его смутило то, что одна и та же идея проявляется в нескольких формах.
В поисках новых общественно-этических руководящих идей он не заметил их в нашей изящной литературе только потому, что там они приняли несколько философский оттенок переоценки всех ценностей. Эта шумная и громадная работа индивидуализма – кажется ему где-то там в эмпиреях витающей – и потому он не удостаивает её внимания. Ему кажется, что нынешняя литература учит нас действию, чтобы мы, научившись, исполнили идеи, завещанные предыдущей эпохой…
Я старался показать, что вовсе не к выполнению старых планов зовет нас литература, что на нас волною нахлынули новые – я отметил их цели и причины; расширим вопрос вообще: бывает ли с нашими идеями когда-нб. так, как это кажется г. Altalene.
Он представил себе род жизни таким образом?
12 января. Не заметив, до какой степени общи идеи всех родов современной русской словесности, – он пренебрежительно отворачивается от новых идей публицистики как от специальных, и, не находя их в изящной литературе, ибо там они в другую форму облеклись, думает, что они не проникли в жизнь, не отразились в общем сознании, не обращает на них внимания и уверенно заявляет: у нас новых идей нет. Прямо удивительно, как это он смог игнорировать такую огромную, полную жизни идею, как индивидуализм, и обрекает нашу литературную критику на голодную смерть. Он согласно своему рецепту – держит закрытыми «глаза ума» своего и «отдается окружающей русской литературе, как музыке» – вот что такое закрывать «глаза ума» своего перед окружающей действительностью!
14 января. Ибо в чем сущность и психологическая основа идеализма? – Человек верит, что все его сомнения, вопросы, искания – дело времени. Шестов, IX.
Нет у него ни одного ласкающего штриха. Он беспощаден, включить это в стихотворение.
Замечательно: Щеглов противополагает Толстого Ницше*. Шестов доказывает, что они в одну сторону тянут.
Прочел сегодня 54 стр. Шестова и 50 стр. Щеглова о Толстом и Ницше.
Не в том ли индивидуализм нашего времени, что Толстой решает все вопросы по отношению к своей душе, а не к окружающему (что нравственно и что безнравственно), а Достоевского (не то что у шекспировского Макбета) интересует право убить старуху только по отношению к душе Раскольникова, а не старухи (69).
Не знаю, как бы выразить эту мысль. Я и не думаю опровергать всех существующих устоев, я не разрушаю нужных нам требований долга, справедливости, истины. Наша страна молода, язв вокруг так много, их нужно лечить, и нечего отказывать в лечении только потому, что там по каким-нибудь отвлеченным спекуляциям оказывается, будто нет «на самом-то деле» никакой болезни, вообще нет, что это фикция нашего ума. Ежели мне докажут, что время и пространство пустые, – этим мне нисколько не помешают заниматься ну хотя бы естественными науками, важнейшим постулатом которых является именно признание реального бытия времени и пространства.
И подобно тому, как тот, кто отвергает реальность времени и пространства, – вовсе не покушается на естественные науки, так и я.
У Шекспира – вопрос о личном достоинстве в стороне (72).
После того, как я записал, что прочел 54 стр. Шестова, я стал читать дальше и дочитал до 99 стр.
Вот, значит, и уяснилась новая сторона дела в отношении индивидуализма. Значит, картина такова: Дело в том, что Толстой, Достоевский – индивидуалисты – (для себя…) в наиболее обширном смысле этого слова…
В-3-их, Горького Лунев, убив Олимпиаду, так и не признавал в своем проступке такой вины, которая лишала бы его права смотреть в глаза людям. «Мир Божий», 1, 902.
Книга Шестова «Добро в учении графа Толстого и Ницше» – плоха. Видно, что автор очень умный и чуткий человек, а написал такую глупую книгу. Мне кажется, это обстоятельство положительно фатально, если за писание публицистических статей возьмется человек, склонный к художественному восприятию. Он сам для себя схватил истину интуитивным путем, а нам должен внушать ее логическим.
Эти линии и сочетания умственного процесса для таких людей – сущая невозможность. Им красок, пятен подавай, а все эти «потому что», которыми они должны оправдываться перед публикой, для них совершенно излишни, они им только мешают.
Вот и получается такая штука: граф Толстой понимает про себя одно, а говорит публике другое. Есть у него такие в душе вещи, которых он публике не покажет. Это видно из того, что – и вот здесь г. Шестов, что называется: стоп машина и ни с места… Для Ницше – добро – есть Бог, и для Толстого то же самое, а доказательства – какие-то рискованные.
_______________
Книга Щеглова – кафедрфилософская книга. С надоедливыми выписками внизу, с приличным изложением содержания вверху.
Читаю Ницше. Не понимаю. Сколько ни берусь за него – он все отталкивает меня своими афоризмами, своими передергиваниями. Оправдывают: был болен – войдите в положение. Оно конечно, я пожалеть могу, но примириться с ним – нет.
16, среда. О Толстом и о Бердяеве. К Толстому. «Категорический императив» Канта только тогда, в том случае имеет свой смысл, если признать совесть стоящей на страже добра, а зло оставить вне области совести. Все так и делали до Ницше – и тогда, конечно, нужно было нравственности отвести особое место, совсем обособленное от всех прочих сторон нашей психики.
Добро окажется тогда совершенно на особом, привилегированном положении, хотя бы тысячу раз доказывалось, что происхождение его естественное, а не интуитивное?[193] Мне лично кажется, что Ницше, отняв совесть у добра и приставив ее на стражу у зла, тоже не дал нам никакого права отвергать категорический императив. Дело в том, что если даже оставить кантовскую совесть в покое и взять у Канта только эти два слова: категорический императив, совершенно игнорируя его учение о причинах категоричности этого императива, то и тогда мы не сможем, подобно Ницше, опровергнуть его совсем. Нет, напротив, мы беремся доказать необходимость этого императива, необходимость и законность, – полезность его. Мы и тогда не сможем опровергнуть его и сбросить с пьедестала эмпирии…
Результаты и цели категорического императива, условия и причины возникновения его – все это сюда нимало не относится. Общая форма закона, которым должна определяться всякая деятельность.
Нравственный закон не вытекает из жизни («Критика и способности суждения». Предисловие).
В кантовском императиве не могло быть места запрещению лжи, т. к. для этого нужно предположить, что закон существует для лиц, обладающих языком (278 стр.). Паульсен говорит то же, что и Шестов о Ницше. Канту мешало его стремление к систематичности. Он, видимо, интересуется больше готовой формой, чем самим вопросом. Для заполнения системы он вводит ненужные мысли. Чувство – материал; разум – форма; рассудок – самостоятельная деятельность, объединяющая разнообразные ощущения в форму подчинённой законам природы. Чувственность имеет значение разнообразия стремлений, возбуждаемых предметами. Удовлетворение всех стремлений (= цель чувственности) – блаженство. Роль разума в данном случае та же, что и по отношению к природе: там он законодатель природы, здесь он законодатель чувственности. Он в произвольные наши действия вносит нравственный закон.
Происхождение представления об априорности категорического императива, сказывающееся в том, что все наши поступки без исключения имеют значение для всех мыслящих существ.
Явления природы – все без исключения – подчиняются законам природы. Нравственные же явления не в смысле бытия, а в значении долженствования тоже все (280). Если не все на деле считаются с нравственным законом, то по крайней мере мысленно все признают его. Значит, закон разума здесь тоже присутствует. Объясненная нравственность становится в ряд с полицейскими распоряжениями – тоже очень полезными, но не имеющими в себе ничего «святого» – этого английские мыслители признать не хотели. Их удерживало поклонение святой совести. И вот учение Ницше, указав на соединение совести со злом, свело с высоты всю святость нравственности. – Мне кажется, здесь дело затемняется исключительно индивидуалистической точкой зрения. Мы, не веря в абсолютность чего бы то ни было, – поступаем, и я это сейчас докажу, правильно с индивидуальной точки зрения. Но мы далеки от истины, если посмотреть на дело с социальной, общественной стороны.
Ученые приступали к исследованию нравственности уже с уверенностью, что она выше безнравственности, и никакой проблемы нравственности они не ставили. Ницше первый поставил ее.
Кстати, Шестов – получается впечатление, будто он залезает в душу и читает там тайны.
1) С Белинским. 2) «Правда, Ницше иногда пытается изобразить из себя человека, играющего святынями, но это все напускное» (170). Бывает иногда так. Следишь ты за действиями человека, как они проявляются в обыденной жизни, – и все мельчайшие подробности, подмеченные тобою, убедят тебя в том, что этот человек, ну, скажем, негодяй. И если выскажешь такое мнение и попросят у тебя доказательств, ну ни одного. А хоть и есть, так такой вздор, что просто совестно. Вот то же произошло и с г. Шестовым, к несчастью. Потому к несчастью, что мысли, в ней высказанные, глубоко верны, но доказательства никуда не годятся. И всякая бездарность сможет, уставив руки в боки – придавить его своим высокомерным тоном: – А позвольте, милостивый государь, а на каком основании…
Отмечу еще то, что причиной философии Ницше выставляется исключительно его недуг. Про социальные причины ни гугу. Вы – свиньи, вы не были так больны, как Ницше, вы не выдержали бы и дня его страданий – как же вы смеете претендовать на понимание его!
Художник схватит вдруг сходство в двух предметах, вдруг, в тех предметах, где мы не видим ни малейшего намека на равенство, и это до такой степени вдруг, что через минуту он уже позабудет это сходство. То же случилось и с Шестовым: мелькнуло сходство с Толстым и пропало…
Ницше разочаровался в нравственности, отняв у нее надзор совести, он подошел к ней в надежде, что она всемогуща, что она Бог, что она заменит Бога – она оказалась бессильной.
17 января. На другой день.
Шестов ясно чует, что Л. Толстой делает всё для своего «я», что ему, в сущности, наплевать на публику. Он всегда искал путей для себя. Но это вытекает из таких мелочей, что почти невозможно оправдать это. И получаются категорические заявления, вроде: у Толстого живет уверенность: «я – очень великий человек; остальные – пешки. Быть великим – самое главное, самое лучшее, что бывает в жизни. И это лучшее у меня есть, а у других нет. Главное – у других нет». Из-за этого сознания, по мнению Шестова, Достоевский душил своего Раскольникова, а гр. Толстой был так беспощаден ко всей интеллигенции.
Мне кажется, мысль его такова. Тому и другому нужна была точка опоры в их деятельности. Нужно было во что бы там ни было оправдать нравственно деяния, будь они даже бесцельные. Поставить «правило» выше жизни. Пусть Раскольников убил ничтожную, ненужную старуху. Пусть он даже принес всем пользу своим убийством, – это все ерунда. Нравственность такая штука, что её утилитарными соображениями не пригвоздишь. Самое важное – это для него, для его души – там что делаться будет. Толстой, благодаря ляпинской нищете, – закричал, что так нельзя.
Но для него ляпинцы были спасение. При ляпинцах ему стало весело и спокойно, и он, восхвалявший до тех пор левинское, мещанское настроение среднего человека, идущего в ногу с толпой, он, так уничтожающий всех других персонажей «Анны Карениной» только потому, что они говорят: добро – это Бог, добро для добра, а для жизни – теперь обрушивается на противоположное мнение потому, что он решил это для себя… Себе. Он единый интересующий его человек. Вот что хотел сказать Шестов. И мнения, и страдания этого человека – принимаются им ближе всего к сердцу.
У Толстого проповедь довлеет себе. Его завлекает поэзия проповеди.
_______________
Кант порицал эвдемонистов за то, что они сводят долг на склонность. Он, соглашаясь с обычным мышлением, признавал противоположность между долгом и наклонностью, разумом и чувственностью и считал ее абсолютной. Добра та воля, которая определяется исключительно долгом. Расчет – убивает, нравственно только уважение к закону. Какие бы следствия ни вытекали отсюда, ты должен исполнять закон. Категорический императив. Никаких «если» он не допускает. Стремление к блаженству, расчетливость – берет себе это «если». Ты должен быть воздержанным, если хочешь быть здоровым. Если не хочешь испортить репутацию, ты должен быть честным; нравственный закон говорит то же, только без «если». Даже если бы честность не приносила тебе вреда, ты всё-таки должен быть честен. Абсолютная всеобщность – вот признак. – Всегда.
Ложь, например… Могу ли я солгать, чтобы спасти себя или другого. Всеобщий ли естественный закон, что ложь спасительна? Нет. Ибо, если бы все лгали, то не было бы доверия и все речи и обещания уничтожились бы. Лжец не хочет быть обманутым. Значит, разум в нем противоречит чувственному существу, которое имеет в виду только минутную выгоду. – И вот почему такое поведение предосудительно. Желание есть у животных, разум у человека; обманывая, мы повинуемся желанию, рассудок оставляем втуне и уподобляемся животным. Воля, побуждаемая к проявлению не желаньями, а разумом – свободна. Способность делать нравственный закон абсолютным основанием определения своей воли – даже если существуют приманки со стороны чувственных побуждений – вот что такое кантовская свобода. Никакое другое существо, кроме меня, не может сказать мне: ты должен, оно говорит: ты принуждён. Автономия связана с этой свободой.
Вся наука о законах производства была эвдемонистична. На производстве строятся все стороны нашей психики. Как же наука об этих сторонах может быть не эвдемонистична!
Блаженство – результат, а не основание определения воли, которая определяется a priori разумом, а не posteriori ожидаемыми результатами, подобно тому, как чистые рассудочные понятия находят применение и осуществление в разуме, но не исходят из него, а впервые делают его возможным. Всеобщность – вот основание блаженства! А во-вторых, Кант признавал, подобно стоикам и Спинозе, что в самой добродетели есть уже блаженство. В исповеди Толстого ясно видно, что вера, принятая им в последние годы жизни, – это то же эпикурейство, что бывает у всех, кто видит ненадобность жизни, и живет, и нуждается в оправдании. Он увидал, что вера будет для него нужна, и взял ее. Так-то легко взять веру!
А теперь и другим навязывает.
18 января. На мое замечание о новых идеях г. Altalena возражает мне и говорит: индивидуализм – наносное течение, так что толковать о его господстве в русской литературе – не приходится. И тут же дает объяснение, почему индивидуализм не мог развиться у нас. Индивидуализм является протестом личности против господства сплоченного большинства, против общественного гнета. Западная Европа, где уже давно признаны права этого большинства, где оно накладывает свою тяжелую лапу на каждое проявление личности, – могла породить этот протест, но наша родина, где мнения и идеалы (= желания) личности так мало принимаются в расчет, – наша родина, конечно, не могла породить индивидуализма.
Но ведь не только общество на личность влияет. Есть и другое страшное давление. Его в свое время с такой силой указал наш славный социолог: оно называется – увеличение напряженности разделения труда. Многосторонне развитая личность, попавшая в такой строй…
Кроме того, я, может быть, неясно указал прошлый раз, что индивидуализм – это и есть та «нравоучительная» идея, которая следует из марксизма… Марксизм вовсе не такое уж объективное учение, как это кажется Абезгаузу, и т. д. Нужно различать 2 рода настроения.
Вот идея Ибсена. Отвлеченные самодовлеющие идеи – может высказывать сильный одинокий человек (1, 305; «Дикая утка»).
2 февраля. Индивидуализм до сих пор третировался нашей критикой, как наносное течение. Что о нем долго толковать, если он не наш, вырос на чужой почве?
В страстных поисках самой что ни на есть сущности вещей, такого, что действительно принадлежит личности, составляет ее достояние, ее неотъемлемый атрибут, они принуждены были отбросить, как несущественные, все качества людей, все проявления их бытия, все до единого. К чему ни прикасались они, все это оказывалось чужим, случайным, не имеющим никакого объективного критерия. Развенчивались один за другим все наши свойства, с нас снимали их, как одежду, – и не нашлось ни одного принадлежащего лично нам, исходящего из нашего «я», ни одного. Умен ты или глуп, невежда ты или мудрец, добродетелен или порочен – все эти категории не характерны для тебя, для твоей личности, т. к. они вовсе не принадлежат тебе, не вытекают из глубины твоего существа.
Эти различные оболочки, эти конкретные виды твоей энергии навязаны тебе со стороны – вовсе не принадлежат тебе, – твою же собственность составляет голая, так сказать, энергия, абстрактная, освобожденная от всяких оболочек, – количество ее, а не качество. Для определения степени личного достоинства несущественно, какую форму примет энергия; существенно – как велика она. Приложение энергии, ее цель, направление ее – ни капли не интересует индивидуалиста, для него только важна энергия сама для себя, самодовлеющая, энергия an sich. Энергия для энергии! На приложение ее, на выгоду не обращай внимания. Остановитесь подольше на этом повелительном наклонении. Какие последствия и т. д. (Взять те же признаки и для романтизма.) Каково же практическое значение этой идеи? О! Я знаю эти мнения – и опять-таки подчеркиваю это – вполне присоединяюсь к ним. Все эти крики: безнравственно, вредно (и т. д.) – все они как нельзя больше соглашаются с моими мнениями, – но, господа, прошу вас обратить внимание на такое вот мое утверждение (опять статья против Altalenы): и вот, когда серая однородная масса народа, дифференцируясь, стала выделять из себя имущих и просвещенных представителей нации, и когда положительная роль этих представителей стала подходить к концу – все, что представляло их культуру, все, что в духовной жизни нашей было связано с ними, – сделалось ненавистно лучшей части нашего общества – и тот самый реализм, который, будучи связан с народным влиянием, – принимался всюду с таким восторгом, с таким поклонением, нынче тяжелым камнем лег на душу современному интеллигенту.
Да! Этот реализм, говорящий о том только, что он видел, слышал и чувствовал, не претендующий дать ответ на вечный проклятый вопрос человека, видящий главную свою заслугу в том, что он первый обратил общественное внимание на страсти и чувства маленьких людей, – теперь со всех сторон подвергается проклятию. Это факт, которого, я думаю, никто не станет опровергать… Снова началась старая музыка: толпе противопоставляются герои; серое, незаметное существование толпы – эта любимая и чуть ли не единственная тема реализма – подвергается страстным проклятиям. Снова неземные страдания, сверхчеловеческие чувства получили кредит у лучшей части русской интеллигенции, все достоверное, простое, ясное, все, что можно измерить, взвесить, ощущать – эта неизбежная принадлежность реализма – все это как-то незаметно для всех сделалось синонимом презренного, недостойного, – вспомните, с каким неприязненным чувством говорит Горький о том Уже, который, издеваясь над стремлением Сокола в небо, «где нет ни пищи, ни опоры» – истратить энергию ради самого процесса затраты, а не из какой-ниб. выгоды, – вспомните, говорю я, как бичуется этот Уж, любящий тепло и сырость своего уютного ущелья и смотрящий на вещи с утилитарной и положительной точки зрения. Все произведения Горького – это апофеоз бесцельной энергии, апофеоз беспокойства, неуютности, борьбы – над всем, что носит намек на тихую жизнь и спокойную жизнь. Посмотрите хотя бы с внешней стороны на постройку его произведений. Ницше с его ненавистью к толпе, с его песнью о Сверхчеловеке, с переоценкой ценностей – декаденты с их карикатурной и утрированной любовью к таким ощущеньям, для которых нужны «уши, ваших понежней»*, как с гордостью говорят они, – все это вещи одного порядка. Между ними всеми несомненная связь, и хотя основания их иные, чем в 20-х гг. прошлого столетия, но как следствия этих оснований они до поразительности сходны между собою.
Ввиду того, что основания для романтизма прошлого столетия были в гоголевское время отрицательны, а нынче они – принадлежность передового зарождающегося класса, – то (как бы поделикатней выразиться?) мы нынче не желаем гоголевского влияния.
Дать нужно широкую характеристику романтизма и реализма. Говоря про романтичность индивидуализма, подсунуть возможно больше имен. Про Бердяева сказать как про связь, как про философское оправдание современных беснований. Почитать бы Л. Андреева. Я не отчет о состоянии современной литературы пишу, я хочу дать только намек, только две-три характерные черточки, и потому рассматривать все явления нашей литературы – вовсе не входит в мою обязанность. Итак, я позволю себе оставить без дальнейшего развития это мое положение, причем я готов при случае распространиться о нем со всяческим тщанием, какого он в данном случае по своей несомненной важности вполне заслуживает, а теперь займусь теоретическим.
3 февраля. В библиотеку пойду – 1) Тахова посмотрю. 2) Возьму «Мир Божий», 1 и 6 за 1901 г. 3) «Вестник Европы», 1871 г. V и IX; XVI, 445; 652. 4) Ибсен.
Теперь буду говорить про марксизм. Да, это точное, математически строгое доказательство греховности целого класса, ставшего в противоречие с реальной действительностью. И я должен признаться, что единственная связь между романтизмом нашего времени и теорией Маркса – это их историческое значение, это та роль общественная, которую они призваны сыграть в данную историческую эпоху. Рассматриваемые же сами по себе, вне исторических рамок, они составляют прямую противоположность. Установляя зависимость наших идей от реальной потребности данного класса, признавая эти идеи лишь надстройкою экономического базиса – Маркс смотрел на проявления психической жизни человека как на нечто служебное, скоропреходящее и относился к ним – если и не пренебрежительно, как это кажется некоторым его российским последователям, – то во всяком случае не с тем почтением, которое подобало бы им, будь они «господами мира». Романтики же – как идеалисты – склонны признавать абсолютность, самоцельность всякого проявления духовной жизни; признание относительности сторон нашего духа – идеалист сочтет оскорблением своей святыни.
Наконец, трезвая эвдемонистичность теории Маркса, ее тенденция свести долг на выгодную склонность – должны до глубины души возмущать всякого сторонника тех взглядов, которые я старался очертить в предыдущей главе. Сказать ему, например, что святое кантовское слово – долг – ничего больше не означает, как выгоду одного из общественных классов, что долг вовсе не какая-то вещь в себе, без отношения ко всему миру, лежащая вне наших нужд и желаний – а нечто изменчивое, применяющееся ко всем условиям жизни, – сказать ему так – это значит показать ему, что не имеешь с ним ни единой точки соприкосновения. Один из апостолов индивидуализма, Ибсен, особенно резко подчеркнул это противоречие. Возьмем ту же его драму «Доктор Штокман»… Ведь что одушевляет его, что придает ему столько душевной бодрости? Вера в то, что истина, справедливость, долг – все это вещи, священные сами по себе, что сограждане его, узнав истину, хотя и невыгодную для них, – всё же обрадуются, ибо, по горячему убеждению Штокмана, истина хороша уже тем, что она истина, а к выгоде она не имеет никакого отношения. Он удивляется, когда узнаёт, что вместо благодарности толпа шлет ему ругательства… Ведь он сказал ей истину, – а уж она сама себе довлеет – вот его убеждение; и в конце концов вся эта история приводит его к заключению, что только сильный, одинокий человек может исповедовать самодовлеющую истину, слабая же толпа робко придерживается выгодного для нее обмана. Той же идее посвящена другая драма Ибсена, «Дикая утка»; целая группа лиц имеет там какой-нибудь спасительный обман; старый охотник устроил себе на чердаке лес – из елок и ходит туда с ружьем охотиться за голубями, фотограф Гейнрих верит, что жена его верна ему, жена верит, что Гейнрих – гений и что ему суждено сделаться великим изобретателем в области фотографического искусства – каждый обманывает себя, и все счастливы, но в эту атмосферу попадает сильный и свободный человек, который, подобно Штокману, верит в самоцельность истины, он открывает им глаза – и знание истины погубило их. Значит, по мнению индивидуалистов, категории духовной жизни существуют an und für sich[194], но презренная толпа смотрит на них иначе. В глазах этих романтиков эвдемонистический взгляд на истину, добро, справедливость – неверен, его исповедуют только из трусости, из жалкой боязни потерять свое уютное спокойствие.
Мы уже видели, что индивидуалисты ненавидят толпу, навязывая ей все свойства мещанства; а так как Маркс держится эвдемонистического взгляда на обожаемые Штокманами явления, так как он не признает безусловной абсолютности их – то он – этот заклятый враг буржуазии – придерживается буржуазных убеждений – в одном из главнейших, основных пунктах своего мировоззрения (Бердяев).
Итак, господа, кроме цели, ничто не связывает эти два течения в нашей современной действительности. Сами по себе – они противоположны – и нет, кажется, у них ни единой точки соприкосновения, нет даже и возможности, – ни одного звена, связующего их воедино.
То есть лучше сказать: не было.
Т. к. теперь такое звено появилось и, благодаря этому, я с полным правом могу поддержать свое первоначальное утверждение о том, что на какую сторону ни кинешь взор нашего современного мировоззрения – всюду видишь единство, равномерность, гармонию, – все окрашено в один цвет, – и говорить про смуту наших умов, про разрозненность наших направлений, как это говорилось лет 5 назад, – теперь уже нельзя… Появление этого звена явится подкреплением и другого моего положения, высказанного в начале этой статьи, что нынешнее настроение умов замечательно похоже на то, которое господствовало лет 70 назад, когда на общественную сцену взошел Н. В. Гоголь… Это звено – идеалистическая философия Канта… Вот уже года два, как она вновь появилась на нашем горизонте – и что всего характернее – вышла она из недр того же самого марксизма, который, как я старался показать, не имеет с нею ни единой точки соприкосновения… (Нужна: 6 кн. «Мира Божьего» во что бы то ни стало. Пришел в библиотеку – ее нет. Читать же мне неохота.)
6 февраля. Но он к тому же ярый идеалист. Примеры. (Он определяет, и я с ним согласен, романтизм, как потребность души человеческой в вечно ценном, 21.) 1) Он признает метафизический смысл любви (но марксичность: лишь бы повысить ценность жизни и убить ее буржуйный дух, 22).
2) В области философии: процесс познания истины мира, находящий высший свой смысл в метафизическом понимании, имеет самостоятельную ценность и этическое значение, это не только полезное в борьбе за существование средство, это цель, одна из идеальных целей жизни.
3) В этом абсолютная ценность добра и его качественная самостоятельность (23). В искусстве – возрождение идеализма и романтизма – в декаденстве здоровое зерно. Признание самоцельности красоты (24). В области права – отвергает идею общественного утилитаризма и водворяет естественное право (25). Религию признаёт, несмотря на ее содержание – трансцендентальной функцией сознания; все это великолепно, и слава Богу. Блажен кто верует, тепло ему на свете. Но вот что ненормально: он берется объяснять социальные причины своего идеализма. Сделав справку насчет того, какая общественная среда является носительницей их идеализма, и успокоив себя тем, что среда эта нарождающаяся, стало быть, ничего реакционного в их идеализме нет, – он дальше указывает на то, что класс, с которым они борются, – ветхий и тормозит общественное развитие – он просит [нрзб.]. Ненормальность этого. Будущие Рудины.
Духовная жизнь не может подчиниться закону рынка. (Система морального сознания Вольтмана, 287.) Социологическая теория: Человек. Самоцель. Указать на индивидуальную свободу в социальной необходимости. Панаев. Литературные воспоминания (Ибсен I. II).
6 июня, утром (статья С. Глаголя в «Жизни» – 1900). Интересны типичные комбинации людей и вещей, отношений их, ансамбль их… Художественный московский театр, где талантливостью ансамбля – с успехом заменена талантливость артистов, – может служить как бы символом этого положения вещей. И не случайный это факт, что такой – по специальности своей – герой, как доктор Штокман Ибсена, в тамошнем исполнении все свои специфические стороны растерял, – равно как неслучайны и протесты против этих обстоятельств со стороны г. Ив. Иванова в «Русской Мысли» – и г. Глаголева в «Жизни» – позапрошлого года.
Вся тяжесть художественности падает на типичную комбинацию – а элементы комбинации могут и не обладать особой типичностью – вот современная молчаливо признанная эстетическая доктрина, – вот зародыш будущего мерила красоты.
То состояние духа, в котором находится читатель, сумевший отвлечься от лиц и картин, воспринявший исключительно общий колорит их взаимных отношений, – и есть, по-моему, то пресловутое настроение, которое, таким образом, вовсе не составляет противоположности идеям и логическим представлениям – как это почему-то думает большая публика, где частенько услышишь такой отзыв о книге или о пьесе: в ней нет смысла, но зато бездна настроения…
Итак, психологическому роману грозит покой небытия. Ибо настроение, позволяющее нам воспринять в художественных образах порою сложное мировоззрение автора, – вводит нас тем самым в область философии, в область отвлеченных понятий, общих построений ума.
Прежнюю литературу интересовало, как лжет Репетилов, Хлестаков, как Балалайкин, – теперь же интересна вообще ложь как общее проявление алгебраического общечеловека. То же самое можно сказать и про «Молчание» и про «Смех» – всюду замечается это сведение людей к единице, затем, чтобы дальнейшие логические построения произвести с наибольшей чистотой – процесс, необходимый во всякой гуманитарной науке. Поймите меня, это сведение делается не с методологическими целями, не «для удобства исследования», – а ввиду глубокого сознания, что благодаря ему перед нами явится истинный человек во всей своей сущности – не затемненный никакими наносными случайными элементами, – вот что я понимаю, когда говорю, что Леонид Андреев – философ по преимуществу. Для него философия, общий дух рассказа – не побочное дело, не приложение к обрисовке характеров, для него она хлеб насущный.
Не веря в потусторонний мир, скептически относясь к абсолютности временных орудий наших, видя всех людей, что бы они ни делали, равно стоящими лицом к лицу перед непроницаемой стеной ложного обоготворения духовных сил нашей культуры, которая предоставляет им строить какие угодно догадки про находящихся в ней. Этот искренний и блестящий талант в своем стремлении к загадочному, мистическому становится по эту сторону телесности нашей, на том необъяснимом и таинственном огоньке жизни, ради которого и бушует вся эта кровавая борьба, скрещиваются все эти орудия, которыми уже столько воды в ступе истолочено.
Отбрасывая все, чем затемнен и скрыт этот огонек, наблюдая истинного человека как существо, одаренное этим огоньком и ничем больше, унижая и третируя «все остальное», – он удивительно напоминает в этом отношении Мопассана. Но для Мопассана – человек был существом безо всяких культурных наслоений, владеющий только «естественными», природными орудиями. Для него не было врачей, артистов, литераторов, княгинь, священников, – для него были сытые и голодные, мужчины или женщины, победители или побежденные.
Для Л. Андреева нет и этих «естественных наслоений». Жадность, страсть, властолюбие – он не сочтет, подобно Мопассану, – основными стимулами нашей деятельности – он отбрасывает их, ибо они приобретены нами потом, а истинно то, что остается во всяких условиях, во всякой среде, истинна великая единственная потребность – жить, жить, жить!*
3 декабря 1902. Прежде чем говорить о Слонимском, гг. критики обыкновенно выражают удивление, как это такой шалый человек в «Вестник Европы» попал, в солидный, умеренный, олимпийский «Вестник Европы»… А по-моему – он больше всего подходит под Пыпина и Стасюлевича! Всякое общественное направление должно быть раньше всего либерально, а потом уж «направляться»; ругает народников за то, что они земство иногда осуждали, и вообще рекомендует в отвлеченности не вдаваться, а заниматься ежедневной российской действительностью.
_______________
Как и следовало ожидать, редакция «Самообразования» оказалась рационалисткой. Приведя слова Сократа, что порок и зло – суть результаты незнания, она перефразирует их с горячностью: да, все пороки, все страдания, все зло жизни создаются и поддерживаются незнанием истинных законов природы и жизни, в их широком взаимном соотношении и связи. А ежели зло, несмотря на увеличение знаний, все же существует (и даже опирается на него), то это, изволите видеть, все оттого, что есть у нас техническое и специальное образование, а общего нет. Нет мировоззрения.
Знание – орудие. Но чье? Общественное. Для того и внушаются личности те или другие убеждения, «взгляды», идеи – чтобы достичь себе на потребу самых таких материальных результатов. Антагонизма между личностью и обществом нет никакого, «борьба за индивидуальность» фикция – ибо общество, притягивая личность к тому или другому органу своему – создает и условия для ее бытия, и не только бытия, для уклада ее индивидуальности без всякого ущерба. Приспособление ведь есть выработка новых и новых свойств личности – которая столь же индивидуальна, как и те, которые она имела до этого.
Иллюзия потери всех индивидуальных черт – повторялась и повторяется всегда – при всякой перемене общественной обстановки. (Здесь привести из «Вопросов философии» и «Вестника Европы» по поводу Михайловского.) Интересно будет потом проследить, как «Самообразование» потом станет противоречить себе. А что оно станет противоречить – это факт. Нельзя в наше время быть последовательным рационалистом.
Корреспонденции из Лондона
1
Лондон (От нашего корреспондента)
12 (25) июня
«125 фунтов стерлингов тому из джентльменов, кто сумеет доставить в полицейский участок г. Рейнольда-Уатта – этого вора, мошенника и грабителя, который похитил из банкирской конторы Джексона и К° 35 фунтов стерлингов и позорно скрылся с этими деньгами в конце прошлой недели. При сем прилагается фотографическое изображение этого “bloody”[195]. Росту он высокого, волосы рыжие, по убеждениям он – фритрэдер*, а по отношению к спорту – крикетист».
Объявлениями такого рода сплошь оклеены стены всех полицейских участков гор. Лондона. Перед этими стенами всегда толпится бездна джентльменов, которые пристально вглядываются в черты лица всех воров, мошенников и грабителей, и, глядя на их внимательные, сосредоточенные взгляды, понимаешь, что добрая половина этих джентльменов завтра же приволокут в полицейский участок по одному рыжему фритрэдеру, любящему крикет. Правосудие будет удовлетворено, и bloody понесет достодолжную мзду.
Но замечательнее всего, что награда, обещанная поимщику вора, значительно превышает украденную сумму. Спрашивается, что за охота мистеру Джексону за возвращенную копейку платить пятачок? Вначале я никак не мог понять этого. Но потом мне объяснили, что англичане, сделав из справедливости один из видов спорта, являются столь же заинтересованными в ее удовлетворении, как и потерпевший мистер Джексон. Всюду, где нужно догонять, ловить, хватать, англичанин не жалеет денег. Ему все равно, что он будет хватать – мяч или шиворот, – ему дорог самый процесс. И вот всякий средний англичанин, узнавший, что есть новый объект хватания (в данном случае мистер Рейнольд-Уатт), отправляется в полицейский участок и вносит от себя несколько шиллингов, как если бы это был тотализатор или обыкновенное пари. Таким образом, можно смело ручаться, что если завтра Рейнольд-Уатт не будет приведен куда следует, то на полицейском участке будет вывешено объявление с обещанием награды по крайней мере в 2 раза большей, чем указана сегодня. Вот разгадка того, что копейка оплачивается пятачком.
Сделав из справедливости спорт, англичанин совершенно устранил из ее компетенции целую группу лиц, которые во всех других странах имеют к справедливости самое близкое, официальное, так сказать, отношение, – полисменов. Вся роль английского полисмена – это – величественное стояние на перекрестке улиц и командование целой тучей омнибусов, кочей, кэриджей, пассов[196], автомобилей и прочей многоколесной армией. Без мановения полисменовой руки – ни одна колесница не смеет проехать перекрестка.
Если прибавить к этому указывание дороги заблудившемуся пешеходу, – то вот и весь цикл обязанностей этих граждан, которые существуют еще как бы по традации, как сувениры какой-то отдаленной эпохи.
Я говорю, конечно, про Сити. В таких частях города, как доки, Ламбет, Уайтчепель – шивороты находятся еще в полном ведении полисменов. Оно и немудрено. Там шиворотов этих так много, что при входе в те улицы невольно хватаешься за карман. Окна там решетчатые, – а это для англичан страшно много. У них – общественное доверие развито просто до смешного. Когда я приехал в Лондон, я оставил все свои чемоданы на вокзале и… не получил никакого обеспечения. Напрасно я лепетал о квитанции. Надо мной только посмеивались. – «Ишь, мол, жалкий иностранец, думает, что у нас есть время возиться с его вещами!»
Через три дня я пришел за получением. Меня ввели в склад чемоданов и предложили указать – мои. Я не без труда сделал это, и тотчас же носильщик унес их в кеб.
Да разве только это! Я видал пассажира, потерявшего на английском пароходе билет. Нисколько не суетясь, не волнуясь, он без лишних клятв заявил это контролеру, и тот вел себя так, как если бы он видел и осязал этот билет.
В той гостинице, где я живу сейчас, двери наших комнат даже не имеют скважины для ключа. Вы уходите, оставляя дверь открытою, и уверены, что ни одна пылинка из вашей комнаты не исчезнет за ваше отсутствие.
Словом, решетка – это уж нечто грандиозное в Англии. Большинству лондонцев она не нужна, так как в случае чего за поимку вора уплатят не они, а их город, сумевший устроить из этой поимки личное свое удовольствие. Зачем же они станут понапрасну тратить время и энергию на разные подозрения, решетки, замки? Время дороже всяких решеток. И нам, иностранцам, приходится согласиться с этим.
Кстати, об иностранцах. У нас много толкуют о ненависти англичан к иностранцам, об антипатии к немцам, о презрении к французам и т. д.
Насколько я успел заметить, ничего этого нет. Да и вряд ли могло бы быть. Они слишком занятой народ, им слишком некогда для того, чтобы «spend their time»[197] на разные интимные отношения. Во всех отношениях их интересует только то дело, благодаря которому существуют эти отношения. Остальное их не интересует. Если вы покупатель – англичанину интересна ваша покупательная сила, а не ваш акцент, если продавец – товар, а не борода. Если вы турист, ему нет до вас ровно никакого дела. Болтайтесь себе, сколько хотите, по городу – и будьте армянином, турком, испанцем, только бы вы не мешали ему обделывать его «business».
Антисемитизм – кто знает? – англичанин, может быть, и занимался бы им, ежели бы у него было побольше времени, теперь же он предоставляет его разным бездельникам, сам же бегает, торопится, платит, получает, продает, покупает – словом, имеет дело с вещами, а не с людьми. Ему слишком некогда.
Посмотрите на англичанина, когда у него в руках газета. Английская газета имеет средним числом 16 стр. огромного формата. Буквы в ней мельчайшие. Прочитать ее всю – нужна неделя. Составлена она крайне разнообразно. Наш русский взял бы ее, и валяй сподряд всю. Англичанин отыщет глазами нужное заглавие, прочтет строк 12 интересующего его текста – и вот газета уже на земле. До прочего ему нет никакого дела. Сербия, Чемберлен, гонка автомобилей, смерть кардинала, – изо всего этого его заинтересует что-нибудь одно, сообразно роду его занятий, а о платоническом интересе нашего русачка ко всему этому – он и понятия не имеет.
2
ОБ ИНОСТРАНЦАХ
Лондон (От нашего корреспондента)
30 июля (12 августа)
Вчера вечером состоялось чтение докладов комиссии, посвященной вопросам, близко касающимся нас. Цели комиссии официально указаны так: «Рассмотреть характер и размер зла, происходящего от неограниченной иммиграции иностранцев в метрополию, и изыскать меры, которые надлежало бы принять в видах ограничения и контроля оной иммиграции».
Комиссия принялась за это симпатичное дело еще в марте 1902 г. – и до сего времени у нее состоялось 49 публичных заседаний и было собрано 175 компетентнейших мнений. Кроме того, она командировала майора Э. Гордона в Россию и в Румынию, – дабы изучить на месте те причины, от коих происходит такое нежелательное явление.
Что сказал г. Гордон, возвратившись из своей командировки, – об этом я умалчиваю: вы знаете эти причины сами не хуже его. Перехожу прямо к указанию зла, причиняемого нами.
В финансовом отношении иностранцы на диво необременительны для метрополии. В 1901 г. их было здесь 286 925 чел., и из них только 256 чел. получили пособие для бедных.
Тюремные расходы на нашу братию тоже не Бог весть как обширны, хотя с гордостью могу сказать, что кой-какой прогресс в этом деле все же заметен: в 1899 г. – нас было посажено в английские тюрьмы 1113 человек, а в 1903 г. – 1 864 чел., причем можно заметить такие детали:
Цифры внушительные, но англичане, в качестве просвещенных мореплавателей, памятуют увеличение собственной преступности – и потому не особенно претендуют на нас за этот небольшой процентик.
От иностранцев Англии даже польза: комиссия признала, что лучшие портные и сапожники – это русские и польские евреи, а лучшие токари – это румыны. Отсюда – конкуренция – тем более экстенсивная, что у иностранных рабочих потребности куда ниже, чем у английских. Английскому нужна ежедневная ванна, английский не обойдется без газеты, английскому нужен ростбиф, нужен эль, – иностранец легко обходится безо всего этого. Поэтому он берется работать на таких низких условиях, на которые никогда не согласится англичанин. Это, конечно, неприятно рабочему, но работодатель, само собою, ничего против этого не имеет. Что главное, так это так называемое «overcrowding» (переполнение). Дело в том, что почти все русские евреи обитают в восточной – беднейшей – части города, в знаменитом Уайтчепле. По соседству с Уайтчеплем есть целая область рабочих кварталов – Степни. Так вот, когда Уайтчепля для иностранцев не хватило, они стали селиться в Степни. И получилось, что коренное население должно было удалиться из квартир, чтобы предоставить их чужакам; из цифр видно, что общее количество обитателей Степни – за 20 лет оставалось почти одинаково, тогда как число англичан с каждым годом уменьшалось. Судите сами:
В то время как общее число жителей вырастает на 1, на 1 ½ %, – иностранцев прибывает почти на 50 %. Стало быть, около половины населения Степни должна была сдаться нашествию иноземцев. Это, конечно, неприятно, и с этим нужно бороться. Нужно нас подсократить. Для этого комиссия придумала некое учреждение – «Иммигрантское ведомство». У ведомства этого будет масса функций: следить, чтобы в Англию не приезжали преступники, проститутки (здесь регистрации нет никакой, почему проституткам – раздолье), чтобы сюда не прибывали сумасшедшие, идиоты и тому подобные нежелательные лица. Но главная обязанность департамента – следить за тем, чтобы иностранцы не давили туземное население.
Для этого проектируется нечто вроде черты оседлости. Намечаются места, где иностранцы нежелательны: чуть только какой-нибудь чужеземец высадится на берег, так ему сейчас и вручат чиновники «Иммигрантского ведомства» списочек тех улиц, переулков и площадей, куда не следует соваться.
Просто, но вряд ли ново и оригинально.
3
АНГЛИЙСКИЕ КЛЕРКИ И «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК»
Лондон (От нашего корреспондента)
16 (29) августа
Позвольте вас познакомить: мистер Габбард, самый популярный человек в Англии.
Положительно надоело на каждом шагу натыкаться на его портреты, слышать отовсюду его фамилию и замечать на лице у говорящих о нем завистливо-умиленное выражение.
Если бы поставить вопрос, чье имя в настоящую минуту более всего волнует сердца толпы – имя Чемберлена или Габбарда, – ответ, несомненно, был бы в пользу последнего.
А между тем, – что такое был мистер Габбард два дня тому назад? Кто знал его имя? Кто завидовал ему? Кто мог отличить его от целого сонма подобных же Смитов, Лонгов, Чайльдов – и как их там еще зовут?
Был он «до сих пор» клерком, а знаете ли вы, что такое английский клерк?
Если в театре вы увидите пьесу, где артисты больше боксируют, чем играют, и если вы заметите при этом, что каждая зуботычина вызывает у зрителей бешеный восторг, – знайте, что вы попали в общество мистеров Габбардов и что вы наблюдаете высшую степень их эстетических эмоций…
Если на улице к вам подбежит мальчишка и сунет в вашу руку бумажонку, в которой вы не без смущения сможете прочесть:
«Для разрешения всех жизненных сомнений ступайте к хироманту. По вашей руке он предскажет вам судьбу ваших детей, разоблачит ваших врагов, поможет при получении наследства, при женитьбе и т. д., и т. д., и т. д.» – если, говорю я, такая реклама появится в вашей руке, знайте, что мальчишка принял вас за клерка.
Это они кричали два года назад: «Все, кто за буров, – изменники»…
Это они кричат теперь: «Торговля следует за флагом!» Это они задавили ясный талант Оскара Уайльда своими лицемерными хулами. Джингоизм* – это всецело их изобретение.
Совершенно устранив бюрократию, умудрившись управлять гигантской империей почти без клочка бумаги, – англичане если и терпят какую-нибудь язву на теле своего здорового и крепкого государства, то это, несомненно, – клерки.
Но сколько бы ни говорить об этом обширнейшем классе, который сумел за последние годы набросить тень на все то светлое, грандиозное и могучее, что встает в нашем уме при слове: «Англия», – нет лучшего средства познакомиться с ним, чем изучить его литературу. Здесь он весь целиком, со всеми своими привычками, мнениями, вкусами, убеждениями, запросами от жизни, миросозерцанием и т. д. – весь, с головы до пят.
Изучить его литературу… Да, у него есть эта литература – и знаете ли, читатель, она дала мне повод в первый раз в жизни порадоваться, что у нас, у русских, зачастую совсем нет никакой литературы.
Но раньше я должен сказать вам, что мистер Габбард стал всеанглийской знаменитостью тоже благодаря соприкосновению с этой литературой.
Что же он – писатель, ученый, поэт, романист? О нет! Поверьте, что ничего, кроме адресов на конвертах своего принципала, он и в жизнь не написал.
Он не писатель, он – только читатель. Вся его заслуга заключается в том, что он читатель. За эту заслугу он получил в награду 5 000 руб. и всеанглийскую известность…
Видите ли, вся изящная литература клерков – это, так сказать, насильственная литература. По своей собственной воле он никогда не стал бы читать ни про восходы солнца, ни про страстную любовь Джона и Матильды, ни про незапятнанные добродетели семидесятилетней девственницы. В таком чтении он не видит ни business’а, ни зуботычины, а дальше этих двух вещей его компетенция не простирается. И вот ловкие издатели придумали средство – денежно заинтересовать читателя в каждой статейке, которая ему предлагается.
Делается это так. В журнале «Tit-Bits», например, печатается идиотская запутанная история, в стиле Конан Дойля, о каком-то наследстве, о каких-то дамах под вуалью и тому подобное, а на каждой страничке, где эта дребедень помещена, отведено местечко для таких изречений:
– Читайте нашу повесть внимательно.
– В ней есть указание на место, где скрыто богатство.
– Найдите это богатство.
– Оно ваше.
– 500 фунтов стерлингов – не каждый день валяются на улице.
– Может быть, вам нужно сделать к ним только 2 шага.
И так дальше. Можете себе представить, с каким вниманием читает клерк всю эту литературу. Дай Бог Шекспиру и Диккенсу, чтобы им хоть половину такого внимания уделяли мистеры Габбарды.
Сделать из литературы спорт, свести ее на степень ребуса, заменить культурную ее ценность – копеечной, – вы только представьте себе, какую нужно иметь для этого духовную физиономию, какие нужно предъявлять требования к жизни!
Но «Tit-Bits» (а по-русски: «Лакомый кусочек») даже и не претендует на то, чтобы вы читали его. Можете не читать. Только бы вы купили его. Ежели вас постигнет какая-нибудь катастрофа – крушение поезда или что-нибудь такое, – то пусть только в вашем кармане окажется номерок «Tit-Bits», и ваше семейство получит от солиднейшего страхового общества («Ocean Accidents and Guarantee Corporations», Ltd.) – 1 000 руб. страховой премии. До последнего дня «Tit-Bits» выплатил уже 147 000 руб. своим убитым читателям.
Легко вообразить то благоговение, которое питают почтенные отцы семейства к своей в полном смысле «ценной» литературе. Но как, должно быть, презирают себя авторы подобных статеек, не надеющиеся на самостоятельную ценность своих произведений!
Но я был бы низким клеветником, если бы не рассказал вам о попытках сотрудника «Лакомого кусочка» отдаться порывам самоценного творчества.
На первой же странице этого драгоценного журнала помещен целый ряд статеек, за чтение которых никто вам денег не заплатит. Статейки эти составляют зачастую весь научный багаж мистеров Габбардов.
Вот образчики этих научных сведений:
– Племянник папы Пия X продает в Австрии мороженое.
И больше ничего. Точка. Далее следует столь же глубокое научное изыскание:
– Самый старый учитель в мире – несомненно герр Дорфер в Пруссии.
– Самый короткий брак произошел недавно в Америке. Через 11 минут после знакомства молодая чета была обвенчана…
И так до бесконечности. Жаль только, что никак нельзя проверить эти интересные сведения.
А вот образчик здешнего остроумия:
– Ваше предложение руки и сердца сделано так внезапно… Но я принимаю его.
– Ах! – воскликнул жених-приказчик, – возьмете ли вы эти вещи с собою или прикажете послать на дом?..
Представьте себе публику, которую могут заинтересовать, увлечь и привлечь такие произведения человеческого ума. И перед вами предстанет во всем своем духовном убожестве обширнейший класс английского общества.
Мистер Габбард, которому удалось-таки отыскать пятитысячное «treasure»[198], достойный представитель этого класса – и знакомство с его любимым журналом совершенно избавляет вас от знакомства с ним самим. Ибо в Англии больше, чем где-либо, справедлива русская пословица:
– Скажи, что ты читаешь, и я скажу тебе, какого цвета твои штаны.
4
Лондон (От нашего корреспондента)
25 августа (7 сентября)
Еще несколько дней, конец привольным каникулам, пора взяться за книжку. Издательские фирмы выпустили к сезону целую кучу учебников. Между ними нет ни Корнелия Непота, ни Цезаря, зато есть одна под странным заглавием «Книжка гражданина». Вышла она уже 452-м изданием и написана для английских школьников в возрасте от 10 до 12 лет. Книжка эта так замечательна, что я надеюсь на днях основательно побеседовать с вами о ней. Теперь же мне нужно привести из нее только 2–3 выдержки. Вот что между прочим говорит ее автор:
«От одного единственного голоса (на парламентских выборах) может зависеть положение страны, и она может быть ввергнута в несчастие или в благополучие, согласно тому, дадите ли вы голос в пользу умного и честного члена или в пользу того, кто стремится в парламент с плохими целями, не помышляя даже оправдать возложенное на него доверие. Я бы хотел, чтобы вы задумались на мгновение над тем, как необходима осмотрительная подача голоса и как серьезно каждый избиратель должен смотреть на свое право складывать[199] бумажку и бросать ее в ящик. Ведь – шутка сказать! – эта бумажка избирает члена Британского парламента, – а нет во всем мире никого, кто бы мог причинить столько добра и столько зла, как Британский парламент» (стр. 40, 41).
Эту цитату я привел вам для того, чтобы хоть сколько-нибудь объяснить ту яркую печать самостоятельности, которой отмечено все, что ни делает англичанин, с детства привыкнув к тому, что от него самого зависит его счастье, что между областью его «я» и областью «не я» нет никаких враждебных отношений, – он зорко блюдет, чтобы связь между этими двумя областями не прекращалась ни на минуту. L’êtat c’est moi[200] – это может сказать каждый британец, от первого министра до последнего извозчика; отсюда – тот неустанный контроль за каждым мероприятием правительства, то неуклонное наблюдение за каждым самомалейшим начинанием в правящих сферах. Характерная мелочь: в Англии никто ни на какой двери не вывесит табличку – «вход посторонним лицам воспрещается» без того, чтобы не объяснить, на каком основании делается это запрещение. Англичанин читает газету не для того, чтобы пощекотать праздное любопытство, не для того, чтобы зачем-то узнать, что в таком-то селе баба родила тройню, что королева германская выехала туда-то и что такого-то младенца съела свинья, – нет, он смотрит на чтение газеты как на свой гражданский долг, ибо он знает, что от него зависит повернуть в ту или другую сторону события, изложенные в газете; газета в его глазах – это рапорт гражданину о подведомственных ему делах. Каждый извозчик знает, что министр, член всемогущего парламента, обязан ему отчетом, состоит под его, извозчика, надзором – и потому считает себя просто обязанным самым близким образом познакомиться с политикой этого министра. И министр, в свою очередь, – готов представить отчет всякому гражданину, привести все доводы в свою защиту – и это, конечно, только поддерживает его престиж. Вот, например, сегодня во всех газетах появилось письмо Чемберлена. Повод к письму, казалось бы, самый нестоящий. Какой-то англичанин, прочитав один из бесчисленных памфлетов против Чемберлена, где указывалось, что нынешняя политика министра колоний противоречит его прежним убеждениям, прислал Чемберлену памфлет и попросил его объясниться по этому поводу. На другой же день от Чемберленова секретаря пришло такое письмо:
«Милостивый государь! Мистер Чемберлен поручил мне известить вас, что ваше письмо, заключающее копию памфлета, им получено и что ему чрезвычайно интересно было узнать, что молодая радикальная партия, как и старые тори, восстает против его реформы… Во время молодости м-ра Чемберлена о тори было распространено мнение, что они ничего не забывают и ничему не научаются. Теперь этого древнего лозунга придерживаются радикалы. Но ведь не трудно доказать даже до окончания распри по поводу фискальной политики, что перемены, происшедшие с того времени, как были произнесены указанные в памфлете речи Чемберлена, вполне оправдывают изменение его политики. С этими обстоятельствами нужно было непременно считаться. Примите и пр.»…
Я не говорю, насколько убедительно это письмо для защиты вечного Чемберленова лозунга: «Держи нос по ветру». Меня также не интересует, правильно ли был поставлен вопрос, я указываю только на принцип, поскольку он отражается на общественном укладе англичан.
Был только что на сионистском митинге в Ист-Энде. Делегаты, вернувшиеся из Базеля, давали там отчет о своих впечатлениях. Никогда и нигде не видал я такого восторга, каким сопровождались слова Зангвиля, что Палестина впервые за 18 веков стоит так близко к еврейской нации. – Только мирный политический путь, а не кровавая дорога милитаризма приведет нас в Палестину, – сказал Зангвиль, и рукоплескания многотысячной толпы на долгое время задержали его дальнейшую речь. На конгресс Зангвиль смотрит, как на подготовительный парламент. По его мнению, сионизм теперь – после сношений с великими державами – поднял евреев на такую высоту, с которой они уже не упадут. Закончился митинг благодарностью Англии – «этому испытанному другу евреев». Митинг значительно приподнял настроение Ист-Энда.
5
Лондон (От нашего корреспондента)
2 (15) сентября
«Странная вещь, непонятная вещь!»
Когда пошехонский человек думает о безостановочном шествии прогресса, о смелых завоеваниях разума, об умирании злых предрассудков – и о прочих столь же сладостных предметах, – в его представлении встает один величавый образ, имя которому – Англия.
Ему отрадно верить, что где-то там, за морем, далеко-далеко, есть такое учреждение, такой зеленый остров, где уже все «это» достигнуто, превзойдено, где даже собакам говорят «вы», где полисмены позабыли про необходимость «тащить и не пущать», где – и это почему-то особенно радует пошехонца – даже извозчики читают газету…
Колыхни хоть один пунктик этой веры – и пошехонец навек станет твоим врагом: уж очень приятны были его мысли.
Не покушаясь на его гнев, вы не можете указать ему хотя бы на то обстоятельство, что в газете извозчик читает исключительно крикетовые новости и что передовица его газеты написана на вечную величковскую тему:
– В зубы тому, кто не англичанин!
Или, например, на то, что нет в мире большего консерватора, большего противника всех реформ, всех перемен, какой бы сферы они ни касались, чем именно этот обитатель зеленого острова.
А между тем эта страсть ко всему старому, солидному, основательному – раньше всего бросается в глаза при знакомстве с Булем.
Нет, например, в Лондоне ни одной двери, где бы не было молотка. Под каждым же молотком табличка: просят позвонить. Стало быть, молоток не нужен. Зачем же он? А вот если вы зайдете в Британский музей, вы увидите, что во времена Вильгельма Завоевателя римляне научили саксов привешивать такие молотки. Значит, просто из уважения к традиции – все они обзаводятся этой ненужностью.
Или вот еще: когда-то, во времена католичества, когда англичане еще признавали посты, по пятницам они принуждены были есть рыбу. Но теперь – зачем же теперь нет ни одной английской хозяйки, которая бы не подала в пятницу к столу заодно с ростбифом – еще и dish of fish?[201] Это опять-таки любовь к старине, хотя бы и отвергнутой, и презренной, и тяжелой.
Стоит любому торговцу выставить у себя в окне обыкновеннейший, скажем, горшок и объявить, что этот горшок существовал еще во времена королевы Анны, – и англичанин не пожалеет своих фунтов, чтобы водворить его в своей квартире. Новая же мебель, modern style – вызывает у него только презрительную улыбку: несолидно, легкомысленно.
Все: устройство квартир, расстановка мебели, камины, узенькие, неудобные окна – все это было точно таким же и в Шекспировы времена, и в Диккенсовы, и все это будет, несомненно, когда внуки их внуков основательно и солидно сгниют на близлежащих cemetery[202].
Для пошехонца – новое и хорошее всегда синонимы. Всякой перемене пошехонец рад, ибо какова б она ни была – она все же к лучшему. Хуже ему быть не может…
Обитатель зеленого острова – всегда крайне подозрителен при введении реформ. Ярлычок – «новая» – для него не рекомендация. Стоять за новое – здесь нет в его глазах ничего этически ценного. Для англичанина это не подвиг…
Конечно, этому легко подыскать объяснение. Но пошехонцу от этого не легче…
Возьмите среднего англичанина.
Среди судорожной, изматывающей жизни огромного города – как сумел он остаться таким спокойным, таким душевно здоровым, таким уравновешенным?
Как умудрился он избегнуть самоедства, гамлетизма, душевной сложности, как умудрился он в вечном тумане фабричных труб сохранить любовь к природе – к цветочкам, к животным, к деревьям?
Пойдите-ка в Hyde-Park – вы всегда найдете там несколько десятков хмурых джентльменов с косою саженью в плечах, занимающихся глядением на маленьких утят, хлюпающихся в речке. Каждый из них покинул контору и специально пришел сюда – умиляться часок-другой – пейзажем, утятами, гуляющими детьми.
Чеховщины они не понимают, не любят и совершенно чуждаются. Их простая душевная организация требует событий, фабулы, действия, – а «самоуглубление» кажется им пустячным, нестоящим делом.
Больше всех человеческих добродетелей эти первобытные люди в цилиндрах ценят силу, ловкость, храбрость – первое доказательство их культурной девственности и нетронутости.
Ибо культура, выдвинув суррогат этих качеств в виде пара, электричества, пороха, – совершенно устранила некогда присущий им плюс общественного одобрения.
При современных успехах культуры – сохранить докультурную психику, – согласитесь, что для этого нужно иметь просто трогательную любовь к сохранению, к остановке, к консерватизму.
Но похвалит ли такой консерватизм кн. Мещерский – это еще вопрос.
6
В ЗАЩИТУ
Лондон (От нашего корреспондента)
16 (29) сентября
Несколько дней назад в «Daily News» – газете свободомыслящей и прогрессивной – была напечатана крайне энергическая передовица, требующая ограничений свободного слова.
Меня это очень удивило, но удивительнее всего было то, что передовица эта не показалась никому удивительной.
Англичане признали ее в порядке вещей.
Дело в том, что в этой передовице указывалась необходимость изъять из обращения книгу, на страницах которой были —
…такие дерзкие места, Что оскорбилась чья-то честь И омрачилась красота.Дерзкие места – касались отношений мужчины и женщины. А для англичанина нет ничего ужаснее этого. Он разрешил себе свободу во всем. Он выходит на перекресток и громко богохульствует – это ничего. Он рисует карикатуры на своего короля, он изображает всемогущего премьера то в виде собаки, то в виде попугая, то в виде обезьяны – и это ничего. Он печатает толстейшие томы, где ниспровергается государство, собственность, церковь – и это ничего. Но если бы он осмелился намекнуть, что любовь возможна и без аналоя, – его бы прокляли, от него бы отвернулись, фамилия его стала бы непристойностью и, позабыв всякие привилегии свободного слова, самые либеральные люди завопили бы: ату его!
Вот несколько фактов такого сорта:
Англичане не знают Байрона. Трудно достать такое издание, где был бы Дон Жуан. На обложке напечатано complete edition – полное издание, – а в оглавлении Дон Жуана хоть и не ищи.
Приезжала сюда французская труппа, хотела ставить «Монну Ванну»*. Не позволили. – «Может быть, она врет мужу, что Принчивалле только поцеловал ее в лоб», – сказали здесь, и труппа уехала ни с чем.
Ходил я смотреть на здешней сцене толстовское «Воскресение». Но никакого воскресения не увидал, а увидал черт знает что. Издевательство над Толстым, патока сентиментальностей, крикливая мелодрама – которую у нас и на Молдаванке не поставили бы, – здесь приводит в умиление всех этих благочинных, но плоскогрудых мисс; начать с того, что Катюша здесь не падшая женщина, а очень чистенькая швейка, благодаря чему Нехлюдов оказывается совершенно ни при чем, и «воскресать» ему было совсем незачем.
Ибсеновских «привидений» вы не найдете здесь даже на немецком языке; о Ницше здесь вряд ли что-нибудь слыхали; родильный приют лондонцы называют хирургическим убежищем; издатели журналов объявляют на афишах, что их издания гарантированы от всего «безнравственного», и т. д. до бесконечности, до отупения, до ханжества…
Книга, на которую обрушивается с требованиями изъятья «Daily News», – глупая, неинтересная, никому не нужная книга.
В ней рассказывается, как некоторая девушка, любя некоторого юношу, переоделась в мужское платье, дабы следовать за ним во всех его нескладных приключениях.
Англичанин находит слишком опасным для нравственности – образ девушки в брюках. И вопиет по этому случаю о спасении отечества.
У нас не так. Конечно, наши русские писатели – эти высоколобые люди с хмурыми глазами – тоже не любили расслабляющих, клубничных подробностей. Им не до этого было. С тех пор как на сцену выступил разночинец, всякие фривольности пушкинских преданий пришлось убрать. Всем стало понятно, что «клубничка» – достояние барина, крепостника, что, напав на «клубничку» – мы станем в отрицательные отношения и к самому барству, – отсюда тот аскетизм, та суровость, воздержанность, – которою отличались наши ратоборцы с крепостничеством.
Вот почему клубничка была только у Авсеенко, у Болеслава Маркевича и у прочих великосветских паркетных литераторов. Так называемый нигилист – был в этом отношении скромнее институтки.
Время прошло. Ратоборцы – не отдельные люди, конечно, а класс, – стали лавочниками, биржевиками, обсолидились и «раздобрели»…
Пришли новые люди, несущие правду жизни, и встали к лавочникам в те же отношения, в каких те были к барам. А с ними пришел и новый строй идей, механически, вследствие враждебных отношений, выдвинувший идеи, противоположные тем, какие были у лавочников. Между прочим, лавочники от прежних времен хранили ненависть к «клубничке». И только потому, что там была ненависть, у нынешних оказалась любовь, не любовь, но признание, во всяком случае. Только потому, что те сказали нет, эти сказали да. И тот, кто сочувствует классу, враждующему с лавочничеством, должен сочувствовать и этому да.
Итак: наше нынешнее возвращение к щекотливым темам, наши «Бездны» и «Туманы»*, данные Андреевым, – это наш плюс, это наше оружие в борьбе с минусами отрицательного класса…
Оружие «вящше изломанное» и не слишком смертоносное, но другого у нас нет.
У англичан есть другие – и посему они в своем праве, когда спасают отечество изгнанием «развратных идей».
А проституция как у них, так и у нас заливает широким потоком ночные улицы, показывая этим, что никакие книги к ней никакого касательства не имеют.
7
Лондон (От нашего корреспондента)
18 сентября (1 октября)
Сегодня с Чемберленом – тихо. Скоро начнутся выборы, историей которых будущий Иловайский, несомненно, украсит свой учебник. Но что будет сказано в этом учебнике, чьи имена придется зубрить будущим объектам «сердечного попечения» – трудно пока судить. Конечно, всякий старается, чтобы это было его имя. Сегодня вечером, когда я пишу это письмо, – во всех концах Британского королевства раздаются пламенные речи, имеющие целью заполучить побольше избирателей. Самую знаменательную речь, несомненно, слушают теперь шеффильдцы: там говорит теперь Бальфур. Что он говорит, угадать не трудно.
Неоригинальный, поддающийся влияниям, без царя в голове – он может избрать себе одну только вялую тему: «С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой – нельзя не сознаться» – и исчерпать ее не хуже наших отечественных ораторов. Вот сейчас мне принесли вечернюю газету, и я вижу в ней начало этой речи (английские газетчики умудряются печатать речь по мере того, как она говорится. Речь еще не окончена, а начало ее уже известно всему Лондону). Там есть такая истинно бальфуровская фраза:
«Я не могу указать вам никаких средств выйти из настоящего положения, я могу предложить вам только паллиатив»…
Бог с ними, с паллиативами, видали мы их достаточно. Из прочих новостей могу сообщить вам, что вчера у короля скончалась его любимая собака и он по этому случаю воздвигает ей монумент. В своем некрологе одна патриотическая газета заявила, что вся нация в слезах. Могу удостоверить, что это некоторое преувеличение.
А вот вам нечто патриотическое. Сегодня в английском суде приговорили к заключению и к каторжным работам двух наших соотечественников. За такой пустяк, как покушение на кражу со взломом…
Один из них только недавно в Англии и не успел еще даже с языком английским ознакомиться. Другой отличался тем, что крал кольца, прятал их у себя под языком и потом посредством поцелуев отправлял их под язык своей жены.
И за такие грехи их приговорили: одного к 15 месяцам тюремного заключения, другого к 3 годам каторжных работ.
Нас, жителей континента, обыкновенно удивляет такая жестокость. За самую невинную кражу, которая у нас больше месяца тюрьмы ни за что не получила бы в возмездие, – здесь сплошь да рядом – восьмилетняя каторга. Англичане как бы говорят этим: «Мы предоставили личности полную свободу развиваться во всю ее мощь. Все общественные путы мы сняли с нее. Мы создали лучшую атмосферу для всех ее прихотей. Ее поступки могли быть широки и размашисты. Если она и при таких условиях не сумела удержаться, если она не захотела воспользоваться нашими льготами – пусть пеняет на себя»…
Английский суд вообще многим отличается от континентального. Раньше всего бросается в глаза продолжительность каждого процесса. Нет того, чтобы в час «отмахать» полсотни «дел». Здесь все солидно, обстоятельно, основательно. Всякая улика, всякое показание исчерпывается до дна, личность и здесь имеет всяческую возможность – отстоять свою невинность. Никаких подследственных заключений нет, а всякий англичанин еще из школы знает, что на каждого обвиняемого в суде смотрят, как на невинного, покуда не будет доказана его вина. К тому же здесь почти не может быть случая, чтобы задержали невинного, не говоря уж об осуждении его. Полиция ведь не имеет права войти в дом гражданина, если только там не случилось убийство. Всякий раз, когда подозрение падает на кого-нибудь, полиция должна представить это подозрение в суд, и суд решит, имеет ли оно какие-нибудь основания. Если да – суд выдает полиции свое разрешение, – и только тогда виновный попадает «в руки правосудия»…
Могут сказать: «Ведь это длинная процедура; покуда будут испрашиваемы разные разрешения, преступник убежит и справедливость потерпит ущерб». На это англичанин ответит вам опять-таки словами школьного учебника: «Пусть лучше виновный не всегда будет наказан, чем чтобы свободный гражданин подвергался постороннему вмешательству в свою жизнь».
Этот принцип «невмешательства» до такой степени чтится англичанами, что порою доходит до фанатизма. Мне, например, случилось недавно видеть такую сцену:
В неурочное время, вечером, в нашу улицу забрела итальянка-шарманщица. Она стала на мостовой – и в надежде на дождь пенсов заиграла «Маргариту». Торжественным маршем направился к ней громадный, как слон, бобби (городовой). Он запретил играть – и показал ей свои часы. Я думал – она уйдет, – нет, она только поволокла свою шарманку на панель – и «Маргарита» продолжалась. Городовой долго стоял подле нее, кивая в такт головой. Дело в том, что панель – считается принадлежностью частного дома, – и посему личность преступницы была неприкосновенна. Она переходила по панели от одних дверей к другим – а бобби, громадный и важный, торжественно шагал за нею, не смея взойти на панель.
Но вот улица кончилась. Как ни вертелась шарманщица – пришлось перейти дорогу. Чуть только она ступила на мостовую, бобби простер свою десницу и правосудие было удовлетворено.
Право, иной раз и фанатизм – хорошая вещь.
8
Лондон (От нашего корреспондента)
4 (17) октября
Вы не можете и представить себе, как радостно, как умилительно читать на чужбине про успех наших педагогических курсов.
Здесь буквально необходимо почаще освежаться воспоминанием о наших русских, родных женщинах, противопоставляя их тем бушменам мысли и чувства, которые зовутся англичанками.
Нет ничего уже, безнадежнее, тупее существа, чем английская женщина того именно класса, который выдвинул у нас столько самоотверженных, любящих, скромных работниц, всех этих врачей, учительниц, акушерок, так беспритязательно, так обыденно умеющих творить буквально подвиги терпения, милосердия, настойчивости.
Как я ни присматривался к английской женщине of middle class[203] – я никак даже представить себе не мог таких обстоятельств, при которых ее жалкой головке пришлось бы хоть немного поработать, а сердцу хоть раз задрожать в ее впалой груди. Нет таких обстоятельств.
Родине своей она не нужна. Родина и без нее превосходно обходится. Она необходима только в домашнем обиходе, для комнатного, так сказать, употребления.
А для этого требуется не слишком много духовных затрат.
Смотри, как мамаша приготовляет пудинг, води с собою на шпагатике бульдога, блюди в чистоте свою невинность, умей разбирать гимны в своем молитвеннике – вот, кажется, и все.
Ах, нет! Еще. С 12 лет английская девица должна понашить себе бездну разнообразнейших – но ровно никуда не нужных, – безделушек, прошвочек, салфеточек, коверчиков – это ее dowry, приданое.
Придя в возраст и обладая возможностью предъявить своему одобренному мамашей избраннику не меньше трех сотен этих никому не нужных штучек, она делается невестой.
Но, пожалуйста, не думайте, что в эту пору – на сцену выдвигается обычный репертуар:
Шепот, робкое дыханье, Трели соловья…Нет, все это средний английский класс считает годным для рождественских журналов – и больше нигде. Девушка остается в чине невесты – и пять, и десять лет, а то и больше.
Почему? Да потому, что она только тогда войдет в дом своего мужа, когда там будет приготовлено буквально все – вплоть до ночных туфель, – что для нее может составить столь ценимый здесь комфорт.
Идете вы по улице. Возле всех магазинов с хозяйственными принадлежностями – толпятся парочки. Это обрученные высматривают себе мебель, белье, картинки, каминные щипцы – и высчитывают, через сколько лет у жениха наберется такая сумма фунтов, чтобы купить последнюю лохань и сочетаться наизаконнейшим браком.
Им это, видимо, не скучно, и они не стыдятся смотреть друг другу в глаза.
Чтение, «развитие», самообразование, все эти наивные русские дела – кажутся здесь вообще дикими и никчемными прихотями. Женщина же и вовек не доберется, зачем все это делается.
Когда я жил в здешнем пансионе, все там решили, что я «без места», и сочувственно кивали головами.
– Бедный, должности у него пока нету, ну вот он и читает.
Поняли и оправдали они меня только тогда, когда я сказал им, что это мой «business».
Когда мне понадобилась библиотека, Британский музей, я предстал пред лицо его директора и первый вопрос, который мне задали, был:
– А зачем вы хотите читать?
Как российский обыватель, я отвечал:
– Так себе. Безо всяких особых целей.
Седовласый джентльмен стал рассматривать меня, как диковинку, и, видимо, не понимал.
– Чтение – это мое hobby (причуда), – должен был сказать я в оправдание, и билет был мне выдан.
Первое, что бросается в глаза, когда вы попадаете под купол величайшего в мире книгохранилища, – это почти полное отсутствие женщин. Все цилиндры, сюртуки, галстухи. Вот набрели, наконец, на одну «дочь Альбиона». Но посмотрите, что она делает. Перед нею альбом пестрых узоров, и она срисовывает оттуда их на полотно одной из своих прошвочек, салфеточек и т. д.
Вот другая. И она здесь не ради чтения. Рядом с ней сидит бритый священник. Он пишет какую-то диссертацию на обычные здесь темы:
– Можно ли на удочку поймать Левиафана?
– Сколько дней бродит душа в райском преддверьи?
– Зачем грешники будут помещены на левой стороне Божьего престола, а безгрешные – на правой? Почему не наоборот?
Тысячи таких книг наполняют здесь рынок. И этот священник, несомненно, пишет еще одну такую. Девица же при нем для того, чтобы отыскивать в каталогах нужные ему сочинения, чтобы переписывать ему цитаты, чтобы чинить ему перья (здесь они гусиные). Ясно, что без этого мужчины она даже и не заглянула бы сюда.
Вот еще… Но у нее русские книги. У другой немецкие, французские – все это народ пришлый и в счет, конечно, не идут.
Итак, все душевные силы уходят у них на house holding, на хозяйство.
Здесь они баснословно деспотичны. Они будут вас презирать до бесконечности, ежели вы вместо ножа для рыбы возьмете тот, что полагается для мяса. Вы окончательно пропали в ее мнении, если у вас нет приходо-расходной книги. В моей комнате я как-то распорядился снять занавеси, которые мешали мне. Хозяйка чуть не со слезами умоляла меня не делать этого. «Здесь меня засмеет весь город», – говорила она.
Мои русские приятели, интеллигентная, барская семья, поселились здесь довольно на широкую ногу, но во избежание пыли и неуютности – занавесей не завели.
Тогда их ящик для писем стал переполняться посланиями, вроде следующих:
– Если у вас нет денег, чтобы завести себе человеческую обстановку, обратитесь в комитет пособия бедным.
И подпись: Ваша благожелательная соседка.
Даже и понять не могут, как это можно, имея деньги, истратить их не на занавеси.
Одна супруга врача, моя знакомая по пансиону, спрашивала меня про моего соседа, известного русского профессора:
– Скажите, он получил какое-нибудь образование?
– Еще бы! Его научные произведения знает вся Россия. Они переведены почти на все языки…
– Как же это он не знает еще, что вечером к обеду нужно надевать фрак и белый галстух, а не тот пиджак, в котором он появляется и к завтраку, и к чаю?..
Если бы я не знал, что это Англия, я подумал бы, что это Китайская империя, так велик здесь деспотизм общественного мнения, заправилами которого, конечно, всецело являются женщины.
9
БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ
Лондон (От нашего корреспондента)
17 октября (1 ноября)
Не бойтесь, читатель, я не стану говорить об ассирийских древностях. Их здесь, правда, много, – но для меня, профана, ничего в них особенного нет. Древности как древности: пыльные, потрескавшиеся, с табличками и нумерочками. Смотришь на них, восторгаешься для приличия, а в душе говоришь:
– Все это я уже где-то когда-то видел.
Слишком уж много здесь разных редкостей. А известно, что редкость, имеющаяся в обильном количестве, – перестает быть редкостью.
Есть в Британском музее нечто более ценное, редкостное, что должно вызвать у вас крик удивления и восторга, далеко превосходящий все прежние ваши междометья!
Вещь эта невелика и неказиста. В общих каталогах она даже и не отмечена. Искать ее нужно долго и прилежно, но тем-то она и редкостнее, тем и дороже.
Вот ее небольшая табличка. Читайте:
«Tcharka».
Надеюсь, я не должен переводить вам это английское слово, тем более, что оно вовсе и не английское. Табличка прикреплена к серебряной рюмке, и могу смело сказать, что эта рюмка – вот и все, чем в Британском музее представлена моя родина.
Музей, который должен наглядно показать высоту культурного творчества данного народа, степень его духовного расцвета, все, к чему этот народ дошел ценою своего гения, ценою крови, слез и страданий, все, что шаг за шагом удалось ему отвоевать у природы, – этот музей в отделе «Россия» – выставляет чарку – и больше ничего.
Готентоты, папуасы, негритосы, – каждая их ниточка под стеклом, и этих ниточек столько, что всякий европеец может об их жизни составить самое точное и подробное представление. Весь папуас от колыбели до могилы – у него как на ладони. Но если он спросит, что же делается в той большой стране, которая дала ему Толстого и Достоевского, – то неужели ему, кроме нашего пьянства, и отметить больше нечего?
– Ну, а какие же у них нравы, обычаи? – спросит он.
На это ему нужно будет ответить, что был на Руси славный writer Saltikov-Schedrin[204], который, подробно описывая Пошехонье, под рубрикой: нравы и обычаи, написал:
– Таковых не имеется. Были, да все вышли.
– Ну, а каковы же у этих странных людей открытия, изобретения, – что дали они страждущему человечеству?
На это жалкий иностранец, не знакомый ни с открытием хаджибейской нефти, ни равно с великолепной метеорологией г. Демчинского, ни с обширными изысканиями в области членовредительства – отрицательно покачает головой, укажет на серебряную чарку и скажет:
– Вот их нравы, вот их обычаи, вот их открытия – все, все, все.
Должно быть, намекая этим на изобретение toujour le meme[205] Демчинского, который в «Новом Времени» объявил – помните? – пиво панацеей всех болезней.
Нечего сказать – рекомендация!
Сгорая завистью к папуасам, – перейдемте в читальный зал.
О нем я никогда не могу говорить без восторга. Если бы англичане создали только читальный зал и ничего больше – они и тогда заслужили бы имя великой нации.
Представьте себе такую громадную комнату, какую вы только когда-либо видали – абсолютно круглую. Стена строена, как по циркулю. Вдоль стены – книги. Книги на 3 сажени высоты. Сверху книги спускаются посредством особых подъемных машин – чем достигается удивительная быстрота их получения.
Книг сразу можете брать сколько влезет – хоть сотню. Причем не вы ходите за книгами – как это делается в Одессе и в Петербурге, а вам их приносят на ваше место, вследствие чего вы, не теряя времени, можете работать беспрерывно. Стол у каждого – особый, шуму никакого – ибо пол устлан резиновым ковром, – все лучшие книги по медицине, поэзии, публицистике, богословию, все словари, справочники, указатели – находятся в вашем распоряжении. Подходите к полкам и берите их сами. Вам верят, хоть вы не дали им никакой гарантии. Отсутствие надзора здесь просто сказочное: сторожа у входа даже не взглянут никогда, что выносишь из библиотеки, хотя иной раз приходится уходить с целой грудой своих книг. Откуда, казалось бы, им знать, что это мои. Однако хоть бы взором скользнули – никогда.
– Даже мы не отучили англичан от их веры в человеческую порядочность, – сказал где-то А. Герцен, – и это в самом деле удивительно!
Но зато как отрадно, как весело, как успокоительно работать в этой атмосфере доверия, уважения, внимательности! Как оживает здесь человеческое достоинство.
А это дороже всяких подъемных машин и резиновых полов.
10
Лондон (От нашего корреспондента)
25 октября (7 ноября)
Покорнейше прошу моих соотечественников, когда они приедут в Лондон, не таскать платков из английских карманов.
Лондон, во-первых, самое неподходящее для этого место, а во-вторых, это начинает надоедать, ей-богу.
Крупные воры – все как есть туземцы, коренное население. А чуть какого-нибудь копеечного карманника поймают – он непременно окажется не только российским обывателем, – но и одесситом.
Зашел я вчера в Guildhall и вижу – перед седым париком и насупленными бровями судьи корчится бесконечно жалкое, бесконечно оборванное и бесконечно голодное.
Имя этому нечто: Абрам Гунтвас, прожило оно на свете 16 с чем-то лет, в Лондоне всего неделю, английский язык знаком ему столько же, сколько и многим русским переводчикам-поэтам, – ничего он не умеет, кроме как плакать и корчиться, – обидно и совестно, и больно было присутствовать при этом «деле».
Хоть бы ловкими ворами были мы, а то и этого нет. Подсудимый свистнул 4 шиллинга (1 р. 80 к.) – и тут же десница полисмена простерлась над его шиворотом.
К вящему же конфузу пудреный парик возымел намерение поставить дело на общую, так сказать, почву и возгласил:
– Удивительно, как насмехаются над нашим гостеприимством (abuse our hospitality) – все эти пришельцы. Самая что ни на есть никчемная просьба – все к нам да к нам. В Америку небось не сунутся, там раньше, чем их высадить на берег, требуют: «Покажи 60 долларов. А нет денег – назад!» У нас же эта мера еще ждет парламентской санкции. Вот и получается, что за последние 6 месяцев на 486 приговоров – 121 приговор приходится на долю иностранцев. Против этого нужно принять немедленно строгие меры…
Конфузно! И главное, конфузно оттого, что почтенный сэр Ньюрон не свои слова говорит, а повторяет то, что вот уже месяца 3–4 стоит каким-то кошмаром над свободолюбивым британским гражданином.
Собственно говоря, англичанин всегда держал «нас» в черном теле. Он – по меткому выражению талантливого писателя – оказывал нам гостеприимство не ради нас, а ради себя: чтобы доказать себе, что он самый свободолюбивый человек в мире… Но того, что теперь происходит, никогда еще не было в Англии.
Идешь по улице – в глаза лезет тебе огромная афиша. Какой-то первоклассный художник изобразил на ней камин, подле которого греются: рыжебородый россиянин, юркий француз, пучеглазый немец, длинноногий американец. На очаге написано Англия. За спинами всей компании ежится от холоду Джон Буль*. Он заискивающе просит:
– Дозвольте, добрые люди, согреться. Камин ведь, некоторым образом, мой.
Афиши выпущены бальфуровскими последователями для того, чтобы вдолбить англичанам необходимость retaliation (возвратных пошлин), – но вряд ли они достигают этого результата. По крайней мере, то озлобление, на которое мы наталкиваемся за последнее время, – ничего общего с retaliation не имеет.
Кому же выгодно это озлобление? Да тому, кто так восхваляет нелепые планы Чемберлена, – неудачникам-фабрикантам, побитым на иностранных рынках. У них одна надежда – закрепить за собою хоть внутренний рынок, а для этого они пойдут на все. Насколько они успевают в этом – пусть читатель судит хотя бы по такому мелкому примеру:
Есть здесь спички – английского производства, под маркой «Swan». Прескверные спички. Зажигаются у вас в кармане самопроизвольно, а когда нужно добиться у них огня – три их сколько хочешь, и никаких результатов. К тому же они обходятся вчетверо дороже шведских.
А между тем буквально все – рабочие для трубок, а джентльмены для сигар – употребляют именно эти спички. Почему? Да потому, что на этой коробке написано:
«Если вы действительный патриот, вы не станете употреблять иноземные продукты, а купите английские спички “Swan”».
И этого достаточно. Положительно, патриотизм – вещь не безвыгодная… Но беда, конечно, не в том, что англичане пользуются скверными спичками, – беда, что за патриотизмом неизбежно шествует национальная нетерпимость.
Эта же последняя – вводит в английское общество такую массу лжи, что хоть бы кому впору.
Вот, например, на днях вышла книга полковника Гордона, которого парламент послал в Россию, в Румынию, в Австрию изучить на месте причины иммиграции.
И что же? Сей изыскатель – вынес такой приговор. Всем эмигрантам дома живется «славно, весело, богато», куда лучше, чем в Уайтчепеле. А ежели они сломя голову бегут, куда глаза глядят, так это, – надо полагать, не иначе как с жиру.
Alte, alte Geschichte![206]
11
«СОБАЧИЙ ПРОЦЕСС»
Лондон (От нашего корреспондента)
1 (14) ноября
Нужно знать институтскую нежность англичан ко всякому котенку, нужно вспомнить те сотни ласкательных кличек, которые расточают они пред утятами, щенками, канарейками, чтобы понять их лихорадочный интерес к процессу, где героем является замухрышная дворняга.
Что утята! Я увидел солиднейшего джентльмена, у которого нашелся комплимент и для крокодила в зоологическом саду, хотя, я думаю, много тысяч народу, ночующего на сырой траве Гайд-Парка, захотели бы поменяться местами с этим пресмыкающимся.
– Poor fellow! (бедняжка!) – шепчет длинная мисс у клетки с рыкающим львом, а Лига защиты животных Христом Богом заклинает уличных мальчишек в своих объявлениях – не разорять птичьих гнезд и не цепляться к каретам; и хотя гнезд в Лондоне и ввек не сыщешь, а кареты здесь такие, что к ним прицепиться нет никакой возможности, тем не менее принято, чтобы распоряжения Лиги вызывали восторг и умиление.
Вдруг такое сенсационное известие: секретарь Общества противников вивисекции Кольридж на публичном митинге объявил, что профессор Байлисс, читающий в университетском колледже физиологию, безо всякой серьезной надобности мучил и терзал перед слушателями собаку, вспорол ей брюхо, хотя она беспрестанно билась и трепетала в его руках. «Профессор не потрудился даже анестезировать свою несчастную жертву», – сказал Кольридж, и можно себе представить, сколько слез упало на пол того клуба, где произносился спич.
Между тем м-р Байлисс ничего не знал. Только газетный отчет о речи Кольриджа сообщил ему тяготевшее на нем обвинение. Он – в суде. И вот я вчера имел случай присутствовать при волоките по делу о «Клевете и опорочении доброго имени».
Презрительно сжатые, тонкие губы Кольриджа не разомкнулись ни разу за все это время. Бледный, со скрещенными на груди руками, он беспрестанно слушает все, что говорится в судебной зале. А говорится там такое, что ни в коем случае не может доставить ему удовольствия.
С первых же слов выясняется, что анестезирование было и что «вздрагивание жертвы» – плод Кольриджевой фантазии. Два-три ловких ответа д-ра Байлисса живо изменяют отношение публики ко всему этому делу. Он – убийца – делается ее фаворитом, и громкий смех одобрения сопутствует почти каждому его слову.
Профессор держит себя задорно и не совсем почтительно отвечает он, как будто главный виновник этого дела не он, а судья.
– Не может ли физиология обойтись без кровавых жертв? – спрашивают.
– Знаете ли вы, что физиология – это динамика организма? Как же стану я динамику демонстрировать – на картинках! – отвечает он.
– Причисляете ли вы свою операцию к разряду легких?
– Это зависит от хирурга.
– Не возмущается ли ваше нравственное чувство при операциях подобного рода?
– Оно возмущается, когда вы убиваете животных – и так бесчеловечно убиваете – для наполнения желудка. А для целей науки мое нравственное чувство разрешает мне эти операции, тем более что ведь животное было анестезировано.
Публика аплодирует. Кольридж загадочно улыбается. Председатель говорит, что суд – не театральный спектакль.
– Неужели вы думаете, что такие операции не притупляют чувствительности у студентов?
– И пусть. Я очень рад. Какие же они доктора, если у них на первом плане чувствительность! И к тому же, как по вашему мнению, не следует ли восстать против операции над живым человеком? – она ведь тоже притупляет чувствительность!
Хохот. Председатель перекрикивает его:
– Но ведь операция делается с гуманными целями…
– А эксперименты над собакой я делал для собственного удовольствия, что ли?
Лицо под напудренным париком расплывается в широкую улыбку.
Пред судом выступает тьма студентов и студенток, которые в разных выражениях и разными голосами уверяют судей, что собака умерла во славу науки и гуманности.
– Честная смерть! – говорит голос из-под парика, и дело откладывается до вторника.
Прямо из суда я пошел в Essex Hall, где происходит митинг антививисекционистов. Неприятное впечатление. Я застал середину. Громкие фразы, напыщенные сентенции – все это как раз по плечу тамошней публике – старым девам и церковным попечителям.
«Прежде детей посылали в семинарии, и у нас было великолепное духовенство, а теперь пошла мода на медицину. И вот мы не имеем ни священников, ни врачей», – сказал m-r Шоу (Shaw) – за что и устроили ему овацию.
После этого затеяли сбор в пользу общества. И среди нескольких сот человек не собрали и двух шиллингов.
Вот и судите об искренности этих господ.
12
КАЗАРМЕННАЯ ФИЛАНТРОПИЯ
Лондон (От нашего корреспондента)
3 (16) ноября
– Бум, бум, бум, – гремит огромный барабан, и окна соседних домов вздрагивают.
На трубачей просто жаль глянуть, – глаза вот-вот выкатятся у них от напряжения.
Кто мычит тягучую мелодию гимна, кто выкрикивает в бессмысленных сочетаниях: покайтесь… спасайтесь… суд близко… вечность… Бог… кто в припадке какого-то исступления показывает публике на небо, грозно требуя от нее чего-то.
Она глядит на холодное, туманное небо, ничего не видит там и медленно отворачивается от оратора.
Начинается дождь. По инструментам трубачей забарабанили грязные струи. Надо всем этим галдящим, взвинченным, обалдевшим людом встает целая чешуя зонтиков – и скоро начинает казаться, будто какой-то громадный неведомый зверь рычит, и беснуется, и ревет, и в бессильной ярости готов броситься на кого-то спокойного, равнодушного, ровным шагом проходящего мимо…
Подхожу ближе. У мужчин лица возбужденные, красные от водки, от крика, от экстатичных жестов… Одеты они в обыкновенную солдатскую форму, с кантами, погонами, нашивками.
Женщины – плоские, желтые, с развевающимися космами волос – тоже не без воинских отличий. Вокруг их черных шляпок обвита красная лента, на которой изображено:
«Армия спасения!»
Да, эти странные, шутовски наряженные люди, с ужимками и прыжками юродивых, с оглушительно бряцающими барабанами, претендуют на роль спасителей и руководителей заблудшего человечества. Барабан и спасение! Балаганное шутовство и святые слезы покаяния! Солдатские чины и призыв к Богу равенства и справедливости! Что за дикое сочетание идей! Что за кощунство! Попробуйте придумать более резкие, более исключительные крайности! Не придумаете.
Такие нелепые соединения возвышенного с оскорбительно низменным, богослужения с клоунадой – невозможны нигде, кроме страны Дарвина, Милля и Рескина. На такой цинизм, как связь самой интимной, самой стыдливой деятельности духа – покаяния, – с театральными жестами и солдатскими нашивками, – на такой цинизм способны одни только англичане.
Казалось бы, такой трезвый, такой ясный, математически строгий во всяком знании народ никак не мог создать эту фантастическую, нелепую и, главное, непрактичную затею, однако – факт налицо: трубы разрывают ваш слух своими медными гортанями, барабан ни на минуту не перестает напоминать вам о вечности, а перст одного из солдат без конца устремляется в пустое небо – толку же, конечно, от этого гама и гиканья никакого. Как-никак, люди тратят ужасную массу энергии – и – хоть бы что! Вот один из офицеров неестественным голосом возглашает:
– Рядовой № 102-й! Расскажи нам историю твоего спасения.
Выходит на средину круга какая-то жалкая, бесцветная женщина – и таким голосом, будто она «отвечает» историю Иловайского «отсюда и досюда», а не свою собственную личную жизнь, рассказывает:
– До покаяния я вела развратную жизнь. Мысли мои были суетны, душа нечестива. Но с тех пор, как я вступила в Армию спасения – я перевоплотилась. Вот уже 2 года, как ни один мужчина не посмел поцеловать меня…
Толпа хохочет… «Ты раньше подыщи такого осла, который захотел бы поцеловать этакую швабру», – кричит со своей вышки остановившийся извозчик, но барабан заглушает его и на сцену выступает следующий «рядовой»… Я хотел было уйти, как вдруг, гляжу, подъезжает пышная карета и оттуда выходит седой, тонкий и бледный человек, с хитрыми, бегающими глазками и длинным ястребиным носом. Боже! что сделалось с этими людьми! Не допели они еще своей песни о суете мирского, о тщетности и преходящности людских почестей, как все это было брошено, все они выстроились «во фрунт», скосили по-солдатски глаза, сделали под козырек – и рявкнули что-то, ни дать ни взять – «Здравия желаю, вашество».
«Бутс, Бутс», – заговорили в толпе. Седой человек оглядел всех начальственным взором, сделал несколько замечаний отнюдь не небесного характера – сел и уехал.
Это их начальник – генерал Бутс. Он только что возвратился из Америки. Он был там 8 ½ лет. За эти годы Армия спасения значительно пополнила свои эскадроны. 7 лет назад в Соединенных Штатах было 2 000 ее офицеров, теперь 3 280. Генерал склонен видеть в этом увеличение праведников. Не проще ли считать это увеличением числа любителей легкой наживы? Прежде казарм было 700. Теперь 900. Прежде над армией только посмеивались, – теперь Рузвельт и почти все сенаторы – ее открытые адепты. «New York Herald» – этот полновластный владыка общественного мнения западного полумира – восторженный певец Армии спасения.
Кого же спасает эта армия? Кто из утопающих протянет руки к ее розовым нашивкам и блестящим пуговицам? Чья закоснелая душа смягчится при треске ее барабанов? Кого уведут ее заученные речи, – «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови»?* Ясно, что никого. Для этого нужно не шутовство, не обряд, не солдатская выправка, а нечто такое, чего у этих беснующихся барабанщиков и в помине нет.
А если так, то почему существует армия?
Потому что взвизгивание на перекрестке – легче всякой другой работы, на какую способны эти люди.
Чем же объясняется успех такого лицемерного учреждения в английском обществе? Уже не изобилием ли старых дев? В таком случае у всех у них имя – мисс Гранди*.
13
О БУРЖУАЗНОСТИ
(Письма из Лондона)
I
Первобытному человеческому сознанию, чуждому идеи самоценного, независимого я, – присуще представление о счастьи как о чем-то внешнем, о чем-то, связанном с той или иной обстановкой, с тем или иным положением.
Обыкновенно случается так, что это сознание связывается с каким-нибудь определенным временем или даже с определенным местом.
И это вовсе не зависит от высоты идеалов блаженства. Каковы бы ни были эти идеалы, принадлежат ли они Ибсену или Иван Иванычу, – гипноз может быть так силен, что даже ибсеновские требования от жизни – требования суровые и непреклонные, – отлично могут быть сочетаемы с той или другой точкой на географической карте.
Чуть в мир выбрасывается новый титанический вопль о счастьи, сейчас же жажда его перевоплощается в жажду того тридевятого царства, где это счастье может быть осуществимо.
Гете, Шиллеру, Ницше – нужна была древняя Эллада. Современное иудейство все свои душевные запросы воплотило в достижении Сиона.
Наши родные чеховские три сестры в горячечном, бредовом исступлении тоски бессмысленно выкрикивают слово – Москва.
В конце восемнадцатого века такой Москвой был для них Париж. В середине прошлого – Германия. Теперь пределы мечты разрослись – и всяческими плюсами стала наделяться та неясная, туманная, волшебная страна, имя которой – Заграница.
Словом, почти все взыскующие счастья, взыскуют в то же время и града…
Но характерно, что у Эдгара По рыцарь спрашивает дорогу в Эльдорадо у тени, у призрака:
«Shadow», said he, «Where can it be — This land of Eldorado?»(О призрак! Где бы могла быть эта страна Эльдорадо?)
Ибо все это дело призрачное – все эти искания да метания. Несолидное дело. Вот Глеба Успенского судьба целую жизнь гоняла из одного конца Европы в другой, а чего человек искал? Гармонии, бытия, равновесия! О таких вещах разве можно спрашивать у кого другого, как не у теней? Не у городового же спросить, в самом деле.
Один из таких искателей гармонии – славный русский поэт, – разочаровавшись в своем обожании эллинского мира, отправился в поиски за этой самой гармонией – туда, откуда я теперь беседую с вами, и, обращаясь к этому «зеленому острову» (который для многих из нас является воплощением заветнейших стремлений), писал:
…Но детям юного и бедного народа, Случайно брошенным к тебе на берега, — Не по сердцу твоя угрюмая свобода, Нам жизнь твоя скучна, противна и узка. Иль в хаосе у нас средь варварского пира, Средь безобразием кишащей полутьмы В зачатке носится ядро иного мира, И свет над бездною уж будто видим мы… (Щербина. «На острове»)Ну, «свет над бездною» – это, конечно, пустяки… Предоставим этот свет в полное ведение Василия Васильевича Розанова и иже с ним. А насчет прочего всего надо подумать, много подумать надо.
Если мы захотим смотреть своему сердцу прямо в глаза, нужно будет сознаться, что скучно и нехорошо живется в том самом месте, которое мы населили призраками своего идеала…
Духовная жизнь сведена в Англии к нулю. Все в прошлом. Попробуйте назвать хоть одного вождя, хоть одного духовного пророка. Джером Клапка Джером? Конан Дойль?
Весь книжный рынок заполнен – или шаблонными памфлетами, словно списанными друг с дружки, до тошноты усеянными именем постылого Чемберлена, или описаниями убийств, привидений, клятвопреступлений – и вообще всего того, чем так богат наш Никольский рынок для услаждения жеребцов во образе человеческом.
Душа народа ушла в политику. Это хорошо – если человек сам ведет свое хозяйство, но ведь должен же он помнить, что, помимо кухни, – существует еще огромный мир с необъятною бездной синего неба, с вечными звездами, что кроме вопроса: выгодно ли покровительствовать колониям пошлинами, есть еще и такие вопросы:
– В чем состоит существо человека? Кто он? Откуда? Куда он идет? Кто там вверху, над звездами живет?*Забыть про эти вопросы – это значит забыть своего Бога живого, опустошить свою душу, презреть высшую красоту, высшее величие, высшее мучительнейшее счастье человеческое.
И что это за проклятие для этого скованного Прометея, для духа человеческого – что чуть настает пора спокойствия, тишины, мира, – пора беспрепятственного развития, сытости, единения и свободы, когда только бы и творить, только бы и возноситься, – так он сейчас же и иссякает, сводится на кухонные рецепты и на изобретение лучшей ваксы для чистки ботинок. «Босяку» же, нашему родному герою, такая вакса не нужна – уже хотя бы потому, что у него нет ботинок. И потому небо дрожит, когда он взывает к своему Зевесу:
Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Hast du die Thränen gestillt Je des Gedängsteten?..[207]Подобно тому, как у лесных муравьев крылья вырастают только тогда, когда они стремятся к своим возлюбленным, и отпадают по достижении этого стремления, – так и у англичан отпала вся духовная мощь и красота, чуть только то, к чему стремился их дух, было достигнуто…
Я свел здесь знакомство с несколькими литераторами. Между ними большинство – молодежь. Боже, как далеки эти люди в высоких воротничках и сияющих цилиндрах от той бесшабашной, дружной богемы, которая за полночь оглушает своими спорами и песнями высочайшие чердаки Франции, России, а иногда и Германии. Студенчество – здесь если и спорит, то только насчет величины своих мускулов, если и читает что-нибудь, помимо «лекции», так это racing news, who’s who in football[208], и больше ничего. «Хорошего» студента здесь никогда не отличишь от жокея, доктора и адвоката (атторнея) – знают свое дело, но если вы зададите им несколько вопросов о Диккенсе, например, – они вам ответят:
– Извините, это не моя специальность!
Нет размаха, нет духовной широты, в область духа вносится то же разделение, как и в области фабричного труда… Оттого-то у них иссяк источник творчества, оттого-то на смену Китсу, Шелли, Байрону и Браунингу – не приходит нынче никто…
II
Конечно, – национальные особенности здесь не виноваты. Джон Буль остался по-прежнему – настойчивым, трудолюбивым, основательным, переменилась его общественная роль, и эта-то перемена так губительно отозвалась на его духовной жизни. В этом оскудении виновата, по-моему, – крайне буржуазная роль английского общества. Простите, старое, затасканное слово, но, право, оно самое верное.
От одной одесской гимназисточки, которую папаша не отпускал в парк, я слыхал такое выражение:
– Ах, мой папа такой ужасный буржуа!
Поэтому паки и паки извиняюсь, что привожу такое гимназическое определение, – но иного подыскать не умею.
Чуть вы попадаете в Лондон – вам бросается в глаза не его свобода, не его культ человеческой личности – о чем вы так много были начитаны, а затхлая, фальшивая, обстановочная атмосфера буржуазности.
Вы видите семью, которая является, по слову Стриндберга, «учреждением для приготовления пищи, прачечным и гладильным заведением», с лживой, показной, симметрично расставленной обстановкой в «доме».
Кажется, опрокинь два-три стула, задуши эту канарейку в клетке – все бы легче стало, солнце бы в окно заглянуло… Дом проприетера[209] – разбогатевшего, безвкусного, – вот что такое закулисная Англия, о которой книжки ничего у нас не говорят, но с которой всякому «взыскующему града» – приходится считаться.
Слово beggar (нищий) – бранное слово. Устранив паспорт – здесь заменили его одеждой, и если у вас нет денег, чтобы завести себе сюртучную пару, – вас будут встречать презрительными улыбками.
Святость семейного очага раньше всего. Поэтому, ежели Генрик Ибсен сомневается в этой святости, наш «проприетер» не посмотрит на свою свободу печати, а так заулюлюкает на него, что хоть бы иному борзятнику впору.
В области искусства – у него перепроизводство. Недостаток искры таланта, творчества, фантазии – для него заменяют усовершенствованные машины; гравюру он заменил автотипией; художественные портреты – огромными фотографическими снимками. Пение и музыка – он наслаждается ими благодаря фонографу.
Мало того. Он приспособил все искусства к своему домашнему обиходу… Теперь есть «художественные» обои, художественные стаканы, художественные умывальники, и мало ли что еще?
Но художественность их чисто механическая, души там не затрачено ни на грош, да и где ему достать эту самую душу? За прилавком, что ли?
Потому-то он и неба никогда не видал… Это ведь «не его специальность» – небо! А разные Dreamers[210], которые хотят —
…Небо здесь воскресить на земле*, —
просто блажат, потому что у них нет никаких business…
Что же касается «взыскующих града», то на этот счет английский буржуа далеко превзошел нашего. Он слишком хорошо понял, что капитал, вложенный в «девственное», новое предприятие, – дает гораздо большие проценты, чем тот, который хранится на Lombard Street’е. И началось беспрерывное, систематическое бегство из Лондона всего, что хоть сколько-нибудь было еще живо, что сохранило былую энергию и смелость. Австралия, Уганда, Канада, Южная Африка – вот их «взыскуемые грады».
Но как разнятся их стремления от всех вышеуказанных, и как солидны, как вещественны те shadows[211], у которых они спрашивают дорогу.
В метрополии же осталось все закостенелое, рутинное, медленно влачащее скучные дни свои.
III
Но в чем же выражается борьба с этим классом?
У нас она всецело переведена на литературу. И в силу наших российских условий – на литературу художественную, философскую, – то есть именно на самые отдаленные от борьбы литературные области.
В художественной литературе это у нас устроено так: берется, пункт за пунктом, весь жизненный уклад противоположного класса – и изображается черными, мрачными красками. А новый класс – сплошь целиком розовый.
Так поступал Омулевский, так поступал Михайлов-Шеллер, таким же был в своих общественных романах покойный Станюкович – вообще, все, у кого в руках была только черная да белая краска.
Но с течением времени, когда классовые отношения усложнились, когда «Спирька» Елпатьевского надел блестящий цилиндр, стал думским гласным и пошел произносить громкие речи о промышленности, о капитале, о культуре, – Спирькиным врагом стал нежный художник, мастер полутонов, нюансов, матовых, робких красок, – и в его освещении мы поняли весь ужас Спирькина нашествия, именно потому, что Спирька был у него не черный, а серый.
Серый, как туман, что встает над болотом, когда на него глянет солнце, – серый, вязкий, непобедимый, ужасный своими мягкими, незаметными объятьями.
Таким солнцем был Чехов, и никакие памфлеты, никакие карикатуры, никакие речи в Гайд-Парке – никогда не могут быть столь решительным средством в борьбе со Спирькой, как эти неслышные стоны всепрощающего художника…
Нужно ли говорить о влиянии топорных, лубочных, но близких нынешнему пошехонцу – творениях Горького?
Потом Андреев – с его непосильной задачей вылить на бумагу всю сложность, всю запутанность, все одиночество Спирькиных врагов. И главное, опоэтизировать это одиночество и эту сложность, привлечь к ним наши симпатии. А раз к ним, то и к носителям их, конечно.
В Англии ничего этого нет. Потому что англичанам незачем по кривой ходить. У них художественная литература – не для бородатых, серьезных людей, не для «настроений» и классовых влияний, – а для отдыха, для досуга, для развлечения.
А кто за отдыхом и развлечением станет здесь гоняться?
Натурально, никому другому, как Спирьке.
Вот и выходит, что здешняя художественная литература вся сплошь пишется для Спирьки; отсюда ее погоня за «интересностью», за экстравагантностью. Отсюда ее эффектность, – отсюда вся эта туча журналов pour rire, где авторы неукоснительно бранят тещ, адвокатов, докторов и т. д.
У нас к этому присоединили бы еще и рогатого мужа, но это было бы покушением на первую Спирькину заповедь о святости ночного халата – с семейным очагом в совокупности.
За несколько столетий Спирькина влияния в Англии, – я могу назвать только одного художника, который взялся за протест против ужасного гнета миссис Гранди, вооружась против нее не памфлетами, не спичами, а именно художественным талантом.
Это Оскар Уайльд – известный у нас, кажется, больше понаслышке, – да и то не литературными трудами, а громким процессом по обвинению в противоестественных грехах, предусмотренных у Крафт-Эббинга.
Блестящий философ, великолепный стилист, по силе и яркости своих произведений – достойный соперник Ницше, имеющий даже перед ним преимущество классической законченности, – он стал бы кумиром русской публики, если бы только его речи достигли до нее.
Его «Упадок лжи» – удивительное предвосхищение горьковского «Дна». Его экзотические вкусы, красочная, яркая манера – имеет свои отзвуки в творчестве нашего Андреева. И наконец, мягкая элегичность тона, общая нежность колорита – все это сближает его с чеховщиной…
Ученик Рескина, Уайльд был сторонником «самоцельного искусства» именно потому, что противоположная доктрина была обязана утилитарным стремлениям «Спирьки».
Словом, он весь наш, целиком наш, телом и душою, и я не знаю, что думают гг. русские переводчики, лишающие русскую публику общения с одним из самых близких ее родственников.
Но ведь кроме него нет ни одного протестанта, ни одного достаточно сильного человека, кто смог и посмел бы сказать – великому народу:
– «Ты жалкий и пустой народ»*.
Все поют хвалу добродетелям и невинности миссис Гранди. Она же, звеня ключами и шелестя страницами приходорасходной книги, умиляясь собственными достоинствами, – смело шествует вперед «во имя равенства и пищеварения», – вперед без мечты, без томительных блужданий, без страстных попыток найти новый, истинный путь…
14
ЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ
Лондон (От нашего корреспондента)
6 (19) ноября
Сегодня все газеты переполнены уверениями, что английская нация на редкость горячо и пламенно встретила вождя Италии и что узы, существовавшие прежде между двумя странами, теперь благодаря этому упрочились будто бы до чрезвычайности.
Но, во-первых, где показатель этой теплоты? То, что много народу собралось поглазеть на процессию? Но кто же не знает, что англичан интересовал в данном случае исключительно спорт и что будь это гонка моторов или петуший бой – народу собралось бы и того больше? А во-вторых, – где же зависимость между этим глядением и «узами»? Ясно, что никакой.
И напрасно газеты толкуют об упрочении этих уз.
Совсем напрасно. Никогда еще – и это признают все правдивые наблюдатели английской жизни – не было у англичан такой неприязни к иностранцам, как теперь. Даже во времена последней войны, развившей джингоизм и националистические страсти, – не замечалось ничего подобного. Тогда все это было на отвлеченной подкладке «патриотического чувства». Теперь – на почве экономики. А почва экономики – для английской буржуазии куда ближе, чем всякая другая.
Вот и получилось, что нам – иностранцам – просто житья нет в Лондоне. Нанимаете вы квартиру – по вашему произношению узнают иностранца и отказываются сдать. Мое знакомое семейство, – французы, наняли прислугу-англичанку. Два дня побыла – и заупрямилась. Со слезами на глазах повторяла она: «Не хочу служить иностранцам – лучше мне с моста сброситься».
А работа у французов была легкая, куда легче, чем у англичан.
Евреи, которые до сих пор жили с англичанами необычайно дружно, – теперь стали жаловаться. Они – лучшие лондонские портные – брали на себя подряды по поставке готовых платьев почти во все модные магазины. Работа их славилась. Когда вы покупали себе плащ или пальто, вам говорили, что они из Ист-Энда – и это была высшая похвала.
Теперь не то. Англичанин, загипнотизированный воплями империалистов о гибели национального производства, раньше всего требует от продавца гарантии, что на его товарах даже прикосновения не было «нечестивой руки иноземца».
И евреи стали терять заказы. На них уже посматривают косо, как на конкурентов, чего не было прежде, когда над английской нацией не висел ложный призрак чемберленовских пророчеств…
Сам Чемберлен то и дело громит иностранцев в своих зажигательных речах. Не дальше как вчера в борьбе с Кобденовским клубом – он попытался дискредитировать это учреждение указанием, что члены его – иностранцы. Большего обвинения, по его мнению, и быть не может. Кобденовский клуб счел себя обиженным – и пригласил ex-министра к себе, чтобы показать ему списки своих членов и их английскими фамилиями реабилитировать свою честь.
Об иммиграционной комиссии я уже писал вам, так что с проектами учреждения черты оседлости вы уже знакомы, – мне остается только прибавить, что эта якобы целесообразная неприязнь к своим соседям остается у англичан даже тогда, когда самая цель давно исчезла. Верные традициям, они целыми столетиями держатся за давно ненужные, давно бесцельные вещи, учреждения, отношения.
Сказал же мне здесь один врач, когда я спросил его, почему он – консерватор:
– Мой daddy (папаша) был консерватором – не стану же я изменять своему daddy!
Резон – для сорокалетнего мужчины!
Так и с человеконенавистничанием: оно здесь может передаваться по наследству, и пускай Англия тридцать раз побьет соперников на международных рынках, уайтчепельским евреям уже не вернуть своих заказчиков. Daddy возьмет верх надо всякими резонами.
Итак: короли могут приезжать в Лондон хоть каждый день, флаги могут застилать собою все небо, тысячи любопытных могут с шумом бежать за раззолоченными колясками, – братство, единение, узы – здесь решительно ни при чем…
15
ИЗ СТАТЬИ «О г. ПРИЛУКЕРЕ»
(Письмо из Лондона)
<…>
II
Есть у англичан масса золотых черт в характере – и эти черты делают их удобнейшим материалом всякого рода афер со стороны иностранных жуликов.
Все они, во-первых, удивительно правдивы. О. Уайльд жалуется: даже газеты стали говорить правду, – пишет он. Правдивость же эта – заставляет их верить всякому чужому слову. Они доверчивы просто до смешного. Сами не лгущие – они и представить себе не могут, что кто-нибудь другой тоже стал бы лгать перед ними.
Это во-первых. А во-вторых, они удивительно отзывчивы на все общественные несчастья.
В эпоху русских голодовок – больше всего пожертвований было из Англии.
Большинство университетов, госпиталей, школ – содержатся на частные средства. Всякий средний англичанин вносит ежегодно сотни рублей – в помощь – как они говорят – нации, вносит без треску, без газетных похвал, без благодарственных депутаций. Ничего этого не нужно там, где нация и личность – одно целое.
Расскажу маленький эпизод из этой области.
Жил некий м-р Тэт. Богатый был человек, выстроил он недалеко от парламента большой дом. Стены его увесил лучшими картинами. И когда все было готово, он отправил мэру письмо:
«Дорогой сэр! Приношу городу в дар свою картинную галерею – с тем условием, чтобы имя мое осталось в неизвестности до моей смерти».
После этого коротенького письма – город стал владеть одной из лучших картинных галерей в мире, вместившей в себе все сокровища саксонского художественного творчества. Если бы м-ру Тэту сказали, что он – благодетель, он удивился бы. До такой степени его я слилось с окружающим обществом, до такой степени тождественны их воли, что отделить их друг от друга стало уже почти невозможно.
Кроме доверчивости и щедрости – англичане еще чрезвычайно чувствительны ко всяким страданиям на социальной почве. Как люди с сильно развитой общественностью, они чутки ко всему, что могла создать неуклюжая общественность других стран.
Если вы проповедуете, скажем, что у всякого петуха есть Испания, и если вас хотят засадить за это в сумасшедший дом, – приезжайте в Англию, расскажите на перекрестке о своих «страданиях» – и рассчитывайте на целый ливень пенсов.
Всеми этими тремя обстоятельствами пользовались многие ловкие люди.
<…>
16
Лондон (От нашего корреспондента)
25 ноября (8 декабря)
<…> Россия понесла колоссальную потерю: умер Г. Спенсер. Говорю: Россия, ибо ни для кого он не был так близок, как для нас. Когда в Англии его еще почти никто не знал и он должен был ходить со своими рукописями от одного издателя к другому, всюду получая отказы, – имя его гремело по Руси и под могучим пером Н. К. Михайловского с детства сроднилось с нашими душами.
В Англии его и теперь читают только специалисты, у нас на нем воспиталось целое поколение – и теперь в беглой заметке я, конечно, не могу говорить ни о чем ином, кроме смысла этого воспитания.
Он пришел к нам после 60-х годов. Это время у нас уже сдается в архив под ярлычком утилитаризма, – и напрасно. Это – эпоха веры в разум, в его силу, в его призвание царить над миром. Писаревщина – это измерение всех жизненных явлений аршином голого разума, причем признается в качестве постулата, что все разумное – полезно. Что разумность и утилитарность – синонимы. Что ежели, кроме мыслительности, вытравить из человека все его остальные духовные проявления, то человек этот будет счастлив.
Но если разрушить этот постулат и предложить человеку писаревской культуры выбор: разум или пользу, – он взял бы разум, он все жертвы принес бы разуму, он на смерть пошел бы в его защиту. Это несомненно для всякого, кто хоть сколько-нибудь знаком с этой эпохой. В 70-х годах начались паллиативы. Были привнесены еще кой-какие элементы к суровому аскетизму учителей. Зазвенело искусство, Достоевский наделил разум – преступлением, а светлое покаяние отдал чему-то другому. Толстой дал нам Платона Каратаева, человека инстинктивной, бессознательной народной души. И главное, прославил эту бессознательность, эту стихийность. Русская жизнь во многом подтвердила это банкротство разума. В душе у многих было смущение и тайное недоверие к прежним богам, – нужна только идеология этого недоверия, только научное его подтверждение.
И такую идеологию дал нам Спенсер, с помощью которого Н. К. Михайловский утвердил свою теорию субъективизма, которая к разумной истине прибавила еще и душевную справедливость. Вот почему – русским Спенсер пришелся больше ко двору, чем кому-нибудь другому.
Хотите иметь всю философию Спенсера в двух строках, где, как в химическом экстракте, улягутся все его эволюционные, и все прочие, принципы – возьмите такие его слова:
«Милль полагал, что цель (the object) жизни – знание и работа. Мне думается, что цель знания и работы – жизнь».
Вот та идеология, которую так страстно жаждало наше общество. Собственно, эти слова Спенсера ничего, кроме ясного утилитаризма, не заключали, но кто же мешал нам понять их в смысле защиты тех привходящих к разуму элементов, против которых так неразумно восстановило нас предыдущее поколение? Мы так и сделали.
Спенсер помог нам в этом – вечное ему спасибо.
17
ВИЛЬЯМ СТЭД И ЕГО ПРОЕКТЫ
Лондон (От нашего корреспондента)
9 (22) декабря
I
Популярный в России журналист Вильям Стэд выступил недавно с новым проектом, который произвел здесь большое впечатление.
С ним это случается часто. У него даже правило такое завелось – ежемесячно ошеломлять чем-нибудь своего читателя. Чем – это для него совершенно безразлично.
– Слышали, господа, какую штуку выкинул этот Стэд! – говорит публика при каждом появлении его новой статьи, и Стэду ничего больше не надобно. В этом «слышали» вся его цель. Но достигает ее он так блестяще, с таким эффектом и ловкостью, что охотно забываешь всю неуважительность этой цели и преклоняешься перед средствами ее достижения.
Месяца три назад Стэд объявил, например, что некая m-me Бурчель, по профессии ясновидящая, предсказала ему белградскую катастрофу задолго до июня*. К статье приложены список свидетелей, их адреса, портреты и т. д. Стэд волнуется, поет гимны спиритизму, основывает спиритическое общество – и все это горячо, суетливо, с задором, с трезвоном во все колокола.
Проходит месяц – спиритизма нет и в помине. Стэд – эсперантист. Всемирный язык под его пером превращается в истинное благодеяние для страждущего человечества: нивы утучнеют, науки процветут, а лев уляжется рядом с ягненком.
Следующая книжка – и Стэд толстовец. Как спиритизм совмещается с «Плодами просвещения» – это секрет Стэда, но по его кипучим строкам читатель вправе предвидеть, что вся жизнь страстного журналиста отныне будет посвящена служению великим идеям яснополянского мудреца.
Но к следующему 15-му числу – Стэд уже политик. Он яростно «противится злу». На троне его сердца – Гульд. Нет в мире никого, кроме Гульда. По отношению к соседним государствам Стэд в этой книжке «строг, но справедлив». В книжке господствуют выражения: «идея политического равновесия», «голос общественной совести», «идеальные требования народного духа» – словом, Гладстон, да и только!
И так – двенадцать раз в год. И всюду неизменная увлекательность, неизменный пафос. Ибо каждую истину он узнал только вчера, каждая идея имеет для него обаяние новинки. Всюду – он больший марксист, чем сам Маркс, – и потому всякий марксизм тяготеет над ним ровно четыре недели.
Многое в нем напоминает нашего Дорошевича. Та же неглубокость общих воззрений, та же приспособляемость ко всякой теме, то же богатство пестрой эрудиции, которой хватает только на одну эффектную статью. Разница в том, что г. Дорошевич все эти свойства применяет к комментированию существующих условий жизни, а Стэд сам изобретает эти условия. Он inventor[212] по преимуществу.
II
Вот и теперь. В 12-й книжке своего «Review» он с треском выдвигает проект реорганизации газетного дела…
Но раньше – два слова о самом деле.
Часу в четвертом вечера по всем главным улицам Лондона стремглав пролетают велосипедисты. У каждого за спиною целая кипа красных или зеленых пакетов. Это газетчики. По обочинам мостовой, в десяти шагах друг от дружки, их дожидается отряд 8–9-летних английских граждан. Они на лету схватывают брошенные велосипедистами газеты – и рассыпаются по всем закоулкам города, покрывая их звонким воплем:
– Дрейфус! Япония! Чемберлен!
Не пробежали они и двух кварталов – газета вся распродана. С полными карманами медяков становятся они на прежние места и снова улавливают цветную бумагу, где мокрыми еще буквами передается начало речи Гикс-Бича, которую тот еще не окончил в парламенте.
Вечерние газеты вроде «Star», «St.-James», «Westm. Gaz.» – выходят по нескольку раз в день, так что детям приходится поджидать велосипедистов раза 4–5. Когда распродан последний выпуск, они становятся в последний раз на свои места, и тот же deus ex machina[213] велосипедист отбирает у них выручку, уделяя известный ее процент в их пользу.
Как видите – вся так называемая «экспедиционная» часть газеты происходит под открытым небом. Не мальчики являются в контору, а контора к мальчикам. Все концы громадного города одновременно наполняются газетой – именно ввиду того, что гора подходит к Магомету.
Казалось бы, чего лучше! Но Стэд в такой – сравнительно – мелочи усматривает корень всех зол.
Во-первых, вследствие такого порядка читатель разобщен со своей газетой, говорит он. Редактор является для читателя «чем-то вроде великого тибетского ламы, который, сидя в тайниках своего святилища – никем не видимый, – как оракул, изрекает истину перед читателями, которых он тоже и в глаза не видал»…
По мнению журналиста – все это нужно изменить. Нужно «перебросить мост через бездну между читателем и писателем». Нужно, «чтобы газета служила не только передаточником разного рода новостей, а и вселяла в читателя моральную, политическую, социальную, интеллектуальную силу». Чтобы всякий пишущий мог проследить судьбу своих идей, после того как они воплотились в ровные, плавные строки, словно узор, ласкающий глаз.
Нужно, чтобы читающий каждую секунду чувствовал, что газета создана для служения ему, связана с ним кровными узами, что она его детище, его произведение…
Как же это сделать?
Здесь начинаются планы Стэда.
В будущей своей газете, которая станет выходить в начале 1904 г., Стэд хочет применить раньше всего принцип «конторской подписки». Мы опустим его рассуждения по этому поводу – и перейдем к сути.
Суть же в том, что для своих подписчиков Стэд основывает двадцать клубов в различных частях города.
В клубах этих проектируется самое тесное сближение читателей с сотрудниками стэдовского органа.
Читателю предоставляется право – нет, это даже вменяется ему в обязанность! – вмешиваться во все литературные дела своей газеты. Он не понял такой-то статьи – в клубе ему объяснит ее сам автор[214]. Его интересует такой-то вопрос – в клубе он будет разработан общими усилиями, и для газеты будет написана статья в сотрудничестве с читателем.
И кроме этой громадной заслуги – сближения двух каст, литературных потребителей с производителями, – каст, от разъединения которых так ослабляется сила литературы, – у клуба будут и другие заслуги.
Читатели ведь тоже сблизятся между собою, создадут корпорацию. Их направление – общее им всем хотя бы уже потому, что на газету не подпишется человек иных убеждений, это направление окрепнет и выяснится при совместной работе…
18
НИЩИЕ В ЛОНДОНЕ
Лондон (От нашего корреспондента)
11 (24) декабря
Длинное здание. Над воротами качается от ветра тусклый фонарь, и желтое пятно его света пляшет на дощечке, прибитой к воротам.
Измученный голодом, сыростью и вынужденной ленью, грязный, всклокоченный человек подошел ночью к этой дощечке и прочел:
«Всякий, у кого нет крова, кто хочет есть, кому нужна медицинская помощь, – прямо входи сюда. Двери открыты днем и ночью».
Человек прочел это и пошел прочь. Пошел мимо библиотек, художественных галерей, благотворительных учреждений, музеев – мимо всего, что веками было выстрадано для его счастья, и направился к Темзе, над которой величественно высится узорное здание парламента.
Там он постоял, стуча зубами, и долго смотрел вдаль, на другой берег реки, где из тысячи фабричных труб с грохотом выбрасывались в пустое небо красные глыбы огня – выбрасывались тоже во имя его, человеческого, счастья.
И словно в насмешку над всеми этими заботящимися о нем учреждениями, он наутро был вытащен из Темзы холодным и синим трупом, которому уже больше не нужно ни парламентских биллей, ни благодеяний рабочего дома, ни грохота фабричных колес.
Что же это значит?
Человеку, либерально настроенному, – ничего не стоит объяснить все это таким, примерно, образом:
Нищий не пошел в рабочий дом – потому что у всякого, кто пользуется покровительством этого дома, отнимаются избирательные права. А британец так дорожит своим избирательным правом, что лучше расстанется с жизнью, чем с ним.
Что же касается парламента, то этот последний оказался потому бессилен удержать в живых самоубийцу, что не провел таких-то и таких-то законов. (Либеральный человек даже знает, каких.)
И так далее. Выходит, что нужно только изменить два-три винтика в огромных общественных машинах, и на зеленом острове все станет благополучно. Поэтому люди здесь только и хлопочут, что об этих винтиках, а об уничтожении самих машин и о замене их новыми – никто и не подумает. Англичанин – по слову поэта —
…все определил, исчислил и размерил; Его насущное по нем – и так умно, Что осмеют того, кто б дерзко не поверил, Что жизнию такой и всем бы жить должно.Об одном из таких «винтиков» – о борьбе с нищенством – я и хочу рассказать вам теперь. Это самая злободневная тема в предрождественское время.
Как известно, нищенство строго воспрещено в Англии. Только калеки имеют право словесно покуситься на ваш карман. Но воспретить – не значит еще искоренить. И потому нигде нет стольких попрошаек, как на лондонских улицах. Ввиду же парламентского воспрещения – нищенство прикрыто разного рода предлогами, и ложь стала почти его синонимом.
Как же бороться с этой ложью?
Казалось, следовало бы уничтожить причину зла – парламентское воспрещение. Но нет. В машину вводится новый винтик, добавочный, а старый оставлен в полной силе. Я говорю о тайном полицейском агентстве, на обязанности которого – искоренять среди нищих обман и симуляцию болезней.
Это, конечно, заставило обитателей лондонских трущоб только сильнее навостриться в своем искусстве, и скоро возникла целая школа мнимого членовредительства, школа, выдвинувшая своих гениев, своих героев, свой устав и т. д.
Во главе общества для борьбы с «Mendacity in Mendicity»[215] стоял до сих пор m-r Иосиф Бозлей, беседу с которым я и приведу теперь:
– Бывают ли случаи нарочитых телесных повреждений с целями нищенства?
– О! весьма часто. Все лондонцы помнят человека, который лет 20 сидел на Blackfriar Bridge и показывал покрытую язвами ногу. Язвы эти он вызывал тем, что к царапинам прикладывал обыкновенный медный пенс. Недавно он умер от этого.
– Но чаще всего – их недуг сплошной обман, не правда ли?
– Да. Есть тьма фальшивых слепцов, поддельных немых, хромых… Помните историю с Hurly, нищим, который фабриковал падучую, устраивая пену у рта посредством пирсова мыла? Теперь он в рабочем доме. Но на свободе есть парочка таких молодцов у меня в виду, – прибавил m-r Бозлей значительно…
…Был еще один симулянт падучей. Он пришил к подкладке своей шляпы подкову, и когда бился головой о мостовую, людям казалось, что вот-вот голова разобьется. Мы его тоже запрятали в надлежащее местечко.
– А те нищие, которые выставляют на улице нарисованные ими картины, где изображаются их страдания, – неужели и они лгут?
– Всенепременно! Начать хотя бы с того, что все они рисуют одно и то же. Каждый из нас видал десятки «хромых» – которые изображают, как они лежат под хлороформом, как им отрезывают ногу, – и все доктора расставлены в одном порядке, все они обладают красными физиономиями и т. д. Видно, что картины сработаны одним лицом для всех.
– А вот я давеча видал немого, который показывал всем в банке спирта свой отрезанный язык. Неужели и это ложь?
– Самая наглая. Одного такого немого мы заполучили недавно к себе. Он у нас живо заговорил, язык же его оказался…
– Чем?..
– Обыкновенной устрицей, слегка подкрашенной… Ах, всех штук не сочтешь… Вот недавно я столкнулся с таким специалистом: несет он склянку с подкрашенной жидкостью и норовит забраться в гущу толпы, чтобы его кто-нибудь толкнул. Склянка – на пол, жидкость разлита. Он тогда к толкнувшему:
– Заплатите бедняку за его лекарство!
И платят. Много платят…
А то, вот еще – из разряда совсем невинных. Бедная женщина – оборванная до крайности – ходит с запечатанным конвертом из одного почтового отделения в другое. Всюду она спрашивает марку и предлагает деньги – ну кто же возьмет денег у бедной женщины! Всюду ей дают марку бесплатно, а ей только того и нужно.
– Сколько же может выбрать в год профессиональный нищий?
– О, не так уж много, как об этом говорят. За всю свою двадцатилетнюю «практику» я встретил только одного, который «зарабатывал» в год 300 ф. (около 3 000 руб.). Остальные путем лжи, вечного выстаивания на холоду, путем унижения – еле-еле влачат существование, голодное и темное…
Я привел только часть беседы с мистером Бозлеем, но из нее читателю легко лишний раз убедиться, как бессильны всякого рода приказания в борьбе с тем или другим общественным укладом…
19
БУТЕРБРОДНЫЕ ЛЮДИ
Лондон (От нашего корреспондента)
15 (28) декабря
На Рождестве здесь все замерзло – ни почты, ни конок, ни людей. Весь Лондон ел пудинг и пел:
God bless all merry English!
May nothing them dismay.
(Помилуй, Боже, всех веселых англичан! Пусть ничто не печалит их!)
Такое нарочитое веселье, добросовестно приспособленное к 25 числу, было очень скучно – и посему я чрезвычайно обрадовался, когда получил возможность посетить на 3-й день Святок обед сандвичей.
Сандвич – это, собственно, бутерброд. Но на лондонском жаргоне этим словом обозначаются особые люди, которые, как хлеб маслом, угобжаются досками для наклеивания афиш. Доски эти прикреплены к железному кольцу, которое сандвичи продевают через голову. К этому же кольцу на железных ножках установлена третья доска над головою сандвича. Все это чрезвычайно громоздко, неуклюже и, главное, ненужно, так как тротуары, стены домов, дилижансы и скатерти ресторанов – все это утилизируется объявителями. Но тугая рутина, та самая, которая подсказывает англичанам заводить у дверей молотки, когда есть электрические звонки; пользоваться деревянными лестницами, когда пожары и дороговизна дерева должны бы навести на мысль о железных, – эта самая рутина заставляет их надевать ежедневно ненужное ярмо на многие тысячи человек.
Я никогда не мог без боли смотреть на этих тружеников. Длинной вереницей проходят они друг за другом – медленным, похоронным шагом. Стоять на месте им нельзя – нужно вечно двигаться, вечно совать прохожему в глаза свои афиши. Кольцо тянет спину, голова без конца дергается, ни выровняться, ни отдохнуть за весь день нельзя. Главное же мучение – это унизительное несоответствие между знаменосцем и его знаменем.
На афише изображены жирные яства модного ресторана – сандвич голоден и тощ.
Афиша кричит о доблести лакированных сапог славного Питера Робинзона – у сандвича на ногах вместо обуви какое-то решето. Афиша напоминает вам, что сегодня в Гаррик-театре «Веселые бабы Виндзора»[216] – сандвич угрюм, жалок, и слово «веселый» выглядит с его афиши как злобное издевательство.
Воскресная либеральная газета «Reynolds’s Newspaper» задолго до праздников подняла громкий клич, взывая к читателям о помощи этим несчастным. Помощь должна была заключаться в устройстве рождественского обеда. Рождественский обед это – нечто священное в Англии. Достаточно сказать, что англичане, когда хотят сильно выбраниться, говорят:
– Дай Бог, чтоб ты остался без обеда на Рождество!
На призыв отозвались многие. Королева дала 20 фунтов. Собралось несколько тысяч. И газета Рейнольдса смогла пригласить в Ламбет 1500 сандвичей. (Ламбет – это самая нищенская часть Лондона, и там пребывают почти все сандвичи.)
Когда я пришел в здание Ламбетской бани, я застал пиршество в полном разгаре. Длинные столы усеяны сгорбленными фигурами. В банях помещение тесновато, снять пальто негде, – поэтому кто пришел в пальто – так в нем и сидит за столом. Но не многие испытывают это неудобство – т. к. только 2–3 % владеют такою роскошью. Шляпа каждого – под стулом. За спинками у них лакеи – в черных фраках, брезгливо разносящие дымящуюся снедь своим чумазым господам.
Оркестр гремит рождественские гимны. Все сосредоточенно жуют. Устроители обеда поздравляют своих гостей с праздником, жмут им руки, славят их за тяжелый труд – и все это так тактично и задушевно, что первая неловкость исчезает – и над столом скоро шумит общий разговор.
Я подсел к одному из стариков – и после нескольких общих фраз узнал, что каждый сандвич зарабатывает в день – летом 1 шил., а зимою 1 шил. 2 пенса. То есть как раз столько, сколько стоит 1 ф. мяса. Сандвичи вряд ли не самые неорганизованные представители труда в Англии. У них нет ни сколько-нибудь тесных артелей, ни связей с юнионом. Это потому, что каждый из них смотрит на свой труд как на случайный, временный. Хотя между обедающими были нередки люди, сандвичующие уже 40 лет и больше. Та же разрозненность установила столь низкий заработок, который проистекает еще оттого, что предложение сандвичевых плеч куда больше спроса на них. В этот год особенно плохо. Хлопковый голод пригнал из Манчестера сотни безработных. Куда идти? Конечно, не иначе как в сандвичи. – А тут еще понаезжало из России евреев – видимо-невидимо. Они за 5 пенсов (20 коп.) берутся ходить с афишами. Совсем хлеб у нас отбивают. That’s the devil of it![217] – и старик стал ругать своих конкурентов.
Я отошел от него. Обед кончился. Каждому из участников дали по флорину (1 руб.) и по костюму. Это был сюрприз, и потому радость сандвичей просто неописуема. Раскрасневшись от эля, они прыгали, как мальчишки. Так что, когда, очистив залу от столов, устроили «курильный концерт» (каждому дали трубку и табаку), то все они были так взволнованы, что музыки никто и не слушал.
Мой старик взял за пуговицу какого-то курчавого человека и, забывши свою недавнюю брань, пространно доказывал ему, что, собственно, все люди братья, что на земле должен быть мир, а в человецах благоволение…
Но кто же знает, что скажет тот же старик, когда платье износится, а от флорина не останется ни фартинга.
20
ХАРАКТЕРНОЕ ДЕЛО
3 (20) января
Одним из характернейших явлений английской жизни являются процессы за нарушенное обещание жениться (breach of promise).
Здесь все необычайно для нас, жителей континента: и та легкость, с которой чопорные девицы рассказывают на суде, как, когда и сколько раз они целовались с обвиняемым; и ничтожность обвинения, ибо почти всегда дело так-таки до поцелуев не доходило, а ограничивалось пылкими взорами; и громадность наказания (за пылкий взор тысячи фунтов!); и, главное, то всеобщее одобрение, которым эти несправедливые, по-нашему, приговоры встречаются во всех классах Англии.
Мы все привыкли считать карикатурой процесс m-rs Бардоль против Пиквика, мы никак не можем себе представить, чтобы простая записка: «Приготовьте ужин» – могла служить уликой для обвинения в соблазнении невинности, – но десятки таких анекдотов, разыгрывающихся ежедневно в лондонских камерах, заставляют поверить серьезности этого явления. В этом явлении – характер англичан выступает ярче и рельефнее, чем в тысяче трактатов, поэтому я ждал только случая, когда он развернется вовсю. И дождался: вчера мне пришлось присутствовать на удивительном, прямо-таки сказочном судебном разбирательстве.
Начать с того, что истица содержится еще с марта месяца за пьянство и за кражу. Что иск предъявлен ею к генералу Фитц-Гюгу, председателю судебной комиссии, – своему непосредственному начальнику. Что ей 45 лет. Что за надругательство над своей вдовьей честью она требует 90 000 рублей (10 000 фунтов)!
В суде торжественность. Истицу вводят в сопровождении бравых сторожих. Еще не дойдя до своего места, она плаксиво, но вызывающе бранит судью за то, что он не хочет отложить процесс:
– Меня нарочно держат в тюрьме. Я не могу ни нанять поверенного, ни предъявить доказательств. Это – гнусный заговор!..
Секретарь читает дело:
– В июле 1900 г. генерал Фитц-Гюг, по словам истицы, сделал ей брачное предложение через посредство начальника Льюисской тюрьмы полковника Исааксона, прося ее в то же время ни с кем другим не переписываться…
Судья прерывает: «Значит, полковник Исааксон – ваш единственный свидетель?»
– Нет, он только первый посредник соблазнителя…
Секретарь продолжает.
«– В сентябре 1900 г. обвиняемый посетил Льюисскую тюрьму и узнал, что его предложение передано. В октябре его известили, что оно принято. В ноябре была назначена свадьба. Она не состоялась. И вот теперь каторжница Софья-Анна Вотсон грозит взыскать с Фитц-Гюга 90.000 р. за беспокойство, волнение и неприятности, причиненные ей его обманом, а также в возмещение убытков, которые она, благодаря ему, потерпела, отказавшись от предложений другого джентльмена со значительными средствами. Полковник Исааксон сам вернул назад этому джентльмену его любовное послание…»
Пропускаю тягучую волокиту, из которой ясно, что подсудимая врет, клевещет и путается без всякого зазрения совести. Перехожу к свидетельским показаниям.
В боксе стоит полковник Исааксон. Судья спрашивает:
– Находите ли вы какую-нибудь неправильность в показаниях истицы?
– Есть маленькая неправильность: истица не сказала ни единого слова правды. Дело было так. Она буянила в тюрьме и буквально каждый день засыпала судебную комиссию жалобами. Комиссия отрядила генерала Фитц-Гюга проверить эти жалобы. Они не подтвердились. Тогда генерал Фитц-Гюг послал ей предписание, прося никому не писать своих жалоб. Это-то предписание она и выдает за ревнивую просьбу не сообщаться с посторонними.
Судья. Истица уверяет, что из-за предложения Фитц-Гюга ей пришлось отказаться от брачных предложений другого богатого джентльмена. Правда ли это?
– Конечно, нет.
М-с Софья-Анна Вотсон начинает дико браниться, размахивать руками и взывать к сочувствию публики. Но публика и без того ей сочувствует.
Генерал Фитц-Гюг со снисходительной улыбкой подтверждает, что нет и тени правды во всех обвинениях, направленных против него. Единственное «письмо», которое он написал ей, состояло из таких слов:
«Предлагаю вам ничего не писать мне».
Судья говорит присяжным свою обычную речь. Вотсон его прерывает:
«Джентльмены! Вы не слыхали моих свидетелей. Им не дали говорить. Им заткнули рот. Судья – сосед и товарищ моего обидчика! Я страдаю невинно!»
Публика аплодирует. Foreman[218] присяжных заявляет решение семи против пяти в пользу подсудимого. На галерее смятение. «Их подкупили!» – кричит мой сосед. «Оскорбляют невинных женщин!» – возмущается почтенная матрона. Публика долго еще не расходится, жестами и криками выражая свой протест.
Ясно, что общественное мнение было на стороне этой лживой, нелепой женщины. Неужели у него так извращены понятия о справедливости? Или ему нужно что-нибудь другое, помимо справедливости? И разве не оно создало эти понятия? Разве возможно требование оправдания виновной женщины в стране, где у женщины права равны мужским? И не показывают ли все эти жестокие преследования за breach of promise, что в английском народе на женщину смотрят как на существо до того слабейшее мужчины, что к нему нужно проявлять не справедливость, а снисхождение?
Да ведь иначе этого и не объяснишь!
Из 12-ти человек пятеро высказываются в пользу виноватой. Толпа, огромное большинство, стоит на стороне этих пятерых. Да и самые процессы, разве они не говорят того же? Почему карают только мужчину? Почему обвиняют только женщины? Добро бы дело шло об изнасиловании, тогда другой вопрос! А то ведь дальше рукопожатий или – horribile dictu[219] – поцелуев отношения у истца и ответчика почти никогда не заходят.
Нет, что бы ни толковали наши восторженные пошехонцы, – такое юридическое отношение к женщине лучше всего показывает истинное ее положение на вольных берегах Темзы.
21
В. В. ВЕРЕЩАГИН
(Из личных воспоминаний)
Я знал его лично, но это было так давно, что у меня в памяти почти только и сохранилось, что величавая поступь, странная порывистость манер и та деловитая поспешность, которая, отнюдь не переходя в юркость, еще больше оттеняла спокойную патриархальность всей его фигуры.
Но две-три беседы – или, вернее, два-три отрывка из бесед – какими-то островками уцелели у меня в памяти. Помню, я был еще юношей, когда привез он в Одессу своего «Наполеона» и, увидав самого художника, я повторил ему ходячую тогда фразу, будто картины его – протест против войны, война с войною и т. д.
Художник даже рассердился:
– Нет, это просто оскорбительно, – заговорил он горячо, – и кто эту басню выдумал? Никаких протестов у меня нет, а рисую я, что видел, как видел, рисую вещи, а не чувства. Чувства свои рисовать нынче пошли те, кто вещей рисовать не умеет.
Этот пассаж я привожу потому, что он наводит на кое-какие сопоставления, но раньше передам другой «островок».
По какому поводу, не помню, заговорили мы о фотографии. Я и сказал, что, хотя теперь фотографические камеры обогатили зрительные наши впечатления, поле художника нисколько не сузилось: его лиризм, мелодичность его настроений, синтез образов остались при нем.
Верещагин опять вспылил:
– Все эти лиризмы да синтезы нынче газетчики выдумали. Я видел за границей такие снимки, которым любой художник позавидовал бы. Теперь это у французов такая мода объявилась: если художник линии ровно провести не умеет, бездельничает, он берется свои настроения срисовывать, а всякую порядочную картину третирует свысока:
– Фи, – говорит, – это фотография!
И Василий Васильевич стал выяснять любимую свою идею о том, что движение живописи будет обусловлено только более точным знанием естественных наук и стремлением художника изображать только то, что он видит, не фантазируя, не манерничая, не полагаясь на сверхъестественные интуиции.
Вот эти отрывки припомнились мне, когда я увидал в сегодняшнем «Times’е» некролог русского художника. Там его раньше всего сравнивали, конечно, с Толстым (как же иначе! ведь «Войну и мир» здесь только и почитают как «протест»), потом с Горьким, упомянули зачем-то Мейсонье и затем наградили покойника эпитетом, против которого он так горячо протестовал: эпитетом проповедника.
По поводу того, что германский император запретил своей гвардии посетить выставку Верещагина, дабы война не потеряла в их глазах своей величавой окраски, – автор некролога замечает:
«А это и была цель Верещагина, и он блестяще достиг ее. Его цель была – цель рассказчика и моралиста вместе».
Теперь спрашивается, кто же прав? Критик или сам художник? Мне кажется, всякий, кто истинно уважает память славного художника, должен ответить:
– Критик.
Да, критик тысячу раз прав. Поэзии, обаяния красок, лиризма самих образов, независимо от их целей – Верещагин никогда не знал. Он апеллировал исключительно к моральному чувству – и здесь у него были свои могучие средства.
В последнее время, с легкой руки Александра Бенуа, у нас принято было приводить В. В. Верещагина как известное воплощение мертвенной, бессердечной, холодной техники, журнальных веяний, азбучного учительства и т. д.
Конечно, все это говорится в пылу полемики двух направлений, но… но, читатель, в прошлом году посетил я Третьяковскую галерею и должен был сознаться, что В. В. Стасов восторгался Верещагиным – тоже не иначе, как «в пылу полемики». Конечно, полемика велась с «Гражданином», с нововременским г. Бурениным, с «Московскими Ведомостями» (см. Стасов. Т. I, «Тормозы нового русского искусства»), но, если бы мы согласились со всеми свойствами, которые маститый энтузиаст приписывает любимому художнику, этим бы мы показали, что мы не уважаем ни В. Верещагина, ни В. Стасова.
Англия в этом отношении осталась на высоте беспристрастия, а стало быть, и выказала больше уважения. Не затрагивая вопроса о влиянии покойного художника на искусство, она указывает его выдающееся влияние на жизнь. Слава Верещагина не нуждается в неправде.
22
АВТОБИОГРАФИЯ СПЕНСЕРА
(От лондонского корреспондента)
Третьего дня произошло здесь исключительное литературное событие: вышла в свет долгожданная автобиография Герберта Спенсера[220]. Передо мною сейчас эти два громадных тома, и столько пестрых впечатлений я получил из них, что просто не знаю, с чего начать, на чем остановиться в сегодняшнем письме.
Общее мое впечатление – первое, безотчетное – удивляет меня самого своей неожиданностью. В этом впечатлении есть какой-то привкус чего-то неприятного, непривлекательного… Уже давно привыкли мы связывать с именем Спенсера представление осторожного, смелого, широкого мыслителя, и вдруг под эгидой того же имени перед вами проходит целый ряд каких-то капризных, неосновательных суждений, общих мест, мелочных и пристрастных характеристик, а все это покрыто вдобавок каким-то холодным себялюбием одинокого, скрытного человека.
Суждения его о вещах, которых он не знает, удивительно смелы. А не знает он очень много. Раньше всего иностранных языков, благодаря чему весь громадный мир других культур оставался навеки чужим и неизвестным этому великому философу. Поэтому хоть и понятно, но весьма сомнительно его право говорить о Гомере, что он скучен и надоедлив, третировать немецкий идеализм (признавшись тут же: «Я мало или ровно-таки ничего не знаю про Гегеля»), назвать книгу Рескина о Венеции – «варварской» книгой, отзываться о Микеланджело и Рафаэле с усмешкой и т. д.; великолепно по своей непосредственности и такое его замечание о Платоне:
«Временами я пытался взяться за тот или иной его диалог и с раздражением отбрасывал прочь: в мышлении у него нет никакой отчетливости, и слова у него часто принимаются за вещи. Раз, когда я рассказал об этом одному знакомому классику, тот ответил: “Да, но как произведение искусства – они достойны чтения”. Снова взялся я за диалоги, уже как за произведения искусства, и они еще больше меня раздосадовали. Назвать диалогом обмен речей между мыслителем и его болваном, который отвечает как раз то, что удобно для мыслителя, – это просто дикость! Такая манера всегда была достоянием третьестепенных романистов… Но все же по некоторым цитатам, которые порою попадались мне, я заключаю, что в Платоне были кое-какие мысли, которые дали бы мне кое-что, имей только я терпение их разыскивать. Должно быть, так дело обстоит и с другими древними писаниями»…
Где же здесь тот эстетический критерий, который предложил ему «классик»? Правда, Спенсер говорит о внешней форме мыслей Платона, – но внутренняя красота этих мыслей, красота их экстаза, красота веры в потусторонний мир – все это осталось закрытым для мыслителя, который при всем могучем размахе своей логики, – совершенно не умел проникнуть душою в чужие настроения и переживания. Это снисходительное предположение насчет «других древних писаний» – тоже достаточно характерно.
Думаю, здесь кстати будет отметить, что «капризничание» в области мнений проявилось у него не только в литературной сфере; в личных отношениях оно было не меньше. Мне недавно попалась в «Review of Reviews» выдержка из журнала «Young Man», где некий м-р Скотт, который был одно время секретарем Спенсера, отзывается о нем так:
«Несомненно, он был чрезвычайно раздражительным человеком. Никто не мог быть менее философическим в своих поступках, чем наш великий философ… Не очень-то легко было вести с ним какие-нибудь дела. Он был очень резок и надменен. Также нельзя сказать, чтобы он с большим удовольствием сносил общество дураков; а он, как и Карлейль, полагал, что большинство людей (включая сюда и самого Карлейля) принадлежат к этой категории, – отчего его связи с его современниками зачастую прерывались!!»
Все эти мелочи, рассыпанные в автобиографии, и тысячи других, подобных же – создают цельный и далеко не привлекательный образ великого покойника.
Теперь спрашивается: как при такой произвольности его суждений, при таком самодовольном его незнании множества сторон жизни, при такой бедности его внешних интересов («Autobiography» полна целыми трактатами о пищеварении, о boarding housed[221], о бессоннице и т. д.), при таких неровностях его душевного строя, – могли создаться эти спокойные, ясные, «тихие» книги, где каждое слово на весу, где царствует удивительная гармония, где поэтическая широта обобщений превосходит почти все, что знала доселе человеческая мысль, – словом, как соединить этих двух Спенсеров – Спенсера «Автобиографии» и Спенсера «Социальной статики»?
Ответ вам покажется парадоксальным, – но, вчитываясь в эти новые, загробные книги Спенсера, другого ответа и дать нельзя: если бы Спенсер не был таким, каким он рисуется нам в своей автобиографии, – мы никогда не знали бы его как автора синтетической философии. И чем ниже духовная организация первого, тем недосягаемо выше она у второго. Он как бы разделил себя на две части и, посвятив себя одной из них, почти весь ушел в эту одну, а вторая… – в ней он не оставил ничего, в нее мимоходом затесались все эти бедные мысли о Гомере, о Микеланджело, о Рескине, которые отвергла первая.
Он как-то замечает в «Автобиографии», что, когда ему неинтересен чей-нибудь разговор, от которого он не может отвязаться, он затыкает себе уши и «избавляет себя от понимания того, что говорится». То же самое он сделал со своим духом: он отвратил свой духовный слух и от Гегеля, и от Платона, и от метафизики, – но сквозь его ear-stoppers[222] проникли какие-то неясные звуки и получилась «Автобиография».
Совершив этот труднейший подвиг самоукорочения – он сознается на склоне лет: «Сравненное с бездной труда, ушедшего на все это, с треволнениями, прерывающими здоровый ход жизни, с воздержанием от многих удовольствий, доступных при других обстоятельствах, с долгими годами ожиданий, – удовлетворение, получаемое при конечной оценке этого труда, относительно ничтожно. В противоположность постоянному чувству тревоги, – если собрать его воедино, – чувство наслаждения – куда как невелико. Эмоция радости может еще породиться при первых признаках успеха, но, спустя немного, длительность успеха не будет возбуждать ничего такого, что могло бы подняться над обычным уровнем». «Но все же, – заканчивает он, – если бы мне пришлось жить сначала, я снова бы сделал все, что сделал»…
Не могу не прибавить еще одной черты, чрезвычайно характерной для этого великого мыслителя: только на семидесятом году жизни понял он, что можно любить маленьких детей. С обычной своей непосредственностью он рассказывает, как он был удивлен, когда двое девочек его знакомой пробыли с ним несколько дней – и нисколько не были ему в тягость…
23
ВОЙНА И МАЛЬТУЗИАНСТВО
Лондон (От нашего корреспондента)
15 (28) апреля
Южно-африканская война имела, между прочим, один из самых неожиданных результатов. Как это ни странно, она повлияла – и с грандиозной силой – на цифру рождаемости в низших классах Англии. Еженедельно в Лондоне рождается теперь на 40 человек меньше, чем было до войны, или, другими словами, Лондон теряет 20 000 детей в год. Ввиду же того, что прогрессия по убывающим степеням все возрастает, можно смело сказать, что за предстоящее десятилетие, если только не будут приняты меры, Англия потеряет 250 тысяч граждан по сравнению с прошлым годом.
Первый набат к тревоге по случаю этой потери был поднят церковью. Епископ Рипона произнес громящую речь против холостяков, а лондонский епископ против «намеренной бесплодности семейного очага». Вряд ли эти ораторы даже сами предполагали, какой переполох вызовут их благочестивые речи в обществе… Сотнями полетели письма в редакцию, каждый день приносил новые планы, проекты, меры, митинги, лекции, тексты св. Писания, отрывки из Мальтуса – все это вышло вдруг на общественную сцену и показало этим, какой жгучий, наболевший вопрос затронули священники в очередных воскресных беседах.
Причины стремлений к бездетности указываются разные. Один Oxfordman пишет в «Daily Express»: «Нужно ли удивляться такому положению вещей, когда подумаешь только, чему обучают в наших университетах! Вот результат чтения различных руководств по политической экономии. Погодите, то ли еще будет»…
Некая мать семейства жалуется в «Evening News»: «Зачем бедным женщинам дети, когда их мужья пьяницы и моты? Возись целый день с детьми, а вечером бегай по кабакам отыскивать мужа – кому захочется такого счастья!»
Юноши пишут о трудности семейной жизни в Лондоне, девы жалуются на отсутствие decent[223] женихов, словом, причины указываются случайные, существовавшие еще до тех следствий, которые они якобы породили.
Но стоит только вглядеться в статистические таблицы – и вы увидите странное роковое совпадение: когда после войны налог был увеличен вдвое, сейчас же рождаемость Лондона понизилась на 14 %. Конечно, тут были и другие причины – уже лет 20 у Англии имеется тенденция сокращения рождений, тенденция, странно связанная с общим влиянием культуры, – но самая сильная, самая резкая причина – несомненно, война. Отголоски войны, как я уже писал, слышатся в новом бюджете молодого Чемберлена.
Налог на чай и на табак вызвал громкое негодование потребителей – и этот налог отзовется на благосостоянии низшего класса почти столь же отрицательно, как если бы это был налог на хлеб, ибо чай и табак в Англии – являются предметами первейшей необходимости. Такое положение вещей вряд ли сможет повысить упавшую цифру деторождаемости… Если причины этого зла не порождают никаких оптимистических надежд, – то нужно сознаться, что и средства его так же далеки от этого. Стоит только пройти по улицам, втекающим, ну, хотя в Oxford Street, чтобы подметить, какой популярностью, каким прочным успехом пользуются здесь средства «практического мальтузианства». Почти на каждом квартале этих улиц вы найдете особую лавчонку, где в окнах весьма привлекательно расположены таинственные орудия для изображения роковых прогрессий Мальтуса. (Характерная особенность: в этих же лавчонках продается лубочное издание Золя и Мопассана; в Англии этих писателей продают наряду с другим «неприличием». А серьезный книжный магазин будет оскорблен, если вы запросите у него эти книги.) Но самое страшное во всем этом, что лавки эти торгуют не с заднего крыльца, не под каким-нибудь прикрытием, а совершенно на равных правах с булочной, с аптекой. Значит, общественная совесть нисколько их существованием не задета, считает их в порядке вещей, поддерживает их. Стало быть, существуют огромные фабрики, целая отрасль промышленности, кормящая сотни рабочих, – и процветание этой промышленности жизнь каким-то диким образом связала с южно-африканской войной…
Теперь придумывают систему поощрений за плодовитость. И даже сделаны кой-какие шаги в этом направлении: недавно какой-то старик отозвался на суде, что он не может заплатить взыскиваемого с него долга, поелику он состоит отцом восьми детей. Судья в виде поощрения за добродетели – отпустил ему долги и сказал в этом направлении нравоучительную речь.
Только вряд ли таким путем можно будет уменьшить процветание тех лавчонок, где продается Мопассан.
24
ОСКАР УАЙЛЬД И ЕГО ПЬЕСА
Лондон (От нашего корреспондента)
29 апреля (12 мая)
Вчерашний вечер по праву может называться праздником английской интеллигенции: в Court Theatre была наконец поставлена пьеса Оскара Уайльда «Необходимость быть Эрнестом»[224]. Конечно, имя автора, как некое неприличие, не было указано в афишах, конечно, многое было урезано, многое просто-таки переделано – но впечатление все же получилось сильное и сложное…
Прямо скажу: это удивительно хорошая пьеса. Хотя она кончается тремя свадьбами сразу. Хотя в ней торжествуют добродетели. Хотя в ней совсем нет настроения. Хотя действующие лица ее совсем не имеют индивидуальности и все говорят языком автора. Хотя она полна нелепых эффектов; а содержание ее и невероятно, и шаблонно, и ребячливо.
Вот оно в двух словах:
В Лондоне сходятся два приятеля из высшего общества: Джон Вортинг и Альгернон Монкриеф. Здесь Джон выдает себя за Эрнеста, потому что у него в деревне есть воспитанница, которой он внушает принципы благонравия, и не хочет, чтобы она проведала о его лондонских приключениях. Воспитаннице он говорит, что у него будто бы есть брат Эрнест, который ведет себя крайне распутно и которого он, Джон, ездит наставлять на путь истины. Приятель его, Альгернон, называет этот прием барнберизмом, ибо сам он проделывает то же самое, изобретя больного друга Барнбери, который, будто бы, находится при смерти и нуждается в его помощи. Джон влюблен в кузину Альгернона – Гвенделену. Она немножко порочна, немножко злоязычна, любит рискованные парадоксы – и, выслушав его признание, говорит, что и сама обожает его, так как у него такое прекрасное имя: Эрнест. Мать невесты – леди Брэкнель – отказывает жениху, так как узнает, что он подкидыш. Невеста тайком спрашивает Джона его адрес. Он дает ей свой деревенский адрес, совершенно не заметив, что Альгернон записывает его на обшлаге. Второе действие в деревне, где проживает воспитанница Джона – Сесиль. Благочестивая гувернантка Призм уходит гулять со священником, а Сесиль остается зубрить немецкие слова. Вдруг лакей объявляет, что приехал Эрнест – тот мифический брат, именем которого пользуется Джон. Сесиль в восторге. Входит Альгернон. И после некоторых весьма веселых пассажей – Сесиль признается, что она давно уже любит его, и показывает ему свой дневник, который пестрит именем Эрнеста. Мнимый Эрнест в восторге начинает твердить ей любовные речи, но она перебивает его: «Повторите это сначала, я хочу записать это в дневник». И тут происходит целый ряд трогательных и нежных сцен – вновь напоминающих автора «Happy Prince»[225].
Джон между тем, ничего не подозревая, приезжает домой в глубоком трауре. – Что случилось? – спрашивает его гувернантка. – Брат Эрнест умер, – говорит Джон.
Священник произносит по этому случаю приличную проповедь, а Сесиль, выбежав из дому, кричит ему: «Дядя Джек! Дядя Эрнест приехал». Затем следует масса водевильных положений, которые запутываются еще больше приездом возлюбленной Джона – Гвенделены. Ее встречает Сесиль – и они открываются друг другу, что любят Эрнеста, и ссорятся и обвиняют друг друга в интригах. Тут входят оба мнимые Эрнеста, и оказывается, что ни один из них не носит такого имени. И т. д., и т. д. – все сливается в столь же опереточном конце, когда подкидыш находит своих родителей, гувернантка выходит замуж за священника и обе соперницы выбирают себе по «Эрнесту»…
И все же еще раз скажу: это удивительно хорошая пьеса. Она является блестящим доказательством того, что в искусстве важно не что, а как. Что вам за дело до темы? Вы ее совершенно не замечаете, очарованные ослепительным богатством формы. В пьесе все персонажи сходны с автором, что за беда: это для них должно быть лестно! Ибо автор – многогранный, яркий, необычайно красивый мыслитель, тонкий артист, почти художник, почти поэт, сильный диалектик – верный сын своей эпохи, и походить на него не так уж плохо. Он сумел облить свою аляповатую, наивную пьесу такою массой острого скептицизма, озарить ее, бездарную и неестественную, таким светом жизненности и правды, светом собственного мировосприятия, что, повторяю, вы совершенно не замечаете тех уродливых стропил, на которые наброшены эти великолепные одежды.
Я сказал, что Оскар Уайльд почти поэт. Это мнение подтверждается каждой строчкой его пьесы. Он слишком большой диалектик, чтобы быть поэтом. Он совершенно лишен красочности образов: ему доступны только штрихи, только линии. Настроений, полутонов он не знает. Отсюда его холодность, его бессилие. Томимый теми же проблемами, что и Ницше, – проблемами «великого и малого разума», должного и возможного, личного и массового – он не страдал, не горел ими, он не переживал их кровью и нервами – они жили только в его «малом разуме», в сознании, и рассыпались оттуда, размененные на тысячи парадоксов, мелких уколов, партизанских набегов – шумных, молодецких, но бесцельных. Слушал я вчера эту пьесу – и все эти тысячи остроумнейших мнений, которые непрерывно лились оттуда, казались мне задорными мальчишками, играющими «в солдаты»… Знают они, что крепость им не сдастся, что она будет так же непоколебимо стоять и после их набегов – но почему же не броситься на нее с гиканьем, свистом и стрельбой из игрушечных ружей? Английское общество с его тяжелой рутиной, с мертвым формализмом взаимных отношений, не доймешь никакими проклятьями, и потому все протесты Уайльда вылились в такую грациозную, легкую форму. Он и сам не верит, чтобы эти протесты могли иметь какое-нибудь влияние на «миссис Гранди» (как здесь именуют грибоедовскую «княгиню Марью Алексевну»), – и увлекается этими протестами ради них самих, отчаявшись в их жизненной силе.
Вся пьеса – сплошной протест: против всего, чего хотите, даже против протестов, даже против таких пьес. Вот, например, характерная выдержка:
Джек. До смерти надоел мне ум. Нынче всякий умен. Всюду натыкаешься на умного. Право, это становится общественным бедствием. Хоть бы немножко дураков осталось.
Альгернон. Их таки осталось немного.
Джек. О, как бы я хотел увидать их… О чем они говорят?
Альгернон. Кто? дураки? Они говорят об умных людях, конечно.
Вы видите – Джеку в уста автор вложил общий крик нашего времени: сознание бессилия разума; крик, который разнообразно выразился и у Брютеньера в его «Банкротстве науки», и у Мережковского в его «Духовидце плоти», и у Горького в «Вареньке Олесовой» – всюду в преклонении перед чем-нибудь, что не связано с знанием: религией, волею, силой и т. д. К этому буйству против разума – присоединяется на секунду и О. Уайльд. Но только еще секунда – и он устами Альгернона уже буйствует против этого буйства. И таких примеров тысячи. Он осмеивает все и свою насмешку тоже. Альгернон говорит где-то у него:
«Все женщины становятся похожи на своих матерей. Это их трагедия». Джек спрашивает:
– Ну, и что, разве это умно?
– Это красиво сказано и так же справедливо, как и всякое прочее замечание в цивилизованном обществе, – отвечал Альгернон.
Вот эта уверенность, что всякое замечание равно верно, равно действительно, кажется мне единственной, которую питал великолепный сын своего безвременья. Он смеялся надо всеми – холодно, мимоходом, без страсти, – потому что слишком уж тверды и неприступны были твердыни крепости, чтобы нападать на них. А поэзия отчаяния была ему недоступна – он был ведь почти поэт: жизнь – манила его как теорема, а не картина. Он никогда не изображал, как любят, как борются, как живут, нет, его интересовало только, что думают о борьбе, о любви, о жизни его герои, – эта мысль от мыслей его, а не плоть от плоти его. И потому-то его пьеса – это уродливое здание, построенное из великолепных камней. Чтобы построить пышное здание – Уайльду не хватало души, не хватало крика, не хватало страдания.
Он был слишком англичанином для этого.
А вместе с тем – какой удивительный document humain[226] – все это произведение! Я сидел в театре в беспрерывном восторге – и не раз досадовал на российских переводчиков. Чего только не пересаживают они на родной диалект, а нет того, чтобы познакомить нас с подобной вещью – умной, капризной, захватывающей и такой характерной для нынешнего человека.
25
СПИРИТИЗМ В АНГЛИИ
Лондон (От нашего корреспондента)
21 мая (3 июня)
Пианино танцмейстера Блэкмана, привыкшее звучать вальсами и кэк-уоками, играет на этот раз торжественный гимн; зеркальные стены отражают не вертящуюся молодежь, как доселе, а седобородых джентльменов, желтолицых леди и золотушных юношей, набожно глядящих в свои молитвенники. В зале танцмейстера Блэкмана происходит на этот раз собрание спиритов.
В Германии спиритизм старается привязаться к науке. Во Франции с ним весьма удачно соединяются декольте, шансонетка и отдельные кабинеты. В Англии он перешел на молитвенники, псалмы и на желтых мисс неопределенного возраста. C’est fatalité[227].
Попал я на это собрание, когда оно уже началось. Публика стояла на ногах и, глядя в какие-то книжки, пела нестройным хором славу тем «духам», которые являются медиуму:
О, святые служители света, Недоступные смертным очам. Вашей близостью сердце согрето, Тишину вы даруете нам! (Holy ministers of light Hidden from the mortal sight, But whose presence can impart Peace and comfort to the heart.)Дальше не помню, но и приведенного достаточно, чтобы усмотреть, что та неразгаданная форма энергии, которая проявляется на спиритических сеансах, успела уже канонизироваться в Англии.
Сам медиум – какой-то извивающийся, лохматый, вычурно одетый господин, с истасканным лицом, с манерами, претендующими на таинственность, произносит с кафедры молитву к духу всех духов, потом величественно благословляет нас – и под звуки музыки начинает свой сеанс. Он в трансе. Он скрежещет зубами, закатывает глаза и рычит, как герой мелодрамы. Вам с первой минуты ясно, что перед вами шарлатанство, но безвкусное, аляповатое, грубое, рассчитанное на самую дикую, нечуткую публику. Оглянитесь. Вы увидите нахмуренные брови, сжатые губы – вы увидите веру и хмурое наслаждение. Опять гимны, опять молитвы, опять трансы, многократное обхождение с тарелочкой за доброхотными даяниями – и вот вы на улице с таким впечатлением, будто над вами кто-то поиздевался, оскорбил вас, обманул вас ребячливо, неумно, бездарно.
Публики на сеансе было много, в тарелочке, куда собирались деньги, я подметил изобилие золотых монет, лица у большинства были торжественные – значит, кому-то это все нужно, кто-то считает все это серьезным, жизненным делом, кто-то утоляет свою духовную жажду из этого мутного источника.
Но кто? И почему он не идет к другим источникам, которые здесь так доступны ему? И каким образом обратил англичанин все эти сеансы в богослужение? Он, который так чуждается всякой обрядности, всякого ритуала, который всюду ищет сущности, а не формы, цели, а не средства? На эти вопросы мог я ответить только после близкого знакомства со спиритами, их литературой, лекциями, клубами, митингами и т. д.
Конечно, не в этом беглом письме отвечать на такие вопросы. Здесь, я думаю, будет вполне достаточно отметить только общую идею этого течения. Раньше всего замечу, впрочем, что течение это чрезвычайно обширно: у спиритов пять специальных журналов, из них солидным успехом пользуются – ежемесячник «Судьба» (Destiny), уделяющий особое внимание астрологии и хиромантии; «Свет» (Light) – еженедельное издание (передо мною XXIV его том!); «Hypnotist», «Вестник чудесных наук» и пр. Книги оккультического содержания выходят десятками изданий; обществ и союзов спиритических в одном Лондоне триста с чем-то, – словом, перед вами явление внушительное и прочное. Относительно общей его идеи мне случилось прочитать как-то у Стэда в «Review of Reviews», что спиритизм хорош уже одним тем, что он внушает толпе представление о духовной жизни, отрывает ее от черствого материализма, открывает ей, в доступной для нее форме, светлые дали потустороннего мира и т. д. Этот взгляд на спиритизм чрезвычайно распространен – особливо среди духовенства – и отсюда то общее сочувствие, которым пользуется секта спиритов среди людей культурного общества.
Взгляд этот, мне кажется, – одно недоразумение. Английский спиритизм имеет дело не с одухотворенной материей, а с материализовавшимся духом. На майском конгрессе[228] всех агентов этого учения было говорено, что «духи обижаются, если с ними обращаются грубо, что они мстят неверующим в них, что они ссорятся между собою, что они шутят с медиумами разные шутки» и так далее. Словом, здесь проявилось твердое стремление спиритов низвести дух до своего уровня, стать с ним в непринужденные отношения, похлопать его по плечу. Конкретное британское мышление не могло стать лицом к лицу с духом и не придать ему наивно материальных свойств. Особенно, что удивило меня на этом митинге, это тенденция навязать духу такое неподходящее, казалось бы, качество, как юмор. Как-то один врач, м-р Коксе, разгромил спиритов и сказал, что духов никаких нет, а есть «психическая энергия». Потом он «уверовал» и стал вызывать дух своей покойной жены. Дух явился. – «Кто ты? Не Люся (имя жены) ли?» – спросил новообращенный. – Нет, я «психическая энергия», – отвечал остроумный дух. Масса подобных историй рассказывается в спиритических журналах, и из них явствует одно: между дикарем, нашим предком, и нынешним дикарем в цилиндре та разница, что, когда предок наш облекал идею духа в телесную оболочку, то получалось нечто колоссальное, величавое, поэтичное. А когда делает это нынешний дикарь, – выходит что-то чрезвычайно дряблое, пошловатое, хихикающее. И там, и здесь бессилие, неспособность ощутить дух в его духовности. Но если это бессилие создает Прометея, Будду, Магомета, – то тогда и сила не надобна. А теперь воображение среднего человека культурнейшей в мире толпы – может подняться только до «веселого духа»…
Другое свойство английского мышления – утилитарность – тоже ярко сказалось на здешнем спиритизме. Вот я только что прочитал книжку вождя этой секты м-ра Уолиса (Wallis) – под заглавием «Да не смущается сердце ваше» («Let not your heart be troubled»), и, кажется, это самая циничная вещь, какая мне попадалась в жизни. В ней раньше всего автор черными красками рисует невыгодность безверия. «Всякая мысль о значении, цели и направлении вашего бытия ограничена могилой; вы чувствуете, что вы заключены между колыбелью и гробом» и т. д. Поговорив еще немного о «вечном мраке смерти», о «холоде Великого Ужаса», – он тут же расстилает перед вами все удобства всяческого спиритуализма. Уверуйте – и у вас будет «радость, вера, бодрость и сила; у вас будет здоровье!» (стр. 5). Чем дальше, тем больше, и на стр. 13 он уже зазывает вас в рай, как в свою лавочку: «жизнь не кончается могилой, в ином мире вас ждут новые удовольствия (opportunities), приятные связи, счастливые встречи» и т. д. А что может быть, по словам Уолиса, приятнее веры спиритов? Вы, скажем, потеряли сына. Вы плачете. А спирит устроит один-два сеанса и наговорится с покойником всласть. «Нет, даже больше: спириты знают, что обитатели иного мира горячо симпатизируют жителям земли, что те не ушли от них в далекие небеса, что жителю земли нечего ждать своей смерти, чтобы вновь повидать умерших близких, – он может свидеться с ними и раньше».
Не говоря уже о грубо-физических свойствах, которыми одаряется в представлении автора загробная жизнь («земля», «небо», «близко», «повидать умерших» и т. д.), – в глаза бьет это гедонистическое отношение к предметам самых тонких религиозных восприятий…
Если так низменны идеалы вождей, то что же сказать про массу? Что сказать? Позвольте вместо ответа привести вам из английской газеты такое объявление: «Западный астролог пошлет всякому свои астрологические предсказания и гороскоп за 2½ шиллинга штука» («Suppl. to Light»).
Или: «М-р Таунс, ясновидящий. Сеансы ежедневно (кроме суббот) на дому у клиентов и у себя. За сеанс 1 шиллинг» (ibid., стр. V).
Страна Ньютонов, Гексли, Спенсеров, рабочих университетов, культурных пиджаков и сберегательных касс – сумела ускользнуть от всего этого и остаться доселе, в целом своем, страною диких, темных, невежественных людей, которым национальная недохватка фантазии мешает сохранить в этой дикости богатый мир первобытных суеверий. Даже суеверие, и то стало жидким и бесцветным…Чтобы свидеться с вашей покойной матерью, заплатите м-ру Таунсу 1 шиллинг. Согласитесь, читатель, что это дешево, слишком дешево!
26
ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
Лондон (От нашего корреспондента)
Еще несколько дней – и Англия приступит к довольно оригинальному празднеству, – она торжественно почтит пятидесятилетие своего хрустального дворца.
Хрустальный дворец – это чудо архитектурного вдохновения. Легкого, изящного, смелого. Все стеклянное здание это радостно рвется ввысь, и среди великолепных садов – походит на какое-то сказочное видение, которое вот-вот сейчас растает в матовом тумане…
Не верится в его реальность, такое оно воздушное, стройное, необычайное. Душа отдыхает на нем от грузной, приземистой, бессердечной лондонской архитектуры.
Однако, будь хрустальный дворец – только красивое здание, я бы не покусился на ваше время. Но за этим зданием скрывается удивительно красивая личность его создателя, которая, в свою очередь, создалась удивительно красивыми общественными условиями, и в этом я хотел бы видеть оправдание сегодняшнему своему письму.
В 1850 г. Англия готовилась ко всемирной выставке. Для собравшихся чудес искусства и техники нужно было достойное здание. Назначили конкурс. Со всех углов Европы посыпались проекты. Величайшие специалисты того времени участвовали в этом конкурсе. Но, – здесь-то и начинаются эффекты волшебной сказки, – все они были отвергнуты. 233 проекта оказались забракованными[229], а 234-й привел жюри в восторг. Стали спрашивать: кто же автор этого 234-го? Оказалось, простой садовник Пакстон. Шутя набросал он на промокашке план хрустального дворца и шутя послал его комитету. Я видел этот план в одной из зал дворца. Он там хранится как некая священная реликвия. Эта промокашка навек останется лучшей памятью британского гения. Есть что-то удивительно грациозное, даже капризное, что-то гейневское, шутливое в этом плане… Таков уж был гений этого человека: к чему бы он ни прикасался – все выходило изящно, оригинально, ново. Необразованный человек, с 14 лет принужденный добывать себе пропитание физическим трудом, – он оставил после себя массу самостоятельных трудов по ботанике, которые были переведены на немецкий язык Алекс. Гумбольдтом, на французский Jussieu. Прикоснулся ли он к железнодорожному делу или к военному – всюду он сумел вдохнуть волну свежих идей, независимых, новых…
Только Англия могла создать такого человека. Только там, где миллионы живут инстинктивной жизнью, где среднему человеку не приходится ни разу опереться на собственное я, где для его удобства создались тысячи традиций, только там и могут вырастать такие могучие индивидуальности, как Пакстон, Дарвин, Байрон. У среднего англичанина ни инициативы, ни творчества, ни смелости. Он до сих пор не может привыкнуть к звонку у дома и вешает подле молотка надпись: «позвоните тоже». Он уже сколько лет протестант, а пятница без рыбы для него немыслима. Политические убеждения он получает от своего папаши вместе с наследством. Костюм у всех до смешного одинаков. Словом, тех, у кого нет индивидуальности, Англия не обременяет ею; человек может легко прожить всю жизнь, ни разу не прибегнув к собственной мысли.
Но зато ежели у него эта собственная мысль имеется – тут Англия ничего не пожалеет, чтобы заполучить ее. Для осуществления проектов Пакстона нация в несколько дней собрала десятки миллионов и предоставила в его распоряжение 3 тыс. рабочих рук. Королева, по настоянию парламента, пожаловала его в лорды – словом, толпа сумела убрать каждую соринку с пути своего героя.
Большинство видных людей нынешней Англии обязаны именно обществу своим успехом. Чемберлен окончил только народную школу – и будь дело не в Англии, ему бы дальше титулярного ввек не пойти. Джон Бернс – и ни в какой школе не был. Нынешний директор Британского музея начал свою должность в музее рассыльным мальчишкой. Театральной школы в Англии совсем нет. Школа журналистов ни Форбеса, ни Бловица не произведет… Self made man[230] возможен только в этой атмосфере общественного уважения к личности…
Но у этого сказочного дворца с такой сказочной историей и содержание сказочное. Сейчас же у главного входа перед вами площадка для оркестра из 4 тысяч человек, величиною вдвое больше собора св. Павла. Напротив – сцена для каких угодно спектаклей. Посреди – орган из 4 384 труб, приводимый в движение гидравлическим аппаратом. Все это предоставлено в распоряжение народа: играй, пой, танцуй всякий, кто хочет. Десятки стеклянных зал посвящены бесценным памятникам архитектуры: вот убогий линиями, тяжелый воображением египетский стиль; вот строгая готика; вот рококо; вот почти родной нам византийский. И все это перевито цветами, все это сплетено с природой. Словом, это истинно народный дом, созданный сыном народа на потребу народную, – и, когда выходишь из Сиденгамского дворца, невольно склоняешься пред гигантской статуей гениального садовника – с благоговением и… завистью. <…>
27
ДЖОРДЖ УОТС
Лондон (От нашего корреспондента)
18 июня (1 июля)
Величайший художник Англии умер только час тому назад, а уже газетчики кричат на всех перекрестках: «Смерть славного учителя», «Смерть художника-наставника» и т. д.
Слова наставник, учитель – так неразрывно связаны с именем Уотса, что буквально стали его второй фамилией. Он сам гордился этим наименованием – всегда старался в каждую свою картину вставить какое-нибудь поучение, самые поучительные из своих картин подарил нации для назидания, воздерживался от писания портретов, «так как, – говорил он, – я еще многое должен сказать своему народу», – словом, сам он, как нельзя более, был бы польщен теми некрологами, которыми пестрят сейчас английские газеты.
Книги об Уотсе (а их здесь бездна) принято писать в таком стиле: «Этой картиной художник хотел сказать то-то, а этой то-то; кровь, текущая из правой ноги Веры, показывает, что вера дается только после борьбы; тернии, разбросанные по пути любви, показывают, что путь любви тернист», и т. д.
Сам художник любил такую манеру. Он каждой отдельной линией старался сказать какую-нибудь мысль, так что для понимания его картин требовалось постоянное напряжение разума, требовалась сообразительность, анализирующая способность зрителя.
Такие картины покойный любил называть символическими – и почитал главной своей заслугой именно эту символику.
Мне кажется, здесь вкралось некоторое недоразумение. Помните ли Вы, читатель, картину нашего Репина: «Какой простор!» Вы подходите к картине и забываете допытываться, что значит эта льдина, эта пляска и т. д., – все наши впечатления сливались в одно чувство, одно цельное, неделимое чувство молодости, удали – бесцельной, радостной, живущей настоящим. Был в картине ритм какой-то, и каждый штрих ее был подчинен этому ритму, и если всякий отдельный эпизод картины не имел значения, был даже бессмыслен, зато вся комбинация, весь синтез давал истинно художественное впечатление, делая вас соучастником жизнечувствия художника. Вот в такой картине и есть истинный символ – ибо вы в преходящих образах учуяли их вечный смысл, данный вам не разумом, а непосредственным ощущением.
Картины же Уотса, – как он сам их понимал, – были ребусами, аллегориями, ибо в них созерцание наше не сливалось воедино, а разбивалось по тысячам закоулков, ибо в них не было непосредственной заразительности, ибо они требовали анализа. В них не было центра, где сливались бы все радиусы, и каждая точка в них довлела сама себе…
Но, к счастью, помимо желания и понимания художника, может быть даже наперекор этому желанию, в картинах его, в стороне от большой дороги идей, журчал и пенился чистый источник поэзии. Он смывал все старательно надуманные нравоучения, которыми так дорожил их творец. Было в его картинах какое-то необъяснимое обаяние. Чрезмерное богатство формы, льющееся через край обилие жизни, крайняя степень телесности, вещественности, – до того крайняя, что, казалось, вот-вот оболочка прорвется – и мы глазами нашими познаем таинство духа, могучая, своеобразная система колорита, и смелость, радостная смелость всей композиции – все это заставляло забыть те притязательные потуги, которыми гений только оскорблял свое творчество. Было в нем что-то от Микеланджело, такое же страстное напряжение образов.
Есть у него три картины из жизни Евы. Это такой размах безумно широкого творчества, что когда вы смотрите их, слово гений невольно приходит вам в голову. Одна из них называется: «И наречется она женщиной». Трактует она сотворение Евы. Птицы, цветы, звезды – все сплелось в какой-то мятущийся хоровод, расцветилось радугой – и каким-то чудом создало огненное тело первой женщины. «Ева грешащая», «Ева кающаяся» – это молитва дикаря, очарованная льющимся через край пиршеством природы, это языческое восхищение тем, что прокляла и назвала грехом новая культура, которой он, дикарь, незнакомый с собою, взялся служить.
Иона – как говорит о нем А. Л. Волынский в новой своей «Книге великого гнева!». Такого гнева, такой ярости, такого судорожного жеста, такой экспрессии пророческого бреда я, кажется, никогда не встречал ни в одной картине. Это напряжение, при котором невольно обезображивается весь внешний облик человека, тело его как будто готово разорваться, как слишком натянутая струна, и все кричит о смятении духа!
Тело, кричащее о смятении духа, – вот чем на веки веков будет велик и славен сегодняшний покойник. А все эти нарочито сооруженные аллегории только лишний раз свидетельствуют о том, как часто художник сжигает душою то, чему поклоняется разумом.
28
ГОДОВЩИНА КОЛЛЕДЖА
Лондон (От нашего корреспондента) 3 (16) июля
Пишу впопыхах. Через полчаса за мною должен зайти м-р Торрингтон, и мы отправимся на какую-то Краундэльскую дорогу, где принц Уэльский торжественно заложит первый камень нового здания рабочего университета.
М-р Торрингтон, мой коллега по университету, – состоит в звании башмачника. Чуть он познакомится с вами, он достает из бокового кармана листок, подает вам и просит «обратить внимание». Листок испещрен рисунками всевозможных башмаков, которые «по крайним ценам» так хорошо изготовляет м-р Торрингтон в своей темной мастерской.
Но если бы вы заглянули в этот боковой карман м-ра Торрингтона, то рядом с башмачными картинками вы увидели бы, к удивлению своему, или Геккеля «Загадку Вселенной», или Клодда «Пионеры эволюции», или Стивена «Апологию агностика» – вообще нечто, отнюдь на башмаки не похожее.
При дальнейшем знакомстве удивление ваше не переставало бы возрастать.
Ваш собеседник свободно цитирует при случае и Вольтера, и Гете, и Кальдерона на их родных языках… Свои доводы в споре он любит подкреплять такими выражениями: «Гексли говорил мне», или: «Я слыхал это от Вильяма Морриса», или: «Покойный Рескин неоднократно указывал мне» и т. д.
Но вашему удивлению суждено будет еще подняться, если вы, придя в «кофейную комнату» нашего колледжа, увидите сразу несколько десятков таких Торрингтонов, услышите такие же речи и получите такие же прейскуранты, где вас будут просить «обратить внимание» на портняжеские, или столярные, или переплетные таланты ваших новых знакомых.
Вы новичок. Вы только что внесли в конторе 2–3 шиллинга и записались слушателем гражданского права, или священной истории, или итальянского языка. Вам выдали билет, из которого вы узнаете, что сделались членом университетского клуба и получили право брать на дом книги из университетской библиотеки. Вы входите в «кофейную комнату» и просите кого-нибудь из новых своих коллег показать вам библиотеку. Коллега оставляет шахматную партию, надевает сюртук и охотно взбирается с вами на второй этаж. Вы в библиотеке. Посередине длинный стол, и за ним студенты, у которых дома нет отдельной комнаты, приготовляют уроки. На стене портрет Эдгара По. Ваш проводник показывает вам полки с книгами, – и бегло рассказывает их содержание. «Откуда вы все это знаете?» – «Как же не знать: я уже 18-й год состою здесь студентом, успел всю эту библиотеку прочесть». Тут книги по механике, и по теории искусства, и по коноведению. За отдельной конторкой слева – сидит мальчик лет 11-ти. Перед ним громадные конторские книги. Это библиотекарь. Если вы хотите взять какую-нибудь книгу на дом, он солидно спрашивает вас: ваше имя, ваш адрес. И медленно вписывает ваши показания по отдельным графам. Если вы станете слишком громко разговаривать в библиотеке, он сделает вам замечание и покажет табличку, предписывающую тишину.
Вы сходите вниз по лестнице, украшенной запыленным бюстом Вальтер Скотта, и еще каким-то, чьим – не известно никому. Перед вами дверь с надписью: «Общая комната». Входите. Комната полна небольших столов. Прямо против двери меню сегодняшнего ужина и телефон, ведущий в кухню. Вы заказываете ростбиф, чай и варенье. Садитесь у первого попавшегося стола, снимаете сюртук и просматриваете вечерние газеты (колледж получает почти все английские журналы и газеты). В комнату входит пожилая женщина с подносом и спрашивает, кто что заказывал. Вы приготовили для нее шиллинг, сообразуясь с обычными ценами, но узнаете, что все стоит только 3 пенса. Хотите дать ей пенни pour boire[231], но к вам подходит один из студентов и говорит: эта женщина здесь не служанка, она такой же член колледжа, как и все мы, и т. д.
Освоившись, оглядываетесь. Один пьет пиво, читает «Punch» и улыбается карикатурам. Другой забрался с ногами в глубокое кресло и мирно дремлет. Группа у окна спорит о нонконформистах. Большинство же закрылось газетами, и если отрывается от них, то только для того, чтобы отыскать на карте Дальнего Востока какую-нибудь провинцию Кванген или Хайчен или другое столь же странное слово.
Подле карты развешаны объявления: такая-то железная дорога предлагает студентам удешевленный проезд в Кембридж; такой-то велосипедный кружок хочет завербовать студентов в число своих членов; там-то будет прочтена лекция о Карлейле и т. д.
Тут же большой портрет Фредерика Девизона Мориса, основателя колледжа. Из золоченой рамы на вас глядит открытое энергичное лицо – ласковое и по-английски сдержанное. И вы вспоминаете о нем то, что читали во всякой истории английского просвещения. Он был профессором теологии, этот Морис. Жил здесь неподалеку, за углом – на Queens Square. В пятидесятых годах, подхваченный общим движением «хождения в народ», он вместе со своими учениками занялся благотворительностью среди бедноты окружных кварталов… Скоро он заметил поразительное невежество своих соседей. (Правда, народное образование уже стало всеобщим, но на деле из 5 детей только двое посещали школу – и это в семидесятых годах, т. е. 20 лет спустя после начинаний Мориса.) Тогда он стал собирать у себя на квартире несколько бедняков и рассказывать им об астрономии, богословии, математике… Потом отыскал нескольких учителей, потом – снял большое помещение и, наконец, в 1857 г. пожертвовал для постройки нынешнего колледжа 5 тысяч рублей. Узнав об его предприятии, Джон Рескин, который был тогда на высоте своей славы благодаря своим «Современным художникам», – предложил себя в учителя рисования. Об искусстве вызвались читать Россетти, Берн-Джонс, – и слава их много способствовала популярности колледжа.
В этой затее Мориса была одна только не английская черта. Морис избегал так называемых «полезных знаний». «Знание для знания» – было его девизом. Ему советовали печатать в объявлениях, что благодаря знанию французского языка клерки смогут зарабатывать больше, что, познакомившись с механикой, рабочий сможет достать лучшее место и т. д., но он видел во всем этом оскорбление науки, и если в колледже царит теперь такой интеллектуальный подъем, такой широкий, благородный интерес ко всему, что великого создано человеческим духом, – это именно благодаря такому редкому у англичанина свойству Мориса: отсутствию утилитаризма.
О внутреннем распорядке дела в следующий раз.
29
ГОДОВЩИНА КОЛЛЕДЖА
Продолжение
Лондон (От нашего корреспондента)
12 (25) июля
Возвращаюсь к годовщине колледжа.
Отличительная черта всех подобных английских учреждений в том, что они существуют для вас, а не вы для них. В общественных садах роскошнейшие цветы растут ничем не огороженные. Вы их можете рвать, если хотите, но вы не станете делать это потому, что они ваши. Именно потому, что они предоставлены в полное ваше пользование, вы не станете портить их. То же самое в музеях, в библиотеках. В Британском музее книги стоят на полках у вас под рукою; вы берете их с полки, никого не спрашиваясь. И именно потому у вас нет расчета вырывать из них страницы; вы чувствуете, – что она – ваша собственность.
В нашем колледже та же система. Колледж создан для моего удобства, значит, если я хочу, скажем, танцевать в столовой, я имею право, не обращаясь ни к каким принципалам, отодвинуть в сторону мебель, перетащить из соседней комнаты пианино и пригласить из кухни судомойку на один тур кэк-уока. Нередко, бывало, придешь зимой в «кофейную комнату» и видишь на каждом диванчике по одному джентльмену – растянулись и тихо дремлют. Как удивились бы они, если бы в их колледже появились «правила», по которым подобные позы воспрещались. Это им показалось бы столь же диким, как запрещение целовать их собственных жен.
Убеждения всех этих джентльменов… Но, читатель, знаете ли вы шляпу «панама»? Хорошая панама стоит 30–40 р. – поэтому вы найдете ее на головах у богатых заводчиков, у модных докторов, у лордов и т. д. Но неужели бедному клерку, который, тая от восторга, созерцает каждое воскресенье всех этих счастливцев на Rotten-Row в Гайд-Парке, – неужели ему возможно украшать свою голову чем-нибудь другим, после того как он видал панаму у дюка So-and-so[232]. Конечно, нет; и вот шляпные магазины выставляют «почти что панамы» за 5–10 рублей.
Но через несколько дней появляются подделки этих подделок; цена им шиллинг. Это значит, что и рабочий вместо того, чтобы отстоять честь своего измятого котелка, усмотрел в имитации лучшее средство для поддержания своего престижа.
Так же дело обстоит и с убеждениями. Фабриканты и банкиры стоят за Чемберлена; еще бы, в этом их прямая выгода. Но клерк говорит с восторгом о протекционизме и кричит: «К черту иностранцев!» – только потому, что так принято в самом высшем обществе. Он заимствует убеждения, как и «панаму», – из полного неуважения к себе, к своему. Рабочий – для которого протекционизм означает – голод, – которому Бальфурово министерство то и дело преподносит такие сюрпризы, как введение китайского труда в Южную Африку – тоже из подражания тем, кто его первый враг, – будет твердить вам до бесконечности: «Всякий джентльмен в Англии спокон веку был консерватор. Чемберлен – первый джентльмен Британии. Я люблю джентльменов» и т. д. Не все, конечно, таковы, но я говорю о большинстве.
И с этого его никак не собьешь. Не имея возможности противопоставить себя тому, что он считает фешенебельным, – он копирует это фешенебельное в уменьшенном масштабе, как та беззащитная травка, которая, чтобы не быть истребленной скотом, имитирует крапиву…
Изо всех занятий колледжа я лично люблю больше всего заседания Лиги домашнего чтения.
Дело ведется так. На клочке бумажки кто-нибудь из студентов напишет: «Джентльмены! Я прочитал “essay” Бэкона “О смерти”. Очень интересно. Достаньте эту книгу и прочтите».
И вывешивает бумажку в общей комнате. Охотников прочесть статью Бэкона выискивается человек восемь; каждый прочитывает ее отдельно. Потом собираются в колледже под председательством какого-нибудь профессора и начинают обсуждать чуть ли не каждое слово. Сначала очень натянуто это выходило. Мы пришли, сели вокруг стола, вынули свои книжки – и молчим. Каждый пыхтит трубкой, профессор новый – конфузится, – и никто не знает, что с собой делать. Потом дело пошло удачнее, и теперь в нашем кружке 105 постоянных членов.
Профессора не чуждаются рабочих, но и не лебезят перед ними, не заискивают. Отношения очень простые, не нарочито установленные, а естественные. Профессора не прочь сразиться со своими слушателями в шашки, не прочь распить по стакану эля, – но когда дело доходит до экзаменов – не прочь провалить своего вчерашнего партнера.
Тот мечтательный элемент, который внес в дело колледжа Морис, – постепенно выдыхается. Науки изучаются все больше прикладные, из искусств процветают бухгалтерия и стенография. Вместо рабочих – которые некогда восторженно слушали Рескина и Россетти, с их мечтами о прекрасной, возвышенной жизни, – теперь в стенах колледжа толпятся золотушные юноши, которым только бы поскорее набить руку в конторской мудрости, дабы ухватить прибыльное местечко в какой-нибудь канцелярии Home Office’а. Новый дух Англии проникает во все закоулки…
30
АНГЛИЧАНЕ И ЧЕХОВ
Лондон (От нашего корреспондента)
Напрасно прождал я несколько дней, надеясь, что хоть одна английская газета помянет нашего почившего писателя, – но до сего дня нигде не появилось ни единой строчки.
О «Малакке» писали, о Ньючванге писали, – а самой большой русской утраты, самого больного русского горя – так и не заметили…
Но английские газеты еще не служат отражением всех интересов страны. Нужно обратиться к другому источнику. Беру последнее издание великолепнейшей «Британской энциклопедии» – там есть и Чефу, и Чифу, а Чехова нет. Наконец, в статье о современной русской литературе (в XXXII томе «Энциклопедии» изд. 1902 г.) отыскиваю это бесценное имя.
Приведу дословно все, что связано с ним, чтобы читатель не принял этих строк за шаржированный пасквиль:
«В области беллетристики, главным образом, замечателен А. Чехов, приверженец молодой школы. Сам он еще очень молод, а уже выказал изрядную силу в коротеньких своих рассказцах. Некоторые рассказы Горького, Эртеля и Ясинского тоже обнаруживают значительные достоинства».
Вот и все. Это писано в 1902 году, когда уже были и «Чайка», и «Степь», и «В овраге». А сопоставление Чехова с г. Ясинским! Такое легкомысленно-благодушное бряцание чужими именами лишний раз показывает, как мучительно неинтересно для англичан все, что нас волнует, чем живет душа наша. До такой степени презирал автор этой статьи все, о чем он писал, что даже соблаговолил ободрение некоторое преподать: «изрядная сила», «значительные достоинства». Это ли не великодушие!
Странная вещь: англичанин путешествует больше всех людей в мире, а чужие страны, дух чужих стран знает он меньше всех. Эдмунд Госсе, известный английский критик, недаром писал в предисловии к «Гайнемановской международной библиотеке»: «Мы взбираемся на Альпы – но нам нет никакого дела до швейцарских пасторалей. Мы колесим вдоль и поперек живописные фиорды Норвегии, но нам и в голову не приходит, какое глубокое мировоззрение создано писателями этого богато одаренного народа. С русскими романами мы только теперь едва начинаем знакомиться, и все же мы ни разу не спросили себя, нет ли у поляков своего Достоевского, а у португальцев своего Толстого».
Как они знакомы с Толстым, я писал уже. Теперь же, в качестве образчика, приведу такой перл из самого солидного, самого веского справочника «Webster’s international dictionary»:
«Л. Н. Толстой. Русский романист и социалист (!); родился в 1829 г. (!)».
Немудрено же, что Чехов и совсем пропущен у Вебстера.
Есть еще один источник для отражения русской духовной жизни. Это журнал «Атенеум» – орган английской критики, где сосредоточены все авторитеты страны. Каждый год в июле номер этого журнала всецело посвящается обзору всемирной литературы. Главная прелесть этого обзора, что о России в нем пишет русский, о Голландии – голландец и т. д. Раньше писал обзоры русской литературы проф. П. Н. Милюков, потом К. Бальмонт, потом Валерий Брюсов. Порою – 1901 г., например, – английский журнал, как видно, полагал, что русская литература совсем прекратила существование, и соответственно с этим не давал о ней писать никакого отчета. Но и тогда, когда этого не случалось, о Чехове или умалчивалось, или говорилось мельком. Как-то всегда так случалось, что об Андрее Белом или Д. Мережковском куда больше приходилось говорить, чем о Чехове.
Неудивительно поэтому, что английская публика совершенно не знакома с этим именем. Правда, вышел здесь в переводе «Черный монах», но, дабы не кощунствовать над свежей могилой, я об этом переводе умолчу.
Знаю я такой случай. Мой коллега – русский корреспондент, великолепно владеющий английским языком, перевел года полтора назад «Палату № 6» и снес к чуткому издателю Фишеру Уивину. Тот попросил переводчика явиться за ответом через 6 месяцев – дабы он мог раньше разузнать, насколько известен А. Чехов в английской публике. Приходит мой товарищ через 2 года – отказ. Издатель не захотел рисковать, ввиду полнейшей неизвестности автора «Палаты № 6».
Кстати. Теперь русская пресса много обсуждает и строго осуждает денежную эксплуатацию, которой Чехов подвергался со стороны издателя Маркса. Думаю, что пример из английской жизни несколько поможет установить правильную точку зрения на это дело. Райдер Хаггард – писатель далеко не крупного калибра, пишет в введении к одному из своих романов:
«Несколько времени назад я продал свою книгу известной фирме, весьма почтенной, – за умеренную сумму денег, книга имела успех, и эта фирма – к большому моему удивлению, добровольно удвоила мой гонорар».
Так поступают в стране, где всякая духовная сила на счету, где к ней привыкли относиться бережно и внимательно.
31
МИТИНГИ В ГАЙД-ПАРКЕ
Лондон (От нашего корреспондента)
Гайд-Парк мало соответствует нашему континентальному представлению о парках. Это широкая, многоверстная поляна, где изредка попадаются аллеи тенистых деревьев. Цветов почти нет, а куда ни глянешь – зеленая, влажная – английская трава. Зимою, в глухую пору повальной безработицы, сюда стекаются тысячи людей и по нескольку дней лежат, не вставая, не двигаясь, почти без признаков жизни на этой мокрой, холодной траве. Полиция что ни день подбирает там окоченелые трупы – и магистратура заносит их в графу «случайной смерти». Но летом трава преображается. На ней располагаются влюбленные парочки, по 25-ти на каждую квадратную сажень, и, к немалому соблазну прохожих, усиленно лобызаются. Объятия происходят совершенно открыто – ибо англичанин давно уже привык считать Гайд-парк своею собственностью. Он хозяин у себя в стране, и каждый его поступок у всех на виду.
По одной из аллей парка, по Rotten Row, беспрерывно движутся экипажи. Тут фешенебельный Лондон показывает свои наряды, своих лошадей и свои угобженные элем лица. Один теккереевский герой недаром спрашивает другого: «Отчего я не видал вас в прошлое воскресенье на Rotten Row? Вы были больны?» Только болезнь может остановить высокорожденного лондонца от этого традиционного наслаждения.
А в другом конце парка, у самого входа, происходит нечто совсем особенное. Подходя, вы видите нарядную, пеструю толпу, зонтики, женщин с грудными детьми, трубки, синие шляпы полисменов, цилиндры, и только когда вы сами очутитесь в этой толпе, вы заметите, как строго дифференцировалась она на отдельные группы.
Вот с самого краю, поближе к мраморной арке, скучная кучка людей, сплошь состоящая из старых дев обоего пола. Костюмы у всех потертые, как и лица; многократное употребление бензина тщетно стремится скрыть почтенную их давность. У всех хоть и дырявые, но перчатки, и ото всех исходит какой-то странный запах камфоры. Посреди них на переносной кафедре стоит оратор и что-то доказывает, что-то такое, – что он уже, видимо, привык доказывать тысячу раз, еще с той поры, когда сюртук его не был перелицован наизнанку, а это было очень давно.
Прислушайтесь.
– Из всего вышесказанного следует: 10 колен израильских, рассеянных Богом по свету, были после долгих скитаний посланы Им на этот остров, и из них-то произошла великая британская нация. Только этим можно объяснить то особое благоволение, которое небеса проявляют к нашему народу. Сказано в Писании: «Судьбы врагов ваших будут покорены деснице вашей», это сказано про англичан и т. д.
Потом, щурясь подслеповатыми глазами, проповедник стал выискивать в Библии предсказания пророка Исайи относительно бурской войны.
Подхожу к другой толпе. Здесь настроение совсем другое.
На складном стуле стоит пожилая женщина с длинными руками, длинными зубами, длинными губами и говорит жалобным голосом:
– А я ему говорю: негодяй ты этакий! губишь ты мою молодость и красоту…
Толпа смеется.
– …Молодость и красоту. А он мне говорит: ах ты, селедка! А я ему говорю: «за такие твои слова, тиран моего сердца, пойду я завтра в парк и всему городу расскажу про низкий твой характер». А он мне говорит: «иди хоть к дьяволу на рога». И вот я пришла сюда и расскажу вам все его бесстыдства…
Я каждый почти день встречаю таких женщин и никак не могу сказать, много ли их или это все одна и та же: так они все похожи друг на дружку. Знаю только одно: что к вечеру и эта женщина, и «тиран ее сердца» будут заседать в каком-нибудь кабачке под вывеской «Гвоздь и панихида» и, распивая джин, делиться выручкой, собранной с чувствительных посетителей Гайд-парка.
Дальше на траве сгустилась толпа, состоящая почти исключительно из одних мужчин. Все больше приказчики, мелкие клерки в соломенных шляпах, бледные, с тросточками и раззолоченными цепочками часов. Брючки у них закатаны, и все они до того схожи, что кажется, будто их делали гуртом на какой-нибудь фабрике. Внимание их сосредоточено на словесном турнире двух спорщиков – агностика и теософа. У агностика широкий, потный затылок, а теософ – юркий, остробородый старик, прыгающий, как воробей, при каждом своем слове.
Агностик говорит грузным басом:
– Я верю только в то, что вижу. А в то, чего не вижу, – не верю. Всякий, кто говорит противное, – или дурак, или лицемер.
– Позвольте, дорогой сэр, если я вам докажу, что вы именно так поступаете, – согласитесь ли вы признать, что вы и дурак, и лицемер.
– Никогда вы этого не сделаете…
– Сию минуту. Вы только что сказали, что уверены в своем мнении.
– Уверен.
– А мнения своего вы никогда не видели. Стало быть, вы, дорогой сэр, и дурак, и лицемер.
Клерки захихикали; широкий затылок агностика стал еще шире; но, сколько он ни копошился у себя в голове, —
Никак желанное словцо Не приходило на язык.Старичок уже непрестанно подпрыгивает: «а Австралию вы видали когда-нибудь? Нет? Так, значит, вы не верите в существование Австралии? И в существование генерала Куропаткина не верите? Или, может быть, вы имели личное свидание с генералом Куропаткиным? Может быть, он вас приглашал к себе во дворец (!) на совещание по поводу Порт-Артура; пожалуйте, м-р Джонсон».
Дальше – барабан Армии спасения. Дальше спириты в поэтическом гимне молящиеся «вездесущим духам» умерших.
– Эй, вы, – кричит им какой-то пьяный, – отчего вы считаете своих «вездесущих духов» такими дураками? Раз они вездесущи, значит, они могут бесплатно слушать оперу в Covent-Garden’e. А раз им доступна опера, слушать ваше визжание у них не будет никакой охоты. Так что напрасно вы им молитесь… Они не слушают вас.
Даже полисмены улыбаются.
Дальше. На лужайке толпа развернулась широким полукругом, ибо оратор не стоит на месте, а бегает взад и вперед. Слышу отдельные выражения:
– Этот карманный воришка Остин Чемберлен, у которого голова так же пуста, как и у его отца… Но удержаться от воровства этой подлой шайке, нашему кабинету, так же трудно, как мне сесть верхом на эту пуговицу…
Но все это уже начинает утомлять зрителя. Толпа ни минуты не стоит на месте, движется от одного оратора к другому, по-праздничному настроенная, пришедшая в парк не только послушать о Чемберлене, но и воздухом подышать, и новый галстух показать всему миру, и побегать по травке с детьми. Отсюда такой легкомысленно-незначительный характер всего этого «народного форума». Люди поговорят, поговорят, другие их послушают и разойдутся в разные стороны, друг другом довольные, но нисколько не подвинувшиеся в миросозерцании своем в ту или другую сторону.
Образовательного значения нельзя признать за всеми этими беседами уже хотя бы потому, что все говорящие, или почти все, так же невежественны, как и их аудитория. Если вы хотите постичь, как низок, безнадежно, невероятно низок сознательный уровень «просвещенных дикарей в цилиндрах», проведите несколько часов вашего воскресенья в Гайд-парке.
Если что во всем этом обычае хорошо, так это драгоценное сознание, что какая бы беда с тобой ни приключилась, ты не одинок, не беззащитен в своем горе; ты можешь апеллировать к своему народу, найдя у него сочувствие, помощь, поддержку. Оттого так тверда походка у британца, оттого-то так высоко держит он голову.
А прочие достоинства в виде этих митингов – «мираж и видимость». Ничего больше.
32
ОБ АНГЛИЙСКОМ ТЕАТРЕ
(От нашего лондонского корреспондента)
– Нет никаких практических средств для поощрения драматического искусства. Англия, по-моему, наиболее изолирована от остальных, и ее народ все еще пробавляется мелодрамой. И мне кажется, что исключительная любовь к спорту убила среди нас интеллектуальную драму…
Такой непочтительный ответ получили англичане от известного голландского драматурга Гейермана – на запрос одного журнала, как исправить ужасное положение, в котором находится теперь английский театр.
Чтобы намекнуть читателю, каково это положение, мне достаточно сказать, что та декоративная пьеса Сарду «Данте», которая в Одессе провалилась с первого разу, здесь, в Доулилэнском театре, выдержала сотни представлений. Наши театральные завсегдатаи нашли пьесу неуважением к себе со стороны антрепренера, наша театральная критика отметила, что даже от Сарду нельзя было ожидать ничего подобного, а в Лондоне эта драма исполнялась с участием такого имени, как сэр Генри Ирвин, и когда я, возмущенный, уходил со второго акта, то слышал восторженные возгласы публики и видел ее довольные лица.
Английской оперы и совсем нет. Есть оперетка – но не задорная, дразнящая, радостная, а какая-то добродетельная, тощая, наглухо застегнутая. Гениальнейшая из них – «Гейша», только не та, какую вы знаете в вольном русском переводе, а благонравная и прилизанная. Пьесы, которые у нас имели бы громадный успех – пьесы О. Уайльда, Бернарда Шоу (Shaw), Пинеро, – здесь проваливаются зауряд, и никакой антрепренер не примет вашей пьесы, если в ней нет американской тетушки с наследством, добродетельного героя в чистом воротничке, адского злодея, у которого в каждом кармане по револьверу, и т. д. Заграничных влияний нет никаких; и в то время, как Чехов, Гауптман, Метерлинк волнуют Европу новыми переливами жизни, – здесь задачи драматургии сводятся к воспроизведению на сцене столкновения поездов, наводнения, войны и т. д.
Если к этому прибавить театральную цензуру, о моральном горизонте которой можно судить хотя бы по тому, что она запретила представление «Призраков» Ибсена и «Монну Ванну» Метерлинка, то читателю будет понятно, почему положение английской драмы стало предметом таких бурных споров в лучших кругах английского общества. <…>
В последней книжке «Review of Reviews» есть статья Стэда о театре. Этот журналист достиг 55-летнего возраста и ни разу не был в Мельпоменовом храме. Почему? А вот послушайте:
«Половина наилучших пьес вращается на прелюбодеянии или на борьбе с ним. Глупо предполагать, что такой вопрос – наиболее изо всех возбуждающий, может быть обсуждаем со всею свободою и силой выражения, какую ему придает соединенный гений автора и актера, – и не развратить зрителей, в чьих жилах кипит горячая кровь юности».
«Для воспламенения чувств – зрелище страстной любви к прекрасной женщине представляет собою лучшее средство, – а я искренно сознаюсь, что я обязан своей нравственностью традициям пуританского воспитания».
Дальше автор требует общественного вмешательства в частную жизнь актрис, дабы и здесь искоренить «соблазн», – но мы остановимся только на предыдущих строках. То, что их написал «наименее английский» изо всех журналистов, человек, которого англичане называют «слишком континентальным», – говорит только, что другой британский литератор написал бы еще более чопорную, еще более ханжескую статью.
Таким образом, «традиции пуританского воспитания» оторвали британцев от ощущения главной трагедии бытия – трагедии любви.
Трагедия мысли – фаустовская трагедия – также чужда стране эмпиризма. Трагедия воли не может быть сознаваема там, где идеалы сытости, пищеварения и довольства почти достигнуты теми, кто доселе заведовал общественной сценой – средним сословием.
Словом, «трагическое» уничтожилось в стране Шекспира. Жизнь перестала восприниматься как борьба идеала и действительности, – слишком уж ее захлестнула волна самодовольства, комфорта и мелочной практичности, принесенных правящим классом.
И самая эта идея – о производстве гения благодаря денежному вкладу – еще строже осуждает страну на полное духовное бесплодие.
Покинув приходно-расходную книгу в 7 часов вечера, средний англичанин ищет развлечения в театре. Не мыслей – для мыслей есть у него парламент; не поэзии – поэзия не годится для отдыха; не поучений – разве он не бывает в церкви? не какого-нибудь нового жизнеощущения – разве он француз или мальчишка! – нет, ему нужно только что-нибудь полегче, поудобнее. Если бы ему на сцене изобразить «Вишневый сад» – он пошел бы в кассу и потребовал бы свои деньги обратно. Реформы в искусстве? – Нет, это слишком некомфортабельно. Декорацию мнений – сколько хочешь, но добродетельного героя, американскую тетушку и сочетания законным браком в пятом акте оставляй в неприкосновенности: этого требует и пищеварение, и «традиции пуританского воспитания»…
II
Наметивши социальные причины упадка английской драмы, перехожу к советам об ее поднятии со стороны компетентных лиц.
Б. Бьернсон, вечный защитник установленных учреждений, старающийся покорить им человека, высказывается в пользу государственного покровительства театру. <…>
Почти все остальные мнения радикально противоположного характера.
Молодой критик Честертон пишет:
«Единственное, по-моему, средство для обновления драмы таково: все мы должны выкрасить себе лица и выйти актерствовать на улицу. Нынче принято думать, что часовой механизм комитетов может выправить нашу военную организацию, церковную, театральную, – а мы в это время можем почитывать спортивные газеты. Но военное дело может быть исправлено только воинственным народом, церковное – религиозным, а дело театра – народом театральным. Бесполезно требовать от человека, чтобы он сеял зерна истинной драмы, если он никогда не чувствовал ничего драматического, если у него никогда не было потребности надеть маску и громко плакать. Драма должна выйти из народа, как и все прочее».
Несмотря на шутовскую форму этого ответа, в нем кроется здоровая мысль о независимости культурных явлений от преднамеренных воздействий человека.
Известный романист Холл Кейн высказывается в том же смысле:
– Я не думаю, чтобы существовали какие-нибудь внешние средства для поднятия драматического искусства, толчок, по-моему, может быть дан только изнутри. Только новый дух и новый гений может одарить драму новой жизнью. <…>
Директор театральной школы Крэйг говорит об этом выразительнее других:
– Было бы всего лучше – дешевле для государства и благодетельнее для нации, – если бы государство оставило театральное дело в покое. Искусство – непосильная вещь для государства. <…>
33
УАЙТЧЕПЕЛЬ
(От нашего лондонского корреспондента)
Сказал я как-то м-ру Вайду, своему соседу по пансиону:
– Поедемте в Уайтчепель – посмотреть.
Он испуганно замигал глазами, отказался и шепотом посоветовал мне оставить дома кошелек и взять в дорогу палку. Я совету его нисколько не подивился, ибо только накануне усмотрел в «Century Encyclopedia» Смита такое странное изречение:
– Уайтчепель Часть Восточного Лондона, заселенная беднейшими классами – и преступниками (inhabited by the poorer classes and by criminals).
Пробираясь кривыми улицами рабочих кварталов – где, несмотря на жару, все закупорено, заперто, завешано, и только веселые окна кабаков нарушают общее впечатление кладбища, – достиг я необходимой мне конки, взобрался на ее вышку, и здесь уже ждали меня ощущения чего-то своеобразного, не лондонского, не английского: конка была необычайно грязна, долго останавливалась на перекрестках, и за билет взяли у меня 1½ пенса, а это совсем не в лондонских порядках, ибо даже для самого бедного лондонца пенни представляется такой мелкой монетой, что в обычном обиходе английской жизни расчет в полпенса показался бы нищенски скрупулезным…
Через час я был в Уайтчепеле. Казалось, не час, а целые тысячелетия отделили меня от центрального Лондона. И в центральном есть нищета, но там она прикрытая, молчаливая, затаившаяся. Она залегла где-то по темным углам и боится стоном прорвать веселую суету краснощеких, уверенных, широкоплечих людей, которые так хорошо умеют работать, любить себя и смеяться.
Здесь же она вся на виду – в этом затхлом запахе несвежей рыбы, которую жарят и съедают тут же на улице; в этих грязных, больных детях; в этих узких, гнилых закоулках, которые, кажется, навеки забыты и Богом, и солнцем, и санитарным инспектором; в этих крикливых, пестрых базарах, где за гроши продается линючая, выкрашенная, дважды перелицованная ветошь, где проклятья, зазывания, сильные жесты – все кричит вам о нужде, обнажает ее, тычет в глаза. Большего контраста со спокойной, скрытной жизнью Лондона и не придумаешь.
И контраст не только в этом. Вот мне понадобилось узнать, где русская библиотека, – подхожу к человеку, спрашиваю.
Он останавливается, долго-долго объясняет мне дорогу, уходит, потом ворочается и говорит:
– Знаете что: я хоть и занят теперь, но ничего, я пойду с вами и доведу вас до самых дверей.
Это так не похоже на Лондон. Англичанин мотнул бы головою на полисмена, только вы его и видели.
Идешь по улице – по длиннейшей, грязнейшей и крикливейшей в мире Commercial Road – и останавливаешься, пораженный. На вывеске российскими буквами выведено: «Одесский ресторан». Но это, конечно, исключение. Язык Уайтчепеля – еврейский жаргон вперемежку с испорченными английскими словами. Во многих домах в окнах выставлен портрет покойного Герцля в траурной раме. Есть много газет на еврейском языке – и так странно видеть их плакаты об экспедиции в Тибет, о Порт-Артуре и т. д.
Со свойственной жителям Уайтчепеля приспособляемостью английскому языку научаются они быстро, но русский язык забывают еще быстрее. Встретил я как-то здесь еврея лет 30-ти, который в России 4 класса гимназии кончил, а теперь, когда к нему говорят по-русски, в ответ умеет только любезно улыбаться. Живет же он здесь всего третий год.
Хотя английские газеты сплошь и рядом честят иммигрантов невежественными, некультурными и т. д., но для всякого беспристрастного наблюдателя ясно, что духовные, умственные интересы Уайтчепеля гораздо выше, гораздо свежее, чем в самом Лондоне.
Найдите англичанина, не профессионала и не богача, который стал бы читать в Британском музее книги. Не найдете… Британский музей посещают или так называемые literary hacks (литературные клячи), или люди, которым свободного времени девать некуда, или иностранцы. А загляните-ка в русскую читальню в Уайтчепеле. Я зашел как-то туда зимою. Окна заперты. Комнатка наперсточная. А люди – и на подоконнике, и в прихожей, и на лестнице. Есть скамья, стулья, но никто не сидит, ибо стоя можно теснее набиться в комнату. Цель библиотеки – чтобы приехавшие сюда не забыли русского языка, русскую культуру, чтобы они, затерянные в большом, равнодушном городе, имели уголок более ласковый, более родной, чем другие уголки. Здесь в библиотеке много русских газет, Пушкин, Достоевский, Толстой, «Жизнь замечательных людей» Павленкова и т. д. Есть даже «Диалоги Платона», перевод Влад. Соловьева.
Но, подойдя теперь к тому месту, где была библиотека, я нашел там «Эмиграционное бюро». В его окне было вывешено объявление, что за 2 фунта (20 рубл.) можно достать билет для переезда из Лондона в Нью-Йорк. Тут же возле бюро стоят бледные, грязные люди и предлагают купить у них или часы, или велосипед, или швейную машину, так как у них нет денег на проезд в Америку. И тут же они предъявляют вам эти предметы, которые весьма далеки от идеального состояния.
Не без труда отыскал я новое помещение библиотеки. Оно просторнее, чище, есть даже два газовых рожка. Внизу же чайная, которая, по желанию, может обратиться в лекционный зал, в бальный зал и даже в театр: в одном конце комнаты повешена занавеска, на которой, по мнению некоторых, изображено море, а по мнению других – битва русских с кабардинцами. Чайная открыта для всех, и вы можете зайти туда, когда хотите; так что чай-то пьют там всего 2–3 человека, а остальные 30–40 спорят, читают, слушают. Спор ведется по-еврейски. Я его не понимаю и потому разговариваю с каким-то юношей, который подсел к моему столику.
– Когда я жил в России, я слыхал: ах, Англия – то, Англия – се, и нет страны лучше Англии. А я вам скажу, что нигде так бедного человека не сосут, как здесь. Приехал я сюда два месяца назад – вышел на улицу, а куда идти – не знаю. Смотрю, возле меня еще триста таких, как я. Сбились в кучу, стоим. Подходит человек, богатый – в цилиндре; говорит: если бы я нашел хорошего портного, я бы его задешево взял. Так все триста к нему и кинулись Он посмотрел было на меня, но как увидел мои башмаки, – «нет, говорит, мне тебя не нужно, – ты greener (зеленый – презрительная кличка для новичков)». И куда я ни ходил, всюду мне на башмаки смотрели. Англичане не берут – у них там какие-то тред– юнионы, а еврей в день больше 3 шиллингов не платит.
– Но ведь 3 шиллинга – это очень хорошо, – сказал я.
– Да, хорошо, если б работа была каждый день… А то все больше нанимают на полдня, на четверть, а потом недели две ходи без работы. И к тому же со своими и конкурировать стыдно. Меня недавно выбрал хозяин на Бриклэне, а другие бросились к нему работы просить, я как посмотрел на них, так и отступился… А если даже – вот как я теперь – достанешь работу постоянную, – тоже нехорошо. Работа от 6 утра до 10 вечера, да один час на обед. А подмастерья, как звери. Спину разогнуть не смей. Отчего это никто в газетах не напечатает, не скажет беднякам, что здесь, в Лондоне, скверно для них – как нигде, чтоб они сюда не приезжали. Тут их швыряют, как в Литве огурцы, а они все едут, все бегут сюда, а что с ними здесь будет в конце концов – даже и подумать ужасно.
Оставил я меланхолического своего собеседника часу в 11-м вечера. Весь Лондон уже вымер, а в Уайтчепеле все еще разливалась по улицам человеческая нищета – крикливая, яркая, неприкрытая.
Англичан в этом «квартале, заселенном преступниками», – немного. Это сразу заметно, ибо кабаки в Уайтчепеле весьма немногочисленны.
От публикатора
Свой дневник Чуковский вел почти семьдесят лет – с 1901 по 1969 год. Сохранилось двадцать девять тетрадей с дневниковыми записями. Дневник писался весьма неравномерно – иногда чуть не каждый день, иногда с интервалом в несколько месяцев или даже в целый год. По виду дневниковых тетрадей ясно, что их автор не раз перечитывал свои записи: во многих тетрадях вырваны страницы, на некоторых листах отмечено красным и синим карандашом – «Горький», «Репин», «Блок». Очевидно, Чуковский пользовался дневником, когда работал над воспоминаниями.
В 20-е годы было трудно с бумагой, и автор дневника писал на оборотах чужих писем, на отдельных листках, которые потом вклеивал или просто вкладывал (не всегда датируя) в тетрадку. В дневник вклеены фотографии лондонских улиц, письма, газетные вырезки, встречаются беглые зарисовки.
Особняком стоит первая тетрадь большого формата за 1901 – лето 1903 года (до отъезда в Англию). Эту тетрадь вел в Одессе 19–20-летний Корней Чуковский, начинающий философ, недавно выгнанный из гимназии, изобретающий свою философскую систему и печатающий свои первые статьи. Записи личного характера перемежаются с конспектами читаемых книг и журналов, сочинениями, написанными на заказ для заработка, и набросками первых газетных статей. В довершение всего, записи ведутся беспорядочно, с разных концов тетради и далеко не всегда датированы.
Чтобы как-то систематизировать эту тетрадь, мы постарались прежде всего датировать каждую запись, сопоставив ее содержание с упоминаемыми статьями или событиями, позволяющими на их основании установить дату. Большим подспорьем при датировках были случаи, когда автор отмечал не только число, но и день недели, когда сделана запись. Это позволило по календарю сделать выбор года в пределах 1901–1903 гг. Таким образом, опираясь на календарь, на упоминание событий, которые можно датировать, а в редких случаях – на датировку самого автора и, в последнюю очередь – на последовательность страниц в тетради, – все записи были построены хронологически.
Конспекты читаемых статей, а также наброски работ, которые Чуковский собирался опубликовать, выделены нами в «Приложение 1», где эти материалы расположены по датам. В результате, конспекты излагаются последовательно, и, с другой стороны, личные события, о которых пишет автор дневника, тоже идут последовательно, не прерываясь философскими конспектами.
Сочинения, написанные для сверстников на заказ, исключены (их содержание оговорено).
Философские наброски, собранные в Приложение № 1, вряд ли представляют научный интерес. Они имеют ценность только как знак времени, краска эпохи, наглядное свидетельство того пути самоучки, который энергично проходил молодой Чуковский. По своему содержанию эти наброски во многом перекликаются, а иногда и дословно совпадают с ранними статьями Чуковского в «Одесских новостях» 1901, 1902 гг. (см.: «К вечно юному вопросу», «Письма о современности», «К толкам об индивидуализме» в т. 6 ЧСС).
Эти ранние записи дают почувствовать, какова была его жадность к знаниям, из чего складывалась его эрудиция и начитанность, позволившая ему уже через несколько лет стать заметным петербургским критиком.
После отъезда в Англию Чуковский уже никогда не возвращался к такой манере ведения дневника. Во всех последующих тетрадях нет никаких конспектов и набросков статей, большинство записей датированы и идут последовательно друг за другом.
Обращает на себя внимание полное отсутствие записей за 1915 год, их немного в 1916–1917 годах. Вообще, дневник велся нерегулярно. В 1919–1924 годах он очень подробен, а иногда записи отсутствуют целые месяцы или даже целый год.
Основное содержание дневника – литературные события, впечатления от читаемых книг, от разговоров с писателями, художниками, актерами. Прав был Зощенко, написавший в 1934 г. в «Чукоккале»: «Наибольше всего завидую, Корней Иванович, тем Вашим читателям, которые лет через пятьдесят будут читать Ваши дневники и весь этот Ваш замечательный материал» (Чукоккала. М., 2006, с. 475–476).
Действительно, дневник Чуковского богат описаниями обстоятельств и лиц, оставивших след в нашей литературе.
Время предоставило возможность сопоставить записи Чуковского с Дневником Блока, с воспоминаниями и дневниками других очевидцев.
Сопоставление это показывает, что Чуковский неизменно точен в передаче фактов, слов, интонаций. Он, например, заносит в дневник устный рассказ З. Н. Гиппиус о ее случайной встрече с Блоком в трамвае, а потом Гиппиус печатает собственные воспоминания об этой же встрече. Запись Чуковского точно передает рассказ Гиппиус. Подробно записывает Чуковский, что говорил Блок о кризисе гуманизма, что говорил об этом же Горький, с чем спорил Волынский. Блок тоже записывает в своем дневнике, что говорилось в этот день. Обе записи, дополняя друг друга, во многих местах совпадают почти дословно. Так же дословно совпадает рассказ Блока о вечере у Браза, записанный в дневнике Чуковского, и запись Блока об этом же вечере в собственном Дневнике.
Чуковский описывает одно из последних выступлений Блока в Москве, на котором был Маяковский: «Все наше действо казалось ему (Маяковскому. – Е. Ч.) скукой и смертью». Сам Маяковский в своей статье 1921 г. об этом же выступлении Блока вспоминает: «Я слушал его… в полупустом зале, молчащем кладбищем… дальше дороги не было. Дальше смерть».
Можно указать множество других подобных дословных совпадений записей в дневнике Чуковского со статьями, дневниками, воспоминаниями других участников тех же событий. Таков, например, записанный Чуковским рассказ Горького о том, что Льву Толстому не нравилось выражение «стеженое одеяло». Этот рассказ впоследствии вошел в воспоминания Горького о Толстом. Записанные Чуковским слова Сологуба о Блоке повторены в воспоминаниях Э. Голлербаха о Сологубе.
Несомненный интерес в дневнике Чуковского представляют его собственные суждения и оценки. В высокой степени ему было свойственно чувство истории, понимание, что он – участник и очевидец важных событий.
Дневник насыщен литературными ассоциациями, раскавыченными внутренними цитатами или цитатами, взятыми в кавычки, стихотворными строками, заглавиями читаемых книг и т. д.
После кончины Чуковского в начале 70-х годов дневник был полностью перепечатан и сверен с оригиналом. Рукопись дневника хранится у меня.
В этом томе представлены записи за 1901–1921 гг. В настоящем расширенном виде дневник публикуется впервые. Первые публикации отрывков из дневника начались в журналах 1980-х годов, а отдельным сокращенным изданием в двух книгах дневник вышел в 1991, 1994 гг. и с тех пор дважды переиздан.
Текст печатается по новой орфографии, однако сохранены некоторые особенности тогдашнего написания иностранных фамилий, своеобразие пунктуации. Сохранено также написание названий учреждений («Всемирная Литература», Дом Искусств, Дом Литераторов и т. д.), а также написание дореволюционных журналов и газет с прописных букв, как это было тогда принято.
Записи 1901–1917 годов велись по старому стилю. Исключение составляют лето1903 – сентябрь 1904 года, так как, живя в Лондоне, Чуковский ставил даты по новому стилю.
Определенную трудность представляло прочтение первой тетради, написанной скорописью, со множеством сокращенных и недописанных слов. Сокращения часто употребляемых слов: как, потому что, может быть, стало быть, например, – а также недописанные слова и фамилии, прочтение которых не вызывает сомнений, даны без квадратных скобок. В очевидных случаях сокращения развернуты без квадратных скобок и в остальных тетрадях. Если при прочтении возможны варианты, знак сокращения сохранен. Сохранена транскрипция иностранных имен тех лет.
Нумерация примечаний дается в пределах года. Собственные имена не комментируются, а представлены в Именном указателе в конце книги.
В книге два «Приложения». Кроме «Приложения 1», о котором было сказано выше, помещено «Приложение 2», куда вошли корреспонденции Чуковского из Англии 1903–1904 годов. Это «Приложение», составленное из труднодоступных и ни разу не собранных корреспонденций, дает возможность существенно расширить представление об английском периоде жизни Чуковского.
Полное издание и комментирование дневника стало возможным благодаря весьма существенным публикациям последних лет. Это биобиблиографический указатель «Корней Чуковский» (М., 1999), составленный Д. А. Берман, а также 10 томов Собрания сочинений (2001–2004), впервые представившего под своими обложками многие произведения Чуковского, не переиздававшиеся с давних пор. Нужно назвать также том стихотворений Чуковского в «Библиотеке поэта» (2002), тома его переписки с дочерью Лидией (2003) и сыном Николаем (2005), полное издание «Чукоккалы» (2006), книги Н. Н. Панасенко (2002) и Е. В. Ивановой (2005) о дореволюционном периоде жизни Чуковского. Использованы также неопубликованные документы из архива Чуковского.
Пользуюсь возможностью поблагодарить К. И. Лозовскую, многолетнюю помощницу К. И. Чуковского, за участие в подготовке рукописи дневника к печати, а также Е. В. Иванову, которая прочла всю рукопись и сделала много полезных замечаний и ряд существенных дополнений для комментариев. Моя искренняя признательность Р. Д. Тименчику, который тоже познакомился с рукописью и сообщил мне ряд ценных сведений для комментариев и указателя.
Благодарю Н. Н. Панасенко, безотказно отвечавшую на вопросы по одесскому периоду жизни Чуковского, а также О. Канунникову, которая помогала в датировке некоторых сюжетов из первой тетради дневника. Моя искренняя благодарность Л. Г. Беспаловой и С. Рубашевой, которые осуществили перевод многочисленных иностранных слов и выражений.
К дневнику составлен подробный именной указатель. В разные периоды подготовить его помогали К. И. Лозовская и Д. Г. Юрасов. Издания последних лет позволили ощутимо расширить сведения о многих лицах, упомянутых в дневнике. Эту работу по уточнению указателя вела, в основном, Л. А. Абрамова при участии О. В. Степановой.
От души благодарю всех, кто помогал готовить к печати это весьма трудоемкое издание.
Елена Чуковская
Комментарии
Список сокращенных названий
Блок. Т. № (№ – номер тома) – А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л.: ГИХЛ, 1960–1963.
ББП-Ч – Корней Чуковский. Стихотворения. СПб.: Акад. Проект, 2002 (Б-ка поэта. Большая серия).
КЧ-ЛК – Корней Чуковский – Лидия Чуковская. Переписка. 1912–1969. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
КЧ-НК – Николай Чуковский. О том, что видел. М.: Молодая гвардия, 2005.
Панасенко – Наталья Панасенко. Чуковский в Одессе. Одесса, 2002.
ЧиЖ – Евг. Иванова. Чуковский и Жаботинский. М. – Иерусалим: Мосты культуры – Гешарим, 2004.
ЧСС. Т. № (№ – номер тома) – Корней Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра – Книжный клуб, 2001–2004.
Чукоккала – Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2006.
1901
C. 14…идем на житковскую лодку… – Борис Житков – друг и одноклассник К. И. Они учились вместе во 2-й одесской прогимназии. По мнению исследователей, Чуковский учился в двух одесских учебных заведениях: во 2-й прогимназии (Пушкинская, 9) и в 5-й гимназии (Чижикова, 13, ныне – один из факультетов сельскохозяйственного института). На эти адреса указывает в своей статье Н. Гусак, ссылаясь на мнение краеведа А. Владимирского (См.: Н. Гусак. Он был долговязым одесским подростком… // Знамя коммунизма. 1982. 9 апр.). Возможно, Житков выведен в юношеском пародийном романе Чуковского «Нынешний Евгений Онегин» под именем Жиркова. Впоследствии Борис Житков стал известным писателем. Об их общем детстве Чуковский рассказал в своих воспоминаниях (ЧСС. Т. 5, с. 326–346).
C. 17 Буря бы грянула, что ли! – Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Душно! без счастья и воли…»
C. 19…Л. Толстого отлучили от церкви. – 20–22 февраля 1901 г. состоялось специальное Определение Священного Синода. Там, в частности, говорилось: «…в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой– Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молясь, да подаст ему Господь покаяние в разум истины (2 Тим. 2, 25). Молимтися, милосердный Господи, не хотяй смерти грешным, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь». Первая подпись под этим документом: Смиренный Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский.
C. 20…нужно мне кончать гимназию… – Если обратиться к автобиографии К. И. (см. «Серебряный герб», ЧСС. Т. 2; «Как я стал писателем», ЧСС. Т. 10), то из нее можно узнать, что он был исключен из гимназии по указу министра образования Делянова о кухаркиных детях, а затем, после нескольких попыток, сдал гимназические экзамены экстерном. Этой же версии придерживается и Мирон Петровский (см., например, его статью «Чуковский начинался в Одессе» // Черноморская коммуна. 1982. 24 ноября).
Существует и другая версия причин исключения К. И. из гимназии – ее излагает в своих мемуарах его соученик по гимназии Л. Коган. По его мнению, Чуковский был исключен за издание рукописного гимназического журнала, резко критикующего гимназические порядки и начальство (см.: Л. Коган. Воспоминания о гимназии // Вечерняя Одесса. 1982. 30 марта).
C. 20 «Чем я был пьян…» – Перефразирована строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Слезы и нервы». У Некрасова «Чем ты был пьян…».
«Дай мне минувших годов увлечения…» – Цитируется стихотворение К. К. Случевского.
C. 22…тараканы… что завелись в телефоне чеховского «Оврага»… – Упомянут чеховский рассказ «В овраге», где в главке 1 есть фраза: «В Уклееве все три ситцевые фабрики– были соединены телефонами. Провели телефон и в волостное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки».
C. 26 …написать современного «Онегина» – пародию… – Первое упоминание о замысле, который был осуществлен позже. См. 1902, примеч. к с. 61.
C. 27 Товарищ, верь… – Пушкинские строки записаны по памяти и не совсем точно. Должно быть: «Звезда пленительного счастья» («К Чаадаеву»); «И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов…» («Из Пиндемонти»). «Послание цензору» написано в 1822-м, а не в 24-м году.
C. 29 Тургенев и Флобер… влюблены друг в друга. – Речь идет о публикации: Письма И. С. Тургенева к его французским друзьям: Письма к Густаву Флоберу и к г-же Комманвиль / С предисл. и примеч. И. Д. Гальперина-Каминского // Русская мысль. 1896. Кн. 7, 8, 10.
…в «учителя»… «преклоняет колени»… – Чуковский цитирует строки из стихотворения Некрасова «Памяти приятеля» (1853) и поэмы «Медвежья охота» (1867).
С. 30 …говорить нечего об объективности. – См. «Воспоминания о Белинском» И. С. Тургенева, впервые напечатанные в «Вестнике Европы» (1869. № 4).
…Достоевский… осмелился назвать Белинского – сволочью… – В начале 70-х годов, во время работы над «Бесами», в период резкого расхождения с И. С. Тургеневым, Достоевский в некоторых своих письмах к Н. Н. Страхову и А. Н. Майкову обрушился на Белинского и «поколение 40-х годов», обвиняя его в атеизме, нигилизме, западничестве, непонимании России. Назвав Белинского и Грановского «шушерой», Достоевский добавлял: «Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо» (ПСС. Т. 291, с. 215). В своей статье «Достоевский и плеяда Белинского», впервые опубликованной в 1918 году, Чуковский характеризовал отношения этих писателей с большей зрелостью и полнотой.
C. 34 …Михайловский пишет об «одной лжи на Глеба Успенского»… – В № 11 «Русского богатства» (1900) опубликована статья Н. К. Михайловского «О Глебе Успенском и об одной лжи на него».
C. 37 …она стала упрекать… в ношении бриллиантов. – В ответ на постановление Святейшего Синода об отлучении Л. Толстого от церкви, его жена, Софья Андреевна Толстая, написала письмо Первоприсутствующему в Синоде митрополиту С.-Петербурга Антонию. 24 марта 1901 г. в № 17 «Церковных ведомостей», издававшихся при Святейшем Синоде, были опубликованы письмо С. А. Толстой и ответ митрополита. Чуковский, вероятно, читал эту переписку в какой-нибудь газете. В конце своего письма С. А. Толстая пишет, что Бог вернее простит людей, ищущих истину, «чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от Церкви пастырей ее». В своем ответе митрополит Антоний (Вадковский) написал: «[Пастыри Церкви] носят бриллиантовые митры и звезды, но это в их служении не существенное. Оставались они пастырями, одеваясь и в рубище, гонимые и преследуемые, останутся таковыми и всегда, хотя бы их и хулили и какими бы презрительными словами ни обзывали».
C. 39 Белинский был особенно любим… – Строки из поэмы Н. А. Некрасова «Медвежья охота» (1867).
C. 41 …см. первую книжку «Русского Богатства» – у Короленко. – В первой книжке «Русского богатства» за 1901 год помещены «Сибирские рассказы» В. Г. Короленко «Мороз» и «Последний луч», повествующие о драматических судьбах героев этих рассказов.
C. 44 Утонул Моник Фельдман. – Фельдман, владелец книжного магазина, который был своего рода клубом, утонул 1 августа. Подробнее см.: Панасенко, с. 27–28.
…мнение… очень интересно. – Речь идет о первой публикации Корнея Чуковского «К вечно-юному вопросу: Об “Искусстве для искусства”» («Одесские новости». 1901. 27 ноября; ЧСС. Т. 6).
Угощал… Альталену чаем… в кондитерской Никулина. – Альталена (Altalena) – псевдоним В. Жаботинского, переводчика, журналиста, впоследствии – одного из лидеров сионистского движения. Жаботинский был другом юности Чуковского, его соучеником по 2-й прогимназии (указано М. Соколянским. См.: Марк Соколянский. Остался в Одессе // Егупець (Киев). 1996. № 2). В 1901 году Жаботинский был одним из ведущих сотрудников газеты «Одесские новости» и способствовал публикации первой статьи Чуковского «К вечно-юному вопросу». О том, как это случилось, Чуковский рассказывает в своем очерке «Как я стал писателем», не упоминая, по условиям того времени, имени Жаботинского. «…Моей философией заинтересовался один из моих бывших школьных товарищей, – вспоминал Чуковский. – Он взял ее [статью] и отнес в редакцию “Одесские новости”, и, к моему восхищению, к моей величайшей радости и гордости, эта статья появилась там, большая статья о путях нашего тогдашнего искусства» (сб.: Жизнь и творчество Корнея Чуковского. М.: Детская литература, 1978, с. 144; ЧСС. Т. 10). Подробнее об отношениях Чуковского и Жаботинского см.: ЧиЖ.
Читаю Меншикова… – Впоследствии эти дневниковые записи составили основу статьи «Заметки читателя: М. О. Меньшиков // Одесские новости. 1902. 29 нояб., см. также ЧСС. Т. 6).
C. 45…Дать такую плохую статью Хейфецу… – Израиль Моисеевич Хейфец, редактор газеты «Одесские новости», рецензент, подписывавшийся псевдонимом «Старый театрал», председатель городского отделения «Кассы взаимопомощи литераторов и ученых», вице-председатель Литературно-артистического общества, в котором состоял Чуковский.
…«мечты поэзии… не шевелят больше моего ума». – Перефразированы строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» («Печально я гляжу на наше поколенье…»).
C. 47 «Я жажду наслаждений знойных, Во тьме потушенных свечей!» – Строки из стихотворения Мирры Лохвицкой, которые цитирует в своей статье В. Саводник (см. его статью: Современная русская лирика // Русский вестник. 1901. Кн. 8, с. 461–477).
C. 48 …читать Михайловского. «Россия и Европа». – Автор книги «Россия и Европа» (1871) Н. Я. Данилевский.
…ищу книжку… Глаголина. – Упомянута книга Б. С. Глаголина (Гусева) «Новое в сценическом искусстве» (СПб., 1901).
…возьму Михайловского, это в «Письмах постороннего». – Упомянуты «Письма постороннего в редакцию “Отечественных записок”» (1883–1884) Н. К. Михайловского.
С. 49 …Евгений Дегин… «Мир Божий». – Упомянута статья: Евгений Дегин. Эрнест-Теодор-Амедей Гофман: Историко-литературный этюд // Мир Божий. 1901. № 12. Отд. 1, с. 113–145.
C. 51 …рассказ Бурже «Отец». – Рождественский рассказ Поля Бурже «Отец» (в переводе Е. Ж.) помещен в «Одесских новостях» 25 декабря 1901 года (№ 5505).
…Михайловского о Ренане. – Вероятно, речь идет о статье Н. К. Михайловского «Утопия Ренана и теория автономной личности Дюринга».
1902
C. 52 Я написал возражение Жаботинскому на его мнение о критике. – Статью В. Жаботинского (псевд.: Altalena) о критике см.: Вскользь: О литературной критике. Особое мнение // Одесские новости. 1901. 20 дек., с. 3. (См. также: ЧиЖ, с. 24–30.) Автор утверждает: «Эта критика представляется мне, по нашему времени, бесполезным пережитком. И, кроме того, я считаю ее даже вредной <…> наша эпоха не требует новых общественных идей: нужные ей идеи преподаны нам уже много лет тому назад. <…> Множество накопившихся, но не проведенных в жизнь идей – сделали нас людьми дряблыми, не дельными, полуверящими, оглядчивыми и во всех смыслах дешевыми. <…> Вот что инстинктивно поняла уже русская изящная литература. В ней возникла школа “настроения”, на одном полюсе которой Чехов, рисуя действительность, вызывает в нас тоску по иной жизни, – а на другом полюсе Горький своей ярко раскрашенной ложью об иных людях тоже заставляет нас желать, чтобы эта ложь стала действительностью. <…> Философствовать мы умеем – и ничего из этого не вышло. Мы должны вновь научиться желать».
C. 53 Про бердяевскую борьбу за идеализм… – Имеется в виду статья Н. А. Бердяева «Борьба за идеализм» («Мир Божий». 1901. № 6). Подробнее см. конспект этой статьи в Приложении 1.
Был вчера в Артистическом кружке… – Имеется в виду одесское Литературно-артистическое общество, существовавшее в 1898–1904 годах. Заседания литературной секции (обычно проводившиеся по четвергам) иронически описаны Чуковским в статье «Московские впечатления» («Одесские новости». 1903. 2 апр., № 5933), а также в романе «Нынешний Евгений Онегин». Интересно, что об этих же заседаниях Литературно-артистического общества вспоминает Владимир Жаботинский в автобиографическом романе «Пятеро» (1936).
«Друг детей» Радецкий… – Иван Маркович Радецкий, одесский мещанин. В 1880-х занимался революционной деятельностью, был сослан. По возвращении в Одессу сотрудничал в одесских газетах, специализировался в вопросах физического воспитания, устройства детских садов и ясель. Читал об этом лекции. Радецкий – один из персонажей романа Чуковского «Нынешний Евгений Онегин».
Милый Карменсито… – Лазарь Осипович Кармен, журналист, прозаик, популярный в Одессе репортер, сотрудник «Одесских новостей». Одна из центральных тем его публицистики – жизнь пролетарских низов Одессы. Отец советского кинодокументалиста Романа Кармена.
C. 55 …г. Подарский в 12 кн. «Русского Богатства». – Упомянута статья В. Г. Подарского «Наша текущая жизнь (Газетно-журнальное обозрение)», помещенная в № 12 «Русского богатства» за 1901 год. В статье дан обзор журналов «Мир Божий», «Вестник Европы» и «Русская мысль» за октябрь и ноябрь 1901 года. Основная часть статьи Подарского посвящена полемике со статьей В. Богучарского «Памяти Н. А. Добролюбова», опубликованной в ноябрьской книжке «Мира Божьего».
…г. Altalena будет прочтен реферат о литературной критике. – Реферат был прочитан на заседании Литературно-артистического общества 17 января 1902 года, и, как писали «Одесские новости», «Сообщение это вызвало оживленный обмен мнениями. Собеседование привлекло массу публики. Заседание, начавшееся в 9 час., закончилось около полуночи… продолжение прений по поводу реферата Altalena, за поздним временем, отложено до следующего четверга» (1902. 18 янв., № 5525, с. 3). И через неделю: «.продолжались прения по поводу доклада г. Altalena о литературной критике. Прения носили оживленный характер, в них принимали участие много лиц» (1902. 25 янв., № 5532, с. 2).
…Altalena… будет спорить с ним в Артистическом клубе. – Имеется в виду Н. Геккер, напечатавший свои возражения на статью В. Жаботинского под заглавием «Задачи литературной критики» («Одесские новости». 1901. 22 дек.).
С. 56 Идеи линьи мозговой… – Как установила Е. В. Иванова, в этом стихотворении «намек на критика Акима Волынского, который в одной из своих статей 1890-х годов в журнале «Северный вестник» оповестил о зарождении «новой мозговой линии», подразумевая под этим прежде всего себя, как проповедника критического идеализма Канта и борца за идеализм (см.: ЧиЖ, с. 34).
C. 57 …дал «Детей Ванюшина» – т. е. пьесу С. А. Найденова.
C. 58 Статья об Altalen’e не принята. – Речь идет о статье с возражениями на реферат Жаботинского о критике (См. примеч. к с. 52). Набросок этой непринятой статьи Чуковского сохранился в его дневнике, см. Приложение 1, с. 417–422.
C. 60 «Памяти Толстого». – Лев Толстой заболел в Ялте тяжелым двусторонним воспалением легких. Газеты писали об опасном направлении его болезни.
C. 61 Написал около 50 строф «Евг. Онегина». – «Нынешний Евгений Онегин» – пародийный «роман в четырех песнях», опубликован в газете «Одесские новости» (25 декабря 1904 и 1 января 1905; см. также: ББП-Ч). В «романе», написанном онегинской строфой, пародист изобразил провинциальный город начала XX века и его «культурные очаги» – редакцию городской газеты, заседание Литературного общества (членом которого состоял автор), вечер в светском салоне. Наряду с пушкинскими героями, в романе действуют реальные персонажи – знакомцы Чуковского по Литературно-артистическому обществу, его коллеги-журналисты. В «Нынешнем Евгении Онегине» – фактически первом большом поэтическом произведении, написанном более чем за 10 лет до первой сказки Чуковского «Крокодил», – уже содержатся образы, рифмы, поэтические ходы некоторых его будущих сказок для детей («Крокодил» и «Муха-Цокотуха»), а ряд эпизодов вошли впоследствии в сюжетную канву мемуарной повести «Серебряный герб».
C. 65 «Рейтеру». – Первые 4 строфы этого стихотворения см. ББП-Ч, с. 193.
C. 67 …думаю… о статейке про Бунина. – К этому времени относится знакомство Чуковского и Бунина – в декабре 1902 года Чуковский, корреспондент газеты «Одесские новости», брал у Бунина интервью (см.: «Наши гости» // Одесские новости. 1902. 28, 29 дек.; ЧСС. Т. 6). Отклики см.: «Об интервью И. Бунина, данном Корнею Чуковскому – корреспонденту газеты «Одесские новости» // Литературное наследство. М., 1973. Т. 84. Кн. 1, с. 360–361; В. Лавров. В мире круга земного: За строкой автографов И. А. Бунина // Альманах библиофила. М., 1985. Вып. 19, с. 227–228. Тема «Бунин-поэт» занимала Чуковского на протяжении многих лет: от первой статьи «Об одном принципе художественного творчества» («Одесские новости». 1903. 26 февр.) – к статьям «Смерть, красота и любовь в творчестве Бунина» («Нива». 1914. № 49, 50) и «Ранний Бунин» в шестом томе Собрания сочинений (1969).
Читаю Лихтенберже о Ницше… – Упомянута книга: А. Лихтенберже. Философия Ницше / Перев. и предисл. М. Неведомского. – СПб., 1901. Отношение к прочитанному Чуковский высказал в статье «К толкам об индивидуализме» (см. ниже примеч. к с. 69).
C. 68 Должен написать письма: Андрееву… – Чуковский напечатал статью «Дарвинизм и Леонид Андреев» («Одесские новости». 1902. 21, 24 июня) и послал ее Л. Андрееву. Андреев ответил молодому критику большим письмом, где были такие слова: «Большую радость доставила мне Ваша интересная и умная статья, и я очень прошу Вас продолжить Ваше любезное внимание…» (ЧСС. Т. 5, с. 120). Завязалась переписка. К сожалению, местонахождение ответных писем К. Чуковского неизвестно.
C. 69 …следующая безграмотная заметка… – Речь идет о выступлении К. Чуковского в Литературно-артистическом обществе, известном по статье «К толкам об индивидуализме: Читано в Литературно-артистическом обществе» // Одесские новости. 1902. 13, 14 дек. (ЧСС. Т. 6).
C. 70 Вчера А. М. Федоров преподнес мне книжку своих стихов. – Рецензия на книгу стихотворений А. М. Федорова опубликована в «Одесских новостях» 26 февраля 1903 года (ЧСС. Т. 6). Об отношениях Чуковского и Федорова см. воспоминания Корнея Чуковского «Две королевы» (ЧСС. Т. 4, с. 509–522).
…выйдет в свет сборник… посвященный индивидуализму». – Эта брошюра, по-видимому, не была издана. Обнаружить ее не удалось.
1903
Напоминаем читателю, что все записи в Англии делались по новому стилю, а все публикации в «Одесских новостях» указаны по старому стилю.
C. 71…ознаменовать собою новую ступень нашего духовного развития. – Упомянут большой сборник статей «Проблемы идеализма» (под ред. П. И. Новгородцева. М., 1903), включивший статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Б. А. Кистяковского, С. Ф. Ольденбурга, С. Л. Франка и др.
…субботнее стихотворение Дм. Цензора «Цветочница». – Стихотворение напечатано в «Иллюстрированном приложении к газете “Одесские новости”» (в субботу 18 января 1903, № 5862, с. 2) и начинается словами «Купите, купите цветов!..» Размер и слова эти, повторяющиеся рефреном, и пародирует Чуковский.
C. 72 …собеседование состоится через 2 недели. – Заметка появилась в отделе «Одесская жизнь» (см. «Одесские новости». 1903. 7 февр., № 5881, с. 3).
С. 73 Маша – моя жена. – Запись в метрической книге Крестовоздвиженской церкви от 26 мая 1903 г. о женитьбе Чуковского см.: Панасенко, с. 36.
1904
C. 75…Мне хозяйка привела. – Неточная цитата из пушкинских «Песен западных славян» (7. Похоронная). У Пушкина: «Мне хозяйка родила».
Окончил корреспонденцию «о партиях». – Вероятно, речь идет о корреспонденции «С конгресса Армии спасения», напечатанной в «Одесских новостях» 18 июня (1 июля) 1904 года.
Читал З. Венгерову о Браунинге. – См. статью З. Венгеровой «Р. Броунинг и его поэзия» в «Вестнике Европы» (1893. Кн.9).
С. 76 Ну, теперь за Pendennis’a. – Упомянута «История Пенденниса» У. Теккерея.
C. 77 …Китса читал – сонет о Чаттертоне – не нравится. – Вероятно, имеется в виду стихотворение Дж. Китса «Чаттертону» («…О Чаттертон! Удел печален твой…» (перев. С. Сухарева).
C. 79 Написал корреспонденцию об иммигрантах. – См.: Еще об иммигрантах. – Тибетская «прогулка» // Одесские новости. 1904. 22 июня.
Э. С. – Вероятно, упомянут отец К. Чуковского Эммануил Соломонович Левенсон. Сведения о нем разыскала и опубликовала Наталья Панасенко (см.: Панасенко, с. 16). Поскольку брак родителей не был зарегистрирован, при крещении сын был записан (как это было тогда принято) по имени крёстного отца и по фамилии матери. Чуковский родился в Петербурге. Владимир Шубин разыскал запись о его крещении в метрической книге Владимирской церкви: Николай, сын «Херсонской губернии Ананьевского уезда Кондратьевской волости украинской девицы деревни Гамбуровой Екатерины Осиповны Корнейчуковой, незаконнорожденный» (см. сб. «Одним дыханьем с Ленинградом». Л., 1989, с. 250).
C. 80 …узнал о смерти Уотса. Написал… корреспонденцию. – См.: Джордж Уотс // Одесские новости. 1904. 24 июня, а также Приложение 1, № 27 в наст. изд.
Ты любил ее робко, эту жизнь многоцветную… – Стихотворение написано под впечатлением известия о смерти Чехова. А. П. Чехов скончался 2(15) июля 1904 года.
С. 81…статейка о Уотсе пойдет. – В. Брюсов в те годы редактировал журнал «Весы». Статья К. Чуковского «Джордж Уотс» была опубликована в № 7 за 1904 год и послужила началом его сотрудничества в брюсовском журнале.
…перевожу Свинборна для своей статейки о нем. – Рецензия К. Чуковского на книгу Суинборна появилась в «Весах» лишь через два года (1906. № 3/4).
C. 82 Предисловие к «Онегину». – К. Чуковский. Нынешний Евгений Онегин. См. примеч. к с. 61. Предисловие в печати не появилось.
C. 89 …написал корреспонденцию о Британском музее. – См.: Одесские новости. 1903. 25 окт., а также Приложение 2, № 9 в наст. изд.
C. 90…Я снял ее с нашего порога… – В дневник вклеено несколько фотографий, которые Чуковский снял в Лондоне.
C. 106 Почитаю Теннисона «Мод». – Стихотворение Алфреда Теннисона «Мод» («Maud»).
C. 113 Чехов как человек и поэт. Статья К. Чуковского. – Эта запись, вероятно, сделана после смерти Чехова. Она перекликается с выступлением К. И. в Литературно-артистическом обществе («Заметки читателя: О чеховском жизнечувствии». – Читано в Одесском Литератрно-артистическом обществе // Театральная Россия. 1905. № 27, с. 28). Интересно, что этот юношеский набросок, одно из первых известных обращений К. И. к чеховской теме, воспроизводит и структуру, и парадоксальный исследовательский метод книги К. Чуковского «Чехов» (см. кн. «Чехов», 1958, последующие издания и ЧСС. Т. 4).
C. 114 Маша – жена, Маничка – сестра.
1905
C. 115 Читаю о цензуре. Анекдоты… – Вскоре после этой записи в «Одесских новостях» появилась статья Чуковского: «Заметки читателя. I. Анекдоты» (ЧСС. Т. 6). В комментарии Е. В. Ивановой указано, что речь идет о книге «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем» (1905).
…у Бердяева («Новый Путь», III, 1904). – Упомянута статья З. С. [псевд. С. А. Бердяева] «Записки о философских прениях» [между Н. А. Бердяевым и М. Б. Ратнером] // Новый путь. 1904. № 3, с. 212–242.
С. 116 И твой сын отцу родному. – Перефразированы строки из стихотворения Н. А. Некрасова «У Трофима» («И твой внук отцу родному.»).
C. 111 «Студент», «Жидовка» – названия рассказов А. Чехова.
Вчера и третьего дня мои фельетоны. – В феврале Чуковский продолжал публиковать в «Одесских новостях» свои «Заметки читателя», 1 и 4 февр. – о лекции Н. М. Минского «Современная проблема нравственности», 16-го – о книге А. А. Яблоновского «Приключения уличного адвоката».
Читаю теперь… Евг. Соловьева. – См.: Заметки читателя: О г. Евг. Соловьеве // Одесские новости. 1905. 14 марта (ЧСС. Т. 6).
C. 117 …определяется качествами моего противника». Аскольдов. – Упомянута статья С. Аскольдова «О романтизме» (Вопросы жизни. 1905. № 2).
За 20 лет. – Название книги Бельтова (Плеханова). См. статью Чуковского «Циферблат господина Бельтова» в ЧЧС, т. 6.
…Начал писать статью об английском театре… – К. Чуковский. Об английском театре // Театральная Россия. 1905. № 13, с. 212–214; № 23, с. 385–386.
C. 118...нашел записку… – что мои «Пионеры» – прелесть»… – «Пионеры» – стихотворение Уолта Уитмена, которое перевел Чуковский.
C. 120 Я поместил… заметку о Сольнесе. – Статья «Драматический театр Коммиссаржевской. “Строитель Сольнес” Ибсена в постановке А. Л. Волынского» опубликована в журнале «Театральная Россия» (1905. № 15, с. 260–261; № 16, с. 276–278).
Гряньте, гряньте, барабаны, трубы, трубы загремите… – Первый вариант перевода стихотворения Уолта Уитмена «Бей, барабан». Впоследствии этот перевод в переработанном виде входил во все сборники переводов Чуковского из Уолта Уитмена.
«Таким невозмущаемым шагом… только в теории и отвлечениях». – Цитата из статьи А. Герцена «Концы и начала».
…пишу рецензию… об «Иванове». – Рецензия под названием «Московский Художественный театр: “Иванов”, драма Чехова» помещена в «Театральной России» (1905. № 17, с. 294–297; ЧСС. Т. 6).
Нашел у Майкова ошибку… (в «Савонароле» нужно наоборот). – Упомянуто стихотворение А. Майкова «Савонарола» (1851) из цикла «Века и народы».
C. 122 …не расходиться… до распоряжений, могущих придти с броненосца. – Речь идет о восстании на броненосце «Потемкин». Свои непосредственные впечатления от увиденного на броненосце Чуковский описал в статье «К годовщине потемкинских дней. (Воспоминания очевидца)» // Биржевые ведомости. 1906, июнь, 15. № 9342. В 1959 году, более чем через пятьдесят лет, автор переделал эту давнюю статью, назвал имена своих спутников, с которыми ездил на восставший корабль, сильно смягчил картину грабежей и пожара в гавани. Из свидетельства очевидца статья превратилась в воспоминания и в таком виде вошла в настояшее издание. См. «1905, июнь» (ЧСС. Т. 4, с. 523–539).
Басня Т. Мура «Зеркала» – Впервые: Сигнал. 1905. № 2, с. 6. См. ББП-Ч, с. 180–182.
C. 124 «Маленький Великий Лама». – Басня Т. Мура, впервые там же (см. также ББП-Ч, с. 178).
C. 126 Манифест… – 6 августа 1905 г. был издан манифест о созыве представительного органа – Государственной Думы (Булыгинской).
C. 127 Всемилостивый Манифест. – Вариант концовки перевода басни Т. Мура «Маленький Великий Лама».
1906
C. 128…в учиненном Вами Тосте. – Пояснением к этому письму Чуковского могут служить его воспоминания о Куприне. Чуковский рассказывает, как в 1905 году «…пришел к Куприну по важному и спешному делу: в качестве редактора журнала “Сигнал” я хотел упросить его, чтобы он написал для журнала рассказ– Вскоре мы очутились за столиком “Золотого якоря”– Здесь Куприн наконец подтвердил данное мне обещание написать для нашего журнала рассказ. Название рассказа – “Тост”» (ЧСС. Т. 5, с. 79).
C. 128…сейчас состою под судом… – В 1905 г. после царского манифеста о свободе печати К. Чуковский начал издавать сатирический журнал «Сигнал». Вскоре журнал был запрещен, а против Чуковского возбуждено дело «Об оскорблении величества». В 1964 году Чуковский опубликовал воспоминания под названием «Сигнал», где рассказал обо всех перипетиях этого «дела» (ЧСС. Т. 4, с. 540–573).
Пишу статью «Бельтов и Брюсов». – Статья опубликована в «Весах» (1906, № 2; ЧСС. Т. 6) под названием «Циферблат г. Бельтова». Бельтов – псевдоним Г. Плеханова.
С. 129 Читаю Thackeray’s «Humorists». – Книга Теккерея называется «The english humorists of the eighteenth century» («Английские юмористы XVIII века») и состоит из очерков, посвященных Дж. Аддисону, Р. Стилу, Дж. Свифту, Г. Филдингу, Т. Смоллетту, Л. Стерну, О. Голдсмиту и др.
Это уже 3-е дело, воздвигающееся против меня. – Чтобы продолжить существование «Сигнала», издатели переименовали его в «Сигналы». Однако и «Сигналы» быстро навлекли на себя неудовольствие властей. Против Чуковского было возбуждено новое дело, которое вел судебный следователь Ц. И. Обух-Вощатынский.
…перечел сборник памяти Чехова. – Возможно, речь идет о книге «Памяти А. П. Чехова» (Общество любителей русской словесности, 1906). Сборник открывает пространная статья Ю. Айхенвальда «Чехов. Основные моменты его произведений». Кроме того, помещены воспоминания М. П. Чехова, И. Бунина, М. Горького, А. Куприна, В. Ладыженского и А. Федорова. Эти статьи были читаны 24 октября 1904 года на торжественном публичном заседании Общества, посвященном памяти Чехова, а затем опубликованы в прессе. Вероятно, отношение Чуковского обусловлено, в основном, статьей Ю. Айхенвальда, который пишет о «психологической силе скорби и грусти», о «нравственном опустошении» – одним словом, рисует тот облик А. П. Чехова, который Чуковский постоянно опровергал.
C. 131 Зверь – домашнее прозвище мужа О. Чюминой Г. П. Михайлова.
«Пиппа проходит». – Перевод Чуковского опубликован в «Сигналах» (1906. Вып. 4, с. 4) под названием «Песня Пиппы» (см. также ББП-Ч, с.183).
C. 132 «Хамство во Христе». – Статья о книге А. С. Волжского «Из мира литературных исканий» напечатана в журнале «Весы». 1906. № 5, с. 59–63 (ЧСС. Т. 6).
С. 133 Речь Горемыкина… вежливая пощечина. – Первая Государственная Дума в ответ на тронную речь Николая II на открытии Думы 27 апреля 1906 года разработала документ (ответный адрес на тронную речь), в котором были выдвинуты требования неприкосновенности личности, гражданских свобод, полной политической амнистии, земельной реформы. Царь не принял депутацию Думы, адрес был опубликован в газетах 10 мая 1906 г., а 13 мая на дневном заседании Думы Председатель Совета Министров И. Л. Горемыкин выступил с ответом правительства на этот адрес. Из речи Горемыкина стало ясно, что реформы, которые требовали депутаты Думы, правительство отклонило. Вскоре I Государственная Дума была распущена, а Горемыкин снят с должности и заменен П. А. Столыпиным.
C. 133 …купил Менгера… – Упомянут австрийский философ Карл Менгер, автор книги «Основания политической экономии» (Одесса, 1903, русский перевод).
Жил-был штрейхбрехер молодой… – Баллада была напечатана в газете «Свобода и жизнь». 1906. 4 (17) сент. (Вариант стихотворения см.: ББП-Ч, с. 187).
C. 134 Разумихин – персонаж из «Преступления и наказания» Ф. Достоевского.
…я продал стихи… получил деньгу. – 25 мая (7 июня) 1906 года в «Народном вестнике» помещены отрывки из поэмы У. Уитмена «Европа» в переводе К. Чуковского. В 1906 году в «Ниве» печатались переводы К. Чуковского из Г. Лонгфелло, Р. Браунинга, Р. Эмерсона и У. Уитмена (см. № 9, 29, 32, 36, 41, 44, а также ББП-Ч).
С. 135 …моя заметка о Чюминой. Хочу продать издателю свою статью о Уоте Уитмене. – В 1906 году была напечатана рецензия о Чюминой, писавшей под псевдонимом «Бой-Кот» (Песня о четырех свободах. (1906) // Свобода и жизнь. 1906. 22 окт. (4 нояб.), и три статьи Чуковского об Уитмене: «Поэт-анархист Уот Уитман» (Свобода и жизнь. 1906. 25 сент. (8 окт.), «Русская Whitmaniana» («Весы». 1906. № 10) и «Уот Уитмен: Личность и демократия его поэзии» («Маяк». Литературно-публицистический сборник. СПб., 1906. Вып. 1, с. 240–256)).
…принято 5 моих стихотворений… Из благодарности к ним воспроизвожу их здесь. – Переписаны три стихотворения: «Из Эмерсона», «Из Теннисона» и «Из Пиндемонти». Из них первое и последнее печатались и поэтому исключены из настоящей публикации. Стихотворение «Из Теннисона» в печати не обнаружено. «Из Эмерсона» см.: «Брама» // Ежемес. лит. и попул. – науч. прил. к журн. «Нива». 1906. № 9, стб. 39–40.; «Из Пиндемонти» – «Сумерки в поле» и «Сумерки в городе» // Нива. 1906. № 29, с. 457. См. также ББП-Ч, с. 213, 214.
C. 137 …сейчас же напишу. – Речь идет о статье К. Чуковского «Прохожий и революция», напечатанной в газете «Свобода и жизнь». 1906. 16 (29 окт.); ЧСС. Т. 6, с. 392–397. Статья представляет собой отклик на книгу В. Розанова «Ослабнувший фетиш: Психологические основы русской революции». СПб., 1906.
…статью… снес в «Думу». – «Дума» – ежедневная газета, выходившая в С.-Петербурге с апреля по июль 1906 года.
…за «думскую» статью. – Упомянут краткий отзыв Чуковского на книгу: Первая Российская Государственная Дума: Лит. – худож. изд. / Под ред. Н. Плужанского. СПб., 1906 // Свобода и жизнь. 1906, 12 (25) нояб.
C. 141 Вспомнил старое свое стихотворение… – Стихотворение «Чудо: (Из бенгали)» («… И промолвил Саади, лукавый пророк…») было напечатано в журнале «Нива». 1906. № 32, с. 506 (ББП-Ч, с. 215).
С. 142 А тебя раздавлю я, как гадину. – Строки из стихотворения Чуковского «Его апология!» («Говорил Горемыкин Аладьину…») // Свобода и жизнь. 1906. 25 сент. (8 окт.); ББП-Ч, с. 185). Через десять лет читаем в «Крокодиле»: «Но тебя, кровожадную гадину / Я сейчас изрублю, как говядину».
Переделаю свою статью о Розанове… – Об этой статье см. примеч. к с. 137.
C. 143 Читаю Н. Бельтова «Критика наших критиков». – Н. Бельтов – псевдоним Г. М. Плеханова. Сборник «Критика наших критиков» (СПб: тип. т-ва «Общественная польза», 1906) включал статьи Плеханова против Струве, Конрада Шмидта, Масарика, статьи о Чаадаеве, о Гегеле и др., первоначально появившиеся по-русски в «Заре» и других изданиях или же по-немецки в «Neue Zeit».
С. 144 «Прохожий и Революция» прилагаю. – См. примеч. к с. 137.
C. 146 …проверить Омулевского со стороны искусства. – Статья «Аскетический талант: Омулевский и его творчество» напечатана в Ежемесячном литературном и популярно-научном приложении к журналу «Нива». 1906. № 9. Стб. 123–134 (ЧСС. Т. 9).
C. 147 Там, где тает, улыбаясь, вечер синий… – Перевод опубликован в «Ниве». 1906. № 36, с. 567.
Воспоминания Пассек. – Об этих воспоминаниях Чуковский написал статью: Татьяна Петровна Пассек и ее «Воспоминания»: [ «Из дальних лет». СПб., 1905] // Ежемес. лит. и попул. – науч. прил. к журн. «Нива». 1906. № 11. Стб. 405–418; ЧСС. Т. 9.
1907
С. 149 …о Чехове, о короткомыслии, о Каменском. – Статьи «Чехов и пролетарствующее мещанство», «О короткомыслии» и «Остерегайтесь подделок!» (Анатолий Каменский. Рассказы. Т. 1. СПб., 1907) опубликованы в «Речи» 8 (21) июля, 21 июля (3 авг.) и 1 (14) июля (ЧСС. Т. 6).
…написал… о «Белых ночах». – Рецензию на петербургский альманах «Белые ночи» см.: Речь. 1907. 16 (29) авг.
…портрет Брюсова работы Врубеля. – Этот портрет В. Брюсова помещен в № 7–9 «Золотого Руна» за 1906 год. В октябре 1906 года Чуковский писал Брюсову: «Только что увидел в “Золотом Руне” Ваш портрет, заклинаю, вышлите…» Брюсов исполнил просьбу и прислал портрет (фототипия) с надписью: «Корнею Чуковскому в залог любви. Валерий Брюсов». В сопроводительном письме 12 (25) октября 1906 года Брюсов писал: «…мне хочется хотя бы этим выразить Вам свои, право же, очень “любовные” – несмотря на краткость нашего знакомства – чувства». Портрет до настоящего времени висит в переделкинском кабинете Чуковского в его Доме-музее.
C. 150 Репин за это время вышел из Академии… – 20 октября 1907 г. И. Е. Репин адресовался к президенту Академии художеств вел. кн. Владимиру с прошением «об увольнении… от должности профессора – руководителя мастерской Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств…». Одной из причин ухода Репина послужили его разногласия с советом Академии (см.: Новое о Репине. Л., 1969, с. 16).
…Толстой… плакал при печальных эпизодах. – Речь идет о рассказе А. И. Куприна «Ночная смена». Запись Чуковского согласуется с записью Н. Н. Гусева: «26 сентября 1907. Чтение вслух рассказов Куприна “Ночная смена” и ‘Allez!”. Л. Н. читал с усилием… По окончании чтения Толстой сказал: “Как это верно! Ничего лишнего. Из молодых писателей нет ни одного близко подходящего Куприну”» (Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891–1910. М.: ГИХЛ, 1960, с. 567).
…я написал статьи о Репине, о Мережковском, о Зайцеве. – Имеются в виду статьи «И. Е. Репин», «О Мережковском» и «Отпевание индивидуализма» («Речь». 1907. 7 (20) октября, 14 (27) октября и 4 (17) ноября).
С. 151 …отвозил фельетон о Дымове. – Фельетон «Ваше сиятельство, прокачу!» (Осип Дымов. Солнцеворот. 2-е изд. СПб., 1907) // Свободные мысли. 1907. 29 окт. (11 нояб.).
«Цыганок» – разбойник из «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева.
…Толя с Матильдой. – Матильда Денисевич переменила имя «Матильда» на «Анну», когда вышла замуж за Леонида Андреева в 1908 году.
1908
C. 154 Прочитал всего Толстого и Короленку… нужно писать о Каменском в «Вечер». – Статьи о Толстом, Короленко и Каменском были вскоре опубликованы. См.: К. Чуковский. Толстой как художественный гений // Ежемес. литературное и популярно-научное приложение к журналу «Нива». 1908. № 9. Стлб. 75–104; О Владимире Короленко // Русская мысль. 1908. № 9, с. 126–139; Идейная порнография: об А. Каменском // Речь. 1908. 11 (24) дек. (ЧСС. Т. 7).
Я завтра же сажусь за «Пинкертона». – В это время Чуковский работал над статьей «Нат Пинкертон и современная литература». Одним из первых он написал о кинематографе как о социальном явлении массовой культуры и назвал его «соборным творчеством кафров и готтентотов». Впоследствии об этой работе Чуковского с одобрением отозвался Лев Толстой в разговоре с Леонидом Андреевым. См.: Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 4. М., 1980, с. 233, 460.
С. 155 …издавать всё о России. – В романе Ф. М. Достоевского «Бесы» Лиза предлагает Шатову составить по газетам и журналам настольную книгу, которая могла бы «обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год», выразить «личность русского народа в данный момент», дать «картину духовной, нравственной русской жизни за целый год» (Ч. I. Гл. 4 «Хромоножка»).
…рукопись Короленки о Толстом. – Эта статья В. Г. Короленко о Л. Н. Толстом была опубликована 28 августа в № 199 «Русских ведомостей».
«От Чехова до наших дней». – Это – сборник критических статей К. Чуковского о Чехове, Бальмонте, Блоке, Сергееве-Ценском, Куприне, Горьком, Арцыбашеве, Мережковском, Брюсове и др. В течение года книга выдержала три издания (СПб. М.: Издание Т-ва М. О. Вольф, 1908. ЧСС. Т. 6).
C. 156 Он… так хорошо и просто отнесся к этому. – Фельетон Чуковского о романе М. П. Арцыбашева «Санин» был опубликован сперва в газете «Речь» (27 мая 1907), а затем – в книге «От Чехова до наших дней» (ЧСС. Т. 6).
С. 157 …Он загладил свой позор! – Это попурри с гораздо большим числом стихотворных строк Чуковский в феврале 1920 года вписал в свою «Чукоккалу» под названием «Ходы русского хорея. Что чье? Экзамен для студистов». См.: Чукоккала, с. 348–349.
Написал о смертной казни… – Речь идет о статье «На коленях» // Утро. 1908. 22 сент.
Сажусь за работу над Ибсеном. – См.: К. Чуковский. Чему учит Ибсен: Критич. наброски // Ежемес. лит. и попул. – науч. прил. к журн. «Нива». 1908. № 12. Стлб. 637–664.
C. 158 …другие скульпторы даже не начинают». – Запись относится к 1909 году. В мае И. Е. Репин присутствовал в Петербурге на открытии памятника Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого. Газеты поместили отзыв Репина «Браво, браво, Трубецкой!». В честь скульптора Репин устроил банкет, на котором он и Трубецкой обменялись речами. Н. Б. Нордман описала все эти события в «Письме к другу» (17 июня 1909 г.), напечатанном в ее книге «Интимные страницы» (СПб., 1910).
1909
C. 161 Мой Шевченко… кажется, плох. – К. Чуковский. Шевченко // Речь. 1909. 1 (14) марта (ЧСС. Т. 9).
Альбов, Репин… Андреев. – Перечислены авторы, статьи о которых Чуковский намеревался включить в свой следующий критический сборник.
Переделать ответ по поводу Шевченка. – Имеется в виду статья «Излишнее рвение» (Речь. 1909. 9 (22) марта (ЧСС. Т. 9).
С. 162 На Посидонов пир веселый. – Первая строка баллады Шиллера «Ивиковы журавли» в переводе В. Жуковского.
C. 163 …читал свою статью о Гаршине… – Статья «О Всеволоде Гаршине (Введение в характеристику)» была опубликована в «Русской мысли». 1909. № 12, с. 117–141 (ЧСС. Т. 7).
C. 165 …Читаю «Яму» Куприна… – 15 (28) июня 1909 г. в газете «Речь» напечатана статья К. Чуковского «Куприн в “Яме”» (ЧСС. Т. 7).
…пишу коротышку об Арцыбашеве. – Дневник читателя: Об Арцыбашеве // Речь. 1909. 20 дек. (2 янв. 1910 г.)
1910
C. 166 …буду править корректуру Сологуба. – Речь идет о статье К. Чуковского «Навьи чары мелкого беса: Путеводитель по Сологубу». См.: Русская мысль. 1910. № 2, с. 70–105 (2-я паг.).
C. 169 Был у Репина… зол, как черт. Бенуашка… – Об отношениях Репина и Бенуа см. статью Чуковского «Репин и Бенуа» и комментарии к ней (ЧСС. Т. 7).
…покончил с Ремизовым… Уитмен отдельно. – Перечисленные статьи были напечатаны сперва в газетах, а затем в критических сборниках. См. книги К. Чуковского: Критические рассказы. СПб., [1911]; О Леониде Андрееве. СПб., 1911 (см. также ЧСС. Т. 7).
C. 170 …дать несколько строк о смертной казни… – Чуковский обратился к Репину, Короленко, Горькому, Толстому с просьбой дать свои статьи против смертной казни. В письме ко Льву Толстому в октябре 1910 г. Чуковский писал: «Представьте себе, что в газете “Речь” на самом видном месте появляются в черной рамке строки о казни – Ваша, И. Е. Репина, В. Г. Короленко, Мережковского, Горького – внезапно, неожиданно, – это всех поразит как скандал, – и что же делать, если современное общество только к скандалам теперь и чутко, если его уснувшую совесть только скандалом и можно пронять». В ответ на это письмо Л. Н. Толстой написал статью «Действительное средство», которую закончил в Оптиной пустыни 28 октября, за 10 дней до смерти. Чуковский получил эту статью от В. Г. Черткова в день похорон Толстого. Свои протесты против казней прислали также И. Е. Репин и В. Г. Короленко. Однако 13 ноября 1910 г. «Речь» опубликовала лишь статью Л. Н. Толстого со множеством купюр.
C. 172 Тюлин… «бедный Макар» – персонажи из рассказов В. Г. Короленко «Река играет» и «Сон Макара».
…исковеркал статью об Андрееве. – Статья «Все о том же: [О Леониде Андрееве]» напечатана в «Речи» 11 (24 июля) 1910 года.
О Мультановском деле… – В 1892 г. возникло дело группы крестьян– удмуртов («вотяков») из села Старый Мултан. Их обвинили в убийстве нищего Матюнина для принесения жертвы языческим богам. Короленко ездил в Елабугу при вторичном разборе дела и под впечатлением увиденного писал: «…приносилось настоящее жертвоприношение невинных людей – шайкой полицейских разбойников под предводительством тов. прокурора». При третьем слушании дела Короленко выступил на суде с защитительной речью, после которой, как писала «Самарская газета» (1896. № 131) «все присутствующие плакали» и подсудимые были оправданы. Уезжая в качестве защитника в Мамадыш, Короленко оставил дома тяжелобольную дочь. Позднее он записал в дневнике: «4 июня решился мултанский вопрос. Я уже боялся, почти знал, что моей девочки уже нет на свете, но радость оправдания была так сильна, хлынула в мою душу такой волной, что для другого ощущения на это время не было места». Всего о «Мултановском деле» Короленко написал десять статей (см.: Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М., 1955, с. 337–391) и победил в напряженной борьбе за спасение невинных людей и за снятие навета с целой народности.
C. 174 …Короленко… понравился последний мой фельетон об Андрееве… – См. примеч. к с. 172.
Володя, Шура, Соня и Таня – дети Т. А. Богданович.
1911
C. 175 «Утро России» назвало Шаляпина хамом. – 6 января 1911 г. во время представления оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в присутствии царя Николая II хор Мариинского театра обратился к нему с петицией об улучшении своего материального положения. Хористы бросились на колени перед царской ложей и запели гимн «Боже, царя храни». Находящийся в это время на сцене Ф. И. Шаляпин, как он объяснял позже, растерялся и опустился на одно колено. Этот инцидент был необоснованно воспринят как проявление монархических настроений Ф. И. Шаляпина и обсуждался в печати.
C. 176 …от Розанова письмо… полный разрыв. – К сожалению, письма В. В. Розанова в архиве Чуковского не сохранились, однако полного разрыва не произошло, судя по тому, что переписка продолжалась. См. письма К. Чуковского к В. В. Розанову от 17.5.11 и от 23.3.12 (ЧСС. Т. 14, с. 258, 292).
Пишу заметку о воздухоплавании. – Вероятно, имеется в виду «Авиация и поэзия». Заметка напечатана 8 (21) мая в двух газетах – в «Речи» и в «Современном слове».
«Dogland» («Собачье царство»; англ.). – Чуковский поместил свое переложение этого сюжета под названием «Собачье царство» в книге «Жар-птица: Детский сборник изд-ва «Шиповник». Кн. 1. СПб., [1912].
C. 177 Умер Альбов. – Чуковский ценил произведения Альбова, переписывался с ним, написал о нем большую статью «Бунт слабого человека в произведениях М. Н. Альбова» // Ежемес. лит. и попул. – науч. прил. к журн. «Нива». 1908. № 1. Стлб. 99–126; ЧСС. Т. 7). После смерти Альбова Чуковский напечатал о нем некролог (Речь. 1911. 12 (25) июня).
C. 179 Пишу программу детского журнала. – Отзвуки этой «программы» слышны в воспоминаниях Чуковского, написанных через сорок лет: «Я давно носился с соблазнительным замыслом – привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной “Книги для маленьких”, в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1911 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием “Жар-птица”, пригласив для участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую, а также первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарной дрянью» (ЧСС. Т. 5, с. 70). Книга вышла в 1912 г. в издательстве «Шиповник» и украшена рисунками С. Ю. Судейкина, С. В. Чехонина, М. В. Добужинского, А. Радакова и В. П. Белкина. Кроме авторов, перечисленных Чуковским, в сборник вошли и его собственные первые работы для детей.
1912
C. 181 Неужели я 10 портретов написал!.. – Портреты Толстого, о которых вспоминает Репин, написаны в 1887, 1891, 1909 годах. Кроме картин, известны этюды к ним, карандашные зарисовки, акварели. Всего насчитывается свыше семидесяти произведений Репина с изображением Толстого (см.: Р. Москвинов. Репин в Москве. Вып. 6. М.: Гос. изд-во культурно-просветит. лит-ры, 1955, с. 71).
С. 182…Борки – место крушения царского поезда 18 октября 1888 г. Крушение сопровождалось многочисленными человеческими жертвами. Однако ни сам Александр III, ни члены царской семьи не пострадали.
C. 184 Многие из «вестникознаньевцев» расспрашивали меня… – Об отношении Чуковского к журналу «Вестник знания» см. его статью «Мы и они» (ЧСС. Т. 7) и комментарии к ней.
C. 185 …Анненский… совал свой паспорт. – О даче Анненских и ее обитателях Чуковский обстоятельно и подробно рассказал в мемуарном очерке «Короленко в кругу друзей», вошедшем в его сборник «Современники» (ЧСС. Т. 5).
…написать фельетон о самоубийцах. – Фельетон под названием «Самоубийцы» опубликован в газете «Речь» 23 и 24 декабря 1912 г. (ЧСС. Т. 7).
1913
C. 187 …он, исправляя, «тронул» «Иоанна» кистью… «не удержался». – Имеется в виду картина «Иван Грозный и сын его Иван». В феврале 1913 г. Репин ездил в Третьяковскую галерею для художественной реставрации картины, которую изрезал маньяк Балашов. Подробнее об этом см.: И. Грабарь. Репин. Т. 1. М., 1937, с. 270.
…приноравливается к валетам. – Художники, объединенные в группу, именуемую «Бубновый валет», устроили в новой аудитории Политехнического музея диспут о репинской картине «Иван Грозный». М. Волошин сделал на этом диспуте доклад, в котором заявил, что Репин «перешагнул через границу художественного, и в этом именно и кроется все объяснение поступка Балашова». Оппонентами М. Волошина выступили Г. Чулков, Д. Бурлюк и др. Неожиданностью для всех (зал был переполнен) оказалось присутствие на диспуте самого И. Е. Репина, который с места возразил М. Волошину: «Мне странно, что собравшиеся здесь русские люди хотят довершить начатое Балашовым!..» Аудитория приняла сторону Репина и аплодировала его речи. Подробнее об этом диспуте см.: Утро России. 1913. 13 февр., № 36; «Голос Москвы» от того же числа, а также книгу С. Пророковой «Репин» (М., 1960, с. 359–364).
C. 190 …не могу справиться с Джеком Лондоном для «Русского Слова». – Статья о Джеке Лондоне опубликована в «Русском слове» 28 марта 1913 г. под заглавием «Дешёвка» (ЧСС. Т. 7).
C. 191 Ночной горшок тебе дороже… – Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и чернь» (1928). У Пушкина «Печной горшок тебе дороже…».
1914
C. 194 …он мне читал продолжение воспоминаний… в «Голосе Минувшего». – Речь идет о статьях И. Е. Репина «Из времен возникновения моей картины “Бурлаки на Волге” (1869–1870)» – «Голос минувшего». 1914. № 1, 3, 6.
C. 196 …какой ужас его статья о Соловьеве Владимире. – Статья И. Е. Репина о Вл. Соловьеве в «Ниве» опубликована не была; напечатана в репинской книге «Далекое и близкое» (1937).
C. 197 «Деловой Двор» – задуманная Репиным трудовая народная Академия художеств. Репин хотел создать «Деловой двор» у себя на родине в Чугуеве. Замысел осуществить не удалось.
C. 198 У меня в Москве дети и в Пб. – В Москве жили Федор, Ирина, Борис, Лидия и Татьяна – дети Ф. И. Шаляпина от его первого брака с балериной Иолой Игнатьевной Торнаги. Вторым браком Шаляпин был женат на Марии Валентиновне Петцольд, у них к этому времени было две дочери – Марфа и Марина. Шаляпин с семьей жил в Петербурге.
Книжку мою законфисковали. Заарестовали. – Речь идет о книге Чуковского «Поэзия грядущей демократии». Эта книга переводов из Уолта Уитмена в конце концов все же вышла в издательстве Т-ва И. Д. Сытина (М., 1914) с предисловием И. Е. Репина.
С. 199 Меня нарисовал… сделал свой автопортрет. – Эти рисунки Шаляпина теперь опубликованы (см.: Чукоккала, с. 100).
C. 200 …какие воспоминания?.. – и плачет опять… – Воспоминания Веры Репиной напечатаны в журнале «Нива», 1914, № 29, с. 571–572. В рецензии на книгу Пророковой о Репине Чуковский писал: «…кстати сказать, в 1914 году я написал по ее [Веры Репиной. – Е. Ч.] рассказам воспоминания об ее отце и поместил за ее подписью в “Ниве”. Очень жалею, что приписал ей авторство статьи – так как это сбивает с толку биографов Репина» (РО ГБЛ, ф. 620, оп. 14, ед. хр. 6, с. 3–4).
C. 201 Но коварный Меджикивис… – Строки из «Песни о Гайавате» Лонгфелло в переводе Ив. Бунина.
C. 203 Альбомчик – «Чукоккала». Портреты В. Шкловского и Б. Садовского напечатаны на с. 71 и 76.
…что-то из Достоевского… похоже на мухоедство. – Капитан Лебядкин в романе Ф. Достоевского «Бесы» сочиняет стихи, где есть слова: «…а потом попал в стакан, полный мухоедства».
C. 204 …я нашел фотографию для «Нивы»… для Репинского №. – К семидесятилетию И. Е. Репина «Нива» выпустила юбилейный номер (№ 29).
C. 205 Мраморной мухой назвал О. Мандельштама Велимир Хлебников.
…статейка – о Чехове… я корпел над нею с января. – Упомянута статья «Неизданное письмо А. П. Чехова к И. Е. Репину» (Русское слово. 1914. 2 (15) июля).
C. 206 …подарила наследница Ераковых – Данилова. – Говоря о Даниловой, А. Ф. Кони, по всей вероятности, имеет в виду гражданскую жену А. Н. Плещеева. Ераковы – семья родной сестры Н. А. Некрасова, А. А. Буткевич, которая в 70-е годы была гражданской женой А. Н. Еракова и воспитательницей его дочерей. А. Ф. Кони часто встречался с Некрасовым в доме Ераковых, где бывали также Салтыков, Унковский, Плещеев. Некрасов посвятил Еракову стихотворения «Недавнее время» и «Элегия». А. Ф. Кони вспоминал впоследствии: «…благодаря моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде».
…вы знаете, кто такой Арсеньев… – К. К. Арсеньев – видный адвокат и судебный деятель. В 1872 г. произошла дуэль Е. И. Утина с А. Ф. Жоховым. Жохов был убит, а Утин и секунданты обеих сторон преданы суду. Дело это привлекло общественное внимание. Литературно-общественные круги Петербурга раскололись на два лагеря – сторонников Жохова и защитников Утина. В своем дневнике А. С. Суворин вспоминает это дело и приводит свое письмо по этому поводу к К. К. Арсеньеву (подробнее см.: А. С. Суворин. Дневник. М., 1992).
C. 207 «Оранжевая книга» выпущена в издательстве «Грамотность» в 1914 г. На титуле значится: Сборник дипломатических документов. Переговоры от 10 до 24 июля 1914 года. Высочайшие манифесты о войне. Историческое заседание Гос. Думы 26-го июля 1914 г.
…рассказывают о Зимнем дворце и о Думе. – 26 июля была созвана Государственная Дума, так как Германия, а затем и Австрия объявили войну России. В Зимнем дворце Николай II обратился с приветственным словом к депутатам Думы и членам Государственного Совета. На заседании Думы, в числе других, выступили Хаустов (от Социал-демократической рабочей фракции) и Милюков (фракция Народной свободы). См.: Государственная Дума. Четвертый созыв. Заседание 26 июля 1914 г. Стенографический отчет.
1916
C. 209 …ликующее, праздно болтающее… – Перефразированы слова Н. А. Некрасова «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» из стихотворения «Рыцарь на час».
С. 210 [Сентябрь, 22] – Датируется на основании воспоминаний Чуковского: «Я познакомился с Горьким за два года до возникновения “Всемирной литературы” – 21 сентября шестнадцатого года» (ЧСС. Т. 5, с. 62).
1917
C. 212 …ай да редактор детского журнала… – В это время К. Чуковский редактировал ежемесячное иллюстрированное приложение к журналу «Нива» – «Для детей», где печатал свою сказку «Крокодил».
C. 214 «…хочу сделать правдивее». – В 1916 году Репин написал портрет Толстого, который в 1921 году был экспонирован на выставке в Нью-Йорке и в «Пенаты» не вернулся. Его местонахождение неизвестно. Судя по воспроизведению картины в каталоге выставки, Толстой изображен у крыльца яснополянского дома (сообщено Е. Г. Левенфиш).
C. 216 …Did we think victory are great. – Строки из стихотворения Уолта Уитмена «Европейскому революционеру, который потерпел поражение». Перевод цит. по кн.: Корней Чуковский. Мой Уитмен. М., 1969, с. 125.
C. 220 Пишу пьесу про царя Пузана. – Сказка «Царь Пузан» была напечатана в 1917 году в № 8 ежемесячного иллюстрированного приложения к журналу «Нива» – «Для детей» (ЧСС. Т. 1).
C. 221 …в «Англо-русское бюро»… не явился. – Об «Англо-русском бюро» Чуковский подробно рассказал в своей книге «Англия накануне победы» (Пг, изд. т-ва А. Ф. Маркс, [1916]). Несколько английских журналистов и писателей, к которым примкнули и русские авторы, сняли небольшое помещение, выписали из Англии книги и газеты и ежедневно отвечали на многочисленные вопросы русских посетителей об Англии (Указ. соч., с. 115–117).
С. 227 Ты еще не рождалась… – Судя по записи в дневнике Чуковского от 12 февраля 1965 года, это стихотворение посвящено Е. Б. Буховой (ББП-Ч, с. 199).
C. 223 …рукопись… «Что делать?» потерял. – 3 февраля 1863 года на Литейной у Мариинской больницы чиновник нашел сверток с рукописью «Что делать?».
4 февраля в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции» появилось объявление:
«ПОТЕРЯ РУКОПИСИ. В воскресенье 3 февраля во втором часу дня проездом по Большой Конюшенной… обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием “Что делать?”. Кто доставит этот сверток… к Некрасову, тот получит 50 рублей серебром».
В объявлении шла речь о рукописи первых глав романа Чернышевского. Автор уже семь месяцев находился в предварительном заключении в Петропавловской крепости, где и писал роман в промежутках между допросами и голодовками.
26 января 1863 г. начало рукописи «Что делать?» было переслано из крепости обер-полицмейстеру для передачи двоюродному брату Чернышевского А. Н. Пыпину, который передал ее Некрасову. Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, но по дороге обронил ее. Он был в отчаянии, 4 дня кряду помещал объявление в газете, а на пятый день ему принесли рукопись. Роман Чернышевского появился в «Современнике» (1863. № 3).
…вот, например, «Курдюкову»… – «Курдюкова» – комическая поэма И. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей – дан л’этранже». Мятлев спародировал европейские впечатления спесивой провинциальной барыньки, изложенные ею самой.
C. 229 …он назвал вас «белым Христом из России». – Оскар Уайльд пишет о Кропоткине в «De Profundis» (русское издание этой книги названо «Тюремная исповедь»): «Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провели в тюрьме долгие годы; и первый – единственный христианский поэт после Данте, а второй – человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России».
…читал его бескрылую книгу о русской литературе. – Речь идет о книге П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе» (1907). Книга составлена на основе курса лекций, прочитанных в США в 1901 году.
C. 234 «Черные маски», «Царь Голод», «Красный смех» – названия пьес и рассказа Леонида Андреева.
«Посмотри на цветы, что растут по стенам…» – Неточная цитата из стихотворения И. Бунина «Иерусалим». На самом деле третья строка читается так: «Погляди на цветы по сионским стенам…».
1918
C. 240 …как на картине Серова за Петром Великим… – Упомянута картина Валентина Серова «Петр I» (1907).
C. 242 …как Блоку нет. – Интересно сопоставить запись Чуковского с воспоминаниями З. Н. Гиппиус об этой встрече с А. Блоком. Оба текста совпадают иногда дословно. Ср.: О. Немеровская и Ц. Вольпе. Судьба Блока: Воспоминания. Письма. Дневники. [Л.].: Аграф, 1999, с. 227.
C. 245 Третьего дня я написал о Райдере Хаггарде. Вчера о Твене. Сегодня об Уайльде. – Речь идет о подготовке изданий, впоследствии выпущенных «Всемирной литературой» под редакцией и с предисловиями К. Чуковского: Р. Хаггард. Копи царя Соломона. 1922; М. Твен. Приключения Тома. 1919; О. Уайльд. Счастливый принц и другие сказки. 1920.
…Гумилев должен был прочитать им свою Декларацию. – Можно предположить, что «Декларация» Гумилева близка по содержанию к его статье «Переводы стихотворные» в сборнике «Принципы художественного перевода» (Пг., 1919), изданном в качестве пособия для переводчиков «Всемирной литературы».
C. 246 «Tale of two Cities» – Ч. Диккенс. Повесть о двух городах / Перев. Е. Бекетовой. Вступит. ст. К. Чуковского. Пг.: Всемирная литература, 1919; «Саломея» – пьеса О. Уайльда; доклад о принципах прозаического перевода – см.: «Переводы прозаические» в сб. «Принципы художественного перевода» (Пг., 1919); введение в историю английской литературы, по-видимому, написано не было.
1919
C. 253 …не рассуждения, а краски и образы. – Записи Горького в Чукоккале не датированы, поэтому точно установить, о какой именно идет речь, трудно. См. Чукоккалу с. 212–214.
C. 255 Леонид Андреев воззвание… А Арабажин в своей газете… – В феврале 1919 года Леонид Андреев опубликовал статью «S.O.S.», где писал: «То, что ныне по отношению к истерзанной России совершают правительства союзников, есть либо предательство, либо безумие» (Цит. по: Леонид Андреев. S.O.S. Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919) / Под ред. и со вст. ст. Ричарда Дэвиса и Бена Хеллмана. М.-СПб.: Atheneum-Феникс, 1994, с. 337). К. И. Арабажин был в это время редактором газеты «Русский листок» (1918–1919), выходившей в Гельсингфорсе.
…рецензии о поэзии Цензора, Георгия Иванова и Долинова – см.: Блок. Т. 6.
C. 256 …читал о переводах Гейне… – См.: «Гейне в России» (там же, с. 116).
C. 257 …слово гуманизм заменить словом: нигилизм. – Запись Чуковского интересно сопоставить с записью в Дневнике Блока, сделанной тогда же и о том же заседании (Блок. Т. 7).
C. 259 …Чаши с чаем, чаши с чаем… – Окончательный вариант этого экспромта см.: Чукоккала, с. 224.
C. 262 У вас там в романе… – Речь идет о романе Д. Мережковского «14 декабря» (1918).
«Христос не воскрес, Федор Иванович». – Воспоминания М. Горького о Л. Н. Толстом были впервые опубликованы несколько позже, в том же 1919 году в издательстве З. И. Гржебина. Записанный Чуковским рассказ Горького (за некоторыми исключениями) почти дословно совпадает с напечатанными воспоминаниями.
C. 264 Много его… набросков. – Хотя Горький родился в 1868 г., датой его рождения в ту пору ошибочно считали 1869-й. К 50-летию М. Горького было задумано издать сборник, посвященный юбиляру. Редактировать сборник поручили К. И. Чуковскому и А. А. Блоку. «Мы обратились к Алексею Максимовичу с просьбой помочь нам при составлении его биографии. Он стал присылать мне ряд коротких заметок о своей жизни», – пишет Чуковский в своих воспоминаниях. В «Чукоккале» на с. 220, 224 опубликованы две такие заметки.
C. 266 Мы… затеяли журнал «Завтра». – В архиве Чуковского сохранилась программа «ежемесячного внепартийного журнала “Завтра”, посвященного вопросам литературы, науки, искусства, техники, просвещения и современного быта». Сообщается, что ответственный редактор журнала – М. Горький, издатель – З. И. Гржебин, что журнал «издается независимой группой писателей».
«Программа журнала: борьба за культуру, защита культурных завоеваний и ценностей, объединение всех интеллектуальных сил страны, восстановление духовных связей с Западом, прерванных всемирной войной, приобщение России к великому Интернационалу Духа, который будет неминуемо создан – и уже создается – в ЗАВТРАШНЕЙ преображенной Европе». Издание не было осуществлено.
Институт Зубова – Институт истории искусств. Институт был основан в 1910 г. графом В. П. Зубовым и до 1920 года носил его имя.
…записал у себя… «…именно Христос». – Запись в дневнике Блока см.: Блок. Т. 7, с. 326 и 330.
…Сологуб… Отказался ответить мне на мою анкету о Некрасове. – В 1919–1925 годах К. Чуковский предложил многим поэтам и прозаикам «Анкету о Некрасове». Ему ответили Анна Ахматова, А. Блок, Н. Гумилев, М. Горький, Евг. Замятин, В. Маяковский, Б. Пильняк и др. Ф. Сологуб позже, в 1925 году, тоже ответил на вопросы «Анкеты». Все эти ответы теперь опубликованы (см. сб.: Некрасов вчера и сегодня. М., 1988; Чукоккала по указателю на с. 582).
С. 267 …полученных… за «Александра». – Упомянут роман Д. С. Мережковского «Александр I».
…Шкловский написал… про «Технику некрасовской лирики». – Имеется в виду статья В. Шкловского «Техника некрасовского стиха» в «Жизни искусства». 1919. 9, 10 июля.
[Июль-август 1919]. – Запись в дневнике, сделанная на вложенном листке, датируется на основании чукоккальского автографа Вячеслава Иванова («Чуковский, Аристарх прилежный…»), помеченного «Москва. 12 авг. 1919 года», и комментария Чуковского: «Во время моей работы в Доме Искусств мне приходилось не раз ездить в Москву по делам нашего учреждения и читать во Дворце Искусств одну или несколько лекций» (Чукоккала, с. 320). И еще одно упоминание в «Чукоккале»: «В июле 1919 года я посетил по делам “Всемирной Литературы” Москву и там прочитал несколько лекций во Дворце Искусств, которым заведовал поэт И. С. Рукавишников. Дворец Искусств помещался в том же самом доме, где теперь Союз писателей. Мне пришло в голову, что такой же “дворец” необходимо создать и в Питере» (там же, с. 317).
C. 271 Гумилев приготовил для народного издания Саути… – «Баллады» Р. Саути с предисловием Н. Гумилева вышли в 1922 г. («Всемирная литература» [Англия]. Вып. 56).
…дети читают Варвика и Гаттона с восторгом. – Баллады Саути «Варвик» и «Суд Божий над епископом» перевел В. Жуковский. Епископ Гаттон – персонаж второй баллады. В той книге баллад Саути, которую подготовил Н. Гумилев, баллада «Суд Божий над епископом» дана в переводе В. Жуковского. В своем предисловии Н. Гумилев пишет: «…благодаря переводам Жуковского и Пушкина, имя Саути гораздо известнее [в России], чем у него на родине».
C. 272 Юрий Анненков – начал писать мой портрет. – В 1922 году в издательстве «Петрополис» вышла книга Ю. Анненкова «Портреты», где на с. 57 воспроизведен портрет Чуковского. В библиотеке Чуковского хранится именной экземпляр «Портретов», а в архиве обнаружено предисловие к «Портретам», написанное рукою Корнея Ивановича. Ю. Анненков деятельно сотрудничал в «Чукоккале», на страницах которой сохранились его шаржи на Чуковского. Ю. П. Анненков – первый иллюстратор «Двенадцати» Блока. Ему принадлежат также марка издательства «Алконост» и рисунки к «Мойдодыру». Ю. П. Анненков – автор двухтомника «Дневник моих встреч» (Нью-Йорк, 1966).
…редактирую «Копперфильда» в переводе Введенского. – В брошюре «Принципы художественного перевода» (Пг., 1920), в статье «Переводы прозаические» Чуковский подробно проанализировал и достоинства, и недостатки перевода Введенского и, «проредактировав перевод… исправил около трех тысяч ошибок и отбросил около девятисот отсебятин». Однако книга не была издана. Вспоминая об этом в 1966 году, Чуковский писал: «… я пришел к убеждению, что исправить Введенского нельзя, и бросил всю работу» (подробнее об этой работе К. Чуковского, о заметках по этому поводу А. Блока и М. Горького см.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. М., 1987, с. 314).
С. 273 Я прочитал ему свою статью об Андрееве. – Вероятно, речь идет о статье «Из воспоминаний о Л. Н. Андрееве», напечатанной в «Вестнике литературы» (1919. № 11, с. 2–5).
…Горький – поручил Гумилеву редактировать Жуковского для Гржебина – См. запись от 28 октября 1919 года и примеч. к с. 271.
C. 274 …первобытные люди… похожи на Аверченко. – По-видимому, обсуждалась постановка пьесы Н. Гумилева «Гондла». Это можно заключить на основании слов Горького о «первобытных людях».
«Купчиха» – домашнее прозвище Валентины Ходасевич, художницы, племянницы поэта В. Ф. Ходасевича.
«Трилогия» Д. С. Мережковского – «Христос и Антихрист» (1896–1905).
C. 276 Горький затеял сборник. – Сборник вышел в 1922 г. (Берлин – Пг. – М.) под названием «Книга о Леониде Андрееве». В книгу вошли воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина.
C. 279 Он тоже был на два фронта оттого, что – художник. – Эту мысль Чуковский развил в своей брошюре о Некрасове «Поэт и палач» (1922). Чуковский пишет о Некрасове, что он был «двуликий, но не двуличный» и что «цельность – это качество малоодаренных натур». «Именно в этой двойственности трагическая красота его личности», – заключает Чуковский свою статью (ЧСС. Т. 8).
C. 280 Блок дал мне проредактированный им том Гейне. – «Всемирная литература» выпустила в 1920 году пятый том «Избранных сочинений Г. Гейне» под редакцией и с предисловием Блока. В этот том вошли «Путевые картины» (части первая и вторая) и мемуары. Шестой том Гейне под редакцией Блока вышел в 1922 году.
C. 281 …доклад о музыкальности и цивилизации… – См. «Крушение гуманизма» (Блок. Т. 6, с. 93). Блок прочел этот доклад на открытии Вольной философской ассоциации, а до этого – 9 апреля 1919 года – в коллегии «Всемирной литературы», где Чуковский и слышал его впервые.
…больше всего боятся, чтобы не сказалась душа. – В этой дневниковой записи слышны отзвуки разногласий с «формалистами». Об этих разногласиях Чуковский писал М. Горькому в 1920 г.: «…нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта… покуда критик анализирует, он ученый, но когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека» (Переписка М. Горького с К. И. Чуковским // Неизвестный Горький. М.: Наследие, 1994, с. 110–112). Позже, в 1924 году, Чуковский вновь вернулся к этим мыслям: «Знаю, что теперь непристойно это старомодное, провинциальное слово, что, по нынешним литературным канонам, критик должен говорить о течениях, направлениях, школах либо о композиции, фонетике, стилистике, эйдолологии, – о чем угодно, но не о душе, но что же делать, если и в композиции, и в фонетике, и в стилистике Блока – душа!.. Знаю, что неуместно говорить о душе, пока существуют такие благополучные рубрики, как символизм, классицизм, романтизм, байронизм, неоромантизм и проч., так как для классификации поэтов по вышеуказанным рубрикам понятие о душе и о творческой личности не только излишне, но даже мешает, нарушая стройность этих критико-бюрократических схем… Эта душа ускользнет от всех скопцов-классификаторов и откроется только – душе…» (ЧСС. Т. 8: Александр Блок как человек и поэт, с. 132).
С. 282 Ах, какой он пошляк!.. – Цитата из «Потока-богатыря» А. К. Толстого.
C. 283 …записку… при сем прилагаю. – В дневник вложены три относящиеся к этому времени записки М. Горького – о Саути, о Персее и о Диккенсе. На обороте каждой из них – дневниковые записи К. Чуковского. Поскольку на обороте горьковской записки о Диккенсе – запись Чуковского от 20 ноября 1919 г., по-видимому, речь идет именно об этой записке. Вот ее текст:
«К. И.! Я не смогу придти сегодня – ненормальная температура и кровь. В переводе Диккенса не усмотрел заметных разночтений между Введенским – Чуковским; – Ваша работа очень тщательна. Вот все, что могу сказать по этому поводу.
Несколько неловкостей выписаны мною на отдельном листке, вложенном в книгу.
Записка в Совнарком – должна быть подписана поименно всеми, кто пожелает подписать ее. Жму руку. А. Пешков» (17 ноября 1919, дата поставлена рукой К. Чуковского).
…я читал своего Персея. – Чуковский инсценировал для кинематографа в серии «Исторические картины» древнегреческий миф о Персее. Рукопись инсценировки см.: Архив М. Горького, ИМЛИ АН СССР, фонд А. Н. Тихонова, ед. хр. 575.
C. 284 …Блок описал… в Чукоккале. – Шуточный протокол этого заседания см.: Чукокка, ла, с. 317–321.
С. 285 …акварельный портрет Шкловского… – Этот портрет В. Шкловского воспроизведен на с. 119 книги Ю. Анненкова «Портреты» (Пг., 1922).
С. 286 Блок читал сценарий… (по Масперо). – Речь идет о пьесе А. Блока «Рамзес (Сцены из жизни древнего Египта)» (Блок. Т. 4, с. 247).
…Блок… вырвал страницу и написал вновь. – Эту вырванную Блоком страницу Чуковский вклеил в «Чукоккалу». Стихи Блока и шуточную переписку о дровах см.: Чукоккала, с. 251–255. После выхода книги «Из воспоминаний» (1959) К. Чуковский получил письмо от сына Д. С. Левина – Юрия Давидовича, в те годы кандидата философских наук. К письму Ю. Д. Левина, в котором указаны и размеры альбома отца (21х14 см, толщина 3 см), приложена его статья «Поэты о дровах». В статье, в частности, приводятся стихи Н. Лернера и Н. Гумилева в этом альбоме (РГБ, фонд 620, карт. 66, ед. хр. 81). Эта статья напечатана уже дважды – но оба раза не полностью. Сперва в 1967 году – в альманахе «Прометей» (Т. 4. М.: Молодая гвардия, с. 414–423), потом в 1996 году – под названием «Николай Гумилев и Федор Сологуб о дровах» в сборнике, посвященном 90-летию академика Д. С. Лихачева (см.: Труды отдела древнерусской литературы. Институт Русской литературы РАН. Т. 50. СПб: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1996, с. 646–648).
C. 290 …Толстому не нравилось: «стеженое одеяло». – В одной из своих статей о Слепцове Чуковский, описывая это заседание «Всемирной литературы», называет тот рассказ Слепцова, который хвалил Лев Толстой. Чуковский приводит слова Горького: «А его (Слепцова. – Е. Ч.) “Ночлег”! Отличная вещь, очень густо написанная, сколько раз перечитывал ее Лев Николаевич. И всегда с восхищением. А про сцену на печи он сказал: “Похоже на моего “Поликушку”, только у меня хуже”» (К. Чуковский. Литературная судьба Василия Слепцова // Литературное наследство. Т. 71. 1963, с. 7).
В 1919 году Горький опубликовал воспоминания о Льве Толстом (Пг.: изд-во З. И. Гржебина), но там не говорилось ни о Слепцове, ни о «стеженом одеяле». Переиздавая эти воспоминания в 1921 и 22 гг., Горький дополнил их новым отрывком. В этом отрывке Толстой говорит: «Стеганое, а не стеженое; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет…» (цит. по кн.: М. Горький. Собр. соч.: В 25 т. Т. 16. М., 1973, с. 271 (гл. XXI); то же издание. Т. 4. Варианты. М., 1976, с. 390).
Замечательный роман… в 50-х гг. издан. – Горький имеет в виду исторический роман Елены (а не Софьи, как у К. И.) Вельтман «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой». Роман был опубликован в 1867 году в «Отечественных записках» (см. Т. CLXX, с. 1–7, 215–297, 413–493, 605–705; Т. CLXXI, с. 1–61).
С. 291 О стиле Гоголя… – Упомянута книга И. Мандельштама «О характере гоголевского стиля» (Гельсингфорс, 1902).
C. 293 …стихи от Блока о розе, капусте и Брюсове были ответом на шуточное стихотворение Чуковского: «Ты ль это, Блок? Стыдись! Уже не роза, / Не Соловьиный сад, /А скудные дары из Совнархоза /Тебя манят». Стихотворение Блока, о котором идет речь в дневнике, называется «Чуковскому». Факсимиле этого стихотворения см.: Чукоккала, с. 253. В Собрании сочинений А. Блока стихотворение «Чуковскому» названо «Стихи о Предметах Первой Необходимости» (Блок. Т. 3, с. 426).
Строчка о Брюсове – «“Книг чтоб не было в шкапу ста!” / Скажет Брюсов, погоди».
C. 294 Блок принес… пародию на Брюсова… – Стихотворение называется «Продолжение “Стихов о Предметах Первой Необходимости”». Факсимиле см.: Чукоккала, с. 256–258. Эти шуточные стихи Блока в его Собрании сочинений опубликованы без второй строфы и без блоковского примечания к ней (Т. 3, с. 427). Более полный вариант стихотворения см.: Русский современник. 1924. № 3, с. 145.
…Нерадовский нарисовал в Чукоккалу – Александра Бенуа, а Яремич – Немировича. – Оба рисунка сохранились в рукописном альманахе. См. Чукоккала, с. 326–327.
1920
C. 301 Толки о снятии блокады. – 15 января 1920 г. Блок записывает в своем дневнике: «…снятие блокады Балтийского моря, мир с Эстонией».
C. 302 …побежал на свидание к Кульбабе. – т. е. к Ирине Одоевцевой (сообщено Р. Д. Тименчиком).
C. 307 …получил от Уэльса письмо – и книжки… популяризация естественных наук. – Г. Уэллс переписывался с М. Горьким и 11 февраля 1920 г. написал ему, что посылает начало своей «Истории культуры». Уэллс спрашивал, можно ли опубликовать перевод этой его книги в России.
C. 309 «И приходилось их ставить на стол». – Строки из стихотворений Блока «Зачатый в ночь, я в ночь рожден…» и «Жизнь моего приятеля».
C. 310 «Белая птица… Что за государь?» – Речь идет о стихотворении Гумилева «Дамара. Готтентотская космогония», повествующем о белой птице, разорванной на две части. …«портрет моего государя» – строка из стихотворения «Галла». «Дамара» и «Галла» опубликованы в сб. «Шатер» (1922).
…комиссар изобразительных искусств. – Н. Н. Пунин в это время был заместителем наркома просвещения А. В. Луначарского по делам музеев и охраны памятников.
C. 313 «Вечер Блока». – Вечер состоялся 21 июня в Доме искусств.
Начал с Pickwick’a… Начал «Catriona» (Stevenson) и бросил. – Перечислены английские книги: Pickwick – «Записки пиквикского клуба», «Manalive» – «Жив-человек», «Kidnapped» – «Похищенный», «Catriona» (Stevenson) – «Катриона» Стивенсона.
C. 315 Ермоловская – железнодорожная станция между Сестрорецком и Сестрорецким курортом, где Чуковский проводил лето с семьей.
Амфитеатров… написал… Обмановых… был со всем комфортом сослан… в Минусинск. – В фельетоне «Господа Обмановы» (газета «Россия», 1902, 13 янв.) автор высмеивал членов династии Романовых, в том числе Николая II. Фельетон имел большой общественный резонанс, газета была закрыта, а Амфитеатров выслан под негласный надзор в Минусинск на 5 лет. Однако уже в конце 1902 года «во внимание к заслугам его престарелого отца» он был переведен в Вологду и вскоре возвращен в Петербург.
«Ахматова и Маяковский» – См.: Дом Искусств. 1921. № 1, а также ЧСС. Т. 8, с. 518–546.
C. 317 …кончил «Муравьева и Некрасова»… – Упомянута статья о том, как Некрасов, чтобы спасти от закрытия свой журнал «Современник», прочитал на торжественном обеде оду в честь душителя Польши генерала Муравьева (Вешателя). Статья была многократно читана в виде лекции, а в 1922 году издана отдельной книжкой под названием «Поэт и палач» (ЧСС. Т. 8).
C. 318 Голичер говорил… «…тон был очень глубокий». – Разговор с Голичером на вечере у Браза подробно записан в Дневнике Блока. В частности, Блок пишет: «Вечер состоял в том, что мы “жаловались”, а он спорил против всех нас. “Не желайте падения этой власти, без нее будет еще гораздо хуже”» (Блок. Т. 7, с. 381).
C. 322 …как верна ваша статья о Маяковском!» – Статья «Ахматова и Маяковский» (см. примеч. к с. 315) до публикации была многократно прочитана в виде лекции.
C. 323 …кормила безрукого какого-то филолога. – Е. Д. Поливанова (сообщено Р. Д. Тименчиком).
C. 324 …его стихи о Солнце. – Упомянуто стихотворение Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
C. 325 …ругательства Мережковского – против Горького. – Эти слова Чуковского интересно сопоставить с записью А. Блока 17 декабря 1920 г.: «Правление Союза писателей. Присутствие Горького (мне, как давно уже, тяжелое). Статья Мережковского в ответ Уэллсу (списана у Сильверсвана)». См.: Ал. Блок. Записные книжки. М., 1965, с. 509. Статья Мережковского «Открытое письмо Уэллсу» от 10 ноября 1920 г. – ответ на серию газетных статей Г. Уэллса о России. Письмо опубликовано в эмигрантской печати: «Последние новости» (Париж). 1920. № 189. 3 дек. и «Свобода» (Варшава). 1920. № 125. 12 декабря. Мережковский пишет о Горьком: «…Вы полагаете, что довольно одного праведника, чтобы оправдать миллионы грешников, и такого праведника вы видите в лице Максима Горького. Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства.
Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит “спасение” Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись.
Знаете ли, мистер Уэллс, какою ценою “спасает” Горький? Ценою оподления…
Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький – не лучше, а хуже всех большевиков – хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тела, а этот убивает и расстреливает души. Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького…»
Далее Мережковский утверждает, что большевики – марсиане из «Борьбы миров», «они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентною чуждостью.
Вы, мистер Уэллс… знаете, что торжество марсиан – гибель не только моего и вашего отечества, но и всей планеты Земли. Так неужели же вы – с ними против нас?»
C. 326 …Андреев говорил об этом открыто… – 12 сентября 1918 г. Л. Андреев записал в дневнике: «Крал Гржебин у многих, у меня занимал, не платя, потом сделал подложные векселя. Они были протестованы и – я был тверд – выкуплены им самим, но оригиналы остались у Андреича, на всякий случай. Признаться, я всегда щадил Гржебина, он “приятный грешник” и вызывал во мне чувство больше юмора, чем настоящего осуждения.» (Леонид Андреев. S.O.S., 1994, с. 147). Об истории с подложными векселями вспоминает и М. Иорданская (там же, с. 381).
1921
C. 327 Сейчас сяду писать статью для журнала милиционеров!!! – Речь идет о журнале «Красный милиционер». Какую статью собирался написать Чуковский для этого журнала, установить не удалось.
Поехал один я… остальные отказались. – Ю. Анненков тоже вспоминает «морозные сумерки 1919 года», когда он с Гумилевым и какой-то девушкой по настоянию Каплуна ездил в новый крематорий. (См.: Ю. Анненков. Дневник моих встреч: Цикл трагедий: В 2 т. Т. 1. Л.: Искусство, 1991, с. 91–94.)
C. 331 Лида ушла к Ткачатам… – т. е. в семью своей одноклассницы Тани Ткаченко.
…Лида и Коля самочинно явились домой… – Из-за того, что младший сын заболел скарлатиной, К. И. на время переселил старших детей в Дом искусств.
С. 332 «Почему вы пишете ужь, а не ужъ?» – В первом издании поэмы «Двенадцать» (Пг.: Алконост, 1918), выпущенном тиражом 300 экземпляров, слово «ужь» напечатано с мягким знаком (см., например, с. 63). В архиве Чуковского хранится нумерованный (шестьдесят второй) экземпляр этого издания с дарственными надписями Александра Блока и Юрия Анненкова.
…отвечал на вопросы с удовольствием. – В 1919 году Чуковский начал писать книгу об Александре Блоке и «пользовался всякой встречей с поэтом, чтобы расспрашивать его о том или ином из его стихотворений» (Чукоккала, с. 244).
C. 335 …Мария Александровна Врубель. – Сестру художника Врубеля звали Анна Александровна.
…нам (поэтам) теперь – смерть. – См. «О назначении поэта» (Блок. Т. 6, с. 160).
С. 336 …люди… могут так горячо отозваться на чужую обиду. – Когда Уэллс приехал в Петроград, Горький попросил Чуковского показать Уэллсу какую-нибудь петроградскую школу. Чуковский повел его в Тенишевское училище, расположенное напротив издательства «Всемирная литература». Там учились трое детей Корнея Ивановича. Школьники, перебивая друг друга, называли прочитанные ими книги Уэллса. Через несколько дней Уэллс зашел в какую-то другую школу, где никто из учеников не слышал его имени и не знал ни одной его книги.
По возвращении в Англию Уэллс выпустил книгу «Россия во мгле», где, между прочим, писал: «…мой литературный друг, критик г. Чуковский, горячо желая показать мне, как меня любят в России, подготовил эту невинную инсценировку, слегка позабыв о всей серьезности моей миссии». Чуковского оскорбило предположение Уэллса, что он подстроил сцену в школе. На самом деле Тенишевское училище славилось своими замечательными учителями, многие ученики писали стихи, участвовали в школьных рукописных журналах, уровень их знаний был высок. Подробнее этот эпизод и свидетельства очевидцев см. в статье: К. Чуковский. Фантасмагория Герберта Уэллса (ЧСС. Т. 4).
Боба начал писать стихи – былину о пружинщиках. – Эта былина записана в «Чукоккале» (см.: Чукоккала. М.: Премьера, 1999, с. 164–166).
C. 342 Блок… ничего не знал о кронштадтских событиях. – 28 февраля началось восстание кронштадтского гарнизона. 2 марта восставшие арестовали командование флота и создали свой штаб. Блок упоминает о событиях в Кронштадте и о своем посещении Лавки писателей в последнем чукоккальском стихотворении: «Как всегда, были смутны чувства, / Таял снег, и Кронштадт палил. / Мы из Лавки Дома искусства / На Дворцовую площадь шли…» (Чукоккала, с. 260–261).
Вчерашнее происшествие с Павлушей очень взволновало детей. – В такой завуалированной форме упомянуто в дневнике о судьбе Павлуши Козловского, сыне генерала Козловского, командовавшего в Кронштадте артиллерийской крепостью. Генерал Козловский был объявлен руководителем Кронштадтского мятежа, а его жена и дети – арестованы. Дети генерала Козловского учились вместе с детьми К. Чуковского в Тенишевском училище. Через много лет Лидия Чуковская пишет в своем дневнике: «Кронштадт для меня – это детство и наш барометр: виден или застлан туманом; потом, в Тенишевском, Саша и Павлик и Люля Козловские – за ними приезжали из ЧК – мальчиков (15–16 лет) – вернули через несколько дней, а Люлю, лет 9-ти, отец, генерал Козловский, бежавший в Финляндию, – через некоторое время выкрал… (Интересно, в скобках, что Сашу и Павла все же не арестовали тогда, а в 37-м – арестовали)… Да, уханье орудий с боевых кораблей не так было страшно, как страшно теперь читать это кровавое сочинение и списки расстрелянных. Тогда были „спутаны чувства“, а теперь… прояснились по поводу Кронштадта, но кровь льется реками» (2 марта 94. Дневник, архив Е. Чуковской). Запись сделана во время чтения вступительной статьи В. П. Наумова и А. А. Косаковского к публикации документов о Кронштадтской трагедии 1921 года (Вопросы истории, 1994. № 4). Там, в частности, сообщается: «Бывший генерал Козловский и его сподвижники объявлялись вне закона. За этим последовали репрессивные акты в отношении их родственников. 3 марта в Петрограде были произведены аресты лиц, совершенно не причастных к кронштадтским событиям. Их брали в качестве заложников. В числе первых была арестована семья Козловского… Вместе с ними были арестованы и сосланы в Архангельскую губернию все их родственники, в том числе и дальние» (Указ. соч., с. 7).
С. 343 Зачем статья Блока?.. – В журнале «Дом искусств» № 1 (1921 г.) помещена статья А. Блока «“Король Лир” Шекспира».
C. 344 …издание «Лермонтова», изданного под его, Блока, редакцией. – М. Ю. Лермонтов. Избранные сочинения в одном томе. Редакция, вступит. ст. и примеч. Александра Блока. Берлин – Пг.: изд-во З. И. Гржебина, 1921.
C. 346 Сегодня вечер Блока. – Вечер был устроен в зале Государственного Большого драматического театра под эгидой Дома искусств.
…мы снялись у Наппельбаума… – М. С. Наппельбаум сфотографировал Блока после вечера в Большом драматическом театре – и одного, и вместе с Чуковским. Эти фотографии оказались в числе последних снимков Блока.
C. 348 «Через двенадцать лет». – Цикл стихотворений посвящен Ксении Михайловне Садовской.
С. 349 С нами был Алянский… – По воспоминаниям С. Алянского, «в дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. Желая отвлечь Блока, Корней Иванович занимал поэта веселыми рассказами… Блок много смеялся и, казалось, порой совсем забывал о болях.
Когда Блок вернулся в Питер, то первое, о чем он рассказал Любови Дмитриевне на вокзале, было – как мы ехали в Москву и как всю дорогу Чуковский заговаривал ему больную ногу веселыми рассказами и удивительными историями.
– И знаешь, – добавил он, – заговорил: я совсем забыл о ноге. Вся дорога, по выражению Блока, прошла в “чуковском ключе”» (С. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М., 1972, с. 134).
C. 350 …вышел и прочел… по-латыни, без перевода. – В статье «Последние годы Блока» (Записки мечтателей. № 6. Пг.: Алконост, 1922, с. 162) Чуковский подробно описывает это выступление и цитирует те латинские стихи, которые Блок тогда прочитал. Это – эпитафия Полициана, вырезанная на могильной плите художника Фра Филиппо Липпи. Художник похоронен в Сполетском соборе. Перевод эпитафии Полициана входит в цикл «Итальянские стихи».
C. 351 …наше действо казалось ему скукой и смертью. – В статье «Умер Александр Блок», написанной на смерть Блока, Маяковский вспоминал: «Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о Прекрасной Даме, – дальше дороги не было. Дальше смерть» (Газета «АГИТ-РОСТА», М., 1921, № 14, 10 авг.; В. Маяковский. Полн. Собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961. Т. 12).
C. 353 …вышел какой-то черный тов. Струве. – А. Ф. Струве, автор стихотворных сборников, статей, брошюр. В 1909 г. Блок так отозвался об одной из его книг: «И по содержанию и по внешности – дряхлое декадентство, возбуждающее лишь отвращение» (Блок. Т. 5, с. 647). В 1920–21 гг. А. Ф. Струве заведовал литературным отделом Московского Губ. Пролеткульта, читал лекции на темы: «Теория ритма», «Танцы под слово» и проч. В одной из таких лекций говорилось: «Есть особые ритмы в группировке слов, есть особая динамика, – и все это дает жизнь произведениям искусства» (РГАЛИ, ф. 2085, оп. 1, ед. хр. 970). Судя по записи Чуковского, на вечере Блока Струве излагал приблизительно те же взгляды.
C. 358 …прочитал… рассказ «Дневник Исходящей». – Рукопись этого рассказа Льва Лунца под названием «Исходящая № 37» сохранилась в архиве Чуковского (РО ГБЛ, ф. 620). Рассказ опубликован в «Книжном обозрении» (1988. № 39).
C. 364 …перепечатан фельетон И. Сургучева о нем. – См.: И. Сургучев. М. Горький: (Психологический этюд) // Последние известия (Ревель). 1921. № 127. 30 мая.
С. 374 …я написал Коле укоризненное письмо. – Это письмо напечатано в сб.: Жизнь и творчество Корнея Чуковского. М., 1978, с. 183–185. См. также КЧ-НК, с. 368–370.
C. 378 …я читал Гершензона «Видение поэта»… – Упомянута книга М. Гершензона «Видение поэта» (М.: Гиз, 1919).
C. 379 Лида написала пьесу о Холомках. – Имеется в виду пьеса «Каракакула». Ее текст утрачен.
C. 382 …все это превратилось в длинную тоску по Александру Блоку. – В Порхове Чуковский получил письма из Петрограда с известиями о последних днях Блока и о его кончине. Из этих писем опубликованы две записки от Е. Ф. Книпович (ЧСС. Т. 5, с. 194; Чукоккала, с. 372). В архиве Чуковского (РГБ, ф. 620) сохранилось письмо от Е. И. Замятина, написанное 8 августа: «Вчера в половине одиннадцатого утра – умер Блок. Или вернее: убит пещерной нашей, скотской жизнью. Потому что его еще можно – можно было спасти, если бы удалось вовремя увезти за границу. 7 августа 1921 года такой же невероятный день, как тот – 1837 года, когда узнали: убит Пушкин. <…> Вас нет – и приютская наша жизнь! – удастся ли вызвать Вас, дойдет ли телеграмма? Похороны в среду, конец недели – вечер памяти Блока – как же без Вас?» (См.: Е. И. Замятин и К. И. Чуковский. Переписка (1918–1928) / Вступ. ст., публ. и коммент. А. Ю. Галушкина // Евгений Замятин и культура ХХ века. СПб., 2002, с. 210.)
C. 386 …сделать это центром статьи. – Книга Габриэле Д’Аннунцио была выпущена «Всемирной литературой» в 1923 году с предисловием Г. Л. Лозинского. К этому времени Амфитеатров уже уехал из России, и его статья, о которой пишет Чуковский, в книгу не вошла.
…вышли сразу три мои книжонки о Некрасове… – Речь идет о книжках «Поэт и палач», «Жена поэта» и «Некрасов как художник», выпущенных в издательстве «Эпоха» в серии «Некрасовская библиотека».
…брошюры Максимова. – В. Е. Евгеньев-Максимов. Жизнь и поэзия Некрасова (Пб., 1921) и Некрасов (Пб., 1921).
«Собрание стихотворений Некрасова» (под моей редакцией) гаже всего, что можно себе представить. – Речь идет об издании: Стихотворения Н. А. Некрасова / Изд. испр. и доп. под ред. [и с предисл.] К. Чуковского. С биогр. очерком В. Евгеньева-Максимова. – Пб.: Гос. изд-во, 1920. Этот резкий отзыв характерен для Чуковского, постоянно недовольного собой. Позже, в своих выступлениях, он так говорил об этом первом советском издании Некрасова: «Едва только молодая Советская власть организовала, в условиях блокады и гражданской войны, Литературно-издательский отдел, она наметила одной из первых его задач издание первого советского собрания стихотворений Некрасова, очищенного, насколько возможно, от тех грязных и отвратительных пятен, которые оставила на его страницах цензура. Издание это было поручено мне, оно вышло в 1920 году, и я должен сказать по совести, что, хотя в нем и были исправлены многие тексты – все же эта книга была не свободна от многих очень существенных изъянов и промахов—»; «Эта книга вышла истинным чудом, потому что тогда была полная типографская разруха»; «Издание вышло в 1920 году, и с тех пор вплоть до 1954 года я состоял редактором всех собраний сочинений Некрасова» (Корней Чуковский. Несобранные статьи о Н. А. Некрасове. Калининград, 1974, с. 20, 77, 61).
C. 388 От Кони – хвалебное письмо по поводу моих книжек о Некрасове. – В письме от 18 декабря А. Ф. Кони писал К. Чуковскому: «Придя домой, я оставил всякую работу и принялся за Вашу книжку о жене Некрасова – и не мог оторваться от нее…во мне говорит старый судья, и я просто восхищаюсь Вашим чисто судейским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим “руководящим напутствием”, Вашим “resume” дела о подсудимых – Некрасове и его жене. Ваша книга настоящий судебный отчет, и Ваше “заключительное слово” дышит “правдой и милостью”. Давно не читал я ничего до такой степени удовлетворяющего нравственное чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно доверчивым обвинениям… и вторую книжку прочел с великим удовольствием… Эта книжка настоящее анатомическое вскрытие поэзии Некрасова» (РГБ, ф. 620; см. также ЧСС. Т. 8, с. 617).
…он читал мне… статью об Иннокентии Анненском. – Статью В. Ходасевича «Об Анненском» см. в сб. «Феникс» (М.: Костры, 1922).
C. 389 …стало ясно, какую рану представляет для нее эта глупая заметка Чудовского. – Упомянута статья В. А. Чудовского «По поводу одного сборника стихов: “Корабли” А. Радловой» (Начала. 1921. № 1).
…Она стала читать… либретто… – Либретто не дошло до нас. В статье «Анна Ахматова и Александр Блок» академик В. М. Жирмунский пишет: «В списке утраченных произведений, сохранившихся в библиографических записях Ахматовой, под № 1 упоминается либретто балета “Снежная маска”. По Блоку, 1921» («Русская литература». 1970. № 3, с. 74). Д. Максимов записал слова Ахматовой: «К сожалению, рукопись либретто не сохранилась, осталась только обложка» (1959). Цит. по ст.: Д. Максимов. Ахматова о Блоке // Звезда. 1967. № 12, с. 190.
С. 390 …прочитала о Блоке – я разревелся и выбежал. – Вероятно, речь идет о стихотворении «А Смоленская нынче именинница…». Стихотворение написано Ахматовой в 1921 году на смерть Блока.
C. 391 …посвящу ему свою книжку о Блоке. – Первое издание «Книги об Александре Блоке» (Берлин: Эпоха, 1922) открывается посвящением: «Милому другу Ю. Анненкову».
Приложение 1 Конспекты по философии
В этом отделе собраны конспекты по философии, соображения о читаемых статьях, наброски первых собственных статей Чуковского, сохранившиеся в первой тетради дневника за 1901–1903 год.
C. 394 ВВ упрекает Бельтова в противоречии. – Эта и несколько следующих записей касаются заметок при чтении статьи В. В. (псевд. Василия Павловича Воронцова) «Очерки современных направлений. Экономический материализм на русской почве. (Н. Бельтов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю) // Новое слово. СПб. 1895, ноябрь. № 2, с. 100–135 и № 3, с. 12–77.
C. 406 …«ликующие»… «великое дело любви». – Цитаты из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».
C. 424 …статейки Лосицкого… (По поводу статьи Пешехонова в «Русском Богатстве», 97, VII). – Речь идет о статье А. Лосицкого «Русская деревня в “идиллическом” изображении и в действительности» // Научное обозрение (СПб.). 1898. № 11, с. 1905–1918. Автор полемизирует со статьей Пешехонова «К вопросу о роли собирателей земли в русском земледельческом производстве» (Русское богатство. 1897, июль).
C. 431 …какое близкое отношение имеет Аполлон к печному горшку… – Перефразировано стихотворение Н. А. Некрасова «Железная дорога»: «Или для вас Аполлон Бельведерский / Хуже печного горшка?»
C. 439 …сборник, посвященный Н. К. Михайловскому и Н. Бердяеву. – См.: Л. З. Слонимский. Наши направления // Вестник Европы. СПб., 1901. Кн. 12, с. 808–824. Из подзаголовка следует, что в статье речь идет о двух книгах: 1) На славном посту (1860–1900). Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. СПб., 1901, и 2) Николай Бердяев. Субъективизм и идеализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском / С предисл. Петра Струве. СПб., 1901.
C. 441 …г. Altalena может сказать. – Здесь и далее (под датами 2–11 января) набросок статьи с возражениями Altalen’e на его реферат о критике. См. 1902, примеч. к с. 52 и 55.
C. 447 Щеглов противополагает Толстого Ницше. – Речь идет о книге В. Г. Щеглова «Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их мировоззрения». Ярославль, 1898. Взгляды молодого Чуковского на книгу Льва Шестова «Добро в учении гр. Толстого и Фридриха Ницше» (СПб., 1900) см. также в его статье «К толкам об индивидуализме» (Одесские новости. 1902. 13, 14 дек. или ЧСС. Т. 6).
C. 455 …«уши, ваших понежней»… – строка из басни И. Крылова «Квартет».
C. 460 …жить, жить, жить! – Записанное под этой датой представляет собой набросок статьи «Дарвинизм и Леонид Андреев». См.: ЧСС. Т. 6, с. 246–252.
Приложение 2 Корреспонденции из Лондона
В качестве приложения к дневнику публикуются корреспонденции молодого Чуковского из Лондона, позволяющие представить себе его тогдашнюю жизнь полнее, чем это отразилось в дневниковых записях.
Все корреспонденции помещены в «Одесских новостях» с подзаголовком: Лондон (От нашего корреспондента). Из 89 опубликованных за время пребывания Чуковского в Лондоне статей (июнь 1903 – август 1904) нами отобраны 33. Публикуемые в настоящем томе корреспондеции не всегда имели заголовок. Ради удобства комментирования они расположены и пронумерованы нами в хронологическом порядке. Печатаются корреспонденции, которые повествуют о том, что поразило автора в английских нравах, и те, которые дают представление о литературных и художественных вкусах Чуковского. Корреспонденции, касающиеся политических сюжетов: Русско-японской войны, парламентских заседаний, падения кабинета и т. п., написанные на злобу дня, – теперь устарели и в эту публикацию не включены. Статьи печатаются полностью, за исключением № 15, 16, 26 и 32, где сделаны сокращения, отмеченные знаком <.>.
Ниже перечислены названия публикуемых корреспонденций. Если нет заглавия, дан порядковый номер статьи, дата ее публикации в «Одесских новостях» (по старому стилю) и номер газеты:
1. [Без/загл.] – 1903. 19 июня. № 6003.
2. Об иностранцах. – 1903. 5 авг. № 6046.
3. Английские клерки и «Лакомый кусочек». – 1903. 26 авг. № 6065.
4. [Без/загл.] – 1903. 31 авг. № 6069.
5. [Без/загл.] – 1903. 9 сент. № 6078.
6. В защиту. – 1903. 22 сент. № 6089.
7. [Без/загл.] – 1903. 24 сент. № 6091.
8. [Без/загл.] – 1903. 12 окт. № 6108.
9. Британский музей. – 1903. 25 окт. № 6120.
10. [Без/загл.] – 1903. 30 окт. № 6124.
11. «Собачий процесс». – 1903. 6 нояб. № 6132.
12. Казарменная филантропия. – 1903. 8 нояб. № 6134.
13. О буржуазности. – 1903. 10 нояб. № 6136.
14. Единение народов. – 1903. 11 нояб. № 6137.
15. [Из статьи «О г. Прилукере»] – 1903. 1 дек. № 6155.
16. [Без/загл.] – 1903. 2 дек. № 6156.
17. Вильям Стэд и его проекты. – 1903. 13 дек. № 6166.
18. Нищие в Лондоне. – 1903. 17 дек. № 6170.
19. Бутербродные люди. – 1903. 24 дек. № 6177.
20. Характерное дело. – 1904. 14 янв. № 6194.
21. В. В. Верещагин. – 1904. 8 апр. № 6274.
22. Автобиография Спенсера. – 1904. 18 апр.
23. Война и мальтузианство. – 1904. 22 апр. № 6288.
24. Оскар Уайльд и его пьеса. – 1904. 4 мая. № 6299.
25. Спиритизм в Англии. – 1904. 28 мая. № 6318.
26. Хрустальный дворец. – 1904. 3 июня. № 6324.
27. Джордж Уотс. – 1904. 24 июня. № 6345.
28. Годовщина колледжа. – 1904. 8 июля. № 6358.
29. Годовщина колледжа (Продолжение). – 1904. 16 июля. № 6366.
30. Англичане и Чехов. – 1904. 22 июля. № 6372.
31. Митинги в Гайд-парке. – 1904. 28 июля. № 6377.
32. Об английском театре. – 1904. 6 авг. № 6386.
33. Уайтчепель. – 1904. 8 авг. № 6387.
С. 462 Фритрэдер – представитель движения за свободу торговли и невмешательства государства в частную предпринимательскую деятельность.
C. 467 Джингоизм (от jingo – джинго, кличка английских шовинистов) – термин для обозначения крайне шовинистических воззрений; вошел в употребление в Великобритании в конце 70-х гг. XIX в.
C. 475 «Монна Ванна» – пьеса М. Метерлинка. Принчивалле – полководец, персонаж пьесы, который соглашался снять осаду с города Пиза, если жена начальника пизанского гарнизона Гвидо Джованна (Монна Анна) придет к нему на свидание. Монна Анна приходит, Принчивалле объясняется ей в любви, но Монна Анна говорит, что любит своего мужа.
С. 477 …наши «Бездны» и «Туманы», данные Андреевым… – «Бездна» (1902) и «В тумане» (1902) – названия рассказов Л. Андреева.
C. 485 Джон Буль – юмористическая кличка англичанина, на карикатурах – обычное олицетворение Англии. Впервые имя употреблено Свифтом.
C. 491 …«от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови». – Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».
мисс Гранди – собирательный образ английского пуритантизма.
C. 493 В чем состоит существо человека?.. – Строки из стихотворения Генриха Гейне «Вопросы» (цикл «Северное море»).
C. 495 …Небо здесь воскресить на земле. – Неточная цитата из стихотворения Аполлона Майкова «Муза, богиня Олимпа, вручила две звучные флейты…».
C. 498 «Ты жалкий и пустой народ». – Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Последнее новоселье».
C. 503 …предсказала ему белградскую катастрофу задолго до июня. – В ночь на 10 июня 1903 г. заговорщики проникли в королевский дворец, закололи штыками короля Александра и его жену Драгу и трупы их выбросили из окон дворца. В стране произошел государственный переворот. К власти пришла конкурирующая династия Карагеоргиевичей. Заговор устроила офицерская организация «Черная рука». Впоследствии очередной жертвой террористической организации «Черная рука» стал австро-венгерский эрцгерцог Франц-Фердинанд. В конце концов локальный югославский конфликт спровоцировал Первую мировую войну.
Комментарии Е. Ц. Чуковской
Краткий хронограф жизни и творчества К. Чуковского[233]
1882, 19 (31) марта – родился в С.-Петербурге.
1885 г. – переезд в Одессу.
ок. 1898 – исключен из гимназии.
1901
24 февраля – первая запись в дневнике (есть ссылки на ведение дневника и в предыдущие годы).
Конец марта – поездка из Одессы в Николаев.
27 ноября – первая статья в «Одесских новостях» – «К вечно юному вопросу».
1902
Январь – пишет возражение Altalen’е на его статью о критике в «Одесских новостях» 20 декабря 1901 года. Это возражение в печати не появилось.
Статьи в «Одесских новостях» и журнале «Театр», выступления в одесском Литературно-артистическом обществе.
1903
Март—апрель – поездка в Москву и Петербург и статьи об этом в «Одесских новостях».
26 мая – венчание с Марией Борисовной Гольдфельд в Одессе, в Крестовоздвиженской церкви.
Июнь – отъезд с женой в Лондон через Берлин.
19 июня – первая корреспонденция из Лондона.
1904[234]
2 июня – рождение в Одессе сына Николая.
27 июля – получает известие, что его статья об английском художнике Уотсе принята Валерием Брюсовым для напечатанья в «Весах».
8 августа – последняя корреспонденция из Лондона. Всего напечатано за это время 89 корреспонденций.
4–24 сентября – возвращение в Одессу из Лондона на пароходе «Гизелла».
Октябрь – декабрь – в Одессе, завершение работы над «Нынешним Евгением Онегиным».
1905
Март – приезд в Петербург и начало публикаций в петербургской печати.
Июнь – в Одессе. В июне – восстание на броненосце «Потемкин», поездка на восставший корабль.
Осенью – отъезд в Петербург. После манифеста 17 октября – редактор-издатель журнала «Сигнал». Вышло четыре номера.
2 декабря – первый вызов к следователю по особо важным делам Ц. Обух-Вощатынскому и арест.
11 декабря – освобожден из-под ареста под залог в 10 тысяч рублей, внесенных за него М. К. Куприной.
1906
30 января – Новая повестка от следователя Обух-Вощатынского, т. к. вместо «Сигнала» Чуковский стал издавать журнал «Сигналы».
Февраль – бегство в Меддум (станция Двинск под Псковом).
Март – возвращение в Петербург. 22 марта в Особом присутствии Судебной палаты слушалось дело по обвинению редактора журнала «Сигнал» в напечатании и распространении статей, заключающих в себе отзывы, оскорбительные для Государя Императора. Защищал подсудимого О. О. Грузенберг. Первоначальный приговор – заключение на полгода в крепость и лишение на 5 лет права редактировать и издавать повременные издания – был отменен. Журнал «Сигнал» был закрыт навсегда.
Сентябрь – декабрь – анкета в газете «Свобода и жизнь» на тему «Революция и литература». Статьи в «Весах» и в «Ниве».
С конца 1906 года поселяется недалеко от Петербурга в Финляндии в Куоккале (ныне поселок Репино).
1907
11 марта – рождение дочери Лидии.
9 сентября – знакомство с И. Е. Репиным.
В течение всего года – статьи в «Речи», в «Ниве», в «Свободе и жизни» и др.
1908
Май—июнь – перевод сказок Р. Киплинга.
В течение года трижды переиздан первый сборник критических статей «От Чехова до наших дней». Вышли книги: «Нат Пинкертон и современная литература» и «Леонид Андреев большой и маленький». Многочисленные статьи в периодической печати.
1909–1912
1910, 20 января – «Репин в три сеанса написал мой портрет».
1910, 30 мая – рождение сына Бориса.
1911 – Сб.: Критические рассказы. СПб.: Шиповник; Матерям о детских журналах. СПб.: Рус. скоропечатня; О Леониде Андрееве. СПб.: Рус. скоропечатня.
1912 – редактирует для «Нивы» Собрание сочинений Оскара Уайльда.
1912, март – апрель – Поездка в Киев, Минск, Гомель, Витебск с лекцией об Оскаре Уайльде «Религия красоты и религия страдания».
В Куоккале. Статьи для периодической печати.
1913
16 января – поездка с И. Е.Репиным в Москву, т. к. маньяк повредил репинскую картину «Иван Грозный и сын его Иван».
Сентябрь – октябрь – поездка в Минск, Витебск, Смоленск, Двинск, Либаву, Гомель, Бобруйск с лекцией «Искусство грядущего дня» (Русские поэты-футуристы).
Октябрь – лекция «Искусство грядущего дня» в зале Тенишевского училища.
Ноябрь – лекция о футуристах на Высших (Бестужевских) курсах.
В Куоккале. Статьи для периодической печати.
1914
20 июля – первые записи в альманахе «Чукоккала».
В Куоккале. Статьи для периодической печати.
Сб.: Лица и маски. СПб.: Шиповник; Книга о современных писателях. СПб.: Шиповник (2-е изд. Критических рассказов).
Эгофутуристы и кубофутуристы; Образцы футуристических произведений: Опыт хрестоматии // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22, с. 95–135, 137–154.
1915
4 апреля – лекция «Жертва своей гениальности» (Из жизни Достоевского по неизданным материалам) в зале Тенишевского училища.
В Куоккале. Статьи для периодической печати.
Заговорили молчавшие: Томми Аткинс на войне. Пг.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркс.
1916
Февраль – март – вторая поездка в Англию, на этот раз в составе делегации русских журналистов по приглашению британского правительства. Знакомство с Гербертом Уэллсом, Конан Дойлом, другом О. Уайльда Робертом Россом. Делегацию принимал король Англии.
21 сентября – знакомство с А. М. Горьким – они вместе едут к И. Е. Репину в «Пенаты».
В Куоккале. Статьи для периодической печати.
Заговорили молчавшие. Изд. 2-е, 3-е, 4-е.
1917
Январь – лекции «Поэзия грядущей демократии» (Жизнь и творчество Уолта Уитмена) и «Больная Россия и ее целитель Горький».
20 июня – пишет для детского спектакля в Куоккале сказку «Царь Пузан».
4 октября – последний приезд в Куоккалу перед закрытием границы с Финляндией.
Англия накануне победы. Пг.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркс.
Редактирует журнал «Для детей», выходящий приложением к «Ниве». В журнале печатается с продолжением первая сказка «Крокодил».
1918[235]
24 января – заседание «Комиссии по изданию русских классиков при Комиссариате Народного просвещения», где Чуковскому поручено редактировать Некрасова.
Лето – с семьей на станции Ермоловская (между Сестрорецком и Сестрорецким курортом).
28 октября – «Тихонов пригласил меня недели две назад редактировать английскую и американскую литературу для “Издательства Всемирной Литературы при Комиссариате Народного Просвещения”, во главе которого стоит Горький».
1919
12 января – читал в Обществе профессиональных переводчиков доклад «Принципы художественного перевода».
18 апреля – переезд на новую квартиру, на Кирочную.
28 июня – открытие Студии художественного перевода при издательстве «Всемирная литература» в «Доме Мурузи» (Литейный, 24). На открытии выступили К. Чуковский и Н. Гумилев.
Июль – поездка в Москву с чтением лекций в московском Дворце искусств.
19 ноября – участвует в открытии в Петрограде Дома искусств.
Участие в заседаниях Коллегии «Всемирной литературы», лекции, предисловия к готовящимся книгам Хаггарда, Марка Твена, Оскара Уайльда.
1920
24 февраля – рождение дочери Марии (Мурочки).
Сентябрь – приезд Герберта Уэллса в Россию.
20 сентября – Лекция «Ахматова и Маяковский» (Две России) в Доме искусств.
6 декабря – Лекция «Некрасов и Муравьев» в Доме искусств.
Работа во «Всемирной литературе», в Доме искусств, в Студии художественного перевода. Лекции, заседания.
1921
2 января – поездка с Б. Каплуном и балериной Спесивцевой в Крематорий.
15 февраля – поездка с М. Добужинским в Псковскую губернию в имение князей Гагариных «Холомки» – «…спасать свою семью и себя от голода, который надвигается все злее».
25 апреля – выступление на вечере Ал. Блока в зале Государственного Большого драматического театра.
1–16 мая – поездка с Ал. Блоком в Москву. Выступления с лекциями в Политехническом музее.
12 мая – на приеме у А. В. Луначарского в Кремле, разговор о Доме искусств.
Конец июня – август – живет вместе с семьей под Псковом в колонии литераторов и художников «Бельское устье».
Осень – завершение работы над «Книгой об Александре Блоке» и начало перевода «Королей и капусты» О. Генри.
Работа во «Всемирной литературе».
Указатель имен[236]
Абезгауз И. А., одесский журналист – 56, 453
Абрамова Людмила Аркадьевна – 554
Августа-Виктория (1858–1921), королева прусская и императрица германская, жена императора Вильгельма II – 471
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925, умер за границей), писатель, редактор журнала «Новый сатирикон» – 217, 274, 584
Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913), писатель, критик, журналист – 476
Агата, см. Белопольская А. А.
Адалис (наст. фам. Ефрон Аделина Ефимовна, 1900–1969), поэтесса – 355
Аддисон Джозеф (1672–1719), английский писатель – 567
Адель Львовна, гостья И. Е. Репина – 220
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918, умер за границей), член партии эсеров, провокатор – 281
Азов (наст. фам. Ашкинази) Владимир Александрович (1873–1948, умер за границей), фельетонист, критик – 268
Айвазов Иван Георгиевич (1872–1964), публицист, миссионер – 285
Айзеншер Абрам Саулович (псевд.: Сергей Фотинский, 1887–1971, умер за границей), художник – 130
Айзман Давид Яковлевич (1869–1922), писатель, драматург – 116, 252
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928, выслан, умер за границей), критик – 11; 567
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), писатель, публицист – 231
Аладьин Алексей Федорович (1873–1927, умер за границей), член I Государственной Думы – 142, 144, 569
Александр I (1777–1825), росс. император с 1801 г. – 583
Александр II (1818–1881, убит), росс. император с 1855 г. – 168
Александр III (1845–1894), росс. император с 1881 г. – 118, 575
Александр Обренович (1876–1903), король Сербии – 599
Александра (1846–1925), королева Великобритании с 1901 г., жена Эдуарда VII – 510
Алексеев Василий Михайлович (1881–1951), филолог-китаевед – 279, 316, 331
Альбов Михаил Нилович (1851–1911), писатель – 161, 167, 177–178, 182, 572, 575
Альталена (Altalena), см. Жаботинский В. Е.
Альтман Натан Исаевич (1889–1970), художник – 321, 349
Алянский Самуил Миронович (1891–1974), основатель изд-ва «Алконост» (1918–1923) – 349, 389, 592
Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938, умер за границей), писатель – 259, 278, 287, 303, 315–317, 343, 385, 588, 594
Андерсен Ханс Кристиан (1805–1875), датский писатель – 304
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919, умер за границей), писатель – 6, 48, 65, 68, 116, 118, 148–151, 152, 161, 165, 167, 170–174, 181, 202, 217, 234, 239, 240, 242, 255, 269, 271–277, 280, 284, 297, 326, 351–352, 455, 460, 477, 497, 562, 571, 572, 573, 580, 581, 584, 590, 597, 599, 602
Андреев Николай Иванович (1847–1889), отец Л. Н. Андреева – 239
Андреев Савва Леонидович (1909–1970, умер за границей), танцовщик, сын Л. Н. Андреева – 239
Андреева Анастасия Николаевна (1851–1920, умерла за границей), мать Л. Н. Андреева – 239
Андреева (урожд. Денисевич) Анна (Матильда) Ильинична (1885–1948, умерла за границей), вторая жена Л. Н. Андреева – 151, 273, 571
Андреева Мария Федоровна (1868–1953), актриса, комиссар театров и зрелищ Петрограда – 208, 262, 263
Андреева-Шкилондзь Аделаида Львовна (1882–1969, умерла за границей), певица – 209, 220
Андреевич Е., см. Соловьев Е. А.
Андреич, см. Оль А. А.
Аничков Евгений Васильевич (1864–1937, умер за границей), критик – 149, 196
Анна Александровна, кухарка Н. Б. Нордман – 204
Анненков Павел Семенович (1859–1920), владелец дачи в Куоккала, отец Ю. П. Анненкова – 155, 163, 165
Анненков Юрий Павлович (1889–1974, умер за границей), художник – 272, 274, 283, 284, 289, 296, 306, 330, 390, 583, 586, 590, 596
Анненкова Елена Борисовна (1896–1980), балерина и актриса, первая жена Ю. П. Анненкова – 390
Анненкова Зинаида Александровна, мать Ю. П. Анненкова – 169
Анненская Александра Никитична (1840–1915), детская писательница, жена Н. Ф. Анненского – 157, 184
Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт – 256, 388; 595
Анненский Николай Федорович (1843–1912), публицист, статистик – 155, 157, 162, 180, 184–185, 234–235; 575
Антик Владимир Морицевич (1882–1972), книгоиздатель, выпускал популярные книжные серии «Универсальная б-ка», «Народный университет», «Всеобщая б-ка» и др. – 159
Антикайнен Тойво (1898–1941), один из организаторов и руководителей Коммунистической партии Финляндии, участник Гражданской войны – 278–279
Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902), скульптор – 168
Антоний (в миру – Вадковский Александр Васильевич, 1846–1912), митрополит Петербургский и Ладожский; один из инициаторов отлучения Л. Толстого от церкви – 37, 556, 558
Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893), поэт – 70
Арабажин Константин Иванович (1866–1929, умер за границей), критик, с 1918 г. издавал в Хельсинки газету «Русский голос» – 255, 581
Аргутинский (Аргутинский-Долгоруков) Владимир Николаевич (1874–1941, умер за границей), коллекционер картин, фарфора, после революции – хранитель Государственного Эрмитажа (до 1920 г.) – 289
Арнштам Александр Мартынович (1881–1969, умер за границей), художник – 129
Аронсон Наум Львович (1872–1943, умер за границей), скульптор – 197
Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), адвокат, публицист, редактор журнала «Вестник Европы» – 206, 578
Арский (наст. фам. Афанасьев) Павел Александрович (1886–1967), поэт – 309
Артемьев А. (псевд. Козловича Михаила Михайловича, 1859–1916), писатель, публицист, критик – 437
Архимед (ок. 287–212 до н. э.), древнегреческий ученый – 399
Архипов Николай Архипович (1880–1946), беллетрист, издатель – 349
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927, умер за границей), писатель – 156, 165, 572–573
Аскольдов Сергей Алексеевич (наст. фам. Алексеев, 1871–1945), философ, критик – 117, 565
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966), поэт – 11, 300–303, 308, 315, 335, 348, 389, 582, 588–589, 595–596
Ашкинази, см. Азов В. А.
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт – 120, 140, 149, 475, 494, 530
Бакаев Иван Петрович (1887–1936, расстрелян), зам. председателя Петросовета, член Петрогубисполкома – 297
Бакст Лев Самойлович (1866–1924, умер за границей), художник – 149
Балабан Хаим (Яков) Соломонович, одесский журналист – 137
Балакин, сотрудник В. П. Буренина – 230
Балакирев Милий Алексеевич (1836–1910), композитор, пианист, дирижер – 183
Балашов Абрам Абрамович, иконописец – 576
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942, умер за границей), поэт – 96, 171, 240, 259, 261, 539; 572
Бальфур (Balfour) Артур Джеймс (1848–1930), премьер-министр Великобритании в 1902–1905 гг. – 477, 486, 537
Баранов Николай Михайлович (1836–1901), нижегородский губернатор – 170, 210–211
Баранцевич Казимир Станиславович (1851–1927), писатель – 177–178
Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818), князь, генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 г. – 172
Барятинский Владимир Владимирович (1874–1941, умер за границей), князь, драматург, журналист, муж Л. Б. Яворской – 382
Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920), историк литературы, критик – 243, 258, 258, 276, 279, 282, 306
Бауэр Бруно (1809–1882), немецкий философ-младогегельянец – 414
Бауэры Бруно и Эдгар, братья, немецкие философы-младогегельянцы – 397
Бах Иоган Себастиан (1685–1750), композитор – 319
Безродная (наст. фам. Яковлева) Юлия Ивановна (1859–1910), прозаик, драматург, жена Н. П. Минского – 140
Бек, сотрудник Англо-русского бюро – 227–228
Бекетова Екатерина Андреевна (1855–1892), писательница, переводчица, тетя А. Блока – 581
Бекетова Мария Андреевна (1862–1938), переводчица, мемуаристка, тетя А. Блока – 349
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), критик – 29–30, 32, 39, 119, 357, 450; 557–558
Белинский Максим, см. Ясинский И. И.
Белицкий Ефим Яковлевич (1895–1940, расстрелян), зав. отделом Петросовета, глава изд-ва «Эпоха» – 311–313, 327, 344, 388, 388, 391
Белкин Вениамин Павлович (1884–1951), художник – 532
Белла см. Венгерова И. А.
Белопольская (по второму мужу Охотина) Агата Андреевна (1886–1971), близкий друг семьи Чуковских – 153–155, 159
Белопольский Иосиф Романович (1879–1956), журналист, организатор изд-ва «Вперед» в Одессе и «Утро» в Петербурге – 276, 330, 386
Белый Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934), писатель – 132, 149, 161, 213, 282, 293, 309, 331–332, 389, 539
Бельтов, см. Плеханов Г. В.
Беляев Василий Васильевич (1867–1928), художник, с 1914 г. профессор Академии художеств – 186
Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), государственный деятель, шеф жандармов – 335
Бенкендорф (Будберг) Мария Игнатьевна (1892–1974, умерла за границей), переводчица, секретарь М. Горького – 252, 256, 268, 269, 272, 276, 280, 287, 288, 299–302, 311, 330, 334
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960, умер за границей), художник, критик, режиссер – 169, 194, 254, 256, 289, 291–292, 294, 515; 573, 587
Бенуа Леонтий Николаевич (1856–1928), архитектор – 186
Бенуа Пьер (1886–1962), французский писатель – 390
Бердяев Николай Александрович (1874–1948, выслан, умер за границей), философ, публицист – 53, 55, 57, 58, 117, 155, 434, 437–439, 449, 455, 457; 560, 563, 565, 596
Бердяев Сергей Александрович (псевд. З. С.; 1860–1914), поэт, переводчик, критик, брат Н. А. Бердяева – 115, 565
Беренштейн – 422, 435
Берлин Павел Абрамович (1877–1962, умер за границей), публицист – 235
Берман Дагмара Андреевна (1928–1999), библиограф – 554
Бёрн-Джонс (Burne-Jones) Эдуард (1833–1928), английский живописец и рисовальщик – 119, 530, 535
Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892–1970), языковед, профессор, сотрудник Института Живого слова – 292
Беспалова Лариса Георгиевна, филолог-англист, переводчица – 554
Бессалько (Безсалько) Павел Карпович (1887–1920), один из руководителей петроградского Пролеткульта, драматург – 240
Бестужев (псевд. Марлинский) Александр Александрович (1797–1837), штабс-капитан, писатель, декабрист – 259
Бетлер (Батлер) Самюэл (1835–1902), английский писатель – 242
Бетховен Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор – 190
Бирилев Алексей Алексеевич (1844–1915), адмирал член Государственного Совета (1905–1917) – 207
Битнер Вильгельм Вильгельмович, фон (1865–1921), редактор журнала «Вестник знания» – 181
Благов Федор Иванович (1866–1917), редактор газеты «Русское слово» – 232
Блинов Леонид Демьянович (1867–1903), художник, учитель рисования – 162–163
Бловиц (1832(26)–1902(3); наст имя и фам. Генрих (Адольф) Оппер), известный журналист, с 1871 года корреспондент лондонской «Таймс», основатель жанра интервью – 530
Блок (урожд. Менделеева) Любовь Дмитриевна (1881–1939), актриса, жена А. А. Блока – 203, 293, 331, 348, 382; 593
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт – 7, 8, 11, 12, 151, 159, 203, 209, 242, 245, 251–259, 263, 265, 266, 268, 271, 272, 276–277, 278–295, 297, 304, 306–309, 313, 315, 317–318, 320–321, 324–325, 327, 331, 333, 335–336, 342–344, 346, 348, 350–353, 378–379, 381–383, 386, 388, 389–391; 550, 552, 555, 572, 580–596, 605
Блох Яков Ноевич (1892–1968, умер за границей), глава изд-ва «Петрополис» – 389
Блюм Анна Яковлевна, одесская знакомая К. Ч. – 30
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921, умер за границей), писатель – 24, 173–174
Бобров Федор Александрович – 30
Богданов Александр Алексеевич (1874–1939), поэт – 187
Богданович Александра Аньёловна, Шура (1898–1938, расстреляна), дочь А. И. и Т. А. Богданович – 154, 156, 173, 184, 264; 574
Богданович Ангел Иванович (1860–1907), критик, публицист – 155
Богданович Софья Аньёловна (1900–1987), детская писательница, дочь А. И. и Т. А. Богданович – 154, 156, 173, 184; 574
Богданович Татьяна Александровна (1873–1942), писательница – 154, 156, 157, 171–173, 176, 177, 180, 184, 207; 574
Боголепов Николай Павлович (1846–1901), министр народного просвещения (с 1898 г.) – 240
Богомолец Антон Антонович (1873–?) – присяжный поверенный, участник Литературно-артистического общества – 305
Богуславская Ксения Леонидовна (1892–1972), художница, жена художника И. А. Пуни – 220, 246
Богучарский В. (псевд. Базилевский Б., наст. фам. и имя Яковлев Василий Яковлевич, 1861–1915), историк, издатель-редактор журнала «Былое» – 33; 561
Богушевская, мать издателя В. Л. Богушевского – 167
Богушевский В. Л., книгоиздатель – 167
Бодаревский Николай Корнилович (1850–1921), художник – 166
Боде Вильгельм (1845–1929), немецкий философ, историк искусства, директор берлинских государственный музеев – 195
Бозлей Иосиф, глава общества борьбы с «лживостью и нищенством» – 507–508
Бокль Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист – 26
Боливар Симон (1783–1830), руководитель борьбы испанских колоний в Южной Америке за независимость – 43
Бонди Сергей Михайлович (1891–1983), литературовед, пушкинист – 281, 292
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), литературовед – 159
Борский (наст. фам. Княжинский) Борис Петрович, журналист – 154
Боскович Леля, см. Недзельская Е. В.
Боткин Михаил Петрович (1839–1914), гравер-офортист, искусствовед, коллекционер – 192
Боткин Сергей Петрович (1832–1889), врач-клиницист, профессор Медико-хирургической академии – 192
Боцяновский Владимир Феофилович (1869–1943), писатель, критик – 234
Браз Осип Эммануилович (1873–1936, умер за границей), художник – 318; 552, 589
Брандес Георг (1842–1927), датский литературный критик, публицист – 405
брат Полонской, см. Мовшенсон А. Г.
Браудо Евгений Максимович (1882–1939), критик и музыковед – 282, 295
Браун Федор Александрович (1862–1942, умер за границей), филолог-германист – 243, 258, 282
Браунинг Роберт (1812–1889), английский поэт – 75, 77–78, 131, 147, 494; 564, 568
Бриан Мария Исааковна (1886–1965), певица, профессор петроградской консерватории – 336
Брик Лили Юрьевна (1891–1978), жена О. М. Брика – 321, 323–324, 351–352
Брик Осип Максимович (1888–1945), литератор – 321, 324, 351–352
Бродовский Исидор Романович (1875–?), публицист – 44
Бродский Исаак Израилевич (1884–1939), художник – 11, 183, 184, 185, 191, 218
Броунинг, см. Браунинг Р.
Брусиловский (псевд. Чужой) Исаак Казимирович (1865–1933), публицист, философ – 72, 86
Брусянин Василий Васильевич (1867–1919), писатель – 190, 275
Брюллова-Владимирова Лидия Павловна (1886–1954), поэтесса, служащая Петросовета – 311
Брюнетьер Фердинанд (1849–1906), французский литературный критик – 405, 524
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт – 6, 81, 128–130, 144, 149, 159, 176, 213, 293–294, 355, 539; 564, 567, 570, 572, 587, 601
Бугаева Александра Дмитриевна (1858–1922), мать Андрея Белого – 388
Будищев Алексей Николаевич (1864–1916), прозаик, поэт – 151
Булатов Иван Михайлович (1870–?), художник – 169, 190
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944, умер в эмиграции), экономист, философ, теолог – 563
Булгарин Фаддей Бенедиктович (1789–1859), журналист, писатель – 30
Булла Карл Карлович (1853–1929), фотограф Министерства императорского двора – 168
Буль Джордж (1815–1864), английский математик и логик – 412
Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) – российский государственный деятель – 566
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953, умер за границей), писатель – 12, 67, 116, 186, 199, 232, 273; 562, 567, 577, 580
Буренин Виктор Петрович (1841–1926), критик, драматург – 119, 132, 229–231, 325, 332, 515
Бурже Поль (1852–1935), французский писатель – 22–24, 51; 559
Бурлюк Давид Давидович (1882–1967, умер за границей), поэт и художник – 214; 576
Бурцев Владимир Львович (1862–1942, умер за границей), собиратель материалов по истории русского революционного движения, публицист, редактор и издатель журнала «Былое» – 170, 220, 222–223
Буткевич Анна Алексеевна (1826–1882), сестра Н. А. Некрасова – 578
Бутс Вильям (1829–1912), английский проповедник, основатель и главный руководитель Армии Спасения – 491
Бухов Аркадий Сергеевич (1889–1937, расстрелян), писатель-сатирик – 220
Бухова Екатерина Б. – 579
Бухтеева, содержательница детского сада и гимназии в Одессе – 161
Бьёрнсон Бьёрнстьерне Мартиниус (1832–1910), норвежский писатель – 545
Быстрянский Вадим Александрович (1886–1940), публицист, член Петросовета, член редколлегии Госиздата – 280
Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924), английский дипломат, в 1910–1918 гг. посол в России – 233
Бэкон Фрэнсис (1561–1626), английский государственный деятель, эссеист и философ – 537
Бюхнер Георг (1813–1837), немецкий писатель, создатель реалистической драмы – 402, 408
Бюхнер Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ – 171
Бялик Хаим Нахман (1873–1934, умер за границей), еврейский поэт – 354
В. В., псевдоним Василия Павловича Воронцова (1847–1918), экономист-народник – 48, 394–397, 409, 411–412; 596
Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор – 385
Вальполь Гюг (правильно: Уолпол Хью, 1884–1941), английский романист, сотрудник Англо-русского бюро – 217, 227
Ванновский Петр Семенович (1822–1904), военный министр в 1881–1898 гг., министр народного образования в 1901–1902 гг. – 37
Варвара Васильевна, см. Шайкевич В. В.
Василевский (псевд. He-Буква) Илья Маркович (1882–1938, расстрелян), журналист, сотрудник ленинградского Госиздата – 151, 154, 160, 164, 191, 213
Васильев Федор Александрович (1850–1873), художник-пейзажист – 192
Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933), художник-пейзажист – 169
Ватагина А., сотрудница Наркомпроса – 291
Ватсон Мария Валентиновна (1848–1932), переводчица, невеста поэта С. Я. Надсона – 253, 336
Вашингтон Букер Тальяферро (1856–1915), негритянский общественный деятель в США – 244
Введенский Иринарх Иванович (1813–1855), общественый деятель, переводчик – 272, 287, 289; 584–585
Вебстер Ной (1758–1843), американский лексикограф – 539
Вейзенгрюн Пауль, немецкий экономист – 400
Вейс Давид Лазаревич (1877–1938, расстрелян), зам. заведующего Госиздатом РСФСР – 344
Векслер Александра Лазаревна (1901 – после 1963, умерла в эмиграции), слушательница студии «Всемирной литературы» – 276, 281
Величко Василий Львович (1860–1903), поэт, публицист, националист, нетерпимый к инородцам – 473
Вельтман Александр Фомич (1800–1870), писатель – 290
Вельтман Софья (наст. имя Елена Ивановна, 1816–1868), писательница – 290; 587
Вельчев, ученик К. Ч. в Одессе – 16, 18, 23, 26, 28, 30, 42, 395
Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы, критик, библиограф – 116, 120, 177
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941, умерла за границей), историк западноевропейской литературы, критик – 75, 77, 79, 116, 118, 130, 140, 300, 321; 564
Венгерова Изабелла Афанасьевна (1877–1956, умерла за границей), пианистка, сестра З. А. Венгеровой – 130
Венгров Натан (наст. имя Моисей Павлович, 1894–1962), поэт, зав. отделом детской и юношеской литературы московского Госиздата, зав. Центральным методическим бюро ГУСа – 210
Вениамин (Василий Павлович Кзанский, 1873–1922, расстрелян), митрополит Петроградский, священномученик, обвинен в сопротивлении изъятию церковных ценностей – 221
Вера Александровна, см. Сутугина-Кюнер В. А.
Вера Борисовна, см. Киселева В. Б.
Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница – 168
Вербов Михаил Александрович (1896–1996, умер за границей), художник – 220
Вергилий, полное имя Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.), римский поэт – 405
Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), художник-баталист – 182, 190, 514–516; 598
Вериго Бронислав Фортунатович (1860–1925), физиолог, ученик И. М. Сеченова и И. П. Павлова, в 1897–1914 гг. профессор Новороссийского университета в Одессе – 36
Верлен Поль (1844–1896), французский поэт – 580
Верн Жюль (1828–1905), французский писатель – 304, 310, 323
Вернер Захария (1768–1823), немецкий драматург – 49
Веселовский Александр Николаевич (1838–1906), историк литературы, языковед – 290
Ветринский Ч. (наст. имя и фам. Чешихин Василий Евграфович, 1868–1923), историк литературы и общественной мысли, публицист, журналист – 30
Виардо (Viardot) Мишель Фернанда Полина (1821–1910), французская певица, композитор – 29, 190
Вигель Филипп Филиппович (1786–1856), литератор, мемуарист – 12
Вильгельм I Завоеватель (ок. 1027–1087), король Англии с 1066 г. – 473
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918) – 205
Вилькина-Минская (Виленкина) Людмила Николаевна (1873–1920, умерла за границей), поэтесса, жена Н. Н. Минского – 119
Вильтон (Wilton Robert Archibald) (1868–1925), корреспондент газеты «Times» в Петрограде, автор книг о России – «Российская агония» (1918) и «Последние дни Романовых» (1920) – 209
Вильямс Гарольд (1876–1928), журналист, организатор Англо-русского бюро в Петрограде, муж писательницы Ариадны Тырковой-Вильямс – 227–228
Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, государственный деятель – 196
Владимир Александрович (1847–1909), великий князь, президент Академии художеств (1876–1909) – 192, 286; 570
Владимирский А. Н., краевед – 555
Вознесенский (псевд. Усталый) Александр Николаевич (наст. имя и фам. Александр Сергеевич Бродский, 1879–1937, расстрелян), поэт, драматург – 114, 117, 118, 350
Волжский (наст. фам. Глинка) Александр Сергеевич (1878–1940), критик, историк литературы – 132; 568
Волковыский Николай Моисеевич (1881–1940, умер за границей), литератор – 335, 342, 386, 390
Волконский Петр Петрович (1872–1957), князь, дипломат – 313
Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932), поэт, переводчик, художник-акварелист – 11, 187; 576
Волынский А. (псевд. Акима Львовича Флексера, 1863–1926), критик, искусствовед – 116, 118, 257–258, 272, 278–279, 282, 300, 303, 316, 325, 335–336, 342, 345, 359, 532; 552, 561, 566
Вольпе Цезарь Самойлович (1904–1941), литературовед, первый муж Л. К. Чуковской – 580
Вольтер Мари Франсуа (1694–1778), французский писатель – 408, 533
Вольтман Людвиг (1871–1907), немецкий философ, социолог и публицист – 459
Вольф Людвиг Маврикиевич (1865—?), книгоиздатель, редактор «Известий книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф» – 163; 572
Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923, убит), государственный деятель, дипломат, публицист, первый руководитель Госиздата, созданного в мае 1919 г., – 267–268, 279, 280
Востоков Александр Христофорович (1781–1864), поэт, филолог-славист, автор книги «Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах» (1805) – 291
Врубель Анна Александровна (1855–1929), педагог, сестра М. А. Врубеля – 335; 590
Врубель Михаил Александрович (1856–1910), художник – 149, 335; 570, 590
Вучина Иван Григорьевич (1833–1902), греческий генеральный консул, одесский негоциант – 38
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), поэт, критик – 28, 371
Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913), певица – 267
Гагарин Андрей Григорьевич (1855–1920), князь, директор Политехнического института, владелец имения Холомки – 339, 371, 373–374; 605
Гагарин Лев Андреевич (1888–1921, умер за границей), офицер, сын А. Г. и М. Д. Гагариных – 373–374
Гагарин Петр Андреевич (1904–1938, расстрелян), инженер, сын А. Г. и М. Д. Гагариных – 371–372, 378
Гагарина Мария Дмитриевна (1864–1946, умерла за границей), княгиня, вдова А. Г. Гагарина – 338–340, 370–371, 377, 378; 605
Гагарина Софья Андреевна (1892–1979, умерла за границей), княжна, дочь А. Г. и М. Д. Гагариных – 338, 368, 370–372, 374, 376–379
Галев(и) Иегуда (ок. 1075–1141), еврейский поэт и философ, жил в Испании – 355
Галушкин Александр Юрьевич (р. 1960), историк литературы – 594
Гальперин-Каминский Илья Данилович (1858–1936, умер за границей), издатель и переводчик – 29; 557
Гамсун Кнут (1859–1952), норвежский писатель – 130
Ганжулевич Таисия Яковлевна (1880–1936), литературный критик – 234
Ганфман Максим Ипполитович (1872–1934, умер за границей), юрист, журналист, издатель газеты «Современное слово» – 207
Гарди (Харди) Томас (Thomas Hardy) (1840–1928), английский писатель – 130, 345
Гарпер, см. Harper
Гартевельд, обитательница Дома искусств – 321
Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель – 158, 162–165, 171, 189; 573
Гаршин Евгений Михайлович (1860–1931), педагог, критик, мемуарист – 158
Гаршина Вера Михайловна, жена Е. М. Гаршина – 158
Гаршина (Золотилова) Надежда Михайловна, жена В. М. Гаршина – 158
Гаршина Екатерина Степановна (1828–1897), мать Вс. М. и Е. М. Гаршиных – 158
Гауптман Герхарт (1862–1946), немецкий писатель – 544
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 117, 394, 395, 397, 546–548; 569
Гедройц Николай Антонович, князь, художник, меценат – 181
Гейерман Г., см. Хейерманс Г.
Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт – 256–257, 280, 355, 529; 581, 584, 599
Гейнцен Карл (1809–1880), немецкий публицист, один из идеологов политического терроризма – 410–411
Геккер Наум Леонтьевич (1862–1920), журналист, сотрудник «Одесских новостей» – 21, 45, 137; 561
Гексли (Хаксли) Томас Генри (1825–1895), английский биолог – 77, 528, 533
Генрих IV (1367–1413), английский король – 284
Гербель Николай Васильевич (1827–1883), издатель, библиограф, поэт-переводчик – 290
Герд, племянник М. Ф. Андреевой – 263
Герзони, доктор, владелец лечебницы, где родилась Л. К. Чуковская – 170
Гернгросс (Всеволодский) Всеволод Николаевич (1882–1962), актер Александринского театра, лектор Института Живого слова – 334
Герц (Hertz) Фридрих Отто (1878–?), австрийский социолог, историк, экономист – 42, 43
Герцен Александр Иванович, Искандер (1812–1870, умер за границей), писатель – 7, 34, 120–121 226, 290, 484; 566
Герцен Наталья Александровна (1817–1852), жена А. И. Герцена – 34
Герцль Теодор (1860–1904), основатель и теоретик сионизма – 547
Герцо-Виноградский Петр Титович (1867–1929), журналист, драматург, прозаик или Семен Титович (1844–1903), журналист, литературный и театральный критик, сотрудник «Одесских новостей» – 54
Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), историк литературы – 378–379; 594
Гессен Даниил Юльевич (1897–1943, погиб в лагере), журналист – 297–298
Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943, умер за границей), один из организаторов кадетской партии, редактор газет «Право» и «Речь», после революции редактор «Руля», создатель многотомного «Архива русской революции» – 161, 163, 168, 172, 302
Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт – 197, 266, 492–494, 533
Гец, дачевладелец, сосед К. Ч. в Куоккале – 209
Гибшман Константин Эдуардович (1884–1943), конферансье – 203
Гикс-Бич Микаэль Эдуард (Hicks-Beach, 1837–1916), английский политический деятель, министр колоний в 1878–80 гг. – 504
Гинсбург (Гинцбург) Гораций Осипович (1833–1909), банкир, меценат, основатель и председатель Об-ва распространения просвещения между евреями в России – 248
Гинцбург Илья Яковлевич (1859–1939), скульптор – 158
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945, умерла за границей), поэт, критик, жена Д. С. Мережковского – 161, 181, 213, 241, 256, 267, 288, 295; 552, 580
Глаголев, см. Глаголь С.
Глаголин Борис Сергеевич (наст. фам. Гусев, 1879–1948, умер за границей), драматург, театральный критик, режиссер – 48; 559
Глаголь Сергей (псевдоним Голоушева Сергея Сергеевича; 1855–1920), художественный, театральный и литературный критик – 459
Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), премьер-министр Великобритании в 1868–1874 гг. – 95, 503
Глазанов, слушатель студии Дома искусств, участник Гражданской войны – 281
Глинский Борис Борисович (1860–1917), журналист, историк-публицист – 177
Глыбовский Иосиф Иванович, сотрудник газеты «Новое время» – 179
Гнедич Петр Петрович (1855–1925), драматург, переводчик – 245
Гнедов Василиск (наст. имя Василий Иванович, 1890–1978), поэт – 193
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель – 30, 53, 59, 149, 237, 283, 291, 293–294, 330, 455, 458; 587
Голдсмит Оливер (1728–1774), английский писатель – 567
Голицын Александр Николаевич (1733–1844), в 1817–24 гг. министр народного просвещения и духовных дел – 259
Голичер Артур (1869–1948), немецкий писатель – 318; 589
Голл (Gall L.-G.-M), сотрудник Англо-русского бюро – 221
Голлербах Эрих Федорович (1895–1945), искусствовед, литературовед – 552
Головин Александр Яковлевич (1863–1930), художник, театральный живописец и график – 197
Головков, знакомый К. Ч. – 131
Гольден, сотрудник Англо-русского бюро – 228
Гольдфельд Григорий (1872–?), брат М. Б. Чуковской – 52, 59
Гольдфельд Арон Берг Рувимович (1837–1909), отец М. Б. Чуковской, бухгалтер – 164–165
Гольдфельд Иосиф Борисович (1902–?), брат М. Б. Чуковской – 50
Гольдфельд Тауба Ойзеровна (1852–?), мать М. Б. Чуковской – 42
Гольцев Виктор Александрович (1850–1906), публицист, критик – 171, 173
Гомер, древнегреческий поэт – 405, 516–518
Гончаров Иван Александрович (1812–1891), писатель – 290
Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), государственный деятель, министр внутренних дел (1895–1899) – 133; 568–569
Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867–1941), литературовед, лингвист – 272–273, 275, 344
Горовиц Нюся, знакомая К. Ч. – 352
Городецкая Анна Алексеевна, Нимфа (1889–1945), жена С. М. Городецкого – 201, 205
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт – 201–202, 205, 290, 316
Горький Алексей Максимович (1868–1936), писатель – 6, 8–12, 35, 53, 59, 67, 96, 135, 170, 181, 210–211, 241–255, 257–284, 286–293, 298–304, 306–308, 310–311, 315–318, 324, 330–332, 342–343, 347, 356–357, 360, 364–368, 370,380, 382,432, 442, 446, 448, 455, 497, 515, 524, 538; 550, 552, 560, 567, 572, 573, 578, 581, 582, 584–589, 591, 593, 603, 604
Госсе Эдмунд (1849–1928), английский поэт и критик – 538
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель – 49; 559
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), художник, искусствовед – 10; 576
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, общественный деятель – 31; 519
Гребенщиков Яков Петрович (1888–1935), собиратель книг, библиотекарь ленинградской Публичной библиотеки – 321
Гредескул Николай Андреевич (1864–1941), юрист, депутат Государственный Думы, редактор газеты «Русская воля» – 367
Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929, умер за границей), художник, издатель – 172, 210, 217, 240, 249, 251, 255, 265, 267, 268, 273, 274, 276, 279, 282, 283, 284, 287, 289, 290, 292, 301–302, 305, 306, 308, 317, 326, 334, 343–344, 354, 357, 358, 359, 366, 582, 584, 587, 590, 592
Гржебин Алексей Зиновьевич (1918–1988, умер за границей), биолог, сын З. И. и М. К. Гржебиных – 255
Гржебин Товий Наумович (1896–1958), родственник З. И. Гржебина и сотрудник его издательства в Москве – 267
Гржебина Елена Зиновьевна, Капа (1909–1990, умерла за границей), балерина, дочь З. И. и М. К. Гржебиных – 217, 255
Гржебина Ирина Зиновьевна, Буба (1907/08–1994, умерла за границей), балерина, дочь З. И. и М. К. Гржебиных – 217, 255
Гржебина Лия Зиновьевна, Ляля (1906–1989, умерла за границей), балерина, дочь З. И. и М. К. Гржебиных – 217, 255
Гржебина Мария Константиновна (1880–1966, умерла за границей), жена З. И. Гржебина – 276, 306
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), драматург, дипломат – 322, 459, 523
Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), писатель – 290
Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864), поэт, критик – 257, 290, 292
Гринберг Захарий Григорьевич (1889–1949, погиб в заключении), работник Наркомпроса – 256, 279, 354
Гриша, см. Гольдфельд Г.
Гроссман Семен Азриелевич (1882–?), врач, соученик К. Ч. по гимназии – 14
Грот Николай Яковлевич (1852–1899), русский философ-идеалист – 435, 439
Груздев Илья Александрович (1892–1960), критик, литературовед – 365
Грузенберг Оскар Осипович (1866–1940, умер за границей), адвокат и общественный деятель – 158; 601
Грушевский Соломон, петроградский знакомый К. Ч. – 347
Грушко Наталья Васильевна (1892–1974), поэт – 288
Губер Петр Константинович (1886–1940, погиб в заключении), критик – 335
Гулак-Артемовский Петр Петрович (1790–1865), украинский писатель – 159
Гумбольдт Александр (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник – 529
Гумилев Николай Степанович (1886–1921, расстрелян), поэт – 11, 163, 243–245, 251–254, 256, 258, 259, 263, 266, 271, 274, 275, 277, 278, 279, 281–284, 286–288, 290, 292, 300, 302, 304, 306, 307, 309, 310, 321, 333, 336, 354, 357; 581–584, 586, 588, 590, 604
Гумилева Анна Николаевна (1896–1942), вторая жена Н. С. Гумилева – 281, 357–358
Гусак Н., литературовед – 555
Гусев Николай Николаевич (1882–1967), секретарь Л. Н. Толстого – 559
Гучков Александр Иванович (1862–1936, умер за границей), октябрист, председатель 3-й Государственной Думы – 180
Гущины, куоккальские соседи К. Ч. – 153
Гюго Виктор Мари (1802–1885), французский писатель – 241–243, 385
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), поэт – 287
Давыдова Лидия Михайловна, внучка А. Н. Еракова – 387
Даль Владимир Иванович (1801–1872), лексикограф и писатель – 115
Далькевич Мечислав Михайлович (1861–1941 или 42), художник, критик – 213
Далькроз Эмиль (1865–1950), швейцарский композитор, основатель системы ритмического воспитания – 201
Дальский Мамонт Викторович (1865–1919), актер и писатель – 68
Даманская Августа Филипповна (1875–1959, умерла за границей), писательница, переводчица – 277
Дан Федор Ильич (1871–1947, выслан, умер за границей), один из лидеров меньшевиков – 343
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), публицист, социолог, идеолог панславизма – 48; 559
Данилова Екатерина Михайловна, гражданская жена поэта А. Н. Плещеева – 206; 578
Д’Аннунцио Габриеле (1863–1938), итальянский писатель – 385; 594
Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт – 266; 580
Даня, Доня, см. Мрост Д. М.
Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), естествоиспытатель – 65, 136, 150, 165, 398, 490, 530; 562, 597
Дворищин Исай Григорьевич, Исайка (1876–1942), певец, секретарь Ф. И. Шаляпина – 349
Де-Буше (прав. Дюбуше) Людмила Васильевна, жена французского врача-хирурга Шарля Дюбуше, владельца лечебницы в Одессе – 116
Дегаев Сергей Петрович (1854–1908), участник народнического движения, ставший предателем – 230
Дегин Евгений, журналист – 49; 559
Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), поэт – 290
Делянов Иван Давыдович (1818–1897), граф, государственный деятель, с 1882 г. министр народного просвещения – 556
Демчинский Борис Николаевич (1877–1942), журналист, сын Н. А. Демчинского – 483–484
Демчинский Николай Александрович (1851–1915), специалист по прогнозированию погоды, писатель, инженер путей сообщения – 291, 483
Деникин Антон Иванович (1872–1947, умер за границей), генерал – 291, 310
Денисевич Матильда, см. Андреева А. И.
Денисевич Толя, Виктория Ильинична (1887–1971, умерла за границей), сестра А. И. Андреевой – 151, 165, 273
Денисов Дмитрий Абрамович, инженер путей сообщения, начальник Курской железной дороги – 356
Державин, знакомый И. Е. Репина – 175
Державин Гаврила Романович (1743–1816), поэт – 172
Дефо Даниель (1660–1731), английский писатель – 294
Джекобс Вильям Ваймарк (1863–1943), английский писатель-юморист – 109, 110, 144, 146
Джером Клапка Джером (1859–1927), английский писатель-юморист – 22, 493
Джимми (умер в 1915 г.), сын сотрудника Эрмитажа Д. А. Шмидта – 183
Джорджоне (1477–1510), итальянский живописец – 253
Дзыговский, служащий в Холомках – 375, 377
Дидерикс Андрей Романович (1884–1942), художник, муж Валентины Ходасевич – 278
Диккенс Чарльз (1812–1870), английский писатель – 11, 86, 105, 246, 263, 287, 297, 305, 314, 317, 320, 469, 474, 494; 581, 585, 588
Дина, см. Кармен Д. Л.
Дионео, см. Шкловский И. В.
Диття, см. Слонимская-Сазонова Ю. Л.
Дмитриева Валентина Иововна (1859–1947), писательница – 170
Добраницкая Елена Карловна (1887–1938, расстреляна), преподаватель немецкого языка, жена М. М. Добраницкого – 152–153, 155, 217
Добраницкий Казимир Мечиславович, Казик (1906–1937, расстрелян), журналист, сын М. М. и Е. К. Добраницких – 153, 214
Добраницкий Мечислав Михайлович (1882–1937, расстрелян), дипломат, генеральный советский консул в Гамбурге (1924–1927), с 1930 г. директор ленинградской Государственной публичной библиотеки – 152–153, 155, 215, 217
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), критик – 29, 54; 561
Добролюбовы (братья) Владимир Александрович (1849–1913), Иван Александрович (1851–1880), Николай Александрович – 269
Добужинская Елизавета Осиповна (1876–1965, умерла за границей), жена М. В. Добужинского – 342, 369–370, 375–376, 380
Добужинский Всеволод Мстиславович, Додя (1905–1998, умер за границей), младший сын М. В. Добужинского – 339, 341, 379, 380
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957, умер за границей), театральный художник, живописец – 289, 309, 330, 334, 336–342, 352, 370, 377–381, 384; 575, 605
Дойл Артур Конан (Conan Doyle, 1859–1930), английский писатель – 109, 111, 468, 299, 314, 493; 603
Долидзе Федор Евсеевич (1883–1977), театральный антрепренер – 349
Долинов Михаил Анатольевич (1892–1936), поэт – 255; 581
Дориомедова Ольга Ивановна (умерла в 1920), теща З. И. Гржебина – 306
Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922), журналист, публицист – 232, 503–504
Достоевская Анна Григорьевна (1846–1918), жена Ф. М. Достоевского – 224
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель – 30, 56–57, 60, 84, 134, 137, 149–150, 155, 159–160, 164, 202–203, 224, 280, 283, 288, 318–319, 330, 357–358, 367, 375, 378, 390, 447, 448, 451, 483, 502, 539, 548; 557, 568, 571, 577, 603
Дрейден Григорий Давидович (1907–1971), соученик Л. К. Чуковской – 322
Дрейфус Альфред (1859–1935), офицер французского Генерального штаба, обвиненный в шпионаже в пользу Германии – 504
Дымов Осип (псевд. Осипа Исидоровича Перельмана, 1878–1959, умер за границей), писатель – 129, 144, 151, 240, 383; 571
Дэвис Ричард (р. 1949), английский славист, директор и создатель Русского архива в Лидсе, хранитель и исследователь архивов И. Бунина и Л. Андреева – 581
Дюма Александр (1802–1870), французский писатель – 324
Дюма Александр (Дюма-сын,1824–1895), французский писатель – 120
Дюринг Евгений (1833–1921), немецкий философ – 559
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929, умер за границей), художественный и музыкальный импресарио, издатель и театральный деятель – 390
Евгения Владиславна, учительница детей К. Ч. – 215
Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883–1955), литературовед – 386–387, 594
Евдокия Петровна, см. Струкова Е. П.
Евдокия Семеновна, экономка, няня в доме Гагариных – 370
Евреинов Николай Николаевич (1879–1953, умер за границей), режиссер и драматург – 207–208
Еврипид (ок. 480 до н. э. – 406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург – 404
Елисеев Григорий Захарович (1821–1891), публицист, член редакции журнала «Отечественные записки» – 53, 226
Елисеев Степан Петрович (1856–1926, умер за границей), финансист, до революции – владелец особняка, ставшего впоследствии Домом искусств – 284
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933), писатель, публицист – 158, 173, 496
Емельянов Н., публицист, социолог – 433, 437
Ераков Александр Николаевич (1817–1886), инженер путей сообщения, свойственник Н. А. Некрасова и его близкий приятель – 206, 387; 578
Еракова (Данилова) Вера Александровна, литератор, дочь А. Н. Еракова – 578
Еракова Мария Александровна (в замужестве Мамчич, умерла 1872), дочь А. Н. Еракова – 578
Ермаков Николай Дмитриевич (1867–1927), коллекционер картин, художественный деятель – 175, 185, 187, 191, 194, 199, 209
Жаботинский Владимир Евгеньевич, Altalena (1880–1940), писатель, переводчик, журналист, сионист, один из основателей государства Израиль – 44, 46–47, 50–59, 68, 70, 72, 87, 114, 116, 118, 133, 156, 162, 355, 441, 442, 444–447, 453, 454; 555, 558–561
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), литературовед – 281, 320, 324; 595
Жиро-Телон (Giraud-Teulon) Алексис (1839–1916), профессор истории в Женеве, автор ряда работ по истории первобытного общества – 400
Житков Борис Степанович (1882–1938), писатель – 14, 36; 555–556
Жохов Александр Федорович (1840–1872), публицист – 578
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт – 271, 272, 274; 573, 583–584
Жуковский Станислав Юлианович (1873–1944), художник – 188
Жуковский Юлий Галактионович (1833–1907), экономист, публицист, историк общественной мысли – 409
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель, драматург – 290
Зайцев Борис Константинович (1881–1972, умер за границей), писатель – 151, 186, 350, 369, 372, 380–381; 571, 584
Зак Самуил Семенович (1868–1930), журналист, сотрудник газеты «Одесские новости» – 114, 137
Замятин Евгений Иванович (1884–1937, умер за границей), писатель – 8, 11, 246, 248–250, 252, 264, 266, 277, 279, 282, 283, 287, 289, 293, 302, 306–308, 316, 318, 319, 321, 322, 331, 333, 339, 342–345, 358, 368, 390; 582, 584, 594
Замятина Людмила Николаевна (1883–1965, умерла за границей), жена Е. И. Замятина – 322
Зангвиль Израэль (1864–1926), англо-еврейский писатель – 472
Зарин (наст. имя Фридрих Вильгельмович Ленгник, 1873–1936), партийный деятель – 279
Зверь (наст. фам. Михайлов Г. П.), сановник, муж О. Чюминой – 131, 133, 143, 151; 568
Зейденберг Таня – 334
Зеленый Павел Александрович (1840–1912), литератор, общественный деятель, редактор газеты «Одесский вестник», с 1898 года одесский городской голова – 38
Зеликсон Исаак Наумович (1901–1937? умер в заключении), сотрудник Наркомпроса – 303, 309
Зибер Николай Иванович (1844–1888), русский экономист, один из первых популяризаторов и защитников экономического учения К. Маркса в России – 143, 400, 409
Зильберштейн Леонид Андреевич (1883–1962), художник – 218, 237
Зина, Зинаида Николаевна, см. Некрасова З. Н.
Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936, расстрелян), партийный и государственный деятель – 280, 286, 309, 365
Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна (1866–1907), писательница – 150
Зозуля Ефим Давыдович (1891–1941), писатель – 239, 350
Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель – 241, 520
Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938, расстрелян), поэт, переводчик – 382
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), писатель – 11, 358, 380; 551–552
Зубов Валентин Платонович (1885–1969, умер за границей), граф, основатель Института истории искусств в Петербурге (до 1920 г. институт носил его имя) – 7; 582
Ибн Габриоли (прав. Ибн-Гебироль), латинизир. Авицеброн Соломон (ок. 1021–1055 или 1070), еврейский поэт и философ, жил в Испании – 355
Ибн Эзра Авраам бен Мейр (1092–1167), еврейский поэт, филолог, философ. Один из первых критиков текста Ветхого завета Библии или Ибн Эзра Моисей (1055–1139), еврейский поэт – 355
Ибн Туфейль (ок. 1110–1185), арабский писатель, философ, астроном – 342
Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский писатель, драматург – 16, 21, 42, 49, 59, 120, 157–158, 161, 452, 456, 457, 459, 476, 492, 495, 544; 566, 572
Иван Николаевич, см. Ракицкий И. Н.
Иванов Александр Андреевич (1806–1858), художник – 182
Иванов Александр Константинович, прапорщик, сын К. Иванова – 248
Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель – 356
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949, умер за границей), поэт, критик – 128, 132, 144, 149, 268, 319, 383; 583
Иванов Георгий Владимирович (1894–1958, умер за границей), поэт – 255, 321; 581
Иванов Иван Иванович (1862–1929), историк литературы, критик – 29, 459
Иванова Евгения Викторовна, историк литературы, критик – 554, 555, 561, 565
Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов) Разумник Васильевич (1878–1946, умер за границей), литературовед – 281, 283, 289–292, 386
Ивнев Рюрик (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев, 1891–1981), поэт – 318
Игнатьев Алексей Павлович (1842–1906), граф, государственный деятель – 177, 196
Изгоев А. (псевд. Александра Соломоновича Ланде, 1872–1935, выслан, умер за границей), публицист – 155, 248
Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921), критик, пародист – 177
Израилевич Яков (Жак) Львович (1872–1953), секретарь М. Ф. Андреевой – 332
Иконников Алексей Николаевич (1789–1819), гувернер Царскосельского лицея, поэт-любитель – 84
Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), русский историк, публицист – 477, 490
Иоанн Кронштадский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829–1908), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте – 115
Иоллос Григорий Борисович (1859–1907, убит), журналист, редактор газеты «Русские ведомости», депутат Государственной Думы от партии кадетов – 96
Ионов (наст. фам. Бернштейн) Илья Ионович (1887–1942, умер в заключении), заведующий петроградским отделением Госиздата, в 1928–29 гг. зав. изд-вом «Земля и фабрика», брат З. И. Лилиной, жены Г. Е. Зиновьева – 241, 242, 274, 277, 280, 316, 335, 372, 387
Иорданская М., см. Куприна-Иорданская М. К.
Иорданский Николай Иванович (1876–1928), публицист, редактор журнала «Современный мир» – 306, 382
Ирвинг Генри (наст. имя и фам. Джон Генри Бродрибб) (1838–1905), английский актер, режиссер – 544
Исайка, см. Дворищин И. Г.
Искандер, см. Герцен А. И.
К. P. (псевд. Константина Константиновича Романова, 1858–1915), великий князь, поэт – 166
Каверин Вениамин Александрович (1902–1989), писатель – 12
Казик, см. Добраницкий К. М.
Калинин Михаил Иванович (1875–1946), государственный и партийный деятель – 361
Каль Алексей Федорович (1878–1948, умер за границей), музыковед – 168
Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681), испанский драматург – 533
Каменев Лев Борисович (1883–1936, расстрелян), деятель ВКП(б), директор изд-ва «Academia» – 316, 349
Каменский Анатолий Павлович (1876–1941, умер в лагере), писатель – 149, 154, 171; 570, 571
Каминский, см. Гальперин-Каминский И. Д.
Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии – 49, 50, 58, 404, 433, 438, 449, 452–453, 456, 458; 561
Канунникова Ольга, литератор – 554
Каплун Борис Гитманович (1894–1938), член коллегии отдела управления Петросовета – 294, 296, 297, 301–304, 306, 307, 311–313,327, 327–329; 590, 605
Каплун Клара Гитмановна (1892–1953), сестра Б. Г. Каплуна – 303
Карагеоргиевичи, сербская династия – 599
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк – 13, 32, 94
Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943), художник – 217
Кареев Николай Иванович (1850–1931), русский историк, социолог, публицист – 400, 435
Карлейль Томас (1795–1881), английский философ, историк – 242, 517, 534
Кармен Дина Львовна, жена Л. О. Кармена – 146
Кармен Лазарь Осипович (1876–1920), писатель – 53, 78, 87, 114, 116, 146, 161–162, 195; 560
Кармен Роман Лазаревич (1906–1978), кинооператор, режиссер – 560
Карпентер Эдуард (1844–1929), английский поэт и публицист – 229
Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978, умерла за границей), артистка балета, сестра Л. П. Карсавина – 208
Картавов Пётр Алексеевич (1873–1941), библиограф, коллекционер – 386
Кассо Лев Аристидович (1865–1914), министр народного просвещения (1910–1914) – 240
Катилина (ок. 108–62 до н. э.), римский претор – 157
Катон Цензор Марк Порций, Катон Старший (ок. 234 до н. э. – 149 до н. э.), полководец и политический деятель Древнего Рима, первый латинский писатель-прозаик – 401
Каульбах Вильгельм (1805–1874), немецкий художник – 197
Каутский Карл (1854–1938), один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала – 141–142
Кауфман Абрам Евгеньевич (1855–1921), публицист – 390
Кац Борис, одесский журналист, приятель К. Ч. – 16, 30, 51, 56, 66, 108
Кац Дора, сестра Б. Каца – 30, 51, 56, 66
Квитка-Основьяненко Григорий Федорович (1778–1843), украинский писатель – 159
Керенский Александр Федорович (1881–1970, умер за границей), адвокат, министр-председатель Временного правительства – 207, 220, 224, 226, 233, 237
Керженцев (наст. фам. Лебедев) Платон Михайлович (1881–1940), партийный деятель, критик, публицист – 321
Керн Анна Петровна (1800–1879), мемуаристка – 28
Кибальчич Николай Иванович (1853–1881), народник, изобретатель – 167
Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933, умер за границей), историк, публицист – 352
Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936), английский поэт, писатель – 152–154; 602
Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1937, расстрелян), поэт – 240
Киселева Вера Борисовна, родственница Е. А. Киселевой – 318, 321, 331
Киселева Елена Андреевна (1873–1974, умерла за границей), художница, дочь математика А. П. Киселева – 209
Кистяковский Богдан Александрович (1868–1920), социолог, правовед, мыслитель – 563
Китс Джон (1795–1821), английский поэт – 77, 93, 140, 494; 564
Клейнер Моисей Соломонович, одесский журналист – 45, 46, 68
Клодд Эдвард (1840–1930), банкир, специалист по антропологии и фольклору, один из основателей «Фольклорного общества» – 533
Клюкин Максим Васильевич (? – начало 1920-х гг. книгоиздатель) – 575
Клячко-Львов Лев Моисеевич (1873–1934), журналист, владелец изд-ва «Радуга» – 172
Книпович Евгения Федоровна (1898–1988), литературовед – 331, 382; 594
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959), актриса, жена А. П. Чехова – 262
Кнорозовский Исай Моисеевич (1858–1914), писатель, редактор-издатель журнала «Театральная Россия», председатель правления Общества еврейской народной музыки – 117, 120
Кобден Ричард (1804–1865), английский политический деятель, поборник идеи свободной торговли – 499
Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог, академик Петербургской Академии наук – 400
Коган Лев Рудольфович (1885–1959), литературовед, соученик К. Ч. – 556
Коган Петр Семенович (1872–1932), критик-марксист – 349–351, 353
Коган Раиса Давыдовна, одесская знакомая Чуковских – 118, 155
Коган-Нолле Надежда Александровна (1888–1966), жена П. С. Когана – 349–151
Козловский Александр Николаевич (1864–1940, умер в эмиграции), генерал, командующий артиллерией крепости Кронштадт – 591–592
Козловский Павел, сын А. Н. Козловского, соученик Л. К. Чуковской – 342; 591–592
Колесниченко Григорий, матрос с броненосца «Потемкин» – 121
Колович Владимир Иосифович и его жена Софья Михайловна, одесские знакомые К. Ч. – 36
Колридж Самюэл Тейлор (1772–1834), английский поэт – 300, 378
Колтоновская Елена Александровна (1870–1952), критик – 234
Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 292
Комаров Виссарион Виссарионович (1838–1907), редактор-издатель журналов «Звезда», «Свет» – 132
Комманвиль, племянница Г. Флобера – 557
Коммиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910), актриса – 68, 168, 197; 566
Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, писатель, общественный деятель – 11, 196, 205–206, 239, 249–250, 253–256, 265, 285, 331, 335, 350, 388; 578, 595
Конт Огюст (1798–1857), французский философ, социолог – 319, 435
Конухес Григорий Борисович, детский врач – 321–322
Копельман (урожд. Беклемишева) Вера Евгеньевна (1881–1944), писательница, переводчица, секретарь изд-ва «Шиповник» – 165, 273
Копельман Соломон Юльевич (1881–1918), совладелец и главный редактор изд-ва «Шиповник» – 165, 232, 240, 273
Коппе Франсуа Эдуар Жоашен (1842–1908), французский поэт, прозаик, драматург – 254
Корвин Ада (наст. имя и фам. Ада Адамовна Юшкевич, умерла в 1919), актриса, танцовщица-босоножка, друг Л. Д. Менделеевой-Блок – 217
Корнейчукова Екатерина Осиповна (1856–1931), мать К. Ч. – 5–6, 25, 26–27, 30, 35, 43, 56, 78, 108, 124, 126, 151, 159, 160, 162; 564
Корнейчукова Мария Эммануиловна (Маруся, Маня, 1879–1934), сестра К. Ч. – 6, 25, 26, 30, 69, 78, 79, 86, 96, 108, 114, 148, 154, 159, 160, 178; 565
Корнелий Непот (около 100 до н. э. – после 32 до н. э.), древнеримский историк и поэт – 470
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), генерал царской армии – 233
Коровин Константин Алексеевич (1861–1939, умер за границей), художник – 197
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель – 6, 41, 129, 130, 153–155, 161, 170–174, 176, 180, 181, 182, 184, 185, 223, 234; 558, 571–574
Короленко (урожд. Ивановская) Евдокия (Авдотья) Семеновна (1855–1940), жена В. Г. Короленко – 181, 184
Короленко Софья Владимировна (1886–1957), литературовед, дочь В. Г. Короленко – 184
Косаковский А. А., историк, литературовед – 592
Косенко Иван, ученик К. Ч. – 18, 28
Косенко Мария Кириаковна, сестра Н. К. Макри, мать Ивана Косенко – 36
Косоротов Александр Иванович (1868–1912), драматург, прозаик, публицист – 135
Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), литературовед, академик – 160, 335, 387
Коцебу Август (1761–1819), немецкий писатель – 115
Крамской Иван Николаевич (1837–1887), живописец – 181, 194
Кранихфельд Владимир Павлович (1865–1918), критик – 129
Крафт-Эббинг Рихард (1840–1903), немецкий психиатр – 497
Крачковский Степан Петрович (1866–1916), полковник царской армии, коллекционер – 203, 204
Кремер Иза (Лия) Яковлевна (1890–1956, умерла за границей), певица, жена И. М. Хейфеца – 201
Крестовский Всеволод Владимирович (1840–1895), писатель – 231
Кречетов (наст. фам. Соколов) Сергей Алексеевич (1878–1936, умер за границей), владелец и главный редактор изд-ва «Гриф», редактор журналов «Золотое руно» и «Перевал» – 137
Крживицкий (Кшивицкий) Людвиг (1859–1941), польский ученый и публицист, занимался основами научного социализма, аграрным вопросом – 24
Кривцов Николай Иванович (1791–1843), корреспондент А. С. Пушкина, участник войны 1812 года – 28
Кристи Михаил Петрович (1875–1956), уполномоченный Наркомпроса в Петрограде (1918–1926), зам. зав. Главнауки (с 1926 г.) – 335, 342
Кропоткин Александр Алексеевич (1840–1886), общественный деятель, брат П. А. Кропоткина – 224
Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921), князь, теоретик анархизма, публицист, историк, географ – 222–230, 365; 580
Кропоткина Александра Петровна (1885–1966, умерла за границей), дочь П. А. Кропоткина – 222–225
Кропоткина Софья Григорьевна (1856–1942, умерла за границей), художница, жена П. А. Кропоткина – 223–224, 226
Крупнов А. Е., поэт – 39
Крученых Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт – 193
Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец – 203, 322, 455; 597
Крючков Петр Петрович (1889–1938, расстрелян), секретарь М. Ф. Андреевой, впоследствии секретарь А. М. Горького – 299
Ксенофонт (ок. 430–355 или 354 до н. э.), древнегреческий писатель и историк – 406
Кублицкая-Пиоттух Александра Андреевна (1860–1923), переводчица, детская писательница, мать А. А. Блока – 331, 346, 349, 354
Кудрявцев Алексей Павлович, комиссар библиотечной комиссии – 290
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт – 161, 174, 256, 272, 335
Кузьмин Николай Николаевич, служащий Наркомпроса – 335, 387
Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927, умер в эмиграции), юрист, публицист, сотрудник «Вестника Европы», «Русских ведомостей» – 142
Куинджи Архип Иванович (1841–1910), художник – 218
Кулаков Петр Ефимович (1867–?), этнограф, публицист, директор-распорядитель изд-ва «Общественная польза» – 173
Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897), украинский писатель – 159
Кульбин Николай Иванович (1866–1917), военный врач, художник, критик – 207
Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель – 6, 128, 129, 132, 144, 150, 151, 154, 155, 165, 167, 250–252, 254, 264, 267, 316; 567, 571–573
Куприна Елисавета Морицовна (1882–1942), вторая жена А. И. Куприна – 151
Куприна-Иорданская (урожд. Давыдова) Мария Карловна (1879–1966), издательница журнала «Мир Божий» (с 1906 г. «Современный мир»), первая жена А. И. Куприна – 129, 132, 306; 590, 601
Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), князь, политический деятель – 314
Курганов Николай Гаврилович (1725?–1796), просветитель, педагог, издатель – 147
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), русский генерал от инфантерии – 542
Курочкин Николай Степанович (1830–1884), поэт – 226
Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), художник – 217
Кушинниковы, куоккальские знакомые К. Ч. – 209, 220, 233
Кшесинская Матильда Феликсовна (1872–1971, умерла за границей), балерина – 320
Лаврентьев Андрей Николаевич (1882–1935), режиссер петроградского Большого драматического театра – 292
Лавров Валентин Викторович (р. 1935), литературовед – 562
Лавров Петр Лаврович (псевд. Миртов, 1823–1900), писатель и политический деятель – 435
Ладыженский Владимир Николаевич (1859–1932), писатель, поэт, критик, журналист – 567
Лажечников Иван Иванович (1792–1869), писатель – 290
Лазарович Соломон Борисович, журналист газеты «Одесские новости», член Литературно-артистического об-ва – 54
Лазурский Владимир Федорович (1869–1943), историк литературы – 75, 79–81, 84–88, 92–94
Ландесман Мариам (Маня), одесская знакомая К. Ч. – 19
Лассаль Фердинанд (1825–1864), немецкий социалист – 438
Лаудон (Louden), сотрудник Англо-русского бюро – 228, 232
Лебедев Борис Федорович (1877–1948), театральный критик, переводчик, зять П. А. Кропоткина – 222, 224, 226
Лебедев Владимир Васильевич (1891–1967), художник – 321–322, 333
Лебедев-Полянский Павел Иванович (1881–1948), в 1921–1930 гг. начальник Главлита – 241
Левенсон Эммануил Соломонович (1851–?), отец К. Ч. – 79, 564
Левенфиш Елена Григорьевна (1916–1992), искусствовед – 579
Левин Давид Самойлович (1891–1929), сотрудник изд-ва «Всемирная литература» – 285–286; 586
Левин Юрий Давидович (1920–2006), литературовед – 586
Левинсон Андрей Яковлевич (1887–1933, умер за границей), художественный и театральный критик – 243, 258, 282, 291, 320
Левитан Исаак Ильич (1860–1900), художник – 255
Левитский Николай Васильевич (1859–1936), писатель, занимался организацией земледельческих и ремесленных артелей – 53
Легальен (Le Galliene Richard, 1866–1947), английский поэт, критик – 96
Ледницкий Александр Робертович (1866–1934), юрист, публицист, член 1-й Государственной Думы – 140
Лемберк Михаил Евгеньевич (1878–?), доктор медицины, переводчик социал-демократической литературы – 133, 135
Лемберк (Лифшиц) Раиса Григорьевна (1883–1975), писательница, жена М. Е. Лемберка, дочь писателя Г. Г. Лифшица – 135
Лемерсье Клара Федоровна, жена К. А. Лемерсье, владельца выставочного зала в Москве – 215
Лемке Михаил Константинович (1872–1923), историк литературы – 316, 345
Ленин Владимир Ильич (1870–1924), политический деятель – 11, 248, 255, 278, 280, 283, 320, 359–360, 365, 367; 589
Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер – 195
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт – 16, 157, 163, 201, 211, 288, 307, 319, 323, 344, 352, 498; 559, 592, 599
Лернер Николай Осипович (1877–1934), историк литературы, пушкинист – 11, 258, 279, 282, 283, 286, 287, 302, 303, 306, 316, 357, 390; 586
Лесевич Владимир Викторович (1837–1905), русский философ-идеалист – 435
Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель – 172–173
Леткова-Султанова Екатерина Павловна (1856–1937), писательница – 374, 380
Либрович Сигизмунд Феликсович (1855–1918), журналист, историк – 157
Лившиц Бенедикт Константинович (1886–1938, расстрелян), поэт, переводчик – 205
Лидин Владимир Германович (1894–1979), писатель – 350
Лилина Злата Ионовна (1882–1929), член Петрогубисполкома, зав. Губ. Соцвоса, зав. отделом учебников Главсоцвоса при московском Госиздате РСФСР, первая жена Г. Е. Зиновьева – 309, 386
Липа, Липочка, см. Мартынова О. П.
Липочка, см. Гальперина-Гринштейн О. Б.
Липпи Фра Филиппо (ок. 1406–1469), итальянский художник – 350; 593
Лисовский Моисей Ионович (1887–1938, расстрелян), комиссар по делам печати и пропаганды в Петрограде – 266
Литовченко Александр Дмитриевич (1835–1890), художник-передвижник – 187
Лифшиц Ольга Григорьевна, одесская знакомая К. Ч., дочь еврейского писателя Г. Г. Лифшица – 42–43, 116
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999), академик, историк литературы – 586
Лихтенберже Фредерик (1832–1899), французский богослов – 67–68; 562
Ллойд Джордж (1863–1945), английский государственный деятель – 344, 367
Лозинский Григорий Леонидович (1899–1942, умер за границей), переводчик, специалист по португальской литературе, брат М. Л. Лозинского – 258, 594
Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955), поэт, переводчик – 249, 265, 282, 295, 389
Лозовская Клара Израилевна (1924–2011), секретарь К. И. Чуковского – 554
Локк Джон (1632–1704), английский философ-материалист – 405
Ломброзо Чезаре (1835–1909), итальянский психиатр, криминалист – 193
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807–1882), американский поэт, переводчик – 161, 201, 333; 568, 577
Лондон Джек (1876–1916), американский писатель – 190, 235; 576
Лордкипанидзе Зекерия Дурсунович (1892–1937, расстрелян), член ЦИК СССР – 241
Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1881), граф, министр внутренних дел и шеф жандармов (1880–1881) – 230
Лосицкий Александр Емельянович (1869–1944), экономист, публицист – 424, 427; 596
Лоуэлл Джеймс Рассел (1819–1891), американский поэт, критик, публицист – 110
Лохвицкая Мирра Александровна (1869–1905), поэтесса, сестра Н. А. Тэффи – 47, 118; 559
Луговая Любовь Андреевна, жена А. Лугового – 140
Луговой А. (наст. имя и фам. Алексей Алексеевич Тихонов, 1853–1914), писатель – 118, 121, 135, 136, 140, 171
Луи Филипп (1773–1850), французский король – 405
Лукашевич Клавдия Владимировна (1859–1931), детская писательница – 256
Лукреций, Тит Лукреций Кар (ок. 95 – ок. 55 до н. э.), римский поэт-философ – 136
Луначарская Анна Александровна (1883–1959), первая жена А. В. Луначарского – 236–239
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), нарком просвещения, историк литературы, критик – 236–241, 247–248, 252, 254, 267, 268, 298, 299, 321, 354; 588, 605
Луначарский Антон Анатольевич (1911–1943, погиб на фронте), сын А. В. Луначарского, военный корреспондент – 237, 238
Лунц Евгения Натановна (в замужестве Hornstein, ок. 1907–1971, умерла за границей), сестра Льва Лунца – 320
Лунц Лев Натанович (1901–1924, умер за границей), писатель – 358, 365; 593
Лурье Артур Сергеевич (1891–1966, умер за границей), композитор – 321, 389–390
Любимов Александр Михайлович (1879–1955), художник, сотрудничал в журнале «Сигналы» – 149
Любовь Абрамовна, см. Ческис Л. А.
Люция Александровна, см. Чистякова Л. А.
Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942, умер за границей), историк литературы, критик – 137, 142, 144
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт – 121, 283, 557, 566, 599
Майков Валериан Николаевич (1823–1847), критик и публицист – 219
Майская Татьяна Александровна (?–1940), писательница – 168
Мак Ленан Джон Фергюсон (1827–1881), английский законодатель и этнолог – 400
Маковицкий Душан Петрович (1866–1921), врач, друг и единомышленник Л. Н. Толстого – 571
Маковский Сергей Константинович (1877–1962, умер за границей), художественный критик и поэт – 150
Макри Надежда Кириаковна, одесская знакомая К. Ч., жившая в соседнем доме – 20, 160
Максимов Дмитрий Евгеньевич (1904–1987), литературовед – 595, 596
Малаховская – 226
Мальвина, см. Мрост М. М.
Мальтус Томас Роберт (1766–1834), английский экономист, основоположник концепции мальтузианства – 519–521
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852–1912), писатель – 51
Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), промышленник, меценат, театральный и музыкальный деятель – 192
Мамонтовы С. И. и его жена Елизавета Григорьевна (1847–1908) – 199
Мандельштам Иосиф Емельянович (1846–1911), историк литературы – 291, 587
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938, погиб в лагере), поэт – 205, 318, 321, 577
Манухин Иван Иванович (1882–1958, умер за границей), врач – 248, 251, 253, 322
Марат Жан Поль (1743–1793), деятель Великой французской революции – 240
Маргарита Федоровна, см. Николаева М. Ф.
Маринетти Филиппе Томмазо (1876–1944), итальянский писатель, основоположник футуризма – 196
Мария Иосифовна, секретарь Б. Г. Каплуна – 311
Мария Николаевна (1819–1876), великая княгиня – 182
Мария Федоровна, см. Андреева М. Ф.
Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884), писатель – 476
Маркс Адольф Федорович (1838–1904), издатель и книгопродавец – 209, 579, 603–604
Маркс Гершель (1777–1838), адвокат, отец К. Маркса – 414
Маркс Карл (1818–1883), политический деятель, философ – 43, 137, 141, 143, 150, 353, 395–398, 401, 403, 404, 406, 407, 409–412, 414, 421, 424, 427, 430, 435, 438, 456, 457, 503, 539
Мартынова Олимпиада Прохоровна, подруга М. Корнейчуковой, крестная мать Н. К. Чуковского – 76, 79, 82
Масарик Томаш Гарриг (1850–1937), президент Чехословакии в 1918–35 гг. – 569
Масперо Гастон (1846–1916), французский египтолог – 285, 586
Матэ Василий Васильевич (1856–1917), гравер – 219
Махлины, соседи А. Н. Тихонова – 269, 274
Мачтет Григорий Александрович (1852–1901), писатель – 171, 173
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт – 6,8, 11, 210, 240, 263, 297, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 336, 351, 355, 552, 582, 588, 589, 593, 604
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940, расстрелян), режиссер, театральный деятель – 183, 184. 201, 351, 352
Мейсонье (Месонье) Жан Луи Эрнест (1815–1891), французский живописец, график и скульптор – 515
Менгер Карл (1840–1921), австрийский экономист – 133, 134, 568
Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907), химик, чл. – корр. Академии наук – 203
Менделеева-Кузьмина Мария Дмитриевна (1886–1952), сестра Л. Д. Менделеевой, дочь Д. И. Менделеева – 203
Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918, расстрелян), русский мыслитель, публицист и общественный деятель, ведущий сотрудник газеты «Новое время» – 44–46, 50, 432, 559
Мережковские (З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский) – 163, 164, 174, 213, 241, 242, 281, 297
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941, умер за границей), писатель – 11, 12, 148, 151, 213, 250, 251, 252, 254–256, 259, 267, 274, 275, 277, 281, 285, 286, 288, 294, 295, 297, 302, 524, 539, 571, 573, 582, 584, 589
Метерлинк Морис (1862–1949), бельгийский писатель – 336, 544, 599
Метт Борис Абрамович, журналист, член Литературно-артистического общества – 72
Мечников Лев Ильич (1838–1888), социолог, географ – 143
Мещерский Владимир Петрович, князь (1839–1914), журналист, издатель – 392, 474
Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт – 516, 532
Милашевский Владимир Алексеевич (1893–1976), художник – 374, 379, 381
Милль Джеймс (1773–1836), английский философ, историк, экономист или Милль Джон Стюарт (1806–1873), английский экономист, сын Джеймса Милля – 490, 502
Мильтон Джон (1608–1674), английский поэт – 140
Милюков Павел Николаевич (1859–1943, умер за границей), лидер кадетов, публицист, историк, депутат 3-й и 4-й Государственный Думы, министр иностранных дел Временного правительства – 116, 205, 207, 539, 578
Милюкова Анна Сергеевна (1861–1935, умерла за границей), жена П. Н. Милюкова – 207
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889), поэт, сатирик, переводчик – 226
Минский Н. (псевд. Николая Максимовича Виленкина, 1855–1937, умер за границей), поэт – 115–116, 118, 565
Миролюбов (псевд. Миров) Виктор Сергеевич (1860–1939), певец, редактор-издатель «Журнала для всех» – 118, 148, 210
Миртов, см. Лавров П. Л.
Митницкий А., соученик К. Ч. по гимназии – 17, 19, 40
Михайловский Николай Константинович (1842–1904), критик, публицист – 26, 34, 48, 49, 51, 143, 167, 182, 262, 264, 369, 400, 409, 411, 435, 439, 440, 444, 461, 501, 557, 559, 596, 597
Михайлов-Шеллер, см. Шеллер А. К.
Мишакова Ольга Павловна (1912–1970), секретарь ЦК ВЛКСМ – 7
Мовшенсон Александр Григорьевич (1895–1965), театровед, брат Е. Г. Полонской – 281
Мод Эйлмер (1858–1938), английский писатель, переводчик Л. Н. Толстого, первый его английский биограф – 85
Модзалевский Борис Львович (1874–1928), библиограф, историк литературы – 335
Молешотт Якоб (1822–1893), физиолог – 171
Молчанов Анатолий Евграфович (1856–1921), председатель Театрального общ-ва – 208
Молчанова Елизавета Анатольевна, секретарь Н. Н. Евреинова – 201, 208
Монахов Николай Федорович (1875–1936), актер Государственного Большого драматического театра – 349
Монтескье Шарль Луи (1689–1755), французский просветитель, правовед, философ – 408
Мопассан Ги де (1850–1893), французский писатель – 460, 520–521
Моравская Мария Людвиговна (1889–1947, умерла за границей), поэт – 575
Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), граф, адмирал, член Государственного Совета – 84
Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905), русско-украинский писатель, историк – 41
Мордухович Роза (умерла в 1956 г. за границей), жена А. М. Арнштама – 203
Мордуховичи (Александр, Давид, Женя, Элла), семья коммерсанта, петербургские знакомые Чуковских – 128, 129
Морис Фредерик Девизон, профессор теологии, основатель колледжа – 534, 535, 537
Морозов Петр Осипович (1854–1920), историк литературы – 334–335
Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905), фабрикант, меценат – 280
Морозова, вдова П. О. Морозова – 334–335
Моррис Уильям (1834–1896), английский художник, писатель, теоретик искусства – 533
Москвинов Р., литературовед – 575
Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791), композитор – 91, 333
Мошин Алексей Николаевич (1870–1928), писатель – 150
Мрост Давид Маркусович (1883–?), одесский знакомый К. Ч. – 14–16, 17, 26, 38, 50, 69, 118, 155
Мрост Мальвина Маркусовна (1874–?), одесская знакомая К. Ч. – 25
Мрост Федора Маркусовна (1881–?), одесская знакомая К. Ч. – 15–16, 18, 25, 28, 36, 38–39, 69
Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924), писатель – 250, 251, 252
Мур Томас (1779–1852), английский поэт – 124, 127, 566
Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866), граф, генерал от инфантерии – 310, 317, 323, 588, 604
Муратов Павел Павлович (1881–1950, умер за границей), искусствовед – 353
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор – 168, 177, 574
Мюссе Альфред де (1810–1857), французский писатель – 230
Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937, выслан, умер за границей), историк и публицист – 180
Мясоедов Григорий Григорьевич (1834–1911), художник – 166
Мятлев Иван Петрович (1796–1844), поэт, автор «Сенсаций и замечаний г-жи Курдюковой…» – 223, 580
Н. Д., см. Немирович-Данченко Вас. И.
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922, убит), один из лидеров кадетов, юрист, редактор-издатель газеты «Речь» – 180, 214
Навроцкий Василий Васильевич (1851–1911), владелец, издатель и редактор «Одесского листка» – 37
Надежда Филипповна, см. Фридланд Н. Ф.
Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт – 70
Найденов Сергей Александрович (наст. фам. Алексеев, 1869–1922), писатель, драматург – 116, 561
Наполеон I (Наполеон Бонапарт, 1769–1821), французский император – 27
Наппельбаум Моисей Соломонович (1869–1958), фотограф-художник – 346, 592
Наумов Виктор Петрович (р. 1959), историк, источниковед – 592
Нахимсон Семен Михайлович (1885–1918), деятель революционного движения, расстрелян белогвардейцами – 323
Неведомский (псевд. Михаила Петровича Миклашевского, 1866–1943), партийный деятель, публицист – 69, 223, 562
Недзельская Елена Васильевна (Боскович, умерла в заключении в 1944 г.), одесская знакомая К. Ч., жена литератора Владимира Осиповича Недзельского, друга семьи Буниных – 68, 88
Некрасов Алексей Сергеевич (1788–1862), отец Н. А. Некрасова – 387–388
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877), поэт – 14, 17, 29, 39, 116, 157, 190, 201, 206, 209, 223, 230–232, 246, 253, 263, 264, 266–269, 279, 287, 293, 305–307, 312, 317, 322, 325, 331, 345, 351, 352, 386–388, 491; 556, 557, 565, 578–580, 582, 582–584, 588, 594–596, 599, 604
Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940, расстрелян), кадет, член 3-й и 4-й Государственной Думы, министр Временного правительства – 226
Некрасов Федор Алексеевич (1827–1913), брат Н. А. Некрасова – 269
Некрасова Зинаида Николаевна (наст. имя и фам.: Фекла Онисимовна Викторова, 1851–1915), жена Н. А. Некрасова – 206, 269, 388
Нельдихен Сергей Евгеньевич (1891–1942), поэт, критик – 374
Немеровская О., литературовед – 580
Немирович-Данченко Василий Иванович (1844–1936, умер за границей), писатель – 166–167, 178, 249, 250, 294, 390, 424, 635
Нерадовский Петр Иванович (1875–1962), художник, главный хранитель Русского музея – 294, 587
Нетупская Ядвига А., партийный работник, директор Ин-та политпросветработы им. Н. К. Крупской, делегат 17-го съезда ВКП(б) – 386
Никитенко Александр Васильевич (1804–1877), критик, историк литературы, цензор, автор «Дневников» – 12
Никитин Иван Саввич (1824–1861), поэт – 157, 287
Никитин Николай Николаевич (1895–1963), писатель – 358, 365–366
Николаева Маргарита Федоровна, преподавательница гимназии, близкий друг Т. А. Богданович – 180, 184
Николай I (1796–1855), росс. император с 1825 г. – 115, 307
Николай II (1868–1918, расстрелян), росс. император (1894–1917 гг.) – 187, 255, 339, 349, 568, 574, 578, 588
Николай Михайлович (1859–1919, расстрелян), великий князь, историк – 261
Нимфа, см. Городецкая А. А.
Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 67, 71, 248, 432, 447–451, 455, 476, 492, 523, 562, 597
Новгородцев Павел Иванович (1866–1924), юрист, философ – 563
Норвежский О. (псевд. Оскара Моисеевича Картожинского, 1882–1933), писатель, журналист – 382
Нордман (псевд. Северова) Наталья Борисовна (1863–1914), писательница, жена И. Е. Репина – 152, 175, 183, 189, 202, 204, 205, 572
Нордман Евгения Оскаровна (1875–?), жена Ф. Б. Нордмана – 183, 204
Нордман Федор Борисович (1860–1926, умер за границей), статский советник, брат Н. Б. Нордман – 204, 205
Нотгафт Федор Федорович (1896–1942), художник, искусствовед, глава частного изд-ва «Аквилон» – 342
Нотович Осип Константинович (1849–1914), редактор-издатель газеты «Новости» – 171, 184
Ньютон Исаак (1643–1727), английский математик, механик, астроном, физик – 528
О‘Генри (псевд. Уильяма Сидни Портера, 1862–1910), американский писатель – 227, 242, 605
О. Л. Д’Ор, Ольдор (псевд. Иосифа Львовича Оршера, 1878–1942), писатель – 131, 164, 172, 177, 183–184, 186, 345, 346
Облонская Екатерина Владимировна, организатор выступлений А. Блока – 349
Обух-Вощатынский Цезарь Иванович, следователь по особо важным делам – 129, 130, 132, 567, 601
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920), историк литературы, критик – 150
Одоевцева Ирина Владимировна (1895–1990), поэт – 319, 587
Олимпиада Прохоровна, см. Мартынова О. П.
Олимпов Константин Константинович (1889–1940), поэт – 358
Оллендорф Генрих Годфрид (1803–1865), немецкий лингвист, изобрел популярный метод изучения новых языков – 27
Оль Андрей Андреевич (1833–1958), архитектор – 590
Ольга Александровна (1882–1960), великая княгиня, художник, иконописец, сестра Николая II – 188
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934), востоковед-индолог, академик – 268, 270, 271, 282, 285–288, 291, 319, 563
Омега, см. О. Л. Д’Ор
Омулевский Иннокентий Васильевич (1836–1883), писатель – 144, 146, 496, 570
Орловский Владимир Донатович (1842–1914), украинский художник – 218
Оршер, см. О. Л. Д’Ор
Осипович Наум Маркович (1870–1937), прозаик, общественный деятель – 164
Осоргин Михаил Андреевич (1878–1942, умер за границей), писатель – 353
Острогорский Александр Яковлевич (1868–1908), педагог, редактор журнала «Образование» – 383
Ося, см. Гольдфельд И. Б.
Оуэн (Owen) Роберт (1771–1858), английский социалист-утопист – 219
Оцуп Николай Авдиевич (1894–1958, умер за границей), поэт – 274, 276, 279, 300, 306, 336, 344
Оцуп Павел Авдиевич (1890–1920, расстрелян), брат Н. А. Оцупа – 300
Оцуп Рахиль Соломоновна (1864–1936, умерла за границей), мать Н. А. и П. А. Оцупов – 276, 277
П. Я., см. Якубович П. Ф.
Павел I (1754–1801, убит), росс. император с 1796 г. – 115
Павленков Флорентий Федорович (1839–1900), русский книгоиздатель – 548
Павлович Надежда Александровна (1895–1980), поэт – 344
Паганини Николо (1782–1840), итальянский скрипач, композитор – 172
Падеревский Игнацы Ян (1860–1941), польский пианист, композитор, политический деятель – 346
Пакстон Джозеф (1801–1865), английский садовод и изобретатель, создатель знаменитого хрустального дворца в Лондоне – 529–530
Панаев Иван Иванович (1812–1862), писатель, журналист – 459
Панаева Авдотья Яковлевна (1819–1893), писательница, мемуаристка, гражданская жена Н. А. Некрасова – 268
Панасенко Наталья Николаевна, краевед – 554, 555, 558, 563, 564
Пане-Братцев (Панебратцев), знакомый К. Ч. – 155
Панин Григорий Иванович, сотрудник конторы журнала «Нива» – 205
Пассек Татьяна Петровна (1810–1889), друг юности и родственница А. И. Герцена, жена историка В. В. Пассека – 147, 570
Патти Аделина (1843–1919), итальянская певица – 322
Паульсен Фридрих (1846–1908), немецкий философ-новокантианец – 449
Паша, двоюродная сестра К. Ч., нянька Коли – 132
Перевертанный-Черный Николай Александрович, юрист, первый муж художницы Е. А. Киселевой – 217
Переферкович Наум Абрамович (1871–1940, умер в эмиграции), публицист, переводчик Талмуда на русский язык, один из издателей «Еврейской энциклопедии» – 167
Перовская Софья Львовна (1853–1881), революционерка-народница – 37
Петр I (1672–1725), росс. император – 211, 240, 580
Петров Григорий Спиридонович (1868–1925, умер за границей), священник, литератор – 151, 168, 175, 176
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939), художник – 285
Петровский Мирон Семенович (р. 1932), литературовед, историк литературы – 556
Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933, выслан, умер за границей), публицист, сотрудник журнала «Русское богатство», статистик – 180, 424–426, 596
Пешков Максим Алексеевич (1897–1934), сын А. М. Горького – 586
Пий Х (Джузеппе Сарто, 1835–1914), Папа Римский – 469
Пильняк Борис Андреевич (1894–1938, расстрелян), писатель – 347, 582
Пильский Петр Моисеевич (1876–1941, умер за границей), критик – 148, 151, 311
Пиндемонте Ипполито (1753–1828), итальянский поэт – 27, 557, 569
Пинеро Артур Уинг (1855–1934), английский драматург – 544
Пинкевич Альберт Петрович (1883–1937, расстрелян), педагог, сотрудник Комиссии по улучшению быта ученых – 307, 355
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист, критик – 219, 229, 330, 431, 501, 502
Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель – 177, 182
Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ-идеалист – 319, 393, 404, 465, 502, 516, 517, 518, 548
Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904, убит), государственный деятель – 177
Плеханов (псевд. Бельтов) Георгий Валентинович (1856–1918), философ, публицист, историк – 6, 28, 30, 128, 129, 143, 394, 395–397, 411, 413, 565, 567, 569, 596
Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893), поэт – 39, 578
Плужанский Н., литературовед – 569
Плутарх (ок. 45 – ок. 127), древнегреческий писатель, историк – 399, 404
По Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель, поэт – 165, 492, 534
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), государственный деятель, обер-прокурор Синода – 177
Погодин Александр Львович (1872–1947), психолог, языковед – 168
Подарский (псевд. Николая Сергеевича Русанова, 1859–1939), публицист – 55, 561
Поддубный Иван Максимович (1871–1949), профессиональный борец, атлет – 267
Пожарова Мария Андреевна (1884–1959), поэт, детская писательница – 313
Познер Владимир Соломонович (1905–1992), член группы «Серапионовы братья», позднее французский писатель – 276, 278, 281, 322
Познер Жорж (Георгий Соломонович, 1906–1988), брат В. С. Познера, французский египтолог, академик – 310
Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867), критик и журналист – 70
Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927), художник – 186, 211
Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938, расстрелян), лингвист, один из основателей социолингвистики – 589
Полинковский Аркадий Эммануилович (Арке Мунишевич) (1882–?), преподаватель латыни и греческого языка в одесской гимназии Иглицкого – 48
Полициано Анджело (1454–1494), итальянский поэт – 593
Полонская Елизавета Григорьевна (1890–1969), поэт – 276, 281, 287, 294
Полонский (наст. фам. Гусин) Вячеслав Павлович (1886–1932), критик, издательский деятель – 163
Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт – 132, 160, 292
Поляков Александр Абрамович (1879–1971, умер в эмиграции), одесский знакомый К. Ч., секретарь редакций эмигрантских газет – 135
Поляков Владимир Абрамович (1864–1939), издатель газеты «Современное слово» – 172, 190
Полякова Ада, певица – 217
Полякова Ольга Владимировна, дочь В. А. Полякова – 172
Полянский, см. Лебедев-Полянский П. И.
Попов Борис Петрович (1892/93 – ок. 1943), художник, зав. колонией «Холомки», зять А. Н. Бенуа – 256, 328, 369, 372, 373, 375, 376, 379–381, 383
Посошков Иван Тихонович (1652–1726), экономист и публицист – 314
Поссе Владимир Александрович (1864–1940), публицист, редактор журнала «Жизнь» – 261
Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929), писатель – 218, 246
Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), филолог – 290
Прилукер Яков, одесский литератор – 500, 598
принц Уэльский (1865–1936), с 1910 г. король Великобритании Георг V – 533
Пронин Борис Константинович (1875–1946), артист театра В. Ф. Комиссаржевской, основатель клубов «Бродячая собака», «Привал комедиантов» – 247
Пророкова С. А., литературовед – 576
Прошьян Прош Перчевич (1883–1918), член ВЦИК, нарком почт и телеграфа – 237
Пумпянский Лев Васильевич (1894–1940), литературовед – 334
Пуни Иван Альбертович (1894–1956), живописец, график, художник театра, иллюстратор, автор статей по искусству – 169, 246, 282, 318
Пунин Николай Николаевич (1888–1953, погиб в лагере), зам. наркома просвещения по делам музеев и охраны памятников, искусствовед – 310, 311, 315, 321, 342, 588
Пустынин Михаил Яковлевич (1884–1966), писатель – 69, 72, 130
Пухта Георг Фридрих (1798–1846), немецкий юрист, последователь Ф. Савиньи – 400
Пучков Анатолий Иванович (1894–1973), зам. комиссара продовольствия Петрограда – 296, 297
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт – 7, 8, 27–28, 32, 62, 82, 84, 91, 115, 116, 157, 163, 172, 172, 191, 207, 211, 248, 288, 290, 301, 306, 307, 319, 323, 330, 334, 335, 345, 351, 352, 385, 390, 476, 548, 555, 557, 562, 563, 576, 583, 594
Пушкин Сергей Львович (1770–1848), отец А. С. Пушкина – 172
Пшибышевский Станислав (1868–1927), польский писатель – 116, 157, 158
Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед, культуролог – 460, 580
Пятковский Александр Петрович (1840–1904), журналист – 226
Пятницкий Константин Петрович (1864–1938), директор-распорядитель изд-ва «Знание» – 302
Равич Сарра Наумовна (1879–1957), журналистка, вторая жена Г. Е. Зиновьева – 297, 344
Равницкий Иегошуа Хаймович (1859–1944, умер за границей), издатель и педагог, деятель еврейской культуры – 355
Радаков Алексей Александрович (1879–1942), художник, график – 274, 575
Радецкий Иван Маркович (1853–?), одесский общественный деятель – 53; 560
Разутак, см. Рудзутак Я.
Радлова Анна Дмитриевна (1891–1949, погибла в лагере), поэтесса, переводчица – 137, 389, 595
Раиса, см. Коган Р. Д.
Ракицкий Иван Николаевич (1883–1942), художник – 299
Рапопорт Семен Акимович (псевд. Анский С., 1863–1920), русско-еврейский писатель – 89, 90, 96, 116
Расин Жан (1639–1699), французский драматург – 405
Ратнер М. Б., корреспондент кадетской газеты «Речь» – 115, 565
Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец и архитектор – 516
Рашковский, газетный работник – 51
Редько Александр Мефодьевич (1866–1933), литературовед, сотрудник журнала «Русское богатство» – 171, 177, 276
Редько Евгения Александровна (1894–1984), актриса, дочь А. М. и Е. И. Редько – 264
Редько Евгения Исааковна (1869–1955), критик, жена А. М. Редько – 264, 323
Рейтер Сергей Сергеевич (1879–?), одесский знакомый К. Ч. – 65–66, 156, 562
Реклю Жан Элизе (1830–1905), французский географ – 53, 225, 229
Ре-Ми (наст. фам. Ремизов) Николай Владимирович (1887–1975, умер за границей), художник, постоянный карикатурист журнала «Сатирикон», первый иллюстратор сказки К. Чуковского «Крокодил» – 217, 220, 233
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957, умер за границей), писатель – 138, 161, 169, 256, 264, 321, 335, 344, 358, 573
Ремизова Серафима Павловна (1876–1943, умерла за границей), палеограф, переводчица, жена А. М. Ремизова – 217, 321
Ремизова Софья Наумовна, жена художника Ре-Ми – 217
Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), французский историк, писатель – 47, 51, 80, 559
Репин Василий Ефимович (1854–1918), музыкант-фаготист, брат И. Е. Репина – 153, 192
Репин Илья Ефимович (1844–1930, умер за границей), художник – 6, 8, 11, 149–152, 154, 156, 158, 161, 166, 168–169, 170–172, 175–177, 179, 181–205, 209–211, 214–215, 217–221, 225, 232–233, 247, 255, 282, 344, 345, 531; 550, 570–577, 579, 602–603
Репин Юрий Ильич (1875–1954, умер за границей), художник, сын И. Е. Репина – 190, 210–211
Репина Вера Алексеевна (1855–1918), первая жена И. Е. Репина – 199–200
Репина Вера Ильинична (1872–1948, умерла за границей), актриса, дочь И. Е. Репина – 199–200, 204, 218, 247; 577
Рескин (Рэскин) Джон (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства – 442–443, 490, 498, 516, 518, 533, 535, 537
Рид Томас Майн (1818–1883), английский писатель – 325
Ризнич Амалия (1803–1825), одесская знакомая А. С. Пушкина, адресат его лирики – 84
Рикардо Давид (1772–1823), английский экономист – 421
Родбертус-Ягецов Карл Иоганн (1805–1875), немецкий экономист – 401
Родэ Адолий Сергеевич (ок. 1869–1930, умер за границей), директор петроградского Дома ученых – 317, 327, 347, 355–357, 370
Роза Васильевна, см. Рура Р. В.
Розанов Василий Васильевич (1856–1919), публицист, философ – 136–137, 142, 166–167, 171, 174, 176, 180, 232, 235, 256, 261, 264, 493, 569, 574
Розанова Варвара Дмитриевна (1864–1923), жена В. В. Розанова – 174
Розенфельд (Негрескул-Котылёва, псевд. О. Миртов) Ольга Эммануиловна (1875–1939), писательница, драматург – 167
Розенфельд Исаак Мордухович, редактор-издатель, муж О. Э. Розенфельд – 167
Розинер Александр Евсеевич (1880–1940), управляющий конторой изд-ва «Нива», позднее сотрудник изд-в «Т-во А. Ф. Маркс» и «Радуга» – 210, 308
Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель – 241
Ропет Иван Павлович (1845–1908), академик архитектуры – 218
Рославлев Александр Степанович (1883–1920), поэт – 148
Росс Роберт (Ross Robert Baldwin) (1857–1932), писатель, искусствовед, издатель сочинений Оскара Уайльда – 603
Россетти Данте Габриел (1828–1882), английский художник и поэт – 119, 138, 149, 535, 537
Рубашева Сильва, журналистка – 554
Рудзутак Ян Эрнестович (1887–1938, расстрелян), партийный и государственный деятель – 351
Рузвельт Теодор (1858–1919), президент США в 1901–1919 гг. – 491
Рукавишников Иван Сергеевич (1877–1930), поэт, прозаик, драматург – 268, 583
Руманов Аркадий Вениаминович (1878–1960, умер за границей), юрист, директор изд-ва «Т-во А. Ф. Маркс», коллекционер – 135, 141, 144, 191, 209, 222
Рура Роза Васильевна, буфетчица в изд-ве «Всемирная литература» – 283
Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский писатель и философ – 77
Рюмлинг Елизавета Александровна (1849–1935), сводная сестра Н. А. Некрасова – 312
Саади (между 1203 и 1210–1292), персидский писатель и мыслитель – 141–142, 569
Савина Мария Гавриловна (1854–1915), актриса – 201, 208
Савинков (псевд. В. Ропшин) Борис Викторович (1879–1925), один из руководителей партии эсеров – 222, 226
Савиньи Фридрих Карл (1779–1861), немецкий юрист – 400
Саводник Владимир Федорович (1874–1940), литературовед – 47, 559
Сад Донатьен маркиз де (1740–1814), французский писатель – 174
Садовская Ксения Михайловна (1860–1925), адресат ранней лирики А. Блока – 348, 592
Садовской Борис Александрович (1881–1952), поэт – 137, 201, 202, 203, 308, 577
Садофьев Илья Иванович (1889–1965), поэт – 335
Сазонов Петр Владимирович, зав. хозяйством в Доме искусств – 278, 279, 284, 286, 289, 291, 331, 347, 388
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927, умер за границей), министр иностранных дел (1910–1916) – 296
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889), писатель – 37, 55, 157, 206, 227, 237, 262, 287, 315, 483
Сальери Антонио (1750–1825), итальянский композитор, дирижер и педагог – 91, 333
Самобытник (наст. фам. Маширов) Алексей Иванович (1884–1943), поэт – 303
Санжар (правильно Санжарь) Надежда Дмитриевна (1875–1933), писательница – 153
Сапунов Николай Николаевич (1880–1912), художник – 183
Сарду Викторьен (1831–1908), французский драматург – 543
Саути Роберт (1774–1843), английский поэт – 271, 583, 585
Сахар-Лидарцева Нора Яковлевна (?–1983, умерла за границей), поэтесса, критик, сотрудница газеты «Русская мысль», приятельница О. Глебовой – 302
Свирский Алексей Иванович (1865–1942), писатель – 116, 188
Свифт Джонатан (1667–1745), английский писатель – 567, 599
Святловский Владимир Владимирович (1869–1927), экономист, историк, литературовед, поэт – 177, 178
Северянин Игорь (псевд. Игоря Васильевича Лотарева, 1887–1941, умер за границей), поэт – 297
Сей Жан Батист (1767–1832), французский экономист – 406
Сельвинский Илья Львович (1899–1968), поэт – 10
Сербулы, знакомые К. Ч. – 155, 159, 162
Сергей Моисеевич, служащий в Холомках – 377, 379
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958), писатель – 148, 170, 186, 306, 382, 572, 575
Серов Валентин Александрович (1865–1911), художник – 177, 197, 240, 295, 580
Сеттон-Томпсон Эрнест (1860–1946), канадский писатель – 308
Сиг (псевд. Гольдельмана Семена Израилевича, ок. 1881–1907), журналист – 86
Сигаревич Владимир Дмитриевич (1882–?), одноклассник К. Ч. по 2-й прогимназии – 18, 19, 50
Сильверсван Борис Павлович (1883–1934, умер за границей), литературовед, специалист по скандинавским литературам – 282, 283, 324, 589
Синдерс Т., адресат К. Маркса – 414
Синклер Эптон Билл (1878–1968), американский писатель – 344
Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), критик – 115
Скальковский Константин Аполлонович (1843–1906), публицист, чиновник – 230
Скибицкий Евстафий Романович, преподаватель математики и физики в одесских гимназиях – 42
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), военачальник, генерал от инфантерии – 132
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945, умер за границей), генерал-лейтенант, в 1918 г. гетман «Украинской державы» – 264
Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель – 248, 290, 534
Сладкопевцев Владимир Владимирович (1876–1957), актер, чтец, педагог – 121
Слезкин Юрий Львович (1885–1947), писатель – 249–251
Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878), писатель – 290, 586
Слово-Глаголь (псевд. Сергея Сергеевича Гусева, 1854–1922), журналист – 171
Слонимская-Сазонова Юлия Леонидовна, Диття (1887–1957), актриса, историк театра и балета, сестра М. Л. Слонимского – 129–130
Слонимская (урожд. Венгерова) Фаина Афанасьевна (1857–1944, умерла в эмиграции), мать М. Л. Слонимского – 129
Слонимский Александр Леонидович (1884–1964), литературовед, брат М. Л. Слонимского – 129, 260
Слонимский Леонид (Людвиг) Зиновьевич (1850–1918), русский экономист, юрист и публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 129, 430, 439, 460; 596
Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), писатель, сын Л. З. Слонимского – 9, 264, 279, 297, 323, 336, 365
Случевский Константин Константинович (1837–1904), поэт, публицист – 119, 131, 557
Смит Адам (1723–1790), шотландский экономист и философ – 421
Смоллетт Тобиас Джордж (1721–1771), английский писатель – 567
Соколовская Тира Оттовна (1878–1942), историк, теософ – 117
Соколовы, куоккальские знакомые К. Ч. – 207, 215, 217
Соколянский Марк Георгиевич (р. 1939), литературовед – 558
Сократ (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 20, 393, 435, 461
Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), писатель – 196
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист – 151, 157, 196, 319, 394, 548; 577
Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903), писатель – 256, 310
Соловьев (Андреевич) Евгений Андреевич (1867–1905), критик, историк литературы – 29, 116, 118; 565
Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк, академик, ректор Московского университета – 26
Соловьева (псевд. Allegro) Поликсена Сергеевна (1864–1924), поэт – 129, 157, 186
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), поэт – 8, 12, 166, 174, 186, 208, 213, 239, 245, 248, 252, 253, 266, 285, 288, 304, 305, 552, 573, 582, 586
Сомов Константин Андреевич (1869–1939, умер за границей), художник – 149, 217
Сорин Николай (Иекусиель) В., адвокат, редактор и издатель газеты «Еврейская жизнь» – 118
Сорина, жена Н. В. Сорина – 161
Соснов Як. (псевд. Якова Григорьевича Соскина), журналист – 95
Софокл (ок. 496–406 до н. э.), древнегреческий поэт-драматург – 404
Софронов Ф., философ-неопозитивист – 432
Спенсер Герберт (1820–1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма – 435, 436, 501, 502, 516–519, 528, 598
Сперанский Михаил Нестерович (1863–1938), этнограф, историк – 302
Спесивцева Ольга Александровна (1895–1991, умерла за границей), балерина – 327–329, 605
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ-материалист – 453
Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938), режиссер и актер – 168
Станюкович Константин Михайлович (1843–1903), писатель – 32, 496
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства – 168, 177, 194, 219, 515, 516, 529
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), историки общественный деятель, редактор-издатель журнала «Вестник Европы» – 190, 250, 460
Стендаль (наст. имя и фам. Анри Мари Бейль, 1783–1842), французский писатель – 219
Стерн Лоренс (1713–1768), английский писатель – 567
Стивен Лесли (Stephen Leslie, 1832–1904), английский историк литературы и публицист – 529
Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894), английский писатель – 242, 314, 433, 588
Стил Ричард (1672–1729), английский писатель – 567
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911, убит), государственный деятель, министр внутренних дел – 177, 568
Страхов Николай Николаевич (1828–1896), публицист, критик – 557
Стриндберг Август Юхан (1849–1912), шведский писатель – 495
Строев (псевд. Василия Алексеевича Десницкого, 1878–1958), один из основателей газеты «Новая жизнь» – 267
Струве Александр Филиппович (1874–?), зав. литературным отделом московского Губ. Пролеткульта – 353, 593
Струве Петр Бернгардович (1870–1944, умер за границей), редактор журнала «Русская мысль» – 55, 134, 440, 569, 597
Струкова Евдокия Петровна, секретарь изд-ва «Всемирная литература» – 282, 318, 324, 350
Стэд Вильям Томас (1849–1912), английский журналист, редактор журнала «Review of Reviews» – 502–505, 526, 544, 598
Стюарт Бальфур (1828–1887), шотландский физик, член Лондонского королевского общества – 436
Стюарт Джеймс (1712–1780), английский экономист – 421
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), публицист, литератор, издатель – 70, 132, 206, 226, 232, 281, 346, 578
Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882), петербургский генерал-губернатор (1861–1866) – 223
Судейкин Георгий Порфирьевич (1850–1883), жандармский подполковник – 230
Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1946, умер за границей), художник – 230, 575
Судейкина (Глебова-Судейкина) Ольга Афанасьевна (1890–1945, умерла за границей), актриса, художница – 321, 389
Суинберн Алджернон Чарлз (1837–1909), английский поэт – 77, 80–81, 85, 87–88, 109, 141, 564, 584
Султанов Юрий Николаевич (?–1937), сын Е. П. Летковой-Султановой – 374
Сургучев Илья Дмитриевич (1881–1956, умер за границей), драматург, писатель – 186, 364, 368, 593
Суткевич Мария Генриховна, секретарь московского отделения изд-ва «Всемирная литература» – 350, 355
Сутугина-Кюнер Вера Александровна (1892–1969), секретарь изд-ва «Всемирная литература» – 283
Сухраварди (1890–1965), индус, студент Кембриджа, занимался русским театром – 211
Сцевола Квинт Муций (140–82 до н. э.), римский юрист и государственный деятель – 393
Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), издатель и книготорговец – 151, 188, 205, 209, 210, 280, 575, 577
Сюннерберг (псевд. Эрберг) Константин Александрович (1871–1942, умер за границей), искусствовед, поэт – 281
Тан (наст. фам. Богораз) Владимир Германович (1865–1936), писатель, этнограф – 152, 163
Танеев Александр Сергеевич (1850–1918), обергофмейстер, управляющий Императорской канцелярией, председатель Комитета попечительства о домах трудолюбия и работных домах – 197
Танеев Сергей Иванович (1856–1915), композитор, пианист – 261
Тард Габриэль (1843–1904), французский социолог и криминалист – 439
Тарханова (Тарханова-Антокольская) Елена Павловна (1868–1932), скульптор, племянница М. М. Антокольского, жена И. Р. Тарханова – 133
Татьяна Александровна, см. Богданович Т. А.
Твен Марк (1835–1910), американский писатель – 245, 274, 294; 581, 604
Теккерей Уильям Мейкнис (1811–1863), английский писатель – 77, 78, 241, 540, 564, 567
Телепнев, комендант царскосельских дворцов – 238
Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957), писатель – 173, 174, 584
Теляковский Владимир Аркадьевич (1861–1924), директор Императорских театров (1901–1917) – 378
Теннисон Алфред (1809–1892), английский поэт – 106, 135, 565, 569
Тименчик Роман Давыдович (р. 1945), историк литературы – 554, 587, 589
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920), естествоиспытатель – 171
Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), народоволец, впоследствии сотрудник «Нового времени» – 224
Тихонов, см. Луговой А.
Тихонов (псевд. А. Серебров) Александр Николаевич (1880–1956), писатель, издательский деятель – 242, 245, 247, 253, 258, 259, 263, 266, 269–270, 272, 273, 274, 276, 279, 282–283, 285–287, 289, 318, 326, 333, 357–358, 382; 586, 604
Ткаченко Татьяна Александровна (1908–?), соученица Л. К. Чуковской по Тенишевскому училищу, актриса Ленинградского ТЮЗа – 590
Тойво, см. Антикайнен Т.
Толстая Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 37, 150, 261; 558
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), поэт – 26, 150, 176, 307, 354, 386; 585
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), писатель – 6, 8, 11, 178; 575
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), государственный деятель, министр просвещения (1866–1880) – 240
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель – 12, 19, 23, 37, 38, 53, 58, 60, 85, 118, 148–150, 154–155, 161, 170, 181, 214, 261–262, 283, 287–288, 290, 297, 314, 343, 345, 352, 432, 447–449, 451–453, 475, 483, 502, 515, 539, 548; 552, 556, 558, 561, 570–573, 575, 579, 582, 586–587, 597
Томсон Джеймс (1700–1748), английский поэт – 148
Торнаги Иола Игнатьевна (1873–1965), балерина, первая жена Ф. И. Шаляпина – 577
Тотоша, см. Луначарский А. А.
Траубель Гораций (Traubel Horace, 1806–1853), издатель ежемесячника «Консерватор», мемуарист, друг Уолта Уитмена – 146
Тренделенбург Адольф (1802–1872), немецкий философ – 117
Троцкий Лев Давыдович (1879–1940, выслан, убит), политический деятель – 320, 324, 340, 353, 359, 360, 364, 365, 589
Трубецкой Павел (Паоло) Петрович, князь (1866–1938, умер за границей), скульптор – 158, 572
Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919), экономист, историк – 44–45
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель – 14, 29, 182, 190, 203, 400, 557
Тургенев Сергей Николаевич (1793–1834), отец И. С. Тургенева – 14
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), писатель, литературовед – 11
Тэффи (псевд. Надежды Александровны Лохвицкой, 1872–1952, умерла за границей), писательница – 249
Тютчев Федор Иванович (1803–1873), поэт – 231, 288
Уайльд Оскар (1854–1900), английский писатель – 98, 229, 245, 267, 497, 498, 500, 521–524, 544, 580, 581, 598, 602, 603, 604
Уитмен Уолт (1819–1892), американский поэт – 96, 135, 161, 169, 170, 215, 216, 229, 566, 568, 569, 573, 577, 579, 603
Унковский Алексей Михайлович (1828–1893), юрист, государственный деятель – 269, 578
Уордсворт Уильям (1770–1850), английский поэт – 324
Уотс Джордж Фредерик (1817–1904), английский художник, скульптор – 80, 81, 86, 150, 214, 531–532, 564, 598, 601
Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель – 17, 24, 26, 33–35, 155, 492, 557
Утин Евгений Исаакович (1843–1894), адвокат, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 206, 578
Ухарский Б. П., заместитель заведующего колонией в Холомках – 372, 373, 376–378
Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель – 154, 307, 316, 336, 342, 588–591, 603, 604
Ф., Федора, см. Мрост Ф. М.
Ф. Ф., см. Фидлер Ф. Ф.
Фаина Афанасьевна, см. Слонимская Ф. А.
Феголи (умер в 1921), врач в Холомках – 370, 374
Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель – 365–366
Федор Борисович, см. Нордман Ф. Б.
Федор Иоаннович (1557–1598), русский царь с 1584 г. – 262
Федор Федорович, см. Фидлер Ф. Ф.
Федоров Александр Митрофанович (1868–1949, умер за границей), поэт, переводчик – 57, 70, 116, 148, 563, 567
Фейербах Людвиг (1804–1872), немецкий философ-материалист – 434
Фельдман Моник (?–1901), владелец книжного магазина в Одессе – 44; 558
Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), геохимик, академик – 307
Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт – 261, 292, 352
Фидлер Федор Федорович (1859–1917), переводчик, коллекционер – 158, 163, 177–178
Филдинг Генри (1707–1754), английский писатель – 567
Филипченко, возможно, Иван Гурьевич (1887–1937, расстрелян), пролетарский поэт – 260
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940, умер за границей), публицист, критик – 169, 177, 213, 343
Флобер Гюстав (1821–1880), французский писатель – 29; 557
Фофанов Константин Михайлович (1862–1911), поэт – 358
Франк Семен Людвигович (1877–1950), философ – 563
Франс Анатоль (1844–1924), французский писатель – 235
Франц-Фердинанд (1863–1914), австрийский эрцгерцог – 599
Фридланд Надежда Филипповна (1899–2002), литератор – 276
Фролов В. П., директор изд-ва «Т-во А. Ф. Маркс» – 209
Фурье Шарль (1772–1837), французский утопический социалист – 224
Хаггард Генри Райдер (1856–1925), английский писатель – 245, 324, 325, 539, 581, 604
Харитон Борис Иосифович (1877–1941, погиб в лагере), член правления Дома литераторов, журналист – 342, 390
Хартланд Эдвин Сидней (1848–1929), американский фольклорист, автор трехтомника «Легенда о Персее» (1894–1897) – 285
Хаустов, член социал-демократической рабочей фракции в 4-й Государственной Думе – 207, 578
Хейерманс Герман (1864–1924), нидерландский писатель, драматург – 543
Хейфец Иосиф Моисеевич, журналист, редактор «Одесских новостей» – 45, 47–48, 50, 58, 66–68; 559
Хеллман Бен, славист – 581
Хирге Павел Григорьевич, постоянный гость Литературно-артистического общества в Одессе – 124
Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович, 1885–1922), поэт – 214; 577
Ховин Виктор Романович (1881–1943, умер за границей), критик, владелец частного изд-ва и магазина «Книжный угол» – 321
Ходасевич Анна Ивановна (1886–1964), жена В. Ф. Ходасевича – 379
Ходасевич Валентина Михайловна (1894–1970), живописец, график, художник театра, племянница В. Ф. Ходасевича – 274, 276, 286, 289, 379, 584
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939, умер за границей), поэт – 268, 335, 357, 379, 380, 388, 584
Ходский Леонид Владимирович (1854–1920), экономист – 151
Холевинский А. С., специалист по коневодству, заведующий коннозаводством при Главконе – 352
Холл Кейн (Thomas Henry Hall Caine; 1853–1931), английский писатель, автор популярных романов – 546
Хрисанфов, заведующий отделом Наробраза в Пскове – 362
Царев, комендант почт и телеграфов – 237
Цветков Иван Евменьевич (1845–1917), банковский служащий, коллекционер, основатель художественной галереи в Москве – 187
Цезарь Гай Юлий (102 или 100 – 44 до н. э.), римский диктатор, полководец – 408, 470
Цензор Дмитрий Михайлович (1877–1947), поэт – 71, 129, 255, 321, 563, 581
Ценский, см. Сергеев-Ценский С. Н.
Цетлин (Цейтлин) Натан Сергеевич (1870–1930-е), владелец петербургского издательства «Просвещение» – 275
Ционглинский Иван (Ян) Францевич (1857–1912), художник – 196
Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, писатель, оратор – 157
Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856), философ – 27–28, 557, 569
Чарская Лидия Алексеевна (1875–1937), писательница – 183–184
Чаттертон Томас (1752–1770), английский поэт – 77, 140, 564
Чеботаревская Александра Николаевна (1869–1925), переводчица, критик, свояченица Ф. К. Сологуба – 267
Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876–1921), писательница, жена Ф. К. Сологуба – 174, 253
Чемберлен Джозеф (1836–1914), английский государственный деятель, министр колоний Великобритании – 144, 465, 467, 471, 472, 477, 486, 493, 499, 504, 520, 530, 536, 537, 543
Чемберлен Остин (1863–1937), министр финансов Великобритании в 1903–1905 гг., сын Дж. Чемберлена – 520, 542
Черкасские (Ицко Хаимович и Гудя Давидовна), одесские знакомые К. Ч. – 43
Чернов Виктор Михайлович (1876–1952, умер за границей), министр земледелия Временного правительства, председатель Всероссийского Учредительного собрания – 226
Черный Саша (псевд. Александра Михайловича Гликберга, 1880–1932, умер в эмиграции), поэт – 575
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, общественный деятель – 54, 117, 182, 223, 269, 394, 406, 579, 580
Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), общественный деятель, издатель, друг Л. Н. Толстого – 573
Ческис Любовь Абрамовна (ок. 1896–1956), секретарь изд-ва «Всемирная литература» – 259
Честертон Гилберт Кит (1874–1936), английский писатель, журналист – 314, 344, 345, 545
Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель – 22, 31, 34, 35, 39, 40, 45, 84, 96, 98, 113, 114, 121, 129, 148–149, 155, 158, 160, 166, 167, 198, 199, 205, 229, 234, 249, 262, 269–270, 292, 295, 307, 331, 336, 474, 492, 496, 497, 538–540, 544, 557, 560, 565–568, 570, 572, 577, 598, 602
Чехова Евгения Яковлевна (1835–1919), мать А. П. Чехова – 270
Чехов Михаил Павлович (1865–1936), младший брат А. П. Чехова, юрист, писатель – 567
Чехонин Сергей Васильевич (1878–1936, умер за границей), график, художник по фарфору, художник театра – 217; 575
Чириков Евгений Николаевич (1864–1932, умер за границей), писатель, драматург – 176
Чистякова Люция Александровна, сводная сестра Н. А. Некрасова – 387
Чистяковы (Павел Петрович (1832–1919), художник, его жена Вера Егоровна и дочь Вера Павловна) – 200
Чудовский Валериан Адольфович (1882–1938, погиб в заключении), критик, сотрудник журнала «Аполлон» – 281, 326, 327, 389, 595
Чужой, см. Брусиловский И. К.
Чуковская Лидия Корнеевна, Лида (1907–1996), редактор, писательница, дочь К. Ч. – 11, 159–160, 162, 169, 174,176, 182–184, 186, 188, 191, 200, 201, 212, 214, 215, 217, 219, 234, 240, 252, 255, 256, 258, 260, 263, 266, 284, 298, 300, 310, 319–320, 327, 328, 331, 338, 349, 350, 368, 375, 377, 379, 381, 382, 390; 554, 555, 590, 591, 594, 602
Чуковская Мария Борисовна, М. Б., Маша (1880–1955), жена К. Ч. – 13–14, 16–21, 26, 30–36, 38, 42, 44, 47, 48, 51–54, 56–60, 63, 68–69, 73–78, 83–85, 87–90, 94–95, 98, 102, 114–118, 126, 128–135, 138, 141–144, 147, 150, 153–155, 159–165, 166, 169–171, 176, 178–179, 181–183, 185, 189, 191, 203, 221, 232, 248, 249, 253, 256, 259–260, 275, 298, 301–305, 310, 318, 331–333, 335–336, 369, 374–376, 380; 563–565, 600
Чуковская Мария Корнеевна, Мура, Мурочка (1920–1931), дочь К. Ч. – 9, 310, 317–318, 323, 325, 329, 333–334, 375, 377, 379, 388, 390; 604
Чуковский Борис Корнеевич, Боба (1910–1941), инженер, сын К. Ч. – 172, 182–183, 185–186, 188, 191, 209, 212–215, 221, 245, 248, 252–254, 256, 258, 260, 263–265, 272, 274, 277–278, 281, 284, 289, 291, 294, 298–301, 304–305, 308, 310, 323–325, 331, 333, 336, 338, 347, 356, 369, 379, 388; 590–591, 602
Чуковский Николай Корнеевич, Коля (1904–1965), писатель, сын К. Ч. – 11, 84, 86, 89, 95, 108, 114, 118, 120, 124, 126, 149–151, 153–156, 159–164, 169, 174, 178, 179, 182–184, 191, 195, 212–216, 219–220, 234, 240–245, 253–254, 256, 258, 263–266, 280, 284, 291, 294, 298, 305, 318, 323, 325, 327, 331, 333, 334, 336, 338, 346, 347, 356, 358, 365, 368, 374, 375, 378, 389; 554, 555, 590, 594, 601
Чулков Георгий Иванович (1879–1939), поэт и критик – 150, 157, 383, 576, 584
Чупров Александр Александрович (1874–1926, умер за границей), теоретик статистики – 32
Чюмина Ольга Николаевна (1864–1909), поэтесса, переводчица – 131–133, 135, 144, 151, 157, 568
Чюрленис Микалоюс Константинас (1875–1911), литовский художник и композитор – 319
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писательница – 354
Шаевский, одесский ресторатор – 121
Шайкевич Варвара Васильевна (1886–1953), жена А. Н. Тихонова – 245, 259, 274, 306
Шаляпин Борис Федорович (1904–1979, умер за границей), живописец, сын Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938, умер за границей), певец – 160, 175, 196–199, 233, 237, 242, 247, 251, 262, 263, 267, 270, 295, 297, 299, 349, 574, 577
Шаляпин Федор Федорович (1905–1992, умер за границей), киноактер, сын Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шаляпина-Бакшеева Ирина Федоровна (1900–1978), актриса, дочь Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шаляпина Лидия Федоровна (1901–1975), актриса, педагог, дочь Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шаляпина Марина Федоровна (1912–2009), дочь Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шаляпина (Петцольд) Мария Валентиновна (1882–1964, умерла за границей), вторая жена Ф. И. Шаляпина – 299, 577
Шаляпина Марфа Федоровна (1910–2002, умерла за границей), дочь Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шаляпина Татьяна Федоровна (1905–1993), дочь Ф. И. Шаляпина – 198, 577
Шатуновский Яков Моисеевич (1876–1932), математик, член коллегий наркоматов иностранных дел и путей сообщения – 239, 276, 353
Шахрай Лев Миронович, член Одесского Литературно-артистического общества – 124
Шашков Серафим Серафимович (1841–1882), писатель, сотрудник публицистического отдела журнала «Дело» – 41
Шварц Евгений Львович (1896–1958), драматург – 9
Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт – 160–161, 170, 175, 176, 572
Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург – 74, 140, 227, 284, 292, 385, 447, 448, 469, 473, 545, 592
Шеллер Александр Константинович (псевд. А. Михайлов; 1838–1900), писатель, журналист – 496
Шелли Перси Биши (1792–1822), английский поэт – 140, 494
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854), немецкий философ – 320
Шестов Лев Исаакович (1866–1938, умер за границей), философ – 69, 149, 168, 447–452; 597
Шилейко Владимир Казимирович (1891–1930), филолог-востоковед – 300, 301, 308
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805), немецкий поэт – 324, 357, 492, 573
Шишкин Иван Иванович (1832–1898), художник – 195
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945), писатель – 252
Шкловские (Виктор Борисович и его брат Владимир Борисович (1890– 1920-е гг., погиб в лагере)) – 201
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), писатель, литературовед – 201, 202–203, 227, 252, 267, 281, 285, 292, 303, 321, 330, 336, 356, 357, 365, 367, 380, 577, 583, 586
Шкловский Исаак Владимирович (псевд. Дионео, 1865–1935, умер за границей), журналист, критик, этнограф – 89, 90, 96, 148, 201, 225, 273
Шмаров Павел Дмитриевич (1874–1955), художник – 185, 194, 218, 220
Шмидт Конрад (1863–1932), немецкий философ, идеолог социал-демократического движения, ученик и соратник Ф. Энгельса – 569
Шопенгауэр Артур (1788–1860), немецкий философ – 77
Шоу Джордж Бернард (1856–1950), английский писатель и драматург – 344, 489, 544
Шперк Федор Эдуардович (ок. 1870–1897), философ – 167
Штейн Семен Ильич (1887–1949), историк, филолог, пасынок И. В. Гессена – 302, 304
Штембер Евгения Львовна (Жени Лазаревна, 1883–1939, умерла за границей), пианистка, жена А. В. Руманова – 190
Штрайх Соломон Яковлевич (1879–1957), литературовед, глава изд-ва «Парфенон» – 303, 358
Штукмей, одесский знакомый К. Ч. – 61
Шубин Владимир, литературовед – 564
Шуйский Б. (псевд. Бориса Петровича Лопатина), художественный критик, публицист – 194
Щеглов Владимир Георгиевич (1854–1927), юрист, доктор права – 447–448, 597
Щеглов Иван Леонтьевич (1855–1911), писатель, драматург – 58, 167, 177
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931), литературовед – 12, 335, 389, 390
Щербина Николай Федорович (1821–1869), русский поэт – 493
Щербов Павел Георгиевич (1866–1938), художник – 154
Э. С., см. Левенсон Э. С.
Эберлинг Альфред Рудольфович (1871–1953), художник – 166
Эйзен Илья Моисеевич, журналист – 213, 249–251
Эйхвальд Екатерина Никитична, вдова врача Э. Э. Эйхвальда – 242
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959), литературовед – 281, 357
Эмар Гюстав (1818–1883), французский писатель – 323
Эмери, Emery Henry Crosby (1872–1924), профессор политэкономии, в 1917 году сотрудник американской военной миссии в Петрограде – 227
Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882), американский философ, эссеист, поэт – 568
Энгельгардт Николай Александрович (1867–1942), критик, историк литературы – 357
Энгельс Фридрих (1820–1895), философ – 34, 397, 400, 410
Эрманс Александр Соломонович, журналист, издатель, после революции эмигрировал – 94, 116
Эртель Александр Иванович (1855–1908), писатель – 538
Эсхил (ок. 525–456 до н. э.), древнегреческий драматург – 404
Южаков Сергей Николаевич (1849–1910), публицист и экономист – 435
Юм Дэвид (1711–1776), английский философ, историк, экономист – 406
Юрасов Дмитрий Геннадьевич, историк – 554
Юренева Вера Леонидовна (1876–1962), актриса – 118
Юркевич Памфил Данилович (1826–1874), русский и украинский философ-идеалист, педагог – 434
Юст (Шаврова) Елена Михайловна (1874–1937), писательница – 249
Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927, умер за границей), писатель – 116
Яблоновский Александр Александрович (1870–1934), писатель – 565
Яблочков Георгий Алексеевич, врач, писатель – 161, 163–164
Яворская (кн. Барятинская) Лидия Борисовна (1871–1921, умерла за границей), актриса, антрепренер – 130, 168
Ядвига, см. Нетупская Я. А.
Яковлев Кондрат Николаевич (1864–1928), актер – 297
Яковлев – 387
Якубович (псевд. П. Я., Л. Мельшин) Петр Филиппович (1860–1911), поэт – 70
Яремич Степан Петрович (1869–1939), художник – 294
Ярошенки (художник Николай Александрович Ярошенко, 1846–1898, и его жена Мария Павловна, 1844–1915) – 158
Ярцев Петр Михайлович (1871–1930), театральный критик, драматург, режиссер – 207
Ясинский (псевд. Максим Белинский) Иероним Иеронимович (1850–1931), писатель, переводчик – 119
Ятманов Григорий Степанович (1878 – после 1934), комиссар военно-революционного комитета по охране музеев, дворцов и художественных коллекций – 309
ИНОСТРАННЫЕ ФАМИЛИИ
Allegro, см. Соловьева П. С.
Altalena, см. Жаботинский В. Е.
Bentham, Бентам Иеремия (1748–1832), английский правовед и моралист, основоположник и теоретик утилитаризма – 43
Dickinson, сотрудник Англо-русского бюро – 221
Ducpetiaux, Дюкпесьо Эдуард (1804–1868), бельгийский публицист и статистик; инспектор тюрем и благотворительных учреждений – 423
Farwell, американка – 220–221, 227
Haeckel, Геккель Эрнст (1834–1919), немецкий биолог-эволюционист – 131–132, 533
Harper William Rainey (1856–1906), организатор и первый ректор Чикагского университета – 228, 229
Hartland E. S. см. Хартланд Э.-С.
Jussieu, Жюссьё Антуан Лоран де (1748–1836), французский ботаник – 529
Maude, см. Мод Э.
Murphy, сотрудник Англо-русского бюро – 221
Ruskin, см. Рескин Дж.
Sering, Зэринг Макс (1857–1939), немецкий экономист – 423
Stephen Leslie, см. Стивен Лесли
Thurston E. Temple, Тёрстон Э. Темпл (1879–1933), англо-ирландский поэт, драматург – 249
Wanderwelde (правильно: Vandervelde), Вандервельде Эмиль (1866–1938), бельгийский социалист, министр иностранных дел, юстиции и др. – 423
Иллюстрации
Корней Чуковский. Одесса. Около 1904 года
Корней Чуковский, Николай Кульбин и Леонид Андреев на его яхте.
1910-е годы
Корней Чуковский с дарственной надписью Ф. Ф. Фидлеру.
Фотография Дмитрия Здобнова. 1910-е годы
Корней Чуковский в молодые годы
Корней Чуковский. Фотография Дмитрия Здобнова. Петербург 1910-е годы
Чуковский (сидит слева) в студии Ильи Репина, Куоккала, ноябрь 1910 года. Фотография Карла Буллы
Портрет Корнея Чуковского кисти Ильи Репина. 1910
Корней Чуковский в Куоккале со своими детьми. 1910
Корней Чуковский и Ф.Ф. Фидлер. Фотография Карла Буллы. СПб, 1914
Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков. Фотография Карла Буллы. Петербург, 1914
Художник Илья Репин с супругой Натальей Нордман-Северовой (вторая справа) в гостях у Чуковских. Слева – старшая дочь Корнея Ивановича Лида, справа – жена Мария Борисова и сын Николай, Куоккола, 1913
Корней Иванович Чуковский, Мария Борисовна Чуковская, Коля и Лида в лодке в Пенатах, Репин в группе. 1913
Семья Чуковских за обедом. Куоккала, 1913
Корней Иванович и Мария Борисовна Чуковские с сыном Николаем
Корней Чуковский и Владимир Дмитриевич Набоков. 1916
Русская делегация и британские дипломаты. 1916
Корней Чуковский в своем куоккальском кабинете. 1915
Члены редколлегии «Всемирная Литература» в дни разгрома издательства. 15 января 1925 года
Корней Чуковский, Николай и Борис. Ленинград. 1927
Корней Иванович и Мура. 1925 год, Сестрорецк
Корней Иванович и Мура, 1925 год, Сестрорецк
Александр Блок и Корней Чуковский на вечере Блока в Большом Драматическом театре.
Фотография М.С. Наппельбаума. Петроград. 25 апреля 1921 года
Примечания
1
Предисловие В. Каверина было написано для первого, сокращенного, издания Дневника. Оказалось, как это видно из настоящего полного издания, что уцелело и несколько более ранних записей. – Здесь и далее подстрочные примечания и переводы иностранных слов и выражений сделаны составителем. – Е. Ч.
(обратно)2
Здесь и далее звездочкой отмечены слова и предложения, комментарии к которым помещены в конце книги.
(обратно)3
окажется (укр.).
(обратно)4
Сочинение об Ал. Толстом, написанное для заработка, исключено.
(обратно)5
Учебники по чтению фирмы «Royal» (англ.).
(обратно)6
Здесь и далее знаком «к» отмечены конспекты по философии за 1901–1904 год. Конспекты помещены в «Приложении 1» под той датой, когда сделана запись.
(обратно)7
«Воспитание чувств» (франц.).
(обратно)8
«Антуан» (франц.) – имеется в виду «Искушение святого Антония».
(обратно)9
сударь, любезнейший господин Флобер, дорогой собрат, мой дорогой друг, дорогой друг, старина (франц.).
(обратно)10
«Новая жизнь пробивается сквозь руины» (нем.).
(обратно)11
«Положение рабочего класса в Англии» (англ.).
(обратно)12
Позичити – занять, взять в долг (укр.).
(обратно)13
Аграрный вопрос (нем.).
(обратно)14
Наброски для статьи о Меньшикове исключены.
(обратно)15
в самом деле (англ.).
(обратно)16
«Речи и диалоги. Диалоги и философские отрывки» (франц.).
(обратно)17
Наброски вариантов для «Евгения Онегина» пропущены.
(обратно)18
барышни (франц.).
(обратно)19
маленькая Мэри (англ.).
(обратно)20
«Диалогах и отрывках» (англ.).
(обратно)21
Возражение Altalen’е см. Приложение 1.
(обратно)22
страшно сказать (лат.).
(обратно)23
Дорогая, драгоценная (англ.).
(обратно)24
сама по себе (нем.).
(обратно)25
Майская Королева (англ.).
(обратно)26
Когда свечи гаснут, все кошки серы. Я пойду к Марии, и мы пойдем покупать мне пальто (англ.).
(обратно)27
вундеркинд (нем.).
(обратно)28
самого по себе (нем.).
(обратно)29
Дописано позже.
(обратно)30
«Ярмарка тщеславия» (англ.).
(обратно)31
Название улицы.
(обратно)32
пансион (англ.).
(обратно)33
завтрак (англ.).
(обратно)34
Поздравляем Мария счастливо разрешилась от бремени сыном все в порядке. Гольдфельд Чуковская (нем.).
(обратно)35
на завтрак пирог с почками (англ.).
(обратно)36
«Исповедь» (англ.).
(обратно)37
«Пьесы» (англ.).
(обратно)38
Возможно, имеется в виду Kew Garden (англ.) – Королевские ботанические сады в Лондоне.
(обратно)39
микстура от невралгии (англ.).
(обратно)40
упражнение (англ.).
(обратно)41
моментальный снимок (англ.).
(обратно)42
вокзал Виктория (англ.).
(обратно)43
сожалеет, что я нездоров (англ.).
(обратно)44
сожалею (англ.).
(обратно)45
завтрак (англ.).
(обратно)46
религиозный праздник (англ.).
(обратно)47
свобода (англ.).
(обратно)48
важное письмо (англ.).
(обратно)49
Это не очень почтенный адрес (англ.).
(обратно)50
служанка (англ.).
(обратно)51
не слишком беспокоились об этом (англ.).
(обратно)52
стряпни (англ.).
(обратно)53
попреки (англ.).
(обратно)54
«моя голова» (англ., искаж.).
(обратно)55
независимый (англ.).
(обратно)56
держать фасон (англ.).
(обратно)57
очень любит (англ.).
(обратно)58
скверной погоде (англ.).
(обратно)59
большая победа русских (англ.).
(обратно)60
доброта (англ.).
(обратно)61
рекомендательное письмо (англ.).
(обратно)62
А знаете, я – инженер! Электрик (англ.).
(обратно)63
ворота (англ.).
(обратно)64
курительную комнату (англ.).
(обратно)65
чертовский, проклятый (англ.).
(обратно)66
Мы привыкли к этому, сэр (англ.).
(обратно)67
безразличен (укр.).
(обратно)68
Что-нибудь особенное (англ.).
(обратно)69
команды (англ.).
(обратно)70
Вы готовы? Мы готовы. – Мы готовы. Вы готовы? (англ.).
(обратно)71
готовы (англ.).
(обратно)72
туман (англ.).
(обратно)73
Японцы кровожадны, их надо вешать (англ.).
(обратно)74
в порядке и Бог на небе (англ.).
(обратно)75
мостике (англ.).
(обратно)76
помощником капитана (англ.).
(обратно)77
множество негритянок (англ.).
(обратно)78
для удовольствия (англ.).
(обратно)79
завтраком (англ.).
(обратно)80
безнравственный город (англ.).
(обратно)81
Спать с женщиной вовсе не безнравственно. Это естественно. А все, что естественно, – правильно (англ.).
(обратно)82
«Повесть о двух городах». Превосходно (англ.).
(обратно)83
Вероятно, это русский линкор (англ.)
(обратно)84
4 Макаронический стих, в котором на смеси английского и немецкого языков рассказывается о том, как голая русалка заманивала немецкого юношу в Рейн.
(обратно)85
который из нас (англ.).
(обратно)86
Я освобожу палубу для действий (англ.).
(обратно)87
Помощник (англ.).
(обратно)88
Она достаточно велика для этого (англ.).
(обратно)89
полное право (англ.).
(обратно)90
«Вильгельм Телль». В исполнении оркестра «Колумбия». Пластинка фирмы «Колумбия».
(обратно)91
рыбной ловли (англ.).
(обратно)92
мостике (англ.).
(обратно)93
корабля (англ.).
(обратно)94
Слушай пересмешника (и теперь я буду вспоминать, вспоминать, вспоминать). «Мое царство» (англ.).
(обратно)95
«Сватовство шкипера» Джекобса (англ.).
(обратно)96
1 Рабы – те, кто не дерзает выступить за правое дело, если на его стороне меньшинство (англ.) – цитата из «Стансов о свободе» Джеймса Лоуэлла.
(обратно)97
прибора для определения скорости судна (англ.).
(обратно)98
моряки (англ.).
(обратно)99
«Трагедия Короско» (англ.).
(обратно)100
навожу лоск (устар.).
(обратно)101
Этого достаточно (англ.).
(обратно)102
вахта на якорной стоянке (англ.).
(обратно)103
старший механик (англ.).
(обратно)104
мелодию (англ.).
(обратно)105
салон голых женщин (английские слова написаны русскими буквами).
(обратно)106
четырехпенсовая монета = грош.
(обратно)107
старший помощник капитана (англ.).
(обратно)108
Abolitio – отмена, уничтожение (лат).
(обратно)109
Английская фирма, изготовляющая одежду (англ.).
(обратно)110
как Дюма-младший (франц.).
(обратно)111
английскую библиотеку (англ.).
(обратно)112
Встромляти – окунать(укр.).
(обратно)113
«Станция Дaнгли» (англ.).
(обратно)114
«Пиппа проходит»* (англ.).
(обратно)115
«Загадка Вселенной» Геккеля (англ.).
(обратно)116
«Король Ричард III».
(обратно)117
Глостер
Как ваша милость вынесла темницу?Хестингс
Как должно узнику, милорд, — С терпеньем; но буду жить, чтоб отблагодарить Тех, кто причиной были заключенья.(Действие I, акт 1. Перевод Анны Радловой)
(обратно)118
Россетти «Внезапный просвет» (англ.).
(обратно)119
Весь абзац – подстрочный перевод сонета Россетти.
(обратно)120
Новогоднее бремя (англ.).
(обратно)121
Пять английских поэтов. Первый сонет (англ.).
(обратно)122
Strawberry – клубника (англ.).
(обратно)123
à l’aveugle (франц.) – вслепую.
(обратно)124
«Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» (лат.) – Цицерон. Речь против Катилины.
(обратно)125
У меня в статье о нем указано, как он любит легенды. – К. Ч. (Здесь и далее к примечаниям автора дневника нами добавлена его подпись.)
(обратно)126
Что-нибудь сломано? (англ.).
(обратно)127
В 1911 году среда – 12 (25) июля.
(обратно)128
Эти слова очень возмущают Машу. – К. Ч.
(обратно)129
28 июня. Художнику Илье Репину. Нордман умирает в Швейцарии. Форнас (франц.). Имя автора телеграммы дописано позже.
(обратно)130
Среда (нем.).
(обратно)131
В 1914 году понедельник 14 (27) июля.
(обратно)132
Все записи за этот год сделаны либо на вклеенных и вложенных разноформатных листах, либо в тетради, но она не скреплена, а листы разодраны по отдельности.
(обратно)133
Стихотворение написано детским почерком Коли Чуковского (сына). Сбоку рукой К. И. показан стихотворный размер этих строк.
(обратно)134
Ты думал, величие только в победе? / Ты прав, но уж если случится беда – мне сдается, что и в поражении есть величие, / И в гибели и в страхе есть величие (англ.).
(обратно)135
ненужной (англ.).
(обратно)136
Мы вас одарим куском мыла «Передвижники» (англ.).
(обратно)137
безразличен (укр.).
(обратно)138
Ради практики (англ.).
(обратно)139
Холидэй – русская транскрипция английского holiday, т. е. праздник.
(обратно)140
и контролировать его (англ.).
(обратно)141
«Взаимная помощь», «Девятнадцатый век» (англ.). Полное название книги Кропоткина – «Взаимная помощь как фактор эволюции».
(обратно)142
Я все еще стараюсь думать по-английски, потому что пробыл в обществе американцев с 7-и часов и говорил безостановочно и весьма плохо. Профессор Эмери, умный, маленький, немногословный, остроумный человек и его молодая жена со старым-старым профилем старой-старой женщины – люди простые и естественные. И госпожа Фарвелл… (англ.).
(обратно)143
входите (франц.).
(обратно)144
В 1917 воскресенье – 30 июля (12 августа).
(обратно)145
Неужели вы и вправду анархист? (англ.).
(обратно)146
В 1917 году среда – 3 (16) октября.
(обратно)147
Современное название – «Отверженные».
(обратно)148
с точки зрения (лат.).
(обратно)149
В ноябре 1918 года воскресенье – 24 ноября, а значит, запись сделана 25-го.
(обратно)150
Хотя как знаменитые писатели Франции и Англии узнают, хороши ли переводы или плохи, – это тайна Горького. – К. Ч.
(обратно)151
«Повесть о двух городах» (англ.).
(обратно)152
«Город прекрасной чепухи» Терстона (англ.).
(обратно)153
В апреле 1919 воскресенье – 27-го.
(обратно)154
В июне 1919 года воскресенье – 8-го.
(обратно)155
На полях приписано рукою К. Ч.: Какая глупость. 1953.
(обратно)156
В ноябре 1919 года воскресенье – 16 ноября.
(обратно)157
«Легенда о Персее» E. Сиднея Хартланда (англ.).
(обратно)158
великосветской жизни (англ.).
(обратно)159
обратного порядка вещей (франц.).
(обратно)160
отец семейства (лат.).
(обратно)161
любимый папенька (нем.).
(обратно)162
с листа (франц.).
(обратно)163
В марте 1920 года среда – 17-го.
(обратно)164
добродушен (англ.).
(обратно)165
«Вдали от обезумевшей толпы» (англ.).
(обратно)166
Сити банк. Коммерческий американский траст (англ.).
(обратно)167
Правда и поэзия (нем.).
(обратно)168
Доктор Феголи, к которому я обратился за справкой, подтвердил мне в точности все рассказанное Овсянкиным. – К. Ч.
(обратно)169
Стих Алексея Толстого. – К. Ч.
(обратно)170
Омешик – заостренный конец сохи.
(обратно)171
слаба (нем.).
(обратно)172
априори, а не на самом деле (лат.).
(обратно)173
«Святое семейство, или Критика критической критики» (нем.) – сочинение К. Маркса и Ф. Энгельса.
(обратно)174
животное, изготовляющее орудие (англ.).
(обратно)175
«Происхождение семьи»(франц.).
(обратно)176
М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. 1890, с. 52, 53, 57, 93, 95.
(обратно)177
красный каблук (франц.); так называли аристократов.
(обратно)178
славная революция (франц.).
(обратно)179
по преимуществу (франц.).
(обратно)180
Искусство вечно, а наша жизнь коротка (нем.).
(обратно)181
Животное, изготовляющее орудие (англ.).
(обратно)182
Свет, больше света! (нем.).
(обратно)183
Вначале было дело (нем.).
(обратно)184
голодать и умирать с голоду (нем.).
(обратно)185
Речь о свободе торговли (франц.).
(обратно)186
«Нищета философии» (франц.).
(обратно)187
вечный двигатель (лат.).
(обратно)188
смысл (франц.).
(обратно)189
Хотя он и говорит, что на цену влияет еще и рента, и прибыль. Но ведь по его же учению и та и другая определяются заработной платой; некоторые экономисты утверждают, что высота прибыли определяется конкуренцией. Конкуренция сравнивает прибыли различных промышленностей, приравнивает к одной величине, но сама она высоты не определяет. – К. Ч.
(обратно)190
Ничто есть ничто (лат.).
(обратно)191
Конец… Конец, и слава Господу (лат.).
(обратно)192
Общественные законы (франц.).
(обратно)193
Нужно иметь в виду, что Кант писал метафизику нравов, а не физику. Физика нравов есть теоретическое исследование эмпирических фактов. Метафизике же нравов нет никакого дела до действительности: она занимается долженствованием, и в этом ее отличие от чистых законов рассудка. Чистые законы нравственности имеют предварительное, априорное значение, и никакие законы эволюции не уничтожат их. Так как, говорит Паульсен, исполнение нравственного закона есть умопостигаемый (intelligibel) акт свободной воли, то оно вовсе не принадлежит к числу наблюдаемых фактов и эмпирической действительности. – К. Ч.
(обратно)194
сами по себе (нем.).
(обратно)195
проклятый (англ.).
(обратно)196
экипажей, карет, пассажиров (англ.).
(обратно)197
тратить время (англ.).
(обратно)198
«сокровище» (англ.).
(обратно)199
Баллотировка в члены английского парламента закрытая, во избежание какого бы то ни было давления со стороны кандидатов. – К. Ч.
(обратно)200
Государство – это я (франц.).
(обратно)201
рыбное блюдо (англ.).
(обратно)202
кладбищах (англ.).
(обратно)203
среднего класса (англ.).
(обратно)204
писатель Салтыков-Щедрин (англ.).
(обратно)205
всегда однообразного (франц.).
(обратно)206
Старая, старая история (нем.).
(обратно)207
Цитируются строки из стихотворения Гете. Перевод: Мне чтить тебя? за что? / Облегчил ли ты когда-нибудь скорби угнетенного? / Унял ли ты когда-нибудь слезы страдающего? (нем.).
(обратно)208
новости на скачках, кто есть кто на футболе (англ.).
(обратно)209
Proprietor (англ.) – собственник.
(обратно)210
мечтатели (англ.).
(обратно)211
тени (англ.).
(обратно)212
выдумщик, фантазер (англ.).
(обратно)213
внезапно появившийся (лат.).
(обратно)214
Нужно заметить, что все это я пишу не только по статье Стэда, но и по лично добытым сведениям. – К. Ч.
(обратно)215
«Лживость в нищенстве».
(обратно)216
Современное название «Виндзорские проказницы».
(обратно)217
Вот что самое неприятное! (англ.).
(обратно)218
Старшина присяжных (англ.).
(обратно)219
страшно сказать (лат.).
(обратно)220
An Autobiography. By H. Spencer. London. William and Norgate. 1904. – К. Ч.
(обратно)221
пансионах (англ.).
(обратно)222
ушные затычки (англ.).
(обратно)223
порядочных, приличных (англ.).
(обратно)224
Современное название «Как важно быть серьезным». Earnest – серьезный (англ.).
(обратно)225
«Счастливый принц» (англ.).
(обратно)226
человеческий документ (англ.).
(обратно)227
Это – судьба (франц.).
(обратно)228
18 мая в South-Place Institute состоялся общий годичный митинг лондонских спиритов. – К. Ч.
(обратно)229
В. В. Стасов ошибочно указывает цифру 245. См. Stephens National Biogr. Vol. 44. – К. Ч.
(обратно)230
самоучка (англ.).
(обратно)231
на выпивку (чаевые) (франц.).
(обратно)232
такого-то (англ.).
(обратно)233
Краткий хронограф составлен на основании записей в дневнике без привлечения других источников.
(обратно)234
Даты в Лондоне даны в дневнике по новому стилю.
(обратно)235
Далее все даты даны по новому стилю.
(обратно)236
Указатель составили: Л. А. Абрамова и Е. Ц. Чуковская. В указатель включены не все имена, встречаемые в дневнике. Не внесены в список неустановленные лица, некоторые бегло упомянутые фамилии, сведения о которых читатель получает непосредственно из текста, а также те, чьи имена несущественны для понимания записей. Страницы комментариев даны курсивом.
(обратно)
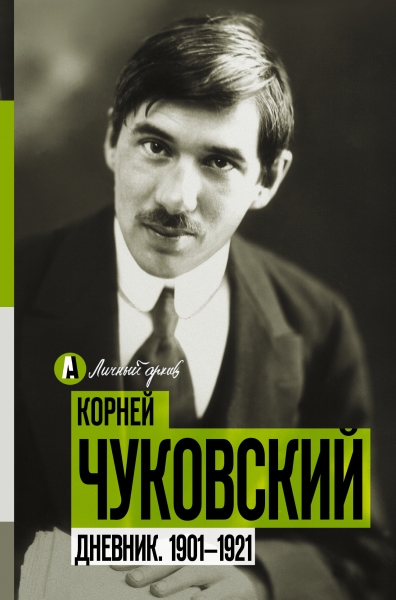
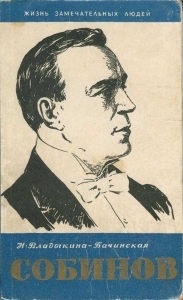



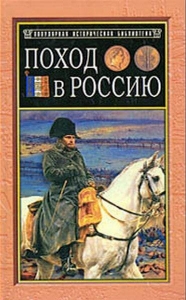
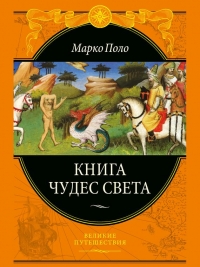
Комментарии к книге «Дневник. 1901-1921», Корней Иванович Чуковский
Всего 0 комментариев