Росс Кинг ЧАРУЮЩЕЕ БЕЗУМИЕ Клод Моне и водяные лилии
Ross King
MAD ENCHANTMENT
Claude Monet and the Paintings of the Water Lilies
Copyright © Ross King, 2016
© А. Глебовская, перевод, 2017
© А. Захаревич, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Памяти Клэр Кинг, с любовью
«Я веду войну с природой и временем» — так писал о себе Моне, и «Чарующее безумие» Росса Кинга оказывается идеальной, захватывающей хроникой этих военных действий.
Christian Science MonitorЕсли согласиться с утверждением, что красота в глазах смотрящего, то это «Чарующее безумие» не оставит равнодушным никого, обладающего зрением… Эта книга создана для того, чтобы прочесть ее от корки до корки, наслаждаясь каждой страницей; и те, кто хорошо знаком с историей искусства, найдут в ней не меньше интересного для себя, чем новички.
New York Journal of Books* * *
© Jeff Ward
© Jeff Ward
Глава первая Тигр и Дикобраз
Где был Жорж Клемансо? В день выборов во Франции — а именно в воскресенье, 26 апреля 1914 года, — газета «Жиль Блас» с удивлением сообщила, что из Парижа бесследно исчез семидесятидвухлетний бывший премьер-министр. «Его отъезд кажется крайне неожиданным, — говорилось в издании. — Неужели этот решительный полемист устал от политических баталий?»[1]
Обычно в редакции «Жиль Блас» все были прекрасно осведомлены о том, куда направился и чем занят Клемансо, который за свой грозный нрав удостоился прозвища Тигр. Двумя годами ранее газета рассказывала о том, как пожарные спасали Клемансо, когда загорелась его умывальная комната, пока он принимал горячую ванну; а однажды читатели узнали, что этот противник католичества — самый ярый во Франции — перенес операцию и теперь поправляется в здравнице, которую обслуживают монахини[2]. Теперь же газета быстро напала на след — и оповестила всех, что постоянный герой ее хроник за городом наслаждается весной. «Говорят, он ищет только покоя, итоги выборов его не волнуют, он будет отсыпаться по утрам в сельской тишине».
Сельскую глушь Клемансо сыскал в восьмидесяти километрах от Парижа, в Нормандии, в местечке Бернувиль. Шестью годами ранее, будучи еще премьер-министром, он приобрел охотничий домик, построенный из кирпича и бревен, и высадил вокруг него серебристые тополя и испанский дрок, а в пруду стал разводить форель и осетров. Через пару недель после выхода Клемансо в отставку, летом 1909 года, в «Жиль Блас» появилось восторженное стихотворение, описывающее, как он, «юнца проворного ловчей», трудится в собственном саду[3]. Не иначе как любовь к садоводству увлекла его накануне выборов в Бернувиль, а затем в Живерни, где вместо политики говорили о цветах: он решил навестить друга — художника Клода Моне.
От Бернувиля до Живерни было около тридцати километров, но шофер наверняка преодолел это расстояние «с ветерком»: Клемансо любил быструю езду и обычно подгонял своих водителей, летя по ухабистым сельским дорогам со скоростью больше ста километров в час[4]. Частенько он отключал спидометр, чтобы не пугать пассажиров[5]. Можно представить, как автомобиль ворвался в крошечный городок Вернон, а затем, оказавшись на правом берегу Сены, повернул влево и направился к Живерни по шоссе, вдоль которого справа тянулись луга, а слева взмывал вверх крутой склон холма. Холм этот был изрыт белесыми прожилками каменоломен, где добывали песчаник, а между ними росли виноградники и производилось местное вино. Справа протекала речка Рю — неприметный ручей, где не так давно заезжий журналист с восхищением любовался прачками[6]. Тополя змейкой тянулись вдали через луга, на которых в мае вспыхивали россыпи маков, а по осени поднимались пшеничные скирды.
Еще несколько километров от Вернона — и перед путешественниками вдруг возникали кучные постройки. На развилке водитель Клемансо должен был повернуть влево, к небольшой церкви с приземистой восьмиугольной башней и шпилем, похожим на шляпу ведьмы. В Живерни было около двухсот пятидесяти жителей и чуть больше ста одноэтажных деревенских домов, среди которых попадались и более внушительные строения в глубине фруктовых садов, обнесенных поросшими мхом стенами[7]. Пейзаж очаровывал — особенно гостей из Парижа. Все они неизменно описывали Живерни как прелестное, самобытное, живописное место, эдакий «рай земной»[8]. Позднее одна из знакомых Моне восторженно скажет в своем дневнике: «Это край грез, волшебный мир, воплощение сказочной мечты»[9].
Открытка с видом Живерни во времена Моне
Моне впервые появился в Живерни тридцать лет назад, ему тогда было сорок два. От Парижа до деревни, через долину Сены, напрямик — шестьдесят с небольшим километров. В 1869 году вдоль берегов Рю были проложены железнодорожные пути, и в тени двух ветряных мельниц на восточной окраине Живерни, там, где над речкой лениво развесили ветви ивы, выросла станция. И уже вскоре четыре раза на дню, кроме воскресенья, к ней, пыхтя, пробирался паровоз. Ранней весной 1883 года на таком паровозе в поисках подходящего дома приехал Моне. Тогда он был вдовцом с двумя сыновьями и уже далеко не юной возлюбленной, у которой в придачу имелся собственный выводок из шести голов. Сидя в вагоне, художник зачарованно смотрел в окно, когда дымящий состав с шипением и свистом сделал незапланированную остановку: возле железнодорожного полотна ждал свадебный кортеж — в надежде, что подберут. Молодожены и их гости благополучно забрались в вагон вслед за скрипачом и даже не обратили внимания на художника, который, глядя на их торжество, окончательно решил поселиться в этих местах[10].
Вскоре Моне со своим многочисленным семейством обосновался в одном из самых просторных домов деревни — на старой ферме, известной под названием «Прессуар» («Яблочный пресс»). Последующие семь лет он арендовал это имение у Луи-Жозефа Сенжо — тот занимался коммерцией в Гваделупе. Дом был розовым с серыми ставнями, северной стороной он смотрел на рю де О, а южной — на обнесенный стеной яблоневый сад и огород. Художник вскоре перекрасил ставни в зеленый цвет, который в деревне почти сразу стали называть «зелень Моне»[11]. Свою мастерскую он устроил в амбаре с земляным полом, откуда можно было попасть прямо в дом. В 1890 году, через несколько дней после своего пятидесятилетия, он выкупил у Сенжо «Прессуар», а через пару лет присоединил к ферме соседний участок. И принялся выкапывать овощи и яблони, высаживая на их месте ирисы, тюльпаны и японские пионы. В северо-западной части имения Моне возвел двухэтажную постройку — один из гостей назвал ее «сельским павильоном»[12] — и там, на верхнем этаже, обустроил еще одну мастерскую, освещавшуюся через высокий остекленный потолок. На нижнем этаже был вольер, где жили попугаи, черепахи и павлины, там же находились фотолаборатория и гараж с коллекцией авто.
Вместительный дом, залитая светом мастерская, автопарк — все эти роскошества появились довольно поздно. В молодые годы в жизни художника бывало всякое: рассерженные домовладельцы и лавочники, безденежные друзья и вынужденная экономия. «Последнюю неделю, — сокрушался он в 1869 году, когда ему было двадцать девять, — у меня не было ни хлеба, ни вина, ни огня на кухне, ни света»[13]. В том же году художник сетовал, что ему не на что купить краски, а во время выставки судебные приставы конфисковали четыре его работы в счет многочисленных долгов. В последующие десять лет бывало, что он продавал свои полотна всего за двадцать франков, — тогда как чистый холст стоил четыре. Как-то раз ему пришлось расплатиться картинами за хлеб в булочной. Торговца тканями было «не утихомирить». А прачка забрала простыни, когда он не смог с ней расплатиться. «Если к завтрашнему вечеру я не достану 600 франков, — писал он другу в 1878 году, — моя мебель и все имущество пойдут с молотка, а нас самих вышвырнут на улицу»[14]. Когда по заявлению мясника судебные приставы пришли изымать имущество Моне, он в отместку изрезал двести своих холстов. А еще, если верить некоторым рассказам, однажды целую зиму продержался только на картофеле[15].
Открытка с изображением второй мастерской Моне с теплицами на переднем плане
Впрочем, описывая свое бедственное положение, Моне часто преувеличивал. Даже в ранние годы творчества его полотна нет-нет да покупали прозорливые коллекционеры, назначая при этом приличную цену. В 1868 году авторитетный критик Арсен Уссе заплатил за одну вещь 800 франков — достаточно, чтобы снять дом на целый год. К тому же в лишениях часто помогала щедрость друзей: среди них были художник Фредерик Базиль, писатель Эмиль Золя, кондитер по профессии и романист Эжен Мюрер, доктор Поль Гаше, который позднее будет помогать другому художнику, также пребывавшему в отчаянии и еще большей нужде, — Винсенту Ван Гогу. На протяжении ряда лет каждому из них случалось получать просительные письма, в которых Моне описывал свое плачевное финансовое положение и окружающую беспросветность. В 1878 году в возрасте тридцати восьми лет он пожаловался еще одному своему благодетелю, врачу-гомеопату Жоржу де Бельо: «Прискорбно в моем возрасте оказаться в ситуации, когда приходится просить о помощи». И еще через пару месяцев: «Как же долго влачу я это совершенно омерзительное и гнетущее существование… Что ни день, то новые беды и тяготы, от которых никак не избавиться»[16].
В действительности Моне с самого начала подавал большие надежды. В 1865 году два его пейзажа, изображавшие нормандское побережье, произвели фурор на Парижском салоне: один критик назвал его работы «самыми изящными морскими пейзажами, появлявшимися в последние годы», а другой заявил, что это лучшие экспонаты выставки[17]. И все же в последующие годы художнику пришлось нелегко, поскольку его новые произведения — с их «размытыми» образами и как будто небрежной техникой — нарушали общепринятые каноны и жюри Салона их постоянно отклоняло. Признанием критиков он, судя по всему, заручился в 1874 году, когда выставил свои холсты в Париже с группой «отверженных» художников, в которую входили Огюст Ренуар, Эдгар Дега и Поль Сезанн. Их презрительно назвали «импрессионистами», а один из пейзажей Моне получил просто-таки уничижительный отзыв: «Самые незатейливые обои и те более умело расписаны»[18]. Консервативные критики ругали его за «сумбурную», «фальшивую, нездоровую и курьезную» манеру и говорили, что он создает «этюды в упадочном стиле». «Когда дети играют с бумагой и карандашами, — фыркнул один из них в 1877 году, — у них и то лучше получается»[19]. Моне хранил все эти заметки в альбоме: по словам одного из друзей, у него сложилась целая коллекция, где сплошь — «узколобость, невежество и посредственность»[20]. В издании, которому в 1880 году он дал интервью, его назвали «обитателем творческого зверинца»[21]. А над коллекционером, купившим у Моне холсты, так насмехались знакомые, что, по словам художника, тот убрал их со стен и спрятал куда подальше[22].
Появление Моне в Живерни сопровождалось не самыми радостными событиями. В апреле 1883 года, когда он перебрался в деревню, какой-то рецензент заявил, что его искусство попросту непонятно публике. Критик признавал, что Моне ценим в узком кругу почитателей, однако широкая аудитория упорно не желает его принимать. «У Моне весьма загадочный язык, — писал он, — которым владеет лишь он один да несколько посвященных»[23].
Но мало того что живопись Моне была «непонятной» — его появление в Живерни сопровождалось также атмосферой скандала. Сразу после кончины его жены Камиллы в 1879 году — а может, и еще раньше — у него начался роман с замужней дамой Алисой Ошеде. Она была супругой обанкротившегося предпринимателя Эрнеста Ошеде, с которым они официально проживали раздельно. К разорительным вложениям Ошеде относились и шестнадцать холстов Моне, в том числе «Впечатление. Восходящее солнце» — вещь, которой, если верить популярному, но все же ничем не подтвержденному мифу, обязаны появлением соответствующего термина импрессионисты[24]. Ошеде приобрел эту картину в 1874 году за 800 франков, но четыре года спустя продал с большим убытком — за 210 франков[25]. Моне переехал в «Прессуар» вместе с Алисой, двумя своими сыновьями и ее детьми: четырьмя девочками и двумя мальчиками. В Живерни большое семейство сразу обратило на себя внимание: как вспоминает один из представителей клана, одевались «мы броско, носили яркие платья, шляпы. <…> Для деревенских жителей мы были чужаками, и глядели они на нас с недоверием»[26].
Тем не менее спустя три десятилетия, к 1914 году, положение изменилось. Моне перестали связывать с пресловутым «зверинцем». Ему исполнилось семьдесят три. С момента скандальной выставки 1874 года, когда критики глумились над его работами, миновало сорок лет. Успех и слава пришли далеко не сразу, но после того, как Моне обосновался в Живерни, его типично французские пейзажи — ряды тополей вдоль реки, туманный утренний свет, брезжущий над Сеной, — все-таки привлекли восторженное внимание критиков, а вместе с ними и коллекционеров. Его больше не упрекали в эскизности и недостатке техники: теоретики искусства вдруг разглядели не только исконно французский колорит его композиций, но также удивительное совершенство живописи. Его превозносили как «великого певца природы», в чьих произведениях «слышны отзвуки таинственных голосов мироздания»[27]. В 1889 году один обозреватель заметил, что критики, которые некогда отпускали в адрес Моне лишь саркастические замечания и насмешки, теперь «превозносят его как едва ли не самую большую знаменитость». В 1909 году его назвали «виднейшим из нынешних живописцев», а литератор Реми де Гурмон заявил: «Перед нами, быть может, самый значительный художник всех времен»[28]. Старый товарищ Моне, Поль Сезанн, выразился кратко: «Да просто он лучший, черт возьми!»[29]
Скандальная известность уступила место настоящей славе. Репортеры толпами стекались в Живерни, а одна газета даже окрестила деревню «меккой импрессионизма»[30]. Но еще больше было художников — часто американских студентов, — питавших надежду, что им удастся (по словам одного журналиста) «уловить божественный проблеск» и в совершенстве овладеть «манерой Живерни»: искусством писать яркими красками с преобладанием пурпурной и зеленой гаммы[31]. Избранных представителей прессы Моне удостаивал интервью, но от нашествия племени молодых живописцев старался укрыться. Он решительно пресекал интерес любопытствующих американцев к своей персоне и среди газетчиков «прослыл свирепым дикарем»[32]. Отношения с американцами не стали лучше, когда в начале 1890-х годов сразу несколько визитеров посватались к дочерям Алисы. «Sacrebleu!» («Черт побери!») — воскликнул он, узнав, что некий Теодор Эрл Батлер попросил руки Сюзанны Ошеде. «Замуж за художника, — взывал он к Алисе в расчете на понимание, — какой кошмар!»[33] И более того, пригрозил, что сбежит из Живерни, чтобы расстроить свадьбу, которая все же состоялась, когда он наконец смирился с неизбежностью и сдался. Надо сказать, что его репутация мизантропа не отпугивала любопытных. Как-то раз к нему решилась подойти американка и попросила подарить ей на память кисть. «Честное слово, — жаловался потом Моне другу, — что за дурацкие идеи приходят людям в голову»[34].
Семейство Моне-Ошеде в Живерни, ок. 1892 г. По часовой стрелке от левого нижнего угла: Мишель Моне, Алиса Ошеде, Клод Моне (стоит), Жан-Пьер Ошеде, Марта Ошеде, Жан Моне, Жак Ошеде, Бланш Ошеде (на заднем плане), Жермена Ошеде, Сюзанна Ошеде
© Bridgeman Images
С популярностью настала и безбедная жизнь. Редкий состоятельный и заботящийся о своем статусе американец, путешествующий по Европе в поисках новых приобретений, способен был удержаться и не добавить к своей коллекции новую вещь Моне. В Нью-Йорке Луизин Хейвемайер, вдова «сахарного магната» и одного из первых американских покупателей Моне, украсила изысканно оформленные Луисом Комфортом Тиффани комнаты своего особняка на Восточной Шестьдесят шестой улице холстами художника. Берта Палмер, супруга чикагского миллионера, купила однажды двадцать пять работ Моне в течение одного года. Но даже эти коллекции не шли в сравнение с собранием торговца живописью Джеймса Ф. Саттона, основателя Американской ассоциации искусств, владевшего пятьюдесятью полотнами Моне.
За один лишь 1912 год доход Моне от продажи работ составил 369 тысяч франков — весьма солидная сумма, если учесть, что парижский рабочий в среднем получал 1000 франков в год, а знаменитый алмаз Хоупа на пару лет раньше продали за 400 тысяч франков[35]. Так что, как заметил завистливый гость, Моне «окружил себя полным комфортом»[36]. К 1905 году его коллекция авто стоила 32 тысячи франков. Через год она пополнилась еще одним автомобилем марки «Пежо» и новым четырехцилиндровым «мендельсоном» стоимостью 6 тысяч 600 франков[37]. Моне так любил скорость, что мэру Живерни пришлось огласить распоряжение, в котором автомобилям предписывалось проезжать по деревне «не быстрее лошади, бегущей рысью»[38]. Первый штраф за превышение скорости Моне выписали в 1904 году[39].
Помимо шофера, имение в Живерни обслуживали управляющий, кухарка, а также дюжая шестерка садовников, которые ухаживали за цветами, деревьями и прудом. Наряду с автомобилями у Моне было четыре лодки для речных прогулок. Гостей изумляли его «господские привычки»[40]. Ему нравилось красоваться, и Алиса — на которой он в 1892 году наконец женился и которая благодаря ему могла одеваться у Уорта — называла его le marquis, «маркиз»[41].
Клод Моне в своем автомобиле «панар-левассор»
Но в тот апрельский день, когда в Живерни прибыл Клемансо, дела там, напротив, обстояли очень плохо. Близкий друг Моне вспоминает, что художник был во власти «черной тоски, которая разрывает сердце и помрачает разум»[42].
На Моне и правда одно за другим обрушились сразу несколько несчастий: он называл это «нескончаемой чередой бед и горестей»[43]. Тяжелее всего было смириться со смертью Алисы от лейкемии в 1911 году. «Я раздавлен» — эти слова, адресованные другу в письме, стали для него постоянным лейтмотивом[44]. За четверть века до этого, в 1886 году, когда казалось, что Алиса оставит его и вернется к мужу, он места себе не находил: «Художник во мне умер… Работа теперь немыслима»[45]. Но вот она покинула его навсегда — и он в самом деле не мог больше помышлять о работе. Спустя два месяца после ее смерти он писал скульптору Огюсту Родену, с которым его связывала тесная дружба: «Мне бы работать, чтобы победить тоску, да я не в силах»[46]. Через год после ее ухода он обратился к своей приемной дочери Жермене с такими словами: «Художник умер, остался лишь безутешный супруг». Другой приемной дочери, Бланш, он написал, что вся его живопись — «убогое посмешище». И сообщил, что намерен вообще больше не притрагиваться к краскам[47].
Через год после кончины Алисы работать стало и вовсе невозможно, потому что летом 1912 года он неожиданно начал терять зрение. «Три дня назад, — сообщал он другу в письме, — я попробовал взяться за дело и с ужасом обнаружил, что правым глазом ничего больше не могу разглядеть»[48]. Страшный удар для того, чье зрение, острое почти до невероятия, — «чувствительной ретины волшебство»,[49] как сказал один восхищенный поэт, — считалось одним из главных секретов его гениальности. В 1883 году нашелся критик, который утверждал, что Моне «видит не так, как все люди», и предположил, что художник способен воспринимать цвета в ультрафиолетовой части спектра, на границе диапазона[50]. Известно также высказывание Сезанна: «Моне — это только глаз, но, бог мой, что за глаз!» Еще одному своему другу он сказал, что Моне обладает «самым невероятным зрением в истории живописи»[51].
Но теперь — вот ведь насмешка судьбы — все, что попадало в поле этого феноменального зрения, казалось мутным, блеклым, размытым. Вскоре у Моне диагностировали катаракту. Напрасно врачи и близкие уверяли, что полная потеря зрения ему не грозит: Моне по-прежнему находился в крайне мрачном, подавленном расположении духа. Вскоре после того, как ему поставили диагноз, на деревню обрушилась сильнейшая гроза. «В Живерни, — официально сообщала пресса, — серьезный урон нанесен знаменитому имению художника Клода Моне»[52]. Ущерб ликвидировали, однако еще через год, летом 1913-го, «Жиль Блас» написала, что «великий Моне» окончательно решил отложить кисти[53].
И вдруг новая беда. В феврале 1914 года в возрасте сорока шести лет умирает Жан, его сын. Жан Моне появился на свет в годы нищеты и лишений, сопровождавших молодость живописца; матерью его была натурщица Камилла Донсье (позднее ставшая женой художника). Маленький Жан изображен на многих ранних полотнах Моне: он спит с куклой в колыбели, сидит за столом во время семейного завтрака, катается на трехколесном велосипеде-лошадке или растянулся возле матери на траве в саду.
Летом 1912 года он перенес инсульт, ставший, возможно, следствием сифилиса. Год спустя, все более заметно теряя дееспособность, Жан был вынужден перебраться из Бомон-ле-Роже, где держал ферму по разведению форели, на виллу «Зяблики», дом в Живерни, который приобрел для него Моне. «До чего мучительно наблюдать, как он угасает», — признавался Моне в письме за несколько дней до того, как измученный болезнью Жан скончался[54].
В 1905 году один из гостей так описывал Моне, который тогда находился на вершине славы: «Он постоянно стремится покорять новые миры, и кажется, ему все дается легко»[55]. И вот через десять лет время побед словно завершилось. Именно таким — богатым и знаменитым, но поникшим, подавленным и бездеятельным — увидел Клода Моне навестивший его в конце апреля в Живерни Жорж Клемансо.
Клемансо и Моне познакомились в Париже в 1860-х годах,[56] еще молодыми людьми. В каком-то смысле это была невероятная дружба. Для Моне только два занятия в жизни представляли интерес: живопись и садоводство. Он мало интересовался политикой и ни разу не потрудился сходить на выборы[57]. Зато среди многочисленных интересов и талантов Клемансо политика была на первом месте. В 1914 году он одновременно являлся членом сената и издателем ежедневной газеты «Ом либр», для которой писал большие и острые по содержанию передовицы. Он был совершенно необуздан, неутомим и, казалось, несокрушим, как любая сильная натура. Моне, напротив, не хватало твердости, уверенности в себе, он был раздражителен, часто разочаровывался и впадал в отчаяние. И все же между ними оставалось много общего: гордость, упрямство, страстность, кипучий юношеский пыл, над которым были не властны годы, — словом, все то, что их общий друг, описывая Моне, назвал «необоримой силой — не просто телесной»[58].
Клемансо придумывал для Моне всевозможные прозвища: «старый маразматик», «заскорузлый рак», «страшила-дикобраз»[59]. Сам же он свое прозвище — Тигр — носил по праву. «Перед ним трепещет весь мир», — написали о нем в газете в январе того года[60]. Политические враги любили называть его полным именем, которое сам он никогда не использовал: Жорж Клемансо де ла Клемансьер. Родился он в Вандее, на французском побережье Атлантики, и вырос во внушительном Шато-де-л’Обрэ — замке, обнесенном рвом и окруженном стеной с четырьмя башнями. Мрачное строение и пышный титул, по всей видимости, достались от некоего Жана Клемансо, которому в начале XVI века король Людовик XII пожаловал дворянское звание за исполнение обязанностей «любимого и преданного книготорговца» при епископе Люсонском[61]. Следующие поколения семьи сохранили любовь к книгам, но в том, что касалось как церковных, так и государственных дел, не выказывали столь похвальной преданности. Отец Жоржа Бенжамен был убежденным республиканцем и противником католичества. «Негодование стало для моего отца естественным состоянием души», — как-то заметил Клемансо[62]. Полновластный хозяин своего имения, владевший многими акрами плодородных земель, которые возделывали крестьяне, Бенжамен в своем угрюмом замке ощущал бурление революционных идей и развесил портреты Робеспьера и других героев 1789 года. Он открыто выступал против императора Наполеона III, и тот в конце концов арестовал Клемансо-старшего по подозрению в причастности к заговору с целью его убийства. «Я за вас отомщу», — поклялся семнадцатилетний Жорж, когда отца забирали в тюрьму[63].
Почти всю оставшуюся жизнь Клемансо посвятил тому, чтобы сполна воздать отцовским недругам. «Мне жаль людей, которые готовы водить дружбу с кем угодно, — сказал он однажды. — Жизнь есть борьба»[64]. И он действительно нажил немало врагов и прошел через множество сражений, в том числе в буквальном смысле: двадцать два раза дрался на дуэли — на шпагах или на пистолетах. Как заметил один журналист, есть три вещи, которыми опасен Клемансо: это его язык, перо и клинок[65]. Будучи человеком остроумным, он мог осадить кого угодно. О Жорже Манделе, тогда начинающем газетчике, он язвительно высказался: «Убеждений у него нет, но защищать он их будет до последней капли крови»[66].
В начале 60-х годов XIX века Клемансо изучал в Париже медицину и писал диссертацию, посвященную теории спонтанного зарождения жизни, вскоре опровергнутой. Однако его истинным призванием была политика. Многие годы он возглавлял Радикальную партию, члены которой видели себя эдакими новыми якобинцами, борющимися за поддержание принципов Французской республики, учрежденной в 1789 году. Как и отец, Клемансо был ярым противником церкви и пламенным республиканцем и точно так же в 1862 году на несколько месяцев оказался политическим узником: он распространял памфлеты, направленные против императора. В 1865 году начатая монархом борьба с инакомыслием вынудила его отправиться в добровольное изгнание в США, где несколько лет он жил уроками французского, фехтования и верховой езды в женской школе Катарины Эйкен в Стамфорде (Коннектикут). Там он встретил свою будущую жену Мэри, дочь нью-хэмпширского дантиста. Брак этот не был счастливым, и причиной тому не в последнюю очередь стала привычка Клемансо флиртовать с привлекательными актрисами. «Зачем только она согласилась за меня выйти», — сетовал он позже в редкие минуты раскаяния[67].
Жорж Клемансо
Клемансо вернулся во Францию летом 1869 года и занялся врачебной практикой в вандейской глуши. Его политическая карьера началась с падением Наполеона III, во время Франко-прусской войны. В сентябре 1870 года старый друг его отца Этьен Араго, только что занявший пост мэра Парижа, назначил его мэром рабочего предместья, расположенного на холме Монмартр. «МЫ — ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ», — горделиво возвещали плакаты на улочках, переходящих в лестницы[68]. Продвинулся он и на врачебном поприще, открыв клинику, через которую, по его же скорбному выражению, тянулась «вереница страдальцев» из трущоб[69]. Спустя шесть лет в качестве представителя Монмартра его избрали в палату депутатов, где он прославился умением добиваться правительственных отставок (тринадцать импичментов только за 1880 год) и получил в результате прозвище Низвергатель Министерств. К другим политикам он относился без особого уважения, признавшись позднее Редьярду Киплингу, что своим возвышением обязан не собственным блестящим достоинствам, «а ничтожеству собратьев»[70]. Со студенческих лет он активно занимался журналистикой и в 1880 году стал издавать радикальную газету «Жюстис», в первом же номере которой заявил о намерении «разрушить старые догмы»[71]. Газета, правда, закрылась, а его политическая карьера потерпела крах после того, как в 1892 году ликвидировали «Всеобщую компанию Панамского межокеанского канала»: поводом стали обвинения в мошенничестве и подкупе, к которым он оказался причастен. Тогда же распался и его брак. «Ничего у меня не осталось, ничего, ничего», — написал он, когда и его на короткое время посетило отчаяние[72].
Но даже скандал, бесчестье, бедность и развод были Клемансо нипочем. Он вновь заявил о себе, опубликовав в своей новой газете «Орор» цикл статей в поддержку Альфреда Дрейфуса, офицера артиллерии, еврея по национальности, несправедливо осужденного по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Десять лет на просторах большой политики — и в 1902 году Клемансо избрали в сенат, а затем, в 1906-м, назначили министром внутренних дел. В том же году, только позже, в возрасте шестидесяти пяти лет он стал премьер-министром и оставался на этом посту до лета 1909 года. Он провел ряд социальных реформ, в том числе ввел отпуска для рабочих и создал Министерство труда. Но этот газетный пропагандист, кумир бедных и обездоленных, не церемонился с инакомыслящими, угрожавшими делу революции. Он беспощадно подавил забастовки шахтеров и виноделов, за что его стали называть также «штрейкбрехером» и даже «убийцей Клемансо». И не случайно именно в те годы появилось прозвище, которое будет знать вся Франция, — Тигр, — ведь боялись его практически все. Один из его друзей вспоминал: «Он заставлял всех невольно цепенеть»[73].
Между тем Клемансо обладал огромным обаянием и был человеком просвещенным. Супруга одного британского государственного деятеля отозвалась о нем так: «Мыслит он стремительнее других, и речь у него более остроумная, да и не помню, кто еще был бы так же непредсказуем. <…> В жизни не встречала настолько интересного человека. Мы ловили каждое его слово»[74]. Он был грозой политиков, которые ненавидели его и боялись, — но при этом большим другом писателей и людей искусства. Клемансо терпеливо позировал для портретов Эдуарду Мане и вспоминал «чудесные часы», проведенные в разговорах со скандальным художником[75]. Он и сам не чужд был творческих амбиций: писал повести и рассказы (иллюстрации к одному из сборников выполнил Анри де Тулуз-Лотрек). В 1901 году его пьесу «Покров счастья» (Le Voile de Bonheur) поставил в Париже Театр де ла Ренессанс. Он был еще и знатоком в области изящного и собрал огромную коллекцию японских художественных и прикладных произведений — мечей, статуэток, шкатулок для благовоний, чаш для чайных церемоний, гравюр Утамаро и Хиросигэ, — которую бережно хранил в своей небольшой квартире на набережной Сены, напротив Эйфелевой башни. Японское искусство — еще одна страсть, которую разделял Моне, чья собственная коллекция состояла из двухсот тридцати одного эстампа.
С творчеством Моне Клемансо был знаком особенно подробно и восхищался художником. Цикл с видами Руанского собора, созданный в 1892–1893 годах и выставленный в Париже в 1895-м, побудил его опубликовать в «Жюстис» большой восторженный очерк. Это даже могло показаться курьезным, учитывая изображенный на этих холстах объект и славу Клемансо — гонителя церковников и убежденного республиканца: речь шла о фасаде старинного собора, в котором в Средние века короновались герцоги Нормандии. Но Клемансо был буквально опьянен. «Это как наваждение, — напечатал он в газетной передовице. — Я не могу об этом молчать». Моне — у которого, по его словам, был «совершенный глаз» — он воспринимал ни больше ни меньше как провозвестника революции визуального восприятия, «нового ви́дения, чувствования, самовыражения». Кто усомнится, глядя на полотна Моне, «что сегодня глаз видит иначе, чем раньше»? В завершении статьи он призвал президента Франции Феликса Фора приобрести все двадцать выставленных холстов, сделав их достоянием нации, чтобы тем самым ознаменовать «переломный момент в истории человечества, революцию без единого выстрела»[76]. Фор отказался, но идея превратить цикл Моне в национальное наследие неотступно преследовала и самого Клемансо, и его друзей в творческих кругах[77].
По мере того как Клемансо и Моне превращались из «анфан террибль» в почтенных стариков и стали в итоге двумя самыми известными французами, привязанность между ними крепла. Они постоянно переписывались, вместе обедали в Париже, Клемансо часто наведывался в Живерни. После смерти Алисы он стал еще более преданным другом Моне. И все время его поддерживал — приглашал в Бернувиль, сопровождал во время прогулок по саду, уговаривал развеяться. Но особенно настойчиво он убеждал Моне не бросать живопись. «Вспомните старика Рембрандта в Лувре, — писал Клемансо через два месяца после кончины Алисы. — Он не выпускает палитру из рук и полон решимости держаться до конца, несмотря на все несчастья»[78].
Глава вторая В сторону Моне
«Стоит толкнуть небольшую калитку на главной улице Живерни, — писал один из самых близких друзей Моне и наиболее частых его гостей, литератор Гюстав Жеффруа, — и кажется… что вы ступили в райские кущи»[79].
Апрельским днем 1914 года дверь в этот рай («местами изъеденную древесными насекомыми», заметил один посетитель[80]) открыла Бланш Ошеде-Моне, которую художник с любовью называл «моя дочь»[81]. В действительности Бланш была его падчерицей, но стала также невесткой, выйдя замуж за его сына Жана. Пышная, голубоглазая, светловолосая, жизнерадостная сорокавосьмилетняя Бланш была вылитой копией матери. К тому же она единственная из всех родных и приемных детей Моне проявляла интерес к искусству и творческой самореализации. В юности была верной помощницей художника: помогала относить мольберт и холсты в луга, на пленэр. И сама писала пейзажи, устраиваясь рядом, также с мольбертом, чтобы как можно точнее перенять импрессионистическую манеру. Порой ей удавалось выставить или продать какую-нибудь работу, хоть она и уступала «мастеру», своему отчиму, которому, как заметил некий критик в рецензии на ее картины, представленные в Салоне независимых 1906 года, «опасно подражать»[82]. Болезнь Жана заставила ее вернуться в Живерни, где она ухаживала за мужем, а после его смерти — за отчимом. Клемансо называл ее Голубым Ангелом за голубые глаза и кроткий, добрый нрав. Ее младший брат Жан-Пьер Ошеде — еще один преданный и любимый пасынок — вспоминает, что после смерти Жана она оставалась «правой рукой Моне всегда и во всем»[83].
Мишель Моне в самодвижущемся экипаже возле «Отель Боди» в Живерни
В бренной жизни Моне дано было многое, в том числе дружная и заботливая большая семья. Другая его падчерица, Марта, жила по соседству с мужем-американцем, художником по имени Теодор Эрл Батлер, чья первая жена Сюзанна, младшая сестра Марты, скончалась в 1899 году. В браке с Сюзанной родились двое детей, и старший из них, Жак, на Осеннем салоне 1911 года уже выставил свои пейзажи — ему тогда было восемнадцать. Тридцатишестилетний Жан-Пьер также жил неподалеку с женой; рядом поселился и второй сын Моне: ему тоже исполнилось тридцать шесть, и он вел тихую, замкнутую холостяцкую жизнь. Мишель привнес тяжелые запахи бензина и машинного масла в цветочное благоухание Живерни. Разделяя любовь Моне к моторному транспорту, он покупал и продавал автомобили, мотоциклы, автозапчасти — как-то раз через его руки прошел шестиместный омнибус. Этот талантливый инженер сам построил самодвижущийся экипаж, на котором разъезжал по улочкам Живерни[84]. В любви к быстрой езде он превзошел отца и заставлял волноваться даже Клемансо. «Он так носится на своем авто по округе, что когда-нибудь свернет себе шею», — сокрушался в одном из писем Тигр[85].
Жан-Пьер также слыл «гонщиком». Он держал в Верноне автомастерскую, агентство по продаже автомобилей и магазин велосипедов, а однажды поучаствовал в проведении гонки «Тур де Франс» 1910 года, когда она проходила через те места[86]. Была ему близка и любовь Моне к растениям: вместе с отчимом в юном возрасте он много ходил по болотам и лугам вокруг Живерни — это была хорошая практика для ботаника-любителя. В девятнадцать он стал членом-корреспондентом Нормандского Линнеевского общества и в уважаемых изданиях публиковал статьи о травах и цветах Вернона и его окрестностей. Кроме того, он разводил породистых ирландских водяных спаниелей, притом что Моне не пускал в свой сад собак и кошек, «поскольку, как объяснял Жан-Пьер, опасался, что они могут там все поломать»[87].
Когда гостей Живерни провожали к отцу этого многочисленного семейства, его чаще всего удавалось застать именно в саду: «рукава закатаны, сам загорелый, руки выпачканы в земле» — так описывал его один из друзей[88]. В заметке, опубликованной в 1895 году в «Жюстис», Клемансо восторженно называет Моне «вернонским крестьянином». Еще один посетитель описывает «сурового хозяина земли, охотника на волков и медведей, полного сил потомка древнего рода»[89]. Должно быть, таким только и мог казаться величайший французский пейзажист, которому удалось интуитивно прочувствовать все радости деревенской жизни, — крепким, закаленным трудягой-землепашцем. Другие видели в нем морского волка — а иногда и в самом деле ошибочно принимали за моряка или капитана[90]. Такое сравнение тоже ему подходило. Он настолько прославился своими морскими пейзажами, что Роден, оказавшись на побережье в Бретани и увидев океан, воскликнул: «Красота — настоящий Моне!»[91]
Моне родился в Париже, но рос фактически у моря, в суетливом портовом городе Гавре, на побережье Нормандии, в двухстах километрах вниз по течению от столицы — в устье Сены. Его отец работал у поставщика бакалейных товаров, который снабжал грузами местные торговые клиперы; семья жила в рабочем предместье Энгувиль, знаменитом своими борделями, кабаре и «прочими злачными заведениями»[92]. Позже Моне скажет одному из друзей, что вся его жизнь тогда проходила на фоне моря, волн и туч[93]. В его самых ранних этюдах запечатлены прибрежные пейзажи с парусниками; художник был настолько привязан к морю — продолжая писать его до конца своих дней, — что даже просил после смерти похоронить его внутри бакена[94].
Из Гавра в Париж Моне перебрался, когда ему было восемнадцать, весной 1859 года: он решил учиться живописи. В столице вскоре погрузился в пестрый мир искусств, политики и литературы. Но быстро оставил богемную среду, окружавшую его в ранней молодости, и после женитьбы на Камилле стал жить в предместьях Парижа, а потом перебрался в Живерни. И все же он отчасти сохранил причудливый стиль одежды, отличавший его приятелей, фланировавших по бульварам и сидевших в пивных, где можно было увидеть пелерины и кафтаны критика Теофиля Готье или замшевые перчатки и «нарочито броские брюки» Эдуарда Мане[95]. Грозную суровость облика художника подчеркивали твидовые костюмы в «елочку», которые поставлял ему из Парижа один превосходный англичанин-портной, и сапоги из ярко-красной кожи, пошитые на заказ фирмой, обслуживавшей французскую кавалерию. Присборенные рубашки пастельных тонов с отделанными рюшем манжетами придавали Моне, по словам очередного гостя, «щеголеватость»[96]. Жан-Пьер точно охарактеризовал его внешний облик словами «сельский шик»[97].
Позже Клемансо так будет описывать своего друга: «Среднего роста, отличается красивой осанкой, ладно сложен, у него грозный, но лучистый взгляд и твердый, звучный голос»[98]. Моне действительно был невысоким, полным, носил густую бороду, в которой скапливались крошки, а по центру желтой точкой мерцала «вечная сигарета»[99]. Орлиный нос, как заметил еще один знакомый, придавал ему сходство с арабским шейхом[100]. Преклонный возраст и брюшко не вполне соответствовали его кипучей энергии. Но все отмечали, что у него проницательные, умные глаза, цвет которых, впрочем, воспринимался по-разному. Клемансо говорил, что это цвет «черной стали», а Эдмон де Гонкур считал глаза Моне «устрашающе черными»; другим они казались синими, серо-голубыми или карими[101]. Подобная неоднозначность, пожалуй, подтверждает правоту тех, кто считает, что наше восприятие цвета всегда зависит от освещения, а зрительный эффект ежеминутно меняется.
«Первым делом обед», — любил повторять Моне[102]. Видимо, такими словами он встречал своих гостей. Многие отправлялись в Живерни, чтобы вкусно поесть. «Нигде во Франции не готовят лучше, чем в этом доме», — воодушевленно рассказывал один маршан, старавшийся любыми правдами и неправдами получить приглашение[103]. Стряпней занималась кухарка Маргарита, много лет работавшая у Моне; ее муж Поль, исполнявший обязанности управляющего, также прислуживал за столом и доставлял дымящиеся блюда из кухни, в то время как шофер Сильвен тащил из подвала бутылки с вином.
Клемансо должны были провести в хорошо знакомую ему столовую, salle à manger; вся она — от стен и стенных панно до сервантов, стульев и потолочных балок — была выкрашена в цвет, который кто-то из гостей назвал «желтизной Моне». Медный колокол над камином так сиял, что приходилось щуриться[104]. Более пятидесяти японских эстампов из домашней коллекции заполняли стены столовой, а также соседних помещений и украшали лестницу, которая вела наверх, в мастерскую. Моне принадлежали несколько литографий Мане, но посетители встречались с этими изящными шедеврами, лишь когда посещали cabinet de toilette, то есть уборную[105]. Обед в доме Моне превращался в целую гастрономическую эпопею — упоительную, но требующую сил. У других бывало иначе: Ренуар, к примеру, накидывался на рыбу, фрукты и овощи, которые приносила с рынка кухарка, и начинал их писать — ужин подавали не раньше, чем завершалась работа над холстом[106]. Но недюжинный аппетит Моне не позволял откладывать приготовление пищи ради очередного натюрморта. Жан-Пьер, правда, утверждал, что обжорой (gourmand) Моне не был. Зато — делает оговорку пасынок — его можно назвать гурманом (gourmet): он был разборчив в еде и знал в ней толк[107]. На самом деле в Моне было и то и другое: он мог съесть множество блюд и отведать множество вин, если они отвечали его тонкому, избирательному вкусу. «Он ест за четверых, — изумлялся один из гостей. — Клянусь, это не для красного словца. Он умнет четыре куска мяса, четыре порции овощей, выпьет четыре рюмки ликера»[108]. Он любил фуа-гра из Эльзаса, трюфели из Перигора, как и грибы, которые сам собирал на рассвете в каштановой роще неподалеку от Живерни. На его ломящемся от яств столе появлялся говяжий язык, гуляш из воловьих хвостов с сосисками, заливная телячья печень, курятина в соусе из раков и провансальский рыбный суп буйабес, рецептом которого поделился Сезанн. Он ел пернатую дичь, целую неделю до этого провисевшую на крюке, — и чем сильней был душок, тем лучше. Как-то раз Клемансо подарил ему вальдшнепа: Моне сунул подарок в карман пальто да и забыл про него. Через несколько дней, обнаружив разлагающуюся птицу, «он не побрезговал отнести ее на кухню, где она была приготовлена, а затем с удовольствием съел»[109].
Моне в аллее, обсаженной розами, в своем саду
© Getty Images
В разгар сытной трапезы Моне непременно устраивал le trou Normand («нормандскую передышку»), чтобы сделать глоток яблочной водки, очищавшей нёбо и будившей аппетит, — после этого можно было снова предаваться обжорству. Подавали и вино — конечно, не местное, дешевое, а лучшие сорта, которые доставали из погреба. В конце предлагали домашнюю сливовую настойку. Кофе пили в бывшей мастерской, которую некогда обустроили в амбаре, но с тех пор успели превратить ее в скромную гостиную, где стояли деревенские стулья, мраморная статуя работы Родена и красовалось старинное зеркало: за край его рамы были вставлены потрескавшиеся и пожелтевшие фотографии друзей художника. Стены были увешаны холстами хозяина дома на подрамниках. Эркер выходил в сад, куда сразу после кофе Моне вел своих насытившихся гостей.
Этот сад обычно все и стремились увидеть. Ему были посвящены многочисленные газетные статьи, публиковались фотографии, многим желающим было позволено его лицезреть (и неменьшему числу отказано в этом удовольствии). Причем главной достопримечательностью была не та часть сада, которая открывалась из окон дома, — при всей ее красоте, — а бывший фруктовый сад и огород, которые Моне преобразил, создав островки с пестрыми цветочными клумбами и большой аллеей в центре, где по обеим сторонам росли два тиса и цвели гирлянды роз, обвивая металлические каркасы. Еще к одному примечательному месту, уже за оградой, можно было попасть по туннелю в юго-западном конце имения. Он пролегал под Королевской дорогой, на которой часто останавливались автомобили, чтобы пассажиры могли полюбоваться чудесным зрелищем через брешь в каменной стене: от известности никуда не денешься, и Моне давал возможность мельком взглянуть на свой сад состоятельным путешественникам[110]. Туннель проходил также под железной дорогой: с высоты ее насыпи во время той судьбоносной поездки в 1883 году Моне впервые заметил благородную розовую постройку — «Прессуар». Сразу за выходом из туннеля открывалось, как написал один журналист, «царство водяных лилий»[111].
Моне начал создавать этот магический уголок в 1893 году, когда приобрел болотистый участок по ту сторону автомобильной и железной дорог, близ реки Рю, и тут же обратился за разрешением частично изменить ее русло, чтобы устроить пруд с лилиями. Но поскольку на реке поили скот, стирали белье и к тому же она приводила в движение две мельницы на восточной окраине Живерни, местные жители стали роптать, опасаясь, что экзотические цветы Моне — которые, насколько они могли судить, дохода не принесут — распространятся за пределы запруды и будут портить воду. Моне от их забот был далек. «К черту этих местных» — таков был его ответ[112].
С коренными жителями деревни Моне никогда особо не ладил. Для них он был horzin (от horsin, «чужак», «приезжий»). Да еще и художник — подозрительно! Будь он хоть сто раз знаменит, его творческие поиски соседей не впечатляли. Фермеры взимали с него плату, если он гулял по их пастбищам или отправлялся в луга на этюды. Как-то раз — с тех пор прошло несколько лет — он писал пшеничную скирду; холст был готов только наполовину, когда хозяин поля заявил, что развалит шестиметровую скирду для молотьбы, если ему не заплатят за отсрочку[113]. Крестьяне, называвшие самих себя cultivants (то есть, по сути, «земледельцы»), не понимали, какой прок в цветочном саде, из которого ничего не съешь и не продашь. Моне, в свою очередь, по словам Жан-Пьера, не поддерживал с ними «вежливых бесед» — это казалось ему бессмысленным и неинтересным[114].
Получить разрешение на создание пруда удалось довольно быстро: не зря у Моне были кое-какие связи среди местных журналистов и политиков. Он был дружен с мэром Живерни Альбером Коллиньоном, еще одним horzin. Коллиньон, видный литератор и интеллектуал, основал газету «Ви литтерэр», а также опубликовал несколько солидных работ, посвященных Стендалю и Дидро[115]. Ему-то как раз было понятно, чего хочет Моне, и к концу года художнику разрешили отвести реку с помощью системы шлюзов и плотин, чтобы получился небольшой узкий вытянутый пруд, над которым — возможно, под влиянием гравюр Хокусая — был построен изящный мост в японском стиле.
Первые водяные лилии появились здесь в 1894 году благодаря Жозефу Бори Латур-Марлиаку, опытному и предприимчивому ботанику, владевшему питомником в окрестностях Бордо. Путем скрещивания белых водяных лилий, представленных в северных широтах, с яркими тропическими видами, произрастающими в районе Мексиканского залива, Латур-Марлиак вывел первые жизнеспособные цветные водяные лилии в Европе. Свои экзотические сорта, составлявшие палитру из желтых, синих и розовых тонов, он показал в Париже на Всемирной выставке 1889 года в саду Трокадеро, по другую сторону Сены от Эйфелевой башни, явленной миру в том же году. Эти великолепные гибридные растения вдохновили Моне. Художник мечтал создать сад, который, как сказано в его письме, «будет радовать глаз»; однако, увидев зрелище в Трокадеро, он с первого взгляда понял, что ему нужна именно такая «живописная натура»[116].
Моне возле нового пруда с лилиями в 1905 г., в начале работы над «пейзажами с нимфеями»
© Getty Images
В первой партии, заказанной у Латур-Марлиака, было шесть водяных лилий — две розовые и четыре желтые, — а также некоторые другие водяные растения, например рогульник и пушица[117]. Моне купил также четыре египетских лотоса, но, несмотря на уверения хозяина питомника, что и эти цветы приживутся в Нормандии, они вскоре погибли. Зато водяные лилии стали цвести, и Моне дополнительно заказал сорта красных оттенков. Зимой 1895 года он впервые поставил у воды мольберт, чтобы изобразить пруд. Через год его навестил журналист Морис Гийемо — и был изумлен при виде этих «вселявших непонятное волнение» цветов, плававших среди зеркальных отражений. Моне признался ему, что хотел бы оформить этими зелеными и лилово-розовыми цветами и их отражениями какое-нибудь помещение округлой формы[118].
Увы, план не осуществился, и холсты с изображением пруда отправились в кладовую. Через несколько лет художник приступил к расширению декоративного водоема, когда приобрел прилегающий участок, где также вырыли котлован и соорудили новые шлюзы, в результате чего Рю вновь изменила русло, а площадь пруда увеличилась в три раза. Моне построил еще четыре моста, а японский дополнил решетками, которые должны были оплести глицинии. С ивами соседствовали бамбук, рододендроны, японская яблоня и вишневые деревья — их живописно высадили по берегам пруда.
Конечно, это вылилось в громадные расходы. Пришлось построить оранжереи, в том числе одну для лилий, с собственной системой отопления. Садовники трудились круглый год не покладая рук. Проезжающие мимо автомобили оставляли на водяных лилиях слой пыли, и в 1907 году Моне предпочел заплатить за гудроновое покрытие Королевской дороги, чтобы не поручать садовникам — как он делал до этого — ежедневное купание цветов. В целом на поддержание садов тратилось около сорока тысяч франков в год. Моне практически не считал денег, а значит, мог позволить себе подобную «расточительность», поскольку его банковские счета росли от продаж работ, так что одних только ежегодных процентов хватало, чтобы покрыть эти сорок тысяч[119].
В ранний период творчества Моне много путешествовал по Франции с палитрой и кистями. В 1886 году он трудился на открытых всем ветрам утесах острова Бель-Иль, в пятнадцати километрах от побережья Бретани. В 1888-м вместе с Ренуаром отправился в Антиб, на юг Франции, откуда вернулся с восхитительными пейзажами Лазурного Берега. На следующий год три месяца провел во Фреслине, в трехстах пятидесяти километрах к югу от Парижа, где запечатлел крутые обрывы реки Крёз.
После покупки фермы «Прессуар» в 1890 году Моне по-прежнему периодически совершал поездки на этюды: в Норвегию — навестить пасынка, или к нормандскому побережью, трижды с 1899 по 1901 год — в Лондон, а в 1908 году вместе с Алисой — в Венецию, где они, как самые настоящие туристы, позировали фотографам среди голубей на площади Сан-Марко. И все же подавляющее большинство картин Моне после 1890 года создавалось в окрестностях его дома. Именно тогда он стал все больше обращаться к местным сюжетам: пшеничные скирды на соседнем лугу, тополя у берегов реки Эпт, виды Сены ниже по течению, в Верноне, и выше — в Пор-Виле. Он изображал возвышающуюся над рекой старинную церковь Нотр-Дам, а летом 1896 года взял привычку вставать в половине четвертого утра и, сев в плоскодонную лодку, на веслах доходил до Сены, чтобы запечатлеть рассветный туман.
Но несмотря на местный характер этих пейзажей, Пол Хейс Такер, специалист по творчеству Моне, видит в них мощное национальное звучание, выражение французского духа. К примеру, пшеничные скирды, воплощающие изобилие и неизменность, по словам Такера, олицетворяют «сельскую Францию, цветущую и плодородную, отрадную и непреходящую»[120]. Как тополя, которые высаживали, чтобы затем распилить на дрова или пустить на строительные нужды. И действительно, те тополя, которые Моне запечатлел, работая на берегах Эпта, собирались срубить еще до того, как он завершил свои полотна, так что ему пришлось выкупить все посадки (которые затем, когда работа была закончена, он не дрогнув продал торговцу древесиной). Но, кроме того, тополь считался во Франции «деревом свободы»: как пишет Такер, его название во французском языке (peuplier) происходит от populus, что означает одновременно и «народ», и «широко распространенный»[121]. Готический Руанский собор был еще более ярким символом Франции: этот архитектурный стиль, зародившись в Иль-де-Франс, в Средние века распространился по всей Западной Европе. В декабре 1899 года один из критиков написал, что Моне удалось «передать все, что олицетворяет наш дух и нацию»[122].
Есть очевидный парадокс в том, что спрос на «первозданную Францию» удовлетворял человек, которого соседи по деревне презирали и считали незваным гостем, чуждым их вековым обычаям. В самом деле, было у Моне нечто общее с экзотическими водяными лилиями, существование которых зависело от того, удастся ли отвести естественное русло реки, незаменимой в деревенском хозяйстве: он тоже казался экзотическим цветком в Живерни, не поддерживал традиционный уклад жизни, не был к нему приспособлен, хоть и обеспечил себе состояние, перенося эту жизнь на холсты.
Несмотря на богатство и славу, которые принесли Моне эти работы, к концу столетия он внезапно отказался от патриотичных, «насквозь французских» мотивов сельских пейзажей, написанных в окрестностях Живерни. Теперь горизонт для него еще больше сузился: он почти одержимо, в ущерб всему остальному, искал сюжеты в собственном саду. Как писал его друг Гюстав Жеффруа, «эпический пейзажист, с такой силой выразивший величие океана, утесов, скал, старых деревьев, рек и городов, нашел для себя отдушину в сентиментальной чарующей простоте, в восхитительном уголке сада, возле маленького пруда, где раскрываются загадочные лепестки»[123]. Поворотным Такер называет 1898 год — год, отмеченный обострением полемики вокруг так называемого «дела Дрейфуса», когда сопровождавшийся политическим скандалом несправедливый суд признал Альфреда Дрейфуса виновным в шпионаже, подняв при этом чудовищную волну антисемитизма в высших кругах французского общества[124]. Друзья Моне — Жорж Клемансо и Эмиль Золя — сыграли в этом деле важную и, без преувеличения, героическую роль: Клемансо опубликовал в своей газете «Орор» написанную Золя громкую статью «Я обвиняю» — блестящий пример открытого обличения власти. «Браво множество раз»,[125] — написал Моне Золя, которого тут же обвинили в клевете, так что ему пришлось скрываться по ту сторону Ла-Манша, в Англии. Ни один «патриотический» пейзаж с видами французской деревни, отражавший дух французской нации, из-под кисти художника больше не появился. Мог ли дрейфусар вроде Моне воспевать или хотя бы изображать Францию, которой, как писал Золя, «грозит бесчестье от несмываемого пятна позора»?[126] После процесса над литератором он на целых полтора года вообще забросил живопись.
«Надо возделывать наш сад» — такими словами Вольтер завершил повесть «Кандид, или Оптимизм». Этим Моне и занялся: он возделывал сад, в котором японский мост, розовая аллея, плакучие ивы и водяные лилии — ни в коей мере не олицетворявшие французскую деревню и национальный дух — в последующие четверть века станут сюжетами трехсот картин. Сужение географического пространства до границ собственного имения вовсе не означало, что взгляд художника также утратил широту. Отнюдь — как убедились вскоре проницательные критики. «В этой простоте, — писал Жеффруа, — заложено все, что может увидеть и представить художник, бесконечное множество форм и теней, сложная жизнь вещей»[127]. Уильям Блейк в песчинке узрел мир — мимолетный взгляд Моне улавливал на зеркальной поверхности пруда с лилиями ослепительное многообразие и изобилие природы.
Картины с видами сада в итоге принесли Моне еще более ощутимый коммерческий успех и одобрение критиков, чем пшеничные скирды, тополя и соборы. В 1909 году сорок восемь таких работ были представлены публике на парижской выставке «Нимфеи. Цикл водных пейзажей Клода Моне». Холсты разошлись быстро и по хорошей цене, так что этот вернисаж прошел для него с невиданным прежде триумфом. Критик из «Газет де боз-ар» заявил: «Сколько существует человечество, а художники занимаются живописью, никому еще не удавалось достичь бо́льших высот». Его собрат возвел Моне в ранг «величайших живописцев современности»[128]. Творения художника сравнивали с фресками Микеланджело в Сикстинской капелле или с последними квартетами Бетховена[129].
Моне окончательно был признан самым выдающимся художником Франции — не говоря о том, что он стал еще и самым известным ее садовником. Неудивительно, что после такого успеха наступает время горьких печалей: смерть Алисы и Жана, проблемы со зрением, вынужденная необходимость отложить работу. Должно быть, Моне задумывался о своей дальнейшей творческой судьбе. В 1905 году влиятельный критик Луи Воксель написал, что Моне напоминает ему Эрнеста Месонье[130]. Он имел в виду внешность Моне: длинную седую бороду, крепкое сложение. Правда, огромное состояние Моне и его слава, а заодно солидный дом и беспокойный нрав невольно приводили на ум нелестное сравнение с заносчивостью и расточительством самого влиятельного живописца времен его юности — Месонье, чьи работы шли нарасхват и становились предметом крупных сделок, притом что сам он, потратив целое состояние на великолепный особняк в Пуасси, находил сюжеты для картин в своем огромном имении и считался самым известным художником той эпохи. Правда, после его кончины в 1891 году имя Месонье было забыто практически сразу и едва ли не всеми. «Многие недавние кумиры исчезают, как лопнувший мыльный пузырь», — заметил как-то Месонье, видно тревожась о собственной посмертной славе[131]. Так что можно понять тревогу Моне, опасавшегося, что магический шар его живописи вдруг окажется таким же лопнувшим пузырем и за грандиозный успех при жизни он, как и Месонье, заплатит пренебрежением и безвестностью после смерти.
А ведь тревожные знаки уже появлялись. Наследие Моне и его собратьев-импрессионистов теперь ставили под сомнение. В 1912 году Воксель заявил: «Все признаю́т, что импрессионизм отошел в прошлое. Более молодые художники, при всем почтении к предыдущему поколению, должны искать что-то новое»[132]. Это направление и в самом деле отходило на второй план. Свою последнюю совместную выставку импрессионисты провели в 1886 году, с тех пор прошло почти четверть века. Участники того Салона успели сойти со сцены или собирались ее покинуть. Эдуарда Мане не стало в 1883-м, как раз в ту неделю, когда Моне перебрался в Живерни. Берта Моризо последовала за Мане в 1895-м, Альфред Сислей — в 1899-м, Камиль Писсарро — в 1903-м, Поль Сезанн — в 1906-м. Оставшиеся больше не творили: мешали старческие недуги. Семидесятитрехлетний Ренуар, страдавший от артрита и не покидавший инвалидного кресла, удалился на юг Франции и производил на посетителей «удручающее впечатление»[133]. С Эдгаром Дега, которому вот-вот должно было исполниться восемьдесят, все было и того хуже: он превратился в желчного затворника-мизантропа. «Думаю только о смерти», — признавался он редким собеседникам, выдерживавшим его общество[134]. Мэри Кэссетт назвала его «дряхлой развалиной»[135]. Впрочем, и она успела почти полностью ослепнуть и точно так же забросила живопись — Моне, судя по всему, грозила аналогичная участь.
Он мог превратиться в «реликт». Еще в 1898 году один анонимный автор написал, что у искусства «месье Моне» нет будущего. «Суть в том, — рассуждал этот критик, — что мастер истинного импрессионизма… не впечатляет молодежь»[136]. Это было не совсем так, поскольку молодые художники, как Анри Матисс или Андре Дерен, по-настоящему вдохновлялись его примером. Но в отличие от прежних времен, громче всех импрессионизм клеймили не консервативные критики, а нарождающийся парижский авангард — в частности, кубисты и их последователи. Эти и другие представители нового поколения, в том числе пуантилисты, как Жорж Сёра, стали называться «постимпрессионистами» — с подачи английского критика Роджера Фрая, давшего им это определение в 1910 году, тем самым подчеркнув, что они вытеснили импрессионизм. Многие из них, особенно кубисты, охотнее называли своим учителем Сезанна, нежели Моне. Сезанн, по их мнению, в своих четко выстроенных композициях «стремился к сбалансированности и осмысленности», в отличие от бесформенных и «торопливых фантазий» Моне[137]. Когда в 1908 году художник-кубист Жорж Брак устроил в Париже первую персональную выставку, друг Пабло Пикассо поэт Гийом Аполлинер написал в предисловии к каталогу, что импрессионизм есть не что иное, как «невежество и мракобесие». Пришло время для «более благородного искусства, — объявил он, — более выверенного, упорядоченного, утонченного»[138]. Под этим искусством он, разумеется, имел в виду кубизм, начавшийся с Брака и Пикассо. Еще один критик, Андре Сальмон, друг Аполлинера и Пикассо, заявил, что «современный пейзажист, едва взглянув на натуру и не успев взяться за кисть, произносит анафему импрессионизму»[139].
Поездка в Живерни в 1914 году была для Клемансо не только поводом сбежать из Парижа, от бесконечных разговоров о выборах, и найти отдушину за столом у Моне и в его саду. Он, как уже не раз бывало, приехал, чтобы утешить и ободрить друга.
С друзьями Моне повезло не меньше, чем с семьей. Последние три года старые товарищи старались его поддержать. «Сколько еще можно создать впечатляющих и красивых вещей», — убеждал Гюстав Жеффруа, который, так же как Клемансо и прозаик Октав Мирбо, был близок к художнику и оставался большим его поклонником[140]. В ближний круг входил также молодой повеса Саша Гитри, которого на страницах «Жиль Блас» назвали «сочинителем, актером, лектором, карикатуристом, светским львом, идеальным мужем и очаровательным другом»[141]. Двадцативосьмилетний Гитри и его жена Шарлотта Лизес уговорили Моне погостить у них на загородной вилле «Зоаки»,[142] расположившейся под сенью полуразрушенного аббатства в живописном местечке Жюмьеж, под Руаном. Предполагая, что Моне вряд ли захочет снова заняться живописью, они все же заставили его летом 1913 года преодолеть апатию и взять на себя переустройство их сада. Моне нравилось общество «четы Гитри», как он их называл. Они были щедрыми хозяевами, отправляли роскошные авто для встречи гостей на вокзал, потчевали их лобстерами и шампанским. «Ах, если бы жизнь всегда была так прекрасна», — написал Моне в августе Бланш из «Зоаков»[143]. Другой гость имения вспоминает художника тем летом — неунывающего эпикурейца, который со смаком уплетает куропатку под бургундское из пустеющей на глазах бутылки[144].
Моне были в радость садовые работы на вилле Гитри. Читатели светской хроники — в которой неутомимый Саша, делавший себе имя любыми средствами, всегда появлялся на видном месте — могли пристально следить за их продвижением. «У Людовика XIV был Ленотр, — писали в „Жиль Блас“, — у Саша Гитри есть Клод Моне. Едва ли Саша завидует Людовику»[145]. Весной 1914 года Саша слег с сильной пневмонией. (Светская пресса постоянно информировала читателей о том, как меняется состояние больного.) Но в апреле Моне все еще периодически наведывался в «Зоаки» с чертежами и растениями из своего сада. Шарлотта отправляла ему сердечные письма с пожеланиями «радости» и называла его «наш милый, чудесный садовник»[146].
Но одно дело садоводство, другое — живопись. Друзья Моне, все как один, не теряли надежды заставить его вновь взять в руку кисть. Летом 1913 года, когда он гостил в «Зоаках», «дружеские уговоры» Гитри и Мирбо побудили его вернуться к мольберту[147]. А через несколько месяцев один парижский еженедельник опубликовал жизнеутверждающий снимок мэтра, который в эффектном твидовом костюме традиционного английского покроя сидит в мастерской за мольбертом и беглой кистью воссоздает на холсте увитую розами беседку за домом. «Три года я провел без живописи из-за страшной потери, — сказал он в интервью. — И всего пару месяцев назад вернулся к своему станку»[148]. Но трудился он урывками, нерегулярно и без прежнего рвения. Не в последнюю очередь дело было в нем самом: он считал, что уже достиг всего, что было дано ему сделать в искусстве. «Мне всегда хотелось верить, — писал он одному из продавцов картин, — что я смогу совершить прорыв и наконец сделаю что-нибудь стоящее. Но, увы, все чаяния придется похоронить»[149].
Саша Гитри, «очаровательный друг» Моне
Полный решимости возродить эту надежду во время своего пребывания в Живерни, Клемансо в какой-то момент — не иначе как после обеда и прогулки по саду — спустился с Моне в подвал: так, во всяком случае, потом рассказывали. Там, в холодном полумраке, он увидел первые холсты Моне, запечатлевшие пруд с лилиями и созданные почти два десятилетия назад; в 1897 году художник показал их Морису Гийемо, но на публичное обозрение не выставлял. Клемансо выказал живой интерес и уверил Моне, будто впечатлен картинами, хотя позже признавался, что эти первые пробы, хоть и были весьма красивы, показались ему «малоинтересными и выхолощенными»[150]. Однако он надеялся оживить в Моне прежнюю мечту, о которой тот некогда поведал Гийемо: он хотел написать цикл больших холстов и оформить ими интерьер. «Дорогой Моне, — сказал Клемансо, — вам следует отыскать где-нибудь богатого еврея, который заказал бы водяные лилии для украшения столовой»[151].
Готовность, с которой художник воспринял идею, наверняка удивила, но и обрадовала Клемансо. Такого ответа он и правда не ожидал, ведь Моне не просто хотел найти применение холстам едва ли не двадцатилетней давности, а намеревался выполнить совершенно новый и еще более масштабный живописный цикл с мотивами пруда. Через несколько дней Моне написал Жеффруа о визите Клемансо и сообщил, что находится «в прекрасном расположении духа и одержим желанием творить». По его словам, приступить к осуществлению замысла пока мешает плохая погода, но он собирается «создать нечто грандиозное»[152].
Надо полагать, получив письмо, Жеффруа облегченно вздохнул: он горячо поддерживал Моне и старался убедить художника, что, вопреки всему, его талант не иссяк. Но ни Жеффруа, ни Клемансо даже представить не могли, что их увещевания обернутся настоящей творческой эпопеей. «Вы метнули петарду в вечность», — напишет позже Клемансо. И добавит, что Моне, охваченный новой идеей, «очертя голову» творит невозможное[153].
Глава третья Пейзажи и вода
Жизнь и творчество Клода Моне часто были связаны с безотчетным стремлением к невозможному. Он поставил себе недостижимую, по собственному признанию, цель: научиться изображать выбранный объект — будь то собор, утес или пшеничная скирда, перед которой он водрузил свой мольберт, — в уникальных и изменчивых погодных условиях, при разном освещении. Художник как-то признался гостю-англичанину: «Главная цель — передать свои впечатления, а уж потом все мимолетные эффекты»[154].
В 1889 году один критик презрительно заявил, что в живописи Моне нет ничего, кроме «географического места и времени года»[155]. Только он упустил главное. Коль скоро предметы меняют цвет и сами меняются внешне в зависимости от сезона, погодных условий и времени суток, Моне рассчитывал запечатлеть их визуальный след в этих кратких, неповторимых, изменчивых мгновениях. Он не только сосредоточился на предметах, но и придавал решающее значение атмосфере вокруг, беспрестанно меняющимся, неуловимым свету и краскам, которые он называл enveloppe (имея в виду «окружение»). «Все меняется, даже камень», — писал он Алисе, пока работал над циклом, посвященным фасаду Руанского собора[156]. Но показать облик предметов, отобразив миг призрачной игры света и воздуха, — непростая задача. «Я гонюсь за грезой, — признался он в 1895 году. — И желаю невозможного»[157].
Все творчество Моне — это попытки запечатлеть мимолетные эффекты цвета и освещения. Стоя с мольбертом перед Руанским собором, или пшеничной скирдой на морозном лугу в окрестностях Живерни, или на продуваемых утесах нормандского побережья, он в течение всего дня будет изображать перемены освещения и погоды, а потом и времен года. Чтобы воссоздать желаемый эффект, в точности следуя собственным ощущениям, приходилось работать на открытом воздухе, часто — отнюдь не в комфорте. В 1889 году некий журналист описывал, как художник один на один с бушующими волнами, у подножия прибрежных скал в Этрета, «в промокшем насквозь плаще, пишет шквал и соленые брызги», стараясь перенести меняющийся свет на два-три холста, которые поочередно водружает на мольберт[158].
Свет меняется очень быстро — каждые семь минут, как однажды заметил сам художник,[159] — так что, создавая живописные циклы с пшеничными скирдами и тополями, он работал над несколькими холстами одновременно, примерно раз в семь минут чередуя их на мольберте в зависимости от визуального эффекта, который он в тот момент пытался передать. Клемансо как-то раз пришлось наблюдать за ним на маковом поле сразу с четырьмя холстами. «Он переходил от одного к другому в зависимости от положения солнца»[160]. А в 1880 году Ги де Мопассан описал, как Моне «пускается в погоню за впечатлениями» на побережье Нормандии. В его рассказе художник шагает через луга в сопровождении родных и приемных детей, «которые тащат за ним холсты — по пять-шесть работ на один и тот же сюжет, показанный в разное время в разных состояниях. Он трудился над ними по очереди, следя за переменами в небе»[161].
Из-за этой одержимости, заставлявшей Моне отражать последовательные изменения, когда солнце клонится к закату или сгущается туман, часто возникали ситуации комичные (в глазах свидетелей) и крайне досадные (для него самого). В 1901 году в Лондоне, из окна своего номера в отеле, он решил запечатлеть, по собственному выражению, «уникальную атмосферу» реки Темзы — легендарный желтый туман, так называемый «гороховый суп»[162]. Навестивший его художник Джон Сингер Сарджент обнаружил Моне в окружении по меньшей мере девяноста полотен, «и на каждом оставался мгновенный световой эффект, наблюдавшийся над Темзой. Когда эффект повторялся, давая шанс завершить работу, — сообщал Сарджент, — до его исчезновения нужный холст обычно не удавалось найти»[163].
Таков парадокс подхода Моне: его картины, отражавшие текучесть визуальных эффектов в отдельный миг времени, часто создавались не один месяц. «Я работаю исключительно на пленэре, — опрометчиво заявил он однажды в беседе с журналистом. — В мастерской к холстам не притрагиваюсь»[164]. Тем не менее практически все свои пейзажи, действительно начатые на побережье или в полях, Моне завершал именно в мастерской, где никакой натуры не было, но работа шла до седьмого пота[165]. Октав Мирбо вспоминал, что одна картина могла потребовать «шестидесяти сеансов»[166]. На некоторые холсты ложилось по пятнадцать красочных слоев[167]. Лондонский цикл был завершен не на берегах Темзы, а целых два года спустя в мастерской в Живерни, на Сене, по фотографиям. Новость, что Моне пользуется снимками, вызвала своего рода скандал, когда в 1905 году об этом узнали из неосторожных, хотя, может быть, и намеренных высказываний лондонских знакомых художника, в том числе Сарджента. С перспективой аналогичного скандала Моне столкнулся, когда повез цикл с видами Руанского собора в Норвегию.
Картины Моне скрывают еще один парадокс. На многих из них можно видеть чудесные сцены сельской безмятежности: солнечные блики играют в летний полдень на берегу реки, изысканная дама прогуливается по цветущему лугу. Как писал Мирбо, в полотнах Моне ощущается «горячее дыхание любви» и «пульсация радости»[168]. В его притягательных буколических композициях возникали великолепные цветовые переливы, дополненные «мерцающим» эффектом письма. По мнению многих, картины Моне не только радуют глаз, но и дарят умиротворение — в этом смысле художника можно назвать живописцем счастья. Жеффруа утверждал, что эти вещи помогают отвлечься и снимают усталость, а сам художник рассуждал о том, что они должны успокаивать «натруженные нервы», предлагая изнемогающему зрителю «прибежище для созерцания»[169]. Его горячий поклонник, писатель Марсель Пруст, полагал даже, что холсты Моне способствуют исцелению духа «так же, как психотерапевты помогают некоторым невротикам», — имея в виду тех, кого подвела слабая нервная система, оставив на милость современности с ее бешеным ритмом[170]. У Пруста нашлись единомышленники. Спустя столетие с лишним эксперт по импрессионистической живописи на аукционе «Сотби» в Лондоне назвал картины Моне «прекрасным средством от депрессии»[171].
Правда, создатель этих «средств» сам напоминал комок нервов и за работой предавался отнюдь не безмятежному созерцанию. Жеффруа описывает «постоянные тревоги и бесконечные переживания» Моне, а у Клемансо он «чудовище» и «король ворчунов»[172]. Моне, бывало, впадал в уныние и раздражался, даже когда все было хорошо, а если, стоя у мольберта, он оставался недоволен результатом своих трудов — увы, такое случалось часто, — наступали продолжительные и безудержные приступы ярости. Клемансо остроумно изобразил типичную сцену, когда художник вдруг вспыхивал, даже если казалось, что вокруг тишь да гладь. «Могу представить, — писал он Моне, — как в ниагарском потоке радужного света Вы вдруг с кулаками бросаетесь на солнце»[173].
Письма художника то и дело выдают его угрюмый и сердитый нрав. Немало неприятностей доставляла ему погода. Моне мог затеять войну с солнцем, ветром или дождем. Натурные штудии делали его зависимым от всех стихий, и он обрушивал на них свой гнев, словно король Лир. Ему постоянно мешали то шквалистые порывы, то осадки, так что Мирбо однажды упрекнул его: «Что погода отвратительна и до конца августа не изменится, об этом ругайтесь сколько угодно. Но объявлять себя конченым художником из-за того, что за окном то льет, то свищет, может только сумасшедший»[174].
Было в творчестве Моне странное противоречие: он желал работать так, чтобы вокруг было тепло, тихо и солнечно, но почему-то предпочитал Нормандию, ту часть Франции, которая в туристическом путеводителе девятнадцатого столетия была описана довольно уныло: сообщалось, что там «обычно прохладно и сыро… погода быстро и часто меняется, а неизменное проклятие в виде ненастий грозит нехарактерными для соответствующего времени года температурами»[175]. Весной 1896 года, выходя на этюды к продуваемому со всех сторон нормандскому побережью, он совсем отчаялся. «Вчера я думал, что сойду с ума, — писал он. — Ветер сдувал мои холсты, а когда я отложил палитру и попытался закрепить их, ее тоже сдуло. Я был так разъярен, что чуть все не выбросил»[176]. А бывало, и выбрасывал. Однажды Моне, не помня себя от злости, зашвырнул на дно Эпта ящик с красками, после чего, успокоившись, был вынужден телеграфировать в Париж, чтобы заказать новые[177]. В другой раз художник сам бросился в Сену. «К счастью, все обошлось», — успокаивал он в письме приятеля[178].
Доставалось и холстам. Жан-Пьер Ошеде вспоминал, как Моне «расправлялся» с ними: резал перочинным ножом, топтал, швырнув на землю, или пробивал насквозь ногой[179]. Гость-американец как-то увидел, что работа «прорвана крест-накрест, широко, прямо по центру», — это Моне, выйдя из себя, «дал пинка» несносному холсту. А поскольку ходил он тогда в деревянных сабо, виновник его гнева изрядно пострадал[180]. Иногда, не успев вовремя остановиться, он сжигал полотна. Периодически приступы ярости оказывались настолько сильными, что он отправлялся бродить по лугам и, чтобы избавить от себя домочадцев, ночевал в какой-нибудь гостинице в окрестностях Вернона. Или запирался в спальне на несколько дней, отказывался от еды и отвергал любые попытки его утешить. Друзья уговаривали его развеяться — съездить в Париж. «Приезжайте на пару дней, — умолял Мирбо, когда Моне вновь попал во власть наваждения. — Пройдемся. Погуляем… сходим в Сад растений, там потрясающе, или в „Комеди Франсез“. Вкусно поедим, будем говорить о пустяках — и чтобы никакой живописи перед глазами»[181].
Было и другое противоречие. Он любил живопись и жил ради нее — и вместе с тем называл это занятие беспросветной му́кой. «Это сатанинское ремесло меня истязает», — писал он художнице Берте Моризо, с которой был дружен[182]. А одному журналисту сказал: «Многие полагают, что я пишу с легкостью, однако труд художника тяжек. Часто подобен пытке. Да, это великая радость, но и великое страдание»[183]. Гнев и муки Моне за мольбертом выдают лукавство, скрытое в его хорошо известном высказывании о Винсенте Ван Гоге. Мирбо однажды похвастался перед Моне принадлежавшим ему полотном Ван Гога «Ирисы». «Как мог человек, настолько любивший цветы и свет, да еще превосходно их изображавший, сделать самого себя таким несчастным?» — спросил художник[184].
Были среди друзей и те, кто считал его муки и страдания побочным эффектом гениальности — синдромом стремления к совершенству, или тем, что Жеффруа называл «мечтой о форме и цвете», которых он искал с «почти безоглядным самоотречением»[185]. Став свидетелем очередной волны депрессии, Клемансо написал Моне: «Если бы вечный поиск недостижимого не толкал Вас вперед, не быть бы Вам автором столь многих шедевров»[186]. Своему секретарю Клемансо так объяснил буйный нрав Моне: «Надо страдать. Нельзя предаваться самодовольству. <…> Если художник режет свои полотна, рыдает, впадает в ярость перед своим произведением, он чего-то достигнет»[187].
Клемансо, несомненно, понимал, что, уговаривая Моне взяться за цикл масштабных холстов, на которых будет запечатлен пруд с водяными лилиями, он пробуждает в художнике не только мечту, но также отчаяние и ярость, толкая его испытать судьбу.
Несколько десятилетий Моне терпел всевозможные трудности и лишения. В ранние годы он познал нищету и насмешки критиков. Позже страдал от ревматических болей — «это мне расплата за пребывание под дождем и снегом»[188] — и катаракты, которая отчасти могла быть «расплатой» за то, что художник подолгу наблюдал на ярком солнце за отражениями и бликами на воде. И все же еще ни одна работа не давалась ему так тяжело — и не оборачивалась столь мучительной неуверенностью в себе и обилием разорванных холстов, как цикл, посвященный водяным лилиям. В 1909 году выставка «Нимфеи. Цикл водных пейзажей Клода Моне» принесла самые восторженные отзывы критиков и коммерческий успех, но процесс создания этих магических видов был связан с мучительными переживаниями и депрессией.
Моне начал писать виды своего расширившегося сада и расположенных в нем водоемов в 1903 году. Через год заезжий журналист застал художника у пруда с двенадцатью холстами, которые он чередовал в зависимости от освещения[189]. Выставка планировалась на весну 1907 года, однако работа не клеилась — за месяц до открытия Моне попросил отложить событие на год и сообщил владельцу галереи Полю Дюран-Рюэлю: мол, он только что уничтожил тридцать холстов[190]. Положение еще больше усугубилось, когда той же весной сад всерьез пострадал от шквалистого ветра. Через год выставлять по-прежнему было нечего, и Моне с пафосом отказался от предполагаемого вернисажа «раз и навсегда»[191]. Забыв про пруд с лилиями, он принялся изображать корзины с яйцами.
Алиса не знала, что делать: ее супруг пребывал во власти черной меланхолии, конца которой не предвиделось. «Что ни день, то продырявленный холст», — жаловалась она[192]. Одна американская газета с явным скепсисом рассказывала, что за один только майский день 1908 года Моне якобы испортил полотен на сто тысяч долларов, и задавала вопрос (недвусмысленный): художник он или сумасшедший?[193] Он стал отказываться от обеда — плохой признак для такого гурмана — и целыми днями не выходил из спальни. Его мучили головные боли, головокружение, темнело в глазах. Близкие, как всегда, были рядом и утешали. Мирбо мягко пожурил его за отмену выставки, заметив, что такое поведение кажется «безрассудным и нездоровым» для, «несомненно, лучшего и мощного живописца своего времени»[194]. Похвалы приободрили Моне, он вернулся к мольберту. «Эти пейзажи с видами пруда и отражения неотступно меня преследуют», — писал он Жеффруа летом 1908 года[195].
В 1909 году, на два года позже, чем предполагалось, Моне выставил все сорок восемь холстов с водяными лилиями. К тому времени о мучительных борениях художника было уже широко известно. Автор материала в «Голуа» отмечал, что работы показали публике лишь после того, как художник долго «сомневался, переживал и скромничал», а другой критик, Арсен Александр, сообщал читателям, что Моне стал жертвой переутомления и «неврастении»[196]. Чаще всего неврастению приписывали женщинам, иудеям, слабовольным мужчинам, гомосексуалистам и моральным извращенцам[197]. Многих повергло в изумление известие о том, что у Моне, этого крепкого и бодрого «вернонского крестьянина», исполина в деревянных сабо, нервное расстройство.
В эмоциональном истощении Моне следовало винить не только ветры, сдувавшие его холсты, или дожди, заливавшие и прибивавшие к земле растения в его дивном саду. И дело было не только в том, что он подолгу, день за днем, сидел на одном месте, пристально всматриваясь в один и тот же вид, — хотя специалисты соглашались тогда, что подобное занятие, требующее почти полной неподвижности, может привести к неврастении, и в таком случае допустимо предположить, что в 1892 году в Руане художника не случайно преследовали ночные кошмары, в которых знаменитый собор обрушивался ему на голову. Прежде всего эти «муки творчества» объяснялись стремлением создать нечто совершенно новое и оригинальное, по-настоящему революционное. Сам он излагал свою задачу, как всегда, лаконично: «Главное здесь — зеркальная поверхность воды, которая постоянно меняется, отражая небо»[198]. Вода на его полотнах действительно изменчива и становится то светло-зеленой или тускло-лиловой, то оранжево-розовой или огненно-красной. Но способ, каким Моне раскрывал мотив воды и неба, говорит об изменении художественного ви́дения — именно эти дерзкие опыты, как утверждал Жеффруа, привели его на грань саморазрушения.
Моне единственный вздумал показать неподвижную, зеркальную поверхность воды крупным планом. Обычно куда больше живописцев интересовали разнообразные «сопутствующие» эффекты: мерцание лунного света на ряби реки, тяжелые волны, бьющиеся о берег. Моне сам считался признанным мастером подобных пейзажей: Эдуард Мане как-то назвал его «Рафаэлем вод»[199]. Но у пруда с лилиями Моне искал более тонких нюансов и пытался запечатлеть не только растения на поверхности воды и их отражение, но также полупрозрачность и глубину. Он и прежде уже пробовал передавать происходящие под водой едва уловимые метаморфозы. «Меня тревожит все, что невозможно передать, — жаловался он Жеффруа в 1890 году, когда писал виды Эпта, — как вода и водоросли, волнами колышущиеся в глубине»[200]. Вершиной этих подводных исканий стало полотно, на котором его падчерицы Бланш и Сюзанна проплывают в лодке «над текучей прозрачностью удивительного мира подводной флоры с его лентами водорослей, тусклых и диких, колеблющихся и переплетающихся под гнетом течения»,[201] как поэтично описал эту сцену Мирбо.
Неподатливость «невозможного» — при попытке ухватить не столько мимолетные тени и отражения на поверхности, сколько волнующуюся растительность в мутной полупрозрачной глубине — вот одна из причин, приводивших Моне в отчаяние. Когда в 1909 году картины были наконец выставлены, успех им принесла изощренная живописная техника[202]. И хотя Сезанн сказал как-то, что «Моне — это только глаз», невероятную остроту его зрения дополняло также совершенное владение кистью, позволявшее работать в изысканной и виртуозной манере. Художник Андре Массон — сам мастер спонтанного письма — позднее восторгался его «сложным мазком: разнонаправленным, волнистым, пестрым. Эту фактуру надо рассмотреть вблизи. Она ошеломляет!» Кисть Моне, по словам Массона, — «неистовый ураган»[203].
Если рассмотреть эти пейзажи с близкого расстояния, открывается изумительная в своем разнообразии техника. Моне выбирал холсты с рельефным плетением, в которых нити утка были толще основы. Затем он накладывал несколько слоев грунта, давая каждому из них основательно просохнуть. Он работал кистью под определенным углом к нитям утка, чтобы на них осталось больше краски; это создавало рифление, и возникала так называемая текстурная вибрация[204]. Иными словами, пользуясь свойствами краски и текстуры полотна, он передавал характер водной ряби и одновременно, благодаря углублениям, образованным более тонкими нитями основы, акцентировал ее рельефность. Удивительно, что слои краски, которыми художник, стремившийся поймать спонтанное впечатление от ускользающего момента, покрывал холст, исчислялись по меньшей мере дюжиной. Часто он соскабливал один-два слоя ради фактурности: это позволяло усилить эффект мерцания вновь нанесенной краски[205].
Таким образом, техника Моне была поистине виртуозной и дополнялась особым подходом к композиции. Во многих ранних работах с видами пруда — например, в пейзаже с японским мостом 1890 года — Моне выстраивает традиционную перспективу. Поле зрения сужается от переднего плана, где плавают лилии, к среднему, поперек которого изящно выгнулась арка моста. В глубине, на заднем плане, — густо поросший берег, а на некоторых холстах появляется фрагмент неба. Но постепенно вода, суша и небо начинают сливаться или меняться местами, а то и вовсе исчезают — словно, стоя у пруда, Моне опустил взгляд и все пристальнее всматривается в воду. К 1904 году небо остается только в отражениях на водной глади, которую ограничивает лишь противоположный берег в верхней части полотна. Через год исчез и берег, Моне сосредоточился на поверхности воды и отражениях, прорванных там, где вырастали мерцающие архипелаги лилий. Еще более головокружительными и неуловимыми ракурсы сделались в 1907 году — в том самом мучительно мрачном annus horribilis, — когда художник вдруг повернул холсты на девяносто градусов и начал создавать вертикальные композиции. Теперь россыпи лилий ложились поверх тусклых отражений плакучих ив, а в центре оставался зеркальный просвет, в котором отражалось небо самых разных оттенков.
Критик Луи Жилле в 1909 году отметил уникальную особенность этого водного царства: все картины как будто написаны «вверх ногами», небо оказалось внизу, а окружающий пейзаж — от которого остались только перевернутые отражения ив и другой растительности — наверху. Ландшафт опрокинулся вверх тормашками. Утратив твердую опору, взгляд плавно утопает в водовороте, который Жилле сравнил с «зеркалом без рамы»,[206] — переворачивающим образ мира и его полупрозрачных глубин. Зрителю не дано ни перспективы, ни иных ориентиров, определяющих пространство и расстояния. Земля, деревья, небо — все исчезло и лишь проблесками напоминает о себе в длинных отсветах, оживляемых ветром, вспыхивающих на солнце и тускнеющих в сумерках. Не зыбки здесь только яркие вкрапления водяных лилий. Издание «Газет де боз-ар» рассыпалось в дифирамбах: никто до сих пор не писал подобного. Неудивительно, что после таких приводящих в замешательство образов Моне на некоторое время возвращался к натюрмортам, изображая корзины с яйцами[207].
Луи Жилле увидел пейзажи воды Моне 1909 года с видами прудов по-иному. По его мнению, эти композиции стали новаторскими благодаря своей абстрактности. Действительно, заявил он, «чистая абстракция в искусстве вряд ли увела бы дальше»[208]. На это Моне мог возразить, что его искусство — не абстракция в сравнении с природой, а скорее попытка как можно точнее ее отобразить — да, почти одержимость визуальной достоверностью, передающей эфемерное начало. Жан-Пьер Ошеде позже заявил, что Моне не создавал «абстракций»[209]. И все же критики, как Жилле, да и некоторые авангардные художники, видели в этих исканиях нечто иное. В их глазах великолепная техника Моне — мерцающие мазки и красочные гармонии — это освобождение от обыденной описательности. Так что реалистичность в изображении пруда была куда менее значима, чем формальные средства, которыми она достигалась, или эмоции, пробуждавшиеся в зрителе этим гипнотическим цветовым ритмом. Пусть некоторые критики списывали Моне со счетов и называли его искусство устаревшим — зато Жилле тезисом о «чистой абстракции» выдвинул его в 1909 году в авангард современного искусства.
Выставка в тот год прошла с большим успехом, и после нее все заговорили о том, что сорок восемь панно должны оставаться вместе, образуя декоративный ансамбль. Так в 1895 году Клемансо предлагал поступить с циклом видов Руанского собора, убеждая правительство — увы, тщетно — приобрести коллекцию и сохранить ее в первозданном виде. Моне и сам написал Жеффруа письмо, в котором высказал пожелание оформить своими панно с лилиями некое помещение, создать «цветочный аквариум», в котором владелец мог бы отдыхать и восстанавливать силы. Он представлял, как холсты «покрывают стены, соединяют их, создавая иллюзию бесконечного целого, словно это волна, но при этом нет ни горизонта, ни берега»[210]. Пресса идею подхватила: журналисты по крайней мере пяти газет призывали покупателя объявиться, чтобы повторить и сохранить эффект присутствия, который наблюдали посетители галереи Дюран-Рюэля. «Прочтет ли эти строки миллионер, который сейчас так нужен?» — спрашивал один из авторов[211].
Найти миллионера, который пожелал бы иметь умиротворяющий, чарующий интерьер, казалось, не так уж сложно. В предыдущие десятилетия масштабные полотна, предназначенные для частных домов, пользовались в Париже большим спросом, и такие художники, как Эдуард Вюйар или Морис Дени, украшали гостиные, кабинеты и столовые толстосумов, создавая декоративные ансамбли. Дени в 1903 году сказал, что слово «декоративный» поистине стало девизом творчества молодых французских живописцев[212]. Спустя три года один французский критик заявил, что художественную значимость той или иной вещи нельзя игнорировать потому лишь, что «она нашла практическое применение или украшает дом», и обратил внимание, что ежегодный Парижский салон, где выставлялись многочисленные декоративные панно, все больше походит «на меблированную квартиру»[213].
У Моне также был опыт создания живописных ансамблей для домашних интерьеров. В конце 1870-х годов он выполнил не менее четырех пейзажей на холстах почти двухметровой высоты и ширины для оформления обшитой деревянными панно гостиной в загородной резиденции Эрнеста Ошеде — Шато-де-Роттембур. На этих полотнах можно было видеть отдельные уголки и характерные детали роскошного имения Ошеде: розовый сад, мерцающий пруд, белоснежных индюков на фоне зеленых лужаек. Они так и не заняли предназначавшееся для них место: Ошеде погряз в судебных тяжбах, связанных с банкротством (а его жена вскоре сбежала с Моне). Зато через несколько лет художник создал тридцать шесть панно различных размеров, украсивших двери в парижской квартире Поля Дюран-Рюэля, — и черпал вдохновение в своем саду в Живерни.
Однако в 1909 году миллионер, который мог бы спасти цикл с водяными лилиями, так и не отозвался. «Никогда и нигде, — сокрушалась „Голуа“, парижская утренняя газета, выходившая самым большим тиражом, — эти работы больше не увидят вместе — так же, как сейчас видим их мы. Они разойдутся по четырем континентам, все — прекрасны, но в каждой — лишь частица их общей тайны»[214]. Эта реплика наверняка задела Моне и его почитателей, тем более что владелец «Голуа» Габриель Тома заказал Морису Дени оформление столовой в своем особняке из розового кирпича в Медоне, носившем название «Капуцины»; это были пасторальные сцены, навеянные видами сада заказчика.
Предположение, что живописные работы разлетятся по всему свету, довольно быстро сбылось. Критик из «Газет де боз-ар» сообщал, что некоторые холсты отправляются в «ненасытную Америку, которая вечно крадет наши шедевры»[215]. В начале 1889 года один обозреватель поделился опасением, как бы «нахрапистость янки» не привела к тому, что лучшие произведения Моне отправятся в США,[216] — и беспокоился он не случайно: через два года предпринимательница Берта Палмер после удачного «шопинга» увезет домой в Чикаго двадцать пять полотен художника. Трансатлантические перемещения продолжились и в 1909 году. Два холста с водяными лилиями приобрел на выставке Александр Кокрейн, владелец химических предприятий, намереваясь украсить ими свой дом в Бостоне, выстроенный архитектором Стэнфордом Уайтом. Среди других покупателей были Хант Хендерсон, сахарный барон из Нового Орлеана, и Корнелиус Ньютон Блисс, бывший министр внутренних дел, — стены его дома на Тридцать седьмой улице в Нью-Йорке к тому времени уже украшали работы Моне, созданные в Этрета. Вустерский музей искусств купил одну вещь по совету Десмонда Фицджеральда, инженера-гидравлика из Бруклина и давнего собирателя картин Моне. Еще одно полотно отправилось к Катерине Толл, вдове видного адвоката из Колорадо. Другое пополнило богатую коллекцию Моне в доме в Нотаке, штат Коннектикут, — его также построил Стэнфорд Уайт для сталелитейщика Харриса Уитмора. В 1890 году Уитмор начал так рьяно собирать произведения художника, что его отец ворчал: «Скоро у нас будет столько Моне, что и смотреть не захочется»[217]. Сына это не смущало: он в результате приобрел тридцать холстов. Уитмор был разборчивым коллекционером: ему также принадлежало полотно Уистлера «Симфония в белом № 1, девушка в белом», висевшее у него на площадке лестницы.
Разочарование Моне, которому не довелось создать «цветочный аквариум» в частной обстановке, возможно, компенсировало то обстоятельство, что в 1909 году продажи картин принесли ему 272 тысячи франков. А к идее законченного декоративного ансамбля — одной из немногих, все еще толком не реализованных, — Клемансо, которому не давал покоя образ «богатого еврея», напомнит художнику почти через пять лет.
Глава четвертая Великолепный замысел
Гостей в Живерни часто провожали наверх, в том числе в спальню мэтра. Гюстав Жеффруа называл эту просторную, залитую светом комнату с видом на сад «музеем обожаемых друзей Моне»[218]. На стенах среди множества картин висели три пейзажа Писсарро, обнаженная за банными процедурами Дега, четыре работы Эдуарда Мане и две акварели Эжена Делакруа. Здесь же можно было заметить пару бронзовых статуэток Огюста Родена, а над простой кроватью — «чувственно прекрасного» «ренуара»[219] и сезанновский «Черный замок». Сезанн был особенно любим Моне: на стенах спальни и мастерской в Живерни висело не меньше четырнадцати его работ. «Да, Сезанн — величайший из всех нас», — сказал однажды Моне[220]. Но если вдруг у него случался кризис, картины Сезанна завешивали тканью: работать в присутствии гения он не мог. «Чувствую себя пигмеем у ног гиганта», — признался он как-то раз[221].
Любимые художники радовали Моне каждое утро, когда он просыпался. Вставать он привык рано. Где бы ни приходилось ему трудиться, свои часы он сверял по солнцу, возвращаясь в сумерки и поднимаясь с рассветом, так что в спальне даже не пользовался ставнями. Умывшись — непременно холодной водой, в любую погоду, — он спускался на первый этаж, чтобы позавтракать и выкурить сигарету, до вечера их будет еще много. Подавали ему копченого угря или бекон и яйца, снесенные курами, которых разводили в специальном загоне в саду. Иногда он предпочитал «английский» завтрак: тосты с конфитюром и чай фирмы «Кардома», так полюбившийся ему во время пребывания в Лондоне. Если верить Саша Гитри, день Моне начинался также с бокала белого вина — по традиции, издавна сложившейся в рабочей французской среде[222]. Затем он шел работать на пленэре или, в ненастные дни, удалялся в мастерскую. Ровно в 11:30 колокольчик звал его к обеду, начинавшемуся со стаканчика домашней сливовой настойки. Через два часа он возвращался к мольберту и трудился до изнеможения всю вторую половину дня. Когда во всепоглощающем творческом процессе не оставалось времени на такие банальные надобности, как стрижка, деревенского цирюльника приглашали прямо к пруду, и он кромсал лохмы мэтра, пока тот живописал, — правда, проходиться ножницами по роскошной, слегка порыжевшей от табака бороде категорически воспрещалось[223].
Судя по всему, Моне начал работать с прежней интенсивностью как раз в апреле, когда у него гостил Клемансо, в мае и июне проводя в трудах едва ли не каждый день с утра до вечера. «Встаю в четыре часа утра», — писал он одному из продавцов его картин в июне 1914 года[224]. Приблизительно тогда же художественному критику и директору галереи Феликсу Фенеону художник сообщил: «Работаю что есть силы, пишу в любую погоду. <…> Я решил осуществить великолепный замысел, которым увлечен»[225].
Первым делом Моне подготовил серию рисунков. Когда-то он утверждал, что не рисует вовсе — «разве что кистью и красками»[226]. Художник часто подчеркивал, что в его искусстве фактически нет места для рисунка, в отличие, например, от живописца XIX века Жан-Огюста-Доминика Энгра, который считал, что «живопись — это на семь восьмых» рисунок, и за свою долгую жизнь выполнил больше пяти тысяч графических листов[227]. Моне сводил на нет роль рисунка в своем творчестве, потому что эскиз, подразумевающий продуманность, противоречил импрессионистическому идеалу передачи мимолетного впечатления. Тем не менее художник весьма талантливо обращался с углем, пером и карандашом, часто делая эскизные рисунки к будущим картинам. В юности он обратил на себя внимание как мастер карандаша, а не кисти: еще подростком в Гавре, на радость прохожим, Моне выставлял свои рисунки — карикатуры на местных знаменитостей — в витрине канцелярской лавки. Позже он делал карандашные наброски в парижских ресторанчиках, изображая своих богемных друзей[228].
Карикатуры юного Клода Моне
© Bridgeman Images
Очевидно, после визита Клемансо Моне выудил из старых залежей несколько альбомов[229]. Одному из них — подумать только! — было пятьдесят лет: многие его страницы размером двадцать пять на тридцать пять сантиметров были испещрены рисунками, выполненными еще в 1860-х годах. Альбом изрядно попутешествовал: там было немало ветряных мельниц, зарисованных в Голландии в 1871 году. А еще трогательный набросок портрета Жана, тогда еще школьника, — художник, должно быть, вздрогнул, увидев этот лист через несколько месяцев после смерти сына.
Эскиз Моне к одной из композиций с лилиями, выполненный фиолетовым мелком
© Bridgeman Images
На чистых страницах этих потрепанных альбомов Моне принялся изображать свои ирисы, ивы и лилии, прорабатывая карандашом или восковым мелком — иногда фиолетовым — композиции, которые собирался создать. На последней странице одного из альбомов остался полустертый набросок, выполненный карандашом много лет назад: шпиль церкви и остроконечные крыши вдалеке — вид на соседнее местечко Лимец. Моне нужно было место, он перевернул альбом, и в небе над Лимецем словно поплыли большие облака — это были россыпи водяных лилий. Карандаш оставлял стремительные, свободные, почти призрачные штрихи. Именно так — уверенно и, можно предположить, радостно — с первых лаконичных волнообразных линий началось воплощение этого великолепного замысла.
Весной 1914 года Моне удалось возобновить работу — после «страшного открытия», сделанного почти два года назад, когда его правый глаз стал вдруг слабеть, теперь зрение стабилизировалось. Он наблюдался у офтальмолога, чтобы отсрочить операцию, да и Клемансо тогда удалось развеять его страх неизбежной слепоты. «Уверяю вас, катаракта переносится легче, чем болезни простаты», — убеждал он Моне[230]. Клемансо знал, о чем говорит: в 1912 году ему удалили предстательную железу.
Слабеющий левый глаз по-прежнему доставлял Моне неудобства, ограничивая восприятие глубины. Он стал хуже различать цвета, но с этим недостатком, по собственному признанию в одном из более поздних интервью, он справлялся, «доверяя этикеткам на тюбиках и особой системе расположения красок на палитре». Но он также говорил, что его «недуг» порой отступает, — случались периоды, когда он все видел ясно и мог скорректировать соотношение цветов на полотнах[231]. Как бы то ни было, весной 1914 года его опасения и жалобы, связанные со зрением, временно прекратились, он предусмотрительно старался избегать прямых солнечных лучей и, выходя из дому, надевал широкополую соломенную шляпу.
Весть о внезапном выздоровлении Моне донеслась до Парижа, где в середине июня в одной из газет появилась заметка, озаглавленная «Здоровье Клода Моне». Ее автор поспешил успокоить читателей: «Клод Моне в добром здравии. Впрочем, многие годы это было далеко не так, и поклонники великого живописца безмерно сожалели, что он прекратил творить. Мэтр из Живерни оставил свое занятие — это было прискорбно и для французского искусства, и для него самого: Моне на долгие часы погружался в размышления, не в силах взять в руки кисть». Тем же, кто сомневался, что художник вернулся к мольберту, предлагалось прокатиться на поезде до Живерни: из окна вагона они смогли бы заметить мэтра возле пруда, где «необыкновенное ви́дение» помогает ему запечатлеть «восхитительные цвета, вновь чарующие его взгляд»[232].
Путешественников, прильнувших к окнам проходящего состава, мог удивить не только сосредоточенный облик Моне, но и размер холстов. Его воодушевление «великолепным замыслом» было тем более велико оттого, что многие полотна, к которым он приступил в 1914 году, буквально возвышались над ним. Когда-то, в самом начале, пытаясь привлечь внимание публики и принять участие в Парижском салоне, он решил создать несколько монументальных вещей — получились эдакие исполины, известные как «большая машинерия»: чтобы перемещать их по мастерской, требовалась целая система шкивов, тросов и другого оснащения. В 1865 году он приступил к созданию своей вариации «Завтрака на траве» — сцены пикника с персонажами, изображенными в натуральную величину и одетыми по моде того времени (женщины в ту пору носили платья с кринолином); картина достигала почти четырех метров в высоту и около шести в ширину. Но заполнить красками двадцать четыре квадратных метра полотна в итоге оказалось непосильной задачей, закончить работу не удалось.
Судя по всему, неудача его не остановила: в 1866 году он приступает к другому большеформатному полотну, «Женщины в саду», высотой два с половиной и шириной два метра. Сохраняя верность пленэру, как рассказывают, он даже вырыл канаву в саду возле своего дома в Виль-д’Авре, под Парижем, чтобы холст можно было поднимать и опускать на специальных подвесах. Титанический труд пропал зря: жюри Салона 1867 года картину отвергло. В 1914-м полотно заняло видное место в мастерской художника вместе с фрагментами, оставшимися от «Завтрака на траве». В 1878 году он отдал «Завтрак» в качестве залога домовладельцу в Аржантёе, некоему господину Фламану, который, недолго думая, скатал холст в рулон и забросил в подвал. Моне удалось получить полотно назад через шесть лет: за это время оно так сильно пострадало от сырости и плесени, что пришлось разрезать его на три части.
С тех пор холсты Моне заметно уменьшились в размерах. Практически все его картины, выполненные позднее 1860 года, в ширину не превышали метра — отчасти это, конечно, было связано с его пристрастием к работе на открытом воздухе. Редким исключением стали несколько портретов его падчериц Бланш и Сюзанны, плывущих в лодке по реке, — они были выполнены в конце 1880-х годов после того, как художник сообщил продавцу своих картин, что хотел бы «вернуться к большим полотнам»[233]. Но даже эти вещи не составляли и полутора метров в ширину. Произведения, принесшие ему славу и состояние, — пейзажи с пшеничными скирдами, тополями, Руанский собор, Лондон — редко достигали метровой высоты или ширины. Водяные лилии, созданные для блистательной парижской выставки 1909 года, также были относительно компактными. Самая крупная из этих работ составляла около метра в ширину, остальные же имели размер приблизительно девяносто на девяносто сантиметров.
Тем не менее в 1914 году Моне приступил к созданию холстов полутораметровой высоты и почти двухметровой ширины, причем и эту «планку» он предполагал поднять. Как именно выглядел процесс создания таких масштабных полотен, особенно на самых ранних этапах воплощения «великолепного замысла», сказать трудно. Возможно, художник начинал с натурных штудий на небольших холстах, которые создавал непосредственно на берегу пруда, а затем перебирался в мастерскую и переносил изображение на холст большего размера, увеличивая масштаб. Если бы Моне сразу работал на пленэре с этими холстами, ему понадобилась бы помощь, чтобы спустить их из мастерской вниз по лестнице, а заодно и деревянные мольберты да еще шесть ящиков с красками, после чего все это предстояло протащить еще сотню метров по саду и туннелю, ведущему к пруду с лилиями.
Помогать мэтру могли садовники, но была рядом и Бланш, как в старые добрые времена, когда она спешила вслед за ним через луга и толкала тележку с холстами, а потом, стоя рядом, писала собственные этюды. Один из гостей Живерни позднее вспоминал, как она «пыталась совладать с тяжелыми холстами» Моне[234]. Более близкой по духу и умной помощницы и пожелать было нельзя. К тому же Бланш и сама делала успехи: в 1892 году один из ее пейзажей купила Берта Палмер; другую работу ей удалось выставить в Салоне независимых — а вот официальный Салон отверг ее так же, как и отчима[235]. Но она забросила живопись, зато всеми силами продолжала помогать Моне. «Она меня сейчас не оставит, — так Моне написал Жеффруа в феврале, через неделю после кончины Жана, — и это будет утешением нам обоим»[236].
В самом деле, присутствие Бланш, которая стала Моне другом и опорой во всем, весной 1914 года способствовало артистическому возрождению художника не менее, чем поддержка Клемансо. Как позже заметит Жеффруа, Моне «нашел в себе мужество, чтобы жить дальше, и силы, чтобы творить, благодаря женщине, ставшей ему преданной дочерью». После смерти Жана она постепенно заняла место своей матери, поддерживая порядок в доме Моне и принимая друзей, навещавших художника, как Клемансо. А главное, она также «убедила его вновь взять кисти»,[237] тем самым прервав череду лет, проведенных отчимом в тоске и бездействии.
«У живописи Моне странный язык, — заметил один обозреватель в 1883 году, — его секретами владеют лишь несколько посвященных да он сам». В первые десятилетия ХХ века этот язык стал гораздо понятнее. Импрессионизму в целом, как и творчеству Моне, было посвящено немало книг и статей, объясняющих эти секреты кажущейся спонтанностью мазка или случайным выбором сюжетов, в которых привычный досуг мелких буржуа изображен на фоне красивых, но малоприметных сельских уголков. Еще в 1867 году читатели романа Эдмона и Жюля де Гонкуров «Манетт Саломон» отождествили художника Крессана с Моне и его друзьями. Крессан — противник последователей «серьезной школы» — «врагов цвета». Эти живописцы, воспитанники Академии художеств, отвергают мимолетные впечатления и, наоборот, подходят к изобразительному искусству «осмысленно, рассудочно, через выражение идей и их критику». Крессан, напротив, интуитивно фиксирует впечатления, когда видит траву и деревья, ощущает речную прохладу или идет по тенистой тропе. «Прежде всего, — говорит рассказчик, — он искал ярких и глубоких впечатлений от места, момента, времени года, часа»[238].
Этот фрагмент описывает складывавшийся в те годы метод, которым будет пользоваться Моне. Но как подобные сценки с их едва уловимыми и зачастую скоротечными визуальными проявлениями — дрожанием листвы, мимолетными тенями, бликами — можно воссоздать в красках на холсте? Как сделать нематериальное и летучее осязаемым и постоянным? Как удается художнику запечатлеть то, что человеческий глаз видит лишь доли секунды?
У всех художников-импрессионистов была своя техника, как правило изменявшаяся с течением десятилетий. Но «странный язык», помимо прочего, предполагал особое внимание к кистям и краскам. Сложные мазки словно рассыпались, превращаясь в разноцветные пятна, и мир представал на картине мерцающим миражом. Многих критиков и посетителей галерей приводили в замешательство эти на первый взгляд небрежные и хаотичные «черточки» и «запятые», ложившиеся совсем не так, как ровные и выверенные мазки маститых преуспевающих живописцев, вроде Месонье, который ювелирно выписывал на своих полотнах самые мелкие детали, давая возможность коллекционерам рассматривать их через увеличительное стекло. Холсты импрессионистов для такого пристального разглядывания не годились. В 1873 году молодая любительница искусства Мари-Амели Шартруль де Монтифо, писавшая под псевдонимом Марк де Монтифо, заметила, что кажущаяся «грубая простота» работ Эдуарда Мане скрывает понимание сложных визуальных законов. «Отступите немного назад, — подсказывала Шартруль, — и красочное нагромождение обретет цельность. Все фрагменты окажутся на своих местах, детали станут читаться»[239]. Дистанция, необходимая для восприятия импрессионистической живописи, стала темой научной дискуссии. Камиль Писсарро — в 1880-х годах тяготевший к применению «научных методов» в искусстве — в итоге вывел формулу, согласно которой зритель должен находиться на расстоянии, равном трем диагоналям холста[240].
Как это ни удивительно для художника, стремившегося передать сиюминутное ощущение, живописная техника Моне требовала вдумчивости и проработки. Его вещи должны были казаться спонтанными, но на самом деле их созданию предшествовала большая подготовка и прихотливая организация творческого процесса. Некий посетитель насчитал в его мастерской семьдесят пять кистей и сорок коробок с красками[241]. Все без исключения холсты, которые регулярно доставляли поездом из Парижа, нужно было сразу покрыть слоем свинцовых белил, чтобы яркие краски, которыми будет писать художник, ложились на эту сияющую основу. Базовый слой, излучающий свет, — новшество, которое в 1860 году начал применять Эдуард Мане и импрессионисты. Такая техника нарушала все живописные догмы «признанных школ», ведь обычно живописцы работали по более темному фону, усиливавшему эффект глубины. К примеру, Тициан и Тинторетто пользовались коричневой или темно-красной грунтовкой, а Гюстав Курбе — добрый друг Моне, у которого на первых порах тот многому научился, — порой писал даже по черной основе. Но импрессионисты, стремившиеся к сияющей воздушности, отказались не только от темного грунта, но и от лака, хотя многие их предшественники покрывали работы подкрашенным лаком, имитируя патину на картинах старых мастеров. Так, один знаток, беседуя с Джоном Констеблом, заметил: «Хорошая живопись, как и хорошая скрипка, должна быть коричневой»[242]. Многие торговцы красками специально хранили для художников тот же янтарный лак, которым обрабатывали лютни мастера, изготавливавшие музыкальные инструменты.
Ценители старой школы с ее глянцевыми холстами относились к разноцветным россыпям с большим подозрением. Теоретик искусства XIX века Шарль Блан заявил, что цвет приведет живопись «к грехопадению так же, как Ева — Адама»[243]. Но импрессионисты были только рады появлению новых обольстительно-ярких красок, созданных в XIX веке благодаря развитию химии. Некогда начинающему живописцу Моне удавалось передать искристость озаренных светом вод Темзы, используя фиолетовый кобальт, изобретенный в 1859-м, и окись хрома, появившуюся в 1862 году.
Моне старался также выбирать цвета, которые выдержат испытание временем — не поблекнут и не пожелтеют, как бывало со многими пигментами. Один торговец живописью вспоминает, что в своем деле Моне всегда учитывал «химическую эволюцию красок»[244]. Не случайно весной 1914 года, вернувшись к работе, он ограничил палитру красками, которые считал наиболее стойкими. Чтобы они лучше сохранялись, он также осторожнее смешивал их между собой, чем в 1860-х или 1870-х годах. А еще заворачивал пигменты в промокательную бумагу и разминал, чтобы из них вышла часть связующего вещества — макового масла: ему было известно, что из-за масел, проступающих на поверхности, произведения многих старых мастеров пожелтели, — и рассчитывал, что его детища «мрачная» судьба обойдет.
В июне Моне был настолько погружен в работу, что уговорить его отправиться куда-либо из Живерни стоило большого труда. Он даже отверг приглашение в Жюмьеж — его звали осмотреть сад, который он спроектировал в «Зоаках». Лишь по-настоящему веская причина — четырнадцать его работ были отобраны в коллекцию Лувра — вынудила Моне сесть в поезд до Парижа. Это действительно была большая честь. Как правило, после смерти художника проходило еще лет десять, прежде чем работы выставлялись в Лувре. Так что Моне оказался одним из немногих, кому при жизни довелось увидеть свои произведения в залах, которые один из наиболее уважаемых музейных хранителей Франции назвал «славным пантеоном искусств»[245].
Моне не любил скопление людей, переезды, публичные мероприятия, да и вообще Париж. Он неспроста называл себя casanier — домоседом[246]. «Городская жизнь не для меня», — как-то признался он[247]. В отличие от Мане и Дега, парижским бульварам он предпочитал проселочные дороги Нормандии. Десятью годами раньше некий журналист заметил, что слава заставила Моне возненавидеть Париж: он не мог пройти и сотни метров, «чтобы не столкнуться с каким-нибудь приставалой, профаном, напыщенным невежей или снобом»[248].
И все же Моне периодически ездил в Париж. В чем он не мог себе отказать, так это в удовольствии отведать устриц с друзьями в ресторане «Прюнье» на рю Дюфо — самом модном парижском заведении, где подавали морепродукты; бывал он также на состязаниях по борьбе. «В напряжении всегда есть красота»,[249] — говорил он. Каждый раз его появление в Париже не оставалось незамеченным. Один из друзей оказался вместе с ним и Жеффруа в театре. «Я шел рядом с Клодом Моне и помню, как он, приземистый, крепкий и молчаливый, с силой ударял тростью по мостовой. Своим видом он напоминал гордого и свободного campagnard,[250] идущего по бульвару». В театре, полном «расфуфыренных и безликих» парижан, он оказался настолько заметной и яркой фигурой, что к нему обратились все взгляды. «Он занял свое кресло, и капельдинеры, впервые видевшие этого титана, почувствовали, что перед ними Человек с большой буквы»[251].
Поначалу Моне использовал работу как благовидный предлог, чтобы пропустить очередной многолюдный вернисаж: газета «Жиль Блас» сообщала, что он «трудится и не может оставить пленэр»[252]. Но увидеть, как собственные картины украшают стены Лувра, было слишком заманчиво. Да и не только в этом было дело: терпя в течение многих лет притеснения и неприязнь со стороны художественного «истеблишмента», Моне для себя решил, что и он сам, и его друзья-единомышленники должны занять заметное место в национальных музейных собраниях. В 1890 году он начал долгую и активную кампанию, чтобы «Олимпия» Мане, вызвавшая громкий скандал на Парижском салоне 1865 года, оказалась в Люксембургском музее, хранившем произведения современного искусства. В 1907 году он убедил Клемансо, тогда премьер-министра, переправить картину в Лувр как подлинный шедевр. Через семь лет и он сам занял место в первом музее Франции рядом с Мане.
Так что Моне совершил одну из немногих вылазок в Париж, когда ответственный хранитель Лувра организовал частный просмотр в залах Камондо[253]. В начале июня он сел в поезд в Боньер-сюр-Сен, в восьми километрах от дома. Поездка в составе, курсировавшем между Парижем и Гавром, заняла чуть больше часа, но звуки пыхтящего паровоза определенно навеяли художнику некие смутные воспоминания. Его жизнь словно бы пролегла параллелью этому железнодорожному полотну, тянувшемуся от вокзала Сен-Лазар до нормандского побережья. Первые рельсы на этом маршруте положили в 1841 году, через год после рождения мэтра, а до Гавра, где он вырос, железная дорога добралась в 1847-м, то есть через год или два после того, как его семья перебралась туда из Парижа. По этой колее в мае 1859 года, в восемнадцатилетнем возрасте, он множество раз преодолевал по двести с лишним километров, отправляясь на занятия в Париж, а затем обратно в Нормандию, чтобы писать Руан, Сент-Адресс, Онфлёр и Трувиль-сюр-Мер.
В тот июньский день 1914 года Моне сел в состав, отправившийся от платформы в Боньере в направлении Парижа. Поезд шел на восток, день наверняка был теплым, приятным, но и утомительным. Миновав долину Сены, цепочка вагонов потянулась через западные предместья Парижа — сердце импрессионизма: не случайно Моне сравнивал с артериями реку и железную дорогу во всем их разноцветии, созданном шлюпками и кафе, мостами и купальщиками или паровозами, игравшими на фоне неба своим черным плюмажем. Как напишет критик через десять с лишним лет, «импрессионизм родился в пригородах столицы»[254]. Никто так, как Моне, не любил эти предместья, где так хорошо было отдыхать и предаваться развлечениям в блеске солнечных лучей, среди отражений на рифленой поверхности воды, и никому не удавалось изобразить их более выразительно и притягательно.
После Боньера железная дорога сначала вела на юг, утопая в лугах и огибая излучины Сены, а затем, преодолев почти двухкилометровый туннель, выныривала на поверхность недалеко от Рони-сюр-Сен, где река проблескивала сквозь густую зелень, обступившую берега. Еще пара минут — и вот уже Мант-ла-Жоли, где успевает мелькнуть за окном старый каменный мост, некогда запечатленный Камилем Коро, которого Моне назвал «величайшим из пейзажистов»[255]. Спустя двадцать минут на противоположном берегу, где находилось местечко Триель-сюр-Сен, показались белые печи, в которых обжигали известь. Выше, на фоне скучившихся тополей, стояла вилла друга Моне — Октава Мирбо. Еще немного, и вагон, раскачиваясь, уже шел через Медан, где художник мог заметить дом писателя и большого друга импрессионистов, недавно почившего Эмиля Золя: ставни и башенки этой постройки были видны над деревьями справа. Дальше — Пуасси; по словам Моне,[256] «жуткое место», где ему довелось жить короткое время до переезда в Живерни и где — уникальный случай — он вообще не нашел подходящей натуры.
Паровоз, пыхтя, пробрался сквозь лес Сен-Жермен-ан-Ле и пересек петляющую Сену. Когда состав под стук колес проезжал Карьер-сюр-Сен, справа показались спускавшиеся по течению вниз острова, кафе и прочие достопримечательности, которые век спустя местные власти дальновидно окрестят «Pays des Impressionnistes» — «Край импрессионистов». Ресторан «Фурнез», в 1881 году увековеченный Ренуаром на картине «Завтрак гребцов», уже почти десять лет был закрыт, но ниже по реке все еще оставались на прежнем месте шлюпочная мастерская, кафе и танцевальный зал «Лягушатник». Там летом 1869 года Моне и Ренуар вместе, прямо на берегу, писали этюды с купальщиками, барахтающимися в реке, и мерцающими отражениями вокруг крошечного островка с названием Камамбер.
Левее, километрах в пяти вверх от моста, где Сена расширялась до ста восьмидесяти метров, виднелись мачты и трубы Аржантёя. Там женившийся во второй раз Моне прожил на рю Пьер-Гиенн с 1871 по 1874 год, а следующие четыре — на бульваре Сен-Дени (позже его переименуют в бульвар Карла Маркса — в честь другого знаменитого жителя городка). Там, на фоне сада, который пышно цвел возле дома, он часто изображал Камиллу. Или нес холсты и мольберт то к берегу реки, то к мосту, где пролегала дорога, и писал парусные шлюпки, железнодорожный мост и порт Аржантёя. А иногда лавировал по широкому отрезку реки в своей плавучей мастерской — шлюпке, на которой его друг Гюстав Кайботт помог соорудить импровизированную каюту. Вода плескалась, ударяясь о борта, Камилла оставалась в каюте, а он сидел на носу, положив ногу на ногу, и увлеченно работал — именно в такой обстановке запечатлел его в один прекрасный летний день 1874 года Эдуард Мане. На другом его полотне Моне ухаживает за садом на рю Пьер-Гиенн и наклоняется к цветам, а Камилла с семилетним Жаном отдыхают рядом на траве. «Казалось, — вспоминал Моне годы спустя, — те чудесные мгновения с их иллюзиями, восторгами и вдохновением должны длиться вечно»[257].
Поезд в последний раз пересек Сену в Аньере, выше по течению от острова Гранд-Жатт, по мосту, который за тридцать лет до этого Жорж Сёра показал на заднем плане в картине «Купание в Аньере». Сразу за мостом, слева, простирался поросший кустарником участок, который спустя столетие еще один не менее расчетливый местный муниципалитет назовет «Парком импрессионистов». И наконец, показались очертания Парижа — Триумфальная арка, заметная издалека, а дальше — Эйфелева башня. Состав миновал трубы и газгольдеры Клиши и оказался в районе Батиньоль, где когда-то друзья Моне, каждый вечер собираясь за облюбованным столиком в «Кафе Гербуа», обсуждали «Искусство с большой буквы»[258] и планы покорения Парижа. Кафе было в двух шагах от мастерской Мане, интерьер которой воспроизвел в 1870 году Анри Фантен-Латур в картине «Мастерская в Батиньоле», где Моне и его друзья стоят вокруг Мане, сидящего за мольбертом, с повязанным вокруг шеи изысканным синим платком. Фантен-Латура уже десять лет как не было на свете, да и из восьми целеустремленных молодых людей на этом групповом портрете только Моне и Ренуар еще не покинули этот мир.
Анри Фантен-Латур. Мастерская в Батиньоле. 1870 г. Моне — крайний справа
© Getty Images
Поезд нырнул в Батиньольский туннель, а когда пассажиры вновь увидели дневной свет, пейзаж перед ними сменился в последний раз: у них над головой проплыл мост Европы, после чего, маневрируя по ветвящимся путям, паровоз добрался до вокзала Сен-Лазар. В начале 1877 года Моне разрешили устанавливать мольберт на платформах, где он создавал циклы холстов, изобилующих клубами дыма и пара. Для неблагожелательного, но зоркого критика в этих работах воплотились «все отталкивающие черты» импрессионизма: «грубая фактура, обыденные сюжеты, сиюминутность, намеренная несвязность, вызывающие краски, небрежение к форме»[259]. Столь точное определение импрессионизма как нельзя лучше подходило к этому монументальному, покрытому копотью сооружению, в котором воплотились альфа и омега бытия Моне, ведь здесь столько раз начинался и заканчивался его день.
Четырнадцать картин Моне, переданных Лувру, принадлежали графу Исааку де Камондо, некогда обосновавшемуся в Париже коммерсанту и коллекционеру еврейского происхождения, который перебрался в Европу из Константинополя, принял итальянское гражданство и обладал «удивительной способностью делать деньги»[260]. Некоторые саркастически замечали, что, претендуя на признание и респектабельность, Камондо сменил «шлепанцы и фески», которые носили его предки, на котелок, абонемент в «Опера́», конюшню с породистыми скакунами и «облагородил свою фамилию соответствующей частицей»[261]. Он также стал знатоком живописи и собрал в своей роскошной квартире на Елисейских Полях одну из самых изысканных коллекций импрессионистов во Франции. В 1911 году он скоропостижно скончался в возрасте пятидесяти девяти лет, успев завещать Лувру всю свою коллекцию, включавшую работы Мане, Сезанна, а также Моне. Он оставил сто тысяч франков на обустройство нескольких смежных залов, где должны были разместиться эти произведения, и к началу лета 1914 года все было готово.
Моне, надо думать, ликовал, когда его полотна заняли несколько угловых помещений Лувра вместе с творениями его друзей, которые в прошлом вызывали презрение художественной элиты, да и публикой принимались неоднозначно. Даже Камондо в отношении их не всегда был прозорлив: так, если бы не письмо Моне, он не приобрел бы «Дом повешенного» Сезанна. Купив картину, коллекционер, словно в оправдание, сохранил этот документ в кожаном кармане, прикрепленном с обратной стороны к раме[262].
Эта поездка по железной дороге давала Моне возможность вспомнить собственные, пусть менее отчаянные, битвы и маленькие победы. Ведь в залах Лувра оказалось еще больше значимых вех его творчества и, в более широком смысле, всей его сознательной жизни, запечатленных на холстах: от заснеженной дороги под Онфлёром, которую он писал в молодости, и сценок в Аржантёе и Ветёе до блистательных видов Руанского собора (четыре из которых принадлежали Камондо) и холстов с водяными лилиями. Один обозреватель описывал, как, стоя возле своих полотен, художник «то восторгался, то с удовольствием начинал вспоминать годы, точные даты и малейшие подробности создания этих произведений»[263].
Вскоре после того, как Моне побывал в Лувре тем июньским днем, на Париж обрушилась жесточайшая гроза. Одна из газет вышла с заголовком «Почва уходит из-под ног». Из-за проливных дождей, вдобавок к «небрежности и изъянам конструкции»,[264] вокзал Сен-Лазар затопило. Канализационные трубы переполнились, их прорвало, размыло метро, на улицах образовались трещины и провалы. В одну такую яму упало такси с водителем и пассажиром; оба погибли. Молниями убило бригаду железнодорожных рабочих, а с домов срывало кровлю. Кое-где взорвался газопровод, особенно сильно полыхнуло на рю Сен-Филипп-дю-Руль, там образовалась дыра двадцатидвухметровой глубины, поглотившая обойную мастерскую. В другую расселину на бульваре Нея провалился бык, а девять лошадей, задействованных в подземных работах возле Порт-де-ла-Шапель, утонули, когда вода хлынула в железнодорожный туннель. Журналист, наблюдавший за пожарными, которые в ту ночь ликвидировали последствия разгула стихии, закрепив на шлемах ацетиленовые лампы, был потрясен, когда заметил яркие огни и услышал, как наяривает оркестр на рю Ла Боэси, где парочки, не думая о повсеместных разрушениях, весело танцевали «томные вальсы и чувственные танго»[265].
Сейчас в этом беспечном вальсировании на краю зияющей пропасти мы видим грозное предзнаменование, которое, разумеется, не мог разглядеть журналист: аллегорию беззаботной Франции, веселящейся летом 1914 года, когда мир уже погружался в трагические события. Позднее люди будут с ностальгией вспоминать предвоенные годы, золотой век жизнерадостной, безмятежной наивности, время блаженного легкомыслия и утонченного артистизма; в немецком языке даже возникло выражение «счастлив, как Бог во Франции», а позднее, когда прошлое кануло в небытие, этот период стали называть «прекрасная эпоха» (la belle époque). Конечно, понятие появилось уже потом, но образ мира, проживающего последние счастливые дни, и атмосфера упоительного очарования, которую сами парижане называли «сладкая жизнь» (la vie douce), были описаны в «Фигаро» ровно годом раньше. В июне 1913-го один репортер, встретившись с отрядом из сорока семи бойскаутов из Сан-Франциско, попросил их поделиться впечатлениями от Парижа. Скаутов поразила Эйфелева башня и горгульи Нотр-Дама, но особенно — фонтаны и общественные сады, бульвары, обсаженные деревьями, уличные кафе, где можно сидеть, наблюдая за идущими мимо прохожими. Подросткам понравились красные брюки французских солдат, аккуратные бороды молодых мужчин (которые, сняв шляпы, иногда целуют друг друга[266]), длинные багеты в булочной, невероятное количество автомобилей (в одном только Париже их выпускали шестьсот фабрик) и, естественно, «красивые, модно одетые леди», которые, оказывается, — скауты не могли поверить собственным глазам — прямо на улице курят сигареты[267].
Такой образ Парижа, с бульварами, садами, кафе и модницами, собственно, и был близок Моне и импрессионистам: счастливый мир красоты и изящества, непринужденной повседневной праздности, который они наполнили жизнью и увековечили своей кистью. Сад Моне и запечатлевшие его полотна вписывались в визуальный вокабулярий Парижа так же, как входы на станции метро в стиле ар-нуво и танцовщицы «Фоли-Бержер». «Вспоминая прекрасные мирные времена, — напишет Моне один романист с фронта, прямо из окопа, от силы восемь месяцев спустя, — я часто вижу перед глазами цветущий сад и просторную столовую в Живерни»[268].
От грандиозной бури в июне 1914 года цветущий сад Моне практически не пострадал. Об «ужасном ненастье» упоминается в письме Шарлотте Лизес, но спустя два дня после потопа художник сообщает еще одному другу, что у него «приступ деятельности» и ему некогда даже выйти из дому. «Мой труд превыше всего» — это признание, сделанное в письме, вполне подходило в качестве девиза, который ему не раз придется вспоминать в последующие годы[269].
Через пару недель он напишет еще два письма: одно — некой мадам Кателино, которой он предложит полюбоваться своими водяными лилиями, пик цветения которых приходится как раз на июнь; второе — парижскому продавцу его картин Полю Дюран-Рюэлю. Моне сообщит, что вернулся к работе, что зрение его улучшилось и «все идет хорошо»[270].
Оба письма, написанные в приподнятом настроении, датированы 29 июня. В этот самый день на первых полосах всех французских газет будет сообщено об убийстве в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.
Жорж Клемансо был не из тех, кто готов веселиться на краю пропасти. Он видел, что надвигается буря, и опасался ее. В марте на открытии статуи одного эльзасского политика в Меце он так отозвался о Германии: «Жажда превосходства над Европой предопределяет ее политику уничтожения, направленную против Франции. Поэтому надо готовиться, готовиться и еще раз готовиться»[271]. Это было смелое заявление, учитывая, что с 1871 года Мец входил в состав Германской империи. В первой половине 1914 года Клемансо ежедневно писал передовицы для своей новой газеты «Ом либр», в которых патетично предупреждал об угрозе так называемого германского цезаризма. Все силы Германской империи, писал он, «сомкнув ряды, движутся к единственной цели — мировому господству; это завоевание будет мирным, если добровольно покориться натиску, и жестоким, если оказать сопротивление»[272]. Он сожалел о плачевном уровне оснащения французской армии и о том, что Германия могла выставить три с половиной тысячи единиц тяжелой артиллерии против трехсот, которыми располагали французы. Он выступал за продление срока воинской повинности с двух до трех лет, что позволило бы поддерживать большую боеспособную армию. Когда солдаты в восточных гарнизонах начали протестовать, он опубликовал памфлет, обратившись к ним с вопросом: «Разве не доносится до вас через Вогезы грохот полевых орудий, когда вы складываете оружие?»[273]
В передовице Клемансо от 23 июня говорилось: «Бессмысленно отрицать, что Европа живет в состоянии непрерывного кризиса». С убийством Франца Фердинанда кризис обострился. И даже Клемансо уже не мог предсказать, как будут развиваться события. Пройдет два дня, и очередная передовица, посвященная «чудовищной трагедии в Сараеве», выйдет с заголовком «Шаг в неизвестность». Высказывания лидера французских социалистов Жана Жореса о том, что может произойти дальше, оказались более определенными. Жорес был единственным политиком во Франции, не уступавшим Клемансо в харизме, интеллекте и красноречии, и при этом оставался его достойным и постоянным оппонентом. Если Клемансо был наиболее ярким и сильным литератором во французской политике, Жорес приковывал внимание своими выступлениями перед аудиторией — некоторые назвали его величайшим оратором всех времен[274]. В июле 1914 года, пользуясь своим блистательным ораторским даром, Жорес выступил против участия Франции в «дикой балканской авантюре», полагая, что войну все еще можно предотвратить. 25 июля, выступая в Вэзе, недалеко от Лиона, он вышел к аудитории с такими словами: «Подумайте, чем эта катастрофа обернется для Европы. <…> Какая начнется бойня, разруха, какое варварство!»[275]
Вместе с тем во Франции многим было не до политических событий в Сербии и нарастающих гибельных конфликтов: всеобщее внимание привлекло дело Кайо — суд над Генриеттой Кайо, второй супругой Жозефа Кайо, в прошлом — министра финансов в правительстве Клемансо, а с июня 1911 по январь 1912 года — премьер-министра. В марте редактор «Фигаро» Гастон Кальметт начал кампанию по дискредитации Кайо, опубликовав фрагменты его личной переписки, в том числе письма, которые он адресовал Генриетте, когда еще состоял в первом браке: тем самым доказывалось, что Кайо бесчестен в достижении личных целей. «Он разоблачен, — торжествовал Кальметт. — Моя миссия выполнена»[276]. Мадам Кайо свою миссию выполнила три дня спустя, явившись в кабинет Кальметта на рю Дрюо: она выпустила в него шесть пуль из браунинга, спрятанного в меховой муфте. В июле она предстала перед судом за убийство.
Благополучие Европы висело на волоске, однако на освещение суда над мадам Кайо у журналистов ушло куда больше чернил, чем на описание ухудшающейся политической обстановки. Газета «Эко де Пари» практически игнорировала все другие новости. Даже первая полоса «Ом либр» подробнейше раскрывала читателям ход дела, не забыв упомянуть, что в первый день процесса мадам Кайо, в черном платье и соломенной шляпе того же цвета, поддерживала силы, перекусывая вареными яйцами и солониной из ягнятины, и запивала все это водой «Эвиан»[277]. Рассмотрение дела, потребовавшее участия двух бывших премьер-министров, а также бывших и действующих глав других министерств, длилось до 28 июля, когда подсудимую оправдали. Оглашение вердикта завершилось всего за несколько часов до того, как Австро-Венгрия объявила Сербии войну и сбросила бомбы на Белград. Через три дня стала известна еще одна шокирующая новость: Жорес был убит французским националистом в кафе на рю Монмартр.
На следующий день, 1 августа, в Национальную ассамблею пришла телеграмма с приказом о всеобщей мобилизации, который сразу был оглашен. А за окнами ассамблеи в газетных киосках на набережной Орсе очередной выпуск «Ом либр» вышел с передовицей Клемансо, озаглавленной «Падение в пропасть». Через два дня, в шестнадцать часов пятнадцать минут, когда над Парижем гремела гроза и ливень затапливал улицы, Германия объявила Франции войну[278].
Глава пятая Впереди неизвестность
«Лично я останусь здесь, пусть даже эти варвары решат меня убить: я умру среди своих холстов, видя плоды трудов всей моей жизни»[279].
Клод Моне написал это спустя чуть меньше месяца после начала войны. Еще через две недели он повторил свою отважную клятву в письме Женевьеве Ошеде, жене своего пасынка Жан-Пьера, который, как и еще три миллиона французов, уже надел военную форму. «Если здесь станет неспокойно или опасно и Бланш захочет уехать, я ее пойму, — писал художник, — но сам все равно останусь. Слишком много воспоминаний хранят эти места. Здесь прошла бо́льшая часть моей жизни; словом, лучше умереть здесь, рядом с моими работами, чем спастись, но бросить все, чем я жил, на потребу мародерам и врагам»[280].
Этой решимости встретить врага лицом к лицу у Моне напрочь не было, когда германские солдаты ступили на французскую землю в предыдущий раз, в 1870 году. Он тогда проводил медовый месяц с Камиллой и трехлетним Жаном в курортном местечке Трувиль-сюр-Мер на берегу Атлантики. Когда хорошо вооруженная прусская армия из двухсот тысяч солдат подошла к Парижу и принялась осаждать город, он поспешил переправиться через Ла-Манш в Англию. Моне отсиживался там всю Франко-прусскую войну, бродя по лондонским паркам, где создал немало прекрасных холстов, и воспитывал свой вкус, знакомясь с произведениями Констебла и Тёрнера, а также с английским джемом.
Французские солдаты идут в штыковую атаку в битве на Марне, 1914 г.
В августе 1914 года ситуация снова складывалась не в пользу Франции. К германской границе спешили сотни эшелонов с французскими солдатами в кепи и красных брюках, так запомнившихся бойскаутам. Блестели нагрудные знаки кавалеристов, а офицеры гневно потрясали тростями. «Все дружно пели, — сообщала газета „Матэн“, — зная, что идут служить священному делу будущего цивилизации»[281]. И конечно же, их собственной страны. «Умереть за родину — вот самая прекрасная судьба», — пели они. Эта участь постигла десятки тысяч человек, попавших под огонь германских орудий — тяжелых полевых пушек, грохот которых Клемансо слышал по ту сторону Вогезов и которые теперь безжалостно выкашивали всех подряд. 22 августа двадцать тысяч французских солдат пали в битве при Шарлеруа; это была самая крупная потеря во французской армии по итогам одного дня. Пройдет два дня, и германская армия хлынет через границу Франции.
Французская пресса сообщала, что парижане встретили такой поворот событий, храня «гордое спокойствие»[282]. Но на самом деле паника, безусловно, имела место. К концу августа в Париже была слышна германская канонада, аэропланы «таубе» сбрасывали на город бомбы. Парижане с тревогой высматривали в небе цеппелины. Военный министр предрек, что германцы появятся в столице в течение недели, началась спешная эвакуация. Как и в 1870 году, правительство переехало в Бордо, а парижане бросились на вокзал Аустерлиц и Орлеанский вокзал, где творилась невообразимая сумятица, сновали набитые добром автомобили, а жандармы пытались навести порядок. Некоторые устремились на суда, выходящие из Руана и Гавра, где эвакуационные госпитали лихорадочно готовились принимать раненых. Тысячи людей перемещались по дорогам в телегах, на велосипедах или шли пешком, везя перед собой пожитки[283]. Этот исход коснулся и произведений искусства. Более двух с половиной тысяч картин из Лувра сложили в ящики, запечатали и под охраной солдат отправили на хранение в Тулузу и Блуа. Среди эвакуированных работ были четырнадцать холстов Моне из коллекции Камондо, провисевших в музее чуть больше двух месяцев[284].
Мимо сада Моне в Живерни поезда везли на восток солдат в товарных вагонах. Тем временем многие фермеры и крестьяне потянулись на запад, прочь из Живерни и окрестных мест, спасаясь, по словам Моне, «в минуту всеобщей ужасной и нелепой паники»[285]. Есть воспоминания очевидца, так описывающего дороги вокруг Живерни в те августовские дни: «Всюду грязно от пыли, поднятой ордой бедняков, толкающих впереди свой скарб, дети в голос рыдают на телегах, а старики, сломленные тяготами и переживаниями, беззвучно всхлипывают и прячут лицо в ладонях»[286]. Вскоре в деревне появилось семейство беженцев из Бельгии, они поселились в доме, принадлежавшем Дельфену Сенжо, у семьи которого Моне приобрел «Прессуар»[287].
В Живерни зачислили на срочную службу или мобилизовали больше тридцати мужчин. Американское землячество исчезло практически в одну ночь. Падчерица художника Марта уехала вместе с мужем Теодором Эрлом Батлером и его двумя детьми: они поспешили из Живерни в Нью-Йорк. Лишь один американец остался по крайней мере еще на несколько месяцев — Фридерик Уильям Макмоннис, скульптор из Бруклина, в 1901 году обосновавшийся в здании монастыря XVII века, возле церкви. Он устроил госпиталь на четырнадцать мест в увитом плющом доме под названием «Дом на сваях». Койки пустовали недолго: раненые солдаты заняли все до одной.
Старшей сестрой милосердия импровизированного госпиталя в Живерни вскоре стала бывшая звезда — Эжени Бюффе, «уличная певичка», в 1890 году прославившаяся на всю страну своими выступлениями в парижских кабаре и кафешантанах. За несколько недель до описываемых событий мадемуазель Бюффе, которой ныне было сорок восемь лет, прошла курсы сестер милосердия, и ее отправили менять повязки и утешать раненых солдат в Живерни. «Боже, что за зрелище! — писала она потом. — Сколько ночей провела я, слушая стенания несчастных бойцов… Некоторые в первом же наступлении лишились рассудка и теперь вскакивали среди ночи, хоть мы за ними и смотрели, и кричали так, словно все еще были в окопах». Бюффе обратила внимание, что многие молодые солдаты издают один и тот же жалобный стон: Maman («мама»). Как-то ночью она решила им спеть, и они, «убаюканные этой колыбельной, умиротворенные и притихшие, уснули»[288].
Госпиталь, в котором царила атмосфера страданий и смерти, находился меньше чем в километре от дома Моне. Жители Живерни жертвовали заведению белье и матрасы, Моне тоже внес свою лепту: раненые и контуженые солдаты питались овощами из его сада. Если точнее, то горох и бобы росли не в той знаменитой части на территории фермы «Прессуар» — ботва овощных культур мало привлекала художника, — а в огороде, который его садовники разбили на участке, арендованном по соседству вместе с так называемым «Синим домом». Из-за войны сады Моне постепенно зарастали, поскольку многие садовники отправились на фронт. «У нас все благополучно, по-прежнему приходят хорошие вести о тех, кто нам дорог, — писал Моне Жозефу Дюран-Рюэлю, сыну продавца его картин, — но живем мы в постоянных волнениях и тревогах»[289].
В начале июля, ощутив душевный подъем, Моне сообщил Гюставу Жеффруа, что «берется за грандиозный труд»[290]. Теперь же, в первые страшные недели военного конфликта, когда под ружье встали Жан-Пьер и Альбер Салеру, муж его падчерицы Жермены, мысли об этом труде отошли на второй план. «Будь храбрым, но осторожным, — писал художник Жан-Пьеру, — и знай, что ты всегда в моем сердце»[291]. Второй его сын, Мишель, не был допущен к службе по состоянию здоровья, вероятно из-за операции, которую он перенес за несколько месяцев до этого, или из-за старой травмы — перелома бедренной кости, полученного в 1902 году, когда он разбил свой автомобиль в Верноне[292]. Тем не менее он еще раз попытается пойти добровольцем. Волновался Моне и за своих друзей. Он отправлял телеграммы, чтобы хоть что-то узнать о Саша и Шарлотте, пытался разыскать Октава Мирбо и в письмах в Париж справлялся о Ренуаре, проводившем на фронт двоих сыновей[293].
Беспокоился Моне и о судьбе своих картин. Враг стоял меньше чем в пятидесяти километрах от Парижа, аэропланы бомбили столицу и сбрасывали мешки с песком, к которым крепили листовки, сообщавшие, что скоро в городе будут германские войска; мэтр боялся, что его холсты попадут в руки гуннов, и наверняка помнил, как в 1870 году были уничтожены многие произведения Камиля Писсарро: в доме художника в Лувесьене пруссаки устроили мясную лавку, а холстами застилали пол. В последний день августа в письме Жозефу Дюран-Рюэлю Моне спрашивал, нет ли у него на примете «надежного места», где можно было бы разместить «часть картин…», и подсказывал: «Вдруг вы найдете возможность арендовать автомобиль с надежным водителем, который увез бы все, что удастся погрузить»[294]. Если бы это получилось, холсты Моне, как и сокровища Лувра, присоединились бы к массовому исходу.
Но автомобиль из Парижа за картинами не приехал, зато вскоре из своего дома в Шевершмоне, в сорока километрах выше по реке от Живерни, прикатил Октав Мирбо. Не многим посетителям здесь бывали столь же безмерно рады, особенно в такое смутное время. Мирбо, несомненно, был искренен, когда писал Моне: «Вы самый дорогой мне человек на свете»[295]. Их взаимная привязанность казалась трогательной Саша Гитри: «Не было ничего прекраснее этого блеска в глазах, когда они переглядывались»[296].
Их дружба началась больше тридцати лет назад: в 1880-х годах Мирбо опубликовал первые восторженные строки, посвященные живописи Моне. Как рассказывает Гитри, тогда этот, быть может, самый проницательный и умеющий предельно ясно выразить свои мысли критик навлек на себя гнев всего Парижа, осмелившись раньше всех отдать должное Моне, Сезанну и Вон Гогу[297]. Моне назвал его «первооткрывателем живописи»[298]. Он также писал романы, весьма своеобразные и порой странные. В 1913 году одна газета назвала его «великий Октав Мирбо, самый мощный писатель нашего времени»[299]. Но прежде всего он был неутомимым борцом за правду и справедливость, а также защитником обиженных — человеком (по выражению все той же газеты) «по-настоящему передовых взглядов»[300]. Собрат Мирбо по перу как-то заметил, что по утрам, едва проснувшись, он уже зол на весь мир и до самого вечера выискивает поводы, чтобы не подобреть[301]. В детстве он метал в беспечных прохожих яблоки из семейного сада[302] и всю оставшуюся жизнь продолжал «выпускать снаряды по движущимся мишеням». Больше всех доставалось от него церкви: о том, как священники покрывают случаи сексуальных домогательств (жертвой которых он сам стал в школьные годы, проведенные в Бретани), с безжалостной откровенностью описано им в романе 1890 года «Себастьян Рок, или Убийство души ребенка».
Писатель Октав Мирбо, большой друг Моне
Мирбо был таким же гурманом, как и Моне. В 1880-х годах он основал «обеденный клуб» — в буквальном смысле слова, — назвав его «Bons Cosaques» (что можно перевести как «Бравые казаки»), и художник сразу был туда приглашен. Садоводство — еще одно их общее увлечение: в 1890-х годах Мирбо с не меньшей одержимостью, чем Моне, пристрастился к разведению садов. «Я так люблю цветы, что больше мне ничего не надо, — признался он в газетной публикации в 1894 году. — Цветы — мои друзья. <…> Только они приносят радость»[303]. Его любовь к растениям имела и более «земные» стороны; однажды он поделился с Моне: «Меня восхищает даже ком земли, я могу любоваться им часами напролет. А компост! Так можно любить только женщину. Я разбрасываю его и вижу в этих дымящихся кучах прекрасные формы и яркие краски, которые скоро здесь проявятся!»[304] Мирбо удобрил компостом не один сад, переезжая из одного дома в другой, пользуясь бесконечными советами Моне, получавшего в ответ шуточные отчеты о его неудачах и разочарованиях («У меня ни единого цветка! <…> Слизняки поедают головки маков, пока личинки червей точат корни»)[305]. В 1900 году, перед тем как отойти в мир иной, отец Мирбо рекомендовал семейного садовника Феликса Брёя, чтобы тот ухаживал за растениями Моне, — и вот больше десяти лет спустя Брёй все еще жил в Живерни, поселившись в небольшом доме на территории имения.
В юности кипучий нрав Мирбо дополняла грозная внешность: огненно-рыжие волосы, пылающие ярко-синие глаза, внушительное сложение. Вот как описал его один газетчик: «Он широкоплечий, лицо напоминает морду мастифа, привыкшего громко лаять и больно кусать»[306]. О его эксцентричности свидетельствовал и облик собаки, гулявшей с ним по Парижу на поводке, — все считали ее дикой, что это была за порода, осталось загадкой (предположительно — динго), но ее неизменная преданность хозяину напоминала самого Мирбо, всегда хранившего верность друзьям, в том числе Моне[307]. Зато присущее Мирбо миролюбие олицетворял другой живший у него зверь — совершенно незлобивый еж, чья кончина глубоко опечалила писателя.
В былые дни Мирбо ездил в Живерни вдоль Сены на велосипеде. В 1914 году ему исполнилось шестьдесят шесть лет, и, как ни печально, он лишь отдаленно напоминал себя былого: после перенесенного двумя годами ранее инсульта он был частично парализован. Теперь его называли «отшельником из Шевершмона»,[308] который с трудом передвигался и — что еще хуже — не мог держать в руке перо. Чтобы содержать дом, Мирбо вынужден был продать столь дорогую ему коллекцию живописи. Три картины Ван Гога попали на аукцион в 1912 году, среди них — «Ирисы» и «Три подсолнуха», приобретенные через год после смерти художника у Папаши Танги, портрет которого, написанный тем же Ван Гогом, также принадлежал писателю. «О да! Как глубоко он постиг утонченную душу цветов!» — написал Мирбо в одной из ранних хвалебных статей о Ван Гоге[309]. Ему не хотелось продавать картины, но 50 тысяч франков, за которые ушли с молотка «Три подсолнуха», в сто шестьдесят шесть раз превысили уплаченную за них сумму, и это стало для него хоть каким-то утешением.
Визит Мирбо был желанным, но едва ли радостным. Полупарализованный писатель считал, что жить ему осталось недолго, и часто говорил друзьям и гостям: «Больше мы с вами не встретимся. Нет-нет! Мне конец». Как-то раз он повторил это Моне: «Мы друг друга больше не увидим. Я не жилец, все кончено»[310]. Мирбо был подавлен еще по одной причине. Он считался самым известным и открытым выразителем антивоенных взглядов, в его романах часто говорится об ужасах войны, о национализме и патриотизме. Так, главный герой романа «Себастьян Рок» отвергает патриотизм за вульгарность и иррациональность, а боевой героизм для него — не более чем «неприкрытый и опасный разбой и убийства». В конце Себастьян бесславно падет на поле боя, подтверждая мысль Мирбо: война истребляет тех, кто молод и полон сил, и тем самым «убивает надежду человечества»[311]. Неудивительно, что, когда война разразилась в реальной жизни, это окончательно подкосило писателя. «Война давит на меня, — сказал он в интервью несколько месяцев спустя. — Она преследует меня днем и ночью»[312].
И все же Мирбо, несомненно, рад был увидеть новые холсты Моне: друг наконец вернулся к работе, и это обнадеживало, даже если сам он уже не мог писать. В очерке, посвященном Мирбо и опубликованном в 1914 году, говорилось: «Благородство и утонченность помогали ему замечать в помыслах и трудах других людей недостижимую красоту, ради которой этот поборник всего справедливого и прекрасного готов был снова и снова идти в бой»[313]. Так и в Моне он прежде всего видел художника, постигшего неуловимую красоту, и сломал немало копий, защищая его. Многие годы из-под его пера постоянно появлялись ободряющие и хвалебные строки, особенно когда Моне переживал очередной кризис. «Вы, бесспорно, величайший, самый мощный художник нашего времени», — писал он, когда Моне в отчаянии отменил выставку в 1907 году и искромсал холсты с водяными лилиями[314]. А летом 1913 года Мирбо отправился вслед за художником в «Зоаки», где вместе с Гитри «дружески увещевал» мэтра, пробуждая в нем интерес к живописи[315].
Собственно, Мирбо одним из первых увидел, как начинает создаваться новое большое творение. Моне охотно показывал друзьям свою творческую кухню. Еще в июле он пригласил Гюстава Жеффруа «посмотреть, как зарождается его необъятное произведение»,[316] но тогда визит дважды сорвался. Не приехал и Клемансо, который, будучи сенатором, председателем сенатских комитетов по военным и иностранным делам, издателем газеты «Ом либр», также не смог вырваться из Парижа и вообще собирался последовать за правительством в Бордо. Между тем Саша Гитри тяжело заболел и пролежал с пневмонией всю весну и начало лета — так что в начале июля отправился поправлять здоровье в Эвиан-ле-Бен. А к сентябрю они с Шарлоттой уже собирались в эвакуацию — подыскивали себе виллу в безопасном Антибе.
Что именно увидел Мирбо и как далеко продвинулся Моне к началу сентября, сказать сложно. В начале июля Моне сообщил, что трудится два месяца подряд «беспрерывно, несмотря на неподходящую погоду»[317]. Зной и грозы первых двух с лишним июльских недель к концу месяца сменились более умеренной погодой и частыми ливнями[318]. Но если тогда его труд был плодотворным, то в августе и сентябре в обстановке паники и неопределенности он, похоже, приостановил свои штудии. А значит, в тревожные первые дни войны Мирбо увидел новое произведение на начальной стадии, но даже таким оно впечатляло, хоть и было отложено до лучших времен.
К середине сентября угроза стала менее явной, ситуация на фронте с точки зрения Франции выглядела почти оптимистично. Победа в битве на Марне с участием более шестисот таксомоторов, подвозивших на фронт бойцов подкрепления, означала, что Париж может спать спокойно. «Они возвращаются туда, откуда пришли, познав поражение и позор», — торжествовал некий репортер, описывая отход германских войск[319]. Разумеется, возвращались они отнюдь не домой; в середине сентября началось строительство траншей вдоль северного берега реки Эна, в то время как британцы, на другой стороне, усиливали позиции у Шмен-де-Дам: это были первые окопы, скользкие от грязи, которые затем сетью протянутся от Северного моря до Швейцарии. Сам военный конфликт уже получил название Великая война, или Мировая война, подтверждая чудовищный охват этого столкновения[320].
После шести недель потрясений в Живерни вернулась жизнь — не вполне настоящая и непростая. Деревня оставалась пугающе безлюдной. «Все бежали», — писал Моне в октябре[321]. Другому своему другу он сообщал в Париж, что не видит людей, «кроме несчастных раненых, которые здесь повсюду, даже в самых маленьких городках»[322]. Однако в том же месяце, чуть раньше, Мирбо посетил его еще раз, и тогда Моне сообщил Жеффруа, что их измученный болезнью друг теперь «в добром здравии и впечатлен последними событиями»,[323] то есть новым грандиозным проектом Моне, работу над которым художник все еще не возобновил.
В ноябре Моне побывал в Париже — с тех пор как начались военные действия, он там не появлялся. В первые месяцы Великой войны город выглядел как будто «отрезвленным». Уже успели вернуться многие из тех, кто эвакуировался, в городе было полно беженцев из Бельгии и раненых солдат. Раненых было такое количество, что часть отеля «Ритц» специальным приказом превратили во временный госпиталь. Лишь немногие гостиницы принимали постояльцев[324]. Улицы были почти безлюдными, театры закрылись, Лувр опустел, с наступлением ночи всюду воцарялась тьма. Почти всем было не до искусства. В день приезда Моне одна газета писала: «В страшных испытаниях, уготованных нам бесчеловечной войной, искусство способно лишь скорбеть. Оно оплакивает сокровища Лувена, Мехелена, Арраса и Реймса»[325] — городов, в которых памятники искусства и архитектуры пострадали или были уничтожены. Единственную проходившую тогда выставку Анри-Жюльена Дюмона, названную «Впечатления войны: на руинах Санлиса», финансировала франко-бельгийская ассоциация — представленные на ней картины, по словам обозревателя, «говорили, кричали, вопили о попрании законности и промедлении наказания»[326]. Казалось, эпоха безмятежно-прекрасных прудов и садов ушла в прошлое.
Поль Сезанн. Портрет Гюстава Жеффруа
В Париже Моне пообедал с Жеффруа. Они подружились давно и сразу — как только познакомились в сентябре 1880 года, вместе оказавшись в одном небольшом отеле у подножия маяка на Бель-Иль-ан-Мэр, и Жеффруа принял Моне — бородатого, в берете и толстом свитере, потрепанного всеми ветрами — за капитана морского судна[327]. В том году Жеффруа начал работать в качестве журналиста у Клемансо в «Жюстис». И так же как Клемансо и Мирбо, стал влиятельным и верным своим принципам борцом, ясно и открыто излагающим свои взгляды. Один из друзей вспоминает его как «человека, для которого справедливость <была> превыше всего»[328]. А другие с теплотой называли его «Le bon Gef» («Славный Жеф»). «Светлое, усталое лицо» Жеффруа, как выразился один его собрат по перу,[329] запечатлел Сезанн и изваял Роден. Этот плодовитый автор книг о художниках и музеях в 1908 году был назначен директором Национальной мануфактуры Гобеленов, парижской фабрики по изготовлению настенных ковров. Там он и поселился в добротной квартире вместе с любимой матерью и с неизлечимо больной сестрой Дельфиной; здесь же разместилась его библиотека из тридцати тысяч книг. С Клемансо и Мирбо его сближала также убежденность, что Моне — один из величайших живописцев в истории и принадлежит к «когорте мастеров», как он убежденно заявлял[330].
Моне и Жеффруа не довелось увидеть также Клемансо, который находился в Бордо, где из тесной квартиры руководил остатками редакции «Ом либр»: три четверти сотрудников газеты ушли на фронт[331]. Моне не получал вестей от Тигра с первой недели войны, когда тот написал из Парижа: «Напряжение громадное, но я убежден, что если мы не утратим присутствия духа — а оглянувшись вокруг, вижу, что так и есть, — то успешно справимся. Только это потребует времени»[332]. В том августе он опубликовал в «Ом либр» волнующий призыв забыть о политической вражде и разногласиях: «Сегодня среди французов не должно быть ненависти. Пора научиться любить друг друга и радоваться этому»[333]. Еще через несколько дней он отправил жизнеутверждающее послание другу в Англию: «Мы переживаем трудные времена, но, полагаю, благополучно их минуем. Страна меня восхищает. Ни кличей, ни песен. Только взвешенные решения»[334].
Но радость любви недолго была всеобщей, а решения — взвешенными. К концу августа, когда Париж, казалось, вот-вот падет под натиском Германии, Клемансо явился к президенту Франции Раймону Пуанкаре и набросился на него с обвинениями. «Его путаная речь выдавала злость и неистовство человека, утратившего самообладание, — вспоминал Пуанкаре, — и ярость разочарованного патриота, который считал, что сможет победить в одиночку»[335].
Пуанкаре был не единственным, кому досталось от разгневанного Тигра. В 1887 году Клемансо заявил: «Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным»[336]. В 1914 году он быстро укрепился во мнении, что столь серьезную задачу нельзя отдавать на откуп генералам. В сентябре он жестко выступил против французской военной элиты. В «Ом либр» он раскритиковал армейские медицинские службы, собственными глазами увидев, как раненых солдат доставляют с фронта в фургонах для перевозки рогатого скота и лошадей, после чего у многих наблюдается столбняк. Однако правительство объявило военное положение, в свете которого многие гражданские свободы упразднялись, а военным властям передавались широкие права, связанные с цензурой в любых газетах, которые могли представлять угрозу общественному порядку и подрывать моральный дух. Нашелся генерал, обвинивший Клемансо в проведении «порочной и лживой кампании»[337]. Тираж газеты был арестован, и «Ом либр» неделю не выходила. В итоге издание возобновилось, хоть и под новым, издевательским названием L’Homme Enchaîné. «Свободный человек» стал «Человеком в оковах».
Зато Моне свои оковы наконец скинул: к концу ноября он вернулся к холстам. «Я снова тружусь, — сообщил он Жеффруа в письме от 1 декабря. — Это лучшее средство, чтобы не думать о нынешних бедах, хоть мне и несколько неловко оттого, что я исследую цвет и форму, пока столько людей ради нас страдают и умирают»[338].
Смятение Моне было понятно. Через год, в ноябре 1915-го, английский искусствовед Клайв Белл с горечью скажет в статье «Искусство и война»: «Всюду только и слышно — „Сейчас не до искусства!“»[339] В самом деле, многие французские художники, отложив кисти, надели форму, в том числе самые заметные авангардисты. «Сегодня практически все наше искусство воюет», — писала газета «Фигаро»[340]. И это было правдой — по крайней мере, в отношении молодого поколения. Друг Моне Шарль Камуан, тридцатипятилетний фовист, живший по соседству в Верноне, был мобилизован в августе и сразу же отправлен на фронт, как и навещавший иногда Моне кубист Фернан Леже. Встали под ружье фовисты Морис де Вламинк и Андре Дерен, кубист Жорж Брак.
Другие французские живописцы, особенно старшее поколение, уже служили стране — или начинали служить — в другом качестве: вооружившись кистями и красками. В битве на Марне в сентябре 1914 года сорокатрехлетний художник Люсьен-Виктор Гиран де Севола, воспитанник Академии художеств, воевал в артиллерии, когда его подразделение — одетое в те самые броские форменные брюки — попало под жестокий вражеский огонь. «Именно тогда, — напишет он позже, — мне пришла идея камуфляжа, сначала расплывчатая, но затем все более внятная. Должен же быть способ, подумал я, чтобы замаскировать не только нашу орудийную батарею, но и людей, которые ее обслуживают». Экспериментируя «с формой и цветом», Гиран де Севола начал придумывать средства, с помощью которых его товарищи и окружающие их предметы стали бы «менее заметными»[341].
В Военном министерстве идеи Севола быстро взяли на вооружение. И в начале 1915 года появляется первая камуфляжная группа; сначала в нее войдут тридцать художников, но в итоге к службе будет привлечено три тысячи camoufleurs, которым даже пошьют элегантную форму с нашивкой по эскизу самого Севола: золотым хамелеоном на красном фоне. В этих войсках будет служить Брак, спасшийся из траншей вместе с кубистами Жаком Вийоном, Роже де ла Френе и Андре Маре. Перед войной кубистов обвиняли в отсутствии патриотизма и нелюбви к Франции, но Гиран де Севола утверждал, что в новом деле это художественное направление окажется незаменимым: «Для полной деформации объекта я использовал методы кубистов, и это позволило мне привлечь к работам некоторых талантливых художников, которые, в силу особого ви́дения, могли замаскировать любой объект»[342].
К концу 1914 года, пока подразделение Севола начинало разрабатывать маскировку для французских солдат, у которых вместо благородных кепи должны были появиться пятнистые капюшоны с маской, на военную службу призвали еще одну группу художников. В сентябре, после победы на Марне, Пьер Каррье-Беллез и Огюст-Франсуа Горже с помощниками, представлявшими двадцать «избранных живописцев», приступили к росписи гигантского полотна «Пантеон войны» (Panthéon de la Guerre); работы велись в мастерской Каррье-Беллеза на бульваре Бертье. В итоге должна была появиться панорама; этот иллюстративно-зрелищный жанр, возникший в конце XVIII века, в следующем столетии стал широко популярен: виды города или сцены битвы, изображенные в лучших традициях реалистической живописи на масштабном полотне, огибающем помещение внутри просторной ротонды, полагалось рассматривать со специальной площадки в центре. По сообщениям прессы, композиция «Пантеон войны» с батальными сценами и фигурами сотен героев Франции должна была составить по окружности сто пятнадцать метров[343].
Для художников, желавших послужить стране, была еще одна стезя: им отводилась роль светочей, прославляющих культуру и цивилизацию Франции. В 1914 году французская пресса была единодушна в вопросе о том, что поставлено на карту. Этот конфликт газетчики называли не иначе как «священная война». Так, 4 августа газета «Матэн» объявила столкновение Франции и Германии «священной войной цивилизации против варварства». Меньше чем через неделю после начала военных событий наиболее авторитетный французский мыслитель — философ Анри Бергсон, обращаясь к самому высокому интеллектуальному учреждению государства, Институту Франции, заявил, что «грубость и цинизм» германцев — это «возврат к дикарству»[344].
Эти слова подтвердились мрачными фактами в конце августа, когда германские войска убили сотни мирных бельгийцев и сожгли город Лувен — «интеллектуальную столицу Нидерландов», о чем напомнила своим читателям газета «Матэн»,[345] — и старинную библиотеку, включавшую более двухсот пятидесяти тысяч средневековых книг и рукописей. Еще через две недели германцы направили свои пушки на Реймсский собор, средневековые скульптуры которого Роден назвал непревзойденным шедевром европейского искусства, а виднейший медиевист Франции Эмиль Маль — вершиной человеческой цивилизации. Германцы, писал Маль, «наставили свои орудия на прекраснейшие статуи, которые всегда несли мир и олицетворяют милосердие, добро, самоотречение… Все человечество возмущено этим преступлением: все словно увидели, как погасла звезда и на земле померкла красота»[346].
Перед лицом подобного варварства в военное время тем более важна была идея поддержания художественных и культурных ценностей. «Пусть французское искусство постоит за себя так же твердо, как французская армия!» — призвал в сентябре Клод Дебюсси[347]. Вопрос встал еще более остро по прошествии нескольких недель, в середине октября, когда первый залп со стороны Германии прогремел на культурном и литературном фронте. 13 октября издание «Тан» опубликовало манифест (в оригинальном виде напечатанный в газете «Берлинер тагеблатт») под заголовком «Призыв к цивилизованным нациям». Его составила и подписала группа из девяноста трех немецких ученых и интеллектуалов, среди которых были биолог Пауль Эрлих, физик Макс Планк, а также Вильгельм Конрад Рентген, открывший излучение, названное его именем. В манифесте выражался протест против «лжи и клеветы», чернящих «славное и правое дело Германии в навязанной нам жестокой схватке». Далее следовали благовидные оправдания и откровенная ложь: дескать, нейтралитет Бельгии нарушили французы и англичане, а вовсе не Германия и ни одно произведение французского или бельгийского искусства не было повреждено, так же как ни один бельгийский гражданин не пострадал от руки немецкого солдата, за исключением случаев «вынужденной самообороны». О притязаниях Франции и Великобритании на право олицетворять цивилизованную Европу было сказано следующее: «Те, кто берет в союзники Россию и Сербию, кто не боится натравливать монголоидов и негров на белую расу, подают цивилизованному миру самый постыдный пример и, безусловно, не имеют права объявлять себя защитником европейской цивилизации».
Подобное заявление было тем более скандальным, что исходило от настоящих гигантов мысли, которых высоко чтили их французские коллеги, предполагая, что в своих суждениях они не могут не опираться на скрупулезные научные обоснования. Но по-настоящему оскорбительным для многих французских интеллектуалов был финальный «кивок» в адрес выдающихся деятелей немецкой культуры: «Пусть никто не сомневается, что в своей борьбе мы пойдем до конца — как цивилизованная нация, для которой наследие Гёте, Бетховена и Канта столь же свято, как родная земля и дом».
Во Франции стали появляться ответные реплики, была даже забавная попытка доказать, что Бетховен — не столько немец, сколько бельгиец[348]. Композитор Камиль Сен-Санс в первые недели войны также вступил в полемику. В статье для ежедневной газеты «Эко де Пари» он признал, что нет смысла отрицать достижения немецкого искусства и немецкой мысли («Это значит подражать германцам, заявляющим, что французы — нация обезьян»). Однако «абсурдная германофилия», испортившая общественный вкус — в частности, навязыванием Вагнера французской аудитории, — также достойна сожаления. «Гёте и Шиллер, — продолжал автор, — замечательные поэты, но как они переоценены!» Финал звучал ярко и патриотично: «Порой приходится слышать, что у искусства нет родины. Это совершенная ложь. Искусство вдохновляется непосредственно народным характером. И если у искусства родины нет, родина в любом случае есть у творца»[349].
Французские деятели искусств и мыслители ответили собственной публикацией, подписи под которой поставил весь интеллектуальный и культурный авангард: литераторы Октав Мирбо, Анатоль Франс и Андре Жид, композиторы Сен-Санс и Дебюсси — и, конечно же, ни Жорж Клемансо, ни Клод Моне не остались в стороне. Моне был самым известным художником во Франции, да и во всем мире, и особую славу ему принесли утонченные вариации на темы французских соборов — тех самых памятников, которые были осквернены германскими пушками, — так что в этом культурном реванше без него было не обойтись. А потому к нему вскоре обратились с просьбой, чтобы он разрешил использовать свое имя и помог общему делу. Издателю готовившейся публикации художник ответил, что обычно не присоединяется к каким-либо группам (что было истинной правдой), но «сегодня другая ситуация, и если вы полагаете, что мое имя поддержит ваши усилия, можете его использовать»[350].
Это ответное заявление, под которым он согласился поставить свое имя, разрослось до целой брошюры, названной «Немцы: разрушители соборов и сокровищ прошлого». Издание, адресованное иностранным литераторам и деятелям искусств, а также «всем ценителям прекрасного», преподносилось как «документальное свидетельство» бомбардировок в Реймсе, Аррасе, Лувене и других городах. В книге были фотографии и прочие подтверждения деяний, которые Анатоль Франс в приложении к этой публикации назвал «бесчеловечным и бессмысленным уничтожением священных памятников искусства и минувших времен»[351].
Заимствовать имя и талант Моне французская военная машина будет и впредь. А он тем временем продолжит изучение цвета и формы, обнадеживая себя тем, что таким образом помогает своей стране.
Глава шестая Grande Décoration[352]
В декабре 1914 года, когда Моне вновь стоял перед мольбертом, Париж также возвращался к привычной жизни. Правительство вернулось из Бордо в десятых числах. «Мулен Руж» возобновил дневные и вечерние представления, на сценах «Комеди Франсез» и «Опера коми́к» шли пьесы и оперы, всегда завершавшиеся торжественным исполнением «Марсельезы». Признаки войны были буквально повсюду: в Гран-Пале организовали госпиталь для раненых бойцов; витражи в окнах собора Нотр-Дам заменили на уродливые желтые стекла; всех, кто приезжал в Париж, встречал приглушенный свет фонарей и темные улицы, так что знаменитый «город огней» окрестили вскоре «городом теней»[353]. Но осторожный оптимизм постепенно влиял на общий настрой. «Вперед, к полной победе», — призвала газета «Матэн», опубликовавшая официальное сообщение о том, что наступление германских войск на Пикардию и Аргонский лес якобы закончилось для них полным разгромом[354]. «1915 год принесет нам победу и мир», — уверенно заявил французский генерал Пьер Шерфис[355].
Жорж Клемансо был настроен менее оптимистично. «Война продлится не меньше полугода», — написал он Моне из Бордо в первую неделю декабря и мрачно добавил: «Если только не все три»[356]. Спустя несколько дней вместе с другими политиками и дипломатами он вернулся в Париж, а еще через сутки отправился в Живерни. Плохая погода, грязь и сумрак, да еще случавшиеся время от времени ливни[357] не предполагали долгой прогулки по саду Моне, который и без того был укрыт на зиму, да и не хватало там заботливых рук садовников, находившихся ныне на фронте. Зато гастрономические удовольствия остались прежними. Продовольствия во Франции пока хватало — были бы деньги (причем французская пресса вскоре не без злорадства будет рассказывать о том, как немцы устраивают картофельные бунты и давятся сосисками из собачьего мяса и хлебом из соломы)[358]. Моне, должно быть, показал Клемансо новые холсты, но теперь Тигр думал не о том, как ободрить друга: перед ним стояла насущная задача. Ему предстояло воодушевить целую нацию, так что он строчил длинные статьи с лозунгами, призывающими к объединению. Новая громкая передовица более чем из двух тысяч слов появлялась на первой полосе ежедневно. В одном из таких посланий он восславил французских солдат и их «сверхчеловеческие усилия», но далее следовало обращение, от которого становилось тревожно: «Сегодня, во имя своего будущего, Франция требует, чтобы ее сыновья жертвовали жизнью»[359].
Клемансо нельзя было обвинить в лицемерии. Его сын Мишель, лейтенант Четвертой армии, в сорок один год чуть не погиб от вражеской пули через две недели после начала войны. Будучи, как и отец, настоящим бойцом, он успел убить своего противника, прежде чем потерял сознание. Однако Моне, возможно, не разделял убеждения Жоржа Клемансо, что дети Франции должны непременно положить жизнь за родину. Его сына, которого также звали Мишель, в итоге признали годным к службе — отчасти из-за того, что требования к новобранцам снизили, когда в боях успели погибнуть почти триста тысяч французских солдат. Неизвестно, много ли Клемансо говорил с другом о войне. Живерни было для него святая святых: он ценил общество Моне еще и потому, что политика интересовала художника в последнюю очередь.
Клемансо был искрометным собеседником, и почти всем его остротам нашлось место в дневниках тех, с кем он общался. Моне, в свою очередь, был немногословен. «Только ни о чем меня не спрашивайте, — предупредил он одного гостя. — Не пытайтесь меня разговорить. Ничего интересного я не скажу»[360]. Саша Гитри вспоминал: «Клод Моне не любил поддерживать разговор в привычном понимании. Даже на самые серьезные вопросы, касавшиеся искусства, он чаще всего отвечал „да“ или „нет“. <…> То есть говорили вы, он слушал»[361]. Впрочем, не всем удавалось вытащить из него даже «да» или «нет». Вспоминают, как в дружеской беседе с Жеффруа Моне рычал в ответ на его реплики: «Р-р-р… Р-р-р… Р-р-р…»[362] Даже с Клемансо он оставался лаконичным и замкнутым. «Самые близкие друзья Моне, — поделился Тигр с Гитри, — могут не знать, что у него на уме»[363].
Но никто не принимал молчание Моне за недостаток ума. Из столовой в комнату, где подавали кофе, гости проходили через Голубую гостиную, где находилась его разнообразная и богатая библиотека. По воспоминаниям Жеффруа, Моне полюбил книги, когда впервые оказался в Париже и в «Брассери де Мартир» стал общаться со многими писателями и интеллектуалами[364]. В 1874 году Ренуар, написавший портрет Моне, изобразил его не у мольберта: художник курит трубку, сосредоточенно склонившись над книгой, в его облике определенно есть нечто «профессорское». В более зрелые годы, в Живерни, Моне часто читал вечерами вслух, когда Алиса сидела рядом в Голубой гостиной с шитьем и слушала. Помимо Мирбо и Жеффруа, он отдавал предпочтение таким авторам, как Флобер, Золя, Ибсен, Харди и Толстой. Читал он и классиков: Аристофана, Тацита и Данте. Обращался к авторам научных трудов и публицистики, как Монтень или Ипполит Тэн, читал «Историю Франции» Жюля Мишле, мемуары Сен-Симона, дневники Делакруа. О Моне на их страницах не упоминается, хотя в юности он часто подглядывал за происходящим в мастерской Делакруа из окна соседнего дома в надежде хоть одним глазком увидеть мастера за работой — с таким же жадным интересом спустя несколько десятилетий гости Живерни будут следить и за ним.
В последний раз в 1914 году Моне привело в Париж увлечение литературой, а заодно и изысканное угощение. На неделе, предшествовавшей Рождеству, он побывал на ежемесячном обеде в Гонкуровской академии, литературном обществе (полное название которого звучало как «Литературное общество братьев Гонкур»), созданном по завещанию Эдмона де Гонкура. Это собрание в 1900 году основали Жеффруа и Мирбо, а с 1912 года Жеффруа стал его президентом. Обеды стали своеобразным продолжением традиции «Бравых казаков» Мирбо (завершивших совместное преломление хлебов в 1888 году): участники были в основном те же, прежней осталась и их любовь к литературе и хорошей кухне.
Десять членов Гонкуровской академии, «десятка», встречались за обедом в первый вторник каждого месяца — сначала в Гранд-отеле, а позднее в «Кафе де Пари». Последние несколько месяцев они собирались в оформленном резными панно отдельном кабинете под названием «Гостиная Людовика XVI» — который вскоре переименуют в «Гонкуровскую гостиную», — в ресторане «Друан», специализировавшемся на морепродуктах; в этом заведении возле «Опера де Пари» часто бывал Клемансо и другие журналисты. «За столом говорили на самые разные темы, — сообщалось в газетной хронике, — наконец, когда подали десерт, началось обсуждение литературных новинок года»[365]. По итогам этих горячих обсуждений за персиками Мельба,[366] начиная с 1903 года, в декабре вручалась награда в пять тысяч франков — Гонкуровская премия.
В «десятку» Моне официально не входил, но всегда появлялся на ежемесячных гонкуровских обедах. Это был один из немногих поводов, которые могли заманить его в Париж, поскольку поездка сулила вкусное угощение и интересный разговор в компании добрых друзей.
Среди писателей Моне вовсе не чувствовал себя не в своей тарелке. Он давно приятельствовал со многими из них — не только с Мирбо и Жеффруа. На ужинах «Бравых казаков» в 1880-х годах он познакомился с Анри Лаведаном, Полем Эрвье и Жозефом-Анри Рони-старшим, которых называл «людьми большой души и таланта»[367]. И вообще, часто казалось, что в обществе литераторов ему проще, чем с художниками. Он был близким другом Стефана Малларме — вплоть до смерти поэта в 1898 году. Среди реликвий, выставленных на видном месте в мастерской мэтра вместе с фотографиями друзей, был пожелтевший конверт со стихотворным посвящением от Малларме, который был частым гостем в Живерни:
Monsieur Monet que, l’hiver ni L’été, sa vision ne leurre, Habite, en peignant, Giverny, Sis auprès de Vernon, dans l’Eure. Моне, господину, чей глаз, будь то в зной иль зимой, зорок в прежней мере: он пишет холсты — да и дом у него в Живерни, под Верноном, в Эре.Письмо дошло до получателя, и Моне потом долго недоумевал, отчего конверт не был украден каким-нибудь «просвещенным почтальоном»[368].
С особым восхищением относились к Моне романисты, и в первую очередь, пожалуй, Марсель Пруст, страстный поклонник художника, мечтавший побывать в Живерни. Пруст даже хотел написать книгу, посвященную саду Моне[369]. Однако познакомиться им не довелось. Общие друзья несколько раз пытались устроить визит, но все время что-нибудь мешало — быть может, и к лучшему, поскольку облака пыльцы в саду Моне могли вызвать приступ у Пруста, страдавшего такой сильной астмой, что своих посетителей он даже просил не носить бутоньерки в петлицах.
Поэтому писатель ограничился лишь паломничеством по тем уголкам Нормандии, где работал Моне, «словно по святым местам»[370]. Он многократно упоминал Моне в своих текстах: пятнадцать раз в записных книжках, двадцать четыре — в незавершенном романе «Жан Сантей» и двенадцать раз в сборнике статей «Против Сент-Бёва», а также во многих очерках и письмах. Десять упоминаний имени Моне встречается в magnum opus Пруста — цикле «В поисках утраченного времени», первый роман которого, «В сторону Сванна», вышел в свет в декабре 1913 года.
Что именно привлекало Пруста в Моне, в 1909 году сформулировал романист и драматург Анри Геон, определив отличие Моне от других живописцев — в частности, от Дега или Сезанна: «Они пишут в пространстве, а он — если можно так выразиться — во времени»[371]. К изучению действия времени у Моне был, можно сказать, «писательский» интерес. В его живописных циклах, отражающих смену времен года и состояния природы в течение дня, — как, например, пшеничные скирды — впечатления зрителя преображаются под влиянием времени не меньше, чем предметы, так что люди и пейзажи выстраиваются в хронологической перспективе. Моне полагал, что на представление о пространстве или месте накладывается отпечаток мгновения, когда мы их открываем. Пруст выразил эту идею в финальных строках романа «В сторону Сванна»: «Места, которые мы знали когда-то, больше уже не расположены исключительно в пространстве»,[372] это «пласт среди прочих впечатлений», возникающих в тот или иной момент нашей жизни. Циклы полотен Моне и есть такие «пласты» — предметы и места, растворяющиеся во времени; как пишет об этом Пруст: «Дома, дороги, улицы — увы! — мимолетны, как годы».
Роман «В сторону Сванна» вполне мог претендовать на Гонкуровскую премию 1914 года. Впрочем, нет подтверждения тому, что Моне читал романы Пруста и восхищение, с которым их автор относился к художнику, было взаимным. Тем не менее Моне высказывался в поддержку других писателей. За гонкуровскими обедами он не только поглощал устриц или филе ягненка, но также неофициально участвовал в обсуждениях и порой даже пытался повлиять на решение жюри. Годом ранее входивший в «десятку» романист Люсьен Декав получил от Моне письмо, в котором художник — признавая, что, пожалуй, сует нос не в свое дело, — «все равно» убеждал адресата проголосовать за роман «Белый дом» Леона Верта. Причем побудили Моне к этому не столько бесспорные достоинства романа, сколько то обстоятельство, что Верт, близкий друг Мирбо, заменил тяжелобольному литератору секретаря и помог завершить роман «Динго», записав текст под диктовку. Моне объяснял Декаву, что у Верта «настоящий талант», что премия принесет ему «большую пользу» и, кроме того, — что особенно важно — «порадует беднягу Мирбо»[373].
Марсель Пруст
© Getty Images
Несмотря на хлопоты Моне, премию в том году Верт не получил. Как не удостоился ее и роман, который с восторгом примут следующие поколения, — «Большой Мольн» Алена-Фурнье. Сам автор в сентябре трагически погиб в бою, ему было всего двадцать семь лет, и следующий его роман остался незавершенным. О его гибели несколькими неделями ранее сообщила газета «Фигаро»,[374] и атмосфера того декабрьского обеда, видимо, была невеселой, поскольку Верт тогда тоже служил на фронте. На самом деле собравшимся в тот день предстояло решить, будет ли вообще в 1914 году вручаться премия, учитывая, что многие произведения, объявленные к публикации и достойные рассмотрения, не успели выйти из типографии, ведь мобилизация коснулась многих авторов, редакторов и издателей. В результате Прусту, как и другим соискателям, пришлось подождать: «десятка» решила вместо награждения объявить, что в следующем году будут присуждены сразу две премии[375].
Еще бы — на 1915 год возлагались большие надежды. Еще в августе кайзер пообещал своим войскам, что они вернутся домой, «прежде чем опадут листья с деревьев», а командующий Генеральным штабом Хельмут Иоганн Людвиг фон Мольтке предрекал окончание войны к Рождеству; ощущение, что конфликт не затянется, передалось и британскому премьер-министру Герберту Асквиту — в первые месяцы войны об этом вообще часто говорили[376]. Но пришли праздники, а мира ничто не предвещало. В день Рождества, по официальным данным, германские войска предприняли массированные атаки близ Тэт-де-Фо, в Вогезах, а также к северу от Ланса и вдоль реки Эна. «Издалека, — писал рождественским утром в Эльзасе один французский журналист, — до нас по-прежнему доносилась канонада и пулеметные очереди»[377]. Лишь густой туман наконец прервал военные действия.
Через три дня после Рождества Моне отправил другу-художнику письмо, в котором печалился о «страшном годе» и высказывал надежду, что в 1915-м все изменится к лучшему. Он пояснил, что Мишель вот-вот будет мобилизован и они с Бланш останутся в доме одни. «Должен признаться, — написал он Женевьеве Ошеде, — что исполнен чувства безнадежности и печали, год заканчивается тяжело, будущее страшит»[378].
В начале 1915 года о новом цикле Моне заговорили. В январе художник получил письмо от парижского приятеля Раймона Кошлена. Сорокачетырехлетний Кошлен принадлежал к числу состоятельных и просвещенных ценителей искусства — хотя он был протестантом, а не иудеем: именно его изначально имел в виду Клемансо в качестве покупателя задуманных Моне панно. Кошлен возглавлял Общество друзей Лувра, ранее руководил аналитическим изданием «Газета политических и литературных прений», а материальной независимостью был обязан отцу, который владел текстильными предприятиями в Эльзасе, но после Франко-прусской войны перебрался в Париж и в результате стал мэром Восьмого округа. Вдовец Кошлен занимал квартиру на острове Сен-Луи с видом на Сену, где хранились японские эстампы, арабская керамика, китайский фарфор, а также современная живопись: Делакруа, Ренуар, Ван Гог, Гоген и, разумеется, Моне, которого хозяин дома называл «таким же обожателем Японии», как и он сам[379].
Кошлена тревожили известия о том, как война отразилась на Моне. Он надеялся, что, несмотря ни на что, художник доведет до конца свой замысел, посвященный лилиям: «Вот бы Вы придумали для меня столовую, окруженную водой, с лилиями, плавающими на стенах, на уровне глаз»[380]. Это полностью совпадало с желанием Моне, который еще в 1909 году хотел устроить «цветочный аквариум» в каком-нибудь домашнем интерьере, создать тихий оазис. Однако из его ответа Кошлену следовало, что замысел стал более масштабным. Моне сообщил, что вернулся к работе, хоть и смущен тем, что занимается живописью, когда другие страдают и умирают. «Но верно и то, что хандра ничего не изменит, — писал он Кошлену. — Поэтому я пытаюсь воплотить Grande Décoration».
В этом письме, говоря о своем замысле, художник впервые использует этот термин — «большая декорация», — показывающий, что ему видится пространство, не ограниченное стенами столовой. «Работа предстоит серьезная, — признавался он Кошлену, — особенно учитывая мой возраст, но я не теряю надежды завершить ее, пока позволяет здоровье. Как Вы догадываетесь, идея уже давно живет у меня в голове: вода, водяные лилии и другие растения на огромной поверхности». В конце он приглашал Кошлена в Живерни — оценить, как продвигаются дела[381].
Называя свое новое творение Grande Décoration, причем с прописной буквы, он рассчитывал пробудить интерес Кошлена, авторитетного историка и управляющего, в чьей компетенции были вопросы декоративного искусства. Он служил в организации Централизованное объединение «Декоративное искусство», призванной поддерживать и совершенствовать промышленное искусство во Франции. Кошлен был одним из инициаторов создания Музея декоративного искусства, возникшего в 1882 году, а с 1905 года разместившегося в павильоне Марсан, в Лувре. Этот музей собрал для всеобщего обозрения лучшие образцы промышленного искусства Франции: фарфор Севрской мануфактуры, продукцию мануфактуры Гобеленов, кружева и капоры императрицы Марии-Луизы, книги из бывших библиотек аристократии. Было также много экспонатов с Востока: резьба по слоновой кости, кубки, ковры, а также японские мечи и гравюры Хокусая и Хиросигэ, преподнесенные в дар самим Кошленом. Музей ежегодно проводил выставку японских гравюр, а до войны подготовил еще одну дорогую сердцу Моне экспозицию, посвященную французским садам[382].
Но, кроме того, в музее можно было увидеть огромные декоративные стенные росписи кисти французских живописцев XIX века. Все они изначально предназначались для украшения различных престижных интерьеров — как дворец Тюильри, Елисейский дворец, парадные залы замков. Двое мастеров, занявших в Музее декоративного искусства ведущее место, Жюль Шере и Пьер-Виктор Галлан создавали стенные росписи в парижской ратуше. С этим проектом Моне был прекрасно знаком, поскольку дважды, в 1879 и 1892 годах, его имя появилось в списке претендентов на этот заказ — оба раза безрезультатно[383].
Росписи в общественно значимых зданиях (grandes décorations) всегда считались наиболее благородным и почетным занятием для художника. «Настоящая живопись, — провозгласил столетием ранее Теодор Жерико, — это ведра краски на многометровых стенах»[384]. Его поддержал бывший ученик Эжен Делакруа, сожалея о художественном упадке из-за распространения малой станковой живописи и, напротив, приветствуя «величественный декор храмов и дворцов… когда живописец расписывает стену, рассчитывая, что его послание будет жить в веках»[385]. Делакруа был одним из наиболее плодовитых мастеров стенной росписи в XIX веке, и значительная часть его наследия осталась на стенах и сводах важнейших публичных пространств, украшенных вдохновляющими аллегориями и кровавыми батальными сценами. Версальский, Бурбонский, Люксембургский дворцы, галерея Аполлона в Лувре, зал Мира в парижской ратуше — где бы ни обращали вверх свои взоры политики и правители Франции, повсюду в Париже они видели масштабные росписи Делакруа. Такие заказы не только явственно подтверждали официальное признание, которое Делакруа благодарно называл «лестной для себя наградой»,[386] но и свидетельствовали о его необычайном честолюбии.
Зато в следующем поколении друг Моне, знаменитый гравер Гюстав Доре, особого пиетета к создателям стенных росписей не испытывал. Он мог резко оборвать своего оппонента: «Молчите, вы всего лишь декоратор!»[387] Дега и Писсарро презирали расписывание стен, зато Мане и некоторых других импрессионистов — а также, с наступлением нового века, постимпрессионистов, таких как Морис Дени или Эдуард Вюйар, — это поле для творчества вдохновляло не меньше, чем Делакруа. Да, славу импрессионистам принесли небольшие холсты и переносные мольберты, с которыми они отправлялись на луга и в леса, но это не значит, что никто из них не мечтал о тех самых ведрах краски и многометровых стенах. В 1876 году, благодаря умелому лоббированию Ренуара, при правительстве появилось Управление по делам искусств, ведавшее оформлением общественных зданий, и в 1879 году, кроме Моне, заказ на роспись ратуши попытался получить Эдуард Мане. Обоим не повезло, — собственно, никто из импрессионистов не оставил заметных произведений на стенах, предназначенных для глаз широкой публики[388]. В 1912 году поэт и критик Гюстав Кан в статье, написанной для одной из французских газет, указал на тот печальный, но очевидный факт, что импрессионизму так и не выдался случай показать свои декоративные возможности «на просторах стен какого-нибудь принадлежащего государству дворца»[389]. При бесспорной декоративности, присущей манере Моне, выбор вполне мог бы пасть на него. В 1900 году один из кураторов Лувра писал: «Будь я миллионером — или главой Министерства искусств, — я бы поручил месье Клоду Моне оформление просторной парадной галереи где-нибудь в Народном дворце»[390]. Увы, ни миллионера, ни министра не нашлось.
И все же теперь Моне представлялась тесной частная обстановка, в которой он вместе с Клемансо изначально видел свой новый цикл. Судя по всему, он думал о гораздо более просторном и доступном месте, в котором его живописью, его Grande Décoration, покрывалась бы «обширная поверхность». Вопрос был в том, где и как найти неравнодушного миллионера или министра в мрачные дни 1915 года и какие стены будут достаточно широкими для этого величественного декора.
Атмосфера запустения сохранялась в усадьбе Моне всю зиму. «Мы живем здесь, не видя ни души, — писал он в феврале. — Радости в этом мало»[391]. Тем не менее рядом с ним по-прежнему была Бланш; оставался в Живерни и Мишель — его еще не призвали, «и это меня утешает, — писал Моне, — ведь он переждет холодные зимние дни»[392]. Ужасы окопной жизни были одним из многих поводов для гнева Клемансо. «Наши солдаты замерзают, — негодовал он в письме, — им не выдали ни одеял, ни перчаток, ни свитеров, ни теплого белья»[393].
Настроение Моне всегда напрямую зависело от того, как продвигалась его работа, вынужденная уединенность в Живерни способствовала занятиям живописью. «Я не творю чудес, — поделился он с другом в феврале, — и расходую много красок. Но это настолько поглощает меня, что я почти не думаю об этой гибельной, страшной войне»[394]. Очевидно, он и в самом деле довольно сильно продвинулся, поскольку к концу месяца связался с Морисом Жуайаном, владельцем парижской галереи, желая выяснить точные размеры его помещений. Пятидесятилетний Жуайан, которого все называли Момо, был близким другом Анри де Тулуз-Лотрека, выставлял его работы (в 1914 году в галерее Жуайана прошла большая ретроспективная выставка) и разделял его любовь вкусно поесть (позднее он опубликует кулинарную книгу, в которую войдет совместная подборка рецептов). Галерею, расположенную на правом берегу Сены, Момо держал на паях с итальянским гравером Микеле Манци. Газета «Фигаро» расхваливала этих двух предпринимателей, «наделенных тонким вкусом», за их активное участие «в борьбе современных школ»[395]. Летом 1912 года, а затем в 1913 году они устроили две большие выставки импрессионистов, оба раза показав множество холстов Моне.
Моне обратился к Момо не случайно: двумя годами ранее, в феврале 1913-го, галерея Манци — Жуайана принимала экспозицию, заявленную как «большая выставка декоративных произведений, объединяющая всех художников, сумевших придать новое, оригинальное звучание современному искусству»[396]. Обозреватель «Фигаро» пел дифирамбы роскошной коллекции; здесь было все, от керамики и стекла «Дома Лалик» до текстильного дизайна мануфактуры Гобеленов и больших стенных росписей, выполненных на средства государства, — иными словами, целая сокровищница, представлявшая декор и меблировку «прекрасной эпохи». «Никогда прежде художники не достигали такого мастерства, — писал обозреватель, — в создании столь богатых и прекрасных произведений для нынешних и будущих коллекционеров. И никто с таким тщанием не поддерживал в домах столь оригинальное и гармоничное убранство»[397].
Среди живописцев, чьи работы участвовали в выставке, был Моне, а также Дега и Ренуар. Как и Гюстав Кан годом ранее, обозреватель «Фигаро» сожалел, что мастерам импрессионизма не дали возможности более заметно проявить себя в искусстве декора. Моне, в свою очередь, не мог не отметить успех на этой выставке Гастона де Ла Туша, старого друга Мане и Дега. Ла Туш создал стенные росписи в приближенной к импрессионизму манере в Елисейском дворце и здании Министерства сельского хозяйства; во время посещения выставки Раймон Пуанкаре с супругой «подолгу задерживались» перед этими грандиозными декоративными произведениями, заказанными государством[398].
Жуайан надеялся провести еще более масштабную выставку декоративного искусства в 1916 году, но этим планам помешала война. Зато Моне открылись новые перспективы, не зря он запросил у Момо «точные параметры галереи — длину и ширину. Когда я приеду в Париж, — интригующе писал художник, — я скажу, зачем это нужно»[399].
Обычно персональные выставки Моне проходили в галерее Поля Дюран-Рюэля; ее владельцу было уже восемьдесят четыре года, и с 1870-х годов он преданно поддерживал и популяризовал импрессионистов, порой терпя значительные убытки. «Заботясь о нас, он раз двадцать мог стать банкротом», — позже вспоминал Моне[400]. Дюран-Рюэль открыл свою галерею на рю Лаффитт — улице, благодаря обилию выставочных залов известной как улица картин. Так уж совпало, что совсем рядом стоял дом, где Моне родился («возможно, знак судьбы», как сказал Клемансо)[401]. У Дюран-Рюэля в 1891 году Моне выставил свои пшеничные скирды, в 1892-м — тополя, в 1895-м — виды Руанского собора, в 1904-м — изображения Темзы, а в 1909 году — пейзажи с прудом. К тому же именно на средства, полученные от Дюран-Рюэля, в 1883 году Моне перебрался в Живерни, а затем, в 1890-м, выкупил «Прессуар». В одном интервью, в конце 1913 года, Моне сказал: «Роль, которую этот великий коммерсант сыграл в истории импрессионизма, требует особого изучения»[402].
И все же Моне предполагал выставить свои новые живописные работы в другом месте. Конечно же, он не видел Grande Décoration в пространстве галереи Дюран-Рюэля, где выставлялись его холсты меньших размеров. К тому же там был неподходящий свет: так, Луи Воксель, посетивший специально обустроенную мастерскую Моне в 1905 году, заметил: «Свет здесь куда лучше, чем в темнице у Дюран-Рюэля»[403].
После набега на винный погреб, совершенного десять месяцев назад вместе с Клемансо, Моне значительно продвинулся вперед. Казалось, живописный цикл близится к завершению. Но планировать персональную выставку новых масштабных полотен в феврале 1915 года в любом случае было слишком смело, если не сказать бессмысленно, тем более когда речь шла о водяных лилиях, написанных (как объяснял всем художник), чтобы отвлечься от тревог войны в то время, когда другие французы, по его же словам, страдают и умирают. Так что был повод усомниться в том, что французская публика готова воспринять мимолетные поэтические образы на водной глади, рожденные в нормандской глуши.
Арт-дилер Поль Дюран-Рюэль в своей галерее
Хотя Моне не собирался выставлять Grande Décoration у Поля Дюран-Рюэля, этот самоотверженный коммерсант, на которого всегда можно было положиться, поддержал его иначе. После тревожных дней, пришедшихся на конец августа, Моне то и дело напоминал Дюран-Рюэлю и его сыну Жозефу о деньгах, которые полагались ему от продажи работ. Когда первое обращение не принесло результата, в ноябре он составил более настойчивое послание, в котором просил Жозефа выдать «хотя бы часть того, что вы уже задолжали мне некоторое время назад». Может случиться так, писал он, «что мне понадобятся живые деньги». Несомненно, Жозеф предполагал, что в какой-то момент «живые» деньги могут понадобиться и ему; тем не менее он быстро откликнулся — не прошло и недели, как Моне получил чек на пять тысяч франков. Художник, как положено, поблагодарил, но в постскриптуме многозначительно добавил: «Я принял к сведению ваше обещание выслать мне оставшиеся суммы, как только представится возможность». Такая возможность представилась следующей весной, в начале апреля: Дюран-Рюэль с готовностью выплатил тридцать тысяч[404]. Это была солидная сумма, примерно соответствовавшая годовому доходу или тратам сенатора. Дюран-Рюэль с трудом мог позволить себе такой широкий жест, когда из-за войны художественный рынок пришел в упадок. Но к весне 1915 года Моне уже точно знал, на что потратить эти деньги.
Глава седьмая Большая мастерская
Утром 17 июня 1915 года, во вторник, к станции Мант-ла-Жоли подкатили два автомобиля — встретить немногочисленных пассажиров с поезда, прибывшего в восемь тринадцать из Парижа. Петляя по сельским дорогам, машины направились к дому Моне — фактически он принимал у себя выездную сессию Гонкуровской академии. «Полагаюсь на Вас, — написал он Гюставу Жеффруа тремя днями ранее, — напомните Декаву, Рони — в общем, всем»[405].
Отправиться в путь смогли не все, но по крайней мере пять членов «десятки» сели в автомобили, чтобы проехать еще двадцать четыре километра до Живерни. Помимо Жеффруа и Мирбо, в этой группе были Люсьен Декав, Леон Энник и Жозеф-Анри Рони-старший. Приехала также супруга Мирбо, Алиса, бывшая актриса, а теперь состоявшаяся писательница. Именно этому избранному обществу — литераторам и близким друзьям — Моне собирался показать ранние версии Grande Décoration.
Публика была подходящая. «Десятка» представляла собой группу бунтарей, которые потрясли французскую литературу точно так же, как в прежние годы импрессионисты бросили вызов консервативным художественным вкусам и институтам. Они явились как альтернатива Французской академии, сорок членов которой (так называемые «бессмертные») издавна стояли на страже французского литературного консерватизма в том же смысле, в каком Академия изящных искусств — жупел для импрессионистов — всегда оставалась оплотом традиционного вкуса в изобразительном искусстве. Если «бессмертные» хранили традиции, то «десятка» (следуя указаниям, оставленным в завещании Эдмона де Гонкура) стремилась поощрять все свежее, оригинальное, «новые и смелые направления развития мысли и формы»[406]. Примеры подобной новизны давали произведения Рони, бельгийца по происхождению, однажды признавшегося Эдмону де Гонкуру, что пишет он «отчасти в пику тенденциям современной литературы»[407]. И это было еще мягко сказано в свете тематики его романов об иноземных существах, мутантах, вампирах, параллельных мирах, о жизни людей через пятьсот лет или, как в романе 1909 года «Борьба за огонь», за тысячи лет до новой эры. «Я прочел все его книги, — позже скажет Моне, — они интересны и содержательны»[408].
В тот жаркий июньский день литераторов ждали изысканные удовольствия за столом у Моне, а затем — в его саду; потом их проводили в мастерскую, куда все гости поднялись по лестнице, ведущей из гаража, где, помимо автомобилей, было отведено место под вольер, в котором кричали попугаи, а черепахи «ползали по листьям латука»[409]. Декав потом вспоминал: «Нас ожидал сюрприз». На стенах просторной мастерской с высоким потолком, служившей также демонстрационным залом, висели холсты, отражавшие весь долгий творческий путь Моне. Новые холсты — впечатления от пруда с лилиями, — вполне естественно, привлекли внимание посетителей в первую очередь, в особенности своими размерами. «Он запечатлел увиденное, — рассказывал Декав, — на огромных полотнах примерно двухметровой высоты и шириной от трех до пяти метров»[410]. Таким образом, эти работы (если Декава не подвела память) как минимум в два раза превосходили по размеру пейзажи с водяными лилиями, выставленные в 1909 году. Зрители были поражены, особенно когда узнали, что планируются новые картины. Мирбо поинтересовался, сколько времени художник думает посвятить этому поразительному циклу. Еще пять лет, — объявил Моне. Но Мирбо, видевший, с какой самоотдачей и энергией трудится мэтр, возразил: «Вы преувеличиваете. Скажем — еще года два»[411].
После таких подсчетов у друзей Моне, видимо, не осталось сомнений относительно широты замысла. Они знали, что за два-три года художник способен расписать множество полотен. Ведь он умел работать как заведенный — картины появлялись одна за другой с поразительной скоростью. После двух месяцев, проведенных в Венеции в 1908 году, у него были готовы тридцать пять вещей, то есть каждые два дня был готов новый холст, и размеры большинства из них составляли семьдесят на девяносто сантиметров. Результатом трех поездок в Лондон, совершенных в 1899–1901 годах и занявших в общей сложности полгода, стали девяносто пять произведений, то есть так же — примерно один холст в два дня (хотя существует спорное мнение, будто некоторые из лондонских пейзажей были завершены в Живерни, как и часть венецианских работ). Судя по предположению Мирбо, он ожидал, что Grande Décoration составят не меньше сотни больших холстов.
Гости Моне наверняка задумывались о намерениях автора, о предназначении цикла этих громадных полотен, а также — разумеется — о целесообразности его создания в военное время. Как именно были расставлены панно, документальных свидетельств нет, но они могли разместиться в мастерской овалом или по кругу, чтобы можно было приближенно представить эффект от законченного произведения. Несомненно, Моне пролил свет на свою давнюю мечту, высказанную еще в 1897 году, когда он хотел расписать овальный интерьер. Интересно, что украшенная деревянными панно Гонкуровская гостиная в ресторане «Друан» была овальной. Обедая там, Моне, должно быть, не раз ловил себя на мысли, что именно такое место он ищет: изысканный зал, где собирается (как сказал однажды о «десятке» Раймон Пуанкаре) «узкий круг людей, всецело посвятивших себя культу прекрасного»[412]. Впрочем, по мере того, как холсты Моне увеличивались в размерах, он и сам начинал мыслить более масштабно, да и посетители его мастерской могли представить в интерьере уютной Гонкуровской гостиной лишь фрагмент этих стремительно растущих декораций.
И правда, что за пространство вместило бы в себя Grande Décoration? Кое-кто из гостей мог усмотреть в этом замысле скрытое сумасбродство: война, а тут такая грандиозная задача, да и автору вот-вот перевалит за семьдесят пять.
Моне в своей первой мастерской, переделанной в гостиную, ок. 1914 г. Слева — скульптурный портрет Моне работы Родена
В тот июньский день Моне поделился с друзьями еще одним планом. Люсьен Декав потом рассказывал, что Моне «специально под новый цикл строит мастерскую»[413]. Нехватка пространства, конечно же, изумила посетителей. Практически каждый сантиметр стен мастерской закрывали холсты, и ничуть не меньше их стояло рядами на полу. Здесь уже размещались два полотна из так называемых grandes machines середины 1860-х годов — «Завтрак на траве» и «Женщины в саду», оба высотой почти два с половиной метра и больше двух метров в ширину. Теперь к этим внушительным по площади произведениям добавились новые, еще более крупные.
Поэтому была нужна и более просторная студия. 5 июля, незадолго до приезда друзей, Моне получил разрешение на строительство. И вскоре начались работы по возведению его третьей студии в Живерни, которыми руководил Морис Ланктюи, директор строительной компании и владелец каменоломни из Вернона. Новое здание должно было появиться у северо-западной границы имения, под строго определенным углом к дому, на участке, который Моне незадолго до этого приобрел у соседа. Ланктюи снес стоявший там ветхий сарай и приступил к строительству большого сооружения, которое в итоге обойдется Моне в 50 тысяч франков[414].
В июле 1915 года, как раз когда закладывался фундамент будущей мастерской, один французский геолог с тревогой заговорил о нехватке материалов, необходимых для восстановления в стране разрушенных войной крепостей, а также автомобильных и железных дорог[415]. Тем не менее у Ланктюи почти, если не сказать — вовсе не было трудностей со строительным материалом, поскольку известняк, из которого предстояло сложить стены, поставлялся непосредственно из его близлежащего карьера. Работы продолжались все лето; готовый павильон занимал двадцать три метра в длину и почти двенадцать в ширину. Покатая застекленная крыша поднялась на пятнадцать метров — и оказалась даже выше дома Моне.
Но пока здание росло и обретало очертания в течение лета, художника начинали смущать расходы, а также — еще больше — размеры и откровенно промышленный вид строения. В августе он признался в письме к Жан-Пьеру Ошеде, водившему теперь на фронте карету «скорой помощи», что затевать подобное «колоссальное» строительство было неблагоразумно. «Да, это была глупость, чистая глупость, которая к тому же так дорого обходится. Ланктюи построил какое-то уродство. Стыдно смотреть — а ведь я первый бранил тех, кто уродовал Живерни»[416]. Двадцатью годами ранее он активно выступал против планов муниципалитета продать участок земли химической компании, намеревавшейся построить фабрику по производству крахмала. Борясь с осквернением окружающих видов, он яростно выступал даже против появления в Живерни телеграфных столбов[417]. А теперь строил в сердце деревни мастерскую с самолетный ангар — и, увы, напоминавшую его своим видом.
Было и еще одно обескураживающее обстоятельство, связанное с новой мастерской. Ведь, как ни парадоксально, художник, получивший известность, выходя с мольбертом на пленэр, собирался обзавестись самым большим ателье в истории искусства. Когда-то Моне умудрился сам создать миф, будто мастерской он не пользуется, и стал, по словам Жеффруа, добросовестно поддерживавшего хождение легенды, «первым живописцем, который начинал и завершал работу над картиной, стоя непосредственно перед выбранным объектом и не желая воссоздавать или переписывать холсты по эскизам в помещении»[418]. Когда в 1880 году журналист попросил его показать свою мастерскую в Ветёе, Моне изобразил непонимание. «Какую мастерскую? У меня никогда не было мастерской. <…> Вот моя мастерская!» — ответил он, широким жестом показав на пейзаж за окном[419]. На самом деле в то время у Моне была мастерская в Ветёе и еще одна в Париже, на рю де Вентимиль, за аренду которой платил его друг Гюстав Кайботт.
По прошествии восемнадцати лет другой газетчик утверждал, что у Моне в Живерни нет мастерской, поскольку «пейзажист должен работать только под открытым небом». В конце следовал многозначительный вывод: «Его мастерская — природа»[420]. Но эти заявления были слишком далеки от истины. Ведь прозвучали они, когда только-только успела высохнуть краска в просторной двухуровневой мастерской Моне на месте бывшего амбара, в котором художник трудился изначально: строилась она при участии приверженца стиля ар-нуво архитектора Луи Боннье.
Без выходов на пленэр новый цикл Моне был немыслим — даже притом что за холсты такого размера он никогда прежде не брался. Получив разрешение на новую мастерскую, через три дня, 8 июля, он уже был запечатлен на фотографии возле пруда с лилиями, где увлеченно расписывал холст полутораметровой ширины и высоты. Это была одна из работ, которые Жан-Пьер Ошеде позднее будет называть grandes études de nymphéas — большими этюдами с водяными лилиями[421]. По его словам, эти grandes études — которые в большинстве своем достигали метра восьмидесяти в ширину и все создавались на природе, у пруда, — нужны были Моне в качестве образца для еще более масштабных полотен, над которыми художник работал в мастерской только из-за их ограниченной мобильности.
На фотографии, сделанной в тот июльский день, Моне сидит на высоком деревянном стуле, под огромным зонтом, в широкополой соломенной шляпе. Верная помощница Бланш стоит рядом, на ней также соломенная шляпа и белое платье. Холст, мольберт и краски наверняка появились здесь благодаря ей. Бланш не только воевала с мольбертами, но также помогала готовить холсты. Позже Клемансо рассказывал: «Она хлопотала вокруг его холстов. Грунтовала их»[422]. Бланш решительно отрицала, что когда-либо прикасалась кистью к работам Моне: «Это было бы кощунством»[423]. Однако логично было бы предположить, что Бланш помогала ему наносить гессо (грунт на основе мела) на обширные поверхности ткани, которые затем слегка шлифовались, прежде чем накладывался еще один слой, — это была монотонная работа, не требовавшая высокой квалификации, и семидесятилетнему мастеру не стоило бы, да и не было нужды, отдавать ей свои ограниченные физические силы. В то же время Моне ценил Бланш отнюдь не за одно лишь умение обращаться с увесистыми холстами. Он нуждался в ее участии и дружеской поддержке так же, как прежде зависел от ее матери. В первый год войны она находилась рядом, вечерами сидела с ним в библиотеке, или они играли в нарды. Она сопровождала его в поездках, вела финансы и даже разделяла некоторые его оригинальные гастрономические предпочтения, вроде перченого растительного масла, которое никто больше не решался пробовать[424]. Клемансо видел в ней ангела-хранителя художника и всегда называл ее Голубой Ангел или еще Повелительница Ангелов, Небесный Ангел и Ангел-с-лазурными-крыльями.
Моне за работой в июле 1915 г.; рядом — Бланш
На переднем плане снимка, сделанного в тот июльский день, — шестилетняя Нитья Салеру, правнучка Моне; ее присутствие напоминает, что, несмотря на постоянные сетования Моне на одиночество, его дом по-прежнему объединял большую семью. На холсте — голубое небо с розовато-лиловыми тенями в зеркале водной глади, подернутой зелеными штрихами отражений плакучих ив и усыпанной лилиями, раскрывшимися на листах с синими контурами. Цветы — яркие красные и желтые вспышки или, поодаль, чуть выше, — скопление мягких бледно-голубых теней.
Это красивейшее полотно. И на снимке, и на холсте — атмосфера дивной летней идиллии, звенящий день начинает наполняться лиловыми тенями теплого, безмятежного вечера. Но все это — лишь видимость. На самом деле день выдался необычно прохладным для этого времени года, термометр на Эйфелевой башне зафиксировал всего 19,8 градуса по Цельсию, было облачно и периодически накрапывал дождь[425]. За два дня до этого на Париж обрушилась гроза: от молнии начался пожар в одной из больниц, а сильный ветер сносил трубы и валил деревья. В парке Тюильри дерево упало на статую бывшего премьер-министра Пьера Вальдека-Руссо и — как зловещее предзнаменование — повредило аллегорическую фигуру Франции[426]. Так что для Моне это был едва ли не самый неблагоприятный момент, а громадный зонт чаще защищал его (и холст) от дождя, чем от солнца.
Настоящего лета не было в 1915 году по всей Западной Европе, и, как бы ни объясняли это метеорологи, пошли разговоры, будто виной постоянным ливням — стрельба на Западном фронте[427]. «Я не переставал работать, несмотря на плохую погоду, которая изрядно мне мешала», — писал Моне в середине августа братьям Бернхайм-Жён («молодым Бернхаймам»), Гастону и Жоссу. В их галерее выставлялись произведения не только Моне, но также и его зятя Теодора Эрла Батлера. В мрачные для художника годы после смерти Алисы галеристы не раз устраивали в его честь обеды в тесном кругу в Париже, нашли ему специалиста по заболеваниям глаз, а летом 1913 года принимали его на вилле в неоготическом стиле в местечке Вилле-сюр-Мер, недалеко от Довиля[428]. Летом 1915 года Моне снова был приглашен в Буа-Люретт, но решил не ехать. Предпочел использовать каждый проблеск лета, стоя за мольбертом, чем наслаждаться свежим бризом на роскошной вилле у нормандского побережья.
Моне и Саша Гитри: кадр из фильма «Соотечественники»
Упорство, с которым трудился Моне, вновь запечатлел тем летом Саша Гитри — на этот раз с помощью ручной кинокамеры. Манифест, подписанный видными учеными Германии и опубликованный в минувшем октябре в «Берлинер тагеблатт», побудил Гитри откликнуться на языке кино при поддержке ряда французских творческих знаменитостей, поставивших свое имя под изданием «Немцы — разрушители соборов». Гитри отправился в поездку по Франции вместе с Шарлоттой Лизес и прихватил кинокамеру с намерением встретиться с живыми легендами великой французской культуры и запечатлеть их в фильме, который получит название «Соотечественники» (Ceux de chez nous). Реакция тех, к кому он обращался, была разной. Так, Роден, не впечатленный ни камерой Гитри, ни самой идеей кино, заявил: «Называйте это как угодно, все равно это просто фотографии»[429]. Тем не менее Роден пошел навстречу Гитри, и новомодная техника запечатлела, как бородатый скульптор обтесывает статую; он в черном берете, статный и сильный — его высокий лоб и фактурные скулы тоже словно вышли из-под резца.
Внешность страдавшего артритом Ренуара не столь внушительна — в середине июня Гитри снял его в Кань-сюр-Мер; художник встретил гостя в инвалидном кресле, он «сгибался пополам от боли», но вопреки всему не поддавался «меланхолии и унынию»[430]. Печальное совпадение: в день приезда Гитри с кинокамерой проходили похороны жены Ренуара, скончавшейся несколькими днями ранее. «Вам, должно быть, очень больно, месье Ренуар», — смущаясь, с сочувствием произнес Гитри. «Больно? — воскликнул прикованный к креслу Ренуар. — Моя нога — вот это действительно больно!»[431] В фильме Ренуар выглядит изможденным; у него неухоженная редкая бородка, на голове — большая кепка с соединенными вверху «ушами». Ему помогает младший сын, четырнадцатилетний Клод (которого часто называли Коко); художник курит сигарету, выдыхая большие облака дыма — так в его образе переданы отвага и решимость, — и подправляет что-то на холсте кистью, которую держит в забинтованной узловатой руке.
Труднее пришлось Гитри с нелюдимым и влачившим безрадостное существование Дега, который отказывался сниматься. Автор фильма был вынужден прятаться возле квартиры художника на бульваре Клиши, и ему все-таки удалось отснять десять секунд: Дега, с всклокоченной седой бородой, в котелке, не глядя по сторонам, идет по тротуару с племянницей Жанной Левр и несет сложенный зонт.
Добравшись с Шарлоттой до Живерни, Гитри не сомневался, что там их радушно встретят. В первых кадрах Моне, в соломенной шляпе, приветливо общается с Гитри, щеголяющим в канотье на гравийной аллее у дома. На заднем плане Нитья Салеру резвится с двумя миниатюрными собаками. Вероятно, она и была их хозяйкой. Моне любил птиц и зверей и часто оставлял открытыми окна столовой, чтобы хлебными крошками со стола полакомились воробьи. Японские куры, подарок Клемансо, свободно разгуливали по саду и даже наведывались в мастерскую, где мэтр подкармливал их с руки. Но он не держал собак и кошек, опасаясь, что те поломают его цветы. В сад не пускали даже принадлежавшего Жан-Пьеру ирландского водяного спаниеля Ласси, получившего в 1913 году приз на выставке собак в Кане[432].
В фильме показана колышущаяся на ветру поверхность пруда с лилиями, камера медленно движется влево, захватывает ирисы, островки водяных лилий, японский мост — все кажется безупречно ухоженным, хоть Моне и сетовал, что все его садовники сидят в окопах. И вот поодаль, на краю пруда, появляется сам мэтр — он трудится под сенью своего гигантского зонта. Холст — очередной grande étude — практически нависает над ним.
Снова смена кадра, на этот раз — крупный план: гениальный Моне непринужденно стоит перед холстом, во рту полусгоревшая сигарета, с которой вот-вот упадет пепел, а затем, семьдесят семь секунд, — мастер за работой. Он смотрит не вперед, где мост, — поскольку холст слишком широкий, — а скорее под прямым углом вправо, на ивы, ветви которых свисают над водой. Он держит кисть за кончик древка и наносит на холст отдельные мазки, то и дело бросая в сторону испытующие взгляды. Когда ветви начинают раскачиваться на ветру, он выбирает другую кисть из небольшого букета, который сжимает в руке. Он протирает ее тряпицей, смешивает краски на широкой палитре — в форме листа лилии, — и когда снова наносит мазок, холст слегка колышется от ветра и от прикосновения кисти. Движения Моне — энергичные и уверенные, он периодически ненадолго поворачивается к кинооператору (при этом на его брови и глаза падает тень от шляпы) и что-то говорит.
После этого камера снимает протяженный кадр с противоположного берега. Моне отступает от мольберта и, перед тем как уйти, вытирает руки большим носовым платком. Даже с учетом того, что движения, запечатленные ручной кинокамерой Гитри, на пленке ускорены, заметно, что походка у него бодрая, почти танцующая.
Несмотря на многие «неурядицы и хлопоты», новая мастерская Моне была завершена менее чем за четыре месяца[433]. В конце октября он рапортовал в письме братьям Бернхайм-Жён, что наконец обосновался в своей «чудесной студии»[434]. От сдержанности, с которой он ранее отзывался о постройке, не осталось и следа — отчасти потому, что новое большое пространство, пусть даже непривлекательное снаружи, позволяло ему оценивать плоды своего труда. «Я наконец смогу судить о том, что сделано», — сказал он Жеффруа в середине октября, уже предвкушая, как разместит свои широкие полотна в помещении, где будет создана иллюзия грота, — именно в таком антураже он в конечном счете видел свои работы[435]. Холсты были выставлены на больших мольбертах с роликовыми колесами, так что их можно было перемещать по деревянному полу. Полотен, разумеется, становилось все больше. Всю осень 1915 года Моне работал не покладая рук, несмотря на болезнь, приковавшую его на некоторое время к постели. «Видимо, немного перетрудился, — пояснил он Жеффруа, — ничего серьезного, хоть это и некстати, если привык, как я, жить вне четырех стен»[436].
Как только в начале ноября мастерская была окончательно готова, Моне совершил давно откладывавшуюся поездку в Париж, чтобы навестить друзей, в том числе Мирбо, снявшего на зиму квартиру в центре, а также Гастона и Жосса Бернхаймов, с которыми отобедал. Второй военной зимой Париж оказался не так щедр на гастрономические наслаждения. Морепродукты, которые Моне особенно любил, стали редкостью и дорого стоили: многие рыбаки ушли на фронт; сказывались также плохая погода и угроза, исходившая от немецких подводных лодок в прибрежных водах. В день приезда Моне «волна негодования» охватила Ле-Аль, парижский центральный продовольственный рынок, когда несколько сот возмущенных покупателей, у которых лопнуло терпение, стали опрокидывать ящики с суточным уловом. Беспорядки поспешно пресекли, но правительство решило принять меры по обеспечению города дичью и мороженым мясом, а заодно пополнить запасы угля перед наступлением зимы[437].
Всюду по-прежнему были заметны признаки войны. На ипподроме в Лоншане устроили пастбище для коров, а во дворе Дома инвалидов выставили захваченные немецкие пушки и аэропланы. Встречались и повреждения от бомб: в марте несколько цеппелинов спустились вдоль долины Уазы, а затем, повернув к западным окраинам Парижа, сбросили бомбы на «Край импрессионистов». Пока паровоз, пыхтя, продвигался к вокзалу Сен-Лазар, Моне мог увидеть слева дом на рю Амели в Аньере, разрушенный цеппелином, а еще через несколько минут, повернувшись вправо, — пробитую крышу здания на рю Дюлонг в Батиньоле, пострадавшую в тот же вечер. Места эти обладали скорее художественной, нежели стратегической значимостью: французская пресса с горькой иронией сообщала, что германцы атаковали «аньерские и батиньольские укрепления»[438]. Немцы могли даже планировать нападение на «крепость Живерни»: в мае 1915 года, через два месяца после налетов на цеппелинах, воздушная война напомнила о себе в деревне Моне в виде зловещей «огромной сферы» со следами крови, которая упала без гондолы и аэронавтов; в ее трехсотметровых тросах запуталась вырванная с корнем молодая вишня. Видимо, это был германский разведывательный шар, сбитый летчиками «противоаэростатных сил»; из него выкачали воздух и отправили на экспертизу в Вернон[439].
Двухдневное пребывание Моне в Париже совпало с избранием Жоржа Клемансо председателем Комитета сената по иностранным делам — это была довольно влиятельная должность. Звучавшая из уст Клемансо решительная критика войны — скудного боевого снабжения, нехватки медицинской помощи, неэффективных стратегических решений генералов — продолжилась с неослабевающим напором. Противники обвиняли его в «ненавистническом и вредном политиканстве»,[440] в августе выпуск его газеты в очередной раз был приостановлен. Впрочем, это только закрепило за ним репутацию поборника всех poilus, то есть «косматых», как принято было называть французских солдат, которых все представляли небритыми и нечесаными. В конце сентября Клемансо побывал на передовой в окопах и лично увидел, в каких условиях живут солдаты. В своем рапорте он попытался смягчить «вечное недовольство» действиями военных — этот документ и правда кажется на удивление позитивным. Вскоре Клемансо оказался «в гуще событий» во время «мощного и успешного наступления» французских частей. Он утверждал, что сумел пообщаться со всеми поголовно и вынес из этой поездки «не просто яркие впечатления». Его выводы, должно быть, сбили с толку тех, кто видел в нем мрачного злопыхателя: «Мне радостно признать, что все увиденное наполнило меня чувством уверенности»[441].
Спустя несколько недель под шквалом донесений о дефиците боеприпасов и неудачах на фронте подал в отставку с поста премьер-министра Рене Вивиани, а пятидесятитрехлетний социалист Аристид Бриан сформировал коалицию национального единства. Он объединил политиков всех мастей, от радикал-социалиста Луи Мальви до представителя правого католического крыла — барона Дени Кошена, коллекционера современного искусства, владевшего картинами Моне, Мане, Ван Гога, Сезанна и Поля Синьяка. Бриан пригласил Клемансо вступить в этот разношерстный союз, но тот ответил, что не присоединится ни к одному кабинету, если не будет его возглавлять[442]. Политические баталии и многочасовые будни сказались на его здоровье: к 1915 году у него обнаружился диабет.
Второй раз Моне отправился в Париж в ноябре, на этот раз вместе с Бланш. «Постарайтесь заранее выяснить, — писал он братьям Бернхайм-Жён пятнадцатого числа, — состоится ли в следующее воскресенье премьера нашумевшего фильма»[443].
Первый показ фильма Саша Гитри «Соотечественники» должен был пройти в театре-варьете. В 1860-е годы, когда молодой Моне жил в Париже, сюда ходили на пользовавшиеся необычайным успехом оперетты Жака Оффенбаха — «Прекрасная Елена» или «Герцогиня Герольштейнская». Правда, самому Моне едва ли когда-либо доводилось усаживаться в эти плюшевые кресла. В отличие от Ренуара и Дега — создававших превосходные сценки с танцовщицами, оркестрантами и театральными ложами, — он совсем не стремился все это изображать, как и участвовать в ночной жизни с ее операми и балетами или новомодным развлечением — кино. «Кино его практически не интересовало, — вспоминал Жан-Пьер. — „Соотечественники“, пожалуй, единственный фильм, который он вообще посмотрел»[444]. Это внешнее отсутствие интереса к новым технологиям — фотографии и кино — удивительно и даже парадоксально для человека, одержимого при этом идеей мгновенности визуального впечатления.
Сеанс начался в четыре часа пятнадцать минут пополудни и продлился двадцать две минуты; перед зрителями предстали подвижные мерцающие черно-белые кадры с запечатленными живыми легендами национальной культуры. Среди знаменитостей, покорно изображавших самих себя, были Сара Бернар, которая воодушевленно читает стихи, сидя на скамье рядом с Гитри, и Камиль Сен-Санс, сначала играющий на рояле, а затем размахивающий палочкой перед воображаемым оркестром. Стеснительный Мирбо, давший интервью у себя в саду, выглядит (если цитировать «Фигаро») «так, словно попал в камеру пыток», а Анатоль Франс появляется за столом в кабинете и что-то выводит на листе бумаги, «изо всех сил стараясь не улыбаться»[445]. Еще Гитри уговорил позировать перед камерой театрального режиссера Андре Антуана и драматурга Эдмона Ростана, чей «Сирано де Бержерак» шел в это время в другом театре, составив конкуренцию фильму.
«Имя Саша Гитри на афише, — писала газета „Голуа“, — залог оригинальности, ведь этот молодой человек не выбирает проторенных троп»[446]. Можно смело предположить, что зрители фильма ничего подобного прежде не видели. «Такой кинематограф столь увлекателен для публики, — продолжала „Голуа“, — благодаря комментариям месье Гитри». Гитри и Шарлотта, спрятавшись в кулисах, во время показа комментировали происходящее на экране. «Его образ жизни предельно прост, — с выражением рассказывал Гитри, когда в кадре появлялся Моне. — Он наблюдает, ест, гуляет, пьет и слушает. В оставшееся время работает». Публика была потрясена до глубины души, когда в эпизоде, посвященном Ренуару, Гитри озвучил малоправдоподобную историю о том, как в юности Моне и Ренуар целый год продержались на одном картофеле.
Осваивая то, что «Фигаро» назвала «новым замечательным применением кинематографа»,[447] Гитри проявил себя как настоящий новатор. Во время показа фильма он синхронно произносил реплики своих экранных героев, закладывая таким образом основы будущего звукового кино. Газета «Пти паризьен» сообщала: «Гитри и мадам Лизес, стоя в кулисах, повторяют слова персонажей и дарят свои голоса тем, кого мы видим на экране»[448]. Так зрители театра-варьете стали свидетелями «разговора» Моне и Гитри, когда художник рассказывает ему об американке, попросившей подарить ей кисть. «Странные вещи приходят в голову людям, вы не находите?» — спрашивает Моне. «Вовсе нет», — отвечает Гитри, добавляя: «В подтверждение я сам попросил еще одну». Гитри стал рассматривать пук использованных кистей, но Моне велел: «Возьмите поновее, вдруг пригодится».
Фильм был «с восторгом принят» как зрителями, так и критикой[449]. «Сердце внезапно переполняется эмоциями, — писал Режис Жиньу, критик „Фигаро“. Его особенно тронули кадры с Моне и Ренуаром. — Мы видим мэтров за мольбертами: работать на пленэре для Моне так же естественно, как дышать, есть, пить, — он все делает с чувством». Жиньу сомневался, что камера способна передать «тайны их гения», но его воодушевляло, что зритель мог «взглянуть на холст глазами художника, так же ощущая свет, пространство, форму — и радость творчества!»[450].
Показы шли до конца декабря и продолжились в начале 1916 года на утренних и вечерних сеансах. В декабре в театре Пале-Рояль состоялась премьера его новой пьесы «Это нужно иметь» (Il Faut l’Avoir), и Гитри целую неделю метался между двумя площадками, пока в Пале-Рояль не переехал и фильм, — после этого автор смог немного перевести дух. Он по праву гордился своим произведением и в 1939 году сделал еще одну версию этого фильма, а затем, в 1952-м, третью, впрочем тогда он не предполагал, что продолжит заниматься кино. На будущее кинематографа и его выразительные возможности Гитри смотрел скептически. «Полагаю, — заявил он, — что кино уже начинает себя изживать»[451].
Пока зрители весь декабрь стекались на сеансы «Соотечественников», более скромная по численности публика тянулась на бульвар Бертье, по малоизвестному адресу на северо-западной оконечности города. В «Фигаро» сообщалось, что местные жители сгорают от любопытства: почему сюда без конца наведываются военачальники и штабные офицеры, «чье появление в этих тихих местах кажется более чем необычным». Поползли слухи, что в «неприметном здании неизвестного назначения», в которое они все заходили, стараясь не привлекать внимания, заседает военный совет. Но потом газета все разъяснила читателям. Здесь, на бульваре Бертье, создавался еще один памятник во славу Франции и ее воинов. «Генералы и офицеры всех родов войск приезжают сюда, — сообщало издание, — к живописцам Каррье-Беллезу и Горже»[452]. В мастерской Каррье-Беллеза художники принимали наиболее видных военных Франции: их лица должны были появиться в гигантской панораме «Пантеон войны».
Бо́льшую часть работ по осуществлению этого грандиозного замысла живописцы выполнили вдвоем в предыдущем году. В июне мастерскую посетил корреспондент «Фигаро», сообщивший, что видел полностью готовый эскиз панорамы. «Несмотря на ограниченные размеры, — писал он, — эскиз оставляет хорошее первое впечатление от будущего творения, которое составит 115 метров в окружности и 15 в высоту». Каррье-Беллез предполагал, что художникам придется расписать около двух тысяч квадратных метров полотна. Планировалось выполнить тысячи портретов и показать героические фигуры, объединенные в «блистательных композициях, на фоне которых, вдоль горизонта, разворачивается весь театр военных действий и можно различить очертания Ипра, Арраса, Суассона, Реймса, Нанси, Меца и Страсбурга». И хотя живописцам в их деле помогала большая артель, Каррье-Беллез считал, что работа займет еще год[453].
Создание гигантской панорамы «Пантеон войны»
В числе посетителей мастерской Каррье-Беллеза был в то время французский генерал Луи де Модюи — один из тех, кто отличился, добывая победу в битве на Марне. Пока генерал позировал, в мастерскую пришел солдат, молодой лейтенант с повязкой на голове и рукой на перевязи. Модюи стал сочувственно выяснять, серьезно ли он ранен. «О, пустяки, месье, — ответил лейтенант. — Потерял глаз, и пулей пробило руку». При этом он уверял, что ничего страшного в этом нет и через пару дней его снова пошлют на фронт. После этого короткого диалога генерал Модюи обнял лейтенанта, его лицо было мокрым от слез. «Мне столько раз приходилось обнимать детей, которых я никогда не увижу вновь», — сказал он Каррье-Беллезу[454].
Между тем Клод Моне надеялся, что своего солдата он еще непременно обнимет. В конце ноября он поехал в Версаль проводить своего сына Мишеля, который, пройдя подготовку, отправлялся на фронт. Увы, из-за недоразумения поездка оказалась напрасной: Мишель выступил в поход на день раньше. Моне пришлось вернуться в Живерни «обескураженным и опечаленным. В моем возрасте, — признавался он Жеффруа, — это нелегко». Двумя неделями раньше ему исполнилось семьдесят пять. Под конец года он написал: «Хватит с меня этой ужасной войны»[455].
Глава восьмая Под огнем
В первые дни нового года в настроениях французов стал проявляться робкий оптимизм. 1 января, когда все празднуют Jour de l’An,[456] бывший премьер-министр Луи Барту написал: «1916-й станет годом нашего освобождения и победы»[457]. Это было смелое предсказание. К тому моменту половина французских офицеров погибла или была ранена; германский генерал Эрих фон Фалькенхайн, командовавший Генштабом, доложил кайзеру Вильгельму: «Франция ослаблена почти до предела»[458]. В новом году Фалькенхайн собирался перейти в массированное наступление и вынудить французов защищаться, чтобы в результате — как сам он жестко и цинично выразился — они «истекли кровью»[459]. С такими планами в начале января германские солдаты начали рыть орудийные окопы и туннели, а также по десяти специально проложенным железнодорожным колеям подтягивать к линии фронта сотни тяжелых пушек, причем столь мощные орудия предполагалось использовать в сухопутных сражениях впервые.
Пока на позиции выводили тяжелую артиллерию, небо наполняли цеппелины. Вечером 29 января прохожие на парижских бульварах, вышедшие на улицу в этот по-весеннему теплый день, с удивлением наблюдали за специальными командами, лихорадочно гасившими газовые фонари и отключавшими электрическое освещение. Пожарные мчались по улицам, подавая сигнал тревоги. В последние двенадцать месяцев Лондон и английский берег не раз подвергались бомбежкам с цеппелинов, но парижская пресса успокаивала читателей: «Будьте уверены, парижане: гул моторов приближающихся цеппелинов вы не услышите»[460]. Из четырех аэростатов, пробиравшихся сквозь облака к Парижу в марте 1915 года, два повернули назад, не достигнув цели, а оставшиеся стали хаотично бомбить загородные дома в «Крае импрессионистов». «Парижане сохраняли присущее им спокойствие», — с гордостью рапортовала одна из газет[461]. После десяти месяцев затишья в вышине вновь раздался гул цеппелина. Вместо того чтобы прятаться по тревоге, люди на бульварах смотрели в небо, рассеченное лучами прожекторов, и скандировали: «Смерть гуннам!»[462] Вскоре отчетливо стал слышен грохот взрывов. Всего из этой стопятидесятиметровой устрашающей летучей сигары было сброшено восемнадцать бомб, двадцать шесть человек погибли, еще тридцать два были ранены.
Использованные снарядные гильзы под Верденом и погибшие деревья на заднем плане
Через три недели молодой немецкий солдат у стен французского города-крепости Верден, в двухстах двадцати пяти километрах восточнее Парижа, писал матери письмо: «Здесь будет битва, какой мир еще не видел»[463]. Его предчувствие трагическим образом сбылось. 21 февраля, по легенде, меч в вытянутой руке аллегорической фигуры Республики в скульптурной группе «Марсельеза» на Триумфальной арке отломился: дурное предзнаменование — если, конечно, оно имело место. В тот день, в семь часов утра, земля вдоль Восточного фронта задрожала. В течение последующих нескольких часов на французские позиции под Верденом градом сыпались сотни тысяч немецких снарядов. Когда от бункеров и траншей практически ничего не осталось под этим непрекращающимся шквалом огня, Пятая германская армия двинулась в наступление по изрытой взрывами территории, орудуя огнеметами. Немецкий летчик, увидевший опустошение, творившееся внизу, доложил командиру: «Все, можно проходить, там живого места не осталось»[464].
Как известно, дальше германские войска не прошли: девиз «Они не пройдут», впервые произнесенный генералом Нивелем, стал боевым кличем французов. Но остановить наступление удалось лишь ценой множества человеческих жизней. «Мы понесли огромные потери», — сообщила газета «Пти паризьен»[465]. Такое заявление должно было потрясти и отрезвить многих простых читателей, заставить их задуматься, ведь вышло оно в «провоенном» издании, которое последние полтора года с неизменным оптимизмом поддерживало победный настрой, преуспев в пресловутом «промывании мозгов». Так, «Пти паризьен» однажды написала, что у французских солдат «пулеметы вызывают смех» и в бой они идут, «как на праздник. С радостью! С хохотом! С шутками!»[466]. Но теперь было не до смеха и не до шуток. Если бы Верден пал, сдался бы Париж, а за ним и вся Франция. Американка, оказавшаяся во время тех событий в Париже, вспоминала, что первые дни битвы под Верденом стали «самыми черными в ходе всей войны»[467].
Верден в руинах, 1916 г.
Через неделю после начала Верденской битвы Моне из окна своей спальни смотрел на заснеженный сад. Зрелище привело его в уныние. Когда-то ему нравилось работать в снежную погоду. В 1868 году в Этрета он укутался сразу в три пальто, разжег жаровню и так, греясь и пряча руки в перчатки, принялся писать сугробы, вдоль которых ложились голубые и лиловые тени. В Аржантёе зимой 1874/75 года — когда перед Рождеством валом валил снег и люди передвигались по парижским улицам в салазках, а мальчишки швыряли в прохожих снежки[468] — Моне написал восемнадцать картин, на которых изображались дороги, дома, тропинки вдоль речных берегов и железнодорожные пути под снежным одеялом. В одной сцене люди с зонтами, которые вырывал ветер, пробирались сквозь вьюгу по дороге, ведущей вдоль станции, к тому самому месту, где за мольбертом сидел Моне, — ему стихия была нипочем. Но к 1916 году семидесятипятилетний художник уже страдал от ревматизма и болей в груди, и подобные подвиги в зимнюю стужу были не для него. «Теперь я, увы, не в том возрасте, когда работают на пленэре, — писал он братьям Бернхайм, — и хотя снег красив, лучше бы он прекратился и пощадил наших несчастных солдат»[469].
Судьба нескольких из этих «несчастных» особенно волновала Моне, но, когда в марте Мишель вернулся домой на побывку, повидав «много страшного», художник стал ворчать: мол, присутствие сына «изрядно нарушает мой покой и привычный образ жизни»[470]. Тяготы и тревоги, связанные с войной, он преодолевал как всегда: с головой уходя в работу. «Я одержим адским трудом, — писал он Жан-Пьеру, — утром, не успев проснуться, бросаюсь в свою просторную мастерскую. Прерываюсь на обед и снова работаю до конца дня». Затем он обсуждал газетные новости с Бланш — «она мое великое подспорье» — и отправлялся спать. «Что сказать об этой страшной войне, — продолжал он, — кроме того, что она слишком затянулась, что она отвратительна и нам нужна победа. Моя жизнь в одиночестве невесела»[471].
Говоря о своем одиночестве, Моне, как обычно, преувеличивал. В начале 1916 года, не страшась цеппелинов, он несколько раз наведывался в Париж, правда поводом к этому стала необходимость посещения врача, а не потребность в общении: теперь больше, чем глаза, его беспокоили зубы. После того как достроили новую мастерскую, он начал страдать «от ужасной зубной боли, абсцессов и воспалений»[472]. Пришлось часто ездить к дантисту. Впрочем, зубная боль не отбила у него страсти к гурманству, и он следил, чтобы пребывание во врачебном кресле не совпадало с гонкуровскими обедами. «Если Вы планируете пригласить меня на следующее заседание, — писал он Жеффруа в апреле, — буду премного обязан, узнав от Вас точную дату как можно раньше, ибо мои бедные зубы вынуждают меня бывать в Париже довольно часто»[473].
В то время Моне занимался также благотворительностью в пользу раненых солдат и их семей. В предыдущем году он пожертвовал несколько своих работ для розыгрыша в лотерее и сам купил билет за двести франков[474]. В феврале 1916 года картина была пожертвована для лотереи, проводившейся, чтобы обеспечить теплой одеждой французских военнопленных. Он также переписывался с супругой министра торговли и промышленности Этьена Клемантеля, собираясь пожертвовать произведения на нужды сирот. Моне готов был к участию, однако мадам Клемантель весьма некстати пожелала получить от него рисунок. «Я не делаю рисунков, — попытался объяснить ей Моне, — это не моя техника». Взамен он предложил в дар «скромный живописный этюд», заверив, что его «не составит труда продать в пользу сирот». В итоге мадам Клемантель и сироты получили две пастели с видами Темзы, которые Моне лично отвез в Париж[475].
Моне бесспорно внес свою лепту в дело победы. Хотя жертвовал работы на благотворительные нужды госпожи Клемантель он, скорее всего, не без задней мысли. За день до того, как Моне предложил свой «скромный этюд», он узнал о том, что супруг госпожи Клемантель убедил Огюста Родена подписать документ, по которому произведения скульптора переходили государству и в «Отель Бирон», парижской резиденции мастера, за счет казны будет устроен музей. Роден постепенно становился знаковой фигурой в музейном пространстве. Его детища уже удостоились собственных залов в Лондоне и в Нью-Йорке. Осенью 1914 года он передал двадцать своих скульптур музею в Южном Кенсингтоне (ныне — Музей Виктории и Альберта), где они тогда были выставлены, — это был дар британской нации «как простой знак моего восхищения вашими героями»[476]. Двумя годами раньше галерея Родена открылась в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где было выставлено сорок работ мастера, в том числе бронзовая статуя высотой около семидесяти сантиметров — «Мыслитель». Обширная коллекция — произведения из бронзы, мрамора, терракоты, гипса и рисунки — была совместно подарена музею правительством Франции, предпринимателем-миллионером Томасом Ф. Райаном и лично Роденом. Теперь имя скульптора могло быть увековечено созданием музея в его честь в роскошном особняке в сердце Парижа, где напротив, через улицу, возвышался золоченый купол Дома инвалидов.
Скульптор Огюст Роден
© Getty Images
Как только вопрос стал обсуждаться, Моне примкнул к сторонникам идеи появления музея Родена в принадлежавшем государству «Отель Бирон», который скульптор арендовал с 1908 года[477]. Моне и Роден издавна дружили, и их творческий путь во многом тесно переплетался. Они были ровесниками — хотя родились не в один день, как часто утверждалось, а с разницей в два дня. Успех тоже пришел к ним одновременно, когда они вместе показали свои работы в галерее Жоржа Пти во время Всемирной выставки 1889 года. Моне представил сто сорок пять полотен в просторном зале, где они чередовались с внушительными скульптурами Родена, — причем некоторые из них, к досаде художника, автор разместил непосредственно перед его вещами, закрыв обзор. Услышав, что Моне огорчен, Роден рассвирепел: «Плевать на Моне. На всех плевать, меня интересует только то, что касается меня!»[478] Договориться им все же удалось, выставка пользовалась бешеным успехом, благодаря ей оба мастера сделали первый шаг на пути к славе и богатству. «Мы оба ощущаем наше родство, — так Роден однажды написал художнику, — оба любим искусство, так что мы друзья навеки»[479].
Моне не был так честолюбив, как его собрат, который годом ранее в Риме заявил французскому посланнику, что он, Роден, «олицетворяет славу Франции, в то время как посол просто представляет государство»[480]. Однако Моне рассчитывал на равноценные почести, причем Этьен Клемантель и «Отель Бирон» сыграют в его планах важную роль.
Весной и летом 1916 года Моне, уже пожилой человек, очень спешил. «Я старею, — писал он. — Мне нельзя терять ни минуты»[481]. В мае он отправил срочное письмо своему поставщику холстов и красок: «Я обнаружил, что мне понадобится еще полотно, причем как можно скорее». Он заказал шесть отрезов размером два на полтора метра и еще шесть — два на один метр тридцать сантиметров, «если холст будет точно таким же». Срочность была главным условием: он просил выслать холсты «в запечатанном ящике скорым поездом до станции Живерни — Лимец», но если стоимость упаковки и перевозки окажется непомерной, «пожалуй, лучше было бы снова отправить автомобиль»[482].
Моне заказывал холсты в парижской компании, известной под маркой «Л. Бенар» (или «Холсты, краски, планшеты»), недалеко от площади Пигаль. Художник договаривался обо всем с работницей магазина, некой мадам Барильон. Видимо, ей не впервой были лихорадочные заказы из Живерни, и она знала, что этот — не последний. Увлеченность Моне «той самой декорацией», как он теперь называл свой замысел, не ослабла в течение зимы и весны, он продолжал «упорно трудиться»[483]. Зрение его больше не подводило, но были другие поводы для беспокойства, в том числе плохая погода, в которой многие снова и снова винили массированные бомбардировки на Западном фронте[484].
Другая проблема была в том, что за полтора года войны Франция столкнулась с дефицитом. Не хватало табака: по сравнению с довоенными годами в стране стало на миллион меньше сигарет и сигар[485]. В апреле Моне благодарил Шарлотту Лизес, подарившую ему сигареты. «Они спасли мне жизнь в тот самый момент, когда у меня все закончилось», — сообщил он ей[486]. Способность к созерцанию зависела у Моне от того, насколько регулярно пополняются его запасы. Взявшись за кисть, он всегда закуривал и, увлекшись работой, часто бросал наполовину не докуренную сигарету, а домочадцы собирали окурки и складывали их в специальную коробку, в содержимом которой художник, жаждавший затянуться, рылся потом, «как нищий»[487].
Помимо табака, трудно стало доставать некоторые продукты, и значительно выросли цены. Весной 1916 года сыр стоил на двадцать процентов дороже, чем до войны, масло — на двадцать четыре процента, говядина поднялась в цене на тридцать шесть процентов, а сахар — аж на семьдесят один, так что в мае правительству пришлось установить максимальную цену (которая к октябрю еще поднялась)[488]. В предыдущем году французские газеты упивались слухами, будто немцам приходится есть хлеб из соломы, однако в мае власти представили «национальный хлеб», в котором треть пшеничной муки смешивалась с рисовой и ржаной, — получалась грубая масса с твердой коркой, казавшаяся большинству несъедобной.
Нашлась газета, заявившая, что, коль скоро над всем возобладали нужды армии, «долг гражданского населения снизить уровень потребления»[489]. Моне теперь довольствовался, по собственному выражению, «скромным обедом военного времени»[490]. Перед Шарлоттой предстало душераздирающее зрелище: измученный нехваткой табака художник, который злится, что непогода не дает ему подойти к мольберту, а война — поесть в свое удовольствие. Как он объяснил гостье, ему довелось пережить «минуты полного отчаяния, тяжело отразившегося на окружающих — например, на бедной преданной Бланш, которая худо-бедно мирится с моими приступами меланхолии»[491].
В июле в Живерни заглянул Мирбо. Моне беспокоило, что дела у его друга идут неважно. Весной — когда Мирбо перебрался обратно в свой дом в Шевершмоне — встреча была отменена: писателю нездоровилось. Два месяца спустя его появление в Живерни произвело обескураживающее впечатление. «В каком ужасном состоянии наш бедный друг», — с горечью делился Моне с Жеффруа в конце июля[492]. Одним физическим недугом все и правда не ограничилось: примерно с 1916 года Мирбо начал впадать в полубессознательное состояние, порой длившееся не один месяц, и часто даже не узнавал друзей[493].
Немощь товарища, который при этом был моложе Моне на восемь лет, очевидно, показалась художнику эдаким маячащим призраком собственного будущего, пугающим видением, предвестием жизни, которая ждет его самого, если и он утратит работоспособность. Похожим образом болезнь выбила из колеи еще одного близкого друга: Роден один за другим перенес сразу два инсульта, причем второй — 10 июля в результате падения с лестницы в своем доме в Медоне, в окрестностях Парижа. Подобно Мирбо, он внезапно утратил возможность трудиться, хотя оставался «доволен жизнью — сохранял спокойствие и добродушие», как пишет его друг и биограф Жюдит Кладель. Как и Мирбо, он теперь страдал серьезным когнитивным расстройством. «Ему кажется, что он находится в Бельгии», — сообщала Кладель[494].
В то лето в Живерни приехал и Клемансо — заглянул перед тем, как отправиться на отдых в Виши. Несмотря на диабет и переутомление, его телесные и интеллектуальные силы, по крайней мере, могли служить вдохновляющим примером. Он продолжал вести войну на всех фронтах: журналистском и политическом. В феврале Клемансо председательствовал на заседании возглавленной им Франко-британской комиссии, волнуя и будоража как друзей, так и врагов своей бурной риторикой. «Клемансо взял слово, — сообщал репортер, — и произнес едва ли не лучшую речь в своей жизни — а ведь он, как известно, всегда был прекрасным оратором». Он осудил Германию, которая «бьется в агонии варварства», и сказал о жертвах Франции: «Мы отдаем своих детей, отдаем все, что имеем, — абсолютно все — во имя независимости и человеческого достоинства, тем самым себя вознаграждая, и, сколь велики ни были бы жертвы, мы ни разу не возроптали, назвав их непомерными»[495].
Через неделю с небольшим, в начале марта, статья Клемансо о верденской мясорубке нарушила требования цензуры, издание его газеты вновь было приостановлено, на этот раз — на неделю; выход второй газеты, «Овр», перепечатавшей фрагменты скандальной статьи, запретили на две недели. Клемансо становился все более противоречивой и конфликтной фигурой. Его любили солдаты, которых он решительно защищал, но при этом он десять раз на дню получал послания с угрозами, особенно много их было от представителей религиозно-консервативных сил. Издатель газеты «Аксьон франсез» Шарль Моррас, считавший, что Клемансо подрывает национальное самосознание, называл его «разрушителем и обманщиком», а также «анархистом Клемансо»[496]. Обвинение в анархизме было безосновательным: в обращении Клемансо к Франко-британской комиссии говорится о главенстве закона как фундамента цивилизации, а газета «Фигаро», в целом не поддерживавшая его политические взгляды, оценила его «возвышенный патриотизм»[497]. Таким же абсурдным было обвинение в пораженчестве. На заседании Франко-британской комиссии он впервые произнес слова, которые затем станут боевым кличем: «Война до победного конца».
К концу лета в Живерни прибыл еще один гость: сын Моне Мишель, который получил шестидневный отпуск после «трех ужасных недель в Вердене»[498]. Битва все отчетливее обнажала ужас и бессмысленность Великой войны. В августе одна из газет отметила, что битва под Верденом уже продолжается столько же, сколько вся Франко-прусская война 1870–1871 годов[499]. К лету 1916 года немецкое наступление удалось приостановить, однако потери с обеих сторон были колоссальными. Генерал Фалькенхайн частично преуспел в своем плане обескровить Францию — к сентябрю число убитых и раненых с французской стороны равнялось 315 тысячам. Впрочем, потери немцев были не менее ужасны. Эрих Людендорф, руководивший всеми операциями немецкой армии, в начале сентября посетил поле битвы — примерно тогда, когда Мишелю Моне дали отпуск. Даже закаленный в боях прусский генерал был ошеломлен масштабами кровопролития. «Верден был адом, — утверждал он. — Верден был кошмаром»[500].
Однако менее чем в трехстах километрах от верденского ада находился рай — так многие гости Моне называли сад в Живерни. Контраст с Верденом, видимо, выглядел сюрреалистично — хотя это слово Гийом Аполлинер придумает только несколько месяцев спустя. Вырвавшись из разрушенного Вердена, Мишель Моне проехал через Париж, продолжавший жить неестественно нормальной жизнью. (Помимо фильмов, спектаклей и концертов, этим летом проводили футбольные матчи, а на дорогах между Парижем и Уданом проходила велогонка.) Приехав в Живерни, Мишель обнаружил там отца, прославленного певца красот сельской Франции, — тот, как и в былые дни, сидел за мольбертом, ничуть не взволнованный тем, что происходит в мире, — как не были взволнованы ветром пышные листья и сверкающие воды, которые он изображал на холстах.
Скорее всего, Мишель и не пытался поведать отцу обо всем ужасе Вердена. Тем, кто сражался в Великой войне, не удавалось найти словесного выражения для пережитого. «Рассказать об увиденном мы могли не больше, чем те, кто не вернулся», — писал один из них[501]. Впрочем, военный кошмар адского лета 1916 года открылся читателям газеты «Овр», той самой, выпуск которой был приостановлен в марте за публикацию статьи Клемансо о Вердене. В августе газета начала печатать выпусками роман Анри Барбюса «Огонь», посвященный «Памяти товарищей, павших рядом со мной под Круи и на высоте 119». Барбюс пытался переломить романтические представления о войне, с обескураживающей честностью описывая ее ужасы. Один из выведенных в романе бойцов — по иронии, зовут его Паради, то есть Рай, — говорит рассказчику: «Война — это не атака, похожая на парад, не сражение с развевающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война — это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела и трупы, всплывающие над прожорливой землей и даже непохожие больше на трупы. Да, война — это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»[502]
Моне и, слева направо, Бланш, Мишель Моне и Жан-Пьер Ошеде (стоит) в 1916 г.
Как это ни удивительно, «Овр» удалось укрыться от бдительности цензоров, и к концу 1916 года роман вышел в форме книги (и почти сразу был переведен на английский язык). Моне, возможно, не читал романа Барбюса ни в выпусках, ни в отдельном издании, однако изображенные в нем ужасы войны не раз становились предметом обсуждения на гонкуровских обедах. Моне с прежним рвением посещал собрания «гонкуристов», как он их называл, и даже просил перенести одну из встреч до того момента, когда Мирбо достаточно оправится, чтобы к ним присоединиться: собрание «десятки» без Мирбо было, как Моне сказал Жеффруа, «вещью невозможной»[503]. В 1916 году «десятка» постановила, что выдвигаться на премию будут только романы, написанные теми, кто служил в действующей армии. В декабре Гонкуровскую премию присудили Барбюсу.
В тот самый день, когда была присуждена Гонкуровская премия, сенат проголосовал за выделение бюджетных средств на основание Музея Родена в «Отель Бирон». Всю осень газеты бурно обсуждали «дар Родена»; палата депутатов проголосовала за выделение денег в сентябре, а сенат рассматривал этот вопрос в октябре и ноябре. Вопрос о принятии дара — его оценивали в два с половиной миллиона франков, сюда же входил дом Родена в Медоне — был весьма спорным: многие сенаторы считали недопустимым в военное время расходовать государственные деньги на основание музея. Один из них бросил гневно: «Хотел бы я знать, что солдаты в окопах подумают о наших дебатах». Сторонники идеи аргументировали свою позицию тем, что Роден — «поэт мрамора» и «великий национальный художник». Один сенатор заявил, что война — не повод отменить во Франции «культ красоты»[504]. Наконец 22 декабря дар Родена государству был «однозначно принят» — и это скрепили законодательно[505].
Впрочем, один влиятельный член сената отказался говорить хвалебные слова о даре Родена. Клемансо был невысокого мнения о прославленном скульпторе. «Он глуп, тщеславен и слишком корыстолюбив», — поведал он однажды своему секретарю[506]. Может, оно и так, но у их разногласий имелась и другая причина. Роден и Клемансо разошлись во мнениях по поводу бюста последнего, который скульптор изваял несколькими годами раньше по заказу аргентинского правительства, — в 1910 году Клемансо был там с визитом. «Этот скульптор сварганил непонятно что, — жаловался Клемансо. — Его бюсты напоминают лучшие римские портреты и запечатлевают черты, о которых модель не имеет понятия. Я не тщеславен, но если уж оставаться в веках, то оставаться в образе, в котором меня изваял Роден, я не желаю»[507]. По мнению Клемансо, Роден сделал его похожим на «монгольского тысячника», на что Роден ответил: «Ну разумеется, Клемансо — он же Тамерлан, он Чингисхан!»[508] Переделывать работу Роден отказался, а Клемансо не позволил выставить ее в Салоне в 1913 году. С тех пор они друг с другом не разговаривали.
Недалеко от «Отель Бирон», по другую сторону Дома инвалидов, шла работа еще над одним проектом — к нему власти относились куда с большим пониманием и энтузиазмом. Художникам Пьеру Каррье-Беллезу и Огюсту-Франсуа Горже понадобились новые просторные помещения. В ноябре для экспонирования их огромной панорамы «Пантеон войны» был специально построен зал в форме храма: средства собрали спонсоры и подписчики. Новое здание стояло на земле, принадлежавшей Военной школе, — художникам ее предоставил генерал Жозеф Гальени, военный комендант Парижа. Вместе с помощниками они переместили в новое здание все свои картины и эскизы — не только тысячи квадратных метров холста, но и тонны металлической арматуры, на которой полотна должны были крепиться.
Перед своей смертью в 1916 году генерал Гальени среди прочих позировал для портрета на бульваре Бертье. Один из многочисленных спонсоров этого начинания — газета «Голуа» объявила своим читателям: Каррье-Беллез и Горже «сообщают родственникам, что готовы создавать в своей мастерской портреты героев, имеющих награды, как погибших, так и уцелевших, как с натуры, так и по фотографиям, дабы обессмертить наших героев»[509]. В новое великолепное здание потянулись женщины в траурных одеждах, «рыдая, они несли портреты, священные памятки о дорогих им людях». Из этих мертвых героев, утверждал Каррье-Беллез, «создавался один живой»[510]. Недостатка в скорбящих женщинах не было: к тому моменту, когда Каррье-Беллез и Горже перебрались в новое помещение, потери Франции в войне приблизились к миллиону.
Жорж Клемансо нашел в своем плотном графике время позировать Каррье-Беллезу и Горже со сложенными на груди руками, в позе непреклонной решимости. Ему, скорее всего, не слишком нравился старомодный стиль этих художников, однако тут он, по крайней мере, не заявлял, что они «сварганили непонятно что». В любом случае он всем сердцем поддерживал этот проект увековечивания героизма французов. Осенью 1916 года он снова поехал на фронт с целью сбора фактов. Вскоре после этого, в ноябре, он нанес очередной визит в Живерни. «Только что приезжал Клемансо, — писал Моне Жеффруа, — с большим энтузиазмом отозвался о моей работе. Я сказал ему: мне очень нужно твое мнение по поводу этого грандиозного проекта, — по правде говоря, на мой взгляд, это чистое безумие»[511].
Моне с удовольствием показывал свои работы друзьям, таким как Клемансо и Жеффруа, радовался их оценке и одобрению. Несмотря на дурную погоду, зубную боль и «тревоги и трудности этой войны»,[512] он почти весь год пребывал в оптимистичном настроении. Как он сказал Клемансо — видимо, имея в виду горькую участь Мирбо и Родена, — главный его страх состоит в том, что он «так и не закончит эту большую работу»[513].
Отпраздновав в ноябре семьдесят шестой день рождения, Моне ответил на пожелания Бернхайма несколькими строками, исполненными спокойствия и оптимизма: «Рад тебе сообщить, что к работе своей я отношусь все с большей страстью и наивысшее для меня удовольствие — писать и наслаждаться природой»[514].
Глава девятая Состояние непереносимой тревоги
В декабре 1916 года Моне готовился к приему знаменитого гостя. «Что касается месье Матисса, — писал он братьям Бернхайм в конце ноября, — можете сообщить ему, что я рад буду его принять». Впрочем, Моне попросил отложить визит на несколько недель, так как ему, по его словам, нужно было «добавить несколько штрихов к grandes machines»[515]. Многим было позволено бросить взгляд на эти картины, от Клемансо и «гонкуристов» до очаровательной американской светской львицы Глэдис Дикон, которую принимали в Живерни осенью 1914 года. А вот прежде чем показывать эти картины другому художнику, Моне, похоже, счел необходимым их доработать.
Да и какому художнику! Анри Матисс был видной фигурой и пользовался успехом — «один из наиболее щедро одаренных творцов своего времени», по словам критика Луи Вокселя[516]. За последние десять лет Матисс прошел путь от лидера эпатажной, вызывавшей бурные споры группы молодых художников, которые называли себя «фовистами» («дикарями»), неудачника, чьи работы в 1908 году один критик назвал «нездоровой профанацией»,[517] до всеми признанного именитого живописца, которому в 1910 году устроили ретроспективную выставку в галерее Бернхайм-Жён и персональную выставку в Нью-Йорке. «С самого утра и до вечера зал не пустует, — завистливо докладывал Мирбо Моне по поводу триумфальной ретроспективы в галерее Бернхайм-Жён. — Русские и немцы, мужчины и женщины пускают слюни перед каждым полотном — пускают от радости и восхищения, понятное дело»[518].
«Щедро одаренный» Анри Матисс, фотография 1913 г.
© Getty Images
В конце 1916 года Матиссу вот-вот должно было исполниться сорок семь лет. Внешне этот щеголеватый бородач в очках напоминал профессора, хотя до сих пор пользовался более чем скандальной славой: в 1913 году разъяренные студенты-художники сожгли в Чикаго копии трех его работ и устроили над «волосатым Анри Матиссом» (так они его обозвали) суд за «убийство живописи» и «поджог искусства»[519]. Раньше Матисс и Моне никогда не встречались. В принципе Моне мало интересовался младшим поколением художников. В 1905 году он сказал в одном из интервью, что не понимает работ Гогена: «Я в любом случае никогда не принимал его всерьез»[520]. При этом Матисс, в творческом смысле, был самым талантливым преемником Моне и с рвением преданного ученика изучал все его работы. Произведения Моне он открыл для себя в середине 1890-х годов через своего друга, австралийского художника Джона Питера Расселла, который считал Моне «самым оригинальным художником нашего века»[521]. Вскоре Матисс начал устанавливать этюдник там, где раньше писал Моне, — перед скалами Бель-Иль-ан-Мер, например, — и превратился в столь страстного поклонника, что его друзья утверждали: «Клянется только именем Клода Моне»[522].
Несколько лет спустя Матисс выработал собственный очень смелый стиль, отказавшись от палитры импрессионистов в пользу неестественных, бьющих в глаза красок, за которые его и его друзей, Андре Дерена и Мориса де Вламинка, прозвали «фовистами» и заклеймили художниками-провокаторами. Для фовистов Моне был мастером, у которого стоило учиться, — в 1905 году Дерен даже ездил в Лондон, чтобы писать те же пейзажи, что и он, — но которого надлежало превзойти. Они пытались отобразить нечто менее текучее, более фактурное, чем те голые «впечатления», которые, по их словам, фиксировал на своих полотнах Моне. «Что до Клода Моне, — писал Дерен де Вламинку в 1906 году, — я, несмотря ни на что, им восхищаюсь… Но, с другой стороны, правильно ли он поступает, используя текучий, неплотный цвет для передачи непосредственных впечатлений, которые так и остаются впечатлениями и потому быстротечны?.. Лично я стремлюсь к другому: изображать вещи, которые, напротив, статичны, вечны и сложны»[523].
Сам термин «импрессионизм», заявил Матисс в 1908 году, «не подходит для обозначения работ некоторых более современных художников» — имелись в виду он и его друзья, — которые «не доверяют первому впечатлению и даже почитают это нечестным. Стремительная зарисовка пейзажа отображает лишь один миг его существования». Матисс настаивал на том, что хочет отобразить «сущность» вещей, а не «поверхностный вид», который импрессионисты ловили своей проворной кистью, — по словам Матисса, все их полотна были «на одно лицо». Он же стремился к «более долговечной интерпретации» реальности[524]. Ветреные полдни, проведенные с этюдником у берега моря на острове Бель-Иль в попытках уловить мимолетные эффекты света, пены и брызг, к этому времени уже остались далеко в прошлом.
Моне наверняка знал о пренебрежительных репликах Матисса в его адрес — в конце 1908 года тот обнародовал их в «Гранд ревю», престижном литературном журнале. Именно этим объясняются жесткие высказывания Мирбо о работах Матисса в письме к Моне от 1910 года: «Невозможно поверить в такую глупость, такое безумие. Матисс — паралитик»[525]. Однако к 1916 году неугомонный Матисс вновь пересмотрел свои взгляды, ему снова стали интересны тонкие нюансы света и воздуха. «Я чувствую, что сейчас мне это необходимо», — заметил он в одном интервью[526]. В частности, он вновь заинтересовался произведениями Моне и Ренуара и попросил братьев Бернхайм-Жён и других общих знакомых организовать ему встречи с обоими.
В то время Матисс жил в Исси-ле-Мулино, в нескольких километрах к юго-западу от Парижа, — в 1914 году в армию его не взяли по возрасту, хотя он несколько раз пытался пойти добровольцем. Он и сам начал работу над grande machine, на холсте под девять метров высотой и четыре с лишним шириной. К этой колоссальной работе, «Купальщицы у реки», он приступил в 1909 году и спорадически возвращался к ней, пытаясь воспринять кубизм Пикассо и в чем-то превзойти мастера. Они с Пикассо успешно играли в своего рода творческие пятнашки, заимствуя друг у друга стилистические приемы и создавая в первые годы войны все более геометричные композиции из рассеченных, накладывающихся друг на друга плоскостей, больших черных поверхностей и неподвижных, угловатых гуманоидов со схематичными чертами лица. «Купальщицы у реки» стали чуть ли не максимальным сближением Матисса с кубизмом[527].
Впрочем, эксперименты Матисса с художественным словарем кубизма быстро себя исчерпали. Летом 1916 года он выставил свои работы вместе с Пикассо в галерее Пуаре на рю Антэн. Выставка «Современное искусство Франции» неприятно поразила критиков, в значительной степени из-за «Авиньонских девиц» Пикассо, впервые показанных публике. «Кубисты не стали дожидаться конца войны и вновь открыли военные действия», — сетовал один критик, а другой заявил: «Времена опытов и экспериментирования прошли»[528]. Военные годы стали тяжелым испытанием для всех художников, а для модернистов — главным образом тех, кто, как Матисс и Пикассо, не надел военной формы, — в особенности. Матисс оказался в неловкой ситуации. Он был близко знаком с Пикассо — иностранцем и известным пацифистом. В Париже того раньше продвигали немецкие торговцы картинами, например Вильгельм Уде и Даниэль-Анри Канвейлер, — коллекции обоих были секвестрированы в начале войны как собственность пособников врага. Его работы приобретали немецкие коллекционеры, например Карл Эрнст Остхаус, активный член Пангерманского союза. Кроме того, экспериментируя с кубизмом, Пикассо причислил себя к тому направлению современного искусства, которое во Франции в годы войны пренебрежительно именовали «бошевским». Например, летом 1916 года на обложке иллюстрированного еженедельного журнала «Антибош» появилась карикатура на кайзера Вильгельма, выполненная в псевдокубистском стиле; подпись гласила (в немецкой орфографии): «Кубизм!!!»[529] Во времена, когда национализм и ксенофобия оказались раздуты до такого предела, что Французская академия всерьез помышляла исключить из французского алфавита букву «к» как «немецкую», даже намек на связь с Германией мог повлечь за собой серьезные последствия.
Именно в этот период политических тягот и творческого разброда Матисс попросил Гастона и Жосса Бернхаймов организовать ему визит в Живерни. Возможно, его просто интересовала новая затея Моне, слухи о которой упорно циркулировали в художественных кругах. Но, помимо этого, он, видимо, надеялся обогатить и собственную живопись, отойдя от лаконизма, от навеянного кубизмом «иностранного» влияния и вернувшись к стилю, который в плане цвета и атмосферы был гораздо ближе к импрессионизму и к «подлинно французскому»[530].
Историческая встреча Моне и Матисса в конце 1916 года так и не состоялась. В начале декабря Моне принимал у себя художника Андре Барбье, пылкого молодого поклонника; в письме к Жеффруа (который организовал этот визит) Моне с радостью писал, что Барбье, «похоже, воспринимает все, что видит, с большим энтузиазмом». Он даже позволил Барбье увезти с собой «сувенирчик» — одну из своих пастелей[531]. Но малоизвестный и восторженный Барбье — это одно, а Матисс — совсем другое. Моне внезапно одолели сомнения по поводу своих работ, и он отменил визит почти сразу после того, как на него согласился. «Я очень занят серьезной переделкой своих крупных полотен, — сообщил он Бернхайму в середине декабря, — и совсем не выхожу. Настроение скверное». В постскриптуме он прибавил: «Если Вам случится видеть Матисса, объясните ему, что пока я совсем запутался — как только выйду из этого тревожного состояния, сразу Вам сообщу»[532].
Два дня спустя Саша Гитри предложил Моне два бесплатных билета на свой новый спектакль в театре Буф-Паризьен, но даже это не выманило художника в Париж. «У меня очень плохой творческий период, — объяснил он. — Состояние непереносимой тревоги. Я испортил хорошие работы, пытаясь их усовершенствовать, и теперь пытаюсь во что бы то ни стало их спасти… В данный момент не способен никуда выезжать и никого видеть»[533].
До этого Моне два с половиной года работал легко и продуктивно, несмотря на треволнения и невзгоды войны, периодические проблемы с глазами и зубами, расстройства из-за неподходящей погоды и скоротечные приступы неверия в свои силы. Он с удовольствием демонстрировал Grande Décoration друзьям и ждал их откликов — которые неизменно интерпретировал как хвалебные; он даже прощупывал ситуацию, заводя с антрепренерами, например с Раймоном Кошленом и Морисом Жуайаном, разговор о будущей выставке или постоянной экспозиции своих работ. Судя по всему, в ноябре 1916 года ему казалось, что он почти закончил свой труд. Но тут его вдруг обуяла неуверенность в себе — ее, несомненно, подстегнула перспектива показать работы Матиссу; она, судя по всему, подействовала Моне на нервы и заставила взглянуть на картины новыми глазами.
Кризис затянулся до Рождества и Нового года. Даже очень успешная продажа двадцати четырех его работ в Нью-Йорке — торги проходили на протяжении двух дней в середине января — не смогла поднять ему настроение. Аукцион, состоявшийся в большой бальной зале отеля «Плаза», был назван в газете «Нью-Йорк геральд» «самой значительной распродажей работ Моне во всем мире»; за картины — все они были из коллекции Джеймса Саттона — была выручена рекордная (по словам той же «Геральд») сумма: 161 тысяча 600 долларов, или свыше 800 тысяч франков. Когда картины появлялись на аукционном мольберте, «поклонники в зале разражались аплодисментами»[534]. Однако это зрелище — богатые американцы раскрывают чековые книжки и аплодируют его картинам — не подняло Моне настроение: он довольно грубо заявил, что среди тех, кто покупает его работы, много «дураков, снобов и мошенников»[535]. Когда восторженные братья Бернхайм-Жён принесли ему новость об итогах аукциона, он только фыркнул: «На мой взгляд, дороговато», однако тут же честно признался: «Я сейчас в таком состоянии, что мне ничем не угодишь»[536]. Несколько позже он сообщил Жеффруа, что его «угнетает эта ужасная война, тревожит судьба моего бедного Мишеля, который каждую минуту рискует жизнью и… отвращает то, что я уже сделал, — теперь вижу, что закончить не смогу. Я чувствую, что дошел до грани и больше ни на что не гожусь»[537].
Через несколько дней после того, как были написаны эти строки, Моне преодолел себя и начал планировать поездку в Париж, на встречу с Жеффруа. Однако в последний момент художник отказался от этого плана, сославшись на то, что с ним связано слишком много трудностей: поезда опаздывали, на станциях Боньер и Мант-ла-Жоли на платформах в сторону Парижа не было залов ожидания — значит придется торчать на холоде и на ветру, «а для старика вроде меня это неблагоразумно»[538].
Насчет холода он был прав. К концу января установились морозы — в Париже температура по многу дней не поднималась выше минус пяти, а по ночам иногда падала до минус десяти. Фонтаны на площади Согласия замерзли, замерзли и каналы, и узкий рукав Сены на южной стороне острова Сите. Перевозки по основному руслу реки затрудняли плавучие льдины, — по сути, все речное движение между Парижем и Руаном остановилось, так как в Руане замерзла акватория порта. Хуже того, катастрофически не хватало угля — многим парижанам пришлось пустить на дрова мебель. «Сколько это будет продолжаться?» — в отчаянии вопрошала одна газета[539]. В тот самый день, 1 февраля, во всем регионе начался сильный снегопад, а 2-го, на Сретение, люди нервно повторяли старинную пословицу: «Зиму на Сретение проводили или встретили». В этот день на рассвете температура была минус шесть, что не обещало ничего хорошего; погода (как сообщала «Матэн») «оставалась чрезвычайно холодной»[540].
На вилле «Брийант», в своем медонском доме, Огюст Роден боролся с холодом и недостатком угля простым способом: весь день лежал в постели со своей давней спутницей и бывшей моделью семидесятидвухлетней Роз Бёре. Всего несколько дней назад они обвенчались. У Роз, которая пришла на церемонию с температурой и бронхитом, скоро началась пневмония; потом ею заболел и Роден. В конце января «Фигаро» с беспокойством сообщала: «Мастер очень слаб»[541]. Роден постепенно пошел на поправку, Роз же скончалась 14 февраля, всего через две недели после свадьбы, которой она дожидалась пятьдесят с лишним лет.
Через два дня в кругу Моне случилась еще одна утрата, куда более тяжелая для художника: скончался Октав Мирбо. 16 февраля Моне написал Жеффруа, запрашивая дату следующего гонкуровского обеда, «ибо погода улучшается, а поскольку у меня есть несколько важных дел в Париже, я собираюсь в ближайшее время туда съездить»[542]. Срочные дела не имели ничего общего с живописью: уныние и внутренний разлад не проходили, всерьез вернуться к работе он не мог. Жозеф Дюран-Рюэль недавно осведомился у художника о возможности продажи некоторых его новых работ. Он интересовался, позволит ли Моне его брату прислать в Живерни фотографа: «Он полагает, что сможет их продать, если получит фотографии и Вы сообщите ему желаемую цену»[543]. Моне не поддался: никаких фотографов, никаких продаж клиентам Дюран-Рюэля. «Я не позволю ничего фотографировать, пока эта работа — которая, кстати, идет сейчас не слишком споро — не будет закончена хотя бы в общих чертах», — кратко проинформировал он торговца. А потом добавил: «Более того, по той же причине я вообще не могу думать о продаже: я не знаю, сумею ли закончить»[544].
Моне действительно съездил в Париж, как пообещал Жеффруа, но не чтобы повеселиться на гонкуровском обеде. 16 февраля Мирбо скончался у себя в парижской квартире, в свой шестьдесят девятый день рождения. Похороны состоялись днем 19 февраля на кладбище Пасси. Жеффруа, Клемансо, «гонкуристы», чета Гитри — все присутствовали, равно как и Моне, который в своем горе отчаянно цеплялся за руку Шарлотты Лизес, когда скорбная процессия направилась вслед за нагруженным венками катафалком к могиле. Одного из присутствовавших поразило нескрываемое горе сильно постаревшего Моне из-за утраты друга: «Обнажив голову под туманным зимним небом, этот грубоватый, но очень искренний человек стоял и рыдал. Слезы стекали из самой глубины его покрасневших от горя глаз в дебри длинной бороды — она теперь совсем побелела»[545]. Моне так горевал, что, как он потом объяснил Жеффруа, побрел с кладбища, «плохо понимая, что делаю», и даже не попрощавшись с друзьями[546].
Но если смерть Мирбо не стала неожиданностью, то, что произошло потом, не на шутку изумило его друзей и читателей. В день похорон писателя «Пти паризьен», газета, у которой (так гордо оповещал заголовок на первой полосе) вышел «самый большой тираж во всем мире», опубликовала «политическое завещание» Мирбо — так это было названо при публикации[547]. Несмотря на все недуги, Мирбо уже писал в «Пти паризьен» о войне — в передовице, опубликованной полутора годами раньше, летом 1915-го. Статья, озаглавленная «К нашим бойцам», якобы была истребована у него «женщиной большой души», которая попросила написать «несколько строк, несколько фраз, хотя бы слово» для фронтовиков. Мирбо считал мужество в бою абсурдом, «опасной и предосудительной формой убийства и бандитизма» — вроде бы уж от него-то не приходилось ждать утешительных строк в адрес солдат в окопах. Но он добросовестно сочинил, явно надиктовав личному секретарю, гимн во славу героизма и мужества молодых людей, сражающихся на фронте. Он добавил проникновенное упоминание о раненом молодом бойце, которого встретил у ворот своего сада в Шевершмоне. «Он рассказывал потрясающие вещи, и я был тронут до слез»[548].
Эти его чувства, в том числе и красноречивое выражение симпатии к простому бойцу, не вызвали никаких разногласий. Но статья, увидевшая свет в день его похорон, оказалась совсем другой. В коротком предисловии от издателя «Пти паризьен» говорилось, что Мирбо «внял мольбам сострадательной женщины» — имелась в виду мадам Мирбо — и записал свои «последние мысли» о Франции и войне: его исповедь свидетельствовала (в этом заверял читателей издатель) о патриотизме, идеализме и вере в грядущее торжество «святого дела» Франции. В статье Мирбо клеймил «величайшее преступление в истории человечества, чудовищную агрессию Германии», и призывал «пожертвовать всем во имя Франции». Он заверял своих «старых добрых товарищей», что нравственное главенство Франции в мире несет в себе надежду для низко падшего человечества.
Моне вряд ли поразили эти откровения — некоторые убеждения Мирбо он разделял, некоторые уже не раз слышал от Клемансо. Но эти слова озадачили и возмутили многих «старых добрых товарищей» Мирбо из числа левых, которые знали его как убежденного пацифиста и противника войны. Действительно, как отметила «Пти паризьен», «из всех хулителей войны, которые во дни мира проклинали эту страшную богиню, яростнее всех высказывался месье Октав Мирбо»[549]. Теперь же получалось, что великий хулитель возносит хвалы у жертвенника богини. Едва его тело упокоилось в земле, как его уже объявили жалким лицемером, «все творчество которого ничего не стоит»[550].
Исповедь Мирбо в скором времени объявили подделкой — ее якобы сварганили его супруга и журналист по имени Гюстав Эрве, политический «флюгер» (от социализма до ультранационализма), который стал частью «омерзительной интриги у смертного ложа» и произнес несвязную, реакционную речь на могиле писателя[551]. Мирбо в последние дни жизни не узнавал даже близких друзей и уж всяко не мог рассуждать на нравственно-политические темы — в том, что статья написана другой рукой, почти нет сомнений[552]. Однако репутации его был нанесен тяжелый удар. Соответственно, Моне пришлось оплакивать не только смерть друга, физическое и умственное угасание которого доставило ему столько тревог, но и то, что имя его смешали с грязью.
Холодная зима медленно уступала место весне, но Моне по-прежнему почти не работал над Grande Décoration. Он часто ездил в Париж («Эти поездки ставят мою жизнь с ног на голову») на приемы к дантисту, впрочем проблемы с зубами не мешали ему время от времени с чувством откушать в ресторане Друана или полакомиться сластями, которые ему посылала жена Гастона Бернхайма. «Она так меня балует, — признавался он Гастону, — но она ведь знает, какой я жадина»[553]. Кроме того, он читал книги: «Капитана Фракасса» Теофиля Готье — приключенческий роман, действие которого происходит во Франции XVII века; «Галерею знаменитых женщин» Сент-Бёва — биографии знаменитых француженок, таких как Маргарита Наваррская, мадам де Севинье и мадам де Ментенон. Отчаявшись закончить работу, Моне искал забвения в шуршащих шелках и звенящих мечах старой Франции.
Был момент, когда он снова взял в руки палитру и кисть, но написал не пруд с лилиями, а нечто совсем другое: начал работать над несколькими автопортретами. Для него это было в высшей степени нехарактерно. Не было на свете художника, которого автопортреты интересовали бы так мало, как Моне, — ведь отражения на глади пруда занимали его куда сильнее, чем собственное отражение в зеркале. Время от времени он позировал друзьям — например, Каролюс-Дюрану в 1867 году, а пять лет спустя — Ренуару, который изобразил его склонившимся над книгой и курящим трубку с длинным чубуком. В 1886 году он написал автопортрет в черном берете — взгляд сосредоточенный и направлен в сторону. Автопортреты 1917 года остались незавершенными. Два он и вовсе уничтожил: они «сгинули в один несчастливый день», по словам Клемансо, успевшего спасти третье полотно, на которое тоже едва не обрушился безжалостный гнев Моне[554].
На уцелевшем автопортрете, написанном свободно, даже чересчур, размашистыми, гневными мазками, Моне изображен с пунцовыми щеками и большой рыжеватой бородой. Он утверждал, что на его фотографии, сделанной позднее в том же году, он выглядит «очень похоже», но при этом «немного смахивает на беглого каторжника»[555]. На портрете не видно ни безысходности, ни озлобленности. Моне скорее напоминает обветренного крестьянина — именно такой образ художника год спустя произведет сильное впечатление на одного посетителя: его жизнерадостность так не вязалась с седой бородой, что он казался «молодым отцом, нацепившим на Рождество фальшивую белую бороду, чтобы дети поверили в Деда Мороза»[556]. Клемансо усмотрел в этом автопортрете с пунцовыми щеками «сверхчеловеческую амбициозность» Моне[557]. На деле же, пока Моне работал перед зеркалом, амбициозности и веры в себя в нем только убывало.
Этьен Клемантель, влиятельный политик и желанный гость в Живерни
Впрочем, весной 1917 года ему представилась новая возможность. 30 апреля в Живерни прибыли два важных визитера: Этьен Клемантель и Альбер Далимье. Оба были влиятельными членами правительства Аристида Бриана: Клемантель — министром коммерции и промышленности, Далимье — вице-министром внутренних дел по делам искусств. Когда в середине марта пало коалиционное правительство Бриана и на смену ему пришло новое, созданное Александром Рибо, оба сохранили свои посты. Для Клемансо места в правительстве опять не нашлось. Английский посол докладывал, что Тигр сам портит себе игру «постоянными неразумными нападками в своей газете на месье Бриана и вообще на представителей власти»; он заключил, что Клемансо «лишил себя всяческих шансов»[558].
Личный визит двух таких важных чиновников вывел Моне из затянувшегося ступора. Гости были во всех отношениях желанные — просвещенный интерес к изящным искусствам сочетался в них с финансовой мощью. Клемантель был энергичным человеком пятидесяти трех лет от роду; под началом у него находилось большое, жизненно важное министерство. Название его министерского портфеля: министр коммерции, промышленности, почтовой и телеграфной служб, морского транспорта и торгового флота — само по себе свидетельствовало о широте полномочий и обязанностей. Было известно, что он всегда очень занят, его осаждают секретари с документами на подпись и посыльные с визитными карточками чиновников и воротил промышленности, которые надеются с ним повидаться. Все эти люди вынуждены были состязаться друг с другом за его время и внимание — ведь на его попечении еще были груды бумаг и маленькие дети дома, в Версале, которых он просто обожал[559].
Клемантель давно активно покровительствовал искусству, а импрессионистам в особенности. Прежде чем уйти в политику, он и сам изучал живопись и скульптуру. По ходу длинных политических заседаний он часто делал карандашные зарисовки коллег, а редкие часы отдыха проводил в деревне за этюдником — в итоге рождались полотна, по словам одного его друга, «столь многочисленные, что сразу было видно: живописной энергии у него отнюдь не меньше, чем министерской»[560]. Он был другом Ренуара и Родена, именно он уговорил Родена передать свои работы Франции, чтобы «Отель Бирон» можно было превратить в музей. Роден даже запечатлел его в мраморе: на этом бюсте он изображен в горделивой позе — обнаженные плечи, вздернутый подбородок, встопорщенные усы.
Реймсский собор во время германской бомбардировки, апрель 1917 г.
Надо думать, что Клемантелю и Далимье устроили экскурсию по мастерской и показали Grande Décoration. Они наверняка были впечатлены, однако разговор повели совсем о другом. На следующий день Моне писал Жеффруа: «Я согласился поехать в Реймс (но только когда перестанут падать снаряды) и написать собор в нынешнем его состоянии. Мне это очень интересно»[561]. Моне когда-то написал знаменитую серию видов Руанского собора, а много лет назад, похоже, подумывал о том, чтобы создать целый ряд полотен с изображением французских соборов: существует заметка, где он говорит, что хотел бы писать «соборы Франции»[562]. Теперь у него появилась возможность поставить этюдник перед другим собором — да еще в рамках ни больше ни меньше как государственного задания, полученного напрямую от высших чиновников от искусства.
Собор Реймсской Богоматери был не просто обычным французским храмом. Критик Шарль Морис перед войной назвал его «национальным собором»[563]. В нем были коронованы двадцать шесть королей и королев; здание, заложенное в XIII веке, украшали статуи, равных которым по красоте и новаторству в Европе не было, — Роден считал, что они превосходят все итальянские скульптуры. Но Реймс и его прекрасный храм стали жертвами немецкой артиллерии — в глазах большинства французов это являлось еще одним доказательством варварства «гуннов». В сентябре 1914 года немцы обстреливали город пять дней подряд, убив десятки жителей и обрушив на собор (который, как они заявляли себе в оправдание, использовали корректировщики огня) более двухсот снарядов. Витражи были уничтожены, крыша загорелась, а прекрасный улыбающийся ангел на фасаде — один из шедевров, завоевавших собору всемирную славу, — был обезглавлен, причем голова упала на землю и рассыпалась на куски. Разрушение столь важного историко-религиозного памятника дало в руки союзникам, как удрученно заметил один немецкий журналист, «действенный пропагандистский инструмент»[564].
Действительно, бомбардировка собора подверглась немедленному и повсеместному осуждению. Французская академия возмущалась «дикарским истреблением благородных памятников прошлого», а Академия изящных искусств клеймила немцев за разрушение «одного из самых изысканных творений французского гения»[565]. Член сената Камиль Пельтан заявил: «Вопль ужаса, который поднялся по всему миру, должен звучать непрерывно»[566]. Повсюду появились фотографии искалеченного здания — на них фасад был окутан дымом, а над грудой обломков высился голый остов. Тут же была выпущена книга «Немцы: разрушители соборов» — главной темой ее стал именно Реймсский собор. Фрагменты здания — стекло, камень, расплавившееся бронзовое распятие — собирали и хранили как реликвии. Поврежденная осколками пилястра стала частью пьедестала статуи Жанны д’Арк, изваянной Анной Хайат, — ее открыли в Нью-Йорке, на Риверсайд-драйв, в декабре 1915 года. А разбитая голова улыбающегося ангела — раньше он был известен как «Улыбка Реймса» — была отправлена в турне по США, Канаде, Аргентине и Чили.
Впрочем, волна гнева не остановила падения снарядов. К началу холодной зимы 1917 года Реймс, по словам одной газеты, пережил «двадцать восемь месяцев почти непрерывных бомбардировок»; население сократилось со ста двадцати тысяч до семнадцати[567]. В апреле, в канун приезда Клемантеля и Далимье в Живерни, «город-мученик» (под таким именем он теперь был известен) подвергся еще одной массированной бомбардировке. Тысячи тяжелых снарядов и «удушающих бомб» обрушились на его улицы — только за первые две недели было произведено около шестидесяти пяти тысяч залпов[568]. Бомбежка была настолько мощной, что оставшихся гражданских эвакуировали в Париж и Труа. «Ах, бандиты!» — возмущался автор статьи в «Матэн», сообщая, что немцы вновь проявляют «преступный вандализм» в отношении собора[569]. На сей раз были повреждены башни, а каменный свод центрального нефа — в 1914 году он почти не пострадал — обрушился, оставив покалеченное здание без крыши. «Варвары, — писала „Матэн“ в день приезда Клемантеля и Далимье в Живерни, — похоже, не оставят от него камня на камне»[570].
Вот такое предложение и получил Моне: запечатлеть изувеченный войною собор «в его нынешнем состоянии» — это должно было стать частью пропагандистской атаки на немецких «варваров». Серия картин с изображением полуразрушенного собора, выполненных кистью самого Клода Моне, должна была рассказать о чудовищном вандализме всему миру куда красноречивее, чем любая фотография.
Моне с энтузиазмом откликнулся на предложение, однако вставал ряд практических проблем. Самая серьезная, понятное дело, заключалась в том, что, если снаряды не прекратят падать — а весной 1917 года это казалось маловероятным, — ему придется подвергать себя опасности. Трудно было представить себе человека, который меньше годился во фронтовые художники, чем семидесятишестилетний Моне. Ему, проклинавшему ветер и дождь, которые мешали заниматься живописью в собственном саду, вряд ли удалось бы сладить с удушающим газом и падающими обломками. Более того, пришлось бы проехать полтораста километров от Живерни до Реймса.
Впрочем, на другой чаше весов лежали весомые преимущества. Главное заключалось в том, что Моне наконец-то получит государственный заказ, о чем он мечтал с того дня, когда ему не доверили роспись парижской ратуши. Более того, у него появится возможность внести свой вклад в борьбу с врагом. Имелись и другие плюсы, причем некоторые выплыли сразу. Высокие гости только отбыли из Живерни, а Моне уже писал Жеффруа: «Я пока не уверен, чем эти двое смогут помочь мне по части автомобиля»[571]. В конце 1914 года военные власти провели во Франции перепись частных автомобилей, чтобы выяснить «число транспортных средств, которые можно будет использовать для нужд армии»[572]. Все жители обязаны были в подробностях сообщить местным властям, какие машины имеются в их распоряжении, а потом эти машины часто реквизировали. Моне, у которого был целый гараж, серьезно рисковал потерять свои авто, и действительно, в апреле 1917 года, как раз когда к нему и приезжали Клемантель и Далимье, он получил распоряжение пригнать одну из них в Андели, городок в двадцати пяти километрах. Моне наверняка показал это распоряжение Клемантелю. Несмотря на занятость, министр вмешался без промедления. Через день после приезда Клемантеля в Живерни к Моне явился местный чиновник с радостной новостью, «что мой автомобиль не надо перегонять в Андели, я могу оставить его себе, это меня очень радует. Благодарю вас тысячу раз за вмешательство, — писал он Клемантелю, — и месье Далимье тоже»[573].
Впрочем, хотя военные власти больше не могли покушаться на автомобиль Моне, толку от него без бензина все равно было мало, а доставать бензин стало очень сложно, особенно после выхода в апреле 1916 года распоряжения, которое регулировало потребление горючего частными лицами: только те, кто «действительно нуждался», обеспечивались топливом, да и то «в режиме жесточайшей экономии»[574]. Но стоило шепнуть словечко на ухо Клемантелю — и в Живерни с бензостанции в Верноне стало поступать топливо[575]. То была лишь первая из многих услуг, которые Моне удалось получить от министра после того, как художник — по крайней мере, в теории — стал работать на дело победы.
Весна и начало лета 1917 года были совсем неподходящим временем для того, чтобы пожилой гражданский человек мог выехать на Западный фронт и заняться зарисовками на пленэре. После апрельского провала наступления на Дамской дороге, в нескольких километрах к юго-западу от Реймса, — оно повлекло за собой колоссальные потери (сто двадцать тысяч только 17 апреля) почти без продвижения вперед — во французской армии начались беспорядки. Вся 21-я дивизия, ветераны страшной битвы при Вердене, отказалась вступать в бой. Были перекрыты железнодорожные пути, чтобы помешать перемещению войск к фронту. Бунтовщики подняли красный флаг, пели революционные песни.
В Париже цены продолжали расти, возник дефицит продуктов питания. С середины мая, чтобы обеспечить продовольствием армию, в стране запретили по четвергам и пятницам продажу мяса во всех магазинах, отелях, ресторанах, столовых и барах. Рыба, жаловался один ресторатор, оставалась «недостижимой химерой»[576]. Кондитеры еще могли производить выпечку с пшеничной мукой в любой день, кроме понедельника, а производителям печенья после выхода указа от 3 мая пришлось использовать рисовую муку — это правило вызвало протесты со стороны Комитета защиты французского печенья[577].
Возмущались не одни только производители печенья. Первомай прошел относительно спокойно, разве что раздалось несколько криков «Да здравствует мир!» и «Долой войну!». Но 11 мая начались забастовки, сперва на швейных фабриках, а потом, в июне, они распространились и на предприятия, выпускавшие противогазы, каски и боеприпасы. Скоро в Париже уже бастовало сто тысяч человек. В середине июня пять тысяч работников порохового завода в Тулузе покинули предприятие, у некоторых в руках были красные знамена, они пели Интернационал, и первые его строки «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» гремели по всей Франции[578].
Моне справлялся с тяготами «временем лишений» при помощи друзей, таких как братья Бернхайм-Жён, которые прислали ему в середине мая «замечательную посылку» с лакомствами[579]. Он даже сумел угостить достойным обедом самого Анри Матисса, которого через день после визита Клемантеля и Далимье вновь пригласили в Живерни, — это свидетельствует о том, что новый заказ сильно поднял Моне настроение. «Если Матисс и Марке выберут день на следующей неделе, чтобы приехать сюда и отобедать, — писал он Бернхаймам, — я приму их с превеликим удовольствием»[580]. Альбер Марке был старым другом Матисса; этому фовисту было сорок два года, и он, как и Матисс, одно время набивал руку на работах Моне. Он тоже многократно писал собор Парижской Богоматери — несколько его картин висели на стенах дома Мирбо в Шевершмоне.
Матисс и Марке приехали в Живерни 10 мая. Промаявшись почти три часа в постоянно останавливавшемся поезде — «другого способа нет», удрученно сообщил им Моне, — они прибыли на станцию Мант-ла-Жоли, где их дожидался автомобиль[581]. В отличие от многих посетителей, которых, если погода стояла хорошая, торопили на выход сразу после того, как с обеденного стола убирали посуду, чтобы хозяин мог вернуться к работе, два художника провели у Моне всю вторую половину дня. Автомобиль отвез их обратно в Мант-ла-Жоли к шестичасовому поезду. К этому времени разверзлись хляби небесные — погода ничем не напоминала весеннюю идиллию, изображенную на множестве картин двух величайших певцов залитых солнцем пейзажей[582].
Нам неизвестно, о чем они говорили. Однако воспоминания о дне, проведенном у Моне в саду, запечатлены в работе, которую Матисс написал всего несколькими неделями позже, «Урок музыки». На картине показана семья Матисса, которая собралась в гостиной дома в Исси-ле-Мулино. Дочь Маргарита учит одного из братьев, Пьера, играть на пианино, а второй, семнадцатилетний Жан — его скоро призовут в армию, — читает книгу: в зубах у него сигарета, прядь волос падает на лоб, молодые усики гордо выставлены напоказ. В открытом окне, за балконом, на котором задумчиво сидит за шитьем жена Матисса, расстилается пышный зеленый сад с прудом и статуей. Изобильная и буйная зелень — не говоря уже о скульптуре дородной лежащей женщины — представляет собой яркий контраст спокойствию, царящему внутри дома. В центре сада собраны в своего рода букет полдюжины листьев в форме сердечек и капель — они очень напоминают листья водяных лилий[583].
Глава десятая Улыбка Реймса
Массированные бомбардировки Реймса не прекращались все лето 1917 года. В течение нескольких месяцев после того, как Моне получил задание написать собор, в газетах почти каждый день появлялся заголовок «РЕЙМС ПОДВЕРГСЯ БОМБАРДИРОВКЕ». Газеты дотошно отслеживали бесчинства немцев — безжалостные обстрелы, свыше тысячи снарядов в день. 13 июля в официальном коммюнике говорилось: «Немцы провели массированную бомбардировку Реймса. На город упало 1600 снарядов». Несколько дней спустя, 16 июля, по городу было выпущено еще 2537 залпов[584].
В июле «Матэн» отправила в Реймс специального корреспондента — осмотреть развалины города. Посланец в поэтическом стиле воспроизвел ужасы обстрелов, описывая «обесчещенные башни» собора, которые вырисовываются на фоне заката посреди бушующей грозы. На горизонте мерцало зарево, и камни собора окрашивались в красный цвет: не только от лучей заходящего солнца, но и от «красных отблесков пожаров в городе… которые мерцали, будто свечи у постели умирающего». А потом, когда солнце закатилось, «настала, по меркам Реймса, обычная ночь — его сотрясали взрывы и ужас»[585].
«Все изменяется, — написал когда-то Моне, — даже камни». Приведенное выше описание — прекрасный собор, окрашенный неверными красноватыми сполохами, — было в чисто импрессионистском духе и наводило на мысль о картинах Моне, изображающих собор в Руане: на некоторых из них закатные блики окрашивают фасад в оттенки оранжевого и красного. Описание, появившееся в «Матэн», почти достигло цели, к которой Клемантель и Далимье пытались устремить Моне, — только достигло не в красках, а в словах.
Критик Луи Воксель, узнав, какое поручение дано Моне, взволнованно предположил, что «славный лидер французского импрессионизма» увенчает свою творческую карьеру, увековечив разрушенный собор[586]. Однако талант Моне далеко не идеально подходил для того, чтобы изображать в лоб ужасные последствия бомбардировки. Он всегда был верен своему впечатлению от натуры, но его живописные приемы не годились для близоруко-дотошной фиксации мелких подробностей физических объектов. Он был полностью согласен с Эдуардом Мане, который когда-то сказал одному студенту: «Вы же не станете пересчитывать чешуйки на осетре, верно?»[587] Моне случалось очень вольно обращаться с визуальными фактами, если того требовал общий замысел. Например, при изображении утеса Маннепорт в Этрета он сместил гигантскую каменную арку, а на некоторых пейзажах из Аржантёя увеличил высоту кабинок на мосту и даже сократил число пролетов моста с семи до пяти[588]. Ему куда важнее было создать впечатляющую композицию, чем точно следовать архитектурным деталям. Однажды он дал приехавшей к нему американской художнице такой совет: «Когда отправляетесь писать, попытайтесь забыть о том, что перед вами находится — дерево, дом или поле, это не важно. Думайте о другом: вот квадратик синего, вот розовый овал, вот желтая черточка». Он даже сказал ей, что хотел бы родиться слепым, а потом внезапно обрести зрение «и начать писать, не зная, что за предметы он, собственно, видит»[589].
Не стоит делать из этого заявления вывод, что Моне пренебрежительно относился к натуре или что предметы изображения, например пшеничные скирды или тополя, он выбирал бездумно, не придавая им никакого значения. Однако из-за сути его метода: сосредоточьтесь на едва различимом цветном ореоле, окружающем каждый предмет, — зрителю иногда было непросто понять, что эти «квадратики, овалы и черточки» собой представляют. Один из друзей Моне так отозвался о его работах: «Самой важной составляющей его картин является свет. Все остальное второстепенно. Предметы вовсе не имеют значения»[590]. Это, конечно, преувеличение, поскольку предмет все же был для него очень важен. Однако, когда в середине 1890-х годов Василий Кандинский впервые увидел одну из пшеничных скирд Моне, он не сразу смог понять, что изображено на полотне. В первый момент Кандинский растерялся, ему показалось, что «художник не имеет права на такую неточность. У меня возникло неприятное ощущение, что на картине отсутствуют предметы». Кандинский понял, что в произведении Моне важно не что изображено, а как, поскольку «предметы перестали быть обязательной частью картины». Главным в работах Моне была «сила палитры» — виртуозное использование цвета ради самого цвета, а не изображение четких, легко узнаваемых предметов реального мира[591].
Соответственно, задача запечатлеть на картине разрушенное здание была для Моне совершенно новой. Раньше, когда он писал Руанский собор, он не сосредоточивался на архитектурных подробностях. Путеводитель XIX века утверждает, что фасад собора весь изукрашен «нишами и статуями, изобильной сквозной и ажурной резьбой невероятной красоты»[592]. На полотнах Моне мы не найдем всех этих архитектурных деталей, поскольку он сосредоточивается на свете, цвете, тенях и воздействии атмосферных условий. Любитель архитектуры не обнаружит на его полотне никакой визуальной информации относительно средневековых статуй. Человека, который видел собор только на картинах Моне, удивит, что его фасад украшен десятками каменных статуй, от Богоматери в окружении ангелов до Саломеи, танцующей перед Иродом, а потом подносящей отрезанную голову Иоанна Крестителя матери. По словам одного английского критика, Моне превратил шедевр готической архитектуры в «подтаявшее мороженое»[593].
Как бы маловероятно ни выглядела поездка в Реймс, Моне продолжал думать о ней с энтузиазмом. Однако эвакуация населения и ежедневные обстрелы летом 1917 года говорили о том, что поработать на пленэре ему вряд ли удастся. Даже когда двадцать с лишним лет назад он писал в мирном Руане, он ставил этюдник не на улице перед собором, а в магазине дамского белья. В опустошенном войной Реймсе не осталось места, где можно было так же уютно и безопасно устроиться. Луи Воксель скоро начал сомневаться в том, что Моне увенчает свою карьеру этим подвигом. «Возможно, Клоду Моне не суждено создать в Реймсе свой шедевр, — сетовал он. — Когда они с Писсарро писали Руанский собор, у них не было недостатка во времени и они долго прожили бок о бок со своей каменной моделью»[594]. Вряд ли в Реймсе получилось бы добиться такого неторопливого слияния.
Бомбардировки Реймса не прекращались всю весну и лето, так что Клемантель, должно быть, очень удивился, когда в конце июля получил от Моне письмо с совершенно неожиданной новостью. «Дорогой министр и друг» — так начал свое послание Моне, после чего высказал опасения по поводу того, что его заказ до сих пор не оформлен официально. Клемантель не ответил на несколько его предыдущих писем, и теперь Моне беспокоился о том, не был ли он излишне навязчивым и не отказался ли министр вовсе от задуманного, тем самым лишив его надежд на престижный государственный заказ, а также поставив под удар поставки бензина и другие мелкие радости. «Боюсь, я очень Вам надоел своими письмами по поводу проблем с бензином, углем и прочим», — сознавался он. В одном из предыдущих писем Моне напрямую спросил, остается ли заказ в силе, и Клемантель, к большому его облегчению, подтвердил, что да. Тут Моне и выдал свой сюрприз: «Возможно, Вам известно, что я ездил на него посмотреть»[595].
Действительно ли Моне наведался летом 1917 года в Реймс? 23 июля, в день, когда он отправил свое письмо Клемантелю, в официальном коммюнике сообщалось, что на город только что упало еще 850 снарядов[596]. Отправиться в такое время «на натуру» было либо храбростью, либо глупостью — ни то ни другое не было свойственно домоседу, разменявшему восьмой десяток. Не сохранилось ни картин, ни набросков, подтверждающих это заявление. Можно предположить, что, боясь потерять заказ вместе с престижем и привилегиями, Моне спешил продемонстрировать Клемантелю свой энтузиазм и готовность к действию — и прибег для этого к преувеличению и даже обману.
Как бы то ни было, в середине сентября в одном журнале появилось сообщение, что Моне все-таки планирует писать собор. Автор сообщения Воксель добавил между делом: «При содействии своего старого друга Клемансо… Моне смог посетить Реймс»[597]. Воксель всегда обладал точными сведениями о планах и действиях Моне. А значит, вполне возможно, что Моне и правда съездил на Западный фронт в компании Клемансо, который посещал окопы почти каждые две недели. В таком случае приключение было действительно аховое. Уинстон Черчилль оставил воспоминания о своем визите на фронт в компании Клемансо: тряская поездка по разбитым дорогам, по опустевшим полям, изрытым траншеями и воронками. «Над головой свистели летящие с обеих сторон снаряды… Из леса доносилась винтовочная перестрелка, а потом на дороге перед нами и в заболоченных лугах рядом с ней загремели взрывы». После полусуток «гонки по дорогам на огромной скорости» Черчилль, которому тогда было сорок три года, совершенно выбился из сил, но «железный Тигр, похоже, не подвластен никакой усталости, ни в какой форме». Когда Черчилль стал просить Клемансо не лезть под вражеский огонь, тот ответил: «Это доставляет мне огромное удовольствие»[598].
Вряд ли Моне пришлась бы по душе такая опасная и утомительная поездка. Однако благодаря сведениям, полученным от Вокселя, мы можем представить себе — при всей фантастичности этого сценария, — как однажды ранним летним утром Моне и Клемансо тронулись в путь: их штабная машина тряслась в составе конвоя по перекореженным дорогам, минуя заграждения из колючей проволоки и неизменные маки, которые, возможно, напомнили Моне о прекрасных маковых полях под Живерни, которые он писал летом 1890 года — целую вечность тому назад, еще до того, как цветок этот стал символом кровопролития и смерти.
Как бы то ни было, Клемантель не спешил успокоить Моне. Два месяца спустя заказ так и не был оформлен официально, и хранивший молчание министр получил из Живерни тревожное послание. «Я сильно обеспокоен Вашим молчанием, — писал Моне. — Я знаю, как Вы заняты, но хотел бы удостовериться, получили ли Вы мое предыдущее письмо. Мне было бы приятно услышать хоть слово в ответ, а кроме того, хочу еще раз повторить, что Вы всегда можете воспользоваться моим скромным приглашением, если найдете свободную минуту». «Скромное приглашение», понятное дело, подразумевало обед в Живерни. В конце письма звучит совсем молящая нота: «Пришлите хотя бы записочку, подтвердите, что письмо получено»[599].
К концу сентября бомбардировки поутихли — король Италии в сопровождении Раймона Пуанкаре даже смог посетить Реймс, прибыв туда на специальном поезде; некоторые жители начали возвращаться в город, «несмотря на то что им ежедневно угрожала опасность»[600]. В октябре заголовок «РЕЙМС ПОДВЕРГСЯ БОМБАРДИРОВКЕ» вернулся на страницы газет. В просительном письме Моне Клемантелю нет новых упоминаний о посещении города-мученика.
Притом что реймсский заказ оставался под большим вопросом, он, похоже, вернул Моне интерес к живописи. К лету 1917 года он наконец-то, после долгой паузы, полной неуверенности в себе и даже отчаяния, возобновил работу над Grande Décoration. Работа снова поглотила его до конца. В конце мая он отказался от театральных билетов, предложенных Саша Гитри, — в театре «Буф-Паризьен» должна была состояться премьера его новой пьесы. «Прошу помнить, — строго писал он Гитри, — что я теперь должен работать больше обычного, поскольку каждый день приближает меня к концу»[601]. Письмо Жеффруа, отправленное тем же летом, он подписал: «Ваш старый, очень старый Клод Моне»[602].
Моне, как всегда, раздражала дурная погода — он называл ее «собачьей порой»[603]. В августе он пишет: «Тружусь усерднее обычного, хотя меня страшно раздражают перемены погоды» — к этому времени к проливным дождям добавились сильные ветры: в Париже с домов сносило трубы и карнизы, они падали на тротуар и разбивались.
В том же месяце в своем доме под Руаном скончался брат Моне Леон. Леон, владелец химического завода, дружил с Камилем Писсарро, иногда приобретал его картины; некоторое время у него работал старший сын Моне Жан, получивший в Англии химическое образование. Однако братья не общались уже много лет, и на похороны Моне не поехал. Впрочем, месяц спустя он все же посетил другую траурную церемонию — похороны Эдгара Дега.
Моне и Дега тоже не общались много лет: рассориться со скандальным, строптивым Дега было нетрудно. «Каким этот Дега был неприятным человеком! — заметил однажды Ренуар. — Какой острый язык, какая язвительность! Все друзья в итоге вынуждены были от него отвернуться: я держался до последнего, но потом тоже сдался»[604]. Моне разошелся с антисемитом Дега из-за «дела Дрейфуса», хотя через десять лет, в 1909 году, они в целом помирились — поводом стали представленные на выставке лилии Моне. «По такому поводу, — сказал общему знакомому Дега, — я готов на мировую»[605]. Два года спустя он приехал в Живерни на похороны Алисы, представ нелепой фигурой из другой эпохи: «двигался на ощупь, почти как слепой»[606]. Теперь же, отбросив, понятное дело, былую вражду, Моне написал письмо соболезнования брату Дега Рене, напомнив об их «юношеской дружбе и общих баталиях» и выразив «восхищение, которое вызывал у меня талант Вашего брата»[607].
Через неделю после похорон Моне написал письмо Жеффруа — сожалея, что разминулся с ним в Париже. А еще он сообщил о редкостном событии: он уезжает на отдых. «Я так тяжко трудился, — пишет он Жеффруа, — что совсем выбился из сил и понял, что мне нужно отдохнуть несколько недель, так что отправляюсь созерцать море»[608]. Речь шла о том, чтобы поехать с Бланш на его любимое побережье Нормандии. Бернхаймам он объяснил: «Выехать собираемся сегодня через Онфлёр-ле-Гавр и по побережью до Дьеппа; отсутствовать будем 10–15 дней. Рад буду вновь увидеть море, после долгого перерыва. Мне нужен отдых, так как я устал»[609].
Моне обожал море. Однажды он сказал Жеффруа: «Я хотел бы всегда находиться у моря или на море; когда умру, хочу, чтобы меня похоронили в буйке». Жеффруа добавляет: «Похоже, ему эта идея очень нравилась, он тихо смеялся при мысли, что будет навеки заключен в пробковом убежище, пляшущем на волнах, станет сопротивляться штормам, тихо колыхаться на легкой зыби в спокойную погоду, при свете солнца»[610]. Трудно представить себе, как Моне, с его яростными жалобами на «собачью погоду», спокойно и безмятежно колышется на поверхности бурного моря. Однако его действительно всегда влекло на побережье, особенно в Нормандию. Он часто ездил туда на этюды и на отдых с семьей — так, летом 1870 года они с Камиллой провели медовый месяц в Трувиле.
Кроме того, именно на побережье Нормандии прошли детские и юношеские годы Моне. «Я храню верность этому морю, на котором вырос», — сказал он в одном интервью[611]. Дом семьи Моне на рю Эпремениль в Гавре находился в нескольких стах метров от галечного пляжа, где отдыхающие курсировали между пляжными навесами и кромкой прибоя, а шхуны и клиперы заходили в порт, покачивая мачтами и надувая паруса. Некоторые из них Моне написал в 1872 году на картине «Впечатление. Восходящее солнце». Еще сильнее врезалась ему в память дорога, лежавшая неподалеку, — она вела от пляжа к утесам; по ней, подростком, он однажды прошел с местным художником Эженом Буденом. Буден поставил этюдник на плато над морем, а Моне зачарованно следил, как на холсте возникали утесы и небо. «С той минуты, — пишет Жеффруа, — он стал живописцем. Ему открылись этюдник, ящик с красками, холсты и кисти; ему открылся бесконечный простор моря и неба»[612].
В этот раз Моне остановился и в Гавре, и в Онфлёре. Потом — благо ограничений на бензин для него не существовало — они поехали вдоль побережья в Этрета, Фекан и Дьепп, в места, где несколько десятков лет назад он носил этюдник и холст по тропинкам как под, так и над утесами. Он назвал поездку «милым маленьким путешествием» и поведал Жозефу Дюран-Рюэлю, что «многое пережил заново, оживив воспоминания о стольких работах»[613]. И действительно, в этой части Нормандии перед ним за каждым поворотом открывался вид — рыбацкая деревушка, причудливой формы скала, волны, разбивающиеся о гальку, — который он успел написать за предыдущие пятьдесят лет. Однако война не пощадила и его любимый берег: в Этрета находился полевой госпиталь, а в Гавре — огромный тренировочный лагерь, в котором как раз проходили подготовку тысячи солдат-американцев.
В Гавре Моне остановился не в Адмиралтейской гостинице, из окна которой сорок пять лет назад написал «Впечатление. Восходящее солнце», а в другом отеле на побережье, в «Континентале». Его друг Камиль Писсарро останавливался там за несколько месяцев до своей смерти в 1903 году и написал множество пейзажей с траулерами и парусниками, вернувшись к самым истокам импрессионизма. Моне в свой черед совершал странствие в край своей творческой юности, — возможно, идея этой поездки была навеяна смертью его брата Леона, а также тем, что он, как и Писсарро, который действительно умер через несколько месяцев после приезда сюда, считал, что дни его сочтены. Вспомним его слова из письма к Саша Гитри, написанного несколькими месяцами раньше: «Каждый день приближает меня к концу».
Однако Моне был еще не готов к тому, чтобы качаться на поверхности океана вечности. Он сообщил Жозефу Дюран-Рюэлю, что вернется в Живерни, «чтобы с новым пылом приняться за работу»[614]. Похоже, воспоминания и знакомые пейзажи вкупе со свежим морским ветром придали ему сил. Художник Жак-Эмиль Бланш видел его у воды и нашел, что он «стар, но хорош собой — вышел из мощного автомобиля в роскошной шубе… Он сидел на набережной на пронизывающем западном ветру, который трепал его длинную седую бороду»[615]. О чем думал Моне, глядя в морскую даль? «Я вновь увидел, — сообщил он Жоржу Бернхайму, — прекрасные вещи, которые пробудили столько воспоминаний»[616].
Моне на отдыхе в Онфлёре, октябрь 1917 г.
Не исключено, что силы художнику вернул не один лишь свежий морской воздух. На побережье Нормандии его наконец-то настигли обнадеживающие слова от Этьена Клемантеля. Одно из писем Моне Клемантелю потерялось, вернее, так утверждал сам Клемантель, что было забавно, поскольку почтовая и телеграфная службы находились в его ведении. Сразу по возвращении в Живерни в конце октября Моне получил от администрации по делам изящных искусств официальный заказ на изображение собора в Реймсе. «Хочу Вам сказать, — писал он Альберу Далимье, — что я весьма польщен такой честью»[617]. Гонорар за работу составлял 10 тысяч франков[618]. Это было меньше, чем ему обычно платили в тот период. Несколько недель спустя он заявил, что «стандартная цена» его картины составляет 15 тысяч франков,[619] а за работы из собрания Джеймса Саттона, проданные в начале того года с аукциона, было заплачено в среднем более 33 тысяч за каждую. Впрочем, этот заказ Моне взял не ради денег, в которых, собственно, и не нуждался: несколько дней спустя он получил от Дюран-Рюэля чек на 51 тысячу 780 франков за продажу картин. Он, однако, понимал, что правительственный заказ может дать ему то, что не купишь ни за какие деньги, а именно уголь, бензин и престиж.
После того как заказ наконец-то был получен, Моне настолько воспрянул духом, что даже ответил согласием на давнее предложение братьев Бернхайм-Жён. Братья заказали критику Феликсу Фенеону биографию художника и надеялись прислать будущего автора в Живерни для интервью. И вот Моне наконец-то согласился, хотя и попросил пару недель на то, чтобы привести мастерскую в порядок и «переработать кое-какие вещи, на которые я теперь смотрю свежим взглядом». Впрочем, к идее написания биографии он относился скептически. «Со своей стороны, — сказал он Жоржу Бернхайму, — я считаю, что с публики довольно и моих картин»[620]. Сомнения Моне свидетельствуют о его неподдельной скромности, поскольку биография, написанная Фенеоном — широко известным художественным критиком, владельцем галереи, другом Матисса, покровителем Сёра и издателем Рембо, — свидетельствовала о подлинном признании.
Моне удовлетворил еще одну просьбу. Дюран-Рюэль все еще надеялся заполучить фотографии некоторых новых работ Моне, дабы разжечь любопытство клиентов. Предыдущей зимой Моне наотрез отказался. Сейчас он проявил большее понимание, и в середине ноября 1917 года к нему прибыл фотограф; были отсняты не только огромные полотна, но и великолепная новая мастерская. Зрители получили возможность заглянуть в просторное рабочее помещение Моне. В середине спартански отделанной комнаты стоит большой стол на козлах, на нем расставлены инструменты художника: несколько банок, из которых торчат десятки кистей, парочка палитр (одна новая), несколько десятков аккуратно сложенных деревянных ящиков с красками, закупоренная бутылка вина. Старый диван на два сиденья притулился у стены, рядом стоят маленький столик и деревянный стул.
Моне, с неизменной сигаретой, работает в новой мастерской. Широкие холсты установлены на мольбертах с роликовыми колесами для удобства перемещения
© Getty Images
Однако наиболее ценными были фотографии самих картин, расставленных вдоль стен мастерской: чтобы проще было их перемещать, мольберты были снабжены колесиками. Кроме того, фотограф запечатлел восемь-девять полотен высотой под два метра, шириной около пяти. Видимо, эти колоссальные панели заставили Клемантеля, Матисса, Марке и других посетителей онеметь от изумления — масштаб амбиций и дарования старика действительно поражал. На двух полотнах были изображены плакучие ивы у пруда — толстые стволы обрамлены ниспадающей завесой ветвей; на других мерцала отражениями поверхность пруда с водяными лилиями. Все они свидетельствовали о напряженном труде и колоссальном таланте — и подтверждали слова Моне о том, что он извел очень много краски.
Фотографии также позволяют судить о причинах тревог художника по поводу его работы. На нескольких снимках холсты стоят под углом около ста шестидесяти градусов друг к другу. На двух фотографиях видны четыре почти пятиметровых полотна, составленные вместе, — они образуют огромную изогнутую панораму длиной около двадцати метров, которая в случае успеха должна оказаться в большом круглом помещении.
Моне никогда еще не брался за работу столь масштабную и столь сложную. Нужно было принимать в расчет индивидуальные свойства отдельных больших полотен, а главное — как они будут выглядеть вместе, в ансамбле, когда выстроятся по окружности. Сделать так, чтобы перспектива во всех них оставалась одинаковой и убедительной, чтобы цвет и свет одного пятиметрового полотна не противоречил цвету и свету соседних — притом что части их были разнесены чуть не на пятнадцать метров друг от друга, а писались они с интервалом во много месяцев, — все это были новые и непростые задачи. Даже на небольших, метровых полотнах, на которые уходило по нескольку дней, было непросто (чему свидетельством многочисленные гневные вспышки Моне) отразить тонкую игру переменчивых эффектов, таких важных для художника. А последние три года он пытался достичь того же самого в композиции шириной почти в двадцать метров, работа над которой требовала не дней, а месяцев и даже лет.
Не один Моне той осенью демонстрировал исключительную энергию и решимость. Через несколько недель после ноябрьского визита фотографа в его мастерскую Моне пишет Жозефу Дюран-Рюэлю: «А теперь мой старинный друг Клемансо пришел к власти. Какое для него бремя! Справится ли, невзирая на все ловушки, которые ему расставят? Но при всем при том — какая энергия!»[621]
В Париже разворачивались эпохальные события. Французская политика становилась все более дробной и беспорядочной, оппозиционеры справа и слева практически блокировали способность премьер-министра и его кабинета управлять страной. Продержавшись менее полугода, правительство Александра Рибо пало в сентябре, на его место пришло правительство Поля Пенлеве, которое, в свою очередь, протянуло всего два месяца. Через два дня после вынужденной отставки Пенлеве, которая состоялась 13 ноября, президент республики Раймон Пуанкаре призвал Жоржа Клемансо в Елисейский дворец. Пятидесятисемилетний Пуанкаре был известен своей расчетливостью и хладнокровием. «У него вместо сердца камень» — так выразился другой политик[622]. На самом деле сердце Пуанкаре было всегда открыто для животных, для бесконечной череды любимых сиамских котов, колли и овчарок, которых он трепетно обожал, заявляя, что эти «загадочные существа» ни в чем не уступают людям[623]. Его вера в бессловесных тварей не пошатнулась даже после недавней вопиющей истории, когда на его жену Генриетту, отдыхавшую в саду при Елисейском дворце, напал сбежавший шимпанзе и уволок ее на липу. Эта история выглядела характерной в свете трагикомической неспособности президента навести хоть в чем-то порядок[624].
Будучи президентом республики, Пуанкаре отнюдь не являлся самым влиятельным или важным человеком во французской политике. Его избрала палата депутатов, а она, как правило, останавливалась на тех кандидатах, которые менее всего угрожали ее собственной деятельности. «Меня критикуют за бездействие, — заявлял во время своего президентского срока Феликс Фор. — А чего вы хотите? Я — то же самое, что и английская королева»[625]. Аналогия была вполне точной, поскольку и полномочия, и ограничения у президента были почти те же, что и у конституционного монарха. Клемансо прибег к другому сравнению. «По сути, — иронизировал он, — на свете существует всего лишь два совершенно бессмысленных органа: простата и президентство»[626].
Впрочем, у президента была одна важная обязанность: назначение премьер-министра, человека, который должен был выбрать членов кабинета и сформировать правительство. Однако и премьер-министры далеко не всегда были впечатляющими образцами политической мощи. Следуя примеру депутатов, которые выбирали слабого, наиболее безобидного для них политика, президент норовил назначить на должность премьер-министра какую-нибудь посредственность. Тем не менее падение трех правительств по ходу одного 1917 года — не говоря уж о захлебнувшемся наступлении, мятежах в армии, дефиците угля и продуктов питания — убедило Пуанкаре в том, что у кормила нужна твердая рука. И он, соответственно, сумел переломить самого себя.
Решение это далось ему нелегко. Они с Клемансо от всей души ненавидели друг друга. «Безумец, — шипел Пуанкаре на Клемансо в дневнике, — дряхлый, мрачный, пустой человек». Клемансо же пригвоздил Пуанкаре одной из своих знаменитых шуток — в очередной раз припомнив ненужный анатомический орган: «На свете существует всего лишь две совершенно бессмысленные вещи. Одна — это аппендикс, другая — Пуанкаре». Кроме того, он называл его «весьма неприглядным животным… по счастью, существует единственный представитель этого вида»[627].
Раймон Пуанкаре
В данном случае два политика отнеслись друг к другу с неожиданной предупредительностью. «Прибыл Тигр, — писал в дневнике Пуанкаре, — он раздобрел, глухота усилилась. Ум по-прежнему остр. Но здоровье и сила воли? Боюсь, одно либо другое могло ослабнуть»[628]. Пуанкаре не знал о том, что Клемансо страдает диабетом, однако был в курсе, что несколькими неделями ранее Тигр отпраздновал семьдесят шестой день рождения. Пуанкаре долго дебатировал — как про себя, так и в кругу других политиков, — идти ли на подобный риск и призывать ли этого, как он выражался, «дьявола во плоти» на должность главы правительства. «Я вижу у Клемансо огромные недостатки, — пометил он в дневнике. — Непомерная гордость, непредсказуемость, фривольность. Но имею ли я право списать его со счетов, если под рукой нет больше никого, кто соответствовал бы требованиям момента?»[629] Более того, Пуанкаре знал, что, если он не даст Клемансо сформировать правительство, этот «низвергатель министерств» снимет скальп еще с одного премьер-министра.
На следующий день после этой встречи передовица «Ом либр» вышла под заголовком «КЛЕМАНСО СОГЛАСИЛСЯ СФОРМИРОВАТЬ КАБИНЕТ». Как и предсказывал Моне, Клемансо ждало множество ловушек, но в данный момент даже самые ярые его ненавистники были согласны с этим назначением. Как говорилось в редакционной статье газеты «Круа» — с отсылкой к медицинскому образованию Клемансо, «состояние критическое, нужен энергичный врач. Чтобы помочь больному, придется прибегнуть к операции»[630]. Другая газета отмечала, что у нового правительства есть хотя бы одно ценное преимущество: Клемансо не развернет против него кампании[631].
Все сомнения в том, что Клемансо с должной твердостью возьмется за далеко не блестящие военные дела, рассеялись, когда он назначил самого себя на пост военного министра и 19 ноября в обращении к палате депутатов сформулировал свою политику в трех словах: «faire la guerre» («вести войну»). Через день он поклялся, что будет «вести войну, и ничего, кроме войны… Однажды повсюду, от Парижа до самой скромной деревушки, загремят крики приветствия нашим победным знаменам, поруганным и окрашенным кровью, политым слезами, разорванным снарядами, — дань павшим героям. В наших силах сделать так, чтобы этот день настал — самый прекрасный день в истории нашего народа»[632].
В палате присутствовал один английский политик — Уинстон Черчилль, тогда — министр вооружений Великобритании; Клемансо в действии произвел на него очень сильное впечатление: «Он напоминал дикого зверя, который мечется по клетке, ворча и сверкая глазами… Франция приняла решение отомкнуть клетку и спустить тигра на своих врагов… Оскалившись и рыча, свирепый пожилой бесстрашный хищник приступил к действиям»[633].
Может, Моне и переживал за политические баталии, в которые скоро предстояло вступить «старине Клемансо», но он прекрасно понимал, что новое назначение его друга — большое благо для Grande Décoration. Ведь когда Клемансо в прошлый раз сидел в кресле премьер-министра, осенью 1907 года он организовал покупку правительством одной из картин Моне с изображением Руанского собора; работа тут же была выставлена в Люксембургском музее. Кроме того, Моне наверняка вздохнул с облегчением, когда узнал, что, хотя Альбера Далимье и сняли с поста заместителя министра внутренних дел по делам искусств, Этьен Клемантель сохранил свою должность министра коммерции и промышленности.
Клемансо кинул клич «Война, и только война»; лозунгом Моне стало «Живопись, и только живопись». Ноябрьские фотографии показывают масштабы его тогдашней работы — если все эти произведения вывесить на одну стену, они займут метров тридцать. Причем в эту цифру не войдут многочисленные этюды, в том числе grandes études под два метра в ширину. Но Моне не останавливался на достигнутом. В 1918 году он отправил мадам Барильон письмо с просьбой «как можно скорее» прислать ему дюжину больших плоских кистей высшего качества, а также обозначил параметры холстов, которые нужно было доставить вместе с ними[634].
Масштабы амбиций Моне смог оценить художественный критик Франсуа Тьебо-Сиссон, который приехал в Живерни в теплый день начала 1918 года и несколько лет спустя описал этот визит[635]. Моне начал с того, что назвал свой проект «серией общих впечатлений» от пруда с водяными лилиями, которые — так он скромно поведал Тьебо-Сиссону, — «пожалуй, не лишены интереса». Эти сдержанные заявления, как скоро убедился критик, шли вразрез с масштабами замысла. Моне раскрыл ему свой план: написать двенадцать больших полотен, восемь из них уже готовы, а остальные четыре «в процессе». Получается, что, по словам художника, у него уже было закончено восемь полотен размером два на четыре метра, — это, безусловно, подтверждают сделанные в ноябре 1917 года фотографии. Еще четыре картины тех же размеров находились на разных стадиях готовности. Соответственно, окончательное целое должно было занять пятьдесят метров по периметру выставочного зала — он по замыслу художника должен был иметь как минимум шестьдесят метров по окружности и почти двадцать метров в диаметре. Полотнами Моне можно было бы завесить половину такого большого помещения, как палата депутатов, вмещавшая шестьсот человек. Моне никогда не рассматривал ее как место для экспонирования своих работ, но эти масштабы подтверждают, что ему требовался либо огромный зал, либо отдельный музей. «Богатый еврей», возникший в воображении Клемансо несколько лет назад, теперь полностью отпал. Значит, надо было заполучить какое-то общественное здание.
Тьебо-Сиссон нашел Моне оживленным и в добром здравии, «с улыбкой на губах, бодрым блеском в глазах, а рукопожатие его было искренним и сердечным. Груз семидесяти восьми лет он нес с легкостью… единственным признаком возраста оказалась полностью седая борода». Критика поразил оптимизм, с которым Моне относился к своей задаче: ему представлялось, что он уже видит конец своим гаргантюанским трудам. «Через год, — сообщил он Тьебо-Сиссону, — я закончу эту работу так, как этого хочу, если только глаза не сыграют со мной злую шутку».
Глаза не сыграли, но в начале 1918 года Моне столкнулся с другими досадными затруднениями — их вызвала война. Не хватало рабочих рук, а значит, ему нелегко оказалось найти плотника, чтобы сделать большие подрамники для полотен. Когда подрамники были готовы, не сразу удалось привезти их в Живерни — из-за дефицита угля и вагонов поезда ходили все реже. А поскольку для гражданских лиц были введены ограничения, те редкие поезда, которые все-таки выходили на линию, отказывались перевозить крупные подрамники как в почтовых, так и в багажных вагонах. Хуже того, стали возникать сложности с масляными красками[636].
Причиной нехватки красок, возможно, стал новый тип маскировки, придуманный Гираном де Севола. На участке фронта в двадцать пять километров, от Рувруа до Буа-де-Лож, маскировщики недавно установили двести пятьдесят тысяч квадратных метров рафии (материала, похожего на солому) и сто тридцать тысяч квадратных метров раскрашенного холста: с их помощью скрывали дороги, каналы, аэродромы и окопы, — словом, они должны были вводить немцев в заблуждение. В июне 1917 года в маскировочной студии написали огромное полотно — оно было поднято над окопами в Мессене и должно было изображать триста бойцов, «вставших над бруствером». В то же время на Сене, неподалеку от Мезон-Лаффита, в пятнадцати километрах от настоящего города, стали строить «фальшивый Париж», с рисованными заводами и железнодорожными станциями и даже с копией Елисейских Полей, — все это делалось для того, чтобы отвлечь немецкие бомбардировщики от столицы[637]. Клемантель лично подготовил доклад, в котором говорилось, что на нужды маскировки французской армии требуется ежемесячно по десять тысяч тонн джута[638].
Краска, холст, транспорт — во всем этом отчаянно нуждалась армия. Моне, разумеется, тоже работал для фронта. В январе он получил от Клемантеля письмо — тот предвкушал «демонстрацию всему миру Вашей великолепной военной работы. Надеюсь, что этой весной Вы будете и дальше постепенно приподнимать уголок завесы, являя миру чудеса, которыми пока могли восхищаться только Ваши друзья»[639]. Под «военной работой» (œuvre de guerre) министр явно имел в виду не «реймсский заказ», но Grande Décoration.
Так начался переход от Реймса к Grande Décoration. Прекрасные полотна с изображением водяных лилий и плакучих ив являлись «военной работой», поскольку создавались в военное время, однако они ничего не давали непосредственно фронту, да и начаты были еще до того, как прозвучал первый выстрел. Однако, похоже, что в начале 1918 года Клемантель рассматривал возможность использовать Grande Décoration, как и злосчастный «реймсский заказ», в качестве мощного пропагандистского оружия — ведь он возвестит о славе французской культуры. Посмотрев на эти многие метры расписанного полотна, он решил, причем не без оснований, что работа Моне близка к завершению и, вероятно, уже весной 1918 года можно будет представить ее публике. Должно быть, Клемантель имел в виду нечто подобное официальным визитам, которые высокие гости наносили в «Пантеон войны», пребывавший в процессе создания. Гигантская панорама на рю Университе стала чуть не обязательной остановкой для всех приезжавших в Париж делегаций. Кроме того, проводились экскурсии для заинтересованных частных лиц, так что панорама не сходила со страниц газет: высокие гости постоянно расхваливали «благородный и вдохновенный патриотизм» Каррье-Беллеза и его соратников[640].
Моне не стал разубеждать Клемантеля в том, что уже скоро можно будет увидеть готовую работу, а вот о поездках в Реймс больше не упоминал. Впрочем, использовать заказ для получения определенных привилегий он продолжал. К началу 1918 года очень выросли цены на уголь, кроме того, на него ввели жесткие нормы. Жандармам приходилось охранять Булонский лес, чтобы замерзающие парижане не рубили там деревья на дрова[641]. Даже бывшая жена Клемансо Мэри, проживавшая теперь в Севре, вынуждена была отправить горничную на улицу на поиски щепок и мусора, чтобы пустить их на отопление[642]. У Моне таких проблем не было. «Наконец получил уголь, — сообщал он Клемантелю в январе, — премного признателен»[643].
Как писал один парижанин другому в начале 1918 года, «по всему городу выстраиваются очереди буквально за всем, даже за спичками и табаком»[644]. Многие выстаивали в очередях на морозе зазря. В подготовленном Клемантелем докладе говорится, что в начале 1918 года солдат, находящихся в окопах, удастся обеспечить двумя тысячами тонн табака в месяц, «но только при условии, что поставки гражданскому населению будут практически прекращены»[645]. Измаявшийся от недостатка никотина журналист из «Голуа» с юмором описывает свои отчаянные попытки достать в Париже пачку сигарет после «бессонной ночи, наполненной дикими галлюцинациями: пачка табака снова и снова вырывалась из моих жадных рук и таяла в воздухе». Он перепробовал множество лавок, в том числе и табачника на бульваре Пуассоньер, под дверью которого стояла, лелея последнюю надежду, целая толпа, но всюду ему давали один и тот же ответ: «Ничего не осталось»[646].
Но был один гражданский человек, которому не приходилось томиться в очередях за сигаретами и выслушивать трагическое: «Ничего не осталось». Моне мог курить, сколько душе угодно, в своей хорошо протопленной мастерской. Он отправил Клемантелю благодарственное письмо за то, что тот «взял на себя труд» обеспечить его сигаретами. «Вы ведь прекрасно знаете, — писал он министру, — как я люблю курить»[647].
Глава одиннадцатая Плакучие ивы
Немецких пилотов не смогли обмануть гектары холста и краски, с помощью которых маскировщики создавали свой иллюзорный Париж. 30 января, ближе к полуночи, три эскадрильи бомбардировщиков «гота» зашли на реальный город. В течение двух часов выли сирены, взлаивали зенитные орудия, в небе гудели французские аэропланы. Многие парижане вышли на улицы, на ночной морозец, чтобы понаблюдать зрелище, которое Марсель Пруст, глядевший на него с балкона отеля «Ритц», назвал «восхитительным апокалипсисом»[648]. К утру погибло тридцать шесть человек, а сто девяносто получили ранения; на площади Согласия лежали обломки французского аэроплана. Как и в страшные дни конца августа 1914 года, вокзалы были забиты желающими уехать.
В декабре 1917 года Жорж Клемансо предупредил Военный комитет: «Я полагаю, что немцы вот-вот предпримут самое отчаянное усилие с начала войны, несравнимое даже с Верденом. В этом нет никаких сомнений»[649]. Тех, кто услышал это тревожное заявление, оно, похоже, застало врасплох. После почти трех лет кровавой патовой ситуации конец войны было трудно себе представить. Один английский офицер даже подсчитал, что, если основываться на средней скорости продвижения на Сомме, хребте Вими и под Мессеном, союзники доберутся до берегов Рейна примерно через сто восемьдесят лет[650]. Более того, к 1918 году немцы заключили сепаратный мир с Россией и теперь могли сосредоточить все свои силы на Западном фронте, чтобы смять союзников стремительным наступлением.
Развалины обувного магазина, разрушенного «парижской пушкой»
С приходом весны налеты на Париж участились. В семь утра 21 марта в городе взорвался мощный артиллерийский снаряд. По ходу дня прогремел еще двадцать один такой же взрыв — все снаряды были выпущены с лесистого холма, находившегося на расстоянии в сто двадцать километров от французской столицы. Эти снаряды выпустило могучее новое орудие — «парижская пушка», она же «труба кайзера Вильгельма», стотридцативосьмитонный колосс со стволом длиной почти в сорок метров. Более крупного орудия в ту войну не использовалось; огромная пушка (вскоре получившая от парижан прозвища «Колоссаль» и «Большая Берта») могла отправить двухсоткилограммовый снаряд в стратосферу, на сорок километров над землей. Обстрел Парижа длился много дней, с большим числом погибших; вновь началась паническая волна эвакуации. Самый трагический эпизод произошел 29 марта, в 16:20, когда снаряд попал в церковь Сен-Жервез; крыша обрушилась прямо на прихожан, пришедших на службу в Страстную пятницу. «Проклятые исчадия ада! — вскричал архиепископ Парижский. — Для своего преступления они выбрали день и час смерти Христа!»[651] Погибло восемьдесят восемь человек, шестьдесят восемь были ранены.
Клемансо сохранял бодрость духа и оптимизм. «Я очень доволен, — цитировала его одна газета. — Все идет хорошо»[652]. Своему лондонскому коллеге Ллойд-Джорджу он отправил телеграмму: «Мы со спокойствием, мужеством и уверенностью смотрим в завтра»[653]. Клемансо еженедельно выезжал на фронт и совершал обходы Парижа, осматривая разрушения, оставленные «парижской пушкой». Вид Тигра, покрытого грязью после поездки в окопы или осмотра разбомбленных зданий, воодушевлял тех, кто еще оставался в городе. Скоро он уже напоминал им самых великих деятелей французской истории. «Мы верим в Клемансо так же, как предки наши верили в Жанну д’Арк», — заявил Морис Баррес, писатель и депутат правого толка. Другой писатель, «гонкурист» Леон Доде, отметил, что в метро и в омнибусе постоянно слышно одно и то же: «Старик с нами. Мы их разобьем!»[654] Уинстон Черчилль, выезжавший в конце марта на фронт вместе с Клемансо, был поражен его энергией, мужеством и несгибаемой решимостью. «Удивительный персонаж, — писал Черчилль домой жене. — Каждое его слово — особенно общие размышления о жизни и нравственности — стоит того, чтобы его выслушать. Дух его и энергия неиссякаемы. Вчера — пятнадцать часов по плохим дорогам в автомобилях, на высокой скорости. Я совершенно вымотался — а ведь ему 76 лет!»[655]
Немецкий натиск не ослабевал. В конце мая, после самого интенсивного артиллерийского обстрела за всю войну — за четыре часа утром 27-го немцы выпустили два миллиона снарядов, — линия обороны союзников была прорвана. Западный фронт внезапно откатился назад на протяжении полутораста километров траншей, от Кеана до Реймса, немцы захватили департамент Эна и вышли к Марне возле Шато-Тьерри, всего в семидесяти километрах от Парижа. Над городом опять нависла непосредственная угроза. Черчилль впоследствии с восхищением вспоминал боевитые слова, с которыми Клемансо обратился в эти страшные дни к палате депутатов: «Я буду драться под Парижем. Я буду драться в Париже. Я буду драться за Парижем»[656].
Моне с тревогой следил за развитием событий из Живерни. Был момент, когда он начал прикидывать, что делать, если придется бежать, оставив дом, сад и картины на произвол судьбы. «Иногда я спрашиваю себя, — писал он Жоржу Дюран-Рюэлю, одному из четырех сыновей Поля, — что стану делать, если враг вновь перейдет в наступление. Полагаю, что мне, как и многим другим, придется бросить все». Он признавал, что «будет тяжело отдать все, что есть, грязным фрицам»[657].
Бомбардировки и угроза вторжения заставляли Моне тревожиться и за судьбу своих картин в Париже, а не только в Живерни. В середине марта немецкий аэроплан сбросил бомбы на рю Лаффитт, совсем рядом с домом Дюран-Рюэля, где находилось около ста полотен Моне. Через месяц выстрелом «Колоссали» были уничтожены несколько банков на этой улице[658]. Жозеф Дюран-Рюэль начал вывозить принадлежавшие его фирме картины, а Гастон Бернхайм-Жён предложил забрать работы Моне из Живерни и перевезти на хранение в музей Руана — там часто прятали сокровища из Парижа. Моне предложение отклонил, заняв непреклонную позицию. И он, и его полотна останутся где есть и, если что, встретят врага. «Не думаю, что когда-нибудь покину Живерни, — сказал он Гастону. — Как я уже сказал, я предпочту погибнуть здесь, среди того, что создал»[659].
Моне продолжал терпеть все неудобства военного времени. Судя по всему, запас табака, предоставленный ему Клемантелем, закончился, и он стал выманивать сигареты у друзей. «Если сможешь добыть сигарет „Бастос“, — писал он в марте Бернхайму, — не забудь и про меня». Шофер Саша Гитри смог раздобыть ему сигарет, но в ответном письме Моне запросил не дешевых и паршивых в синей пачке, а «гораздо более качественной» разновидности, «Скаферлати», которые назвал «элегантными сигаретами из наилучшего табака»[660]. Сумел ли шофер промыслить ему элегантных сигарет, остается загадкой. В январе в одном журнале писали, что табак от «Скаферлати» столь дорог, что бедные люди вынуждены обходиться без его «терпкой сладости», и столь труднодоступен, что покрасоваться с пачкой в кафе — значит «похвалиться несравненным хитроумием»[661].
Все эти требования Моне высказывал вполне беззастенчиво, а вот продолжать работу ему вдруг стало неловко. «Должен признать, что почему-то стесняюсь работать», — сообщил он Жозефу Дюран-Рюэлю в середине июня[662]. Впрочем, как всегда, в кризисе он работал даже успешнее, чем обычно, — уходил в творчество, чтобы отрешиться от невзгод, которые теперь мог в буквальном смысле улавливать слухом. Всю весну 1918 года, с ее лихорадочно-неопределенным состоянием, он усердно трудился над своими полотнами. В апреле он заказал двадцать холстов и две новые палитры — попросил их тщательно упаковать и «как можно скорее» доставить на железнодорожную станцию Лимец[663].
Кроме того, всю весну и лето Моне проработал в саду, отчаянно жалуясь на возраст и дурную погоду. «Жить мне осталось недолго, — писал он Гастону Бернхайму, — а значит, все время нужно посвящать живописи в надежде, что успею сделать что-то хорошее — что-то, что, может, удовлетворит даже меня»[664]. За эти месяцы действительно было создано несколько изумительных картин, представляющих собой совокупные плоды творческого экспериментаторства, душевной смуты и неколебимой решимости перед лицом старости и смерти. Изумительнее всего серия картин с изображением его японского мостика — почти все они написаны на холстах меньше метра в высоту, то есть гораздо меньше grandes études или панелей Grande Décoration. Все они писались в определенное время суток. В феврале Моне объяснил Тьебо-Сиссону, что, дабы поберечь зрение, он работает под открытым небом только рано утром и под конец дня. Соответственно, почти на всех картинах изображены утренние или вечерние сумерки — мерцающая утренняя дымка или яростно полыхающий закат. Многие из этих полотен Моне впоследствии переработает, но на всех сохранятся необузданные волнообразные формы, дополненные ослепительными сполохами тропического цвета. На некоторых сам японский мостик обведен кроваво-красным контуром; на других он растворяется в грезе цвета морской волны, с мягкими сапфировыми акцентами; на других полотнах (возможно, в результате дальнейшей доработки) мост представляет собой разноцветную арку, перекинутую над морем огня и крови, а на заднем плане бушует пожар — сказочная страна, снедаемая апокалипсисом. Пусть Моне и не добрался до Реймса и не изобразил разрушенный собор в резком свете артиллерийских залпов, но безудержное воображение позволило ему воспроизвести ту же опустошительную картину в его собственном саду.
Моне когда-то размышлял о том, что картины его призваны успокаивать натянутые нервы и представляют собой «убежище для мирных размышлений». Кружащие голову изображения японского мостика явно не умиротворяли зрителя. Не годилась для этого и другая серия, работать над которой он начал тем летом, — примерно десять полотен, запечатлевших плакучие ивы у пруда. Выбор мотива примечателен — ведь война длилась уже почти четыре года и в одной только Франции унесла более миллиона жизней. Плакучая ива стала символом смерти и скорби с самого момента своего появления в Европе в начале XVIII века. Ее часто сравнивали с женщиной, точнее, она символизировала собой женское горе. Вот типичное стихотворение в прозе из книги иллюстратора Жана Гранвиля «Одушевленные цветы», опубликованной в 1847 году: «Войдите, страждущие, в тень мою; я — Плакучая Ива. В листве моей сокрылась женщина с кротким лицом. Скрывают пряди светлые ее чело и слезы на глазах. То муза тех, кто знал любовь… и утешительница тех, кого коснулась смерть»[665]. Подойдя куда ближе к замыслу Моне, в 1877 году его друг Морис Роллина написал стихотворение о плакучих ивах, «подобных женщинам скорбящим, / что клонятся уныло на ветру»[666].
Разумеется, при таких ассоциациях плакучие ивы часто можно было увидеть на французских кладбищах. Образ ивы, склонившейся над могилой, — славу ему принесла Дездемона из оперы Джоакино Россини «Отелло» (1816) («Ива… покрой утешительной тенью мою печальную могилу») — был потом подхвачен поэтом Альфредом де Мюссе в стихотворении 1835 года «Люси»:
Друзья мои, когда умру я, Пусть холм мой ива осенит… Плакучий лист ее люблю я, Люблю ее смиренный вид, И спать под тению прохладной Мне будет любо и отрадно[667].После кончины Мюссе в 1857 году на его могиле на кладбище Пер-Лашез, разумеется, посадили плакучую иву; в путеводителе XIX века говорится, что эта «знаменитая ива» (были времена, когда она считалась самым прославленным деревом во Франции) часто лишается ветвей и листьев: их обрывают на сувениры[668].
В картинах Моне, изображающих плакучие ивы, безусловно, сохранен этот традиционный элегический подтекст горя и утраты. Однако он ввернул в этот мотив — в буквальном смысле — нечто совершенно новое. Его плакучие ивы не радуют нас утешительной тенью, в их листве не прочитываются кроткие женские черты и бледные скорбные лица. Плакучие ивы Живерни, с их вывернутыми, перекрученными ветвями и темной палитрой, скорее наводят на мысль о муках и страданиях. Создается гнетущее, тревожное впечатление, которое отражено в строке из июньского письма Моне: «Как тягостна наша нынешняя жизнь»[669]. Возможно, Моне писал для того, чтобы отвлечься от Великой войны, но она сквозит в каждом дюйме его полотен. Его картины — опровержение мнения тех, кто видит в Моне всего лишь «прекрасное средство от депрессии».
Гранвиль и многие другие воплощали плакучую иву в женском облике, однако в очеловеченных деревьях Моне можно увидеть совсем другую фигуру: образ — это интересное наблюдение Пола Хейса Такера — «закаленного жизнью художника-пейзажиста». Он считает, что ива — «идеальная метафора» для самого Моне, своего рода эмблема живописца, который героически борется с невзгодами военных лет[670]. На одной из картин с изображением плакучих ив пространство поделено между потоком света горчичного оттенка и чернильной тьмой. Ива стоит между ними, ее корявые ветви тянутся к мерцающему сиянию. На другом полотне то же дерево изображено вблизи, тонкий ствол залит светом, ветви как бы вскинуты вверх, цепляются за меркнущее сияние освещенного солнцем покрова — этот образ напоминает описанные в стихотворении Роллина «фантастические» ветви ивы, подобные лучам, испускаемым колдуном.
Много раньше Моне превратил дуб из долины Крёз, который назвал «моим деревом» и в 1889 году написал дюжину раз, в «своего рода персональный символ» душевных смут и терзаний — так об этом говорит Такер[671]. С помощью Такера несложно прочитать автобиографический контекст того, как Моне изображает эти деревья, растущие у пруда: согбенные ивы, частично погруженные в темноту, но продолжающие тянуть вперед искалеченные ветви, будто протестуя против угасания света.
В августе Моне навестил торговец картинами Рене Жимпель — все свои впечатления он добросовестно записал в дневник. Жимпель и его коллега Жорж Бернхайм — он, кстати, не был родственником Жосса и Гастона Бернхайм-Жён — погрузили в поезд велосипеды, доехали до Вернона, а оттуда преодолели на колесах пятикилометровое расстояние до дома Моне.
Тридцатишестилетний Жимпель был одной из восходящих звезд в парижском мире торговли произведениями искусства, младшим партнером в фирме «Жимпель и Вильденштейн», одним из учредителей которой был его отец Эрнест. У Рене были прекрасные связи — в числе родственников числились не только Луи Виттон (двоюродный дед), но и торговцы картинами Натан Вильденштейн (двоюродный брат бабки и деловой партнер отца) и Джозеф Дювин (брат жены). Галереи фирмы находились на рю Ла Боэси в Париже и на Пятой авеню в Нью-Йорке; специализировалась она в основном на старых мастерах и художниках XVIII века, таких как Жан-Оноре Фрагонар, — одна американская газета описала их ассортимент как «высококлассные старинные работы»[672]. Отец Рене рано умер от дифтерии (в 1907 году), и тот начал расширять ассортимент, включив в него то, что можно назвать «высококлассными современными работами», особенно импрессионистов. В начале 1918 года он съездил на юг Франции и нанес визиты Ренуару и Мэри Кэссетт. Теперь же он нацеливался на еще более ценную добычу.
Это была первая личная встреча Жимпеля с Моне — художник произвел на него яркое впечатление своей внешностью и манерами[673]. Моне вышел к гостям в «большой остроконечной соломенной крестьянской шляпе» и тут же, без всяких предисловий, пустился в длинный монолог, который — если только Жимпель ничего не перепутал — представлял собой творческий манифест, приправленный личным эксцентризмом. «Ах, господа, — приветствовал Моне гостей, — я никого не принимаю, когда работаю, никого не принимаю. Если меня прерывают во время работы, это конец, чистая смерть. Вы, надеюсь, понимаете, что я всего лишь неустанно гоняюсь за осколками света. Сам виноват, пытаюсь уловить неуловимое. Просто ужас, как стремительно свет сбегает, унося с собою и цвет. Цвет, любой цвет, живет лишь мгновение — самое долгое три-четыре минуты. Что тут делать, что можно написать за три-четыре минуты? Но едва он исчез, приходится все бросать. Ах, как я страдаю, как живопись заставляет меня страдать! Она меня просто изводит. Какую она мне причиняет боль!»
Несмотря на ламентации, Моне пригласил гостей к обеду. Жимпель отметил, что терзания из-за недостижимости поставленной цели соединялись в нем с кипучей энергией. «Никогда не видел, чтобы человек таких лет выглядел столь молодо, — признался он. — Росту в нем не больше ста семидесяти сантиметров, но держится абсолютно прямо». Кроме того, на Жимпеля произвел сильное впечатление сад Моне, и совсем уж его потрясли — когда их с Бернхаймом наконец-то провели в святая святых, в большую мастерскую, — картины. Моне устроил для двух гостей специальную выставку, особым образом расположив дюжину полотен. Вместо того чтобы поставить их вертикально на мольберты, он разложил их на полу по кругу. Тем самым в студии как бы возник симулякр пруда с лилиями — Жимпель описал его как «панораму воды и водяных лилий, света и неба». Зрелище потрясло его до глубины души. «В своей бескрайности вода и небо не имели ни конца, ни начала, — пишет он. — Казалось, мы перенеслись в один из первых часов рождения мира. Это было загадочно, поэтично, восхитительно нереально».
По воспоминаниям Жимпеля, картины были «под два метра шириной и метр двадцать высотой». Эти размеры говорят о том, что Моне показал своим гостям не Grande Décoration — эти полотна были куда больше, два метра на три с половиной, — а те, что написал весной и летом 1918 года, в основном на небольших холстах, заказанных в конце апреля. Хотя художник продемонстрировал им всего около дюжины работ, по прикидкам Жимпеля Моне написал их штук тридцать. Если принять на веру расчеты торговца, получается, что Моне расписал примерно пятьдесят метров холста, и это плюс к тем тридцати пяти метрам, которые были сфотографированы девятью месяцами раньше и которые в феврале видел Тьебо-Сиссон.
Жимпеля озадачивал один вопрос: что же будет дальше со всеми этими расписанными холстами? Он считал, что даже те, что поменьше, метр восемьдесят в ширину, великоваты для одного из самых надежных рынков сбыта работ Моне: домов состоятельных американцев. Большинство картин Моне, украшавших американские дома, были примерно вполовину меньше, хотя не составляло особого труда представить его новые крупные работы в салонах манхэттенских особняков или на виллах в Ньюпорте. Впрочем, Жимпель придумал для них другое назначение: он считал, что они прекрасно подойдут для бассейнов.
Третьего августа газетные заголовки победно возглашали: «ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ НА ЭНЕ ПОД РЕЙМСОМ»[674]. В четыре утра 8 августа объединенные силы англичан, канадцев и австралийцев перешли под Амьеном в массированную атаку на Вторую германскую армию, причем с такой скоростью и напором, что канадцы, выскочившие из предутренней дымки, взяли в плен почти всю 117-ю дивизию. Немцы еще не терпели столь крупного поражения — генерал Людендорф, как известно, назвал этот день в своем дневнике «черным днем для немецкой армии». Три дня спустя кайзер Вильгельм, сокрушенно оценивая ситуацию, объявил своим генералам: «Мы почти исчерпали силы для сопротивления. Войну необходимо прекратить»[675].
Клемансо продолжал регулярно выезжать на фронт, где совещался с генералами и вдохновлял бойцов. 1 сентября фотограф запечатлел его за обедом среди развалин Руа, к юго-востоку от Амьена, — он сидел за столом, накрытым белой скатертью. Кроме того, его сфотографировали посреди руин на поле боя — он сидел на штабеле штакетника вместе с сыном Мишелем и подкреплялся из плетеной корзины для пикников. Во время одной из поездок его машина попала под массированный артиллерийский огонь. Когда офицеры стали пенять премьер-министру за то, что он рискует жизнью, он ответил: «Эти чертовы генералы вечно чего-то боятся»[676].
Во время еще одного визита молодой боец подарил Клемансо венок из цветов, собранных у обочины, «хрупкие, высохшие стебельки», — Клемансо пообещал бойцу, что ляжет с этим венком в могилу[677]. К этому времени солдаты придумали ему прозвище, которое скоро распространилось из окопов в города и деревни по всей Франции: Père-la-Victoire, Отец Победы. То была отсылка к военной песне «Отец победы», которую часто исполняли в кафе в 1880-е и 1890-е годы. В ней рассказывается история столетнего ветерана Наполеоновских войн, который призывает молодых французов следовать его доблестному примеру. В песне перечислены все славные качества старика — среди них, помимо мужества в бою, упомянуты любовь к выпивке, женщинам и песням, — а заканчивается она пламенным призывом: «Вперед ко славе, детки мои, / Возвращайтесь с победой». Песня вновь зазвучала в 1917 году в фильме Поля Франка «Отец победы», куда вошли два куплета длиной две минуты сорок четыре секунды, — видимо, солдатам, которые видели этот фильм в кинематографе, он напоминал о Клемансо, их героическом старом вояке.
Жорж Клемансо с французскими офицерами во время одной из многочисленных поездок на фронт
© Getty Images
Но даже Клемансо, которого Людендорф сокрушенно называл «самым энергичным человеком во Франции», не выдерживал такого напряжения[678]. В сентябре английский посол во Франции граф Дерби писал: «Утром беседовал с Клемансо, и впервые мне показалось, что он устал, впрочем в этом нет ничего удивительного, если учесть, что вчера он провел 14 часов в своем автомобиле — и это в возрасте 77 лет!»[679] Разумеется, Клемансо донимал диабет. «Никто не знает, — писал он позднее, — что я вел войну, имея сорок граммов сахара в моче»[680]. Кроме того, его мучила экзема, обострившаяся до того, что ему пришлось носить серые перчатки: скрывать сыпь и защищать саднящую кожу. Он с энтузиазмом занимался самолечением, и один из его друзей даже не мог понять, как он не отравился: «У него в ящике стола лежат лекарства, и он глотает их горстями». Однажды он выпил целый пузырек снотворного, хотя прописали ему дозу в одну ложку[681].
Все эти месяцы Клемансо вел невероятно активную, но одинокую жизнь. Вставал в пять или шесть утра, делал упражнения на растяжку, фехтовал с тренером, шел на массаж. Потом метался между Военным министерством — где, в отличие от предшественников, занимал один из самых маленьких кабинетов — и Бурбонским дворцом. Он почти никогда не принимал приглашений, светская жизнь свелась к нечастым визитам брата Альберта, сестры Софи и внуков. Он часто уезжал на фронт — случалось, что по два-три раза в неделю, а вот на неспешные обеды в Живерни времени не оставалось.
Как и в 1906–1909 годах, когда он тоже был премьер-министром, Клемансо решил не перебираться в официальную резиденцию, он остался в своей квартире на рю Франклин, куда въехал более двадцати лет назад. Рю Франклин находилась в Пасси, престижном районе, расположенном на другом берегу Сены, напротив Эйфелевой башни, однако квартира у Клемансо была чрезвычайно скромная: три комнаты с грязными деревянными панелями, протертым ковром и «обстановкой как в дешевой меблирашке»[682]. Тем не менее в этой квартирке разместилась его библиотека из пяти тысяч томов и столь же ему дорогая коллекция японского искусства. Среди этих сокровищ были вазы, пиалы, гравюры Утамаро, курильницы, ножны, отделанные слоновой костью, и «японская маска с устрашающим и прекрасным выражением»[683]. Кроме того, у Клемансо имелась коллекция кого, курильниц для чайной церемонии, которые он любил крутить в руках, когда читал или разговаривал. Эти ценнейшие вещи были остатками куда более обширной коллекции японских предметов, которую он из-за финансовых трудностей вынужден был, к величайшему своему прискорбию, распродать в 1894 году. В каталоге выставленных на продажу вещей значились 356 книг с иллюстрациями, 528 рисунков и вееров и — что совершенно удивительно — 1869 гравюр. Так велико было его восхищение Японией, что в первые дни войны он написал (прописными буквами) приятелю-англичанину: «ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ПРИШЛИ ЯПОНЦЫ»[684].
Сейчас, через четыре года после первых, самых страшных дней вторжения, наконец-то забрезжил финал. 5 сентября, вскоре после визита на фронт, Клемансо поднялся на трибуну и обратился к палате депутатов. Он смотрел на прекрасное помещение и рассредоточившихся по нему людей — это, безусловно, было отрезвляющее зрелище. Более десяти депутатов погибли на Западном фронте — их обитые красным бархатом кресла были задрапированы черным крепом и украшены шарфами-триколорами. Еще один депутат, тридцатишестилетний Гастон Дюмесниль, ветеран Вердена, кавалер Военного креста и ордена Почетного легиона, три дня спустя будет убит снарядом.
Клемансо заговорил — тема его выступления не менялась все четыре года: «Наши бойцы, наши великолепные бойцы, воины цивилизации — таково их истинное имя, — одерживают победы над ордами варваров. Борьба эта продолжится до полного своего завершения — это наш долг перед великим делом, за которое мужественно пролили свою кровь лучшие сыны Франции. Наши бойцы непременно даруют нам этот день — победоносный день освобождения, — которого мы давно уже заждались»[685].
Глава двенадцатая Этот страшный, великий и прекрасный час
Рассвет 11 ноября выдался в Париже туманным. То был — как жестоко напоминали читателям в каждом выпуске ежедневной газеты «Фигаро» — 1561-й день войны. К девяти часам люди в лихорадочном ожидании новостей высыпали на улицы. За день до того радиостанция, расположенная на вершине Эйфелевой башни, приняла сообщение, что немецкое командование согласилось на условия навязанного ему перемирия. Утренние газеты, лежавшие в киосках, с оптимизмом объявили, что соглашение о прекращении огня и отречение кайзера от престола неизбежны. «Война выиграна», — возвещала «Матэн». «Да здравствуют наши воины! — возглашала „Ом либр“. — Да здравствует Франция!»
Впрочем, сильно радоваться люди опасались. За четыре дня до того ложные новости о перемирии вызвали преждевременные празднования на бульварах. При этом газеты и Министерство здравоохранения советовали «избегать скопления народа»[686]. За предыдущий месяц грипп унес тысячи жизней парижан — двумя днями ранее от него скончался Гийом Аполлинер. Рано утром 11-го числа несколько обшарпанных катафалков, реквизированных для отправки жертв испанки на кладбище, траурной процессией прокатились по Елисейским Полям[687]. Слухи и тревоги распространялись столь же стремительно, как и болезнь. Считать ли эпидемию результатом летнего зноя, из-за которого неподвижный воздух наполнился микробами? Или это немецкое бактериологическое оружие и французская еда, зараженная смертоносными бациллами? В любом случае число жертв неуклонно росло. Одна парижская домохозяйка сетовала: «Эта хвороба будет пострашнее всех „Берт“ и „Гот“». Так оно и было, в Париже болезнь за короткое время унесла даже больше жизней, чем немецкие бомбы[688]. К парижским театрам и концертным залам обратились с призывом отменить представления, чтобы не способствовать распространению инфекции. Школы лихорадочно проветривали и дезинфицировали, собрания и наградные церемонии были запрещены, все церковные службы сократили. Если в первую неделю ноября в Париже и собирались толпы, то только перед дверями аптек, и жители — у многих на лицах были пропитанные антисептиком маски — силой прокладывали себе дорогу к иссякающим запасам хинина, касторки, аспирина и рома — совершенно в данном случае бессильных.
Была и еще одна причина, почему народ не спешил праздновать: далеко не все хотели, чтобы война закончилась. Многие скептически относились к просьбам немцев о прекращении огня и считали, что нельзя заключать мир, пока враг не отброшен обратно за Рейн и не повержен окончательно, — после целых четырех лет эта цель наконец-то показалась достижимой. Полицейский рапорт, основанный на прослушивании разговоров под дверью мясной лавки, содержал вывод, что большинство населения выступает за продолжение войны[689].
Того же самого мнения придерживался, например, Раймон Пуанкаре. Но Фердинанд Фош, главнокомандующий союзными армиями, считал, что цель союзников достигнута. «Довольно кровопролития», — возражал он[690]. Действительно, потери Франции приближались к цифре в один миллион четыреста тысяч; раненых было почти четыре миллиона. Четверти мужчин-французов, родившихся в 1890-х, — детей «прекрасной эпохи» — уже не было в живых. Хотя Клемансо и ратовал за то, чтобы «вести войну», он согласился с маршалом Фошем и приказал тому выработать военные и территориальные условия перемирия. И вот в 10:45 утра 11 ноября Фош вернулся поездом из Компьенского леса и привез документ, подписанный в его вагоне в 5:18. Он добрался до Военного министерства на бульваре Сен-Жермен. Вручив подписанный договор о перемирии Клемансо, он сказал: «Моя работа закончена. Начинается ваша»[691].
Ровно в одиннадцать часов, когда перемирие вступило в силу, были произведены пушечные выстрелы с Марсова поля и с субмарины «Монгольфьер», стоявшей на Сене у моста Согласия. «Бомбы», — решили ученики одной из школ в Латинском квартале[692]. Потом зазвонили колокола собора Парижской Богоматери. Внезапно все сомнения рассеялись — и скопление толп вдруг перестало пугать. Люди высыпали на площадь Согласия, в Тюильри, на Елисейские Поля. Торжествующие парижане карабкались на захваченные немецкие танки и аэропланы, возлагали цветы к монументу Страсбурга на площади Согласия, разбирали леса и мешки с песком, служившие защитой статуям на Триумфальной арке. На зданиях трепетали флаги — ими украсили окна. Над головой гудели самолеты, но сбрасывали не бомбы, а бумажных «бабочек радости», которые порхали вниз, на улицы. Учащиеся в Латинском квартале высыпали из классов и аудиторий и превратились в гигантскую человеческую змею, которая извивалась по бульвару Сен-Мишель. Другая змея, поющая «Марсельезу» и возглавляемая военными с лентами на мундирах, двигалась в сторону Военного министерства; все восклицали: «Да здравствует Франция!», «Да здравствует Клемансо!»[693].
В марте Военное министерство подверглось бомбардировке; на фасаде остались метины, двор был усыпан мусором. Клемансо ненадолго появился в окне. «Его приветствовали настоящим ревом», — отметила «Пти паризьен». Явно тронутый этим, он жестом попросил молчания, а потом закричал: «Да здравствует Франция! Повторяйте за мной: Да здравствует Франция!» Толпа послушно повторила клич. Позднее автомобиль доставил Клемансо в Бурбонский дворец, до которого было пятьсот метров, — машину осаждали толпы желающих выразить Клемансо свое восхищение. «Кто из присутствовавших, — вопрошал журналист из „Фигаро“, — не запомнит на всю оставшуюся жизнь прибытие Клемансо в палату депутатов?» В четыре часа дня он поднялся на трибуну и, зачитав вслух условия перемирия, возвестил: «Похоже, что в этот час, в этот страшный, великий и прекрасный час, я могу считать свой долг исполненным»[694]. Репортер из «Фигаро» заметил, что из глаз его катятся слезы. Заседание закончилось коллективным исполнением «Марсельезы».
Празднование перемирия на площади Оперы, 11 ноября 1918 г.
В тот же вечер воспоследовали новые бурные празднества, новые прочувствованные исполнения «Марсельезы», новое распитие шампанского в тех кафе, которым префект полиции разрешил открыть свои двери для ликующих многотысячных толп, прибывающих в Париж из пригородов и деревень, причем «среди них уже было много пьяных», как невинно отметил один журналист. Эйфелева башня была освещена впервые за четыре с лишним года. Красные, белые и синие лучи прожекторов бродили по небу. Один из сотрудников газеты Клемансо увидел в этом бесшабашном разгуле дивное предзнаменование светлого будущего. «То было дыхание общего умопомрачительного воодушевления, — писал Жак Барти в „Ом либр“, — которое свидетельствовало о рождении нового мира, о великом воскресении всех славных героев, отдавших жизни за свою страну, за цивилизацию». Этих павших бойцов он уподоблял «прекрасной и благотворной обожествленности свободного человечества, объединившегося для великой цели».
Клемансо бродил по ликующим бульварам под руку с сестрой Софи. «С нынешнего утра меня перецеловало больше пятисот девушек», — хвастался он впоследствии Пуанкаре. Раздраженный Пуанкаре желчно заметил в дневнике: «Для всех он — освободитель оккупированных территорий, организатор победы. Он один воплощает собой Францию… А меня, понятное дело, вовсе не существует»[695]. Разумеется, хладнокровный, невозмутимый Пуанкаре не мог состязаться с красноречивым, пылким и неистовым Отцом Победы. Уинстон Черчилль, слышавший в то утро в Лондоне, как Биг-Бен звонит в честь наступления мира, позднее писал: «Клемансо был воплощением и выражением Франции. В той мере, в какой один человек, при почти волшебном увеличении, может быть целой нацией, он был Францией»[696].
Но хотя Клемансо и заявил в тот день, стоя перед восторженными депутатами, что считает свой долг исполненным, чувство это быстро улетучилось. В страшные июньские дни он заявил в палате: «Теперь дело живых — завершить великие дела павших»[697]. Он решил остаться на своем посту и довести начатое до конца. Когда вечером 11 ноября он возвращался на рю Франклин, он прекрасно понимал, что впереди его ждут почти непреодолимые трудности. Внезапно он замкнулся в себе, едва ли не впав в уныние. Что бы он там ни говорил в палате, ему было ясно, что еще многое предстоит сделать. В ушах его наверняка звучали слова маршала Фоша. «Мы выиграли войну, — сказал тот одному из генералов, — теперь нужно выиграть в мирное время, а это может оказаться даже сложнее»[698].
«Ко мне на обед приезжал великий Клемансо, — написал Моне братьям Бернхайм 24 ноября. — То был его первый выходной день, и он решил нанести визит именно мне, чем я очень горжусь»[699].
Клемансо приехал в Живерни 18 ноября, ровно через неделю после подписания перемирия. Моне отправил ему письмо 12 ноября, в тот день, когда газеты — например, «Пти паризьен» — превозносили Клемансо как «освободителя» Франции. «Великий и дорогой друг, — писал Моне, — я почти закончил две декоративные работы, которые хочу подписать в день Победы и с Вашей помощью предложить в дар государству. Это малость, но для меня это единственный способ поучаствовать в Победе. Я бы хотел, чтобы два этих панно поместили в Музее декоративного искусства: буду счастлив, если Вы выберете их лично. Я Вами восхищаюсь и сердечно Вас обнимаю»[700].
Клемансо не терпелось посмотреть на картины, а еще сильнее ему хотелось навестить Моне, с которым они не виделись почти год. Более того, «великий Клемансо» надеялся отдохнуть от своей громкой славы. За несколько дней до того он попытался тайно смешаться с толпой, чтобы поучаствовать в праздновании победы, — послушать сопрано Марту Шеналь, которая пела на Пляс д’Опера. «Но долго сохранять инкогнито месье Клемансо не удалось», — писала одна газета. Его скоро заметили в толпе и попытались с триумфом пронести по улице — ему пришлось искать спасения в соседнем доме, с окнами, выходящими на Пляс д’Опера, — оттуда он и смотрел концерт. За день до поездки в Живерни он вместе с Пуанкаре и другими высокопоставленными лицами появился перед монументами Страсбурга и Лилля на площади Согласия — и толпа тут же принялась скандировать: «Да здравствует Клемансо! Да здравствует Клемансо!» Видимо, человеку, который главным своим делом почитал полемику и обличения, а жизнь мыслил как борьбу, непросто было смириться с этим почти всеобщим обожанием[701].
Итак, 18-го числа, в понедельник, отложив на этот день все официальные обязанности, Клемансо позвонил домой Гюставу Жеффруа, проживавшему на территории фабрики Гобеленов. «Я заеду за вами», — предуведомил он[702]. Очень скоро они с Жеффруа уже мчались на запад — у них было два автомобиля и четыре шофера (вторая машина и запасные водители сопровождали их на случай поломки)[703]. Клемансо не хотел, чтобы непредвиденные обстоятельства помешали ему увидеться с Моне.
Моне ждал, что его давний друг за это время постарел, «но, пожалуй, могу сказать, — поведал он несколько дней спустя Рене Жимпелю, — что он сбросил лет десять». После объятия Моне сказал Клемансо, что тот спас Францию, но Клемансо, всегда высоко ценивший простых французских солдат, возразил: «Нет, ее спасла пехота»[704]. Тогда Клемансо в свою очередь отвесил Моне комплимент, сказав: он гордится тем, что Моне — француз[705]. Клемансо давно уже считал произведения Моне одной из вершин французского искусства и цивилизации, примерами подлинной красоты, свидетельствовавшими о нравственном и культурном превосходстве Франции над другими, — примерами тех ценностей, которые последние четыре года героические французские солдаты защищали от немецкого «варварства».
Надо думать, что визит прошел в привычной атмосфере, которую другой посетитель назвал «дружеским радушием»[706] Моне, — начали с долгого обеда на белом фарфоре в желтой столовой, а возможно (с четырехдневным опозданием), отпраздновали семьдесят восьмой день рождения Моне. Совершили прогулку по саду, зашли в большую мастерскую. «Разговоры о войне мы себе запретили, — впоследствии объяснил Клемансо Саша Гитри, рассказывая об этом визите. — Я поехал туда отдохнуть»[707]. Один из журналов сообщил об этом визите в колонке светских новостей, расписав, как бесстрашный Клемансо гуляет среди буйной зелени сада Моне: «В тот день Тигр переселился в джунгли — и был совершенно счастлив»[708].
Впрочем, нужно было поговорить и о деле — в особенности о передаче в дар двух картин. Жеффруа, как обычно, рассказывает об этом в поэтическом ключе: мол, вместе с этим даром Моне предложил Франции «букет цветов как символ победы в войне и торжества мира»[709]. Однако как именно будет происходить передача картин, оставалось неясно. Письмо Моне от 12 ноября, в котором он приглашает Клемансо в гости, слегка озадачивает. Там написано, что он почти закончил две картины, которые подпишет и, через Клемансо, подарит государству. Вроде бы это означает, что Моне имеет в виду две конкретные работы, что выбор уже сделан и что они будут помещены в Музее декоративного искусства. Однако дальше в письме сказано, что Моне оставляет право выбора за Клемансо. Какие работы Моне изначально имел в виду, сказать трудно. 18 ноября Клемансо честно выбрал две работы — возможно, вовсе не те, которые предполагал Моне: пруд с водяными лилиями и плакучую иву.
Нельзя сказать в точности, какие именно картины выбрал Клемансо. Плакучая ива, образ печали, страдания и стойкости, прекрасно подходила для того, чтобы подписать ее в день заключения перемирия и передать в дар нации. Великая война завершилась — отдать дань памяти павшим стало для культуры задачей номер один, наряду с попытками найти какой-то смысл в бессмысленной бойне, стоившей таких невообразимых жертв. Уже шли споры и выдвигались предложения по поводу того, как лучше увековечить память героев. Один проект, обсуждавшийся в ноябре, предполагал установку на вершине горы Валерьен, к западу от Парижа, гигантского монумента с надписью: «Нашим павшим». На мраморе планировалось высечь имена всех погибших воинов-парижан, а останки их упокоить внизу. Авторы идеи надеялись, что ее подхватят и во всех остальных французских городах[710]. Две картины Моне, которые предполагалось выставить в Музее декоративного искусства, тоже должны были стать напоминанием о жертвах и потерях, а также о победе — ведь обе они были выбраны лично Отцом Победы.
Музей декоративного искусства располагался в Лувре, а руководил им друг Моне Раймон Кошлен — и потому идея выставить там новые произведения Моне выглядела вполне логичной. В годы войны Моне опекал Кошлена, приглашал его в Живерни, кормил обедами, водил посмотреть Grande Décoration. Но в тот ноябрьский день Клемансо, увидев многометровые расписанные холсты, украшавшие большую студию Моне, понял, что дар можно и не сводить всего к двум работам — и что выставить его надлежит в месте более престижном, чем Музей декоративного искусства. Моне наверняка повторил своим двум друзьям то, что несколькими месяцами раньше сказал Тьебо-Сиссону: что он планирует объединить двенадцать полотен, по четыре метра шириной, в единое целое; из двенадцати было готово как минимум восемь. Два полотна выглядели более чем скромным даром в ознаменование победы, если очень скоро будет готов грандиозный цикл.
Поэтому быстро возник куда более масштабный план. Жеффруа, свидетель событий того дня, впоследствии написал, что Клемансо приехал в Живерни «выбрать некоторые работы из новой серии водяных лилий». Он использует неопределенное местоимение quelques-uns (некоторые, несколько), из чего в принципе можно сделать вывод, что либо Моне, либо Клемансо уже принял решение не ограничивать дар двумя полотнами[711]. В другом рассказе об этом дне, опубликованном в 1920 году, Жеффруа высказывается еще прямолинейнее. «В тот день, — пишет он о ноябрьском визите, — было решено, что в дар государству будет передана серия картин с изображением водяных лилий, — выбрать их должен был Клемансо и принять как подношение победоносной Франции». Значит, уже было решено, что государству отойдут не две работы, а целая серия. Далее Жеффруа пишет, что эти «огромные панно», которые Моне создал в годы войны, предстояло «повесить вместе на стенах тихих залов, куда зрители будут заходить, чтобы отрешиться от мира, отдохнуть душой, пообщаться с вечной природой. Именно такое обещание, — по утверждению Жеффруа, — Моне дал в ноябре 1918 года, когда я сопровождал Клемансо во время визита к художнику»[712]. Соответственно, идею подарить большее число картин Жеффруа приписывает Моне, кроме того, «огромные панно» предполагалось разместить в нескольких залах. Однако в другой статье, тоже опубликованной несколько лет спустя, утверждается, что мысль расширить дар принадлежала Клемансо[713]. Естественно, Клемансо отнесся к этой идее с большим энтузиазмом, ведь тем самым возрождалась его мечта собрать работы Моне в единый ансамбль и сделать национальным достоянием.
Впрочем, это ретроспективные построения, возникшие тогда, когда дар принял неожиданно масштабные размеры. Какая часть этого плана действительно обсуждалась 18 ноября, теперь сказать трудно. Однако точно известно, что с конца 1890-х годов Моне мечтал о постоянной экспозиции своих работ, причем обязательно в помещении округлой формы. В ноябре 1918 года, видимо, настало самое подходящее время: Моне столько «работал на войну», а Клемансо обладал такой властью и влиянием.
У этого амбициозного плана, безусловно, были недавние прецеденты. Наверное, Моне и Клемансо не без зависти смотрели на то, что происходило на рю Университе в Париже. Здесь всего месяцем раньше, 19 октября, была открыта круглая зала, а в ней представлена специально для нее созданная панорама «Пантеон войны». Ее окончательные размеры оказались четырнадцать метров в высоту, сорок метров в диаметре и сто двадцать три метра по окружности. Панорама включала в себя пять тысяч портретов командиров и бойцов французской и союзных армий, все в полный рост, — в том числе и дерзко глядящего Клемансо. На открытии панорамы Тигр не присутствовал, церемонию провел Пуанкаре. Судя по всему, Клемансо не был большим поклонником грандиозного замысла Каррье-Беллеза — примечательно, что на ранних эскизах, которые тоже были представлены публике, его портрета нет вообще[714].
Тем не менее «Пантеон войны» был образцом того, насколько успешным может оказаться художественное начинание, связанное с Великой войной и позволяющее зрителю «погрузиться» в происходящее. Архиепископы, генералы, венценосные особы, представители аристократии и другие видные гости города, например Сара Бернар, — все они сочли нужным зайти на рю Университе. Миновав узкий коридор, они оказались на приподнятой смотровой площадке с круговым обзором. Здесь даже имелась гостевая книга, в которой они оставляли автографы, «сопровождая их искренней похвалой»[715].
Другим прецедентом, еще более близким по сути, стал новый Музей Родена, возникновению которого, безусловно, всячески способствовал Этьен Клемантель. Роден скончался годом раньше, в ноябре 1917-го, но подготовка к созданию музея его творчества в «Отель Бирон» неуклонно продвигалась. Статуи и бюсты были с большим вкусом расставлены на пьедесталах в просторных залах, отливки помещены в капеллу, выстроенную монахинями веком ранее. Один из хранителей Люксембургского музея предвкушал, как паломники будут «прибывать изо всех интеллектуальных центров мира, чтобы полюбоваться в этих залах творчеством величайшего поэта форм нашей эпохи»[716].
Моне ездил в Медон на похороны Родена — на них присутствовали Пуанкаре, члены правительства, огромная толпа и почетный караул из соседнего гарнизона — пышность и торжественность, безусловно, соответствовали грандиозным притязаниям покойного, на могиле которого установили слепок с «Мыслителя». Надгробную речь произнес скульптор Альбер Бартоломе, который провел параллель между Роденом и юными солдатами, принимающими смерть на поле боя. Эти юноши приносили «великую жертву», и того же, заявил Бартоломе, «ждут и от величественных старцев, стоящих под французским флагом»[717].
Моне был одним из последних оставшихся «величественных старцев». У них с Роденом имелось много общего. Они считались близнецами в искусстве — «друзьями навек», как когда-то заявил Роден[718]. Слава и богатство приходили к ним одновременно. Роден ушел первым, зато у великого скульптора теперь был собственный музей — гробница, к которой можно совершать паломничества. Моне же еще нужно было определиться с тем, каким образом он оставит потомкам свое наследие.
Через несколько дней после визита Клемансо и Жеффруа Моне упал в студии, прямо за работой. «Внезапная потеря сознания, — объяснил он позднее, — видимо, по причине холодной погоды». Его обморок вызвал сильную тревогу. Пришлось отменить визит Рене Жимпеля и Жоржа Бернхайма — он отправил им в Париж телеграмму: «Болен. Не приезжайте». Однако вскоре ему стало лучше — и по тем же проводам полетела следующая телеграмма: «Ложная тревога. Жду»[719].
И все же, когда два торговца прибыли к нему через неделю, Моне по-прежнему еще нездоровилось. Жимпель, которого так впечатлил его цветущий вид в августе, был поражен тем, насколько он ослаб. Кроме того, его встревожило угнетенное состояние художника. «Я несчастлив, — сказал Моне гостям, — очень несчастлив». Они удивленно спросили почему, и в ответ он прочитал им обычную лекцию о том, как это тяжело, когда видит око, да зуб неймет, — как живопись заставляет его страдать, как он недоволен всеми своими предыдущими работами, как «каждый раз, начиная трудиться над картиной, я надеюсь создать шедевр, в этом и состоит мое намерение, — но ничего не получается. Это ужасно — вечно испытывать недовольство. Я тяжко страдаю». Он сказал, что был гораздо счастливее, когда продавал свои работы по 300 франков: «Как бы я хотел вернуться в те дни»[720]. Предаваясь ностальгии по поводу якобы безденежных, но счастливых дней юности, он благополучно забывал о том, как часто в те времена давал волю гневу и отчаянию.
Обморок почти не имел последствий, однако в середине декабря Моне начал жаловаться на «сильные ревматические боли»[721]. Проблемы со здоровьем стали номинальной причиной еще одной просьбы, с которой он обратился к Этьену Клемантелю. Министр недавно принял участие в судьбе Мишеля, которого еще не демобилизовали и которому грозил — до своевременного вмешательства Клемантеля — неприятный перевод по службе. Кроме того, министерский указ, вступивший в силу в начале декабря, предписывал всем, кто собирается путешествовать обычной или железной дорогой, получать пропуск от гражданских властей[722]. Это ограничение доставило Моне много неприятностей. Он не любил ездить в Париж или дальние окрестности, однако ему нравилось кататься по ближним дорогам со своим шофером Сильвеном. «Хочу попросить Вас еще об одной услуге, — написал он Клемантелю. — Было бы очень любезно с Вашей стороны, если бы Вы могли отрекомендовать меня префекту Эра и спросить, не согласится ли он дать мне пропуск для поездок, не по всей стране — о таком я сейчас просить бы и не подумал, — но только в Вернон и Боньер, к врачу, и до Манта, где я могу сесть в поезд до Парижа». В том же письме Моне напоминает министру, что ему должны прислать угля: он получил «часть, половину, причем только антрацит, а уголь для отопления дома так и не прибыл». Не мог бы Клемантель переговорить с Луи Лушером, новым министром восстановления промышленности?
Кроме того, к концу года у Моне возникли денежные затруднения. Через день после Рождества в письме Жоржу Дюран-Рюэлю он напоминает, что тот обещал выплатить ему «некоторую сумму». Он просит выполнить обещанное и «прислать, если получится, чек на 30 тысяч франков»[723]. Дальше он поясняет, что должен оплатить некие крупные счета, — возможно, так оно и было, хотя недостатка в наличных Моне наверняка не испытывал. Чек от верного Дюран-Рюэля прибыл уже на вторые сутки.
Моне, разумеется, ответил благодарственным письмом, однако изложил в нем еще одну просьбу. Как будто было мало дефицита угля и табака, во Франции к ним добавился еще и «винный кризис»[724]. Бо́льшая часть запасов была реквизирована на нужды армии (бунты 1917 года отчасти усмирили тем, что был увеличен не только табачный, но и винный паек), а с ними и wagons-foudres, гигантские цистерны, в которых вино развозили по железной дороге. И теперь виноторговцы получили возможность, как сетовала одна газета, «взвинтить цены, поскольку спрос сильно превышал предложение»[725]. Для Моне, человека, любившего начинать день стаканчиком белого вина, а обед запивать большим количеством того же высококачественного напитка, это было равносильно катастрофе. Соответственно в письме он поинтересовался, какие сокровища таятся в погребах Дюран-Рюэля. Не согласится ли он расстаться с частью своих запасов, предварительно сообщив Моне цену и качество? «Виноторговцы беззастенчиво нас обкрадывают», — жаловался он. А значит, если Дюран-Рюэль «как можно скорее» отправит первую поставку на железнодорожную станцию Вернон, Моне будет ему премного обязан[726].
В конце года к Моне прибыл чрезвычайно желанный гость — молодой человек, которого он с гордостью называл внуком. Двадцатипятилетний Жак-Жан Филипп Батлер, которого все называли Джеймс или Джимми, пожаловал в Живерни на Рождество, получив отпуск в американской армии.
Джимми был сыном Теодора Эрла Батлера и приемной дочери Моне Сюзанны Ошеде. После смерти Сюзанны в 1899 году Батлер женился на ее старшей сестре Марте — она помогала ему воспитывать Джимми и его сестру Лили. За долгие годы Теодор создал множество пейзажей в Живерни и его окрестностях, часто выставлялся в Париже, порой в тех же салонах, что и его невестка Бланш. Он был одним из самых талантливых американских импрессионистов, однако ему мешало то, что в его работах постоянно усматривали подражание Моне. Один критик заявил, что Батлер «цепляется за пример Клода Моне, точно прилипала, с настойчивостью и буквализмом, которые провоцируют неприятные сравнения»[727]. Критиковали его все: когда Батлер и Марта приехали в Нью-Йорк погостить и привезли с собой тридцать его полотен, таможенник внимательно осмотрел эти шедевры американского импрессионизма, а потом поинтересовался: «А они закончены?»[728]
Батлеры жили совсем рядом с Моне, дальше по улице и за углом, на рю Коломбье. В 1914 году они присоединились к американскому исходу, пересекли океан и в конце концов осели в Нью-Йорке, на Вашингтон-сквер. Батлер пытался свести концы с концами, создавая настенные панно для общественных зданий, а когда Америка вступила в войну, он разрабатывал плакаты, призывавшие записываться в Американский сигнальный корпус. Судя по этим плакатам, Батлер явно не забыл уроки импрессионизма, так как писал их, по словам «Нью-Йорк сан», «в тревожных фиолетово-багровых тонах, которые сочетал с тускло-оливковым цветом фона и желтым мерцанием лампы»[729]. К весне 1918 года он усердно делал мишени для американской армии, изображая сельские и городские пейзажи, на которых призывники могли обучаться стрельбе. Судя по всему, здесь импрессионистическая техника нравилась далеко не всем. «В этом виде искусства дом должен быть домом, — фыркал наблюдательный журналист, — а не выглядеть как яичница-болтунья, ползущая вверх по лестнице, будто палитру держал в руках какой-нибудь эпигон неоимпрессионизма»[730].
Джимми Батлер, купание которого в детстве отец увековечил на дюжине картин, продолжил семейную традицию. Он писал пейзажи Живерни, уже в 1911 году начал их выставлять на Осеннем салоне, а потом вместе с отцом и мачехой переехал в Нью-Йорк. В 1917 году он ушел добровольцем в американскую армию, а в сентябре 1918 года Моне с гордостью сообщил Жоржу Дюран-Рюэлю, что «молодой Батлер» опять во Франции[731]. Он стал четвертым представителем родни Моне, наряду с Мишелем, Жан-Пьером и Альбером Салеру, который воевал на Западном фронте. По почти невероятному стечению обстоятельств все они выжили — Моне часто высказывал свое облегчение и благодарность по этому поводу. Впоследствии в церкви, находящейся по соседству, будет установлена памятная табличка с именами тринадцати жителей Живерни, не вернувшихся с фронта, — колоссальные потери для деревни с населением менее трехсот человек.
Рождество 1918 года Джимми Батлер провел с Моне и Бланш. Моне был чрезвычайно рад возобновлению знакомства с внуком. «Замечательный мальчик, замечательно, что он заехал к нам на несколько дней», — писал он Дюран-Рюэлю. Но прямо в Живерни Джимми получил приказ в двадцать четыре часа вернуться в расположение части и приготовиться к возвращению в Штаты. Как всегда, Моне попробовал задействовать свои связи. «Я тут же попытался выяснить, нельзя ли ему демобилизоваться во Франции, как это произошло с некоторыми его товарищами; пока не знаю, что из этого получится»[732]. Пессимизм его оказался небезосновательным. Американская армия была одним из немногих мест на земле, где имя Клода Моне никого не впечатляло.
Глава тринадцатая Старик, помешавшийся на живописи
До и после Рождества шли сильные дожди; реки разлились, луга превратились в болота. В Париже Сена вышла из берегов и затопила набережные — выгружать с барж ценнейший груз, уголь, стало невозможно. Начались перебои с хлебом, так как в пекарнях стояла вода. Рядом с Национальным мостом затонула груженная винными бочками баржа — какие-то отчаявшиеся ловкачи сумели их поднять. Ниже по течению, в пригородах, наводнение прокатилось по «Краю импрессионистов», превратив улицы в реки, а площади — в озера. В Аньере по улицам плавали на лодках; некоторым пришлось эвакуироваться[733].
Живерни скоро оказалась отрезанной от внешнего мира. «Мы окружены водой», — писал Моне 10 января[734]. По счастью, испытание им выпало не столь тяжкое, как во время эпохального наводнения в январе 1910 года, когда японский мостик Моне был частично затоплен, а вода залила половину участка и подступала к дому, — ушла она лишь недели спустя, оставив за собой зловонные руины некогда ухоженного сада. Тогда Моне, разумеется, был сильно расстроен, однако на сей раз отнесся к утратам философски. «Мой пруд сделался частью Сены, — писал он братьям Бернхайм. — Очень красиво, но очень тревожно и печально. Ни к чему нам это»[735].
Возможно, Моне смирился с потопом в саду еще и потому, что писал очень мало. Ни душевное, ни физическое состояние не способствовали усердной работе. В январе он сознался Клемантелю, что уже некоторое время плохо себя чувствует, — видимо, началось это с обморока в ноябре[736]. Возможно, он страдал от легкой формы «этого поганого гриппа», как он называл испанку[737]. Несмотря на применение новых, экспериментальных методов лечения — инъекций коллоидного золота, серебра и родия, — эпидемия продолжала свирепствовать по всей Франции. С гриппом слегли члены семей и Дюран-Рюэля, и братьев Бернхайм-Жён.
Плохое самочувствие сказалось на настроении Моне, и вскоре он заявил, что его обуревают «полное неверие в себя и отвращение». Жоссу Бернхайму он пояснил: «Мне кажется, что все сдает — и зрение, и остальное; я не способен больше создавать что-то стоящее»[738]. Бернхайм-Жён попытался мягко попенять ему за пессимизм: «Вы до сих пор в такой прекрасной форме, что многие молодые люди завидуют Вашему здоровью, — а Вы допускаете такие мрачные мысли!» Рецепт, который он предложил художнику, напоминал те, что в былые дни тому неоднократно выписывал Мирбо: «Любезный месье, мне кажется, Вы слишком много времени проводите в одиночестве — неделя в Париже, среди любящих друзей, быстро развеет Ваши мелкие невзгоды»[739].
Надо сказать, что Моне подбодрили новости о Ренуаре, который, несмотря на все болячки, продолжал активно работать. «Как я ему сочувствую! — пояснил он в письме Жоссу Бернхайм-Жёну. — И как восхищаюсь его способностью превозмочь страдания ради того, чтобы писать»[740]. Еще одним примером стойкости во дни испытаний мог служить Клемансо. Тигр пережил не только испанку, но — в феврале — еще и покушение.
В начале декабря Клемансо поехал в Лондон на встречу с Ллойд-Джорджем. Его приняли в Букингемском дворце, и вообще он прочувствовал «необычные проявления народного энтузиазма». Например, члены Королевского общества садоводов назвали именем французского премьера багрово-желтую орхидею. Репортеры отметили, что Клемансо не совсем здоров и сильно кашляет, однако на него снизошло доселе неведомое умиротворение. Когда журналисты спросили его, что ему еще осталось совершить, он жизнерадостно ответил: «О, у Тигра больше нет ни зубов, ни клыков. Ему осталось только улыбаться»[741].
Впрочем, в последующие месяцы у Тигра появилось множество возможностей, а подчас и необходимость показать зубы и клыки. Граф Дерби записал в дневнике, что Ллойд-Джордж «совсем не жалует Клемансо, что неудивительно, поскольку оба они любят верховодить»[742]. В середине декабря во Францию прибыл для участия в мирных переговорах Вудро Вильсон — парижане приветствовали его с бурным энтузиазмом: ликующие толпы, конная процессия по Елисейским Полям, транспаранты с надписью: «Да здравствует Вильсон!» Клемансо принял его с долей скептицизма: он считал, что американский президент плохо представляет себе размеры ущерба, нанесенного Франции. По воспоминаниям графа Дерби, Клемансо обозвал Вильсона идиотом[743]. В палате депутатов он высказался о благородном чистосердечии (noble candeur) Вильсона: большинство французских газет — а соответственно, и сам Вильсон — поняли это в том смысле, что Клемансо считает его наивным и простодушным[744]. Вильсон, со своей стороны, не хотел приезжать в Париж — он предпочел бы провести мирные переговоры в Швейцарии. Париж, как проинформировали его советники, был «столицей воинственной»[745]. Только революционные волнения в Швейцарии заставили его отправиться в Париж, а приехав туда, он отклонил — невзирая на настойчивость Клемансо и Пуанкаре — предложение посетить опустошенные войной французские города и села. «Презирать немцев сильнее, чем я их уже презираю, я все равно не смогу», — жестко ответил он своему советнику[746].
Несмотря на непроходящий кашель, Клемансо продолжал работать в том же плотном графике — в декабре, в сильный мороз, посетил праздничные мероприятия в Меце, Страсбурге и Льеже; лишь в январе он позволил себе небольшой отдых в залитой дождями Вандее. Одного английского корреспондента поразила «его изумительная физическая и душевная бодрость» — корреспондент благоговейно наблюдал, как Клемансо проработал в Бурбонском дворце до часу ночи, а к восьми тридцати утра вернулся обратно. Друзья Тигра, отметил корреспондент, просят его экономить силы в преддверии неизбежного напряжения, которое ждет его после открытия Мирной конференции[747]. Одна английская газета прозвала его «Великим юнцом Европы»[748].
Мирные переговоры едва начались; утром 19 февраля Клемансо вышел из своей квартиры на рю Франклин и сел в «роллс-ройс»; за рулем был его преданный шофер Альбер Брабан[749]. Лимузин двинулся к югу, потом повернул направо, на бульвар Делессер. Внезапно из-за общественной уборной выскочил молодой человек — высокий, с длинными белокурыми волосами, в мешковатых бархатных штанах — и выпустил семь пуль: две — стоя на тротуаре, еще пять — нагоняя автомобиль. «Роллс-ройс» прибавил ходу, но потом, когда полицейские уже схватили стрелявшего, развернулся и покатил обратно на рю Франклин. «Осторожнее, — произнес Клемансо, когда Брабан помогал ему выйти из машины. — Кажется, я ранен в плечо». После этого он твердым шагом вошел в квартиру.
На протяжении нескольких часов в его маленькой квартирке перебывало множество врачей, хирургов, военных — примчался даже сам президент Пуанкаре. Клемансо спокойно сидел в кресле, повторяя: «Ничего страшного, ничего страшного» — и заявляя врачам, что у него срочные дела. Первый официальный бюллетень о состоянии его здоровья был выпущен в половине двенадцатого — к этому времени перед домом уже собралась огромная толпа: «Проникающее ранение в верхней части правой лопатки, внутренние органы не задеты. Общее и местное состояние прекрасное». К часу он уже ел суп, пил минеральную воду и курил сигареты. Когда к нему явился с визитом маршал Фош, он сказал: «На фронте мне приходилось уклоняться и не от таких пулек». На самом деле это было тройное попадание. Две пули оцарапали ему предплечье и ладонь, а вот третье ранение оказалось серьезнее: пуля попала в лопатку и застряла рядом с легким. Еще две прошли сквозь одежду, две пролетели мимо. Клемансо делал вид, что ему противен человек, который так скверно стреляет с близкого расстояния.
Из лечебницы при монастыре Тре-Сен-Совёр на рю Бизе, где Клемансо в 1912 году поправлялся после операции на простате, была вызвана монахиня, сестра Теонеста. Политические противники Клемансо громко злорадствовали на тему того, что поправляться ярому антиклерикалу помогают монашки. Клемансо, как всегда, оставался невозмутим. «Мне плевать, — заявил он. — Главное — чтобы за мной толково ухаживали»[750]. Он испытывал глубокое уважение и симпатию к сестре Теонесте, эльзаске, которую он называл «мужественной духом и доброй сердцем»[751]. Через день после заключения перемирия он лично отвез ей букет цветов. «В день, когда вы вернетесь в свои края, — сказал он, — я хочу, чтобы вы вернулись со мной под руку»[752]. Наверное, она была единственным человеком во Франции, способным сладить с таким упрямым пациентом.
А кроме того, Клемансо не забыл и о Моне — тот получил из Военного министерства официальную телеграмму. «Президент посылает Вам пламенный привет, — гласила она. — Состояние его здоровья удовлетворительное, опасность миновала»[753]. Врачи, однако, пришли к выводу: поскольку пуля находится очень близко к сердцу, извлекать ее опасно — до конца жизни Клемансо носил в груди сувенир, оставшийся на память об этом происшествии.
Покушение оказалось, по словам «Ом либр», «поступком безумца-одиночки». Стрелок, двадцатидвухлетний анархист по имени Эмиль Коттен, был недоволен тем, что Клемансо якобы ущемляет права анархистов, — в частности, масштабным штрейкбрехерством на авиационном заводе в мае 1918 года. Месяц спустя его приговорили к смертной казни. Клемансо отнесся к нему милосерднее. «Я считаю, что нужно посадить его лет на восемь и постоянно водить упражняться в тир»[754]. Позднее Клемансо помиловал Коттена — тот в итоге отсидел только пять лет.
Дипломатов и делегатов, прибывавших на Парижскую мирную конференцию, приветствовали расклеенные по киоскам и зданиям плакаты: «QUE L’ALLEMAGNE PAYE D’ABORD» («Пусть Германия сначала заплатит»)[755]. Одна из основных задач, которые ставил перед собой Клемансо на мирных переговорах, состояла в том, чтобы добиться от Германии репараций за четыре года беспрецедентных разрушений. «Один народ влез перед другим в страшные долги, — заявил он еще в сентябре в палате депутатов. — Долг должен быть погашен»[756].
Немцы оккупировали почти восьмую часть французской территории, около шестидесяти пяти тысяч квадратных километров. Во Франции было полностью разрушено около трехсот тысяч домов, еще четыреста тридцать пять тысяч серьезно повреждены. Уничтожены были свыше шести тысяч церквей, мэрий и школ, еще десять тысяч получили серьезные повреждения. Около полутора тысяч железнодорожных станций и мостов нуждались в ремонте, равно как и около пяти тысяч километров железнодорожного полотна и около пятидесяти тысяч километров дорог[757]. Были стерты с лица земли целые французские деревни; другие, как, например, Дуэ, разрушены. Их черно-белые военные фотографии историк Грегор Даллас с горькой иронией уподобил за утонченно-трагическую красоту полотнам Вермеера, реши тот писать оставленные войной руины[758]. Поля и леса были изувечены снарядами, отравлены газом и иссечены сотнями километров траншей и колючей проволоки. При этом в Германии заводы, поля, железные и обыкновенные дороги, равно как и городская инфраструктура, совсем не пострадали. Клемансо опасался, что по завершении переговоров Германия сохранит экономическое и военное преимущество над Францией и будет готова напасть на нее снова. Экономист Джон Мэйнард Кейнс, прибывший в Париж с английской делегацией, суммировал позицию Клемансо (с которой был абсолютно не согласен): «Задача Клемансо — ослабить и унизить Германию всеми доступными способами… Он хочет лишить ее возможности вести обширную коммерческую деятельность»[759].
Клемансо, который через несколько недель после покушения вернулся к работе, вынужден был разбираться с коммерческой деятельностью в самой Франции. Забастовки военного времени, случившиеся в 1917 и 1918 годах, — начали их парижские швеи и работники завода «Рено» — привели к возобновлению рабочих волнений. В 1919 году сотни тысяч работников приняли участие в двух тысячах не связанных между собой забастовок — они требовали повышения оплаты труда в связи с инфляцией: бастовали сталелитейщики, угольщики, строители, механики. В метро сотрудники останавливали, а иногда и поджигали поезда. В Париже забастовку устроили даже банковские служащие — они вышли на улицы прямо в котелках и смирно гуляли большой компанией. Когда в парижских кафе бросили работу официанты, на них набросились разъяренные хозяева.
Проблемы с рабочей силой были не только в Париже. У Моне в Живерни тоже возникли определенные трудности. «Ищу очень хорошего повара, в возрасте от 30 до 40 лет, проживание в сельской местности, — гласило объявление, появившееся той весной в „Фигаро“. — Высокая оплата. Требуются положительные рекомендации. Писать Клоду Моне в Живерни, под Верноном»[760]. Оказалось, что найти хорошего повара не так-то просто: несколько месяцев спустя Моне напишет в отчаянии, что у него нет «ни повара, ни горничной — собственно, вообще никакой прислуги»[761]. К началу лета уволились все его садовники, в том числе и те, кто проработал у него двадцать лет. Старший садовник Феликс Брёй вернулся обратно в Ремалар, в ста двадцати километрах к юго-западу от Живерни, где он когда-то работал на отца Октава Мирбо. «Я в полной растерянности, — писал Моне. — В какой-то момент я даже подумал, что придется покинуть и сад, и Живерни»[762]. Впрочем, помощь была уже близка: вскоре у него появился садовник по имени Леон Лебре.
Тем временем наконец-то прибыло вино, которое он выпросил у Дюран-Рюэля, — с того момента прошло несколько месяцев. К величайшему огорчению Моне, бочка оказалась «почти пустой»: в ней оставалось всего тридцать литров; в результате он отказался от доставки и довольно долго пытался разобраться в «этой пренеприятной истории». Моне подозревал, что кто-то выкачал из бочки драгоценную влагу, — «такие злодеяния не редкость во времена нашей великой засухи»[763].
Если большинство французов летом 1919 года бастовали, то Моне усердно работал. Как и в 1917 году, за несколькими месяцами уныния последовали лихорадочные и успешные труды за мольбертом. В конце августа он сообщил, что пишет «в состоянии эйфории, которую подкрепляет прекрасная погода»[764]. На деле уже несколько недель стоял страшный зной — температура во Франции поднялась до рекордных значений за сорок лет. В середине августа в Париже было тридцать три градуса в тени. Многие выходили спать на улицу, а вообще в Париже было так жарко и безлюдно, что «Фигаро» назвала его «Парижем-Сахарой»[765].
Моне жара не мешала; он отклонил приглашение укрыться на приморской вилле братьев Бернхайм-Жён, где веял прохладный бриз. Он надевал шляпу, открывал зонтик и часами просиживал с этюдником у пруда. «Я начал серию пейзажей, которые мне очень нравятся и, надеюсь, вас заинтересуют», — сообщил он братьям Бернхайм, пояснив, что работу над Grande Décoration он «отложил» до зимы[766]. Новые картины были небольшого формата, в основном восемьдесят сантиметров в ширину и метр девяносто в высоту. Тематически они были близки к Grande Décoration — на них тоже изображены отражения на глади пруда, усеянного водяными лилиями, однако они предназначались для продажи. Моне нужно было заработать, тем более что решение сделать дар государству — особенно если в расширенном виде в него войдет бо́льшая часть Grande Décoration — означало, что упорные труды предыдущих пяти лет совсем не принесут ему дохода. Четыре из этих новых работ он отправил в галерею Бернхайм-Жён.
Результат оказался обескураживающим: ни одна из четырех картин не нашла покупателя, что свидетельствовало о том, как сильно изменились художественные вкусы по окончании войны. Десятилетие перед началом Первой мировой было героической эпохой современного искусства, отмеченной скандальными успехами фовистов, кубистов, экспрессионистов, футуристов и вортицистов. Однако, когда война завершилась, аппетиты, предпочтения, да и подходы к живописи радикально изменились. В боях погибло свыше трехсот пятидесяти французских художников[767]. Среди павших — по обе стороны линии фронта — оказалось множество апостолов современного искусства: Умберто Боччони, Анри Годье-Бжеска, Август Маке, Франц Марк, Исаак Розенберг и Раймон Дюшан-Вийон (брат более знаменитого Марселя). Других, например Густава Климта, Эгона Шиле и Гийома Аполлинера, сгубила испанка.
«Война не погубила кубизм», — писал летом 1918 года один литературный журнал[768]. Однако на деле ужасы Великой войны означали, как убедительно продемонстрировал искусствовед Кеннет Сильвер, что и зрители, да и сами художники стали отказываться от смелого новаторства — в рамках процесса, который Жан Кокто скоро назовет на лекции в Коллеж де Франс rappel à ordre (призывом к порядку)[769]. Как показывают презрительные отзывы о Kubism’e — причем именно в такой, немецкой орфографии, — многие французы стали рассматривать необычные художественные эксперименты и авантюры довоенных лет как нечто специфически немецкое, а следовательно — недопустимое. В 1919 году в Париже была образована комиссия, которая отвечала за возведение триумфальных арок и других «великих памятников павшим героям»; она обратилась за помощью к французским художникам. Но при этом предпочтение отдавалось сугубо консервативному и патриотическому искусству. Советник одной из мэрий категорически заявил: «Франция должна производить и прославлять исключительно французское искусство»[770].
Искусство Моне, безусловно, было французским. На многих его пейзажах запечатлена сама суть французской природы. Однако в определенных кругах импрессионизм все еще вызывал противоречивые чувства. В самый разгар войны, в 1916 году, художественный критик и убежденный французский националист Мариус Вашон заклеймил широко распространенное, по его мнению, заблуждение, что импрессионизм якобы является французским «официальным искусством», что он патриотичен и в определенном смысле служит олицетворением Франции. Вашон утверждал, что импрессионизм «по сути своей интернационален», так как приверженцы его раскиданы по всему миру. Хуже того, он представляет собой «воинствующую организацию», последователям которой свойственны «буйство, агрессивность, революционность, демагогия и даже анархизм», так как задача их — «атаковать и даже ниспровергать все художественные традиции»[771]. Вашон придерживался крайних взглядов, однако его жесткая критика свидетельствует о том, что во втором десятилетии ХХ века оппозиция импрессионизму далеко не сгинула, более того, ее подпитывали ксенофобские умонастроения, вызванные войной.
Трудно было себе представить, что Клода Моне образца 1919 года — упитанного, добротно одетого буржуа, хозяина собственного обширного и ухоженного участка земли — можно заподозрить в опасном анархизме. Однако его искусство туманных ви́дений оказалось не по душе ни художественным консерваторам, ни молодому авангарду. «Перевернутые картины» Моне, как назвал их Луи Жилле, не способствовали укреплению чувства уверенности в растерянном и израненном послевоенном мире, который жаждал чего-то надежного и постоянного. Да, изображения водяных лилий не были столь же вызывающими и спорными, как миры кубистов или футуристов, однако у зрителя оставалось мучительное ощущение неустойчивости, отсутствия опоры. Как утверждали Жилле и Кандинский, работы Моне балансировали на грани абстракции, где мазки как бы освобождались от обязанности представлять неизменный, узнаваемый реальный мир в том или ином реалистическом ключе[772]. Более того, изображения собственного пруда Моне нельзя было назвать типично или однозначно французскими: здесь не было той деревни «от сохи», которая, безусловно, присутствовала в его пейзажах со скирдами, тополями и видами Сены.
Моне наверняка расстроило отсутствие покупателей, однако новые работы нанесли ему и другой, куда более зримый урон. В последние пять лет катаракта почти не доставляла ему неприятностей — отчасти потому, что он принимал необходимые меры: шляпа, зонтик, обычай работать только рано утром или под конец дня. Более того, энтузиазм помогал ему преодолевать или игнорировать физическую немощь. Но летом 1919 года ясная погода заставила его выбраться из тени на яркий свет — он по многу часов разглядывал искристую поверхность пруда, — и это не замедлило сказаться на его зрении. Во время ноябрьского визита в Живерни Клемансо предложил ему сделать операцию, но Моне не горел желанием ложиться под нож хирурга. «Я очень опасаюсь того, что операция окажется смертельной, — писал он Клемансо, — а также что, если вылечить один глаз, сразу откажет другой. Я предпочитаю пользоваться как могу своим плохим зрением и готов при необходимости бросить живопись, но, по крайней мере, сохранить способность видеть хоть что-то из того, что я люблю, — небо, воду и деревья, не говоря уж о родных и близких людях»[773].
Мысль о том, что Моне ослепнет и не сможет писать, наверняка привела Клемансо в ужас — он вообразил себе, какие бури и муки это вызовет. Однако убедить своего друга в необходимости операции он не смог. С этого момента и началось то, что Клемансо назвал «неописуемой драмой», связанной с катарактой[774].
Одна из причин, почему летом 1919 года Моне взялся за новую серию картин, заключалась в следующем: он, по сути, закончил Grande Décoration. Сделать оставалось совсем немного — последние штрихи и доработка поверхностей, которые он с таким упорством покрывал краской все страшные военные годы. Работа была завершена, большинство его ровесников ушли, приближался восьмидесятый день рождения — тени начинали удлиняться. В конце 1919 года произошли два события, которые только обострили это чувство.
Сперва его посетил призрак старого друга. В ноябре Гюстав Жеффруа прислал ему книгу последних стихов поэта Мориса Роллина под названием «Конец трудов» — Жеффруа написал к ней предисловие. Моне читал ее с особым чувством. Они с Роллина были добрыми друзьями, его письма аккуратно хранились в особой папке, надписанной фиолетовыми чернилами: «Письма Роллина»[775]. «Книга причинила мне сильную боль, — писал Моне Жеффруа, — но я с большим удовольствием прочел Ваше замечательное предисловие и заново пережил прекрасные часы, проведенные в обществе этого приятнейшего, но несчастного человека. Какой печальный конец!»[776]
Морис Роллина был одной из тех фигур, чья безысходная жизнь в ее мучительном блеске выделялась даже на фоне пропитанного абсентом и зараженного сифилисом мира Парижа XIX века. Ученик Бодлера и Эдгара Аллана По, он очаровал Оскара Уайльда — тот с восторгом записывал его изречения и копировал его пышную прическу. Роллина был звездой «Черного кота», знаменитого кабаре на Монмартре, где его песни, посвященные смерти, галлюцинациям и болезням, зачаровывали зрителей, — во время выступлений он немилосердно бил по клавишам пианино и имитировал безумную жестикуляцию пациентов местной психиатрической больницы, которую специально посещал. «День и ночь, по всей земле», — так звучит его типичное стихотворение, —
«Он, один, бродил во мгле С метой тайны на челе, Сквозь терзаний круговерть. Славься смерть! Славься смерть!»[777]Один критик превозносил Роллина за то, что он превзошел Бодлера в «искренности и глубине своего дьяволизма», а другой поклонник, Мирбо, усматривал в его поэзии «взрыв радостного самоудовлетворения»[778].
Как это ни странно, Моне нравилось общество этого угрюмого, крайне самобытного существа. В 1889 году, когда он писал серию пейзажей в долине реки Крёз, он провел много времени в уединенном домике в коммуне Фреслин, в трехстах километрах к югу от Парижа, куда удалился Роллина вместе со своей подругой, актрисой Сесиль Пуэтр. Здесь поэт, прославившийся своим мрачным визионерством, счастливо удил рыбу, гулял по горам, держал животных, пел в местной церкви и шлепал в деревянных сабо — все эти занятия (за исключением церкви и всего с ней связанного) не меньше любил и Моне, который восхищался Роллина. «Воистину подлинный художник, — писал он. — Случается, он совсем падает духом, исполняется горечи и грусти именно потому, что он художник, а значит, не бывает удовлетворен, он постоянно несчастлив»[779]. Следовательно, как отметил один из специалистов по творчеству Моне, Стивен Левайн, Роллина был «идеальным двойником-мазохистом для Моне с его вечно неудовлетворенным творческим „я“»[780].
Роллина уехал во Фреслин, чтобы защитить свой «сверхчувствительный темперамент» от тревог, неврозов и трудов Парижа[781]. Однако спастись от демонов ему не удалось, и жизнь пошла по даже слишком предсказуемому пути: он пристрастился одновременно и к абсенту, и к опиуму. Впрочем, истинной причиной его печального конца была мучительная смерть Сесиль: та стала во Фреслине сестрой милосердия и заболела бешенством. Роллина оказался свидетелем ее страшных мучений, и это подорвало его психику. После нескольких попыток покончить с собой убитый горем поэт умер в клинике в Иври-сюр-Сен в 1903 году в возрасте пятидесяти шести лет.
Впрочем, когда в конце 1919 года Моне с тоской размышлял о «печальном конце», он думал не только о смерти Роллина. «Что же до меня, бедный мой друг, я живу в глубочайшей тоске, — пишет он Жеффруа в том же письме, где подтверждает, что получил „Конец трудов“. — Зрение мое опять переменилось, мне придется бросить живопись и оставить начатую работу незавершенной. Какой это для меня печальный конец!»[782]
Вскоре Моне вновь столкнулся со смертью: скончался Пьер-Огюст Ренуар. Дыхательные проблемы преследовали его еще с тех пор, когда он зимой 1881/82 года подхватил пневмонию, работая на пленэре вместе в Полем Сезанном; в декабре 1919 года у Ренуара вновь началось воспаление легких. 3 декабря, лежа в постели в своем доме в Кань-сюр-Мер, он попросил подать ему карандаш — хотел зарисовать стоявшие у постели цветы. Согласно легенде, он закончил рисунок (в некоторых вариантах — картину), передал карандаш (или кисть) сиделке и произнес последние слова: «Кажется, я начинаю что-то в этом понимать»[783]. Вскоре он скончался — ему было семьдесят восемь лет.
История, безусловно, трогательная, и она прекрасно соотносится с образом прикованного к постели Ренуара, который, несмотря на болезнь, продолжает писать. Трогает она и своим подтекстом: чтобы стать великим художником, нужны терпение и время — по сути, на это нужна целая жизнь. Возможно, миф этот вырос из истории о французском художнике Жан-Огюсте-Доминике Энгре, который за несколько дней до смерти (он скончался в 1867 году в возрасте восьмидесяти семи лет) взял карандаш и начал делать набросок с портрета кисти Гольбейна. На вопрос, чем он занимается, Энгр ответил: «Учусь»[784]. Источником могли также послужить слова японского художника Хокусая, который в старости (он дожил до восьмидесяти девяти лет) подписывал свои работы: «Старик, помешавшийся на живописи». «Я начал рисовать в шесть лет, — якобы говорил Хокусай, — однако до семидесяти лет не сделал ничего значительного. В семьдесят три года я изучил строение животных, птиц, насекомых и растений. Поэтому могу сказать, что до восьмидесяти лет мое искусство будет непрерывно развиваться, и к девяноста годам я смогу проникнуть в самую его суть. В сто лет я буду создавать картины, подобные божественному чуду. Когда мне исполнится сто десять лет, каждая линия, каждая точка — будут сама жизнь»[785].
Морис Роллина: «Какой печальный конец!»
Ренуар, как и Моне, был стариком, помешавшимся на живописи. Однако надежные источники не подтверждают истории о том, что перед вратами вечности он постиг суть искусства. Поль Дюран-Рюэль сообщает, что художник пробормотал: «Мне конец» — когда-то те же слова твердил и болящий Мирбо, — а потом выкурил сигарету. Он хотел зарисовать вазу с цветами, однако не смог, потому что — как ни жалко портить легенду — карандаш попросту не отыскался[786]. Другой вариант известен нам со слов старшего сына Ренуара Пьера, который написал Моне через несколько дней после смерти отца. Там ни цветы, ни наброски, ни карандаши не упомянуты, сказано лишь, что кончина была тихой. «Мы можем утешаться тем, что он не страдал перед смертью, — пишет Пьер, — его в два дня свел в могилу отек легких, от которого он начал оправляться, когда его сердце остановилось. Перед самой кончиной он вел себя беспокойно, много говорил в полубреду, однако на прямой вопрос отвечал, что чувствует себя хорошо. После этого он задремал, а примерно через час дыхание его остановилось»[787].
Саша Гитри и Пьер-Огюст Ренуар, кадр из фильма Гитри «Соотечественники»
Смерть Ренуара трудно было назвать неожиданной, однако для Моне она стала страшным ударом. «Можешь представить, как я грущу по поводу кончины Ренуара, — пишет он общему другу. — С ним ушла часть моей жизни. В последние три дня я постоянно возвращаюсь мыслями к нашим юным годам с их борениями и надеждами». Жеффруа он пишет печально: «Очень тяжело. Я — единственный из нашей группы, кто все еще жив»[788]. Действительно, после кончины Ренуара Моне остался последним импрессионистом. Как напомнила своим читателям одна газета, Ренуар был представителем «уникального поколения, возродившего французскую живопись… Он, как и Моне, был последним живым свидетелем той героической эпохи»[789].
Дурным предчувствиям способствовало и то, что настал конец десятилетия, за которое ушли из жизни его жена и старший сын; оно же было отмечено смертью многих близких друзей, периодическими проблемами с собственным здоровьем, а также невообразимыми ужасами Великой войны.
Глава четырнадцатая Люди с безупречным вкусом
Утром 18 января 1920 года, в воскресенье, Жорж Клемансо прибыл в автомобиле в Елисейский дворец. Министры и их заместители дожидались, по предварительной договоренности, его появления. Все они поставили подписи на письме, которое он привез. Письмо было адресовано Раймону Пуанкаре и содержало очень простой текст: «Господин президент, имеем честь уведомить Вас о своей отставке. Примите наши заверения в глубочайшем почтении»[790]. На этой лаконичной фразе правительство Клемансо было распущено, а его долгая политическая карьера завершилась. «Какую они сыграли с ним гнусную шутку!» — возмущался Моне[791].
Сомнения, которые уже давно одолевали Клемансо, — что выиграть в войне проще, чем победить в мирное время, — оказались небезосновательными. В конце июня 1919 года после длительных переговоров был наконец-то подписан Версальский договор. Среди сотен пунктов в нем значились требования разоружения Германии, возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии, оккупации Рейнской области на пятнадцать лет, выплаты репараций и создания Лиги Наций. Чтобы договор вступил в силу, его должны были ратифицировать как Германия, так и три державы-союзницы. Немецкое правительство ратифицировало его без раздумий, Великобритания — несколько недель спустя, а французская палата депутатов — в октябре. В тот же день в Белом доме у Вудро Вильсона случился обширный инсульт — он как раз вернулся из путешествия длиной в пятнадцать тысяч километров по всей стране, по ходу которого пытался убедить скептически настроенных американцев принять договор. В ноябре сенат США отверг договор — самых непримиримых его членов, возглавляемых Генри Кэботом Лоджем, Вильсон неосмотрительно обозвал «презренными… узколобыми… эгоистичными… мелкими людишками, которые только и знают, что бегать по кругу и думать при этом, что они движутся вперед»[792]. «Тан» с надеждой писала, что это недоразумение «не нанесет договору непоправимого ущерба»,[793] однако Клемансо тут же помчался через Ла-Манш на переговоры с англичанами.
То, насколько оскудел его политический капитал, стало очевидно в январе, когда его выдвинули кандидатом в президенты республики, на место Пуанкаре, у которого заканчивался семилетний срок. Что примечательно, сам Клемансо не очень стремился занять эту должность — он когда-то шутил, что она столь же бесполезна, как и простата, — однако позволил друзьям, равно как и Ллойд-Джорджу, себя уговорить[794]. Другим кандидатом был шестидесятичетырехлетний Поль Дешанель, давний соперник, с которым в 1894 году Клемансо дрался на мечах на дуэли. В тот раз Дешанель проиграл — ему пришлось покинуть поле битвы с перевязанной головой. Теперь, больше двух десятилетий спустя, он сквитался с соперником, набрав 408 голосов против 389, отданных за Клемансо. Как сообщила одна газета, против Клемансо «выступили социалисты, которые считали его слишком консервативным, и большинство консерваторов, которые считали его слишком прогрессивным»[795]. Клемансо тут же снял свою кандидатуру, и на следующий день Дешанель был избран 734 голосами. Чувствуя, что теряет доверие и поддержку палаты, Клемансо отправился в Елисейский дворец с письмом об отставке в руках. Двое англичан, гостивших тогда в Париже, были шокированы тем, как с ним поступили. «На сей раз французы сами жгут Жанну д’Арк», — заметил Ллойд-Джордж, а граф Дерби, посол в Париже, написал королю Георгу V: «Мне кажется, общее мнение — и я, надо сказать, его разделяю — таково, что с ним обошлись низко и неблагодарно»[796].
Одним из первых действий Клемансо, два дня спустя после отставки, стал визит в Живерни: утешиться и пообедать. Его отставка осложнила ситуацию с передачей картин: после принятия решения прошел уже год, но никаких официальных документов подписано не было. Ничего хорошего не сулило и то, что Этьен Клемантель тоже вышел из состава правительства: в конце 1919 года он уволился из Министерства коммерции и промышленности и стал основателем Международной промышленной палаты. Впрочем, у него Моне сумел вытянуть — еще до ухода в отставку — достаточный запас угля на всю зиму[797].
В январе Grande Décoration привлек к себе внимание видного коллекционера. Яков Зубалов был промышленником, родом с Кавказа, задолго до того вложившим все свое небольшое состояние — включая немногочисленные драгоценности жены — в нефтяную скважину в Биби-Эйбате (на территории нынешнего Азербайджана). В тот самый момент, когда он почти разорился и даже помышлял о самоубийстве, из скважины забила нефть, превратив его в «миллионера в стократном размере»[798]. Зубалов перебрался в Париж и к началу Первой мировой стал самым ненасытным и щедрым коллекционером во всей Франции. К 1920-му он собрал несравненную коллекцию французской живописи и скульптуры, включавшую в себя, в частности, работы Моне, Дега, Матисса и Дерена. Когда выяснилось, что все произведения не вмещаются даже в его колоссальный особняк на рю Эмиль-Менье в Пасси, он начал щедро дарить их Лувру, Музею декоративного искусства, Пти-Пале, а также провинциальным музеям — например, в Нанте. Только в Лувре благодаря его великодушию появилось два новых зала с бронзовой скульптурой. В начале 1920-х годов газеты писали, что за «услуги национальным музеям» Зубалов, «человек столь же щедрый, сколь и скромный», был награжден орденом Почетного легиона[799].
Этот баснословно богатый филантроп в конце января посетил Живерни и согласился приобрести за 25 тысяч франков «Тополя» Моне. Когда Зубалов вернулся в свою великолепную резиденцию, его, похоже, начали мучить сомнения. Его адвокат написал Моне, что патрон хотел бы поменять «Тополя» на «Вестминстерский дворец», который тоже видел по ходу визита. Юрист сформулировал это так: «„Тополя“ — великолепное полотно, но оно не очень хорошо сочетается с двумя другими Вашими шедеврами, которые уже имеются в его собрании». Зубалов предложил повысить гонорар до 35 или даже до 40 тысяч франков — главное, получить изображение Вестминстерского дворца. По какой-то малопонятной причуде Моне предложение отклонил; он извинился перед юристом Адриеном Эбраром и пояснил, что «Вестминстерский дворец» хотел бы оставить себе — он не продается ни за какие деньги. Впрочем, у Эбрара была еще одна просьба от лица Зубалова — она как бы между делом была высказана в постскриптуме: «А какова цена на grandes décorations, над которыми вы сейчас работаете?»[800] Но и здесь Моне не пошел коллекционеру навстречу. «Что касается декоративных панно, которые я сейчас пишу, цену на них до окончания работы установить невозможно»,[801] — безмятежно сообщил он Эбрару.
Особое значение имеет то, когда именно Зубалов высказал свою просьбу: это произошло вскоре после отставки Клемансо, то есть когда вопрос о даре государству повис в воздухе. Возникает искушение заподозрить Клемансо в том, что он намеренно направил Зубалова в сторону Живерни и Grande Décoration[802]. Продав эти вещи Зубалову, Моне наверняка получил бы достойное вознаграждение за долгие годы работы. Более того, учитывая, что Зубалов был известен как щедрый меценат, панно наверняка были бы переданы в одно из общедоступных собраний на территории Франции. Однако, если подобный план и существовал, Моне об этом не ведал. Резкий ответ на вопрос Зубалова довольно любопытен — ведь тот был именно таким щедрым и разборчивым патроном, о каком они с друзьями когда-то мечтали: он никогда не стал бы разбазаривать изображения водяных лилий и создал бы «цветочный аквариум».
В нежелании Моне говорить о Grande Décoration — в настойчивых утверждениях, что работа не закончена, и отказе продавать панно по отдельности — содержится первый тревожный намек еще на один кризис, на то, что можно назвать «неописуемой драмой», связанной с водяными лилиями.
Но если Моне не желал выставлять на продажу Grande Décoration, он был только рад сплавить другую работу, которая занимала очень много места. В феврале он узнал, что Общество друзей Лувра, возглавляемое Раймоном Кошленом, заинтересовано в приобретении «Женщин в саду»[803]. Огромное полотно, отвергнутое в 1867 году художественным советом Парижского салона, находилось в собственности Моне уже более полувека — как гордая память его нелегкой, а порой и нищей юности. То был гневный восклицательный знак в описании того, что он называл «юными годами с их борениями и надеждами». Одному приехавшему к нему журналисту он однажды указал на тень дерева, пересекающую тропинку на переднем плане. «Трудно даже вообразить себе, какой вой возмущения вызвала эта голубая тень», — сказал он[804].
Тут Моне слегка лукавил: на публике «Женщины в саду» никогда не выставлялись, а значит, в отличие от «Завтрака на траве» или «Олимпии» Мане, никогда не подвергались насмешкам зрителей и нападкам критиков. Но в любом случае, если символ неприятия художника в юности попадет в Лувр, это станет знаковым моментом как для импрессионизма в целом, так и для Моне в частности: официальным признанием течения, которое когда-то так сурово порицали. Впрочем, эта покупка, по всей видимости, имела еще и другой, куда более практический подтекст. Кошлен наверняка организовал ее как обмен на встречную услугу — на дарение работ Моне, предназначавшихся для Музея декоративных искусств, с которым у Кошлена тоже были тесные связи.
Так что даже если четыре полотна, на которых Моне изобразил свой пруд, и не спешили покинуть галерею в Париже, всю весну 1920 года потенциальные покупатели других его картин торили дорожку в Живерни. В марте он сетовал в письме Полю Дюран-Рюэлю: «Мне не на что жаловаться, кроме бесконечных визитов покупателей, они докучны, а зачастую и вовсе утомительны». Моне утверждал, что среди визитеров попадаются «люди со вкусом», хотя, по его словам, многие приезжали просто так, потому что не могли себе позволить купить картину[805]. В этом отзыве прослеживается весьма неучтивое отношение Моне к некоторым из патронов. Он не был бессребреником и отчеты братьев Бернхайм и Дюран-Рюэля просматривал с дотошностью, не вполне подобающей человеку с плохим зрением. При этом к людям, которые тратили огромные суммы на его работы, он относился с налетом презрения. Когда весной 1920 года цены на его работы в Нью-Йорке опять поднялись, он сварливо объявил, что «это доказывает одно: насколько глупа публика»[806]. Возможно, именно этим презрением к состоятельным коллекционерам и объясняется его отказ продать один из видов Лондона Якову Зубалову или рассмотреть его предложение о покупке Grande Décoration. Если так, пренебрежение было незаслуженным и неуместным, поскольку Зубалов, как справедливо отметил один журналист, выискивал произведения с «рвением и страстью» и отбирал с безупречным вкусом[807].
Среди прочих потенциальных покупателей весной 1920 года в Живерни приехал Марк Элдер — в 1913-м он получил Гонкуровскую премию за роман «Народ моря». Элдер был другом Мирбо и в 1914 году посвятил ему большую статью; в Живерни он прибыл как президент Общества друзей Нантского музея. Эти любители искусства не могли не заметить, что «превратности импрессионизма» не оставили в Нанте никакого следа, а потому, как пишет Элдер, объединили усилия, чтобы составить у себя «собрание работ новых художников», в том числе, как они надеялись, и Моне[808]. В знак признания их заслуг художник подарил музею одну из картин с водяными лилиями.
Несколько недель спустя Элдер опубликовал описание своего визита к Моне. В Живерни он прибыл в хорошую погоду, в день «пасмурный, но мягкий, напоенный сиянием юной весны»[809]. Моне повел его по саду, где несколько садовников — по всей видимости, недавно нанятых — обрабатывали клумбы «под присмотром ненасытных зябликов», а грушевые деревья роняли, как снег, цветы. Элдер вырос в Нанте, на Атлантике, и, когда они вдвоем сидели на скамье у пруда с водяными лилиями, разговор зашел о море, а потом о морепродуктах. «Простите меня, любезный мастер, — написал впоследствии Элдер в своем рассказе об этом визите, — если я раскрою, что беседа наша обратилась к чревоугодию». Смакуя подробности, они беседовали о «щуке под белым маслом, барабульке на гриле под виноградными листьями и солоноватой свежести бретонских устриц в их серых раковинах». Когда Моне с разочарованием высказался о миногах, которых ему когда-то подали, Элдер ответил: «Приезжайте, попробуйте наших!»
Судя по всему, здоровый аппетит Моне и его любовь к яствам оставались прежними. Однако он признался Элдеру, что теперь лишен одного из других своих любимых удовольствий. Когда они сидели у пруда, он стал жаловаться на слабеющий слух и на то, что не слышит «нежного бурчания жаб». «О гурман от природы, — пишет Элдер, — какая печаль прозвучала в твоем голосе!»
«Бесконечные визиты» потенциальных покупателей продолжались и летом: в начале июня в Живерни приехала небольшая компания весьма выдающихся американцев. Если нанести местонахождение картин Моне в США на карту, местами скоплений окажутся Нью-Йорк, Бостон и штат Коннектикут; остальные полотна раскиданы в самых разных местах, например в Денвере и Новом Орлеане. Это свидетельствовало о «ненасытности янки» в плане коллекционирования работ Моне. Однако больше всего его полотен находилось в Чикаго, где после Всемирной Колумбовой выставки 1893 года импрессионисты привлекли к себе внимание состоятельных местных собирателей. Обрамленные картины Моне висели в элегантных особняках на Золотом Берегу в Чикаго. Маковые поля Живерни украшали похожий на замок особняк Эвалайн Кимбол, вдовы производителя пианино Уильяма Кимбола, а покрытые снегом скирды можно было увидеть в доме Энни Суон Кобурн, вдовы известного адвоката. Однако самая представительная коллекция находилась на обитых красным бархатом стенах картинной галереи «Замок», поместья с башенками на Лейк-Шор-драйв, принадлежавшего Берте Палмер. За долгие годы она приобрела девяносто полотен Моне[810].
Когда в 1918 году Берта Палмер скончалась в своем поместье во Флориде, гроб ее в числе прочих нес Мартин Райерсон, еще один обитатель Золотого Берега, обладавший коллекцией Моне — более сорока полотен. Райерсон был американским аналогом Якова Зубалова: человеком, в котором счастливо сочетались взыскательный вкус и исключительная щедрость филантропа. Он был сыном богатого лесопромышленника из Мичигана, учился в Париже и Женеве, потом поступил на юридический факультет Гарварда, а по окончании принял на себя руководство семейным бизнесом. Райерсон был одним из основателей и благотворителей Чикагского университета — занимал пост президента попечительского совета и финансировал библиотеку и физическую лабораторию. Однако особую щедрость он выказывал в отношении Чикагского института искусств, которому в 1892 году начал дарить картины, а в 1900-м основал там на свои деньги художественную библиотеку. Его филантропической деятельностью отчасти руководил его друг, состоятельный финансист Чарльз Хатчинсон, президент и основатель Института искусств и родственник жены Райерсона Кэролайн. Оба они вместе с женами часто путешествовали по Европе в поисках картин и других экспонатов для музея. Райерсон особо любил бывать во Франции и свободно говорил по-французски. Благодаря их деятельности Институт искусств стал первым американским музеем, где появилась картина Моне: в 1903 году они приобрели за 2 тысячи 900 долларов полотно «Плохая погода. Пурвиль».
Многие принадлежавшие Райерсону картины Моне уже временно экспонировались в Институте искусств (бо́льшую часть своей коллекции он в итоге передаст туда в дар), а среди произведений, завещанных институту Бертой Палмер, было девять работ Моне. Такая щедрость коллекционеров вызвала у Леонса Бенедита, директора Люксембургского музея, восторг по поводу изобилия французских сокровищ в американских музеях — он высказал его во время поездки в Бостон, Филадельфию и Чикаго в 1920 году. «Их музеи! Такие изумительные собрания!» — воскликнул он по возвращении, давая интервью одной французской газете, а потом добавил, что Райерсон подарил Институту искусств два полных зала работ импрессионистов. К 1920 году эти собрания превзошли собрание Люксембургского музея: в нем было десять «моне» плюс всего два «мане», три «сезанна», пять «дега», семь «писсарро» и одиннадцать «ренуаров». Бенедит чувствовал, что посрамлен «благородными и щедрыми друзьями французской культуры» из США — страны, где Францию высоко ценят как «источник великих идей и как проводника цивилизации»[811].
Райерсон и Хатчинсон решили еще масштабнее представить у себя французскую культуру. Летом 1920 года шестидесятичетырехлетний Райерсон приехал во Францию и вместе со своей женой Кэролайн и женой Хатчинсона Фрэнсис отправился в Живерни. Их сопровождали один из хранителей Института искусств и архитектор[812]. Небольшая, но влиятельная делегация поставила перед собой задачу приобрести для музея не меньше тридцати крупных работ Моне с изображением водяных лилий, чтобы выставить их в специально подготовленном зале. Позднее одна чикагская газета писала, что за тридцать картин Моне они предложили 3 миллиона долларов — или 45 миллионов франков[813]. Цифра, безусловно, ошибочная — ведь даже на создание в Чикагском университете лаборатории и других кабинетов Райерсон потратил сумму куда меньшую, всего 1 миллион 150 тысяч долларов[814]. Получается, что он собирался заплатить по 100 тысяч (или полтора миллиона франков) за каждую картину, — эта сумма значительно превосходила существовавшие цены на работы Моне. (Несколькими месяцами раньше Моне сообщил потенциальному покупателю, что работы его продаются «примерно за 25 тысяч франков»[815].) Более правдоподобно звучит сумма в 3 миллиона франков (200 тысяч долларов) за тридцать больших полотен — получалось, что Райерсон предлагал 100 тысяч франков (6 тысяч 666 долларов) за каждое. Сумма крупная, но возможная, если учитывать как размер полотен, так и несметное богатство Райерсона.
К лету 1920 года у Моне накопилось множество метров расписанного полотна. Он с легкостью мог выполнить желание Райерсона, получить самый крупный чек во всей своей карьере, и у него все равно осталось бы достаточно картин, чтобы сделать щедрый дар государству. К этому моменту Grande Décoration, по прикидкам Люсьена Декава, представлял собой сто семьдесят метров полотна, а журналист Арсен Александр считал, что готовых работ Моне хватит на то, чтобы украсить пятнадцать залов[816]. В кои-то веки трезво оценив ситуацию, Моне спросил тем летом еще одного посетителя, с которым они осматривали эти бесконечные пространства: «Вам не кажется, что это чистое безумие с моей стороны — написать все это, потому как что, черт побери, теперь со всем этим делать?»[817]
Тем не менее Моне опять безоговорочно отверг саму мысль о том, чтобы расстаться хотя бы с частью Grande Décoration. Та же чикагская газета впоследствии объяснила это вздорным и неуравновешенным характером художника — тут же всплыла история о том, как в 1908 году он уничтожил собственных картин на сумму в 100 тысяч долларов. Кроме того, в качестве обоснования газета писала, что у художника мало друзей и он «живет затворником, не впуская в свой прекрасный дом журналистов, критиков и фотографов»[818].
Американский коллекционер и филантроп Мартин Райерсон в Живерни летом 1920 г.
© Durand-Ruel & Cie
На деле журналисты, критики и фотографы посещали Живерни с завидной регулярностью, да и друзей у Моне было много, несмотря на недавние набеги Старухи с косой. И тем не менее отказ Райерсону сильно озадачивает. Возможно, художнику не хотелось, чтобы его работы продолжали убывать за океан и украшать там стены домов и музеев США. Даже в 1885 году, когда к нему еще не пришел международный успех, он огорчался, что его полотна уезжали из Франции «в страну янки», и говорил, что было бы лучше, если бы они остались в Париже, «потому что там, и только там еще сохранился хоть какой-то вкус»[819]. Безусловно, антиамериканская жилка была в Моне достаточно сильна. Его нелюбовь к американцам, которые жили в Живерни перед войной, — среди них, кстати, он слыл очень сварливым человеком — преодолела океан и распространилась на всех их соотечественников. В отличие от Бенедита, видевшего в американцах благородных и щедрых друзей французской культуры, Моне был убежден, что его популярность в США доказывает только одно: «глупость публики».
Справедливости ради нужно сказать, что Моне хотел оставить Grande Décoration во Франции — а того лучше, в Париже — из соображений патриотизма, а не только снобизма. Одному из посетителей он тем летом объяснил: «Мне больно думать, что все мои работы могут покинуть мою родную страну… мне нужно какое-то место в самом Париже»[820]. Однако то, что он отклонил предложения чикагской делегации, могло быть и симптомом его сильнейшего нежелания расставаться с этими картинами, на которые было потрачено так много времени и сил.
Еще более неопровержимое доказательство нежелания Моне расставаться со своими последними работами было получено к концу месяца. После выхода Клемансо из состава правительства неофициальные переговоры по поводу дарения вел художественный критик Франсуа Тьебо-Сиссон, друг нового премьер-министра Александра Мильерана. Моне заявил, что согласен подарить свои картины государству только на двух условиях. Первое — ему позволят оставить их у себя «до конца», то есть они не покинут мастерской до самой его смерти. Второе — он должен видеть и одобрить то место, где они будут экспонироваться, и знать заранее, как именно их развесят. «Это решение я не изменю ни за что», — сказал он Тьебо-Сиссону[821].
Переговоры скоро зашли в тупик, особенно когда Тьебо-Сиссон обосновался в «Отеле Боди» в Живерни и стал постоянно докучать художнику. Моне не только сопротивлялся немедленной передаче своих работ, ему также не хотелось, чтобы вокруг этого поднимали шум. «Прошу Вас ни с кем не говорить о том, что я написал Вам касательно моих панно, — пишет он Тьебо-Сиссону в июле. — Не предавайте это дело ненужной огласке, мне это чрезвычайно неприятно, я не хочу об этом слышать. Чтобы работать, мне необходимо спокойствие… а позволить себе попусту тратить время я не могу»[822]. Моне явно не хотел, чтобы внимание прессы к его дару стало рычагом давления.
Понятное дело, дар государству теперь не ограничивался двумя работами, которые Клемансо отобрал в ноябре 1918 года. Оставалось еще решить, какие именно полотна и в каком количестве подлежат передаче. Недостатка в кандидатах не было, и, вероятно, для тех, кто, как Тьебо-Сиссон, видел почти двести метров расписанного полотна у Моне в студии, стало сюрпризом, что Grande Décoration еще не закончен, что — это звучало почти невероятно — художник продолжает писать новые картины, то есть прилив цвета продолжает наступать. В июне, в письме к Жеффруа, Моне жалуется на проблемы со зрением, однако добавляет, что бережет силы и «постоянно работает» над Grande Décoration. Тьебо-Сиссону он написал: «Я сейчас не думаю ни о чем, кроме работы… Я в том возрасте, когда нельзя себе позволить терять ни минуты»[823]. Точно акула, которая утонет, если перестанет плыть, Моне, похоже, верил, что умрет, как только перестанет писать. К лету 1920 года стало ясно, что работать над Grande Décoration он будет «до конца».
Хотя Моне не хотелось расставаться с картинами и он возражал против шумихи вокруг своего дара, сама идея, что он работает на государство, продолжала доставлять ему определенные блага. Знойным июльским днем он написал Этьену Клемантелю письмо, дабы удостовериться, что получит запас угля и на эту зиму. «Если государство хочет, чтобы я на него работал, — сообщает он Клемантелю, — оно должно обеспечить мне необходимые средства, а Вы, мой дорогой друг, — единственный человек, на которого я могу рассчитывать». Он попросил, чтобы уголь, как и раньше, завезли от руанского угольщика, и проинформировал Клемантеля, что понадобится десять тонн[824].
Поездки в Париж становились все более редкими. К лету 1920 года Моне не бывал в городе уже больше трех лет. В конце 1919 года он признался: «Мне кажется, я туда уже больше не вернусь». Летом 1920 года он пишет Жеффруа: «Разумеется, я никуда отсюда не выезжал и наверняка уже не выеду»[825]. По сути, после поездки на побережье Нормандии осенью 1917 года он не бывал дальше Версаля, куда иногда отправлялся пообедать с Клемантелем и наведаться в садовый питомник.
А вот Клемансо, напротив, путешествовал по всему миру. В феврале, всего через две недели после отставки, он отправился в трехмесячное путешествие по Египту, посетил Каир, Александрию, долину Нила и Египетский Судан. Из Луксора он бодро писал: «Клод Моне, мой добрый друг, что Вы там делаете на Сене, когда здесь Нил каждый миг играет в игры с небом, а Фиванские горы — это симфония света, которая свела бы Вас с ума?»[826] То, что Моне тоже отправится в Египет, выглядело совершенно несбыточным, однако Клемансо надеялся, что, вернувшись во Францию, выманит его из Живерни. «Не дело забираться в собственную раковину», — пишет он[827]. В этих видах в августе он отправил Моне расписание поездов между Живерни и далекой деревушкой Сен-Винсен-сюр-Жар, неподалеку от морского курорта Сабль-д’Олонь на Атлантическом побережье Франции, в четырехстах восьмидесяти километрах к юго-западу от Парижа.
Свой сельский домик в Бернувиле Клемансо выставил на продажу. В конце 1919 года, отдыхая в Вандее, неподалеку от тех мест, где прошло его детство, он наткнулся на крошечный домишко на берегу, который потом станет называть (без ложной скромности) la bicoque, хижина. Домик этот, именовавшийся «Белеба», принадлежал местному землевладельцу Амеде Люсу де Тремону, который жил неподалеку в куда более просторных хоромах, в замке Гвиньярдьер. Тремон, убежденный католик и роялист, тем не менее был пламенным поклонником Клемансо и предложил тому пользоваться домиком бесплатно. Клемансо стал настаивать, что заплатит, и они сговорились на арендной плате в 150 франков в год — их надлежало раздавать бедным[828].
Клемансо перебрался в «Белеба» в августе и сделался, по его словам, владельцем «моего неба, моего моря и моего песка»[829]. Он почти сразу же написал Моне, прислал расписание и начал зазывать в гости. Зная, что путь к сердцу его друга проще всего проложить через желудок, он попытался соблазнить его шедеврами местной кухни, например капустным супом: «Вы только представьте: если Вы сюда не приедете, Вы никогда не попробуете le bouillon des choux-rèbes»[830]. Но Моне не выказывал намерений выбраться из Живерни. «Я веду войну с природой и временем, — написал он в августе, — я хотел бы закончить некоторые начатые работы»[831]. Вскоре после этого Клемансо вновь уехал в дальние края, на сей раз — в Сингапур, в Голландскую Ост-Индию и Индию. Последним визитом он был обязан любезности махараджи Биканера, который пригласил Тигра поохотиться на своих диких «собратьев» в джунглях Раджастана.
Глава пятнадцатая Великий дар
Двадцать седьмого сентября 1920 года Поль Леон, только что назначенный на должность начальника Управления по делам искусств, приехал вместе с Раймоном Кошленом в Живерни. Сорокашестилетний Леон говорил о себе: «на все руки от скуки», а в новой должности отвечал не только за закупку произведений искусства для государственных нужд, но также за строительство и ремонт концертных залов и музеев и за реставрацию исторических зданий[832]. Он был специалистом по историческим памятникам Франции — особенно по разрушенным или пострадавшим во время войны — и автором недавно опубликованной статьи о реконструкции Реймса. Уже несколько лет он активно использовал свой реставрационный проект в Реймсе как инструмент пропаганды, направленной против того, что он называл проявлениями германского варварства[833].
Судя по всему, в тот день беседа не коснулась дел прошлых — заказа на изображение Реймсского собора: Леон, похоже, не имел к этому проекту никакого отношения[834]. Вместо этого за обедом (жареная курица и ризотто с телятиной, которые подавал одетый в белое слуга) было принято окончательное решение касательно полотен из Grande Décoration, которые Моне передает в дар государству. «Я передаю в „Отель Бирон“ двенадцать своих последних декоративных полотен», — пояснил Моне Рене Жимпелю несколько позже. Впрочем, он поставил важное условие: «Им придется построить зал строго по моему замыслу, именно такой, какой я хочу, — подчеркивал художник, — и картины покинут мой дом только после того, как я пойму, что меня все устраивает»[835].
Итак, наконец-то план дарения картин принял окончательный вид. От двух полотен он расширился до дюжины и дополнился проектом строительства специального помещения на территории «Отель Бирон», где уже год работал музей, посвященный творчеству Родена; план помещения должен был утвердить сам Моне. Трудно сказать, когда именно «Отель Бирон» был признан подходящим местом и кто предложил этот вариант, но Моне, безусловно, думал в этом направлении еще с 1916 года, когда Роден подписал документы о передаче своих работ государству. Величайший французский скульптор и величайший художник — два творца, чьи пути пролегли по столь схожим траекториям, — должны были оказаться вместе в едином великолепном пространстве: Музей Родена рядом с Музеем Моне.
Через день после этого важнейшего события архитектору по имени Луи Боннье, проживавшему на рю Льеж, неподалеку от вокзала Сен-Лазар, позвонил Поль Леон. Шестидесятичетырехлетний Боннье был, как и Леон, человеком занятым и востребованным. Он занимал должности главного архитектора Департамента гражданского строительства и государственных дворцов, главного столичного градостроителя и директора архитектурной службы префектуры Сены. Лысый, с ершистой седой бородкой, он считался арбитром во всем, что касалось архитектурного вкуса, и был автором многочисленных докладов по вопросам общественной гигиены, возрождения городов и сохранения архитектурного наследия. Именно он добился введения новых градостроительных норм, снимавших ряд ограничений по высоте зданий и их архитектурному разнообразию, благодаря чему в Париже появились некоторые из самых изящных зданий в стиле модерн. Одно из его знаменитых заявлений звучало так: «Люди имеют столько же прав на красоту, сколько и на гигиену»[836].
Кроме того, Боннье был и довольно известным архитектором-практиком. Он спроектировал ратушу в Исси-ле-Мулино, а также целый ряд элегантных вилл, в том числе одну в Отёе для писателя Андре Жида. Он обладал, по мнению одной из газет, единственным недостатком, свойственным, впрочем, большинству архитекторов, а именно: «Когда они возводят здание, им совершенно наплевать на людей, для которых его возводят»[837]. Жид бы с этим согласился: его дом в Отёе был величествен и соответствовал моде, но при этом обошелся ему в непомерную сумму, освещение там было скверное, а зимой внутри стоял такой холод, что писателю приходилось кутаться в несколько свитеров, надевать шерстяную шляпу и перчатки[838].
Боннье участвовал еще в одном примечательном архитектурном проекте. Почти четверть века назад он был привлечен в качестве консультанта к строительству второй, прекрасно освещенной мастерской Моне в Живерни. С Моне он познакомился через свою жену Изабель — ее брат, художник-пейзажист Фердинанд Деконши, был старым другом Моне и жил в деревне Жасни, всего в семи километрах от Живерни. Моне сам попросил привлечь Боннье к работе над перестройкой «Отель Бирон» — не только потому, что они были знакомы, но, безусловно, еще и по причине впечатляющей репутации Боннье и его связей в самых высоких правительственных кругах. Боннье согласился и тут же решил наведаться в Живерни, чтобы обсудить заказ со своим клиентом.
Боннье приехал в Живерни в начале октября вместе с Фердинандом Деконши. Он внимательно выслушал пожелания Моне, рассмотрел и обмерил его полотна, а вернувшись к себе в кабинет, сделал неутешительную пометку: «Предвижу высокую стоимость такого павильона»[839]. Вообще-то, Боннье несвойственно было переживать о таких пустяках, как цена проекта. Превышение изначальной сметы на строительство виллы в Отёе довело Жида до отчаяния: «Я плохо понимаю, как я за это расплачусь, вернее, на что мы потом будем жить»[840]. Однако затраты на строительство павильона Моне беспокоили Боннье прежде всего потому, что проект требовал правительственного одобрения. «Государству трудно будет отклонить дар, который обойдется ему в миллион франков», — писал он[841]. Кроме того, пожелания Моне были трудновыполнимы. Художник твердо стоял на том, что павильон нужно строить строго по его указаниям, а главное указание предполагало овальную форму, — по мнению художника, она позволяла наилучшим способом представить все двенадцать холстов. Боннье же подсчитал, что строительство эллиптического здания с удлиненной осью и переменной кривизной стен обойдется в 790 тысяч франков, — он опасался, что правительство просто не подпишет такую смету. А вот круглое помещение, которое он предложил со своей стороны, будет стоить всего 626 тысяч франков[842].
Моне, однако, стоял на своем, и Боннье принялся за проект овального помещения; первый предварительный эскиз он отправил клиенту уже через два дня после встречи. Моне он, впрочем, не понравился, он предложил некоторые корректировки. «У Моне что ни день, то новая идея», — жаловался Боннье[843]. С этого началась еще одна неописуемая драма: связанная с павильоном.
Луи Боннье, архитектор, измученный Моне
Дар Моне наконец-то превратился из неопределенного обещания, данного в контексте перемирия, в нечто куда более конкретное. Пока Луи Боннье трудился до поздней ночи над вариантами павильона, новости о проекте просочились в прессу. «ХУДОЖНИК КЛОД МОНЕ ПОДАРИЛ ГОСУДАРСТВУ ДВЕНАДЦАТЬ ЛУЧШИХ СВОИХ РАБОТ» — гласил заголовок в «Пти паризьен» в середине октября[844]. Другая газета, с понятным благоговением, приводила размеры этого дара нации: 163 метра холста[845]. Цифра была преувеличена, и Моне поправил в письме автора заметки, добродушно отметив, что такой масштаб «стал бы слишком большим бременем для государства»[846]. Впрочем, если взять Grande Décoration в целом, его бы хватило, чтобы заполнить это внушительное пространство, — еще и осталось бы. В декабре Моне сообщил, что Grande Décoration состоит из сорока пяти — пятидесяти панно, разделенных на четырнадцать отдельных серий. Все панно, по его словам, были четыре метра двадцать пять сантиметров в ширину на два метра в высоту, за исключением трех, написанных на цельных полотнах, два метра в высоту на шесть метров в ширину[847]. Соответственно, на тот момент Grande Décoration уже достиг в длину двухсот метров с лишним. Получается, что в дар государству, в рамках договоренности 1920 года, причиталась едва ли четверть от целого.
Двенадцать оговоренных панно представляли собой пятьдесят один метр холста и занимали общую площадь немногим более ста квадратных метров. Франсуа Тьебо-Сиссон составил для газеты «Тамп» собственный, более точный отчет об этом даре, описав, что полотна развесят по дуге вдоль стен нового павильона со стеклянной крышей[848]. Статья позволяла читателям представить себе, как это будет выглядеть: двенадцать панно, каждое два на четыре метра двадцать пять сантиметров, будут расположены вдоль стен в овальном зале, складываясь в четыре отдельные крупные композиции, разделенные тонкими перегородками; они должны создавать впечатление художественного единства. Четыре композиции будут носить названия: «Зеленые отражения» (два панно), «Облака» (три панно), «Агапантус» (три панно) и «Три ивы» — в эту часть входили четыре панно, и ее длина составляла семнадцать метров.
Это было не все. Тьебо-Сиссон утверждал, что световой фонарь в павильоне будет помещен достаточно высоко, чтобы позволить Моне «украсить декоративными мотивами» пространство над двенадцатью картинами. По плану там должны были находиться панно с изображением сирени, обвивающей его японский мостик. В итоге появятся девять таких «гирлянд» — так их называл сам Моне[849]. Ширина этих панно была от двух до трех метров — получалось, что Моне добавил еще около двадцати метров холста к своему дару.
Видимо, именно это великодушие — хотя бы даже в отношении размера — привело к тому, что любые жалобы по поводу стоимости проекта Моне стал воспринимать как мелочность и неблагодарность. Тьебо-Сиссон отметил, что дар Моне выглядит особенно щедрым в свете того, что за последние полгода он неоднократно получал предложения о покупке «всех его работ или их части», — понятно, что речь идет о проявлениях интереса со стороны Зубалова и Райерсона. Тьебо-Сиссон осторожно намекнул, что предложения этих патронов остаются в силе и что один из них специально приехал в Живерни из самого Чикаго. «Все эти предложения, при всей своей лестности, на данный момент отвергнуты», — заявляет он многозначительно[850]. Продажу картин Райерсону удобно было использовать как контраргумент против тех, кто мог выдвинуть возражения по поводу колоссальных расходов, которые понесет в связи с этим дарением государство, — тех, кто, подобно журналисту из еженедельной газеты социалистов «Популэр», сетовал: «Неужели палата депутатов действительно выделит деньги на строительство особого павильона для экспонирования работ, которые Клод Моне передает в дар государству? Неужели дар действительно требует нового здания?»[851]
Зная о многочисленных спорах по поводу дара Родена, Моне и его союзники не могли не предвидеть, что и в палате, и на страницах газет развернутся жаркие битвы. Предложение Райерсона разом увезти все картины в Чикаго — отвергнутое только «на данный момент» — было важным козырем в этой игре. Жару поддал и один из журналистов из «Юманите», бывший коллега Клемансо по газетной деятельности по имени Франсуа Крюси: он объявил, что Моне — пророк в своем отечестве, которому не оказывают должной чести. Крюси отметил, что вот уже тридцать лет творчество Моне высоко ценят в США, Великобритании и Германии, что его работы широко представлены в заграничных музеях, а вот французские музеи, напротив, приобрели лишь несколько разрозненных полотен. Такое «многолетнее пренебрежение», по словам Крюси, накладывает на власти обязательство отнестись к дару Моне с особым вниманием — ведь ценность его возрастает из-за того, что на официальном уровне работами мастера долго пренебрегали[852].
В статье для «Фигаро» критик Арсен Александр рассмотрел ситуацию под другим углом: он превозносит качество работ и предполагает, что экспозиция будет несравненно хороша. Мало кто из читателей Александра стал бы возражать против больших затрат, с таким смаком он описал будущую экспозицию, хотя ни одну из этих работ, понятное дело, широкая публика пока не видела. Последние произведения Моне, утверждал Александр, демонстрируют не только неубывающую силу его художественного таланта, «но также новообретенную широту видения и лиризм — они одновременно могут рассматриваться и как итог, и как прорыв в будущее». Он пишет, что экспонирование огромных полотен в специальном овальном зале «Музея Моне» станет «пиром для глаза, какого еще не знала ни одна школа и ни одна эпоха». Посетитель этого уникального музея «погрузится в буйство цвета и неиссякаемые грезы великого художника». Взывая к патриотизму своих читателей, Александр добавляет, что эти картины «объедут весь мир, возглашая своей нежной, чарующей гармонией цвета неисчерпаемость богатств французского искусства»[853].
Александр поделился с читателями «Фигаро» еще одной новостью: «В знак признательности Моне за его щедрость государство приобрело для одного из музеев прекрасную его раннюю работу „Женщины в саду“, произведение эпохи Мане, которое не прошло отбор в Салон 1867 года». Эту картину определили в Люксембургский музей, где она оказалась рядом с «Олимпией» Мане, «работой столь же важной и значительной». Александр не раскрывает, сколько было заплачено за раннюю картину Моне, однако другая газета не преминула сообщить подробности: «Цена произведения — у художественного совета выставки 1867 года, равно как и у тогдашних зрителей, она вызвала бы ужас — сравнительно скромна: 200 тысяч франков»[854]. Ничего скромного в этой цене не было, даже учитывая значительные размеры полотна, особенно в свете слов самого Моне, что на тот момент его картины продавались примерно по 25 тысяч франков.
Узнав, сколько Моне собираются заплатить за эту работу, Рене Жимпель воскликнул: «Моне — истинный норманн!»[855] Среди самых распространенных синонимов к слову «норманн» можно назвать malin (пронырливый, коварный), futé (пройдошистый) и roublard (плутоватый)[856]. Маневр действительно отдавал плутовством. Получив столь значительную сумму за полотно, которое когда-то подверглось официальному остракизму, Моне жестко поквитался с историей, получив при этом как материальную выгоду, так и моральное удовлетворение.
В середине ноября у него появился новый повод для торжества. «Сегодня, — гласила передовица „Фигаро“ от 14 ноября, — знаменитому основателю и единственному ныне живущему представителю импрессионизма исполняется восемьдесят лет. Он с прежним усердием трудится в своей мастерской в Живерни и принимает только по воскресеньям. Друзья, пользуясь возможностью, поздравляют его в частном порядке».
Общество, собравшееся в Живерни на юбилей, было невелико. Заметно было отсутствие двух персонажей: Клемансо — он находился в Сингапуре — и Тьебо-Сиссона, который «так надоел мне за время своего пребывания в Живерни, — поведал Моне Жозефу Дюран-Рюэлю, — что, боюсь, я возносил молитвы, только бы он не приехал 14-го»[857]. Примечательно, что сенатора и нового премьер-министра Жоржа Лейга отговорили ехать на торжество, чтобы человек, ненавидящий многолюдные церемонии, мог провести его неофициально, в тесном кругу друзей.
Тем не менее определенные формальности все же были соблюдены. Один из друзей Моне, герцог Тревизский, потомок наполеоновского генерала и известный коллекционер, прочитал стихотворение в честь юбиляра. «Художник — что еще сказать?» — так начиналось это произведение из двадцати приблизительно строф[858]. Приехал фотограф Пьер Шумов, дабы запечатлеть мэтра в торжественный день. На одном из снимков Моне предстает в вальяжной позе, на нем твидовый пиджак, из рукавов которого выглядывают плиссированные манжеты, из нагрудного кармана торчит платок. Все сошлись на том, что мастер выглядит молодо и бодро — не на восемьдесят, а на шестьдесят. «Он являет собой яркое свидетельство того, — писал Александр, — что представления о „почтенном возрасте“ совершенно бессодержательны»[859]. Другой друг Моне окрестил его «старым дубом Живерни», указав, что хотя борода его и седа, но взгляд темных глаз «глубок и проницателен», а спина не сгорблена[860]. По словам герцога, Моне «выглядел вождем, исполненным силы, простоты и авторитета», а подвижной, плотной фигурой напоминал борца — подходящее, как считал герцог, сравнение, так как Моне постоянно борется со своими картинами и с природой[861].
Клод Моне в день своего восьмидесятилетия, в неизменном твидовом костюме
© Getty Images
Вскоре после юбилея Моне в газете социалистов «Популэр» появилась провокационная заметка: «Несколько представителей Академии художеств предложили Клоду Моне занять место отошедшего в вечность Люка-Оливье Мерсона. Нам неведомы имена этих отважных людей, которые попытались ввести великого живописца в Академию так называемых художеств. Хотелось бы все-таки знать, кто они такие»[862].
Представлялось, что официальное признание Моне — дело решенное. Академия художеств являлась одним из подразделений Института Франции, официального покровителя французского искусства, науки и литературы. Члены Института, «Бессмертные», носили зеленые фраки, расшитые лавровыми листьями, и сидели в зеленых бархатных креслах, знаменитых fauteuils, под куполом здания на левом берегу Сены. В состав Академии художеств входило сорок членов, в том числе четырнадцать живописцев и восемь скульпторов. Введение в эту когорту человека восьмидесяти лет от роду стало бы шагом беспрецедентным. В 1920 году средний возраст академиков составлял шестьдесят девять лет. Лишь два члена академии были старше Моне: Жан-Поль Лоран (восемьдесят два года) и Леон Бонна (восемьдесят семь лет), но оба были избраны в куда менее почтенном возрасте. В 1920 году средний возраст избрания в академию составлял пятьдесят пять лет — из этого можно понять, что для Моне честь эта несколько запоздала.
На деле разговоры о возведении Моне в ранг «Бессмертных» отчетливо продемонстрировали, что на протяжении многих десятилетий официальные круги сознательно игнорировали и его, и других импрессионистов. «Клоду Моне восемьдесят, — отмечала „Популэр“. — То, что на признание его достойным занять место в ряду прославленных художников ушло столько лет, воистину непостижимо». Впрочем, нельзя забывать, что Академия художеств была оплотом консерватизма в искусстве. Мерсон был типичен в этом отношении — он был специалистом по тем самым мифологическим, историческим и религиозным сценам, заполненным слезливыми сантиментами и избыточной и не имеющей отношения к сюжету наготой, против которых импрессионисты и взбунтовались в 1860-е и 1870-е годы. В 1911 году критик по имени Эмиль Баяр, автор лозунга «Долой импрессионистов!», прославлял Мерсона, а с ним вместе Лорана и Бонна как отважных защитников «классической традиции» от происков представителей нового искусства[863]. Бонна был членом художественного совета Салона 1869 года, который отверг две работы Моне — «Рыбацкие лодки в море» и «Сороку». «Он терпеть не мог мои работы, — пояснял впоследствии Моне, — да и мне его не слишком нравились»[864]. Бонна был близким другом Жан-Леона Жерома, главного ниспровергателя импрессионизма, который прославился тем, что на Всемирной выставке 1900 года поспешно увел высокопоставленных посетителей из зала, где экспонировались работы импрессионистов, в том числе четырнадцать картин Моне, со словами: «Проходите дальше, господа, здесь выставлен позор французского искусства»[865]. Жером, понятное дело, был неизменным членом Академии художеств до самой своей смерти в 1904 году.
Захотел бы Моне сделаться членом такого клуба? В конце заметки в «Популэр» отмечено, что, если бы Моне отказался от предложения, «какой бы это нанесло удар по Институту!». В отличие от своего друга Мане, который всегда радовался наградам («В этой сучьей жизни всегда лучше быть во всеоружии», — утверждал он),[866] Моне презирал официальные почести. Жан-Пьер Ошеде утверждал, что Моне отказался от ордена Почетного легиона, так как считал его «детской медалькой за хорошее поведение»[867]. Неменьшее презрение к почестям выказывал и Клемансо. Хотя в ноябре 1918 года его единогласно избрали в члены Французской академии, еще одного подразделения Института, он однажды заявил: «Покажите мне сорок пердунов, и я скажу: это Французская академия»[868].
Газеты еще несколько месяцев разносили слухи по поводу Моне и освободившегося места в Академии художеств. «Согласится ли великий Клод Моне стать членом Института?» — без особой надежды вопрошала одна газета[869]. Несмотря на толки о том, что Моне «предложили» это место, на деле членов выбирали тайным голосованием после того, как кандидат, с подачи одного из действующих членов, позволял включить свое имя в список. На место Мерсона кандидатов хватало, — по словам «Фигаро», предложение получили шесть человек. «А потом они — несколько запоздало — вспомнили про Клода Моне»[870]. Если это правда, Моне, возможно, обиделся на то, что к нему обратились не первым. В любом случае он скоро отчетливо дал понять, что не имеет намерений вступать в ряды «Бессмертных». В декабре один его друг, не назвавший своего имени, заявил «Фигаро»: «Он опасается, что, если вступит в члены Академии, его начнут спрашивать почему; он предпочитает, чтобы его спрашивали, почему он этого не сделал». Далее репортер отмечает: «Подобное презрение есть сладкая месть за сорок лет глупости и громогласной, мелочной ненависти»[871].
Возможно, месть для Моне действительно оказалась сладка. Однако щелкнуть по носу художественный истеблишмент и пойти на риск заработать репутацию неблагодарного угрюмца вряд ли было мудро с политической точки зрения — ведь именно сейчас Моне нужны были сотни тысяч франков бюджетных денег; без этого его дар нации не мог осуществиться. Если бы Клемансо в этот момент (как сообщала одна газета) не «истреблял своих диких „собратьев“ в Индии», он, скорее всего, посоветовал бы Моне принять предложение[872].
Проект строительства овального павильона продвигался трудно. Луи Боннье еще раз приехал в Живерни в конце ноября 1920 года вместе с Полем Леоном и Раймоном Кошленом. В тот вечер Боннье мрачно записал в дневнике: «Проект придется полностью переделывать»[873]. Он без задержек представил новое решение. Оно предполагало строительство павильона из железобетона; снаружи здание было решено как многогранник с беленым кирпичным фасадом — который, по словам Боннье, должен был производить впечатление «абсолютной простоты» и «спокойной нейтральности». Внутрь вела дверь, украшенная железным литьем, зал предполагался диаметром в двадцать пять метров, той самой «особой формы… которая соответствовала инструкциям, полученным от господина Клода Моне»[874]. Освещать зал предполагалось через застекленный потолок с провощенной шторой — она должна была слегка рассеивать свет.
К концу года план Боннье был передан на одобрение в Генеральный совет гражданского строительства. «Что касается внешнего вида, — подчеркивал Боннье, — мы сознательно избегали любых эффектов, которые могут нарушить архитектурную целостность „Отель Бирон“»[875]. Увы, у архитекторов, членов совета, сложилось иное мнение: они единогласно отклонили проект, сочтя его слишком современным в сравнении с грациозным величием «Отель Бирон», здания XVIII века, к которому павильон пристраивался. То, что откровенно модернистский план Боннье был отвергнут, нельзя назвать неожиданностью, если принять в расчет исторический момент и художественные предпочтения того времени, выраженные в недавно вступивших в силу законах о послевоенной реконструкции. Согласно новому законодательству, архитекторы должны были «максимально содействовать сохранению исторических и археологических памятников, следуя особому архитектурному стилю каждой местности и принимая во внимание ландшафт, уже имеющиеся объекты и особенности пейзажа, которые являются значимой частью художественного наследия и духовности нашего народа»[876].
Боннье поспешил заверить Моне, что Генеральный совет можно и переубедить, но Моне план этот не нравился в принципе. Изначальным его возражением было то, что «особая форма», предложенная Боннье, представляла собой не овал, а — из соображений экономии — круг. «Должен признать, я несколько разочарован тем, как выглядит этот зал с его правильной формой, — можно подумать, его планировали под цирк, — писал он Полю Леону. — Боюсь, такая форма не произведет должного эффекта». После этого он сообщает Леону, что ради удешевления проекта готов согласиться на помещение меньших размеров, но оно обязательно должно быть овальным; увы, уменьшение площади, разумеется, повлечет за собой уменьшение числа подаренных панно — с двенадцати до восьми или десяти[877]. Сыну же Камиля Писсарро Люсьену он горько жаловался на то, что от дара этого больше хлопот, чем радости[878].
Хотя бы с «Женщинами в саду» дело подвигалось. В начале февраля 1921 года Моне смог сообщить, что картина «на пути в Париж»[879]. Массивное полотно сняли со стены и отнесли вниз, где Моне внимательнейшим образом проследил, как его поместили в грузовик, присланный Полем Леоном. Он признался, что ему было очень тяжело расстаться с картиной, потому что «она хранит столько воспоминаний»[880]. Работу эту он написал в тот год, когда познакомился с девятнадцатилетней Камиллой Донсье — она позировала для трех из изображенных на картине фигур; особенно яркой получилась модно одетая молодая женщина, которая сидит на траве в пышном платье, с букетом цветов на коленях. Много десятков лет эта юная бледная красавица, затенившая зонтиком лицо от давно угасшего света солнца, смотрела невидящим взглядом на жизнь в Живерни, в котором никогда не бывала.
Сестра Теонеста была единственным человеком во Франции, способным сладить с Клемансо, Клемансо же был единственным человеком во Франции, способным сладить с Моне. Видимо, в кабинете Поля Леона раздались громкие вздохи облегчения, когда 21 марта 1921 года Тигр вернулся из полугодовой экспедиции на Дальний Восток. Леон впоследствии вспоминал: «У Моне, старого, беспокойного, живущего под угрозой слепоты, случались приступы отчаяния. Мы каждый день удерживали его от того, чтобы растоптать собственные картины. Он постоянно менял планы и параметры, ставя нас в неловкое положение. Для разрешения споров часто приходилось взывать к Клемансо»[881].
Экспедиция Клемансо прошла с исключительным успехом. «Он всюду побывал, все повидал, со всеми поговорил, — писал сэр Лоренс Гиллемард, губернатор колонии Стрейтс-Сеттлментс на полуострове Малакка. — Манеры его были неотразимы, чувство юмора заразительно; своей любезностью он покорил все сердца и в два дня сделался кумиром Сингапура. Казалось, усталость ему неведома. Каждое утро он спускался к завтраку в приподнятом настроении»[882]. По приглашению султана Джохора он отправился охотиться на тигров, но из экспедиции в болотистые джунгли вернулся с пустыми руками. Ему больше повезло в Индии — там, в пробковом шлеме, галстуке-бабочке и вечных своих серых перчатках, он отправился на трехдневную охоту с махараджей Гвалиора, и они вернулись с несколькими трофеями. Кроме того, Клемансо предавался менее кровожадным развлечениям — из Варанаси, в Уттар-Прадеше, он писал Моне: «Пусть никто не говорит, что я приехал в Бенарес [Варанаси] насладиться и омыться совершенно сказочным светом и не нашел ни единого слова, чтобы описать его человеку по имени Клод Моне». Когда-то он живописал чудеса солнечного света на Ниле, а теперь прислал такое же описание Ганга: «Огромная прозрачная река с величественными белыми дворцами, которые тают, припудренные светом утренней зари. Их ясная простота великолепна, а река и небо наполняют их жизнью. Будь я Клодом Моне, мне было бы обидно умереть, не увидев этого»[883]. Моне научил Клемансо подмечать особые световые эффекты, особенно на воде. Впоследствии тот напишет Моне: «Я люблю Вас за то, кто Вы есть, и за то, что Вы научили меня видеть свет. Тем самым Вы обогатили мое существование»[884].
К моменту возвращения Клемансо в Париж было предложено несколько альтернативных мест для размещения дара Моне. В конце марта Клемансо, Леон, Боннье и Жеффруа — но не Моне, который так и сидел в Живерни, — осмотрели два здания в западной оконечности Тюильри, рядом с площадью Согласия. Одним был павильон Жё-де-Пом, построенный в 1861 году, — в нем находились корты для жё-де-пом, игры, ставшей предшественницей тенниса, а с 1909 года он использовался для временных выставок. (Как раз намечалась выставка голландского искусства, включавшая «несравненные полотна Рембрандта»[885].) Вторым — Оранжери, оранжерея, построенная в 1852 году. Клемансо тут же сообщил об итогах осмотра Моне: он считал, что Жё-де-Пом, шириной всего одиннадцать метров, скорее всего, не подойдет, зато Оранжери, который несколько шире, более тринадцати метров, «представляется мне вполне подходящим… Стоить он будет дороже, чем Жё-де-Пом, но Поль Леон поддерживает это решение. Я советую Вам согласиться»[886].
Неделю спустя, 6 апреля, Моне наконец-то выбрался из Живерни и впервые за четыре с лишним года добрался до Парижа, чтобы увидеть Оранжери «собственными глазами»[887]. Здание было ничем не выдающееся, и вряд ли Моне интересовался им раньше. Полностью оно называлось Оранжери-де-Тюильри, чтобы не путать с более знаменитой Оранжереей в Версале; выстроено было для Наполеона III на месте теплицы XVI века, возведенной в Тюильри королем Генрихом IV, который очень любил апельсины, или оранжи. В здание переносили на зиму из Тюильри апельсиновые деревья, а торжественное их перемещение на террасу традиционно служило для парижан первым знаком прихода весны. Зимой в здании по-прежнему размещали апельсиновые деревья, но, помимо этого, оно использовалось, скажем так, для разных надобностей. За время его существования там находились мастерская скульптора Жан-Батиста Карпо, дававшего уроки сыну Наполеона III, зал для вручения наград отличившимся школьникам, а летом 1878 года здесь прошел ряд благотворительных концертов в помощь жертвам взрыва в магазине игрушек на рю Беранже. В 1880-е годы в павильоне разместили бар, где можно было выпить шампанского, любуясь видом Сены, а в последующие десятилетия Оранжери использовали для оперетт, выставок собак, насекомых (выставку насекомых спонсировало Центральное общество сельского хозяйства и инсектологии), пшеницы и муки. На прилегающей территории проходили парады, ярмарки, забеги, а в 1898 году — автомобильные выставки. В 1913 году Оранжери едва не снесли, а во время Первой мировой в нем разместилось благотворительное общество «Альжерьен», которое кормило кускусом, «мешуа» (шашлыком из баранины или ягнятины) и другой алжирской едой раненых бойцов из Северной Африки.
Через два дня после визита Моне в Тюильри одна газета сообщила, что администрация Поля Леона мечтает «выселить апельсиновые деревья и устроить в павильоне выставку работ Клода Моне»[888]. Впрочем, ситуация была далеко не столь однозначной. Моне остался доволен кратким визитом в Париж: он провел там «наполненный приятными событиями день» — пообедал с Клемансо, а потом сходил в Лувр, «где все было пиршеством для взора»[889]. Вполне понятно, что новые планы внушали ему беспокойство. В середине апреля он отправил Леону длинное письмо, в котором отметил, что все еще надеется на подписание официального договора дарения (пока никаких формальных обязательств сторон не существовало). «Но я нуждаюсь в официальном подтверждении и в гарантии того, что все необходимые действия будут произведены без задержки». Моне указывает, что прошло уже семь месяцев, «и, если еще столько же уйдет на решение, что делать с Оранжери, плюс полтора года на выполнение плана, куда нас это заведет?». Он просил ускорить весь процесс, «и только тогда я соглашусь подписать протокол дарения» — каковой, добавил он, будет признан недействительным в том случае, если подходящее помещение не подготовят до его смерти[890].
К концу апреля, еще раз обдумав все детали, Моне пришел к выводу, что Оранжери нравится ему не слишком. Он написал Дюран-Рюэлю, что ситуация с дарением развивается прискорбно «и я крайне раздражен»[891]. Новое выставочное пространство, совсем не похожее на павильон Боннье, требовало пересмотра количества полотен, которые Моне передаст в дар, того, как они будут соотноситься друг с другом, а главное — как лучше представить их на обозрение в зале, который, как художнику стремительно становилось ясно, не подходит для этой цели. Как указал Клемансо, ширина этого зала равнялась примерно тринадцати метрам, однако в длину он был сорок метров с лишним, то есть гораздо длиннее, чем павильон, который предполагалось пристроить к «Отель Бирон», — значит, композицию предстояло приспособить к существующему пространству.
По мнению Моне, у Оранжери было три очевидных недостатка. Во-первых, потолок ниже, чем планировалось в «Отель Бирон», — декоративный фриз с гирляндами сирени сюда не помещался. Кроме того, художника смущало, что стены не закруглены, на чем он не раз настаивал, а значит, картины будут экспонироваться на «совершенно прямой»[892] поверхности, без изгибов. И наконец, помещение было узким — по ширине вполовину меньше, чем планировавшийся павильон в «Отель Бирон», — а значит, зрителю не удастся отойти от полотен на нужное расстояние[893].
В итоге Моне принял радикальное решение. 25 апреля он написал Полю Леону, что одним из формальных условий передачи картин в дар было то, что художника устроит зал, в котором они будут экспонироваться. Узкое прямоугольное помещение Оранжери не удовлетворяет его требованиям. «Как Вы понимаете, — писал он, — я много размышлял об Оранжери и, к сожалению, вынужден отказаться от мысли передать полотна в дар государству»[894].
Вероятно, в тот момент это было шантажом: Моне грозился изменить свое решение, чтобы вторая сторона пошла на уступки. Вот только, похоже, Леона это письмо не слишком взволновало. Пытаясь выиграть время — возможно, в надежде, что буря утихнет или Клемансо во всем разберется, — он на письмо не ответил. Однако в руке у Моне скоро оказался еще один козырь: несколько месяцев спустя в Живерни прибыл новый претендент на Grande Décoration.
Глава шестнадцатая Самый пылкий поклонник
Первого июня 1921 года в Париж прибыл выдающийся гость: двадцатилетний кронпринц Японии Хирохито. Молодому человеку добросовестно показывали все достопримечательности. Провели экскурсию по Лувру, свозили в Версаль, Франко-японское общество дало в Шантильи обед в его честь. В Лоншане он наблюдал из президентской ложи конные бега, посетил Компьен и Пьерфон, увидел своими глазами поле битвы под Верденом, поужинал в Фонтенбло в обществе Клемансо и Пуанкаре. В расписании визита нашелся час, когда его императорское высочество смог насладиться видом с вершины Эйфелевой башни.
Кронпринцу Хирохито не суждено было увидеть желанную для многих редкость: сад Моне. Однако по ходу визита Клемансо привез в Живерни двух других высокопоставленных японцев: барона Сандзи Куроки и его жену Такико. Они уже два года прожили во Франции, в элегантном номере отеля «Эдуард VII». Барон Куроки, сын прославленного адмирала, познакомился с Клемансо, когда приехал в Париж на Мирную конференцию в составе японской делегации. Восхищение Клемансо японской культурой чувствовалось во всем — от его коллекций нэцке и кого до дерева бонсай, которое росло на ступенях его квартиры, — за ним ухаживал садовник-японец[895].
Несколькими месяцами ранее барон Куроки с женой уже побывали в Живерни и приобрели одну картину — работу 1907 года из серии пейзажей с водяными лилиями — за внушительную сумму в 45 тысяч франков[896]. Барон с супругой как бы возглавили долгую процессию японских художников и коллекционеров, посетивших Живерни в 1921 году. Их жены радовали Моне своими кимоно, а Клемансо, когда оказывался свободен, настаивал на том, чтобы привезти эти делегации и увезти обратно в Париж в своем автомобиле[897]. И вот в июне «роллс-ройс» Клемансо (взятый напрокат у финансиста греческого происхождения Базиля Захароффа) доставил в Живерни самого важного посетителя-японца Кодзиро Мацукату.
Как писал один французский журнал, Мацуката являлся «крупным государственным чиновником»[898]. Он был дядей Такико Куроки, сыном бывшего премьер-министра Японии и личным другом императора. Как писала «Ом либр», Мацуката, кроме того, был «близким другом» Клемансо и, приезжая во Францию, никогда не забывал навестить Тигра[899]. Жизнерадостный пятидесятишестилетний богач, любитель стоячих воротничков и дорогих часов, с вечной сигарой в руке, он называл себя «капитаном промышленности»[900]. Он владел верфью «Кавасаки» и был невероятно богатым человеком. В послевоенные годы он сделался, пожалуй, крупнейшим меценатом в мире. На верфи «Кавасаки» строились мощные дредноуты благодаря огромному крану, который Мацуката приобрел в Англии, демонтировал и перевез в Японию. С помощью этого крана Мацуката нажил за годы войны целое состояние, поставляя союзникам военные корабли; тот же кран пробудил в нем интерес к современному искусству: однажды утром в витрине лондонской галереи он увидел картину, где был изображен док с краном. Это была работа сэра Фрэнка Брэнгвина, который впоследствии стал близким другом Мацукаты. Так неожиданным образом у Мацукаты проснулся интерес к европейскому искусству, и в 1916 году во время визита в Париж он попросил Поля Дюран-Рюэля, при содействии хранителя Люксембургского музея Леонса Бенедита, составить для него коллекцию современного искусства. «Я ничего не смыслю в искусстве, — пояснил Мацуката, — но мне кажется, что, глядя на шедевры, мои рабочие смогут значительно повысить уровень своего образования»[901].
Такико Куроки, Моне, Лили Батлер, Бланш и Клемансо, ок. 1921 г.
© Getty Images
Очень скоро коллекция Мацукаты уже насчитывала сотни картин, которые он собирался переправить в Японию и открыть там музей современного европейского искусства, — здание планировалось построить по проекту Брэнгвина с видом на Фудзияму[902]. Пока же полотна хранились в «Отель Бирон», в галереях, закрытых для публики; занимался ими Бенедит. Музей предполагалось назвать Художественный павильон чистого наслаждения. Разумеется, там должны были быть полотна Моне, и вот в 1921 году Мацуката, сопровождаемый Клемансо, нанес визит в Живерни. Моне посоветовал Мацукате сначала посетить галереи Дюран-Рюэля и братьев Бернхайм-Жён — выбор там богаче, чем у него в мастерской[903]. Но Мацуката, понятное дело, не хотел отказывать себе в удовольствии съездить в Живерни. Более того, его, видимо, заинтриговало то, что Клемансо рассказал ему про Grande Décoration.
Японский коллекционер Кодзиро Мацуката
Интерес японцев к Моне был понятным и взаимным. Как и Клемансо, Моне много десятилетий занимался японской культурой и искусством, с того самого «волшебного дня» (по словам Мирбо), когда в 1871 году в Голландии он зашел в продуктовую лавку на Заандам, а потом, разбирая покупки, обнаружил, что толстяк за прилавком завернул его перец и кофе в японскую ксилографию. Исполненный «бесконечного восхищения», Моне выкупил все остатки экзотической «оберточной бумаги», — судя по всему, она прибыла с Дальнего Востока в трюме судна со специями. Среди них, считается, были произведения Утамаро и Хокусая[904].
История эта смахивает на апокриф, однако Моне, безусловно, очень интересовался японским искусством, в особенности работами Утамаро, Хокусая и Хиросигэ — последнего он называл «японским импрессионистом»[905]. В 1909 году в одном интервью были процитированы слова Моне: «Если вы непременно хотите найти истоки моего творчества, пусть это будут старые японцы»,[906] — он, по всей видимости, имел в виду Хокусая и его современников первой половины XIX века. В 1921 году, примерно тогда, когда к нему приехали Куроки и Мацуката, Моне сказал другому журналисту: «Мне очень лестно, что японцы меня понимают, ведь они мастера, так тонко чувствующие и изображающие природу»[907].
Это утверждение — как и любое утверждение всякого художника касательно «природы» — почти лишено смысла. Но чем же Моне восхищался и что пытался почерпнуть в японском искусстве? Другому собеседнику, герцогу Тревизскому, он сказал, что западные художники особенно ценят в японском искусстве «смелость, с которой очерчивается предмет»[908]. Может, это и так в случае, например, с Ван Гогом или Тулуз-Лотреком, однако поиски смелых контуров на картинах Моне ни к чему не приведут. Не найдешь там и больших пятен основного цвета, которые позаимствовали из японского искусства многие западные художники. Внезапное узнавание, бесконечное восхищение, которые Моне испытал в том продуктовом магазине на Заандам, скорее объясняются другим: Хиросигэ и его современники изображали сцены современной японской жизни в изящной, но скромной обстановке — возле рек, на мостах, на людных улицах, во время местных празднеств, в чайных домиках или цветущих садах на берегу реки. Понятно, что именно таким местам — в их французском варианте — в своих работах отдавали предпочтение импрессионисты с начала 1860-х годов. Гравюры Утамаро, Хокусая и Хиросигэ, которые собирал Моне, назывались укиё-э (изображения изменчивого мира). «Изменчивый мир» и был миром японской богемы — миром театров кабуки и официальных борделей, где обретались актеры, проститутки и нарождающийся класс состоятельных купцов: среда эта не слишком отличалась от парижской среды «прекрасной эпохи».
Словом, японские гравюры позволили Моне и его друзьям увидеть красоту в простых, аналогичных японским явлениях своего мира: городских улицах, речных берегах, женских модах, парусниках, мостах, драматических и оперных театрах. Что до сюжетов, импрессионисты предпочитали мифам и истории развлечения и досуг. Для Моне особый интерес представляли японские изображения садов и пейзажей. На гравюрах из серии Хиросигэ «Сто знаменитых видов Эдо», опубликованной в 1850-е годы, часто возникают плакучие ивы, склонившиеся над водой, покрытые каплями ирисы и пышно цветущая вишня у японских мостиков. Многие из этих сюжетов, равно как и смелые композиционные приемы — сильные диагонали, асимметричные построения, неожиданный угол зрения (например, резкий наклон или взгляд сверху вниз), — войдут в творческий арсенал Моне.
Моне перенял у японцев и еще один прием, которым не пользовался никто из его друзей, кроме Сезанна. Японские художники зачастую многократно изображали один и тот же мотив. Хокусай и Хиросигэ, например, каждый выпустили по серии под названием «Тридцать шесть видов Фудзиямы», где священная гора изображена с разных точек и расстояний, всякий раз в другую погоду, время года и дня, с разными сценами на первом плане. На самой знаменитой гравюре Хиросигэ «Большая волна в Канагаве» Фудзияма показана с дальнего расстояния, а на первом плане угрожающе вздымается огромный вал. Такие пейзажные серии, на которых один и тот же мотив дюжину раз рассматривался по-разному, возможно, повлияли на подход Моне к изображению скирд и заставили на протяжении десятков лет экспериментировать с сериями картин. Они же повлияли и на Сезанна — не случайно он тридцать шесть раз написал гору Сен-Виктуар[909].
Еще одна японская традиция оказала сильное влияние на Моне. В 1904 году один журналист отметил, что сад Моне с его пионами, ирисами и зеленым мостиком выглядит совсем по-японски, — то же самое, по словам журналиста, отметил и Тадамаса Хаяси, в парижской галерее которого Моне приобрел многие свои японские гравюры[910].
Моне был далеко не единственным французом, создавшим себе сад в японском стиле. Экзотические растения и цветы, которые были выставлены в Японском павильоне на Всемирной Парижской выставке 1878 года, вызвали среди садоводов сенсацию, равная которой повторилась только одиннадцать лет спустя, в 1889 году, когда в Трокадеро был создан японский садик, — его разбил Васуке Хата, насадив там деревца бонсай и миниатюрные кипарисы. К этому времени путешественник и фотограф Хью Крафт уже устроил японский сад в Лож-ан-Жоза, под Версалем, где ему принадлежал лесистый парк, занимавший двенадцать гектаров, который он дополнил павильоном, построенным специально привезенными из Японии плотниками, и назвал Мидори-но-сато (Холм свежей зелени). После триумфа Хаты в Трокадеро Крафт нанял его заниматься Мидори-но-сато. Кроме того, Хата разбил садик поменьше для денди-аристократа Робера де Монтескье, друга Мирбо, в его доме на рю Франклин. Примечательно, что через несколько лет в той же квартире будет жить Клемансо, который разделял пристрастие Монтескье ко всему японскому.
Помимо этого, Хата создал сад для Эдмона Ротшильда в его замке в Булонь-Бьянкуре, в нескольких километрах от Парижа. Весной 1913 года Клемансо отвез Моне посмотреть на этот сад с пагодой и чайным домиком, чтобы подбодрить друга, страдавшего затяжной депрессией, вызванной смертью Алисы и диагнозом «катаракта». Впоследствии жена Эдмона Аделаида писала Клемансо: «Нам очень приятно, что прогулка по Булони произвела на месье Клода Моне приятное впечатление. Если на его волшебной палитре возникнет уголок нашего японского сада, мы будем счастливы видеть это отражение»[911].
Впрочем, единственным садом, отражения которого Моне запечатлел на холсте, был его собственный. Он однажды отверг предположение, что пытался создать в Живерни японский сад[912]. На первый взгляд это выглядит как характерное для него сознательное уклонение от истины. Ведь он посадил там бамбук, японские яблони и вишни, японский кустарниковый пион — некоторые из этих растений ему подарили друзья-японцы. А край его пруда украшал мостик в японском стиле, точно сошедший с гравюры Хиросигэ. Но при этом в саду не было обязательных атрибутов японского сада: камней, водопадов, деревьев бонсай, пагод, статуй Будды, песка с бороздками от граблей. К тому же мостик был выкрашен в зеленый цвет, а более традиционным цветом (его использовали в Мидори-но-сато) был алый. Вдохновляли Моне не столько настоящие японские сады, о которых он знал мало, сколько нравившиеся ему мотивы прудов, мостов, свисающих ветвей ивы, которые он видел в своем собрании японских гравюр. По счастливому совпадению за пять дней до того, как он приобрел в 1893 году участок земли для создания своего водного сада, он посетил выставку гравюр Утамаро и Хиросигэ в галерее Дюран-Рюэля. Там было выставлено триста работ, изображавших бамбуковые леса, японские мостики, цветущие вишни и плакучие ивы[913].
Во время визита в Живерни в 1921 году Кодзиро Мацуката нашел Клода Моне «восхитительным господином»[914]. Амбициозный проект Мацукаты — заполнить Художественный павильон чистого наслаждения лучшими образцами современного искусства — имел предсказуемый результат: поездка с Клемансо, который представил Мацукату Моне как «одного из ваших самых пылких поклонников»,[915] завершилась крупной покупкой, примерно пятнадцать работ. Мацукату, разумеется, пригласили на обед, а потом провели в мастерскую. Клемансо сказал Моне: «Покажите ему лучшие свои вещи и назовите, как моему другу, разумную цену». Впрочем, Мацуката дал понять, что не ждет к себе особого отношения. «Просите подороже, — наставлял он Моне, — я хорошо отношусь к друзьям и не привык скупиться, мне будет стыдно, если я заработаю на дружбе». Моне показал Мацукате лучшие свои работы, а тот «сделал выбор и вручил художнику чек на миллион франков»[916].
Эта внушительная сумма, обнародованная «Ом либр», фигурировала и в другом надежном источнике, «Бюллетене художественной жизни» — его издавали братья Бернхайм-Жён[917]. Среди покупок Мацукаты оказались скирды, тополя, снежные пейзажи, виды Лондона, утесы Бель-Иля, — словом, были представлены все периоды и серии Моне[918]. Если сумма в миллион франков верна, Мацуката заплатил почти по 70 тысяч франков за каждую картину. Когда в начале 1922 года он приехал в Нью-Йорк ради приобретения работ американских художников, «Нью-Йорк геральд» с благоговением писала о том, что этот «загадочный японец» платит «безумные деньги» за всевозможные произведения искусства[919]. Один из помощников Брэнгвина заподозрил, что жадные торговцы наживаются на Мацукате,[920] — и, если верить сведениям о миллионе франков, он, безусловно, заплатил Моне куда больше тогдашней текущей цены.
Но во время визита в Живерни Мацуката, похоже, наметил и еще одну покупку. В середине июня Моне писал Арсену Александру: «Я получил серьезное предложение насчет одной части décoration»[921]. Увидев Grande Décoration в мастерской Моне, Мацуката выразил желание приобрести хотя бы некоторые из этих крупных декоративных панно. Моне уже отверг предложения Зубалова и Райерсона, однако к лету 1921 года его так вывели из себя сложности, связанные с передачей картин государству, что к предложениям Мацукаты он отнесся благожелательно. Едва захлопнулась дверь павильона Оранжери, как тут же — и гостеприимно — растворилась дверь Художественного павильона чистых наслаждений.
Итак, Мацукате удалось приобрести часть Grande Décoration, одно из полотен Моне шириной в четыре метра двадцать пять сантиметров, «Пруд с водяными лилиями, отражения ив». Мацуката гордо сообщил журналисту, что одно из полотен, купленных им в Живерни, «четырнадцать футов в длину… это сцена в саду. Сколько стоило? Не помню»[922]. Если история про чек в миллион франков верна, «Пруд с водяными лилиями» стал, по всей видимости, частью этой головокружительной покупки наряду с тополями, утесами, скирдами и Лондоном. Судя по всему, чековая книжка Мацукаты была неистощима. Впрочем, он совершил нечто даже более труднопредставимое, чем потратить миллион франков на картины: он сумел извлечь из мастерской Моне часть Grande Décoration.
К июню 1921 года Поль Леон так и не ответил на письмо, в котором Моне отменял свое решение о передаче картин государству. Поскольку шантаж не удался, Моне вернулся к переговорам через посредничество художественного критика Арсена Александра, который некоторое время назад служил генеральным инспектором французских музеев, а в данный момент писал биографию Моне. Моне признался Александру: то, что он не может выполнить данное государству обещание, для него «чрезвычайно болезненно», а приобретение «Женщин в саду» за 200 тысяч франков поставило его в крайне неловкое положение. Как теперь отказать в передаче картин — ведь он уже получил чек от государства?
Он сказал Александру: «Если Министерство по делам искусств расширит на три-четыре метра ту часть Оранжери, которая предназначена для моих картин, я не откажусь от мысли передать их в дар — более того, передам столько, что хватит на два зала. Ничего лучше я предложить не могу. Если это состоится, я буду счастлив»[923]. Однако и на сей раз Леон ответил молчанием. После двух недель ожидания и переживаний Моне снова написал Александру: «Передали Вы содержание моего последнего письма Полю Леону? Сказал ли он, что расширение Оранжери возможно?»[924]
Вновь никакого ответа. И тут Моне — к неожиданности всех заинтересованных лиц — выбросил все эти вопросы из головы и спокойно вернулся к работе в саду. Весной у него были серьезные проблемы со зрением. «Мои бедные глаза! — писал он в мае. — Я чувствую, как они слабеют день ото дня, даже час от часа»[925]. Однако к концу июня то ли зрение, то ли, что более вероятно, настроение его улучшилось — возможно, благодаря вниманию и щедрости Мацукаты, после чего несколько месяцев подряд он «неустанно трудился с большим энтузиазмом»[926]. Он был настолько доволен своей работой, что с приближением осени стал подумывать о поездке к морю — не на любимое побережье Нормандии, а в далекую Вандею, чтобы навестить Клемансо. Когда Моне напомнил Тигру о давнем приглашении, тот удивился и очень обрадовался. «Что? Клод Моне возвращается в оборот, будто древняя монета эпохи Меровингов, которая выплыла на свет, чтобы затмить все наши поддельные банкноты? Воистину аллилуйя!»[927]
1920-й был юбилейным годом Моне, следующий принадлежал Тигру — его восьмидесятый день рождения праздновали 28 сентября. После визита в Живерни с Мацукатой Клемансо отправился в Англию получить почетную степень Оксфордского университета; обращаясь к собравшимся, представитель университета заявил под «взрыв энтузиазма», что ни одно другое имя не останется в истории так надолго[928]. Потом, после путешествия на Корсику, Клемансо уехал в свой домик в Сен-Винсен-сюр-Жар. Неподалеку, в деревне Сен-Эрмин, где прошло его детство, 2 октября должны были торжественно открыть ему памятник. «Будет, полагаю, большое гулянье, с танцами и фейерверком, как в старые времена, — писал он Моне за две недели до события. — Будем есть прямо из шляп, спать на деревьях или в канавах. Подумайте, не захотите ли присоединиться. Я пришлю за Вами машину»[929]. На торжество Моне не поехал, но согласился приехать через неделю, в более спокойный момент.
Празднество в честь Клемансо в Сен-Эрмине устроили с размахом. Две улицы крошечной деревушки украсили флагами, дома выкрасили в красный, белый и синий цвет. Народ съезжался отовсюду — на поездах, легковых машинах, грузовиках, повозках и велосипедах; в таких количествах, что, по словам одной газеты, толпа была гуще, чем на парижских бульварах[930]. Деревенский оркестр играл «Марсельезу», потом открыли памятник: внушительную статую, запечатлевшую одну из поездок Клемансо на фронт, — он стоит на бруствере и решительно смотрит вперед, а у ног его расположились шестеро солдат. На многих присутствовавших живой Клемансо из плоти и крови произвел даже более сильное впечатление, чем его копия в камне. «Победа Франции! — возгласил он в импровизированной речи. — Победа цивилизации! Победа человечества!» По словам журналистов, «величественный старик» смотрелся на удивление молодо. «Выглядит он загорелым, — сообщала „Пти паризьен“, — посмуглевшим от морских ветров и яркого океанского солнца»[931].
Жизнь в Вандее, безусловно, пошла Клемансо на пользу. Несколькими днями раньше он написал Моне: «Что касается меня, то руки зудят от экземы и болит плечо, но я забываю все горести, как только волны начинают щекотать мне подошвы. Не удивлюсь, если Вы здесь возьметесь за кисть. Небесная и морская палитра полна оттенков зеленого и синего»[932]. Дом Клемансо стоял всего в сорока метрах от берега Атлантики и был отделен от него полоской песчаной почвы; на ней Клемансо разбил сад. В письмах к Моне он называл свой кусочек вандейской земли «сказочным краем земли, неба и птиц»[933].
Одному посетителю Клемансо объяснил, что название домика «Белеба» происходит от старофранцузского beauxébats, то есть «веселые развлечения»[934]. Для Моне уж всяко запланировали множество веселых развлечений — он прибыл в Вандею через два для после празднеств в Сен-Эрмине, его привез на «роллс-ройсе» шофер. С ним вместе приехали Бланш и Мишель. «У меня есть две комнатки для Вас и для Голубого Ангела, там она сможет расправить свои крылья, — пообещал Клемансо. — А сына Вашего поселим в хорошем домике, с машиной и самодельным гаражом, рядом с моим»[935].
В этом уголке мира, где Клемансо проводил летние месяцы и отпуска, он делался совершенно домашним[936]. О нем заботились старая кухарка Клотильда и слуга Пьер, который обращался к нему «господин президент». У него был ослик по кличке Леони, обитавший в конюшне в дальнем конце дома, и собачка Биф, «у которой мозгов как у сардины», извинялся Клемансо перед гостями; когда та слишком громко лаяла, Клемансо успокаивал ее, рявкая по-английски с американским акцентом: «Молчать!» В кухне, где Клотильда готовила еду, был каменный пол, беленые стены и деревянные балки. У дверей стояла грубая скамейка, на которой Клемансо часто сидел после еды, разглядывая свой скромный садик и бескрайний океан. Приезжая в Вандею, он поднимал на флагштоке свой флаг: шестиметровый «колдун» в форме карпа, который несколько месяцев назад ему подарил Мацуи Кеисиро, японский посол во Франции.
Клемансо в своем саду в «Белеба»
© Getty Images
Сад, живопись, вкусная еда: Клемансо соблазнил Моне приехать в Вандею с помощью трех его любимых вещей. Можно не сомневаться, что за восемь дней визита они всеми тремя и насладились. В «Белеба» все было так же, как у Саша Гитри и Шарлотты Лизес в «Зоаках» восьмью годами раньше: Моне давал Клемансо советы по поводу его садика на дюнах и привез с собой некоторые растения, включая те, что Клемансо назвал boules d’azur — лазоревыми шарами, — кусты в голубых цветах, наверняка напоминавших ему голубые глаза Бланш[937]. (Клемансо часто упоминал голубые глаза Бланш: похоже, именно цвет глаз, да еще бесконечное терпение, с каким она относилась к этому раздражительному брюзге, своему отчиму, — и дали повод прозвать ее Голубым Ангелом.) Растение с голубыми цветами было, скорее всего, неким видом чертополоха — одним из немногих, способных пережить зиму в садике Клемансо, на который обрушивались холодные и соленые волны Атлантики. Кроме того, Моне привез Клемансо розы, обриеции, нарциссы и гладиолусы[938].
«Вы сможете писать», — пообещал Клемансо[939]. Моне действительно создал здесь несколько работ, но вдохновило его не море (чего, разумеется, ожидал Клемансо) и не скромный садик; он написал акварелью сам «Белеба», точно решив увековечить для себя приморское жилище друга[940].
Благодаря Клотильде приемы пищи в «Белеба» стали почти столь же торжественными ритуалами, как и в Живерни. Гостя, приезжавшего сюда за несколько дней до Моне, кормили сардинами и бараньим рагу в исполнении Клотильды[941]. Моне наверняка угостили капустным супом, которым Клемансо пытался соблазнить его год назад, но коронным блюдом Клотильды была курица «субиз», названная по имени герцога де Субиза, вандейского военачальника восемнадцатого столетия. Мясо жарилось, измельчалось и томилось в густом луковом соусе — приготовление занимало двое суток. Клемансо однажды провозгласил: «Мне этот соус нравится даже больше, чем маршалу»[942].
Другим любимым занятием Клемансо была полуторачасовая прогулка в Сабль-д’Олонь, где можно было накупить лакомств на рынке — например, креветок у торговки по имени Матильда, которая, как бодро докладывал Клемансо, всегда берет с него двойную цену. Еще один посетитель, побывавший в Вандее в октябре, описал, как Клемансо заигрывает с «могучей и сияющей Матильдой», которая пыталась уговорить его купить побольше, «он же отвечал, что больше ему ничего не нужно, кроме самой Матильды. Она возражала, что слишком велика, ее не унесешь. Клемансо указывал на дожидавшийся его огромный автомобиль и уверял, что любит толстушек». Кроме того, он покупал на рынке груши, чернослив, пирожные и газеты. Стоило ему появиться, раздавался крик: «А вот и Тигр!» В кондитерской молодая женщина, с наколкой в форме бабочки на волосах, благодарила его за оказанную честь и предлагала донести покупки до автомобиля[943].
А потом они возвращались по сельским дорогам в «Белеба», причем Клемансо уговаривал своего шофера, верного Альбера, ехать побыстрее. (Через несколько лет, когда Альбер вез Клемансо из Сабль-д’Олонь, машина слетела с дороги и насмерть задавила женщину, некую мадам Шарье, впрочем Клемансо настаивал, что в тот раз они ехали медленно[944].) На флагштоке поднимали карпа, он трепыхался и хлопал на ветру. Можно вообразить, как Клемансо с гостями вслушиваются во вздохи сосен и рокот волн, наползающих на узкий пляж, смотрят, как над океаном сгущаются сумерки, которые рассекает луч света от большого маяка, расположенного в ста сорока километрах, в устье Жиронды. «Восемь маленьких солнц померкнут за время Вашего визита, — писал Клемансо Моне, — но никогда не померкнет наша дружба»[945].
Когда восемь солнц угасли в океане, Моне вернулся в Живерни. Едва машина скрылась за поворотом, как Клемансо прошел в свой кабинет, выходивший окном на океан, и сел писать ему письмо. «Философия учит нас, — рассуждал он, — что величайшие радости скоротечны. Ваш визит был особенно ярким, поскольку завершился так стремительно. Должен особо поблагодарить Вас за согласие приехать, ведь двигаетесь Вы не больше черепахи… что касается меня, я и дальше буду крутиться как волчок, который один за другим дергают за ниточки все дьяволы рая»[946].
Скорее всего, во время визита в «Белеба» речь заходила и о даре Моне государству. Вопрос оставался в подвешенном состоянии, а потому в конце октября Моне написал Клемансо, несколько видоизменив свои условия. Он согласен на размещение работ в Оранжери, но администрация должна «проделать работу, которую я считаю необходимой». Еще в июне он сообщил Арсену Александру, что согласен передать больше дюжины работ, теперь он подтвердил это предложение: он сказал Клемансо, что предлагает государству восемнадцать картин. К письму был приложен план того, как зал Оранжери можно поделить на два, оба овальной формы. «Если администрация примет это предложение и проделает необходимую работу, — повторял он, — дело можно считать решенным»[947].
Клемансо вернулся в Париж 22 октября и тут же приступил к решительным действиям. В начале ноября он встретился с Полем Леоном и радостно доложил Моне: «Все решено, на тех условиях, которые Вы поставили»[948]. Он организовал визит Леона и Луи Боннье в Живерни — он состоялся неделю спустя; в итоге Моне (о чем он напомнил Леону день спустя) согласился на передачу восемнадцати работ, составлявших восемь композиций; работы эти «надлежало разместить в двух залах овальной формы»[949]. Оставалось получить от Боннье новый проект, а также заверенный нотариусом документ, который устанавливал бы официальный статус договоренности и обязательства обеих сторон.
По сути, переговоры достигли той же точки, что и год назад: были определены состав дара и место его размещения; Боннье принялся за работу над архитектурным проектом. Предсказуемо и теперь возникли те же самые трудности. Несколько недель спустя Моне уже жаловался Клемансо, что проект Боннье никуда не годится, что архитектор снова, как и в прошлый раз, пытается максимально урезать расходы[950]. Снова потребовалось вмешательство Клемансо. В середине декабря, после встречи с Полем Леоном, он смог заверить Моне: «Он сделает все, о чем Вы просите… Никаких проблем не возникнет»[951]. В результате этих переговоров Боннье отстранили от проекта, а вместо него был приглашен другой архитектор, сорокапятилетний Камиль Лефевр, главный архитектор Лувра и Тюильри. Единственная незадача заключалась в том, что Боннье об этом, похоже, никто не сообщил, и Моне был крайне изумлен, когда получил от него новый проект. «Я совершенно не понимаю, как ему отвечать», — жаловался он Леону[952].
Боннье, скорее всего, был только рад избавиться от этой работы. Через несколько недель и Лефевр осознал все трудности задачи — особенно вопрос, как обеспечить достаточный приток естественного света, притом что по конструктивным причинам балки на крыше Оранжери нельзя было ни двигать, ни заменять. Моне снова нажаловался Клемансо, которому, похоже, изрядно надоели эти бесконечные склоки между художником и многострадальными архитекторами. В начале января он написал Моне грубоватое, раздраженное письмо, где заявил: «Нужно поставить точку»[953].
За следующие несколько месяцев Лефевр предложил три разных проекта, все предполагали яйцевидную форму, Клемансо же работал над проектом договора, который постоянно курсировал между ним и Леоном. Моне тем временем слал Клемансо тревожные телеграммы — тот прямым текстом заявлял, что друг становится для него «занозой в заднице»[954]. Моне мрачнел. В редкий момент раскаяния, заметив, как тяжело Бланш сносить его неровный нрав, он признался в письме Клемансо: «Какой я негодяй»[955].
Леон и архитекторы, скорее всего, подписались бы под этими словами. Впрочем, к весне 1922 года история наконец-то приблизилась к завершению. В марте Моне сообщил Леону, что намерен включить в свой дар целых двадцать два панно, то есть двенадцать композиций, отметив при этом, что композиции «могут быть изменены по ходу развески»[956]. Иными словами, число работ зависело от того, где они будут экспонироваться, — Моне оставил себе пространство для маневра. К началу апреля документы были готовы для подписи, хотя Моне продолжал жаловаться на «нерасторопность» Леона и его официальных представителей, которые не спешили ехать в Живерни[957]. Наконец 22 апреля в Верноне, в конторе нотариуса Моне мэтра Бодреза, художник и Леон поставили свои подписи под договором о дарении. Моне обязался передать девятнадцать (а не двадцать две) работ в «Музей Клода Моне» в течение двух лет, то есть к апрелю 1924 года.
Согласно договору, Моне должен был предоставить девятнадцать картин, составлявших восемь композиций; их надлежало развесить по стенам двух овальных залов в Оранжери. Были сохранены три композиции, предназначавшиеся для злополучного павильона в «Отель Бирон»: «Облака», «Зеленые отражения» и «Три ивы». Триптих «Агапантус» был исключен, равно как и фриз, украшенный гирляндами из сирени. К этому плану было добавлено пять новых композиций из Grande Décoration. В первом зале предполагалось представить «Заходящее солнце» — одно панно шириной в шесть метров, рядом с ним — еще одно добавление, «Утро» (три панно), триптих «Облака» и «Зеленые отражения». Для второго зала намечались огромная, семнадцать метров шириной, композиция «Три ивы» (на заднюю стену), в том же зале должны были разместиться «Отражения деревьев» (два панно) на стене у входа. На других стенах — две другие композиции, обе из шестиметровых панелей, — на тот момент обе просто назывались «Утро».
Получается, что с момента первого соглашения с Полем Леоном, оговоренного полтора года назад, к дару было добавлено много новых метров холста. Размер дара увеличился до восьмидесяти трех с половиной метров. Похоже, что к весне 1922 года почти все эти композиции были близки к завершению. Например, самая крупная, «Три ивы», была уже почти готова, когда четыре составляющие ее панно были запечатлены на фотографии в мастерской Моне, а было это почти пятью годами раньше, в ноябре 1917 года.
Моне настоял на целом ряде, как он их назвал, «незыблемых условий», сопровождавших передачу девятнадцати панно[958]. Он отметил, что передает их «Музею Клода Моне»; работы не дозволяется переносить из Оранжери, запрещено в этих залах размещать другие произведения искусства. Он очень боялся помутневшего лака, который портит работы старых мастеров, и поставил условием, что его картины никогда не будут лакировать. Было одно довольно жесткое условие: поскольку зрение его может ослабнуть окончательно, он не гарантирует эстетического качества панно.
Клемансо очень обрадовался тому, что договор подписан, — видимо, все эти сложности и хитросплетения напомнили ему малоприятный процесс работы над Версальским миром. В канун подписания договора он прислал Моне из «Белеба» длинное ободряющее письмо: «Вам прекрасно известно, что Ваша кисть и Ваш разум позволили Вам достичь пределов возможного. В то же время, если бы Вами не двигали постоянные поиски недостижимого, Вы не создали бы столько шедевров… Вы будете трудиться до последнего мига своей жизни и оставите прекрасное наследие». Заканчивает он призывом: «Пишите, пишите, пока не лопнет холст»[959].
Написать, по сути, уже оставалось совсем мало. Через два года Моне предстояло сдать заказчику работу, которая — за возможным исключением «Закатного солнца» — к весне 1922 года уже была почти закончена. Можно было облегченно вздохнуть и радоваться, ведь шедевры его нашли достойное пристанище, там, где он и хотел, в самом сердце Парижа. Однако настоящие невзгоды только начинались.
Глава семнадцатая Сияющая бездна
Двадцать пятого июня 1922 года, после воскресного обеда с Клемансо в Живерни, Моне сел за стол и написал письмо Гюставу Жеффруа: «Нет нужды говорить Вам, как я взволнован — отбросив скромность — Вашими лестными отзывами обо мне и моей работе; я глубоко тронут… Благодарю Вас от всей души… С любовью и признательностью за все прекрасное в этой книге»[960].
Упомянутая книга только вышла в свет: это был труд Жеффруа «Клод Моне: его жизнь, время и творчество». «Фигаро» назвала ее «великолепным памятником; прекрасной, исчерпывающей книгой»[961] — Моне же действительно было за что благодарить друга. В этом труде Жеффруа надеялся оказать и Моне, и импрессионизму целый ряд услуг. В частности, он подробно опровергал критику тех, кто, подобно постимпрессионистам и их соратникам, считал, что Моне не сумел уловить сокровенную суть вещей (что удалось, по их собственным заявлениям, кубистам и фовистам), а ограничился изображением их изменчивого обличья. Жеффруа снова и снова утверждал, что в работах Моне запечатлено соединение преходящего и вечного в природе, ее величие и миниатюрность, ее внешняя красота и головокружительные глубины. В тексте постоянно встречаются отсылки к «сложной жизни вещей» — к загадочности, универсальности, истине, вечности и (так гласит последняя строка) «мечте о бесконечном».
Иными словами, Жеффруа хотел доказать, что произведения Моне — это не просто хорошенькие картинки с изображением женщин, которые прогуливаются под зонтиком, озаренные солнечным светом, бликующим на водах Сены. Суровым ответом тем, кто считал, что картины Моне состоят только из теней, ряби и отражений, стали слова Жеффруа о том, что Моне, напротив, нашел свое место среди явлений, «которые длятся одновременно и миг, и вечность». Всякий, кто считал импрессионизм приятным досугом — поставил этюдник у реки солнечным днем и размазывай яркие краски по холсту, — мог прочесть запоминающиеся слова о художнике, неукротимом, истерзанном творческими муками, который в погоне за своей мечтой о цвете и форме доходил «почти до самоуничтожения»[962]. Под этими строками, безусловно, подписались бы все, кому довелось близко знать Моне.
Жеффруа не первым заговорил о скрытой глубине произведений Моне. Еще в 1891 году Октав Мирбо писал, что Моне «не просто переводит с языка природы», но картины его раскрывают «бессознательное нашей планеты и сверхчувственные формы наших мыслей»[963]. Год спустя Камиль Моклер отметил, что картины Моне «сотканы из грез и волшебного дыхания… и оставляют глазу одно лишь завораживающее безумие, которое вызывает конвульсии зрения, выявляет неожиданные стороны природы, возводит ее в символ через ирреальное, захватывающее дух изображение». Моне, по его словам, поднимался над «философией внешнего», чтобы показать «вечную природу во всех ее преходящих проявлениях»[964].
В рамках этих представлений Моне был гением, измученным внутренними терзаниями, который имел как прочную интеллектуальную платформу, так и тонкую духовную суть; он поставил себе творческую задачу раскрыть невыразимые тайны бытия, а не просто уловить некий поверхностный блеск. Доказательства силы его духа и разума Жеффруа строил прежде всего на картинах, которые на момент, когда тридцатью годами раньше Мирбо и Моклер восхищались «завораживающим безумием» Моне, еще не были написаны, а именно на пейзажах с водяными лилиями, которые Моне создал на берегу своего пруда. Все эти работы были, по мнению Жеффруа, «бесконечными грезами о жизни», которые Моне «запечатлел, переосмыслил и продолжал запечатлевать снова и снова в своих горячечных видениях, у края сияющей бездны пруда с водяными лилиями»[965].
Мирбо, Жеффруа, Клемансо — все они знали про вспыльчивый нрав и навязчивые идеи Моне. Однако разговоры о терзаниях, самоуничтожении и пропасти, о горячечных видениях и завораживающем безумии, скорее всего, удивили бы других поклонников Моне. Для путешественников, которые, проезжая через Живерни, останавливались, чтобы разглядеть пышные соцветия в саду Моне через щель в заборе, или тянули шею из вагона проходившего мимо поезда, пытаясь рассмотреть пруд и яркие созвездия водяных лилий, сад Моне был образом рая. «Это Эдем, — так звучит типичный отклик одного из посетителей, — это рай, где, под сенью воздушных древесных крон, на испещренной бликами солнца траве резвятся яркие цветы»[966]. Однако в том же прекрасном месте Моне мучился над своими работами и размышлял над тем, что Жеффруа назвал «непостижимым ничто». Непостижимое ничто, по мысли Жеффруа, воплощала в себе переменчивая, покрытая отражениями поверхность пруда, а также водяная растительность, которая уже десятки лет притягивала Моне: водяные лилии, которые «молчаливее и таинственнее всех остальных цветов»[967].
Тяга Моне к водяным лилиям зародилась в 1889 году, когда на Всемирной Парижской выставке он увидел гибриды Латур-Марлиака. К этому моменту водяная лилия — как и плакучая ива, символ скорби и утраты, — уже обросла определенными ассоциациями и смыслами. Это растение и его цветы давно перестали интересовать только садоводов и ботаников, они переселились в искусство, мифологию, литературу и религию. Водяные лилии (и другие представители семейства ненюфар, например лотос) играли важную роль во многих культурах и культах. Слово «лотос» происходит от имени нимфы Лотос (Лотиды), которая, как пишет Овидий, превратилась в водяную лилию, «стыда избегая с Приапом»,[968] поэтому для древних римлян лилии были символом чистоты, им подносили отрезанные волосы девственниц-весталок. Для древних египтян они были символом возрождения и бессмертия, потому что цветки их раскрывались на рассвете и закрывались на закате, а круглая форма делала их воплощением вечности и совершенства. В Индии бог солнца Сурья был известен как «повелитель лотосов», а согласно индуистской легенде, Брахма родился из цветка лотоса, помещенного в пупок Вишны, лежавшего на космическом змее[969]. В буддистской мифологии Будда Гаутама в детстве питался лотосами, так как мать не смогла кормить его грудью. Ацтекский бог дождя Тлалок тоже изображался с водяной лилией во рту, а североафриканские «лотофаги» (фигурирующие в девятой песне Гомеровой «Одиссеи») и мезоамериканские майя использовали водяные лилии, содержащие алкалоиды-опиаты, в качестве психотропных средств[970].
Вряд ли Моне так уж много знал о том, какой культурный груз несут в себе водяные лилии, однако и во Франции XIX века они обладали достаточно богатым культурно-ассоциативным антуражем, и это, безусловно, было ему известно. Водяные лилии постоянно появлялись в стихах и на полотнах, воплощая в себе загадочное и неведомое, женское, экзотическое, восточное, плотское, а часто одновременно и зловещее, смертоносное, мрачное.
Ботанические особенности водяных лилий подробно объяснил Жан-Пьер Ошеде, всегда входивший во все тонкости садоводства. «Все считают, что Моне посеял свои водяные лилии, — пишет он, — тогда как на деле они были посажены. Часто говорят, что это плавучие растения. Это ошибка: водяные лилии держатся корнями за донный грунт, выпуская длинные стебли и плодоножки, которые поднимаются к воздуху на поверхности, — к стеблям крепятся листья, которые кругами распластываются по воде, а к плодоножкам — крупные цветки». Он добавляет, что водяные лилии растут только в стоячей воде — в болотах или в прудах[971].
Корни в донном грунте, прекрасные цветки, погруженные в стоячую воду, — эти особенности не могли не породить символических толкований. Для поэта и драматурга Мориса Метерлинка водяные лилии были первобытными растениями, «обитателями доисторической жижи и грязи»[972]. Для романистки Жорж Санд они служили символом хрупкости и невинности, которая расцвела среди грязи и зловония. В предисловии к роману «Франсуа-найденыш», выходившему выпусками в 1848 году, она отмечает, что на написание книги ее вдохновил мальчик, которого она увидела на улице одного городка (какого — не названо), известной как дорога Нап и представлявшей собой опасную крутую тропинку, не ведущую ни к чему примечательному, вдоль которой тянулась канава, «в чьей грязной воде растут самые красивые на свете нимфеи, — они белее камелий, душистей лилий, чище нарциссов». По ее словам, они были «дикими и восхитительными растениями сточных канав»[973]. Образ чистоты и сточных канав несколько лет спустя подхватит один французский богослов, — по его словам, водяные лилии, белые цветы, укорененные в жидкой грязи, являются символом Богоматери, по причине ее темного происхождения из трущоб Назарета[974].
Другие писатели отыскивали в мутных прудах, на поверхности которых цвели водяные лилии, более мрачные коннотации. Несчастного безумного знакомца Моне Мориса Роллина стоячая вода прудов страшила. В одном его стихотворении описано «черное болото, пугающе-зловещее», населенное гоблинами: отражение луны в его поверхности выглядит как череп и перекрещенные кости[975]. То есть грязная вода, которую так любили водяные лилии, сообщала им не столько волшебную чистоту и незапятнанную невинность, сколько налет угрозы. В одном из прозаических произведений Роллина под названием «Красный пруд» описаны «чудовищные водяные лилии» с «мертвенно-бледными» цветками, которые скрывают под собой «вероломные глубины» и плывут «по поверхности темной воды, точно разлагающиеся сердца»[976].
Еще более зловещими водяные лилии предстают у Мирбо в «Саду мучений». Этот жуткий роман о сексе, смерти и садоводстве выходил выпусками в «Журналь» в 1898 году, а через год был опубликован в форме книги; в 1902 году увидело свет подарочное издание со зловеще-роскошными иллюстрациями Родена. Мирбо описывает сад, находящийся внутри китайской тюрьмы, построенной веком ранее для императора — ценой жизни тридцати тысяч рабочих, тела которых вместе с экскрементами нынешних узников и кровью пытаемых жертв питают его почву. Благодаря такому необычному удобрению в саду растут «чудесные цветы»,[977] под которыми скрыты пыточные приспособления и мертвые и умирающие тела, — из них экзотические растения и цветы и тянут жизненные соки. Образы пыток и водяных лилий сливаются, когда повествователь останавливается на деревянном мосту и вглядывается в поверхность пруда. «Водяные лилии раскинули по позолоченной воде свои широкие распустившиеся цветки, — пишет он, — которые казались мне отсеченными и плавающими головами»[978].
Мрачные сравнения Мирбо выросли из плодородного перегноя «дела Дрейфуса». «Священникам, солдатам, судьям, людям, воспитывающим, наставляющим и управляющим людьми, посвящаю я эти страницы убийства и крови», — пишет автор. Образ цветов, пышно распустившихся на экскрементах, возможно, основывался и на том, что в Карьер-су-Пуасси, куда Мирбо перебрался в 1893 году, Департамент санитарии вывозил человеческие испражнения на поля в качестве удобрения. Однако образы деревянного мостика, пруда и водяных лилий наверняка навеяны визитами в Живерни. Первое описание сада Моне сделал именно Мирбо после приезда туда в 1891 году. В нем употреблены такие слова, как «неприбранный», «хаотический», «оргия» и «буйное цветение»,[979] — обычно ими не пользовались для описания французских садов девятнадцатого столетия. Поэт Эмиль Верхарн, которому тоже довелось посетить Живерни, десять лет спустя описал сад Моне примерно в тех же словах, воспевая «великолепную растительную силу, безумное изобилие, тесное переплетение цветов и бликов. Можно сказать — преизбыток соцветий, трав, побегов, ветвей»[980].
Одна из иллюстраций Родена к роману Октава Мирбо «Сад мучений», издание 1902 г.
Трудно сказать, действительно ли сад Моне представлял собой безумную оргию растительного буйства, однако он, безусловно, подействовал на воображение Мирбо. В 1903 году, описывая визит Мирбо в Живерни, писатель Эдмон Пилон задал риторический вопрос: «Кто знает, может, сокровенные воспоминания об этих цветах и вдохнули в братскую могилу „Сада мучений“ запахи лотоса и мангровых деревьев»[981]. В романе деревянный мост над прудом выкрашен зеленой краской, как и японский мостик в саду Моне, а вокруг растут ирисы, купы причудливо подстриженной сирени и водяные лилии. Как отметила литературовед Эмили Эптер, сад Моне в Живерни и вымышленный сад мучений Мирбо «обладают настораживающим сходством», так как в зловещем саду Мирбо ландшафтные решения Моне повторены «буквально один в один»[982].
Разумеется, это не говорит о том, что сам Моне замечал в своем пруде или своих кустарниках тех смертоносных призраков, которыми населяли их его друзья — Мирбо и Роллина, с их блистательным и декадентским воображением. Зато это служит подтверждением тому, что сад во Франции рубежа веков был образом сложным и не столь идиллическим, как отображение рая. Даже прекрасный пруд с водяными лилиями Моне мог стать — как нам показывает Жеффруа — местом тягостных размышлений о пропасти и уничтожении. И вне всякого сомнения, довольно часто так оно и происходило — это видно из многочисленных упоминаний о страданиях и мучениях, когда Моне выходил в свой сад с палитрой и красками. «Ах, как я страдаю, какие страдания причиняет мне живопись! Это мука. Какая боль!»[983]
Прекрасные стихи, посвященные водяным лилиям, писал и еще один друг Моне, Стефан Малларме. В 1885 году он опубликовал стихотворение в прозе, называвшееся «Белая кувшинка», — впоследствии оно вошло в антологию, которую он прислал Моне в 1891 году. В этом необычном стихотворении человек плывет в ялике по реке, разыскивая одновременно и водяные цветы, и усадьбу некой женщины, которой собирается засвидетельствовать свое почтение. Река превращается в пруд, гребец видит мост, ограды и лужайки — это парк, принадлежащий таинственной незнакомке. Он склоняется над веслами, грезя о ней, и тут слышит непонятные звуки — то ли это она, то ли нет, он не поднимает глаз, чтобы посмотреть, а вместо этого разворачивает ялик и уплывает прочь. Заканчивает Малларме одной из своих изумительных метафор: «Смерить взглядом разлитое девственно в этом безлюдье отсутствие — и словно уносишь в память о месте одну из чудных спящих кувшинок, которые, вспыхнув, лелеют за млеющей белизной крупицу нетронутых снов и счастья, какому не сбыться, и моего затаенного тут, под страхом встречи, дыхания, с ним удалиться: молча, отчаливая помалу — лишь бы толчком не разбить иллюзию, к ничьим, плеску зримого, вспенившего побег пузырька, стопам не бросить прозрачной схожести с моим, в плену, идеальным цветком»[984].
В трактовке Малларме водяная лилия становится воплощением или замещением невидимой или отсутствующей женщины. Малларме умер в 1898 году, как раз тогда, когда Моне начал писать свой пруд с водяными лилиями, однако невидимая или отсутствующая женщина часто фигурирует в трактовках этих картин. Эмили Эптер даже утверждает, что водяные лилии Моне являются «явственным признаком женского начала» и замещают собой натурщиц, которых ревнивая Алиса запретила ему использовать[985]. («Если в этот дом войдет натурщица, — объявила она однажды, — я его немедленно покину»[986].) Французский поэт и критик Кристиан Лимузен также утверждает, что водяные лилии замещают на полотнах Моне женские фигуры, «на которые наложила запрет болезненная ревность» Алисы: «За каждым цветком таится женщина, а точнее — ее отсутствие, оставленная ею пустота: сонм недостижимых женщин, запретных, недоступных. Сезанн и Ренуар изображали купальщиц, Моне — водяные лилии, которые одновременно — и цветы, и женщины»[987]. Искусствовед Стивен Левайн же утверждает, что в трех из картин, на которых Моне изобразил свой пруд, он видит «человеческую фигуру или лицо, плывущее по поверхности среди отражений»[988].
Эти современные критики не первыми заметили женщин, сокрытых под или за водяными лилиями Моне. Посетив выставку Моне в 1909 году, Люсьен Декав решил, что он заметил на картинах женские лица и полураздетые фигуры. «Я вышел с Вашей выставки озадаченным и очарованным, — писал он Моне. — Должен сказать, что́ именно я увидел на картинах, на их живой воде, подвижной, как лицо счастливой молодой женщины, воде, открывшей мне свои тайны, воде, одетой тенями и раздетой солнцем, воде, на которой начертаны все часы дня, как возраст на человеческом челе»[989]. Декав был не одинок. Одна критикесса, посетившая ту же выставку, возомнила, что, глядя на картины, она превращается в водяную нимфу: «Возникает ощущение, что вы в воде, вы — обитатель прудов, озер и затонов, вы — фея с сияющими волосами, наяда с гибкими руками, нимфа с омытыми влагой ногами»[990]. Другой автор был убежден, что, если Моне и дальше будет писать водяные лилии, они в конце концов обретут человеческую форму, превратятся в «гениев и нимф»[991]. Похоже, совсем рядом с поверхностью этого пруда всегда находились женщины.
Возможно, эти зрители различали в прудах Моне нимф еще и потому, что для водяной лилии во французском чаще всего используется слово nymphéa. Жан-Пьер Ошеде рассказывает такую историю: однажды «полный невежда» пришел и попросил разрешения порыбачить в пруду Живерни, спросив, это ли то самое место, «где Клод Моне рисовал своих нимф»[992]. Невежда в определенном смысле был прав, хотя ни он, ни Жан-Пьер об этом не подозревали. Слово nymphéa, безусловно, напоминает о нимфах (nymphes по-французски) — античных богинях места, которых всегда изображали в виде грациозных обнаженных девушек: они воплощают в себе силы природы и обитают в водах, лесах и горах. Слово происходит от латинского nympha — невеста, возлюбленная, молодая женщина; этимологически оно связано с латинским глаголом nubere, жениться или выходить замуж. У слова nymphes, как пояснял французский учебник анатомии, выпущенный в XIX веке, было и еще одно значение: им обозначали мембрановидные ткани, которыми выстлана «верхняя часть вульвы внутри больших половых губ»[993]. Связь между водяными лилиями и женскими гениталиями откровенно показана в романе Ж. К. Гюисманса «Наоборот» (1884): там описано, что при мумифицировании женщин древние египтяне помещали тело на яшмовую плиту и в качестве обряда очищения вкладывали в гениталии «чистые лепестки божественного цветка» — то есть лотоса[994].
Жюль-Эжен Леневё. Гилас, соблазненный нимфами
Критик Луи Жилле, друг Моне, обозначил метафорическую связь между нимфами и водяными лилиями Живерни, написав, что пруд с лилиями — это «нимфа, в которую влюблен Моне»[995]. Кроме того, про изображенные на картинах Моне водяные лилии он высказался так: «Это всегда одна и та же фея, одна и та же ускользающая ундина, которую он пытается поймать»[996]. Ундина — это водяная нимфа, то есть, по мнению Жилле, создавая картину, Моне как бы пытался поймать убегающую девушку. Однако, если верить мифам, преследование водяных нимф — занятие небезопасное. «Увидеть их, — предостерегает французская энциклопедия XIX века, — значит рискнуть лишиться рассудка»[997]. О коварстве водяных нимф рассказано в истории одного из аргонавтов, прекрасного Гиласа, любимого оруженосца Геракла. Многие античные авторы повторяют историю о том, как златовласый юноша, посланный на поиски чистой воды, забрел в грот, где обитали нимфы. По версии Аполлония Родосского, одна из них, восхитившись его красотой, «левой своею рукой обвила его нежную шею, / С уст стремясь сорвать поцелуй, а правой за локоть / Вдруг к себе потянула его. И упал он в пучину»[998].
Художникам очень нравилась история похищения Гиласа; самая знаменитая картина на этот сюжет — это «Гилас и нимфы» Джона Уильяма Уотерхауса, написанная в 1896 году: на ней среди цветущих водяных лилий изображены юные красавицы с обнаженной грудью — они тянут юношу в воду. Но еще до Уотерхауса к тому же сюжету обращались художники-французы, например Жюль-Эжен Леневё, — его картина «Гилас, соблазненный нимфами» была выставлена на Парижском салоне в 1865 году и удостоилась премии (в том же году разразился скандал по поводу «Олимпии» Мане) за чувственное изображение жемчужной плоти и за томные позы[999]. Гилас показан склонившимся над водоемом, где плавают соблазнительные красавицы и, разумеется, водяные лилии. Но порой художники обходились и без Гиласа: нимфы, с ногами, омытыми свежей водой, резвились в прудах среди водяных лилий на многих полотнах, выставлявшихся в Салоне. Это были те самые туманные мифологические сцены, против которых по иронии судьбы и восстали Моне и его друзья. Так что нимфы, плещущиеся в водах Живерни, жили если не в воображении Моне, то в воображении его зрителей и критиков. Моне же, с его одержимостью, постоянно рисковал тем, что его утянут в сияющую бездну.
Глава восемнадцатая Губительный нарост
«Ваш стальной взгляд пронзает обманчивую оболочку, — сказал однажды своему другу Моне Клемансо, — и проникает в глубокие материи»[1000]. Клемансо искренне верил в то, что Моне, с его сверхъестественным зрением, являет важный момент в человеческой эволюции. Так же считали и другие — в 1883 году поэт Жюль Лафорг заявил, что импрессионистам посчастливилось иметь «самые острые глаза за всю историю человечества»[1001].
Даже оппоненты импрессионизма допускали, что глаз художников вроде Моне отличается от глаза обычного человека: у импрессионистов, мол, дефективное зрение, как у людей безумных и истеричных. В 1892 году немецкий писатель Макс Нордау опубликовал монографию под названием «Вырождение», в которой указал на французские «безумные моды в искусстве и литературе» как на признак того, что нация безнадежно дегенеративна[1002]. Стиль импрессионистов (или «маляров», как он их презрительно именовал) можно, по его словам, понять в свете исследований зрительных расстройств, возникающих при безумии и истерии, когда оптический нерв ослаблен или поврежден, а зрачок подрагивает. «Художники, которые убеждают нас в своей искренности и в том, что они воспроизводят натуру именно такой, какой видят, говорят правду, — утверждал Нордау. — Художник-дегенерат, страдающий нистагмом, или непроизвольным колебанием глазного яблока, действительно видит все природные явления дрожащими, неустойчивыми, лишенными четкого контура»[1003]. Ж. К. Гюисманс воспользовался теми же исследованиями (которые проводил на истероидных пациентах невролог Жан-Мартен Шарко в лечебнице Питье-Сальпетриер в Париже) как доказательством того, что импрессионисты страдали от деградации оптического нерва и «заболевания сетчатки». С его точки зрения, Моне был ярким тому свидетельством, «человеком не в своем уме, который запускает руку в глаз по локоть»[1004].
Те, кто пытался объяснить пресловутую «извращенность» стиля импрессионистов, могли сослаться на их совершенно реальные проблемы с глазами. У Писсарро не раз случались глазные инфекции, повлиявшие на зрение, а Эдгар Дега с начала 1870-х годов, когда еще не достиг сорока лет, страдал повышенной светочувствительностью. К пятидесяти у него было слепое пятно в поле зрения и он не мог читать газеты, а к семидесяти ему стало трудно работать. Его заболевание озадачило офтальмологов, которые пытались помочь художнику, в частности с помощью того, что он называл «скорбным инструментом»: очков, где правое стекло было полностью затемнено, а в левом имелась только узкая косая щель[1005]. Все эти меры не помогли, и к концу жизни Дега практически ослеп.
Моне после 1912 года иногда беспокоила катаракта, однако по ходу работы над Grande Décoration он не испытывал особых проблем со стороны зрения. Но через десять лет после того, как ему поставили этот диагноз, зрение начало ухудшаться. Официальное обещание передать свои работы в дар государству усилило его страхи по поводу потери зрения, и как только на договоре высохли чернила, похоже, действительно произошло ухудшение — работать стало тяжело, да и нежелательно. В мае он сознался Марку Элдеру, что продолжать писать в его нынешнем состоянии — большая ошибка. «Я сейчас почти слеп и должен прекратить всяческую работу», — сказал Моне[1006]. Он испортил несколько холстов и в итоге уничтожил их полностью, прямо как в старые времена. Приехав через некоторое время в Живерни, Элдер обнаружил там холсты, распоротые «гневной рукой». «Следы ножа были видны отчетливо, картина точно истекала кровью», — написал он про одну из жертв[1007]. Моне распорядился, чтобы слуги сожгли остальные полотна — нагромождение изодранных фрагментов розового, голубого и желтого, наваленное на столе. Похоже, среди этих работ не было тех, которые предполагалось передать в Оранжери, однако расчленение и сожжение не сулило ничего хорошего.
Было ясно, что продолжать при таких обстоятельствах работу над Grande Décoration как минимум неблагоразумно. Однако Моне все лето трудился над своими картинами. В июле он написал Жозефу Дюран-Рюэлю, что надеется «завершить все, прежде чем окончательно лишиться зрения»[1008]. На Жозефа результаты не произвели впечатления: последние вещи Моне он назвал «уродливыми и агрессивными»[1009].
Действительно, летом 1922 года работа у Моне почти встала. Он начал снова писать свой японский мостик, уже запечатленный на нескольких полыхающих красками полотнах — тех, которые он создал тревожным, мучительным летом 1918 года, — а также увитые розами тропинки, ведущие к дому, — их он уже изображал за двадцать с лишним лет до того[1010]. Картины эти относятся к числу самых поразительных его работ, но найти для них покупателя Дюран-Рюэлю действительно было бы нелегко. Моне кардинально, до неузнаваемости, видоизменил свою живописную розовую аллею, превратив ее в кружащий голову хаос оранжевых, желтых и алых бликов, нанесенных на полотно почти пиротехническими завитками и загогулинами. На одном из полотен аллея, украшенная ухоженными розами и ведущая к его любимому дому, по сути, превращается в чрево какой-то прожорливой дьявольской твари. Эти ослепительные взрывы цвета, безусловно, как минимум отчасти, можно объяснить его слабеющим зрением: в августе он жалуется, что видит все «в густом тумане»[1011]. Однако ошеломительный распад единой формы на один чистый цвет был также результатом невероятной остроты ви́дения, которое не имело никакого отношения к сетчатке и фоторецепторам, а объяснялось только решимостью раздвинуть границы живописи. Да, нельзя не признать, что среди этих работ были творческие неудачи, зато некоторые картины представляли собой магические, авантюрные сочетания света и цвета и свидетельствовали о том, что «старик, помешавшийся на живописи» все еще остается виртуозом.
В своих нелестных отзывах о последних работах Моне Жозеф Дюран-Рюэль исходил из того, что «головокружительный успех у японцев ударил ему в голову»[1012]. Под «японцами» имелся в виду Кодзиро Мацуката, который продолжал охотиться за полотнами Моне. К 1922 году ему уже принадлежали двадцать пять картин мастера, а в мае одна парижская газета написала, что промышленник вручил Моне чек на 800 тысяч франков и попросил отобрать для него одну работу[1013]. Если это правда, эта одна специально отобранная работа не только превзошла по цене двадцати пяти полотен Моне из коллекции Джеймса Саттона, проданных в 1917 году на нью-йоркском аукционе, но и вообще стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо купленным у художника при жизни, так как почти в два раза превзошла предыдущий рекорд — 478,5 тысячи франков за «Танцовщиц в баре» Дега, купленных Луизин Хейвемайер в 1912 году. Известно, что Моне умел торговаться, — можно судить по двумстам тысячам, которые он получил за «Женщин в саду». Более того, подписав договор о передаче государству плодов почти десятилетнего непрестанного труда, он наверняка решил компенсировать потери из других источников.
За какую именно работу было заплачено 800 тысяч франков, сказать трудно, хотя почти нет сомнений, что она была — как и полотна, приобретенные Мацукатой в Живерни в 1921 году, — частью Grande Décoration. Самым вероятным кандидатом представляются «Водяные лилии», один из grandes études, написанных в 1916 году: квадратное полотно со стороной в два метра, которое Мацуката приобрел в 1922 году, — теперь оно находится в Национальном музее европейского искусства в Токио. Как отметил Такер, эта работа занимает уникальное место среди сохранившихся этюдов Моне благодаря степени завершенности: яркость цвета, проработанность и композиция выделяют ее среди других grandes études. Безусловно, Моне она была очень дорога — он наверняка сознавал, что эта работа достойно представит его творчество среди других шедевров в Художественном павильоне чистых наслаждений[1014].
К сентябрю зрение Моне ухудшилось настолько, что он преодолел свою нелюбовь к Парижу и еще более сильную нелюбовь к врачам и отправился на консультацию к офтальмологу. Лечил его Шарль Кутела — светило офтальмологии и друг Клемансо, — кабинет которого находился на рю Ла Боэси. Сорокашестилетний доктор Кутела подтвердил, что состояние критическое: Моне, по сути, ослеп на правый глаз — тот всегда видел хуже, — а в левом зрение сохранилось лишь на десять процентов. Через день Моне отрапортовал Клемансо: «Итоги: один глаз совсем не видит, в ближайшем будущем придется делать операцию — другого выхода нет. Однако курс лечения может улучшить состояние второго глаза, — возможно, я даже смогу писать»[1015].
Кутела надеялся провести на правом глазу операцию, однако пациент ему попался опасливый и строптивый. Тогда врач прописал для левого глаза средство, расширяющее зрачок. Поначалу результат оказался обнадеживающим. Через неделю Моне прислал Кутела ликующее письмо, где говорилось, что капли оказались «чудодейственными», он давно уже так хорошо не видел и очень сожалеет, что не обратился к Кутела раньше. «Я бы тогда написал несколько хороших работ вместо этой жуткой мазни, которой пробавлялся, пока все было в тумане»[1016].
Однако возродить правый глаз могла только операция, потому что он «сделался только хуже»[1017]. Моне скоро понял, что хирургического вмешательства не избежать, — нет сомнений, что мягкое давление на него оказал Клемансо. То, что сам художник называл «устрашающей операцией»,[1018] было запланировано на начало ноября, а через несколько недель нужно было провести дополнительную процедуру. Однако накануне первой операции, на фоне общего недомогания, у Моне не выдержали нервы — и он попросил Клемансо ее отменить. Моне утверждал, что он «в слишком плохом состоянии», чтобы идти на такой риск, а кроме того, «слишком страшится результата»[1019].
Клемансо только что помог решить проблему с павильоном, и вот друг снова просит его вмешаться в критическую ситуацию. Впрочем, ни уговаривать, ни ободрять он в этот момент не мог. Через день после получения письма от Моне он поднялся в Гавре на борт океанского лайнера, идущего в Соединенные Штаты. Как писала «Нью-Йорк таймс», Клемансо «собирался вернуться к политической жизни… в совершенно новой форме»[1020].
Клемансо все сильнее разочаровывался в международной политике. Особенно беспокоили его отход Америки от европейских дел, различные конференции, ослаблявшие Версальский договор, и тот факт, что немцы так и не выплатили Франции никаких репараций, тогда как американцы настаивали на полном возвращении выданных союзникам кредитов. Если не заставить немцев выполнить свои обязательства по Версальскому договору и не принять мер по защите Франции от германской агрессии, «все начнется по новой»,[1021] зловеще предрекал Клемансо.
Клемансо не замедлил ввязаться в клубок международных противоречий. Катализатором стало интервью с Редьярдом Киплингом, опубликованное 10 сентября в «Нью-Йорк уорлд». Несколькими месяцами раньше в гости к Киплингу в Сассекс приехала скульптор Клэр Шеридан, двоюродная сестра Уинстона Черчилля. Она не сказала, что работает журналисткой (якобы просто заехала на чай с детьми), и Киплинг неосмотрительно позволил себе ряд откровенно антиамериканских высказываний. Он якобы заявил, что точка в войне не поставлена, что американцы вступили в войну «с опозданием на два года семь месяцев и четыре дня» и вышли из нее в день перемирия, вынудив союзников немедленно заключить мирное соглашение, вместо того чтобы с победой дойти до Берлина.
Киплинг эти высказывания отрицал, однако роль Америки в войне неожиданно предстала неоднозначной[1022]. Многие французы разделяли мнение Киплинга, пусть и не о том, что американцы уклонились от исполнения своих обязательств, так о том, что на Германию необходимо надавить в отношении выплаты репараций. В тот самый день, когда было опубликовано интервью с Киплингом, Раймон Пуанкаре посетил древний собор в городе Мо, где состоялись торжества, связанные с юбилеем битвы на Марне. Пуанкаре произнес пламенную речь, в которой требовал призвать немцев к ответу: «Необходимо однозначно дать всем понять, что мы намерены взыскать с Германии долги. Если нас станут корить за то, что мы слишком настаиваем на своих правах, мы повторим, что, отказавшись от этих требований, разрушим Францию, а разрушение Франции станет для Европы самой ужасной из катастроф»[1023].
Однако громче и отчетливее всех грядущую катастрофу предрекал Клемансо; именно к нему журнал «Уорлд» сразу же обратился за комментариями. Считает ли Клемансо, интересовался репортер, что Америка выполнила свой долг солидарности с союзниками? Тигр прислал из «Белеба» телеграмму, где объявил, что в ноябре за собственный счет отправится в Соединенные Штаты и лично ответит на этот вопрос американскому народу, чтобы, как писала «Нью-Йорк таймс», «восстановить в США утраченный престиж Европы»[1024].
Некоторые французские газеты приветствовали возвращение Клемансо на мировую арену. «Вне зависимости от того, какие результаты принесет его поездка, мы не можем не признать широты жеста, — писала одна из них. — И друзья и враги не могут не преклоняться перед стариком, который, единожды покинув поле кровавых идейных битв, теперь добровольно туда вернулся, причем не ради участия в пустопорожней полемике, а чтобы еще раз обратиться к миру на внятном языке Франции»[1025]. Однако далеко не всем казалась приятной или конструктивной перспектива того, что Тигр в очередной раз вышел на охоту и, возможно, осложнит франко-американские отношения своими упреками в адрес американцев за то, что они не ратифицируют Версальский договор или не исполняют свои обязательства. Клемансо не счел нужным развеивать эти страхи, решительно заявив: «Я с американцами церемониться не стану»[1026]. Журналист одной английской газеты, бравший у него интервью накануне отъезда, пришел к выводу, что грозная манера Тигра осталась при нем. Он способен на «тот же свирепый рык, что и прежде. Он не разучился огрызаться». Не снимая вечных своих серых перчаток, Клемансо грозно молотил кулаками по столу и высказывал мнения — «запальчивые, язвительные, уничтожающие», — которые «не подходят для публикации»[1027]. Издатель «Матэн» в статье для одной американской газеты сетовал на то, что «Франции известно: ничего хорошего из этой поездки не выйдет, напротив, Франция опасается, что визит Клемансо принесет много зла»[1028].
Впрочем, противники Клемансо недооценили его славу и харизму героя-победителя. В Нью-Йорк он прибыл 18 ноября на борту французского лайнера «Париж», и его восторженно приветствовали как «героя мировой войны» («Нью-Йорк таймс») и «главного кузнеца победы союзников» («Нью-Йорк трибьюн»). В гавани ревели сирены, на буксире гремел оркестр нью-йоркского Департамента по уборке мусора. Улицы Манхэттена, по которым Клемансо следовал в мэрию, заметала метель из серпантина и разодранных телефонных справочников. Приветствовать его явились все положенные знаменитости, из Вашингтона пришла телеграмма от Вудро Вильсона. Клемансо остановился на Восточной Семьдесят третьей улице, в доме Чарльза Даны Гибсона, владельца журнала «Лайф», — его жене Айрин он показался «симпатичнейшим старичком, которому совсем не трудно угодить»[1029]. Клемансо посетил Музей естественной истории, выступил перед народом в ратуше и в оперном театре «Метрополитен», отужинал в «Ритц-Карлтоне» с Ральфом Пулицером и, поднявшись в четыре утра, отправился в Ойстер-Бэй, чтобы снять шляпу и возложить венок к могиле Тедди Рузвельта. На журналистов произвел сильное впечатление его прекрасный английский язык, позволявший «со своего рода мрачным удовольствием и сарказмом»[1030] отпускать язвительные шуточки. Впрочем, далеко не все его высказывания оказались мрачными или саркастическими: он галантно отметил, что американки стали даже красивее, чем полвека тому назад[1031].
Клемансо в Нью-Йорке, 1922 г.
© Getty Images
Безусловно, очаровать всех Клемансо не удалось. Он позволил себе и нелицеприятные высказывания в адрес американской стороны: заявил, что в 1918 году пошел бы дальше на Берлин, если бы знал заранее, какое слабое впечатление произведет Версальский договор на Германию. Уильям Бора, депутат от Айдахо, заклеймил его в сенате; другие изоляционисты опасались того, что он будет пытаться заманить американских военных обратно во Францию, дабы укрепить позиции Версальского договора. Кроме того, они боялись, что он ввергнет немцев в нищету, заставив их платить репарации, — тем самым, заявил сенатор Гилберт Хитчкок, Германия будет брошена «в объятия большевиков»[1032].
Из Нью-Йорка Клемансо отправился в Бостон, где мэр преподнес ему в подарок безопасную бритву («Он был страшно озадачен»[1033]). За Бостоном последовали Чикаго, Сент-Луис, Вашингтон, Филадельфия, Балтимор. «Через несколько дней я возвращаюсь во Францию, — сказал Клемансо одному корреспонденту в декабре, под самый конец поездки, — чтобы поведать своим соотечественникам: нам нечего бояться, Америка по-прежнему с нами, сердце ее не переменилось». При этом пессимизм его не убавился: «Молитесь Богу, чтобы к моменту моего возвращения еще не разразилась война»[1034].
В день прибытия Клемансо в Нью-Йорк «Фигаро» опубликовала статью, превозносившую «волшебный глаз» Моне[1035]. Привычный панегирик его сверхъестественной зоркости на сей раз прозвучал горькой иронией. К декабрю зрение художника упало настолько, что он наконец преодолел свои страхи по поводу операции. Возвращающемуся Клемансо он заявил, что хотел бы провести ее как можно скорее, «числа 8-го или 10 января, потому что я почти ничего не вижу»[1036]. Доктор Кутела прооперировал ему правый глаз 10 января в клинике Амбруаз-Паре в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Первой из двух планировавшихся процедур стала иридэктомия: иссечение части радужки правого глаза. Вторую часть операции, внекапсулярное удаление катаракты, решено было провести через несколько недель.
Операция была вполне стандартная, однако, разумеется, влекла за собой серьезные неудобства, равно как и длительный, непростой период выздоровления. Местная анестезия представляла собой инъекции кокаина в оптический нерв, чтобы снять чувствительность роговицы[1037]. После операции Моне должен был неподвижно пролежать в постели в клинике десять дней, в полной темноте, с повязкой на обоих глазах и без подушки. Такой режим вывел бы из себя даже самого терпеливого и волевого человека — неудивительно, что Моне переносил его очень плохо. Судя по заметкам доктора Кутела, операция прошла в плановом режиме, хотя у пациента наблюдались тошнота и даже рвота — «нестандартные и непредвиденные реакции, спровоцированные эмоциональным состоянием, крайне нежелательные и тревожные»[1038]. Сразу же после операции Моне стал видеть цвета необычайно интенсивными и насыщенными — его восхитила «невообразимо прекрасная радуга»[1039]. Однако эти великолепные ощущения оказались недолговечными. Его принудили к строгому и долговременному постельному режиму, оба глаза были забинтованы, а рацион его состоял из овощного бульона, липового чая и загадочного мяса, которое называли то «уткой», то «голубем», — сиделка кормила его с ложечки[1040].
Повязки иногда снимали, чтобы закапать лекарство или ввести новую дозу кокаина. Трактат 1906 года об использовании кокаина при глазных операциях гласил, что токсичность этого наркотика вызывает «многочисленные несчастные случаи и провоцирует опасные ситуации», а соответственно, пользоваться им надо осторожно[1041]. После инъекций рядом с больным, как правило, оставалась сиделка — она должна была следить, чтобы у того не начался бред, чтобы он не сдернул повязку и не навредил себе как-то иначе. Моне как пациент, безусловно, входил в группу особого риска. В другом офтальмологическом трактате сказано, что пожилые пациенты, особенно любители спиртного, могут, когда у них забинтованы оба глаза, впадать в бредовое состояние[1042]. Ошеде утверждает, что рядом с Моне сиделки не было; предсказуемо, что в один прекрасный день в приступе паники или раздражения он содрал повязку, едва не лишившись зрения[1043].
Преданная Бланш не отходила от его постели в клинике в Нёйи почти весь этот сложный послеоперационный период. «Он настолько нервен и перевозбужден, — сообщала она, — что ни минуты не лежит спокойно»[1044]. Несколько раз он вскакивал с постели, заявляя, что лучше уж слепота, чем это бесконечное лежание. В итоге, писала Бланш, он неизменно успокаивался, однако эти взрывы удлинили период выздоровления, и ему пришлось остаться в клинике дольше намеченного. Собственно, его так и не отпустили домой до самой второй процедуры — внекапсулярного удаления катаракты, — которая состоялась в последний день месяца. После этого буйному, ворчливому пациенту прописали полную неподвижность.
Домой Моне отпустили только в середине февраля — он провел в больничной палате тридцать восемь дней. Ситуация со зрением все еще оставалась неопределенной, однако он отпраздновал свое освобождение тем, что съездил с Клемансо и Полем Леоном на экскурсию в Оранжери. В сентябре предыдущего месяца, бегло осмотрев здание после первой консультации с доктором Кутела, он остался недоволен. Тогда плохое зрение не помешало ему убедиться, что работы идут без спешки. «Ни одного рабочего. Полная тишина, — жаловался он Клемансо. — Только кучка мусора перед дверью»[1045].
Моне после операции по удалению катаракты
Три месяца спустя, в декабре 1922 года, было получено официальное разрешение на реконструкцию Оранжери, из бюджета было выделено 600 тысяч франков. Однако по ходу реконструкции павильон продолжали использовать в качестве выставочного зала. Через месяц после того, как Моне подписал договор о дарении, там, как обычно, открылась ежегодная выставка собак, на которой было представлено около тысячи штук: мелкие «тявкали в клетках», а крупные «гавкали и выли, точно волки»[1046]. На 1923 год была запланирована выставка «Канадский поезд». В Тюильри, в том числе и на террасе Оранжери, намеревались представить тридцать железнодорожных вагонов с сотнями канадских товаров и сувениров — каноэ, меха, картины, диорамы лесов и охотничьих сцен. «Бюллетень художественной жизни» возмущался: в Оранжери проходит масштабная реконструкция с целью размещения там дара Моне, проводить в нем такие временные выставки недопустимо. Однако министр коммерции и промышленности Люсьен Диор встал на сторону канадской выставки и ответил, что в связи с большими затратами на реставрацию Леон дал разрешение «использовать павильон в обеих целях». С одной стороны, экспозиция бобровых шкур и каноэ может замедлить реставрацию, а с другой — позволит получить крайне необходимые средства[1047].
Помимо прочего, во время визита в Оранжери в феврале 1923 года Моне с беспокойством размышлял и о том, как закрепить полотна на стенах. Деревянные подрамники и рамы, безусловно, не подходили — ведь речь шла о вогнутой поверхности. Он выбрал технику, которая называется «маруфляж»: на заднюю поверхность холста наносится клей, и холст крепится непосредственно на стену, как клеят афиши. Способ надежный, проверенный — им часто пользовались в XIX веке для крепления больших полотен на стены и потолки Пантеона, Сорбонны, Ратуши и на своды фойе Французского театра, где располагалась живописная панорама на холсте шириной восемь метров. Моне, однако, хотел лично проследить за этим процессом и выбил из Леона обещание, что тот при первой же возможности привезет Камиля Лефевра и специалиста по маруфляжу в Живерни, «чтобы я не испытывал никаких беспокойств относительно этого процесса»[1048]. Одно из его нерушимых условий по поводу дарения заключалось в том, что картины никогда не покинут Оранжери, а настойчивость касательно соблюдения технологии свидетельствует об опасениях, что, если картины не закрепить на стенах навечно, после его смерти они могут оказаться в заточении в темном пыльном подвале[1049].
Леона и Клемансо в тот момент сильнее всего волновало зрение Моне. Клемансо постоянно общался с доктором Кутела. «Сердечно благодарю Вас за ценные сведения, — писал он офтальмологу через неделю после того, как Моне выписали. — Как и Вы, я считаю, что нужно пристально следить за душевным состоянием нашего друга, так как он может воспротивиться повторному вмешательству»[1050]. Вероятность повторного вмешательства все возрастала — шли недели, а зрение Моне не улучшалось. К апрелю Клемансо вынужден был объяснить ему: «Черт знает от чего случившееся новообразование вызвало помутнение, которое мешает Вам видеть»[1051].
Упомянутое помутнение было вызвано вторичной катарактой, развившейся на правом глазу, — довольно частое осложнение, которое в данном случае причинило нервному пациенту тяжкие муки. У Моне выпадали «дурные дни с болью и чувствительностью», когда он вынужден был надевать темные очки, оставаться в доме и диктовать письма Бланш. «Сегодня, — гласило длинное послание Кутела от 9 апреля, — были резкие электрические боли в центральной части глаза, кроме того, постоянно текут слезы». В те несколько месяцев, что минули после операции, Кутела не раз приезжал в Живерни, хотя Моне и раздражало то, что ряд консультаций он отложил, а на Пасху и вовсе уехал отдыхать в Марокко. «Жду Вашего визита, — ядовито диктовал Моне в Вербное воскресенье, — который на сей раз не подлежит отлагательству»[1052].
К весне 1923 года для Моне начались, как обозначил их Жан-Пьер, еще один свидетель этих мук, «темные дни»: период «душевного упадка, отчаяния и паники»[1053]. Клемансо, как всегда, пытался по мере сил его подбодрить. «И в дурную, и в ясную погоду, — писал он Моне в апреле, — у меня одно правило: держать себя в руках»[1054]. К сожалению, Моне это не подходило. Как и в темные дни 1913 года, Клемансо повез его, как он это назвал, «в путешествие по Японии»[1055] — они отправились в японский сад Эдмона Ротшильда в Булонь-Бьянкуре. Кроме того, Клемансо привез в Живерни нескольких красивых и блистательных женщин: жену Чарльза Даны Гибсона Айрин (красавицу с американского Юга, сестру Нэнси Астор) и герцогиню де Марчена, «великолепную даму и скромную миллионершу, — по словам Клемансо, — которая любит цветы и живопись, особенно живопись Моне. Она настойчиво спрашивала, не довезу ли я ее до Вашего дома, и я не мог отказать»[1056]. Герцогиня — разъехавшаяся с мужем, жестоким и слабовольным Франсиско Мария де Борбони-и-Борбон, двоюродная сестра испанского короля — много лет была любовницей баснословно богатого приятеля Клемансо Базиля (Зеда) Захароффа, который отдал ему в пользование свой «роллс-ройс».
Галерея Оранжери в саду Тюильри
© Getty Images
Однако Моне, по словам доктора Кутела, по-прежнему пребывал «в полном отчаянии». К середине июня он смог читать в очках — пятнадцать-двадцать страниц в день, по его словам, но вдаль видел по-прежнему плохо, особенно при дневном свете. Скоро перед глазами у него стали появляться черные точки. А хуже всего, пожалуй, оказалось то, что по прошествии пяти месяцев после хирургического вмешательства он начал терять веру в Кутела. Он сожалел о том, что дал себя уговорить на «эту губительную операцию», и беззастенчиво заявлял врачу: «Довести меня до такого было преступлением». На 22 июня Кутела назначил ему прием в Париже, но Моне — несмотря на то, что постоянно взывал к врачу о помощи, — не явился. Консультацию перенесли на следующую неделю; тогда и была диагностирована вторичная катаракта и на середину июля назначена операция. Моне угрюмо смирился. «Поскольку я знаю истину о своем будущем, — писал он Кутела, — я дожидаюсь дня, когда меня избавят от этого губительного нароста; нет нужды говорить, как я сожалею, что это не произошло раньше»[1057].
На сей раз операцию провели в Живерни. 18 июля, в среду, доктор Кутела прибыл на станцию Вернон в 9:20 утра. «Визит в Живерни был удовлетворительным, — отчитался он впоследствии Клемансо, который находился в „Белеба“. — Настроение прекрасное… Все к лучшему». Впрочем, он отметил, что у Моне снова наблюдались обморочное состояние, тошнота и рвота[1058]. На следующий день пациент уже нашел в себе силы прогуляться с Бланш по саду, а по ходу повторного визита, два дня спустя, Кутела подтвердил, что все идет хорошо. Прежде чем уехать в августе отдыхать в Бретань, врач постановил, что по возвращении пропишет Моне лечебные очки.
«Вот с этим и покончено», — писал Клемансо Моне несколькими днями позже, мягко упрекая его за то, что он проявил себя «нервным человеком, который, сам того не желая, создает сложности». В конце письма он обозвал Моне «mauvais petit gamin» — скверным мальчуганом[1059].
«С этим покончено»: вряд ли Клемансо сам верил в подобное утверждение. Однако он продолжал подбадривать Моне и призывать его к терпению. Поначалу Моне был настроен оптимистично. Он продиктовал Бланш письмо братьям Бернхайм, где сообщил, что последняя операция оказалась болезненнее двух предыдущих и вызвала «муки и переживания», однако он с нетерпением дожидается прибытия «спасительных очков», — на них он возлагал все свои надежды по поводу улучшения зрения[1060]. Осмотр, произведенный в третью неделю августа, позволил доктору Кутела объявить в письме Клемансо об успешном исходе последней операции, притом что оба понимали: чтобы к Моне по-настоящему вернулось зрение, предстоит неизбежная операция и на левом глазу. Клемансо деликатно затронул эту тему, написав, что очень хочет, «как и все, чтобы Вы видели обоими глазами»[1061].
Вероятность того, что Моне согласится еще на одну операцию, пошатнулась в конце августа, когда наконец привезли его «спасительные очки». «Какое разочарование!» — признался он Клемансо, а для Кутела продиктовал: «Я жестоко разочарован: несмотря на все мои лучшие намерения, мне кажется, что если я сделаю шаг, то тут же упаду. Всё, и вблизи и вдали, выглядит искаженным, в глазах двоится, ходить в очках невыносимо. Мне кажется, надевать их просто опасно. Что делать? Жду Вашего ответа. Я крайне расстроен»[1062]. Кутела посоветовал все же носить очки, и через пару дней пришло более бодрое послание: «О счастье — смог читать, сперва понемногу… и, разумеется, глаза слегка устают. Искажение сохраняется, но я мужественно терплю». По собственному почину он стал капать в глаз лекарство и накрывать его повязкой, прежде чем надеть очки[1063].
В конце августа Моне получил от Клемансо очередную духоподъемную телеграмму: «То, что Вы в состоянии видеть, — неопровержимое доказательство возвращения зрения… успех обеспечен»[1064]. Эти оптимистичные суждения и выводы напоминали заявления вроде «Все идет хорошо», на которые Тигр не скупился в марте 1918 года, после прорыва обороны союзников, наступления на Париж и обстрелов из «Колоссали». Энергия, которая некогда воодушевляла целый народ, теперь была обращена на Моне, правда пока с куда меньшим успехом.
Да, очки позволяли Моне читать, но у него сильно нарушилось цветовосприятие. Для ценителя природы и художника, в работах которого запечатлелись тончайшие нюансы цвета и света, это было очень серьезно. 30 августа он сообщил Клемансо с помощью Бланш, что «я вижу цвета искаженными, слишком интенсивными, и это меня ужасает». Цвета казались такими крикливыми и нелепыми, что он утверждал (разумеется, драматизируя), что предпочел бы слепоту, ибо тогда сохранил бы в чистоте память о красоте природы. Клемансо счел это позерство абсурдным («Есть еще палата в этой психбольнице?»), однако куда более серьезные опасения вызывали слова Моне, что «и природа, и собственные картины кажутся мне отвратительными»[1065]. Ситуация осложнялась и тем, что зрение в левом глазу испортилось настолько, что без капель он не видел вообще ничего, а их Кутела, к крайнему неудовольствию Моне, разрешал применять только в определенных дозах. После перечисления этих проблем со зрением заявление Моне в письме Клемансо, что ему нужно доработать несколько картин, наверняка прозвучало угрожающе[1066]. Было понятно, что усилия эти не приведут ни к чему, кроме кромсания и треска горящих холстов.
В начале сентября доктор Кутела приехал в Живерни[1067]. Он проверил зрение Моне, попросив того прочитать письмо Клемансо, которое, как заметил врач, он и сам расшифровал с большим трудом. «Надеюсь, Вы не посетуете, если я скажу, что почерк у Вас мелкий и трудночитаемый», — отчитывался он перед Клемансо. Моне же прочел письмо без запинки. Кутела добавляет трогательную деталь: «Его очень радуют Ваши письма». Далее он, однако, отмечает, что вдаль Моне видит плохо, хотя со временем должно наступить улучшение. Его беспокоило, что Моне, например, поднимается в спальню по плохо освещенной лестнице.
Моне не столько волновали лестницы, сколько то, что, не видя вдаль, он больше не может рассматривать свои работы с расстояния. Более того, его доводили до паники «перекосы» цветового баланса: Клемансо он сказал, что теперь видит не тридцать шесть цветов, а всего два: желтый и синий[1068]. Кутела успокоил Клемансо: такие нарушения часто случаются после удаления катаракты, но, как правило, не пугают пациентов, которые, в отличие от Моне, не обладают столь «уникальным даром анализа цвета». Чтобы помочь делу, он предложил набор тонированных линз, хотя после того, как Моне подвели его «спасительные очки», тот относился к оптике с упорным пессимизмом. Сильную досаду вызывало у него и то, что Кутела, похоже, «очень мало волнуют» его проблемы с цветом[1069].
Задачу Кутела дополнительно осложняло то, что жалобы Моне на расстройство цветовосприятия были невнятными, а порой даже противоречивыми. «Он видит все в желтых тонах», — отметил Кутела после консультации. В итоге он поставил диагноз «ксантопсия» — ее вызывают возрастные изменения в хрусталике, а усугубляет это состояние катаракта (а также, что следует из посмертного диагноза, поставленного Ван Гогу, еще и токсикомания)[1070]. Однако, жалуясь Клемансо на то, что он видит только два цвета, желтый и синий, Моне сперва написал «желтый и зеленый», а потом вычеркнул «зеленый» и вписал «синий», а через несколько дней в письме Кутела объявил, что видит «желтый как зеленый, а все остальное, по сути, синим»[1071]. Преобладание синего скорее свидетельствует о цианопсии — другом частотном побочном эффекте удаления катаракты. А когда в этот печальный период в Живерни приехал Саша Гитри, он застал Моне в ужасном состоянии: тот в одиночестве сидел в мастерской «с видом человека, сокрушенного несчастьями». Гитри поцеловал его в щеку, а Моне произнес жалобно: «Бедный мой Саша! Я больше не вижу желтого»[1072].
Клемансо продолжал слать в Живерни письма и телеграммы, исполненные всегдашнего сочетания духоподъемного оптимизма и мягких упреков. «Сохраняйте спокойствие, милый мой гневный брат», — призывал он. Или: «Дитя, проявите терпение»[1073]. Клемансо все сильнее тревожила судьба дара государству и Grande Décoration. За последний год Моне почти или совсем не сделал в этом направлении ничего конструктивного, а до апреля 1924-го, срока передачи картин в дар, оставалось всего полгода. Через два дня после того, как Кутела ездил в Живерни консультировать пациента, Клемансо написал ему, отметив, что к моменту открытия выставки Моне должен быть «в хорошей форме». Сможет ли Моне доработать картины, притом что видит только одним глазом? — спрашивал Клемансо у Кутела. Если нет, необходима операция на левом глазу. Но успеет ли художник оправиться, успеет ли с доделками? И согласится ли вновь лечь под нож хирурга? Необходимо, как тактично отмечал Клемансо, принимать в расчет «психологию пациента». «Мяч на Вашей стороне», — объявил он Кутела[1074].
Врач оказался в чрезвычайно непростом положении, и играть в этот мяч ему хотелось все меньше. Он сочинил Клемансо длинный ответ, сидя в «шумном кафе» в Сен-Флуре (тот факт, что городок этот находится в живописном далеком Оверне, в пятистах километрах к югу от Парижа, лучше было не сообщать Моне, который и так считал, что развлекательные поездочки врача совершенно неуместны, когда тот постоянно нужен ему под рукой). Кутела уже изнемогал от своего прославленного пациента с его особыми требованиями и не слишком реалистичными ожиданиями: через нечто подобное раньше уже прошел злосчастный Луи Боннье. «Для обыкновенного человека, — написал Кутела Клемансо, — результат, по моему мнению, совершенно удовлетворительный. Но месье Моне глаза нужны не просто для жизни… Вдаль он видит вполне сносно для обычного человека, но не для такого, как он». Иными словами, операция прошла успешно, только пациент, к сожалению, умер. В ответ на вопрос Клемансо врач ответил, что считает операцию на левом глазу совершенно необходимой. Но делать ее сам Кутела желанием не горел. «Лично мне месье Моне доставил столько мучений, что я решил не заниматься его вторым глазом». Впрочем, он сказал Клемансо, что готов пересмотреть это решение, поскольку Моне «такой мужественный человек» и нравится ему, «несмотря на его приступы гнева»[1075].
По итогам этих размышлений Клемансо в середине сентября без всяких экивоков написал Моне: «Вы не сможете закончить работу над панно, если не согласитесь на вторую операцию»[1076]. Отвечал Моне тоже без экивоков: «Должен сказать Вам откровенно, — написал он 22 сентября, — что по зрелом размышлении я категорически отказываюсь (по крайней мере, на данный момент) от операции на левом глазу»[1077].
Доктор Шарль Кутела, окулист Моне
© Getty Images
Единственное, что могло убедить Моне сделать операцию и на левом глазу, — это свидетельства другого живописца, у которого она прошла успешно. Именно поэтому Моне написал художнику Поль-Альберу Бенару. Семидесятичетырехлетний Бенар был одним из «Бессмертных», увенчанным многими наградами художником, который успел послужить директором как Французской академии в Риме, так и Школы изящных искусств в Париже. Обладая огромными связями и в обществе, и в профессиональных кругах, Бенар был равно известен и среди своих собратьев-«Бессмертных», и — в качестве организатора недавней выставки «Салон Тюильри» — среди большинства представителей молодого поколения художников: многие из них учились у него в Риме и в Париже. Именно как к человеку бывалому Моне к нему, похоже, и обратился, апеллируя при этом к «давней дружбе» с Бенаром[1078].
«Дорогой Бенар, — начал свое письмо Моне, — хочу попросить Вас об одолжении». Он вкратце описывает свою историю болезни: три операции по удалению катаракты с января, далеко не обнадеживающие результаты, вероятность еще одной — и спрашивает, известен ли Бенару кто-то из художников, у кого такая операция прошла успешно и восстановилось цветовосприятие. Он пишет, что решил обратиться к Бенару, поскольку не доверяет врачам, — у них заговор молчания, откровенности от них не добьешься: «Окулисты, сплотив ряды, хранят любые тайны, которые могут навести на мысль о неудаче»[1079].
Бенар не сумел найти свидетельств успеха ни одной такой операции. Однако Моне известно было о бедах Мэри Кэссетт — на рубеже веков, когда ей было за пятьдесят, ей стало изменять зрение. В 1912 году у нее диагностировали катаракту на обоих глазах — в том же году аналогичный диагноз поставили и Моне. К 1923 году она перенесла пять операций без какого бы то ни было улучшения. Рене Жимпель, посетивший ее летом 1918 года после трех первых операций, отметил: «Увы, великая поклонница света ныне почти слепа». Несколько месяцев спустя он рассказал о ее печалях Моне «и почувствовал, что старику все равно»[1080]. Равнодушие Моне могло объясняться тем, что в 1918 году зрение еще не доставляло ему особых неприятностей. Тогда он, судя по всему, не обращался к Кэссетт за советом, хотя у них и были общие друзья, такие как Жимпель и Дюран-Рюэль. Неудача с ее операциями вряд ли добавила бы ему уверенности, а уж назвать ее историю счастливой нельзя было вовсе — он же искал именно такие истории. Итак, доказательств не было, и он укрепился в своей решимости не ложиться больше под нож доктора Кутела.
К концу сентября, тревожась за судьбу панно и окончательно потеряв терпение, Клемансо начал давить на Моне, убеждая его согласиться на операцию. Между «Белеба» и Живерни так и летали письма, Клемансо приводил доводы в пользу хирургического вмешательства, а Моне отвечал посланиями, представлявшими собой, по словам Клемансо, «один лишь долгий стон»[1081]. В разгар этой патовой ситуации Моне прибег к испытанному средству, к которому всегда прибегал, оказавшись на дне черной пропасти: взялся за кисть. У него имелись теперь новые немецкие очки, которые доставили в октябре. «К моему величайшему изумлению, — сообщил он Кутела, — результат отличный. Я снова вижу зеленый и красный и наконец, пусть слабо, и синий»[1082]. Моне рьяно взялся за дело, чтобы закончить работу к апрелю, — Клемансо испытал радость и облегчение. «Как отрадно, дорогой друг, было узнать, что Вы опять усердно трудитесь! Не представить себе новостей лучше… Ваше крепкое судно вновь на плаву. Ведите его верным курсом. У нас здесь туман, но главное, чтобы солнце светило в Вашем сердце»[1083].
Через две недели, в середине декабря, Клемансо и Кутела привезли в Живерни еще одни очки. По дороге обратно в Париж они попали в аварию — после резкого торможения идущей впереди машины «роллс-ройс» вильнул и врезался в дерево. Клемансо, сидевший, как всегда, на переднем сиденье, поранил лицо и потерял много крови; его, как и Кутела, тоже травмированного, отвезли в больницу в Сен-Жермен-ан-Лайе. Вечером обоих выписали, наложив швы. Клемансо жизнерадостно поведал Моне, что «авария случилась буквально на ровном месте» и в следующий раз он не сплохует. Через день под очередным письмом он поставил — неблагоразумно искушая судьбу: «До следующей катастрофы»[1084].
Глава девятнадцатая Во тьме души
В 11:58 утра 1 сентября 1923 года регион Канто вокруг Токио сотрясло разрушительное землетрясение. За ним последовали страшные пожары, превратившие столицу, по словам одного свидетеля, в «море пламени»[1085]. Число жертв приблизилось к ста сорока тысячам. Французские газеты называли в числе погибших и Кодзиро Мацукату[1086].
Слухи о смерти олигарха оказались сильно преувеличенными, однако масштабные разрушения стали жестоким ударом по союзнице Франции — стране, «которая была рядом во дни наших борений», как торжественно провозгласили в палате депутатов;[1087] во Франции тут же начались акции поддержки и сбора средств. Премьер-министр Мильеран отправил соболезнования императору Ёсихито, а мэр Вердена — до того момента самого знаменитого разрушенного города на земле — передал соболезнования японскому послу. «Японский гала-вечер» прошел в отеле «Кларидж», женский комитет под руководством мадам Пуанкаре собирал посылки для отправки в Японию, сборы от художественных выставок и кинопоказов передавали в пользу пострадавших. В кинотеатре «Колизей» показали серию документальных фильмов об основных достопримечательностях Японии — сборы от утренних сеансов предназначались многим тысячам раненых и лишившихся крова.
В свете этого неудивительно, что в начале января 1924 года в галерее Жоржа Пти в Париже открылась выставка в пользу жертв землетрясения. Руководил ею друг и советчик Мацукаты Леонс Бенедит, а называлась она «Клод Моне: Выставка, организованная в пользу жертв японской катастрофы». На ней было представлено около шестидесяти полотен Моне, в том числе и «Женщины в саду», а также все произведения, принадлежавшие Мацукате и предназначенные для Художественного павильона чистых наслаждений. Выставка, безусловно, стала своевременным и уместным шагом — обозреватель из «Раппель» отметил: «У Клода Моне множество почитателей по всему миру, особенно среди японских художников. Не он ли стал одним из тех, кто открыл нам красоту и своеобразие живописцев и граверов с Дальнего Востока, которыми искренне восхищается?»[1088]
Как выяснилось, единственным человеком, которого эта выставка ввергла в полное изумление, оказался сам Моне. «Только подумайте, — негодует он в письме к Жеффруа, — этот Бенедит ни слова не сказал мне про выставку, даже не посоветовался, как будто меня уже можно списать со счетов. Вот дубина!»[1089] О выставке он узнал лишь за несколько дней до открытия и тут же воззвал к Клемансо, который, в свою очередь, воззвал к Полю Леону. Моне больше всего разъярил тот факт, что, предоставив для выставки работы из собрания Мацукаты, его хранитель Бенедит вознамерился выставить на публичное обозрение два больших декоративных панно, образцы Grande Décoration. «Неоспоримый факт, — писал Моне Бенедиту, — заключается в том, что Вы нарушили свой долг в тот самый момент, как решили устроить эту выставку, не посоветовавшись со мной. Разумеется, я не отказал бы, однако прежде всего настоятельно попросил бы, по известным Вам причинам, не выставлять двух декоративных панно»[1090].
Реакция Моне легко объяснима. Одно из упомянутых декоративных панно представляло собой почти пятиметровое полотно, которое Мацуката приобрел во время визита в Живерни в 1921 году, второе — двухметровый квадратный grande étude «Водяные лилии», за который годом раньше якобы было заплачено 800 тысяч франков. Итак, работы оказались представлены публике еще до открытия Музея Клода Моне, которое, если все пойдет хорошо, было намечено на весну. Моне, по всей видимости, особенно настаивал на изъятии первой из двух работ, поскольку это был этюд (а возможно, и вариант) масштабной композиции «Отражения деревьев», предназначавшейся для второго зала в Музее Клода Моне: темная, довольно мрачная работа, которая должна была разбередить посетителей Оранжери, — но эффект, разумеется, пострадает из-за этого непродуманного предварительного показа. Усугубляло ситуацию еще и то, что большое полотно повесили вверх ногами, — при всей случайности этот казус, возможно, воскресил горькие воспоминания о распродаже с аукциона собрания обанкротившегося Эрнеста Ошеде: тогда некоторые картины Моне намеренно повесили вверх ногами, чтобы подчеркнуть их «невразумительность»[1091]. После вмешательства Поля Леона, начальника Бенедита, пятиметровое полотно убрали, но вторая работа, grande étude 1916 года, так и осталась в экспозиции.
Перед читателями журнала «Ревю де дё монд» тоже приоткрылась завеса тайны Grande Décoration. В середине января искусствовед Луи Жилле приехал в Живерни, чтобы навестить Моне и посмотреть на его работы. Две недели спустя он подогрел интерес читателей к «Grande Décoration, над которым Клод Моне тайно работал на протяжении восьми лет»[1092]. Он утверждал, что это будет главное произведение Моне, даже более впечатляющее, чем известная выставка пейзажей с изображениями воды. «Тогда казалось, — заявил он, имея в виду выставку 1909 года, — что живопись достигла мыслимых пределов». Но разумеется, Моне дерзнул раздвинуть эти пределы. Во время войны, сообщил читателям Жилле, мастер «пошел на еще больший риск и противопоставил свой импрессионизм великому монументальному искусству Делакруа и Пюви де Шаванна». Кроме того, Жилле упомянул растущее одиночество Моне, его изрезанные полотна, описал, как ради экономии времени художник вызывает местного цирюльника, чтобы тот подстриг его прямо во время работы за мольбертом. Потом Жилле торжественно возвестил, что немыслимо амбициозный проект завершен и скоро будет представлен во всем своем великолепии: «широкий круг грез», который «магическим касанием обведет залы Оранжери».
Впрочем, открытие этого «круга грез» в апреле по-прежнему оставалось под вопросом. Перед Рождеством Леон поинтересовался у Клемансо, как продвигается работа. «Я ответил ему, что Вы трудитесь и у меня есть основания полагать, что все идет хорошо, — доложил Клемансо своему другу. — Я также добавил, что через месяц мы с Вами вернемся к этому разговору. Похоже, он остался доволен». Несчастливый 1923 год завершился, и Клемансо вроде бы действительно поверил, что все идет хорошо: Моне снова работает, панно к апрелю будут готовы, а Оранжери — в этом его заверил Леон — сможет их принять. На следующий день после Рождества Клемансо написал Моне, что им нужно будет переговорить в конце января или в начале февраля, «и тогда Вы дадите мне знать, каково Ваше умонастроение и что Вы успели сделать»[1093].
В начале февраля Клемансо, как обещал, прибыл в Живерни — ему очень хотелось, чтобы Моне назвал дату, когда можно будет забрать работы. Результаты встречи оказались неопределенными, назначить дату не удалось. Через месяц — срок приближался — Клемансо забеспокоился еще сильнее. У Моне снова опустились руки — после многих месяцев «рабского труда» он, как ему казалось, ничего путного не добился по причине плохого зрения. «Жизнь моя — мука», — пишет он Кутела, повторяя давний рефрен. А после этого уныло добавляет: «Я — Берник»[1094]. Это отсылка к популярной песенке времен его юности, написанной Гюставом Надо, «Мой друг Берник» — там описан человек, все надежды которого (стать юристом, соблазнять женщин, разбогатеть на торговле вином, съездить в Америку, унаследовать состояние) идут прахом.
Клемансо оказался в непростом положении: он должен был срочно уговорить Моне расстаться с картинами, но при этом понимал, что в нынешнем состоянии слишком сильно давить на того нельзя. В начале марта он пишет Моне очень теплое письмо — обращается к нему «милый мой старый обалдуй» и расхваливает его полотна, «la Création Monétique» (творение Моне), как «неповторимое сочетание наблюдательности и воображения». Клемансо пытается подбодрить друга, напоминая ему совершенно справедливо, что тот всегда умел собираться в трудную минуту: «Жизнь Ваша была чередой кризисов, Ваше творчество часто встречало враждебный прием. Именно из этих предпосылок и вырос Ваш триумф». Теперь же враждебные силы приняли обличье «перетруженной сетчатки». Однако, несмотря на ослабленное зрение, Моне смог создать, как уверял его Клемансо, «безупречный шедевр»,[1095] ставший очередным примером его торжества над невзгодами и неудачами. Впрочем, Моне не согласился с тем, что его последние работы хоть куда-то годятся, — чем дальше, тем яснее становилось, что к концу апреля он их государству не передаст.
К этому моменту несдержанность и раздражительность Моне, обостренные проблемами со зрением, сделали его почти невыносимым для близких. Приближался день передачи работ, и, судя по всему, Моне — далеко не в первый раз — превратил жизнь Бланш в настоящую каторгу. Его неровный характер уже много лет отравлял ей существование. Двумя годами раньше Моне признался Клемансо: «Бедному Голубому Ангелу очень со мной нелегко»[1096]. Клемансо устало докладывал одному из друзей: «Моне пишет мне мрачные письма… его падчерица плачет»[1097]. Весной 1924 года и слезы, и мрачное настроение, похоже, достигли апогея. Вконец измученный глазными болезнями и творческими неудачами — притом что срок подступал все ближе, — Моне сделался совершенно невыносим, Клемансо даже вынужден был написать ему несколько писем, ласково увещевая прекратить — так он выразился в одном послании — ерошить и выщипывать перья Голубого Ангела[1098].
Клемансо обожал Бланш, постоянно заигрывал с ней в письмах к Моне, называя себя ее «пухлым милашкой»[1099]. Более того, восхищался он ею за безоглядную преданность Моне, которая для того была даже важнее, чем его, Клемансо, поддержка и ободрение. «Она все делала изумительно, — отметил он позднее. — Ухаживала за ним, баловала. Носилась с ним, как со своим ребенком»[1100]. Клемансо прекрасно знал, что без ангельской заботливости Бланш не было бы никакого Grande Décoration.
К концу марта переделки в Оранжери были практически завершены. «Похоже, работы на террасе у воды прекратились, — докладывал Клемансо своему другу. — Вроде бы все готово». Собаки, которые последние несколько десятилетий наводняли Оранжери во время Парижской международной выставки собак, в 1924 году были изгнаны в Гран-Пале. Два овальных зала, спроектированные в соответствии с требованиями Моне, дожидались прибытия холстов. Но холсты не спешили. На просьбу Клемансо о продлении срока Поль Леон ответил долгим молчанием — соглашение было достигнуто только несколько месяцев спустя. Клемансо сделал все, что мог, и уже готов был отстраниться. «Мне кажется, что лучшее, что я могу сделать для Вас в данный момент, — писал он Моне, — это оставить дело в Ваших руках: надумаете скандалить — делайте это самостоятельно»[1101].
Лишь несколькими годами раньше Клемансо написал, что солнце их с Моне дружбы никогда не закатится. Однако отказ Моне от очередной операции и срыв сроков по передаче панно в Оранжери нелучшим образом сказались на их отношениях. Возникла опасность, что для Клемансо долгие обеды в Живерни станут делом прошлым. 22 апреля, через два дня после Пасхи, Клемансо выплеснул в письме свое раздражение и разочарование, хотя и проявил при этом привычные понимание и сочувствие. Он сказал, что не спешит ехать в Живерни, поскольку сильнее всего Моне нуждается в покое. «Не принимайте за обиду то, что на самом деле является проявлением дружбы». Кроме того, он отговорил от визита и Кутела, поскольку, отметил он, проблемы Моне отнюдь не ограничиваются зрением. «У Вас случился нравственный кризис, и безумный страх крадет у Вас веру в себя. Исцелить от этого может только трезвая оценка своего положения. Критика со стороны лишь усилит Ваше упрямство». Закончил он, как всегда, призывом: «Работайте с терпением или злостью — главное, работайте. Вы лучше других знаете, чего стоят Ваши произведения»[1102].
Вот только невозможно было убедить Моне в том, что его последние произведения хоть чего-то стоят, равно как и в том, что он в состоянии их закончить. «Пусть Клемансо говорит, что последние мои работы — шедевры, — писал он в мае Кутела, — либо не прав он, либо я». Веру в Кутела он тоже утратил и заявил: «Мне нужно Вас видеть, хотя я и не уверен, что Вы в состоянии что-то сделать»[1103]. Он все еще видел цвета чрезмерно яркими, особенно оттенки синего и желтого, хотя летом 1924 года жаловался, что желтый не видит вовсе. В начале июня он написал Полю Леону короткое письмо, в котором отменил его запланированный визит и сообщил, что «на данный момент о передаче упомянутых панно нельзя даже мечтать»[1104].
Впрочем, надежда умирает последней; Моне приободрился, когда ему пообещали очки нового типа. У него уже собралась целая коллекция, но ни одну пару он не проносил достаточно для того, чтобы глаз мог приспособиться. Приехав в Живерни в мае, Кутела рассказал ему о прорыве в оптике: появились новые линзы от катаракты, которые предлагает немецкая фирма «Цейс», ведущий производитель оптических инструментов. Еще в 1912 году «Цейс» начала выпускать несферические (или асферические) линзы, получившие название «Катрал», стекло которых постепенно уплощалось к периферии, где степень увеличения снижалась. В 1923 году поступили в продажу специальные линзы «Катрал» для тех, кому удалили катаракту. Очки были сложными в производстве и баснословно дорогими, однако Кутела пообещал раздобыть их для Моне.
Впрочем, его опередил художник Андре Барбье, «самый пламенный поклонник Моне», по словам Жан-Пьера[1105]. Жан-Пьер пишет, что, узнав об этой новинке, Барбье тут же сообщил Моне, а потом по собственной инициативе отправился в парижское представительство «Цейса», там его перенаправили к профессору Жаку Мавасу, офтальмологу из Института Пастера, который умел производить точные измерения, необходимые, чтобы заказать линзы. Барбье повидался с доктором Мавасом, сказал, что ему нужны особые очки «для пожилого художника с катарактой, который живет не в Париже». Мавас ответил: «Это Клод Моне». Барбье подтвердил его догадку. Мавас пояснил, что был глазным врачом художника Мориса Дени, очень интересуется зрением живописцев и с удовольствием побывает в Живерни[1106].
В начале июля доктор Мавас, а с ним и Барбье прибыли в Живерни, чтобы пообедать с Моне и Клемансо. «Меня Тигр принял холодно», — вспоминал Мавас[1107]. Клемансо был раздосадован тем, что место его друга Кутела занял другой врач, а Барбье взял на себя задачу воскресить гаснущее зрение Моне. Тот, надо сказать, был в приподнятом настроении. После обеда Мавас «провел знаменитые измерения, — писал позднее Барбье, — и я увидел, насколько это сложная процедура, требующая большого опыта»[1108].
К самым прославленным и зорким глазам Франции решили применить новейшие научные достижения. Измерения принимали в расчет возможную асимметрию глаз, при этом фокус обеих линз находился по центру зрачка, а их задняя поверхность — на просчитанном расстоянии от верхней части роговицы. Для измерения диаметра роговицы и зрачка был использован недавно изобретенный инструмент, названный кератометром[1109]. Используя тонкую трубку, Мавас рассматривал глубины глаза Моне, как астроном рассматривает небо в телескоп. Когда топография глазного яблока была тщательно нанесена на карту, Моне отвел Маваса в мастерскую и устроил ему экскурсию по Grande Décoration. Маваса никак нельзя было назвать незаинтересованным зрителем. Морис Дени утверждал, что окулист «предпочитает получать гонорар картинами»,[1110] впрочем из Живерни он уехал с пустыми руками, по крайней мере без картины.
Изготовление линз «Катрал» занимало несколько месяцев, однако Мавас не бездействовал: он расширил растущую коллекцию очков Моне, заказав ему новую пару у Э. Б. Мейровица, специалиста по глазной оптике с рю Кастильон, на которой находились лавки дорогих ювелиров, портных, виноделов и изготовителей нижнего белья. В докладе о состоянии французского рынка предметов роскоши за 1923 год сказано, что Э. Б. Мейровиц ввел близорукость в моду, предложив клиентам элегантные черепаховые оправы, украшенные эмалью и драгоценными камнями. «Как, — спрашивалось в докладе, — имея такие красивые очки, не увидеть жизнь в розовом цвете?»[1111]
Несколько недель спустя Моне получил новые очки — и действительно стал видеть гораздо лучше. Но в итоге он тут же впал в новую депрессию, потому что вернувшееся зрение подтвердило худшие его страхи относительно того, как плохо он писал вслепую. Он сообщил об этом Клемансо, но тот вместо сочувствия ответил сарказмом: «Вас, видимо, раздражает, что исчезла возможность жаловаться на зрение после всех-то стенаний. По счастью, Ваши картины „оказались совсем плохими“, так что можно теперь страдать по этому поводу — ничто не доставляет Вам такого удовольствия, как терзания». Тем не менее Клемансо разглядел за этими причитаниями все того же прежнего художника. Он прекрасно понимал, что эти жалобы — неотъемлемая часть творчества Моне, равно как его мучительные, постоянные сомнения в себе. «Причитайте дальше, — призвал друга Тигр, — поскольку это помогает Вам писать»[1112]. А несколько недель спустя он добавил: «Если бы Вы были счастливы, Вы не стали бы истинным художником — Вам вечно надо тянуться к чему-то недоступному… продолжайте впадать в ярость каждые пять минут, это будоражит Вам кровь»[1113].
Впрочем, устраивать истерики и скандалы Моне умел и без понуканий. Он продолжал гневаться и причитать — но не писать — все лето и осень 1924 года. Когда в сентябре Луи Жилле объявил, что едет к нему в гости, Моне ответил, что он увидит человека, «окончательно павшего духом»[1114]. Он не преувеличивал — Жилле так обеспокоило психологическое состояние Моне, что он даже испугался за судьбу Grande Décoration. «Я опасаюсь, что Вы сожжете эти прекрасные, грандиозные, загадочные и неистовые полотна, которые мне показали», — писал он по возвращении в Париж[1115]. Причины для беспокойства действительно были, потому что той осенью Моне спалил шесть своих картин вместе с опавшими листьями в саду[1116].
Обеспокоенность душевным состоянием Моне и судьбой его дара Франции заставила Жилле написать Клемансо тревожное письмо — но тот уже почти исчерпал запасы своего терпения. «Старики — как дети, — попытался он пристрожить Моне из „Белеба“. — Им многое прощается. Но всему есть предел». После этого он перечислил странности и непоследовательности в поведении Моне, равно как и искусственные препятствия, созданные им за годы после подписания договора. «Сперва Вы хотели закончить те части, которые требовали доработки. Нужды не было, но это можно понять. Потом у Вас возникла абсурдная мысль улучшить остальное». А потом, пишет Клемансо, несмотря на стремительное ухудшение зрения, Моне взялся за новые работы, «которые по большей части были и по-прежнему остаются шедеврами, если Вы их не загубили. Потом Вы решили создать супершедевры, притом что зрение Ваше по Вашей собственной вине оставалось несовершенным».
Похоже, Моне хватил через край. Улещивать его и дальше Клемансо не собирался. Он сердито перечисляет, что именно поставлено на кон: «По Вашей просьбе был составлен договор между Вами и Францией, все свои обязательства по нему государство выполнило. Вы попросили об отсрочке и после моего вмешательства получили ее. Я действовал из лучших побуждений, и я не хочу, чтобы Вы держали меня за лакея, который провинился перед искусством и перед страной, потакая прихотям своего друга. Вы не только заставили государство понести значительные расходы, Вы потребовали права одобрить соответствующее помещение и одобрили его. Посему Ваша обязанность — завершить процесс как во имя искусства, так и во имя чести»[1117].
Но Моне уже было не до чести и не до искусства. В конце 1924 года, а может, в первые дни 1925-го он, не поставив Клемансо в известность, написал Полю Леону, что отменяет свое решение о передаче картин[1118].
Судя по всему, этот кризис оказался даже тяжелее, чем тот, который почти двадцать лет назад вызвали мучения с изображением водной глади прудов. Тогда Моне выводили из себя сложности с изображением растительности — водяных лилий, теней, отражений на воде и размытых очертаний фигур, объединенных мимолетными световыми эффектами, подмеченными в определенный час дня. Он растворял зримое и материализовывал незримое, а потом на своих (по словам Жилле) «перевернутых картинах» представлял зрителю эту «сияющую бездну», не имеющую ни перспективы, ни обрамления. В Grande Décoration он пытался повторить те же свершения, но в куда большем масштабе. Технические сложности передачи его дара государству увеличились в связи с тем, что дар этот непомерно разросся — от двух картин до девятнадцати, в связи с чем пришлось сменить место его размещения, а из одного зала сделать два. Картины необходимо было адаптировать под залы, учесть пространственную динамику и углы обзора — это была сложная, однако последовательная программа, и при этом нечто доселе невиданное. А Моне, помимо прочего, взялся за эту непростую задачу тогда, когда его неизменно крепкое здоровье пошатнулось, а зрение стало отказывать.
К восемьдесят четвертому своему дню рождения Моне, похоже, пришел к выводу, что его грандиозный замысел провалился, что он вообще уже не в состоянии создать ничего путного. Однако никто из тех, кто видел его панно в эти мрачные годы сомнений и терзаний, ни за что бы с ним не согласились. Клемансо, разумеется, верил, что его друг по-прежнему пишет шедевры, — в качестве подтверждения он, например, упомянул масштабную композицию «Облака». Этот триптих, в итоге растянувшийся в длину на двенадцать метров семьдесят пять сантиметров, видимо, был по большей части закончен к 1920 году, поскольку упомянут в планах Моне касательно павильона в «Отель Бирон». Однако, судя по всему, за следующие несколько лет художник сильно переработал эти полотна (невзирая на проблемы со зрением), потому что весной 1924 года Клемансо говорил о «панно с облаком» как об одной из новых работ Моне.
Моне не соглашался с оценкой Клемансо, но Тигр был при этом в своем мнении не одинок. Многие из тех, кто посетил Живерни в 1924 году, были ошеломлены творениями Моне, в том числе и теми, которые он создал во время припадков отчаяния и будучи полуслепым. Художник Морис Дени, приехавший в Живерни в феврале, записал в дневнике: «Изумительная серия крупных водяных лилий. Восьмидесятичетырехлетий человечек тянет за шнур оконные жалюзи, двигает мольберты… Видит он только одним глазом, и то сквозь очки; другой глаз закрыт. При этом цвета даже точнее и правдоподобнее, чем раньше»[1119]. Художник и иллюстратор Анри Солнье-Циолковский видел картины в 1922 году и снова — в октябре 1924-го, как раз тогда, когда Моне сильнее всего терзался от своего бессилия и уже начал жечь костры. Солнье-Циолковский писал в изумлении: «Старый мастер вовсе их не испортил… он их только улучшил»[1120].
Действительно, по фотографиям, сделанным в разное время, видно, что в годы самых тяжелых проблем со зрением Моне как-то умудрился не только привести цвет в гармонию, но даже создать еще более тонкие светотеневые эффекты. Специалист по Моне Вирджиния Спейт отмечает, что в одной из предназначенных для Оранжери работ, «Ясное утро с ивами», которая была кардинально переработана после удаления катаракты, художник «создал светящиеся, искрящиеся тени у основания трех панно, насытил воздухом воду, смягчил и уменьшил находящиеся в отдалении островки лилий так, что создалось впечатление бесконечного пространства… и добавил нежные мазки чистого цвета — в итоге на картине как бы дрожит свет»[1121]. Три больших полотна из композиции «Агапантус» тоже были серьезно переработаны (притом что передавать их в Оранжери уже не предполагалось): формы стали более абстрактными, исчезли глубина и детали, а в цвета — синие, лавандовые, желтые, розовые — добавились новая тонкость и нюансировка[1122]. Доказательством того, что Моне продолжал писать и перерабатывать картины, служит следующий факт: в некоторых случаях он накладывал на полотно до пятнадцати слоев краски[1123].
Очевидный творческий апломб Моне, на который не повлияли ни ухудшение зрения, ни физическая немощь, заставляет задаться вопросом — скоро им, кстати, задастся немецкий профессор по имени Альберт Бринкман: что происходит с великим художником, когда он стареет и теряет силы, но продолжает писать? В тонкой книжечке под названием «Поздние работы великих мастеров», опубликованной в 1925 году, Бринкман пытается доказать, что некоторые художники только в старости находят неповторимый индивидуальный стиль и создают работы, которые сильно отличаются от того, что они делали в молодости и в среднем возрасте, — прежде всего авантюрностью. Донателло, Микеланджело, Тициан, Пуссен, Рубенс и Рембрандт — все они в последние годы жизни выработали то, что другой немецкий профессор назвал «изысканным стилем», для которого характерны «особая широта и глубина формы и содержания», причем это компенсирует «естественное убывание зрения, вызванное уходом телесных сил»[1124]. К свойствам этого изысканного стиля относится повышенная абстрактность и особо экспрессивная работа с цветом, сочетающаяся, однако, с тем, что английский критик Кеннет Кларк назвал «изумительной живостью мазка»[1125]. Это новаторство — с помощью которого зачастую создавались тревожные и даже мучительные изображения — не всегда могли оценить при жизни художника: поздние картины Уильяма Тёрнера критики описывали как «буйное помешательство»,[1126] а огромное полотно Рембрандта «Заговор Клавдия Цивилиса», написанное для амстердамской ратуши, сочли слишком лапидарным и невразумительным, чтобы повесить в столь почтенном месте: его без разговоров вернули художнику.
Безусловно, на все работы, которые Моне исполнил за последнее десятилетие, оказало влияние не только его слабнущее зрение, но и внутренние бури и сгущающийся мрак. Эти композиции крупнее, дерзновеннее, в них больше эксперимента, смелости и абстракции — они радикально отличаются от того, что художник делал в юности и зрелости, хотя и тогда его произведения были новаторскими. Пожалуй, только Микеланджело и Тициан могли похвастаться столь же яркими достижениями и столь стремительным творческим развитием на девятом десятке.
Откуда взялась эта новая творческая мощь? В последнем стихотворении Эдмунда Уоллера, написанном в 1686 году, — ему было восемьдесят, и он почти ослеп — есть строфа про мудрость и озарения старости: «Во тьму души, под спуд прожитых лет, / Сквозь время проникает новый свет». Иными словами, тело дряхлеет, но в него вливается свет вечности. Трудно отделить разговоры о «позднем периоде» любого художника от романтических ассоциаций со слепыми пророками, на которых нисходят несказанные видения того, что является им за порогом видимого, или со старцами, бунтующими против умирания света. Одно точно: когда глаза отказали и зрение затмилось, Моне, «который ухватывал и воспевал пролетающее солнце», еще больше сосредоточился на мимолетных лучах света, которые всегда ловил и лелеял.
Клемансо был прав: нравственный кризис, поразивший Моне, не сводился к одним только проблемам со зрением. Не так уж плохо он видел, чтобы не оценить качества своих новых работ. На каком-то уровне он наверняка сознавал, что, говоря словами Клемансо, «все Ваши шедевры были созданы под громкие Ваши жалобы по их поводу» и что стенания — необходимая часть его творческого процесса[1127]. В 1924 году к нему так и тянулись гости, а значит, он отнюдь не стеснялся показывать Grande Décoration всем и вся. Более того, такое гостеприимство служит опровержением его же слов, что он загубил собственную работу. Влиятельные критики, такие как Жилле, художники — Барбье, Дени и Солнье-Циолковский — часто получали доступ в большую мастерскую, чтобы посмотреть, над чем работает мастер, — и все по достоинству, без всякого криводушия оценивали увиденное. В начале июня, в тот самый день, когда Моне однозначно заявил Полю Леону, что отправка панно в Оранжери невозможна, он с большим энтузиазмом принимал у себя в мастерской художника Поля Сезара Эллё и графиню Беарнскую. Графиня была очередным образцом экзотической великосветской львицы — такие уже протоптали тропинку в Живерни: эту пятидесятипятилетнюю даму звали Мартина Мари-Поль де Беаг; она была наследственной аристократкой и бывшей женой графа Беарнского. Путешественница и коллекционер, она владела картинами Ватто, Фрагонара и Тициана. Своим библиотекарем она назначила поэта Поля Валери, устраивала у себя в особняке на рю Сен-Доминик концерты и салоны, выходила к гостям в зеленом парике и развлекала их с дивана, застланного звериными шкурами. Вряд ли Моне так уж сильно беспокоился и страшился за качество своих работ, если согласился пустить эту искушенную, эрудированную посетительницу к себе в мастерскую.
Кризис, который переживал Моне, в значительной степени был связан с тем, что он не хотел, пока жив, расставаться со своими полотнами. Еще в 1920 году он сказал Тьебо-Сиссону, что намерен сохранить их у себя в мастерской «до конца». Именно Grande Décoration в последние десять лет наполнял его жизнь смыслом. Эта работа помогла ему продержаться в мрачные годы после смерти Алисы и в страшное военное время, пережить невзгоды, связанные с утратой зрения. Без «круга грез», постоянно нуждающегося в его пристальном внимании, он утратил бы смысл жизни. Есть одна примечательная деталь: нижний правый угол одного из огромных полотен, над которым он проработал как минимум два года, — имеется в виду панно «Заходящее солнце» шести метров шириной — остался не тронутым кистью: треугольник чистого холста, который художник мог закрасить за несколько минут, но почему-то этого не сделал. Как истории Шахерезады и бесконечная пряжа Пенелопы, Grande Décoration должен был оставаться незавершенным.
При всем том отказ от дарения был шагом решительным. Поначалу Моне ничего не сказал Клемансо о своем важнейшем решении — их письма от конца 1924 года полны беззаботности и приязни, Клемансо обзывает Моне «старым дикобразом», а Моне шлет ему георгины и кипрей для садика в «Белеба»[1128]. За неделю до Рождества Моне сообщил Клемансо, что в новых очках, выписанных доктором Мавасом и изготовленных Мейровицем, видит гораздо лучше. Это были еще не линзы «Катрал», которые делали по специальному заказу, — их он прождал уже почти полгода; однако в начале декабря он сообщил и Мавасу, и Барбье, что благодаря новым, нетонированным очкам различает цвета «гораздо лучше», а потому работает с большей уверенностью[1129]. Клемансо эта новость тоже воодушевила: «Получил Ваше письмо, оно согрело мне сердце… Хочется даже сплясать на радостях»[1130].
Впрочем, следующее письмо Моне, пришедшее через несколько недель, отнюдь не согрело ему сердце; теперь ему уже хотелось не плясать, а драться. Вскоре после Нового года Моне поделился с Клемансо тем, что уже сообщил Полю Леону: что он отказывается от дарения. Письмо не сохранилось — легко вообразить себе, как Тигр яростно рвет его в мелкие клочья. То, что он разгневался, вполне понятно. Прежде всего он написал Бланш, сообщив, что получил «ошеломившее его письмо» и что с той же почтой отправляет Моне свой ответ. «Если это не повлияет на его решение, — заявил он Бланш, — мы с ним больше никогда не увидимся»[1131].
Моне был одним из немногих людей во Франции, у которых Клемансо не вызывал постоянного ужаса, но, видимо, гнев и разочарование, прозвучавшие в ответе Тигра, заставили даже его затрепетать. В послании к своему «несчастному другу» Клемансо без экивоков заявил, что его глубоко оскорбила и унизила «дурацкая прихоть» Моне, а кроме того, цинично отказавшись от своего обещания, тот навредил прежде всего самому себе. «Ни один человек, даже самый старый и немощный, будь он художником или нет, не имеет права отрекаться от своего слова — особенно если слово это дано Франции». После этого Клемансо вернулся к обычной риторике, подчеркнул «красоту и величие» Grande Décoration («Все, кто видел эти панно, признали их непревзойденными шедеврами») и повторил, что во всех своих бедах Моне виноват сам, поскольку, «точно испорченный ребенок», отказывался от операции на левом глазу. Клемансо закончил тем же грозным и решительным ультиматумом, о котором уже поставил в известность Бланш: «Я люблю Вас, потому что отдал сердце человеку, которого, как мне казалось, знаю. Если Вы перестали быть этим человеком, я буду и дальше восторгаться Вашими картинами, однако дружбе нашей конец»[1132].
Глава двадцатая К самым звездам
В первые месяцы 1925 года обиженный и рассерженный Клемансо не показывался в Живерни, однако туда продолжали приезжать другие. В первую субботу января на деревенской улице показался автомобиль — он успел повторить все петли Сены от самого Парижа. По дороге два его пассажира имели возможность налюбоваться изумительными импрессионистическими пейзажами: прекрасными парками, обнесенными стеной, уютными сельскими трактирчиками, напоминавшими театральные декорации, баржами и буксирами на подштрихованной дождем воде. А вот розово-зеленый домик на рю де О оказался настолько скромным, что, вылезая из автомобиля, посетители засомневались, туда ли приехали[1133].
Два этих посетителя, Себастьян Шомье и Жак Ле Гриэль, были членами городского совета города Сен-Этьен, на юге Франции. Они проделали путь в пятьсот километров с целью купить для городского музея работу Клода Моне. Как и Кодзиро Мацуката, они попросили художника самого сделать выбор. В отличие от Мацукаты, они были ограничены в средствах. Тем не менее им удалось наскрести 30 тысяч франков, чтобы приобрести работу художника, которого они назвали «последним оставшимся в живых мастером из очарованных божественным светом и чаявших запечатлеть его ослепительное сияние для чужих взоров».
Узнав заранее об этом визите, Моне впал в панику. «Они явятся целой толпой, — кипятился он, как будто на Живерни надвигалась шайка мародеров, а не пара провинциальных чиновников. — Все перепачкают и переломают». За четыре дня до визита он отправил в Сен-Этьен срочную телеграмму, умоляя его отменить. То ли она не пришла вовремя, то ли посланцы решили ее проигнорировать.
Шомье и Ле Гриэль постучали в узенькую дверь, и их встретила Бланш, сообщившая «милым приветливым голосом», что Моне их очень боится, что он вообще не принимает посетителей и весь день работает над полотнами для Оранжери. «Но поскольку вас только двое и вид у вас мирный, я пойду с ним поговорю. Думаю, в итоге он вам обрадуется».
Посетителей отвели в мастерскую Моне — они отметили, что стены тесно увешаны незаконченными полотнами без рам, в том числе там был вид Сены под Ветёем, через который они проезжали полчаса тому назад. Мебель оказалась скромной, за исключением бюро красного дерева, на котором красовались выполненный тушью набросок с Моне работы Эдуарда Мане, портрет Мане кисти Эдгара Дега, фотография Клемансо и репродукция одной из картин Коро. В середине комнаты, на мольберте, была выставлена на обозрение работа, которая, по мнению Моне (так он собственноручно написал на этикетке), «будет достойно представлена в музее Сен-Этьена». Это был пруд с водяными лилиями, написанный в 1907 году, круглое полотно диаметром около пятидесяти сантиметров.
И вот на пороге появился сам мастер — Ле Гриэль впоследствии писал, что он выглядел таким же моложавым, как и на портрете, стоявшем на бюро. «Господа, — приветствовал он их, — добро пожаловать. Я боялся, что не смогу вас принять, и очень рад, что вы не получили моей телеграммы». После того как Шомье и Ле Гриэль вежливо посетовали на плохую работу телеграфа, Моне засыпал их вопросами. Утомительной ли оказалась дорога? Как именно они добирались? Далеко ли отсюда Сен-Этьен? Интересная ли коллекция в их музее?
Советники рассказали, что в Сен-Этьене двести тысяч жителей. Неподалеку добывают уголь. В городе производят тесьму и оружие. «Как любопытно!» — воскликнул мастер. Собрание их музея, продолжали они, не слишком богато, и его, конечно, украсит полотно Моне. Они перечислили имена художников, имевшихся в коллекции: Анри Мартен, Ипполит Фландрен, Дюбуа-Пилле (услышав его имя, Клод Моне улыбнулся и кивнул) и серия работ Александра Сеона (при его упоминании Моне перебил: «Сеон?.. Не знаю такого»). Моне поинтересовался, почему советники решили купить картину у художника напрямую, а не у торговца, но, прежде чем они успели открыть рот, сам ответил на вопрос. «Торговцы очень дорого продают мои работы, — поведал он, а потом добавил: — Куда дороже, чем они на деле стоят».
Советники вежливо оспорили это утверждение, однако подтвердили, что цены в галереях на рю Ла Боэси, которые они посетили накануне, показались им чрезмерными. Моне заявил, что вот уже четыре года ноги его не было в Париже (это было не совсем правдой). Видели ли они там хорошие картины? Разумеется, они ответили: да, они видели прекрасные произведения Моне в галерее Розенберг. В таком случае, заявил он, они должны были видеть там и «Даму с мандолиной» Коро.
— У меня есть репродукция, — добавил он (посетители уже заметили ее на бюро красного дерева). — Это одна из лучших картин девятнадцатого века. Чертовски красивая. А вот мое полотно, — резко сменил он тему, повернувшись к мольберту. — Вам нравится?
Им очень понравилось. «Кто, как не мастер, сделает лучший выбор?»
— Тогда забирайте.
— Нам некуда ее упаковать, — пожаловались они. — Кроме того, нужно оформить официальные бумаги.
— Удивительное дело, — заметил Моне. — Впрочем, наверное, так оно и полагается.
Потом он добавил, что круглую раму он не отдаст: она совсем дряхлая и он хочет ее оставить себе. Советники возразили, что с удовольствием восстановят ее.
— В таком случае придется за нее заплатить, — заявил Моне. — Она очень дорогая.
Сошлись на двухстах франках.
— Ах, как дешево, мастер, — пробормотали гости.
После этого им устроили экскурсию по саду. В пасмурный зимний день здесь не на что было смотреть, кроме оголенных веток розовых кустов и засохших останков водяных лилий, вычерчивавших свои черные инициалы на серой поверхности пруда.
— Ах, господа, если бы вы знали! — с воодушевлением проговорил Моне. — Какие у меня тут летом прекрасные цветы! Приезжайте летом, я покажу вам свой сад. Мою радость и гордость!
Впрочем, на круглом полотне, стоявшем на мольберте, советники из Сен-Этьена и так видели всю летнюю славу Живерни. «На полотне Моне, которое уедет в наш музей, он останется навеки, — писал Ле Гриэль, — несмотря на зиму за окном, на полотне будет вечное пиршество идеальной, подобной сновидению весны».
В ту мрачную зиму в Живерни наведывались и другие, более привычные посетители — Андре Барбье, Гюстав Жеффруа. А потом, в феврале, по узким улицам с ревом промчался огромный автомобиль. За рулем сидел художник Морис де Вламинк, сопровождал его критик Флоран Фель. Сорокавосьмилетний Вламинк, один из фовистов, решил засвидетельствовать мастеру свое почтение, как это сделал восьмью годами раньше его друг Матисс. Как и Матисс, он видел в Моне свою путеводную звезду и однажды заявил: «Своим юношеским энтузиазмом и первыми революционными прорывами в двадцать с небольшим я обязан Моне»[1134]. Его карьера художника началась июньским утром 1900 года, когда они с Андре Дереном, познакомившись накануне, отправились на этюды в Гренуйер, на то место, которое в Музее Гренуйера в Круасси не без основания называют «местом рождения импрессионизма». Погожим июньским деньком на самой заре нового века Вламинк и Дерен поставили этюдники около Сены — двигаясь в буквальном смысле по стопам Моне и Ренуара, так что те же самые несколько метров речного берега можно с тем же основанием назвать «местом рождения фовизма».
Моне произвел на посетителей неизгладимое впечатление. Фель описывает его как «горделивого низкорослого старика, неуверенно обходившего препятствия на своем пути. За толстыми линзами очков глаза казались огромными, точно глаза насекомого, ловящего угасающий свет». Моне заявил посетителям — видимо, несколько преувеличив, — что совсем их не видит. Зрение у него по-прежнему никуда, несмотря на последнюю пару очков от Мейровица, — как обычно, начальный восторг по их поводу быстро перешел в раздраженное ворчание. «Вот уже два года, после того как мне сделали операцию, — сказал художник, — я вижу все будто в каком-то тумане, и лишь иногда некоторые детали проступают отчетливее… продолжать заниматься живописью с такими глазами бессмысленно»[1135].
И все же Моне продолжал заниматься живописью. Шомье и Ле Гриэлю сообщили, что мастер непрерывно трудится над полотнами, предназначенными для Оранжери, а примерно тогда же, когда состоялся их визит, Моне поведал Луи Жилле, что, несмотря на «кризис и глубокое разочарование», он делает все, чтобы завершить работу над Grande Décoration[1136]. Пьеру Боннару он написал, что буквально одержим этими полотнами, что дата отправки приближается и он проклинает себя за то, что решил подарить их государству. Он пожаловался, что будет вынужден передать их «в прискорбном состоянии, что очень меня печалит. Я, как могу, стараюсь взять себя в руки, но надежды на хороший исход мало»[1137]. Ни в одном из этих писем — равно как и в разговоре с Вламинком и Фелем — он ни словом не упомянул, что отказался от дарения. Его письма и Леону, и Клемансо отсутствуют — их не удалось обнаружить, — а потому возникает вопрос, насколько серьезным было его решение, или угроза разорвать договор была просто (как и многие его письма) мольбой о помощи, понимании, отсрочке.
Той же весной состоялся еще один визит, который растревожил Моне куда сильнее, чем явление чиновников из Сен-Этьена. 22 марта, в холодный день, с дождем и снегом, в Живерни впервые после их разрыва приехал Клемансо. Весь январь он хранил молчание, а в середине февраля сообщил в письме Бланш, что не хочет больше иметь ничего общего «с этой несчастной затеей»[1138]. Несколько дней спустя он написал уже Моне, причем скорее грустно, чем сердито: «Да, правда, дорогой друг, я виню Вас в том, что Вы навредили самому себе, а тем самым и своим друзьям. Но это не мешает мне по-прежнему Вас любить и восхищаться Вами. Хотя Вы и загнали себя в мучительное состояние, я хочу Вам помочь и буду продолжать это делать, если только Вы позволите. Я ценю Ваши нравственные принципы, но вижу в них воздействие нездорового состояния духа, которое я никакими силами не могу изменить»[1139]. Несколько дней спустя пришло еще одно письмо, с безнадежной попыткой снова затронуть болезненную тему: «Вы подписали со мной официальное соглашение, а потом нарушили его, даже не дав себе труда поставить меня в известность. Похоже, самолюбование перевешивает в Вас совесть. Я ничего не могу с этим поделать, Вы тоже. Это Вы спровоцировали такое положение дел. Я могу лишь принять его с невыразимой грустью»[1140].
И все же Клемансо не мог окончательно бросить ни Живерни, ни свой проект. В конце февраля он пишет: «Мне так больно, что я готов, если Вы не откажетесь, предпринять последнюю попытку. Вам достаточно телеграфировать мне свой ответ. Если же Вы считаете, что не в силах изменить свое решение, не заставляйте меня снова страдать и проходить этот скорбный путь с самого начала»[1141].
Эти натянутые и обескураженные послания вряд ли могли составить обнадеживающий пролог к визиту в Живерни. Однако собеседники решили при встрече не говорить о дарении, а придерживаться нейтральных тем: сады, «омерзительная погода», из-за которой Клемансо не смог уехать в Вандею, и даже международная политическая ситуация. Клемансо, похоже, веселее было обсуждать провал Версальского мира, чем состояние Grande Décoration[1142].
Кроме того, вряд ли Клемансо хотел слышать о непрекращающихся проблемах Моне со зрением. Однако примерно в то самое время наконец-то прибыли цейсовские очки, на изготовление которых потребовалось шесть или семь месяцев. Поначалу они почти не помогли. Моне отправил письмо доктору Мавасу, выразив сожаление, что очки не сотворили чуда, на которое он надеялся. По его словам, видел он в них смутно, а оттенки цвета представлялись «разрозненными и искаженными». Хуже того, очки доставили «в самое неподходящее время, когда я совсем разуверился и уже не рассчитывал на положительный результат, так что не носил их подолгу». Он пообещал, что попробует снова, «в более спокойном состоянии духа… хотя я уверен, как никогда, что единожды утраченное зрение художника восстановить невозможно. Певец, лишившийся голоса, уходит со сцены. Художнику, которому удалили катаракту, надлежит бросить кисть»[1143].
В том же состоянии внутреннего разлада Моне пребывал и в начале мая, когда на него обрушился еще один тяжелый удар. Он уже потерял сына Жана и падчерицу Сюзанну. Теперь он лишился второй падчерицы, Марты, — она скоропостижно скончалась в Живерни в возрасте шестидесяти одного года. Марта была старшей дочерью Алисы и женой Теодора Эрла Батлера — тот овдовел во второй раз. Моне тяжело переживал ее смерть. Он отменил визиты всех друзей — Жеффруа, Эллё и Жозефа Дюран-Рюэля, погрузившись в «горе и отчаяние»[1144] и надолго прервав переписку, — к июню это начало тревожить Клемансо. Тигр прислал из «Белеба» свои соболезнования: «Сожалею о внезапном и столь жестоком ударе. Нашему несчастному Голубому Ангелу и без того хватает скорбей. Трудно найти слова утешения»[1145].
А кроме того, Клемансо — едва ли не впервые в жизни — почувствовал, что и у него сдает здоровье. Почти весь предыдущий год его мучил сильный кашель. Он вызвал из Парижа врача Антуана Флорана, а после того как тот приехал на поезде в такую даль, довольно бестактно жаловался, что присутствие доктора его раздражает[1146]. Клемансо считал, что причина недомогания — пуля, оставшаяся после покушения в 1919 году у него в груди. С приходом весны его стало мучить воспаление глаза, а потом начались проблемы с сердцем, заставившие пройти через «медицинские муки» в Париже[1147].
Зато отношения с Моне постепенно потеплели и улучшились. Клемансо снова радовался возможности пообедать в Живерни. «Что до меня, у меня слабеет сердце, — писал он Моне в июле. — Пульс едва прощупывается. Нужно учиться с этим жить, в целом мой образ жизни остается прежним. Однако необходимо принимать определенные меры предосторожности. Первая состоит в том, чтобы в воскресенье обязательно отобедать с Моне. Это лучше, чем капли из наперстянки и все трюки докторов в их остроконечных колпаках»[1148]. Тревожным знаком стала отмена этого визита — извиняясь, Клемансо писал, что «чувствовал сильнейшее утомление»[1149]. Легендарная энергия Тигра все-таки начала убывать. Его письма Моне за следующие несколько месяцев пестрят — что, вообще-то, для него нехарактерно — упоминаниями о болезнях. В качестве своего рода эмоционального шантажа он даже призывает призрак собственной смерти: не слишком весело шутит, что еще несколько недель проведет в Вандее, «а может, и дольше, в силу окончательной утраты способности двигаться». В августе он пишет Моне, что надеется дожить до открытия «Салона Моне»[1150].
Судя по всему, смерть близких часто толкала Моне к мольберту, — похоже, он верил, что лихорадочная работа над картинами способна удержать на расстоянии его собственную смерть. Трагическая смерть его падчерицы Сюзанны Ошеде-Батлер в 1899 году как будто высвободила у него внутри пружину: перед тем он почти год не брался за кисть, погрузившись в депрессию из-за «дела Дрейфуса», а тут написал дюжину видов с японским мостиком, за которыми последовало несколько лондонских пейзажей. Смерть сына Жана в 1914 году, при всей своей трагичности, положила конец долгому упадку сил, наступившему после ухода его любимой Алисы. Grande Décoration был замыслен и начат через несколько месяцев после похорон Жана.
Но самый странный творческий опыт Моне, безусловно, связан с последними днями жизни его первой жены Камиллы. Она скончалась в Ветёе в сентябре 1879 года после долгих мучений. Разумеется, Моне очень страдал. Однако много лет спустя он признался Клемансо: «Я заметил, что пристально смотрю на ее трагическое чело и неосознанно вглядываюсь в игру и замирание тающих цветов, которые смерть накладывала на ее неподвижные черты. Оттенков синего, желтого, серого и прочего»[1151]. Он зарисовал ее после смерти, результатом стала картина «Камилла Моне на смертном одре». Получается, что он писал, в буквальном смысле глядя в лицо смерти. Сегодня это может показаться бесчувственным, но нужно рассматривать этот поступок в контексте того времени, когда было принято делать семейные фотографии рядом с усопшими родственниками, а Джон Джеймс Одюбон в начале своей карьеры зарабатывал тем, что писал портреты на смертном одре; был случай, когда сына одного министра даже эксгумировали с этой целью[1152].
Скоропостижная кончина Марты тоже заставила Моне взяться за краски и кисти. «Истинное воскрешение», — радостно сообщает он об улучшившемся зрении и возвращении к деятельности[1153]. По воспоминаниям Андре Барбье, однажды в мае 1925 года он приехал в Живерни (судя по всему, всего через несколько дней после похорон Марты) и привез всякие яркие предметы: экзотических бабочек, раковины, минералы, репродукции с рисунков Дега. «Моне рассмотрел их с большой радостью — чем доказал, что видит все нюансы»[1154]. Похоже, новые цейсовские линзы внесли немалую лепту в это почти чудесное исцеление, хотя левый (непрооперированный) глаз приходилось по-прежнему закрывать. В любом случае восторгам его не было пределов. «Наконец-то ко мне вернулось настоящее зрение, — писал он Марку Элдеру, — а для меня это как вторая молодость, я снова пишу с натуры в странной эйфории»[1155].
Действительно, все лето и осень 1925 года Моне заявлял всем и каждому, что снова работает, причем «как никогда», над Grande Décoration и пишет «с радостью и страстью», несмотря на неподходящую погоду, — один раз он промок до нитки[1156]. К октябрю он сообщил Элдеру, что накладывает на картины «последние мазки». «Я не хочу терять ни минуты, пока не отошлю свои работы»[1157]. Барбье он сообщил, что эта достославная дата, скорее всего, придется на весну 1926 года,[1158] впрочем все эти его назначенные даты всегда оставались миражами, которые завлекательно маячили на горизонте, потом отодвигались все дальше и наконец таяли, будто туманы на Сене, которые он когда-то писал. Несмотря на заявление о последних мазках, нижний правый угол «Заходящего солнца» оставался нетронутым, — можно подумать, Моне тем самым хотел подчеркнуть преходящий и незавершенный характер своих усилий, а может, дело попросту было в том, что ему не хватало духу закончить эту работу и наконец-то поставить в этом проекте точку.
Клемансо, разумеется, очень радовался этому неожиданному развитию событий: он написал, что нынешний Моне напоминает ему прежнего, «из добрых старых дней»[1159]. «Вам предстоит еще совершить немало чудес, — пишет он в конце ноября. — Я убедился, что Вы способны на все»[1160]. Однако сомнения и тревоги не отступали. Новообретенная вера в воскрешение Моне не помешала Клемансо месяц спустя с намеком напомнить: «Я буду счастлив, если, в согласии с Вашим, не допускающим двойственного толкования утверждением, Вы весной насладитесь беспрецедентным триумфом»[1161]. Несколько недель спустя он снова надавил на ту же мозоль, в очередной раз пожаловавшись на здоровье: «Я не хочу умереть, не увидев результат»[1162]. Это, возможно, было преувеличением, однако болезни продолжали его преследовать. Весь январь 1926 года он проболел гриппом — лечили его йодом и банками. Примерно в то же время Клемансо решил попробовать новое средство от диабета: по его просьбе американский посол во Франции Майрон Геррик обеспечил его американским инсулином (Клемансо считал, что качеством он лучше французского) — его контрабандой ввезли в дипломатической почте; Клемансо уверял, что за этот противозаконный поступок посол непременно получит воздаяние «либо в этой, либо в следующей жизни»[1163]. Верный слуга Альбер Булен ежедневно делал ему уколы.
А вот другого друга Моне в этом году все-таки лишился. В начале апреля в своей забитой книгами квартире на мануфактуре Гобеленов скончался Гюстав Жеффруа. Всего неделей раньше ушла его любимая сестра Дельфина, она умирала тяжело, с галлюцинациями и буйными припадками, — они физически и эмоционально обессилили Жеффруа, который много лет преданно за ней ухаживал. Он умер от эмболии мозга через несколько дней после похорон сестры. 7 апреля на кладбище в Монруже Клемансо шел во главе длинного похоронного кортежа, в составе которого было множество писателей и чиновников, в том числе члены Гонкуровской академии и Поль Леон. «Его жизнь и смерть стали для всех великим примером, — произнес Клемансо на могиле Жеффруа, причем голос его дрожал от избытка чувств. — Он боролся, страдал, он знавал несчастья, можно с уверенностью сказать, что он познал всю полноту жизни. Его труд — достаточное основание, чтобы судить о нем и чтобы оправдать наше восхищение и любовь»[1164].
В то утро Клемансо написал одному из друзей: «Через несколько минут уезжаю хоронить частичку своего прошлого. Увижу очень многих друзей, которые уже мертвы, хотя еще и не лежат на кладбище»[1165]. Моне, безусловно, подходил под это нелестное описание, впрочем плохое самочувствие не позволило ему посетить траурную церемонию в Монруже. К весне 1926 года стало ясно, что состояние его здоровья даже хуже, чем у Клемансо. Он чувствовал постоянное утомление, его мучили боли, которые врачи определяли то как межреберную невралгию, то как подагру. «Полагаю, врач запретил Вам выпивать привычный стаканчик водки и Вы страшно ругаетесь», — шутил Клемансо[1166]. Кроме того, у Моне несколько месяцев не проходил трахеит — из-за этого было трудно есть, пить и курить.
Клемансо навестил Моне в апреле, вскоре после похорон Жеффруа, и обнаружил, что тот сильно сдал. «Человеческая машина растрескивается со всех сторон, — поделился Клемансо с одним другом. — Он ведет себя стоически, даже бодрится. Панно закончены, больше он к ним не прикоснется, но расстаться с ними не в силах. Лучшее, что можно сделать, — это дать ему жить изо дня в день»[1167].
К этому моменту Клемансо уже осознал, что «Салон Моне» откроется только после смерти художника. В какой-то момент 1925 года Моне заверил его, что все-таки передаст государству свои работы, но только посмертно. «Когда меня не станет, — писал он Клемансо, — мне проще будет терпеть их несовершенство»[1168]. Кроме того, к этому моменту Клемансо уже понимал, что уход Моне не за горами. Художнику больше не хватало сил гулять по саду — поддержание его обходилось так дорого, что он даже подумывал, не расстаться ли с ним. То была бы, понятное дело, кардинальная и мучительная мера, поскольку сад, в отличие от творчества, не доставлял ему ничего, кроме радости. В апреле приехал Клемансо, и его визит ненадолго поднял художнику настроение. «Я напомнил ему про времена нашей юности, и это его взбодрило. Когда я уходил, он все еще смеялся»[1169].
Моне продолжал принимать посетителей. Однажды в мае, в гудящий пчелами полдень, прибыл Эван Чартрис, чтобы взять у него интервью для книги про Джона Сингера Сарджента. Чартрис, будущий директор лондонской галереи Тейт, застал художника «в саду за разговором с двумя поклонниками из Японии, которые тут же удалились, почтительно кланяясь». Чартрис был поражен жизнерадостностью художника. «Бодрость голоса и острота ума говорили об изумительной разнице между возрастом и состоянием. На всякого посетителя он производил сильное впечатление своей бодростью и добротой, остроумием и упрямой верностью своим предрассудкам». Даже закрытый левый глаз и толстая цейсовская линза не лишали лицо Моне живости и восприимчивости. Правый глаз, «увеличенный стеклом мощных очков, походил на прожектор, готовый озарить самые потайные уголки зримого мира»[1170].
Почти тогда же художник Жак-Эмиль Бланш имел возможность видеть Моне в саду с Королевской дороги и был изумлен его внешней «крепостью»[1171]. Не он один разглядывал Моне через ограду. Как Бланш отметил позднее, многие иностранцы, особенно американцы, считали Моне одним из самых знаменитых французов, фигурой того же масштаба, что Луи Пастер и Сара Бернар[1172]. Ближе к концу лета еще один гость Живерни, поэт Мишель Соваж, обратил внимание на «череду автомобилей», которые медленно тянулись мимо «цветущего рая» Моне. «Сюда ежедневно приезжает множество поклонников живописца, — написал он, — среди которых много иностранцев. Они останавливаются, осматриваются, хотят войти, однако посетителей не принимают»[1173].
Луи Жилле художник тоже показался энергичным и жизнерадостным. «Возраст лишь добавил ему величия», — заявил он, сравнив его с Маннепортом, могучей скалой в Этрета, которую Моне неоднократно писал. Вокруг «хлещут волны и бушуют шторма», но он сопротивляется всем стихиям[1174].
Однако, несмотря на внушительный вид, к лету 1926 года Моне сильно похудел и ослаб. В июне нездоровье не позволило ему посетить свадьбу его внучки Лили Батлер с Рожером Тулгуа — ее сыграли в Живерни. Две недели он вообще не выходил из дому. Были отменены все визиты друзей, за исключением Клемансо, — тот приехал в конце месяца. «Он стареет, вот и все», — без эмоций отметил Клемансо[1175]. Он уговорил друга выйти в сад, а потом немного поесть. Через несколько дней Моне стало лучше, он принял новых посетителей: художников Эдуарда Вюйара и Кера-Ксавье Русселя вместе с племянницей Вюйара Аннет и ее мужем Жаком Саломоном — тот и привез всю компанию в Живерни в красном «форде»-кабриолете. Саломон удивился низкорослости Моне, но его восхитила «великолепная голова» художника. Он отметил, что тот «ходит в сильных очках, левый глаз полностью скрыт темным стеклом, а второй выглядит удивительно, будто смотришь сквозь лупу». Моне угостил гостей уткой, приправленной мускатным орехом, а сам — несмотря на встревоженные взгляды Бланш — изрядно приложился к белому вину.
Последнее впечатление немощи исчезло, когда Моне повел гостей в большую мастерскую. «На двенадцати-четырнадцати полотнах, два метра в высоту и четыре в ширину, великолепные пейзажи… — писал Саломон. — Мы передвигали туда-сюда тяжелые подрамники, так чтобы расставить их по кругу». По его словам, то были «творения колосса»[1176]. Вюйар, и сам писавший масштабные композиции, просто опешил. Позднее, пытаясь передать свои впечатления другому художнику, он не нашел слов: «Это невыразимо! Не увидишь — не поверишь!»[1177]
Бланш все еще надеялась, что Моне вернется к работе, однако Клемансо знал, что труд художника завершен, а конец близок. Летом Моне начал кашлять кровью. Ему сделали рентген в больнице в Боньере, после чего из Парижа были вызваны доктора, в частности и личный врач Клемансо Флоран («Все его пациенты умерли полностью излеченными», — как-то раз невесело пошутил Тигр)[1178]. Моне поставили диагноз «легочный склероз», но «чем именно он болен, он никогда не узнает, — написал Клемансо. — В этом нет необходимости»[1179]. На деле рентген выявил рак легкого. Клемансо знал, что остается одно: поддерживать в друге бодрость. «О чем еще просить судьбу? — написал он ему в сентябре. — Вы прожили жизнь, о какой можно только мечтать. В этот мир нужно не только войти, но и уметь из него выйти»[1180]. А несколькими неделями раньше он призывал Моне: «Выпрямите спину, поднимите голову и подкиньте домашнюю туфлю к самым звездам. Да как следует — ничего не может быть лучше»[1181].
Моне скончался в полдень 5 декабря, в воскресенье. Час для успения был самый подходящий. Он всегда особенно любил воскресные обеды: то время дня, когда колокольчик призывал его от водяных лилий за стол, на террасе или в Желтой столовой дожидалась рюмочка домашней сливовой наливки, там же сидели гости, которым повезло получить приглашение.
«Вы умрете за мольбертом, — когда-то написал ему Клемансо, — и чтоб мне провалиться, если, явившись на небеса, я не обнаружу Вас с кистью в руке»[1182]. На деле Моне умер в своей спальне, в «музее досточтимых товарищей», окруженный творениями Мане, Дега, Писсарро, Ренуара и Сезанна. Он умер в окружении близких: сына Мишеля, преданной Бланш и Клемансо, которого за несколько дней предупредили, чтобы он готов был выехать из Парижа в любой момент; он прибыл утром пятого — якобы всю дорогу прорычав на шофера: «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» — и успел взять друга за руку. «Больно?» — спросил Клемансо. «Нет», — едва слышно ответил Моне и через несколько секунд с тихим стоном отошел[1183]. В тот же день во все газеты были разосланы телеграммы с оповещением, что художник Клод Моне скончался в полдень в своем доме в Живерни в возрасте восьмидесяти шести лет; у его смертного одра находился Жорж Клемансо.
Моне летом 1926 г.
На следующий день о смерти Моне писали передовицы всех газет, называя его по-всякому: «Князь света» и «подлинный отец импрессионизма». Воспроизводили творческий путь художника, прослеживая его от ранних уничижительных отзывов и легендарной зимы, когда он питался одной картошкой, до признания его — по словам «Фигаро» — «самым прославленным представителем импрессионизма». В «Тан» Тьебо-Сиссон назвал его «старым борцом» и отметил, что почти всю свою долгую жизнь он «только и делал, что боролся», стремясь в своем искусстве к совершенству. В «Голуа» верный Луи Жилле поэтически восклицал: «Плачьте, о водяные лилии, нет больше мастера, который увидит на водной ряби, среди отражений неба в воде, образ вечной мечты!»
Похороны состоялись 8 декабря в 10:30; утро стояло тихое и туманное. Именно в такие дни Моне когда-то особенно любил писать. Как отметил корреспондент «Фигаро», «Нормандия оделась так, как и хотелось бы ее великому художнику. В тихих речных водах зыбились тысячи золотых, розовых и алых бликов — тех, что и составляли его палитру. Их поверхность отражала загадочное розово-ало-золотое небо, исчезающие тополя и туманные очерки низких холмов. Нормандия превратилась в картину Моне»[1184]. А вот цветов не было. Моне не хотел видеть на своих похоронах ни букетов, ни венков, он якобы заявил, что это «святотатство — рвать по такому случаю цветы из моего сада»,[1185] впрочем в первую неделю декабря и рвать-то было нечего. Что трогательно, местные школьники попросили позволения возложить на гроб цветы в знак уважения «к усопшему художнику», однако пожелание Моне нарушено не было[1186].
Из тумана над Живерни в то утро выныривал один автомобиль за другим — съезжались друзья из Парижа. Шествие по узкой дороге от дома к церкви возглавил мэр Живерни. Гроб из кленового дерева везли на маленькой тележке, покров был украшен бахромой и звездами. Катили тележку два садовника Моне, еще двое подталкивали ее сзади «теми же движениями, — отметил один корреспондент, — которые совершали в ежедневных трудах»[1187]. Все они были одеты, как и просил Моне, в рабочую одежду. Гроб обернули лиловой тканью, украшенной цветочным узором — незабудками, калужницей, геранью. Гробовщик хотел было накрыть его традиционной черной тканью, однако вмешался Клемансо: он подошел к окну и сорвал с него занавеску с цветочным узором. «Никакого черного для Моне», — произнес он тихо и лично обернул гроб[1188].
Похороны Моне, 8 декабря 1926 г.
Клемансо вывела из себя толпа журналистов, фотографов и зевак перед домом Моне — один из свидетелей приписал это безутешности его горя[1189]. Он был слишком утомлен, измучен и раздосадован, чтобы пройти почти километр до церкви Святой Радегонды пешком, и последовал за медлительной процессией в машине, с шофером за рулем. У церкви он присоединился к скорбящим — в руке трость, в глазах слезы, пальцы дрожат. Бланш и другие женщины оделись в траур. Мужчины склонили обнаженные головы, обступив свежевырытую могилу. Воспоследовал обмен немногочисленными рукопожатиями и тихими приветствиями. Моне просил о гражданских похоронах, поэтому священника не было, молитв не читали, гимнов не пели. «Насколько прекраснее молчание», — как-то раз заметил Клемансо[1190]. Художника погребли рядом с его возлюбленной Алисой, двумя падчерицами и сыном Жаном.
Все прошло так, как хотел бы человек, ненавидевший толпы и обряды: быстро. После ухода родни Клемансо остался проследить, как могильщики опускают гроб. «Скоро кладбище опустело, — писал один журналист. — Впервые человека, под кистью которого столько раз разворачивалась битва света и тени, окутали молчание и тьма»[1191].
Две недели спустя в Живерни состоялась еще одна торжественная церемония. На ней не было ни журналистов, ни зевак, проводили ее Поль Леон, два хранителя Национального музея и архитектор Камиль Лефевр. Двадцать два огромных полотна Моне были вынесены из мастерской. Их свернули и перевезли в Париж, чтобы сфотографировать в Лувре перед отправкой в Оранжери. Там, в овальных залах, их аккуратно развернули: почти девяносто метров живописи. Труд колосса.
Эпилог Князь света
В середине мая 1927 года журналист по имени Гаэтан Санвуазен прибыл на рю Франклин, чтобы взять интервью у Жоржа Клемансо. У двери его встретила горничная в традиционном вандейском кружевном капоре и провела в небольшой кабинет. В середине комнаты стоял стол в форме подковы, заваленный кипами бумаг и стопками книг, — среди них Санвуазен приметил «Мировой кризис» Уинстона Черчилля. Над камином висело несколько этюдов импрессионистов.
— Господин президент, — обратился Санвуазен к Клемансо, когда тот наконец вошел в кабинет, в серых замшевых перчатках и странной полицейской шляпе, тоже серой, которая напомнила Санвуазену татарский шлем. — Не согласитесь ли вы поговорить со мной о Моне?[1192]
Днем ранее в двух залах Оранжери наконец-то открылся «Салон Моне». На открытии вместе с Бланш и Мишелем присутствовал и Клемансо. «Работы Моне произвели грандиозное впечатление, — писал он одному другу. — Совершенно новаторская живопись»[1193]. С Санвуазеном он был сдержаннее и начал с того, что не станет говорить о Моне, так как не хочет обнародовать свои мысли и мнения об искусстве. Однако его легко удалось втянуть в беседу, и вскоре он уже рассказывал о том, как знавал Моне в давние дни, когда тому не на что было купить краски, как покупатели, издевавшиеся над ранними работами Моне, потом готовы были платить за них колоссальные суммы и как Моне отказывался до самой смерти расстаться с Grande Décoration, потому что считал, что лишь тогда сможет примириться с ее несовершенством.
Упоминание о несовершенстве натолкнуло Санвуазена, который тоже присутствовал на церемонии в Оранжери, на одно воспоминание.
— А вы заметили, господин президент, — поинтересовался он, — что на одной из картин есть длинный разрез?
Собственно, шрам в правой части «Утра», одного из панно в первом овальном зале, заметили многие посетители.
— След его ножа, — пояснил Клемансо. — Моне, когда сердился, кромсал свои полотна. А причиной гнева было недовольство собой. Он был своим самым строгим критиком!
После этого он пояснил, что, взыскуя совершенства, Моне уничтожил более пятисот полотен.
— Некоторые считают, господин президент, что его полотна не выдержат испытания временем.
Клемансо, внезапно сникнув, долго разглядывал Санвуазена.
— Возможно, — ответил он, а потом объяснил, что Моне пользовался самыми дорогими материалами, однако он лично не может поручиться за их качество, да и вообще все картины на свете подвержены старению. — Я вчера сходил в Лувр и в очередной раз посмотрел на «Мону Лизу». За пятьдесят лет она сильно переменилась.
Санвуазен высказал Клемансо страхи одного из хранителей Люксембургского музея, который несколькими месяцами раньше рассуждал о том, что «наскоро наложенные во много слоев краски» Моне, смешанные «в опасных сочетаниях», вероятно, будет трудно сохранить[1194]. На деле беспокоиться за полотна Моне не стоит. Хотя они и выглядят точно паутинки, они написаны не «росой и пыльцой на крыльях бабочки», как пошутил хранитель, а проверенными временем пигментами, которые Моне — человек, одержимый «химической революцией цветов»,[1195] — приобретал у надежных поставщиков.
Клемансо на открытии галереи Моне в Оранжери, май 1927 г.
Собственно, сникнуть Клемансо заставило не увядание красок Моне, а скорее увядание его репутации. От Клемансо не укрылось, что музей, официально названный Музеем Клода Моне в Оранжери-де-Тюильри, открылся без всяческой помпы. А вот открытие «Пантеона войны» в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке двумя днями ранее собрало толпу в двадцать пять тысяч человек и транслировалось по радио в прямом эфире. Моне такого внимания не удостоился. Клемансо с горечью отметил, что табличка, оповещавшая о собачьей выставке в другой части здания (псам позволено было вернуться в Оранжери), оказалась куда крупнее, чем знак, гласивший об открытии Музея Клода Моне.
Да, появился целый ряд почтительных и лестных рецензий, например в «Популэр». Полотна расхваливали как итог эстетических исканий мастера, в них воплотилась «глубокая проникновенность его взгляда и неповторимая пластичность его мазка»[1196]. Но были и менее комплиментарные отзывы. «Работы старика», — заключила «Комодия», самая влиятельная еженедельная французская газета об искусстве. «Ощущается усталость», — презрительно фыркнул «Пти журналь»[1197]. Художник Уолтер Сикерт жаловался, что полотна слишком велики, и еще до того, как их закрепили на стенах Оранжери при помощи маруфляжа, младший хранитель Люксембургского музея Роберт Рей, номинально назначенный хранителем этих произведений, разом сбросил их со счетов: «По мне, этот период — уже не импрессионизм, а его упадок»[1198].
В истории французского искусства всегда было много своих Озимандий. Как заметил один из ярких представителей этой бесталанной когорты, Жан-Луи-Эрнест Месонье, «многие люди, обладавшие некогда великой репутацией, теперь превратились в лопнувшие шарики»[1199]. Тело Моне еще не упокоилось в могиле, а уже возникло ощущение, что и его шарик может лопнуть, что, как и Месонье, он заплатит за баснословный прижизненный успех презрением и равнодушием потомков. В некоторых некрологах слишком рьяно указывали на его предполагаемые недостатки, равно как и на недостатки импрессионизма в целом. В одном говорилось, что импрессионизм был «доктриной, против которой восстало целое поколение, причем с полным правом», а в некрологе из «Эко де Пари» Моне обвинили в том, что за свою «долгую и мирную старость» он не создал ничего, кроме «рваных клочков тонкой паутины. Нам куда больше нравятся изумительные шедевры его юных и зрелых лет». В 1927 году вышел специальный выпуск «Ар виван», где шесть статей были посвящены Моне. Одну из них написал Жак-Эмиль Бланш, и она полна суровых инвектив: картины Моне — всего лишь «милые открыточки в определенном американском вкусе», которые приобретали пошляки-нувориши[1200].
Оригинальный план галереи Моне в Оранжери
Через несколько месяцев после открытия экспозиции в Оранжери Жак-Эмиль Бланш снова напустился на Моне: «Эти пятна, потеки, царапины на поверхности многометровых холстов… любой театральный декоратор со своими дешевыми уловками способен произвести такой же эффект»[1201]. Его претензии к работам Моне дополнялись замечаниями по поводу того, как уродливо и безлико выглядят два овальных зала, в которых они размещены: своей «торжественностью» они напоминают «залы пустого дворца». Бланш не отказал себе в удовольствии отметить, что посетителей в этих залах мало, да и те надолго не задерживаются. Осматривать картины неудобно, заявил он, — в залах нет стульев, пол твердый, под мрамор, освещение скверное.
Насчет малочисленности посетителей и неважного освещения Клемансо вряд ли стал бы с ним спорить. В июне 1928 года, более чем через год после открытия выставки в Оранжери, он посетил ее и испытал разочарование. «Внутри ни души, — жаловался он. — За день пришло сорок шесть человек, из них сорок четыре — влюбленные парочки, ищущие уединения»[1202]. В 1929 году он сетовал на нехватку света: «Во время моего последнего визита посетители просили дать им свечи. Когда я пожаловался Полю Леону, ответом мне была только бледная улыбка»[1203]. Другой посетитель сравнил эти залы с темной безликой гробницей, добавив, что у него почти сразу же началась мигрень[1204].
Помимо плохого освещения и недостаточной популяризации, картины подверглись и прочим унижениям. В овальных залах устраивали другие выставки. Был случай, когда картины завесили фламандскими шпалерами; в другой раз сквозь вощеное световое окно протекла вода и попала на поверхность холстов. Некоторое время один из залов использовали как складское помещение[1205]. Это сочетание безразличия, враждебности и пренебрежения заставило Поль-Эмиля Писсарро, младшего сына художника и крестника Моне, заявить, что Моне был похоронен дважды: в первый раз в 1926-м, когда умер, а второй раз в 1927-м, при открытии выставки в Оранжери[1206].
В годы после смерти Моне репутацию его поддерживали еще живущие друзья, чьи ряды стремительно таяли. Клемансо оказал ему последнюю услугу: в 1928 году опубликовал книгу под названием «Клод Моне: Водяные лилии». Она вышла в парижском издательстве «Плон», в серии «Жизнь и шедевры великих людей», которая уже включала биографии Расина, Виктора Гюго и святого Людовика Тулузского. Год спустя еще один верный друг Моне, Саша Гитри, отдал дань его памяти, тоже поместив его в пантеон героев Франции. В октябре 1929 года в парижском театре «Пигаль» состоялась премьера четырехактной пьесы Гитри «Фрагменты французской истории». Пьеса освещала важные исторические события, в ней фигурировали Жанна д’Арк, Генрих IV, Людовик XIV, Наполеон и Талейран. В нее же Гитри включил события одного понедельника, 18 ноября 1918 года, когда Клемансо приехал в Живерни и получил от Моне обещание передать свои полотна государству. Гитри сам сыграл роль Моне и продемонстрировал, по словам одного критика, «изумительное сходство»[1207].
Клемансо скончался через месяц после спектакля, в ноябре 1929 года. В последовавшие годы на Моне и импрессионизм (в особенности на поздние работы его основателя) непрерывно изливался яд критики. В 1931 году один путеводитель по парижским музеям все еще рекомендовал выставку в Оранжери как «многоцветную поэму утонченного восприятия», раздвигающую привычные рамки живописи[1208]. Однако даже давний союзник Моне Арсен Александр сетовал на то, что в поздних своих произведениях Моне отказался от «прямого общения с природой», которое чувствуется в ранних его работах, и перешел к отображению «внутренних впечатлений». Он был, по словам Александра, вождем «буйного культа цвета», время которого невозвратно прошло[1209].
Критики с такой настороженностью относились к работам Моне, что ретроспектива ста двадцати восьми его работ, устроенная в Оранжери в 1931 году, началась с целой череды оговорок и извинений. Ее куратор Поль Жамо признавал, что молодые художники и критики не уважают импрессионизм, причем «многие из них пошли дальше, чем просто равнодушие, и достигли стадии презрительного неодобрения»[1210]. Он и сам считал, что импрессионисты слишком превозносили чувства в ущерб разуму, глаз в ущерб мозгу. Такая расстановка акцентов вызвала встречную реакцию, желание восстановить «принципы целостности, упорядоченности, композиции». Жамо назвал это движение retour classique (возвращением к классике). Стало модно говорить о том, что к концу своей карьеры многие импрессионисты и постимпрессионисты вновь принялись искать вдохновения в четких контурах, свойственных классическому искусству. Но разумеется, Моне, с его летучими туманами и мерцающими конусами света, никак нельзя было причислить к тем, кто вернулся к целостности, к четкой, убедительной линии и ясным формам[1211].
Ретроспектива 1931 года в Оранжери включала в себя раздел, называвшийся «Водяные лилии». Впрочем, состоял он всего из пяти небольших полотен с изображением пруда, которые предоставил Мишель Моне из числа нераспроданных работ, остававшихся в большой мастерской. Хранителям явно не хотелось выставлять масштабные работы, которые Моне написал за последний десяток лет жизни. Около двадцати этих произведений по-прежнему находились у него в мастерской — невостребованные, непроданные. В каталоге об этих вещах отозвались пренебрежительно, отметив, что по причине проблем со зрением многие поздние работы художника представляют собой «россыпь цветовых пятен, все дальше отстоящих от реальности зримого мира»[1212]. Отклики на эту выставку оказались малочисленными и язвительными — воспользовавшись возможностью, критики в очередной раз набросились на постоянную экспозицию в Оранжери. По словам одного из них, Александра Бенуа, два овальных зала, завешанные холстами, напоминали «каюту первого класса на океанском лайнере». «Водяные лилии», по его мнению, представляли собой настоящую катастрофу, «воистину жалкий венец карьеры Моне»[1213].
В том же году Флоран Фель, который шестью годами раньше видел эти большие полотна (и они произвели на него сильное впечатление), немного тоскливо вопрошал: «Что же будет дальше с его поздними панно?» Ему они нравились как «чувственный бред чистого цвета», хотя он спешил признать, что эти произведения не несут в себе «мужественности замысла и формы», которых взыскуют молодые художники[1214]. Они действительно не несли. Год спустя, в 1932-м, художник-кубист Андре Лот, еще один боевитый и напористый противник Моне, заявил, что лидер импрессионистов совершил в Оранжери «творческое самоубийство», так как там «душу Офелии-живописи бесславно утягивает вниз саван из водяных лилий»[1215].
Критика эта показывает, что Моне пал жертвой «возвращения к порядку», ставшего одной из попыток заживления ран Великой войны: отовсюду звучал громкий призыв к созданию ностальгических, пасторальных произведений, представляющих мир без войны[1216]. Моне прекрасно запечатлел такой мир в своих скирдах, тополях и речных пейзажах — все они продолжали пользоваться успехом у продавцов и критиков, — но Grande Décoration, с его дымчатым, возвышенным стилем и налетом экзотики, мало имевший общего с обычной сельской Францией, не отвечал этому призыву. По мнению Лота, в последние десятилетия жизни Моне злонамеренно пренебрегал «пейзажами, которые так и просились на холст» — бессмертными видами сельской Нормандии, — сосредоточившись на одном лишь своем садовом прудике[1217].
Словом, по мнению Лота, Моне утонул в мутной стоячей воде. Вот только, в отличие от Офелии, ему суждено было восстать из водной могилы.
В 1949 году одна из газет написала, что каждый год Феликс Брёй, старый садовник Моне, приезжает в Париж, чтобы посетить Оранжери[1218]. Брёй два десятка лет принадлежал к числу немногих регулярных посетителей галереи, которую в 1952 году один художник назвал «пустыней в самом центре города»[1219].
Однако ситуация начала меняться. Сразу после Второй мировой войны Оранжери стал местом массового паломничества молодых энтузиастов-американцев, которым надоели зарегулированные геометрические построения кубистов, та самая «мужественность замысла и формы», к которой стремилось большинство представителей предыдущего поколения художников-авангардистов. Владелец одной парижской галереи впоследствии утверждал, что молодые американские художники, приезжавшие во Францию в конце 1940-х и начале 1950-х годов, когда действовал закон, дававший бывшим участникам войны льготы по учебе, «как мухи слетались в одно-единственное место: в Оранжери, чтобы посмотреть на „Водяные лилии“ Моне, на эти ритмизованные цвета без конца и начала»[1220]. Здесь они находили необузданность и спонтанность выражения, природу во всей ее роскоши, трансформированную в пульсацию красок и грацию образа.
Один из этих бывших фронтовиков, учившихся в Париже, по имени Элсуорт Келли, отправил Жан-Пьеру Ошеде письмо с вопросом, нельзя ли ему посетить Живерни. После смерти художника дом и сад в целом сохранили свою волшебную привлекательность, а рю де О, идущая мимо дома, была переименована в рю Клод Моне. В мае 1939 года сад получил высшее признание в мире моды, так как попал на страницы французского издания «Вог», где был поименован «раем цветов». Фотографировал его сам Вилли Мэйволд, который вскоре после этого прославился, работая на Кристиана Диора. Но во время и после войны сад зарос. Через год после выхода статьи в «Вог» Бланш уехала из Живерни в Экс-де-Прованс и в 1947 году скончалась в Ницце в возрасте восьмидесяти двух лет. После ее отъезда работы по саду оплачивали Мишель Моне и Жан-Пьер Ошеде. Последний так и обитал в Живерни, в «Мезон-Блё», а Мишель — «отшельник Мишель Моне», как назвала его одна газета,[1221] — перебрался за сорок километров к югу, в деревню Сорель-Муссель. Там он жил в окружении непроданных работ Моне и своих трофеев с африканских сафари, в числе которых была ручная обезьянка.
Визит в Живерни произвел на Келли очень сильное впечатление. «Там стояла как минимум дюжина крупных работ, — вспоминал он впоследствии про экскурсию по мастерской, — каждая на двух мольбертах. Вокруг летали птицы. Картины, по сути, брошены»[1222]. Эти полотна так вдохновили его своими размерами, выразительным мазком, тонкой работой с цветом, что на следующий день он создал посвященную им картину под названием «Tableau vert» («Зеленое полотно»). Много десятилетий спустя он подарил ее Чикагскому институту искусств, музею города, который всегда был особенно восприимчив к творчеству Моне.
Еще один бывший американский фронтовик, студент Сэм Фрэнсис, которому предстояло к середине 1950-х годов стать «самым пламенным американским художником Парижа»,[1223] тоже проникся восхищением к поздним работам Моне. «Я вижу чистоту поздних работ Моне», — гордо объявил он на ужине у жены Кандинского[1224]. В Париже он сдружился с художником канадского происхождения Жан-Полем Риопелем, у которого есть картина «Человек с „Водяными лилиями“ Моне», доказывающая, как он ценил произведения, выставленные в Оранжери, которые впервые увидел в 1951 году. В 1957-м журнал «Лайф» назвал Фрэнсиса и Риопеля «наследниками Моне»[1225]. Риопель много лет жил в тех же краях, что и Моне, в домике в Ветёе, который в 1967 году приобрела его давняя спутница и тоже художница Джоан Митчелл; почти веком раньше в домике садовника на их участке жил Клод Моне. Митчелл прожила там до самой своей смерти в 1992 году, и Моне (как выразился один искусствовед) «царил над ее личным пейзажем»[1226].
Получается, что художник Барнетт Ньюман, представитель абстрактного экспрессионизма, не преувеличивал, когда в 1953 году заявил, что поздние работы Моне представляют для «сегодняшних молодых художников» большой интерес[1227]. Выставка импрессионистов, состоявшаяся в 1954 году в Бруклинском музее, стала откровением. Роберт Розенблюм, будущий хранитель Музея Гуггенхайма и профессор истории искусства в Нью-Йоркском университете, отметил, что работы Моне содержат «неожиданные аналогии» с новейшими течениями в современной американской живописи, — имелись в виду уже признанные новые течения, такие как абстрактный экспрессионизм, живопись действия и живопись цветового поля. «Превыше всего — три поздние работы Моне, безусловно лучшие на всей выставке, — писал Розенблюм. — Перед этими мерцающими цветом полотнами неизменно начинаешь вспоминать творческие искания Ротко, Поллока, Гастона». Он отметил, что эти молодые художники, как и Моне, поставили под сомнение представления кубистов о формальной структуре и стали создавать «целостные произведения искусства из бесконтурных цветовых полей, из непосредственного восхищения самой красочной поверхностью»[1228]. Несколькими годами позже связь между Моне и абстрактным экспрессионизмом отметил даже более влиятельный критик Клемент Гринберг. «Моне начинают оценивать по достоинству», — написал он в статье, опубликованной в 1957 году. Влияние поздних работ Моне, отметил он, «чувствуется — как прямо, так и косвенно — в некоторых самых передовых произведениях, которые сейчас создаются в нашей стране»[1229]. Именно поэтому, утверждал он в 1959 году, произведения Моне, безусловно, «принадлежат нашей эпохе»[1230].
В том, что возрождением популярности Моне обязан своим влиянием на группу передовых американских художников, есть глубокая ирония. Моне недолюбливал и американцев вообще, и живопись многих своих современников-авангардистов. Порой он очень негативно высказывался о работах молодых художников, так же как несколькими десятилетиями раньше высказывались о нем и его друзьях представители старой школы. «Не хочу этого видеть, — упрямо твердил он про кубизм. — Только рассержусь»[1231]. Скорее всего, абстрактный экспрессионизм раздосадовал бы его еще сильнее.
Неменьшая ирония содержится и в утверждении Гринберга, что Моне якобы принадлежит модернистскому миру 1950-х, который Джексон Поллок описал как эпоху «самолетов, ядерной бомбы, радио»[1232]. По утверждению Жан-Пьера Ошеде, Моне недолюбливал технический прогресс: его раздражало появление в Живерни телеграфных столбов, он ни разу в жизни не звонил по телефону и «игнорировал радио и даже фонограф. Ни разу не сделал ни единой фотографии… кино его вряд ли интересовало… У него не было ни желания, ни даже мысли научиться ездить на велосипеде»[1233]. Моне неуютно чувствовал себя в мире 1920-х годов, а уж о 1950-х и 1960-х годах и говорить нечего.
То, что работы Моне обрели популярность, только затесавшись в компанию к абстрактным экспрессионистам, выглядит величайшей несправедливостью. В 1971 году Роберт Хьюз писал о том, какую важную роль сыграл Моне в творчестве этих художников 1950-х годов, называя его при этом «пророком, чье величие превосходит величие того, что он напророчил» и отмечая, что «Моне трудился вовсе не ради Филиппа Гастона или Сэма Фрэнсиса». Двадцать лет спустя Хьюз подчеркивал: «Трудно вообразить себе появление картин Джексона Поллока с разбрызганной по ним краской… не послужи ему примером поздний Моне. Однако подлинная ценность творчества Моне заключается не в том, что именно он предсказал или как его потом использовали другие художники, но в самом его творческом наследии: в проницательности и широте взгляда, в лирической красоте и изумительном мастерстве, вложенном в его обращения к миру»[1234].
И все же абстрактные экспрессионисты научили других смотреть на Моне новыми глазами. Восхищение широтой его взгляда и лирической красотой скоро распространилось на директоров и хранителей музеев, равно как и на крупных и состоятельных коллекционеров. В 1949 году Мишель Моне отправил пять масштабных полотен с водяными лилиями на выставку в Базельский художественный музей — мастерскую, где их видели лишь немногочисленные посетители Живерни, они покидали впервые. Там на огромные полотна обратил внимание торговец оружием и коллекционер Эмиль Георг Бюрле, который тут же помчался в Живерни и приобрел три работы, — одну из них он без промедления предложил Художественному музею Цюриха. За ним потянулись американские коллекционеры — например, Уолтер Крайслер, наследник автомобильной империи и один из основных покровителей нью-йоркского Музея современного искусства. В 1950 году он приобрел шестиметровое полотно под простым названием «Водяные лилии». Крайслер убедил Музей современного искусства купить эту масштабную композицию из мастерской в Живерни, несмотря на то что старший хранитель музея Альфред Барр считал Моне «дурным примером»[1235]. Когда летом 1955 года огромное полотно доставили в Нью-Йорк, оно быстро превратилось в самый популярный и любимый экспонат в музее. Барр быстренько перестроился и внезапно признал Моне дедушкой абстрактного экспрессионизма. На табличке картину относили к наскоро изобретенному течению «абстрактный импрессионизм». В 1958 году полотно погибло при пожаре, и музей тут же приобрел ему замену в парижской галерее Кати Гранофф, которая несколькими годами раньше приобрела у Мишеля Моне все работы из мастерской в Живерни и выставила крупные холсты у себя. Заменой стало изумительное полотно «Водяные лилии» — огромный триптих, который занял на музейной стене почти четырнадцать метров. О росте популярности Моне свидетельствует то, что если в 1955 году музей заплатил всего 11 тысяч 500 долларов за его работу, то четыре года спустя за «Водяные лилии» пришлось выложить уже 150 тысяч.
За этим последовала, как выразился один американский коллекционер, «настоящая золотая лихорадка» — цены на картины с изображением прудика Моне росли на десятки тысяч фунтов в неделю[1236]. Свое одобрение выразил даже Джозеф Пулицер III, один из самых страстных и разборчивых американских собирателей современного искусства. Принадлежащее ему почти двухметровое полотно «Водяные лилии» он выставил, как и пристало подобной картине, в домике у бассейна в своем поместье в Сент-Луисе — тем самым исполнив прозвучавшее десятками лет ранее пророчество Рене Жимпеля, что эти картины могут служить прекрасным украшением для бассейна.
В 1952 году полные энтузиазма живописцы-американцы стали заполнять два овальных зала, и художник Андре Массон, оказавший сильное влияние на Поллока, назвал Оранжери «Сикстинской капеллой импрессионизма». Саша Гитри, который в том же году снова выпустил фильм «Соотечественники», наверняка порадовали бы слова Массона, который назвал эти огромные полотна «одной из вершин французского гения»[1237]. Впрочем, в официальных кругах к работам Моне сохранялось двойственное и даже пренебрежительное отношение. В августе 1944 года, по ходу освобождения Парижа, Оранжери едва не был разрушен — на здание упало пять артиллерийских снарядов, и в результате было повреждено полотно «Отражения деревьев», висевшее на передней стене второго зала. Официальное равнодушие оказалось столь велико, что осколки извлекли только двадцать лет спустя.
За эти двадцать лет полотна подверглись и другим унижениям. В 1966 году в новой пристройке к Оранжери была открыта выставка ста сорока четырех картин из коллекции Жана Вальтера и Поля Гийома — сокровищницы, в которой находились десять работ Матисса, дюжина — Пикассо, шестнадцать — Сезанна и двадцать две — Ренуара; пристройка располагалась прямо над овальными залами Моне, то есть потолок их закрыли бетонными плитами. Естественный свет, и без того скудный, угас окончательно. Работы, запечатлевшие тончайшие вибрации цвета и воздуха, нежные оттенки солнца, по сути, оказались в подвале, при искусственном освещении. Следующие тридцать лет «Водяные лилии» оставались погребенными в этом мрачном подземелье.
Наконец в 1996 году французское Министерство по делам культуры и коммуникаций решило перестроить здание, чтобы «переосмыслить музеографическую взаимосвязь» между коллекцией Вальтера — Гийома и «Водяными лилиями» Моне[1238]. В январе 2000 года Оранжери был закрыт (предполагалось, что на полтора года), хотя на выполнение работ стоимостью 36 миллионов долларов на деле ушло шесть лет. Картины Моне оказались слишком уязвимыми, снимать их со стен было нельзя, поэтому их герметически запечатали в прочные ящики, снабженные сигнализацией и покрытые полиэтиленовой пленкой; в помещении поддерживали постоянную влажность и температуру. В 2003 году начался демонтаж стен, и, когда вибрация, производимая отбойными молотками, превышала уровень допустимого, сигнализация порой испуганно попискивала, будто приборы в реанимации. Когда в 2006 году Оранжери вновь открылся для посещения, «музеографическая взаимосвязь» между двумя дарами действительно оказалась переосмыслена: «Водяные лилии» Моне заняли почетное место и купались в естественном свете, а коллекцию Вальтера — Гийома переместили в пристройку.
Сегодня дом, сад и картины Клода Моне числятся среди самых популярных французских достопримечательностей. Его жилище в Живерни каждый год посещает около шестисот тысяч человек, причем многие приезжают с вокзала Сен-Лазар на специальном «Поезде импрессионизма», который в 2015 году запустили Французские железные дороги. Поезд идет по «Краю импрессионистов», мимо тех мест, которые когда-то писал Моне, по рельсам, по которым он столько раз ездил из Парижа в Живерни, Руан и обратно. А Оранжери ежегодно посещает около миллиона человек — теперь это не заброшенное помещение, как сетовали Клемансо и Массон, а популярный музей, куда часто приходится отстоять длинную очередь.
Возможность побывать в двух овальных залах, где создается эффект погружения, причастности и созерцательности, стоит того, чтобы постоять в очереди. Первое, что мы видим, пройдя через вестибюль и вступив в первый зал, — это «Зеленые отражения» на дальней стене. Существует мнение, что это самая красивая картина в Оранжери. На фоне ярко-голубых и интенсивно-зеленых пятен выделяются яркие цветки водяных лилий: вспышки малинового и желтого, языки оранжевого пламени, мазки благородного розового — десятки отдельных цветов приведены в тонкую гармонию. Это столь потрясающее зрелище, что недолго подумать: Моне воистину утратил способность видеть, если в страшные годы, в 1923-м и 1924-м, сомневался в ценности этих работ.
На боковых стенах зала представлены «Утро» — жертва нападения с ножом — и «Облака», работа, восхитившая Клемансо, наполненная отражениями рококошных, ватных кучевых облаков. Композиции впечатляют и своими размерами: круговая экспозиция настолько велика, что поразила бы даже автора самых масштабных работ, например Эдуарда Вюйара. В 1889 году Мирбо писал, что некоторые свои произведения Моне создавал за шестьдесят сеансов, но здесь, если судить по количеству наложенной краски, разнообразию мазков и самим размерам полотна, на каждое панно ушли скорее сотни, а то и тысячи часов. Можно вообразить себе старика в просторной мастерской — он ищет, кромсает, соскабливает. Сигарета сгорает дотла, а краска слой за слоем ложится на полотно, и солнечные лучи из светового фонаря крадутся по полу. В конце дня художник отходит от полотна — на нем очки с толстыми стеклами, один глаз закрыт, — чтобы меркнущим зрением оценить работу, и тут к нему, шаркая, подходит Бланш, и, наверное, оба они идут прогуляться (как и все зрители) по саду, изображенному на полотне, вглядываясь в буйство красок.
С близкого расстояния видно, что картина соткана не из капель росы и не из пыльцы на крыльях бабочки. Краска лежит густо, фактурно, местами жесткой коркой; мазок широкий, смелый, кое-где он наложен с продуманным автоматизмом, который так впечатлял Массона и повлиял на других художников, например Поллока и Риопеля. И тем не менее из этих плотных непрозрачных наслоений невероятным образом рождаются тончайшие эффекты света и формы, например каллиграфия перекрещивающихся лавандовых и фиолетовых цветов, которые создают водную рябь в центральной части «Утра», или волнообразные взмахи кисти, обмокнутой в зеленую и желтую краски, с помощью которых написаны водяные лилии на поверхности пруда, отразившего на своей глади ветви ив в «Заходящем солнце», — бледно-желтое видение на первой стене.
Примечательно, что нижний правый угол «Заходящего солнца» так и остался незаписанным, если не считать нескольких завитков и закорючек, — он как бы подчеркивает, что гигантское полотно не закончено и, как и остальные композиции, дожидается очередного мазка мастера. Впрочем, остальные одиннадцать квадратных метров полотна прописаны тщательно и выразительно. Отражение заката на поверхности воды создано плотными мазками желтого кадмия — мы видим на них отпечаток кисти Моне, хотя, похоже, эти мощные полосы краски выдавлены прямо из тюбика. В результате, если отойти подальше, можно разглядеть яркий жар заката, расплавленный свет солнца, растекающийся по тихой поверхности пруда. «Создать неосязаемое из полотна и краски, — писал в 1922 году о работах Моне один критик, — поймать в ловушку солнце, сконцентрировать и рассеять его свет. Какое чудо!»[1239]
Повернувшись спиной к жаркому сиянию «Заходящего солнца», мы оказываемся в чертоге нежного синего, пушистого розового, пористого зеленого. С этой точки первый зал кажется местом мирных спокойных размышлений, тихой гаванью для неврастеника, о которой больше века назад мечтал Марсель Пруст. Но стоит нам пройти через элегантный арочный проем во второй зал, начинает звучать совсем иная нота. Здесь три композиции обрамлены грациозными изгибами склоненных ив, ветви которых стекают мерцающим водопадом, заключая нас в свои объятия. Они, как и замышлял Моне, являются символами печали. Они не только воздают дань героям, павшим на полях Великой войны, — такими он задумал их в тот давний ноябрьский день, — но и служат апофеозом скорби. Нетрудно увидеть в них памятник всем тем, кого Моне потерял за годы своих трудов и мучений, от Алисы и Жана до Мирбо и Жеффруа.
Внутренний мир художника предстанет нам еще отчетливее, если развернуться к лицевой стене второго зала, где висит самая мрачная и тревожная композиция — «Отражения деревьев», израненная картина со шрамами, оставшимися от снарядов. Как отметил Пол Хейс Такер, с этой композиции, «темной, призрачной… даже немного тоскливой», редко печатают репродукции — слишком уж она бередит душу[1240]. Она свидетельствует о том, что Моне не всегда видел одну только радость, это однозначный ответ любителям усмотреть в нем «великого утешителя», воспевающего усыпанные бликами речные берега и омытые солнцем лужайки. Листья водяных лилий мерцают жутковатой синевой, цветы их напоминают свечи — фонарики гоблинов Роллина — на фоне наползающих теней и меркнущего дневного света. Цвета мерцают и словно бы уплывают со стены.
В сердцевине этих мягко подсвеченных сумерек, на стыке двух холстов, различается смутный силуэт: нечеткий призрак ивы, которую мы видим в перевернутом отражении, текучая тень, увенчанная облаками синеватых листьев водяных лилий. Раздвоенный ствол напоминает истерзанное человеческое тело, то, может быть, утопленник, погружающийся в тенистые глубины. Если другие стены этого зала рассказывают о горе и утратах, в этом потустороннем полуобразе мы чувствуем гнев и страдания живописца и одновременно — его упорство и настойчивость. Моне не верил в Бога, но верил в божественную сущность природы, и раздвоенное существо, в которое превратилась ива, чем-то напоминает распятие. В нем — обещание воскресения и новой жизни, того, что «он не исчезнет, будет он / Лишь в дивной форме воплощен».
«Отражения деревьев» красноречивее других воплощают в себе долгие годы трудов и мучений: это автопортрет человека, которого, как и златовласого Гиласа, всегда тянуло в сияющую бездну пруда с водяными лилиями.
Благодарности
Я признателен всем, кто помогал мне по ходу сбора материала и написания этой книги. Как всегда, от всей души благодарю Джорджа Гибсона, редактора и издателя. Я очень ценю его редакторскую дальновидность и терпеливые советы, а также дружбу, которая успела растянуться на пять книг и пятнадцать с лишним лет. Джордж участвовал в создании этой книги от замысла до публикации, и у него всегда находилось время — притом что я не знаю более занятого человека — обсудить самые головоломные детали и решить, как включить их в общую картину. Рукопись стала гораздо лучше благодаря его поправкам и вдумчивым указаниям.
Я также очень признателен Полу Хейсу Такеру. Несмотря на сложный рабочий график и многочисленные обязанности, он всегда отвечал на мои вопросы, а потом взял на себя труд прочитать готовую рукопись. Доктор Такер посвятил всю свою карьеру расширению и углублению наших представлений о жизни и творчестве Моне, написав об этом две книги и организуя выставки. Особенно важной для меня стала выставка «Моне в ХХ веке», которую я видел в Лондонской королевской академии в 1999 году. Потрепанный и многократно перечитанный экземпляр каталога этой выставки, а также выпущенная Такером в 1995 году биография Моне постоянно находились у меня под рукой. Для меня было особой честью воспользоваться его знаниями — я очень ценю его уточнения, равно как и поправки.
На просьбу о помощи откликнулись и многие другие. Марк Эсквит, как всегда, стал одним из моих первых читателей — его вдумчивое и критическое отношение к тексту пошло рукописи на пользу. Марк уже двадцать лет остается моим близким другом и во многом «идеальным читателем», безупречному литературному чутью которого я привык доверять. Еще двое моих друзей, Анна-Мари Ригард-Эсквит и Фредерика Мюло, дали мне много советов относительно перевода сложных фрагментов.
За помощь по другим вопросам, равно как и за предоставленные сведения, я хочу поблагодарить Камиллу Биду (Университет Пари-Эст), Корианну Шарлери (городской архив Шату), Даниэль Шаплен (исторически-патриотический секретариат Сен-Этьена), Йена Арло, Марка Левича, Клэр Мэньон (Университет Руана), Бернара Риваттона (Музей старины Сен-Этьена), Жан-Мишеля Пирса, Кирилла Скьяма (Художественный музей Нанта) и Дитера Шварца (Художественный музей Винтертура). Кроме того, я признателен своей приятельнице Джин Глейзел — как и Моне, она нормандка, если не по рождению, то по зову души — за возможность приехать в 2010 году в Живерни в качестве руководителя туристской группы: именно тогда я всерьез задумался над историями и картинами, речь о которых идет в этой книге.
Я никогда не собрал бы необходимый материал, не имея доступа к обширным коллекциям двух великолепных библиотек, сотрудники которых проявляли чрезвычайную любезность: я имею в виду Лондонскую библиотеку и оксфордскую Библиотеку Сэклера. Кроме того, я активно пользовался чудом технологии, которое называется «Gallica», — оцифрованным и доступным в Сети собранием Французской национальной библиотеки; это великое счастье — читать газеты столетней давности, не покидая своего уютного кабинета в саду в Оксфордшире.
Я благодарю замечательных сотрудников издательства «Блумсбери» в Нью-Йорке и Лондоне за помощь в превращении рукописи в книгу. Линда Джонс помогла подобрать иллюстрации, а Джефф Уорд нарисовал карты. Я очень благодарен Глени Бартелс, техническому редактору, за дотошность и внимательность, Дэвиду Чесанову, корректору, Меге Джейн и ТК за составление указателя. Мне повезло с художниками: обложку для американского издания нарисовала Патти Рэтчфорд, а для английского — Дэвид Манн. Макет книги сделала Сара Стимен. Кроме того, я хочу поблагодарить сотрудников лондонской редакции — Майкла Фишвика, Викки Бедоу, Рейчел Николсон, Мэриголд Этки и Лору Брук, а из американцев лично Лору Киф, Сару Меркурио и Кэли Гарнетт. Что касается продвижения книги в Канаде, не могу не выразить свою благодарность замечательным сотрудникам «Даблдей», с которыми работаю уже почти десять лет: Кристин Кохрейн, Эми Блэк, Шейле Кей, Марте Леонард и Брэду Мартину.
Я, как всегда, в неоплатном долгу перед своим агентом Кристофером Синклером-Стивенсоном, который не только внимательно прочитал рукопись — как и всегда, — но и неизменно оставался, вместе со своей женой Деб, приятнейшим собеседником и занимательным спутником.
Работа над рукописью была завершена, когда я находился в качестве приглашенного писателя в гостинице «Ансьен оберж» в живописной горной деревушке Пюйселси. Я благодарю Дороти и Дэвида Александер за неизменное гостеприимство, а Дэнни Льюиса — за то, что он обеспечил мне доступ в Интернет. Я никогда не узнал бы о существовании такой прекрасной возможности работать в приятнейшей обстановке, если бы не мой друг Праджвал Параджули, предыдущий приглашенный писатель, — я искренне признателен ему за данные мне рекомендации. Вторым приглашенным писателем в Пюйселси была моя жена Мелани, отчего пребывание там стало еще приятнее. Мелани, как всегда, неизменно проявляла энтузиазм и поддержку, а что еще важнее — время от времени отвлекала меня от работы.
И в самом конце хочу поблагодарить своих братьев, сестер и их семьи. За последние несколько лет нам многое пришлось пережить. Наша мама Клэр Кинг скончалась, когда я работал над этой книгой, и, завершая свой труд, я постоянно думал о ней. Книгу я посвящаю ей, в благодарность за неизменное чувство юмора, за поддержку, воодушевление и любовь.
Избранная библиография
Alphant Marianne. Claude Monet: Une vie dans le paysage. Paris: Hazan, 1993.
Apter Emily. The Garden of Scopic Perversion from Monet to Mirbeau // October 47 (Winter 1988). P. 91–115.
Archives Claude Monet, Correspondance d’artiste: Collection Monsieur et Madame Cornebois.
Artcurialauction catalogue. Paris: Hôtel Dassault, 2006.
Avtonomova Natalya. Vasilii Kandinsky and Claude Monet // Experiment: A Journal of Russian Culture 9 (2003). P. 57–68.
Becker Jean-Jacques. The Great War and the French People / Trans. Arnold Pomerans. Leamington Spa: Berg, 1985.
Bernier Ronald R. Monument, Moment, and Memory: Monet’s Cathedral in Fin de Siècle France. Cranbury, NJ: Associated University Press, 2007.
Buffet Eugénie. Ma vie, mes amours, mes aventures: Confidences recueillies par Maurice Hamel. Paris: Eugène Figuière, 1930.
Burke Janine. Monet’s ‘Angel’: The Artistic Partnership of Claude Monet and Blanche Hoschedé-Monet // Colloquy: text theory critique 22 (2011). P. 68–80.
Butler Ruth. Hidden in the Shadow of the Master: The Model-Wives of Cézanne, Monet, and Rodin. New Haven, CT: Yale University Press, 2008.
Butler Ruth. Rodin: The Shapes of Genius. New Haven, CT: Yale University Press, 1993.
Carr Reg. Anarchism in France: The Case of Octave Mirbeau. Manchester, UK: Manchester University Press, 1977.
Charteris Evan. John Sargent. New York: Charles Scribner’s Sons, 1927.
Churchill Winston. Great Contemporaries. London: Thornton Butterworth, 1937.
Clemenceau Georges. Claude Monet: Les Nymphéas. Paris: Plon, 1928.
Clemenceau Georges. Discours de Guerre: Recueillis et publiés par la Société des Amis de Georges Clemenceau. Paris: Presses Universitaires de France, 1968.
Clemenceau Georges. Georges Clemenceau à son ami Claude Monet: Correspondance. Annotated by Jean-Claude Montant. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1993.
Clemenceau Georges. Lettres à une amie, 1923–1929 / Ed. Pierre Brive. Paris: Gallimard, 1970.
Dallas Gregor. At the Heart of a Tiger: Clemenceau and His World, 1841–1929. London: Macmillan, 1993.
Dallas Gregor. 1918: War and Peace. London: Pimlico, 2002.
Delouche Danielle. Cubisme et camouflage // Guerres mondiales et conflits contemporains 171: Représenter la Guerre de 1914–1918 (Juillet 1993). P. 123–137.
Duroselle Jean-Baptiste. Clemenceau. Paris: Fayard, 1988.
Edwards Hugh. The Caricatures of Claude Monet // Bulletin of the Art Institute of Chicago (1907–1951) (September-October 1943). P. 71–72.
Elder Marc. A Giverny, chez Claude Monet. Paris: Bernheim-Jeune, 1924. Reprint, Paris: Mille et une nuits, 2010.
Fels Marthe de. La Vie de Claude Monet. Paris: Gallimard, 1929.
Flam Jack. Matisse and Picasso: The Story of Their Rivalry and Friendship. Cambridge, MA: Westview Press, 2004.
Fussell Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 1975. Reprint, Oxford: Oxford University Press, 2013.
Gasquet Joachim. Cézanne. Paris: Les Éditions Bernheim-Jeune, 1921.
Geffroy Gustave. Claude Monet: Sa vie, son temps, son oeuvre. Paris: G. Crès, 1922.
Gibbons Helen Davenport. Paris Vistas. New York: The Century Co., 1919.
Gillet Louis. Trois variations sur Claude Monet. Paris: Librairie Plon, 1927.
Gimpel René. Diary of an Art Dealer / Trans. John Rosenberg. London: Hodder & Stoughton, 1966.
Golan Romy. Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the Wars. New Haven, CT: Yale University Press, 1995.
Golan Romy. Oceanic Sensations: Monet’s Grandes Décorations and Mural Painting in France from 1927 to 1952 // Tucker Paul Hayes, Shackleford, George T. M., Stevens Mary Anne. Monet in the 20th Century. New Haven and London: Yale University Press, 1998. P. 86–97.
Golding John. Matisse and Cubism. Glasgow: University of Glasgow Press, 1978.
Goncourt Edmond de, Goncourt Jules de. Journal: Mémoires de la vie littéraire. 3 vols. Annotated by Robert Ricatte. Paris: Robert Laffont, 1989.
Gréard Valéry C. O. Meissonier: His Life and Art / Trans. Lady Mary Loyd, miss Florence Simmonds. London: William Heinemann, 1897.
Griel Jacques Le. Voyage fait à Giverny (Eure) par les conseillers municipaux de Saint- Étienne qui y allèrent pour acquérir pour le musée un tableau de M. Claude Monet // Les Amitiés Foréziennes et Vellaves (Avril 1925). Reprinted: Bulletin du Vieux Saint-Etienne 218 (Juin 2005). P. 36–41.
Guitry Sacha. If I Remember Right / Trans. Lewis Galantière. London: Methuen, 1935.
Harding James. Sacha Guitry: The Last Boulevardier. London: Methuen, 1968.
Herbert Robert L. Impressionism: Art, Leisure, and Parisian Society. New Haven, CT: Yale University Press, 1988.
Herbert Robert L. Method and Meaning in Monet // Art in America 67 (September 1979). P. 91–108.
Holt Edgar. The Tiger: The Life of Georges Clemenceau, 1841–1929. London: Hamish Hamilton, 1976.
Hoog Michel. La Cathédrale de Reims de Claude Monet, ou le tableau impossible // Revue du Louvre (1981): 22–24.
Horne Alistair. The Price of Glory: Verdun 1916. London: Macmillan, 1962.
Hoschedé Jean-Pierre. Claude Monet, ce mal connu: intimité familiale d’un demi-siècle à Giverny de 1883 à 1926. 2 vols. Geneva: Pierre Cailler, 1960.
House John. Monet: Nature into Art. New Haven, CT: Yale University Press, 1986.
Impressionist Giverny: A Colony of Artists, 1885–1915 / Ed. Katherine M. Bourguignon Giverny: Musée d’art Américain, 2007.
Joyes Claire. Monet’s Table: The Cooking Journal of Claude Monet. New York: Simon & Schuster, 1989.
Keiger J. F. V. Raymond Poincaré. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.
Kelly Simon. Monet’s Water Lilies: The Agapanthus Triptych. St. Louis: St. Louis Art Museum, 2011.
Kipling Rudyard. The Letters of Rudyard Kipling. Vol. 5 / Ed. Thomas Pinney. Iowa City: University of Iowa Press, 2004.
Levine Steven Z. Monet, Narcissus, and Self-Reflection: The Modernist Myth of the Self. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Levitch Mark. The Great War Re-remembered: The Fragmentation of the World’s Largest Painting // Matters of Conflict: Material Culture, Memory and the First World War / Ed. Nicholas J. Saunders. London: Routledge, 2004. P. 90–108.
Limousin Christian. Monet au Jardin des supplices // Cahiers Octave Mirbeau 8 (Avril 2001). P. 256–278.
l’Opération de la cataracte de Claude Monet: Correspondance inédite du peintre et de G. Clemenceau au docteur Coutela / Ed. J. Royer, J. Haut, P. Almaric // Histoire des Sciences Médicales 18 (1984). P. 109–127.
Lyon Christopher. Unveiling Monet // MoMA 7 (Spring 1991). P. 14–23.
MacMillan Margaret. Paris 1919: Six Months that Changed the World. New York: Random House, 2001.
Maingon Claire, Campserveux David. A Museum at War: The Louvre 1914–1921 // L’Esprit Créateur 54 (Summer 2014). P. 127–140.
Maloon Terence. Monet’s Posterity // Monet and the Impressionists / Ed. George T. M. Shackleford. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2008. P. 177–189.
Martet Jean. Clemenceau: The Events of His Life as Told by Himself to His Former Secretary / Trans. Milton Waldman. London: Longmans, Green & Co., 1930.
Masson André. Monet the Founder / Trans. Terence Maloon // Monet and the Impressionists / Ed. George T. M. Shackleford. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2008. P. 190–191.
Matisse Henri. Matisse on Art / Ed. Jack Flam. Los Angeles; Berkeley: University of California Press, 1995.
Mauclair Camille. L’Impressionnisme: son histoire, son esthétique, ses maîtres. Paris: Librairie de l’Art Ancien et Moderne, 1904.
Michel Pierre, Nivet Jean-François. Combats politiques de Mirbeau. Paris: Librairie Séguier, 1990.
Michel Pierre, Nivet Jean-François. Octave Mirbeau: l’imprécateur au cœur fidèle. Paris: Librairie Séguier, 1990.
Mirbeau Octave. Correspondance avec Claude Monet / Ed. Pierre Michel, Jean-François Nivet. Tusson: Du Lérot, 1990.
Mirbeau Octave. Correspondance Générale / Ed. Pierre Michel, Jean-François Nivet. 3 vols. Lausanne: LAge d’Homme, 2003–2009.
Mirbeau Octave. Le Jardin des Supplices. Paris: Eugène Fasquelle, 1899.
Monet: Paintings and Drawings at the Art Institute of Chicago / Ed. Gloria Groom, Jill Shaw. Chicago: Art Institute of Chicago, 2014.
Patry Sylvie. Monet and Decoration // Claude Monet, 1840–1926. Paris: Réunion des musées nationaux, 2010. P. 318–325.
Piguet Philippe. Claude Monet au temps de Giverny. Paris: Centre culturel du Marais, 1983.
Pilon Edmond. Octave Mirbeau. Paris: Bibliothèque Internationale, 1903.
Rewald John. The History of Impressionism. New York: Museum of Modern Art, 1961.
Roy Ashok. Monet’s Palette in the Twentieth Century: Water-Lilies and Irises // National Gallery Technical Bulletin 28. London: National Gallery, 2007. P. 61–67.
Saint-Marceaux Marguerite de. Journal 1894–1927 / Ed. Myriam Chimènes. Paris: Fayard, 2007.
Séguéla Matthieu. Le Japonisme de Georges Clemenceau // Ebisu 27 (Automne — hiver 2001). P. 7–44.
Shackleford George T. M. Monet and Japanese Art // Shackleford George T. M. Monet and the Impressionists. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2008. P. 91–94.
Shackleford George T. M., with contributions by Jonathan Mane-Wheoki, Clare Durand-Ruel Snollaerts, Terence Maloon. Monet and the Impressionists. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2008.
Silver Kenneth E. Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and Germany, 1918–1919. New York: Guggenheim Museum Publications, 2010.
Silver Kenneth E. Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First World War, 1914–1925. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.
Silvestre Armand. Au Pays des souvenirs: Mes maîtres et mes maîtresses. Paris: La Librairie Illustrée, 1892.
Spate Virginia. Claude Monet: The Color of Time. London: Thames & Hudson, 1992.
Spurling Hilary. The Unknown Matisse: A Life of Henri Matisse: The Early Years, 1869–1908. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1998.
Stanley Edward, earl of Derby. Paris 1918: The War Diary of the 17th Earl of Derby / Ed. David Dutton. Liverpool: Liverpool University Press, 2001.
Stuckey Charles F. Blossoms and Blunders: Monet and the State.Part I // Art in America (January-February 1979). P. 102–117. Part II // Ibid. (September 1979). P. 109–125.
Stuckey Charles F. Claude Monet, 1840–1926. London: Thames & Hudson, 1995.
Suarez Georges. La vie orgueilleuse de Clemenceau. Paris: Éditions P. Saurat, 1987.
Temkin Anne; Lawrence Nora. Claude Monet: Water Lilies. New York: Museum of Modern Art, 2009.
Tucker Paul Hayes. Claude Monet: Life and Art. New Haven; London: Yale University Press, 1995.
Tucker Paul Hayes. Monet in the ‘90s: The Series Paintings. Boston: Museum of Fine Arts, 1989.
Tucker Paul Hayes. Revolution in the Garden: Monet in the Twentieth Century // Tucker Paul Hayes. Monet in the 20th Century. New Haven, CT; London: Yale University Press, 1998.
Vollard Ambrose. Paul Cézanne / Trans. H. L. van Doren. London: Brentano, 1924.
Vollard Ambrose. Recollections of a Picture Dealer / Trans. Violet M. MacDonald. Mineola, NY: Dover, 2002.
Vollard Ambrose. Renoir: An Intimate Record / Trans. Harold L. Van Doren, Randolph T. Weaver. New Yark: Alfred A. Knopf, 1925.
Watson D. R. Clemenceau: A Political Biography. London: Eyre Methuen, 1974.
Wildenstein Daniel. Claude Monet: Biographie et catalogue raisonné. 5 vols. Lausanne; Paris: La Bibliothèque des Arts, 1974–1991.
Wildenstein Daniel. Monet, or the Triumph of Impressionism. Cologne; Paris: Taschen, 1996.
Williams Wythe. The Tiger of France: Conversations with Clemenceau. New York: Duell, Sloan & Pearce, 1949.
Zeldin Theodore. France 1848–1945: Politics and Anger. Oxford: Oxford University Press, 1979.
Список имен
Александр Арсен (1859–1937) — французский художественный критик.
Ален-Фурнье (наст. имя Анри Фурнье; 1886–1914) — французский писатель.
Алиса см. Ошеде-Моне Алиса
Альфан Марианна (р. 1945) — французская писательница и литературный критик.
Анго Альфред (1848–1924) — французский физик, метеоролог и климатолог.
Анно Жан-Жак (р. 1943) — французский кинорежиссер и сценарист.
Антуан Андре (1858–1943) — французский режиссер театра и кино, теоретик театра.
Аполлинер Гийом (1880–1918) — французский поэт.
Аполлоний Родосский (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт и грамматик.
Араго Этьен (1802–1892) — французский журналист, драматург и политический деятель, мэр Парижа в 1870 г.
Аристофан (444 до н. э. — ок. 380 до н. э.) — древнегреческий комедиограф.
Арло Ян — французский историк и искусствовед.
Арнивельд Андре (1889–1942) — французский журналист, драматург и романист.
Асквит Герберт Генри (1852–1928) — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1908–1916 гг.
Астор Нэнси (1879–1964) — виконтесса, первая женщина, ставшая депутатом нижней палаты британского парламента.
Базиль Жан Фредерик (1841–1870) — французский художник.
Барбе д’Оревильи Жюль Амеде (1808–1889) — французский писатель и публицист.
Барбье Андре (1883–1970) — французский художник.
Барбюс Анри (1873–1935) — французский писатель, журналист и общественный деятель.
Барильон мадам — работница магазина художественных товаров.
Барр Альфред (1902–1981) — американский историк искусства, первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке.
Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель.
Барти Жак — французский журналист.
Бартоломе Альбер (1848–1928) — французский художник и скульптор.
Барту Луи (1862–1934) — французский политик и государственный деятель.
Батлер Жак-Жан Филипп (Джеймс, Джимми) (1893–1976) — американский художник, внук Клода Моне.
Батлер Теодор Эрл (1861–1936) — американский художник.
Батлер Элис (Лили) (1894–1949) — внучка Клода Моне, модельер.
Баяр Эмиль (1868–1937) — французский историк искусства и художественный критик.
Беаг Мартина Мари-Поль де, графиня Беарнская (1869–1939) — французская светская львица, меценат и коллекционер.
Белл Клайв (1881–1964) — английский искусствовед и художественный критик.
Бельо Жорж де (1828–1894) — французский врач-гомеопат, коллекционер.
Бенар Поль-Альбер (1849–1934) — французский художник, директор парижской Школы изящных искусств.
Бенедит Леонс (1859–1925) — французский историк искусства, старший хранитель Люксембургского музея, хранитель Музея Родена.
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — русский художник, историк и художественный критик.
Бергсон Анри (1859–1941) — французский философ.
Бёре Роз (1844–1917) — модель и возлюбленная Огюста Родена.
Берк Джанин (р. 1952) — австралийская писательница, биограф, историк искусства.
Бернар Сара (1844–1923) — французская актриса.
Бернар Эмиль (1868–1941) — французский художник.
Бернхайм Жорж — французский арт-дилер.
Бернхайм-Жён Гастон (1870–1953) — владелец художественной галереи в Париже.
Бернхайм-Жён Жосс (Жозеф) (1870–1941) — владелец художественной галереи в Париже.
Бетховен Людвиг ван (1770–1827) — немецкий композитор.
Бидо Камилла — специалист по истории французской архитектуры.
Блан Шарль (1813–1882) — французский художественный критик, историк, искусствовед и гравер.
Бланш Жак-Эмиль (1861–1942) — французский художник.
Блейк Уильям (1757–1827) — английский поэт, художник и гравер.
Блисс Корнелиус Ньютон (1833–1911) — американский политический деятель, министр внутренних дел в 1897–1899 гг.
Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт, критик и эссеист.
Бодрез — нотариус Клода Моне.
Бонавентура Габриель (1890–1964) — супруга Мишеля Моне.
Бонна Леон (1833–1922) — французский художник, коллекционер.
Боннар Пьер (1867–1947) — французский художник.
Боннье Изабель — супруга Луи Боннье.
Боннье Луи (1856–1946) — французский архитектор.
Бора Уильям (1865–1940) — американский политический деятель, сенатор.
Борбони-и-Борбон Франсиско Мария де (1885–1923) — первый герцог де Марчена.
Боччони Умберто (1882–1916) — итальянский художник и скульптор, теоретик футуризма.
Брабан Альбер — шофер Жоржа Клемансо.
Брак Жорж (1882–1963) — французский художник, скульптор и декоратор.
Брёй Феликс — садовник Моне.
Бриан Аристид (1862–1932) — французский политический деятель, неоднократно занимавший пост премьер-министра.
Бринкман Альберт (1881–1958) — немецкий историк искусства.
Брэнгвин Фрэнк (1867–1956) — британский художник и дизайнер.
Буден Эжен (1824–1898) — французский художник.
Булен Альбер — слуга Жоржа Клемансо.
Бюрле Эмиль Георг (1890–1956) — немецкий производитель оружия и коллекционер.
Бюффе Эжени (1866–1934) — французская певица.
Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор.
Валери Поль (1871–1945) — французский поэт, эссеист и философ.
Вальдек-Руссо Пьер (1846–1904) — французский государственный деятель.
Вальтер Жан (1883–1957) — французский архитектор, владелец собрания французской живописи.
Ван Гог Винсент (1853–1890) — голландский и французский художник-постимпрессионист.
Ватто Антуан (1684–1721) — французский художник.
Вашон Мариус (1850–1928) — французский историк и художественный критик.
Вермеер Ян (1632–1675) — голландский художник.
Верт Леон (1878–1955) — французский прозаик и литературный критик.
Верхарн Эмиль (1855–1916) — бельгийский поэт и драматург.
Вивиани Рене (1863–1925) — французский политический и государственный деятель.
Вийон Жак (1875–1963) — французский художник.
Вильгельм II (1859–1941) — последний германский император и король Пруссии с 1888 по 1918 г.
Вильденштейн Натан (1851–1934) — французский арт-дилер.
Вильсон Вудро (1856–1924) — президент США в 1913–1921 гг.
Виттон Луи (1821–1892) — французский модный дизайнер и предприниматель, основатель модного дома «Луи Виттон».
Вламинк Морис де (1876–1958) — французский художник.
Воксель Луи (1870–1943) — французский художественный критик.
Вольтер (наст. имя Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778) — французский философ.
Вюйар Эдуард (1868–1940) — французский художник.
Галлан Пьер-Виктор (1822–1892) — французский художник, декоратор.
Гальени Жозеф (1849–1916) — французский военачальник, военный комендант Парижа в 1914 г., министр обороны, маршал Франции.
Гастон Филипп (наст. имя Филипп Гольдштейн; 1913–1980) — американский художник.
Гаше Поль (1828–1905) — французский врач, покровитель импрессионистов, художник-любитель.
Генрих IV Великий (1553–1610) — король Франции с 1589 г.
Геон Анри (1875–1944) — французский драматург, романист, поэт и критик.
Георг V (1865–1936) — король Великобритании и Ирландии с 1910 г.
Геррик Майрон (1854–1929) — американский политический деятель, посол США во Франции.
Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) — немецкий поэт, философ, государственный деятель.
Гибсон Айрин (урожд. Лэнгхорн) — супруга Чарльза Гибсона.
Гибсон Чарльз Дана (1867–1944) — американский художник и иллюстратор, редактор и владелец журнала «Лайф».
Гийемо Морис (1859–1931) — французский литератор и журналист.
Гийом Поль (1891–1934) — французский арт-дилер.
Гиллемард Лоренс (1862–1951) — британский губернатор колонии Стрейтс-Сеттлментс на полуострове Малакка.
Гиран де Севола Люсьен-Виктор (1871–1950) — французский художник.
Гитри Саша (наст. имя Александр Жорж Пьер Гитри; 1885–1957) — французский писатель, актер, режиссер и продюсер.
Гоген Поль (1848–1903) — французский художник, скульптор-керамист.
Годье-Бжеска Анри (1891–1915) — французский скульптор, работавший в Англии.
Гольбейн Ганс (1497–1543) — немецкий художник.
Гомер (VIII в. до н. э.) — легендарный древнегреческий поэт-сказитель.
Гонкур Жюль (1830–1870) — французский писатель.
Гонкур Эдмон (1822–1896) — французский писатель.
Горже Огюст-Франсуа (1862–1927) — французский художник.
Готье Теофиль (1811–1872) — французский поэт и критик.
Гранвиль Жан Иньяс (1803–1847) — французский художник-иллюстратор.
Гранофф Катя (1896–1989) — французская поэтесса русского происхождения, владелица галереи.
Гринберг Клемент (1909–1994) — американский художественный критик, теоретик абстрактного экспрессионизма.
Гурмон Реми де (1858–1915) — французский писатель, эссеист и художественный критик.
Гюго Виктор (1802–1885) — французский писатель, драматург и поэт.
Гюисманс Жорис Карл (1848–1907) — французский писатель.
Далимье Альбер (1875–1936) — французский политический и государственный деятель.
Даллас Грегор (р. 1948) — французский историк английского происхождения, автор книг, посвященных истории Европы.
Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка.
Де Га Рене — брат Эдгара Дега.
Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор.
Дега Эдгар (1834–1917) — французский живописец, график и скульптор.
Декав Люсьен (1861–1949) — французский журналист и писатель.
Деконши Фердинанд (1859–1946) — французский художник.
Делакруа Эжен (1798–1863) — французский художник.
Делестр Жан-Батист (1800–1871) — французский художник и автор работ об искусстве.
Дени Морис (1870–1943) — французский художник, теоретик искусства.
Дерби Стэнли Эдвард, граф (1865–1948) — британский военный, политический деятель, дипломат, посол Великобритании во Франции.
Дерен Андре (1880–1954) — французский художник.
Дешанель Поль (1855–1922) — французский политик, президент Франции в 1920 г.
Дидро Дени (1713–1784) — французский писатель, философ-просветитель и драматург.
Дикон Глэдис (1881–1977) — франко-американская светская львица, вторая супруга Чарльза Спенсера-Черчилля, герцога Мальборо.
Диор Кристиан (1905–1957) — французский модельер, основатель модного дома «Кристиан Диор».
Диор Люсьен (1867–1932) — французский политический и государственный деятель, министр коммерции и промышленности.
Доде Леон (1867–1942) — французский писатель и литературный критик.
Донателло (ок. 1386–1466) — итальянский скульптор.
Донсье Камилла (1847–1879) — первая супруга и модель Клода Моне.
Доре Гюстав (1832–1883) — французский гравер, иллюстратор и живописец.
Дрейфус Альфред (1859–1935) — французский офицер, еврей по происхождению, ложно обвиненный в шпионаже в пользу Германии.
Дюбуа-Пилле Альбер (1846–1890) — французский художник.
Дювин Джозеф (1869–1939) — британский арт-дилер.
Дюмесниль Гастон (1879–1918) — французский юрист, адвокат, член палаты депутатов.
Дюмон Анри-Жюльен (1859–1921) — французский художник.
Дюран-Рюэль Жозеф (1862–1928) — французский торговец картинами, сын Поля Дюран-Рюэля.
Дюран-Рюэль Жорж (1856–1920) — французский торговец картинами, сын Поля Дюран-Рюэля.
Дюран-Рюэль Поль (1831–1922) — французский коллекционер и владелец галереи, оказывавший поддержку художникам и организовывавший персональные выставки.
Дюшан Марсель (1887–1968) — французский и американский художник и теоретик искусства.
Дюшан-Вийон Раймон (1876–1918) — французский художник и скульптор.
Ёсихито, император Тайсё (1879–1926) — император Японии.
Жамм Франсис (1868–1938) — французский поэт.
Жамо Поль (1863–1939) — французский художник, художественный критик и музейный хранитель.
Жанна д’Арк (1412–1431) — национальная героиня Франции, одна из командующих войсками в Столетней войне, католическая святая.
Жерико Теодор (1791–1824) — французский художник.
Жером Жан-Леон (1824–1904) — французский художник и скульптор.
Жеффруа Гюстав (1855–1926) — французский писатель и художественный критик.
Жеффруа Дельфина (ум. 1926) — сестра Гюстава Жеффруа.
Жид Андре (1869–1951) — французский писатель.
Жилле Луи (1876–1943) — французский художественный и литературный критик, историк искусства.
Жимпель Рене (1881–1945) — французский арт-дилер, сын Эрнеста Жимпеля.
Жимпель Эрнест (1858–1907) — французский арт-дилер, основатель фирмы «Жимпель и Вильденштейн».
Жиньу Режис (1878–1931) — французский журналист, критик, романист и драматург.
Жорес Жан (1859–1914) — деятель французского и международного социалистического движения, философ и историк.
Жуайан Морис (прозв. Момо; 1864–1930) — владелец художественной галереи в Париже.
Захарофф Базиль (1849–1936) — греческий предприниматель, торговец оружием, финансист.
Золя Эмиль (1840–1902) — французский писатель.
Зубалов Яков (1876–1941) — французский коллекционер грузинского происхождения, меценат, художник-любитель.
Ибсен Генрик (1828–1906) — норвежский драматург, поэт и публицист.
Кайботт Гюстав (1848–1894) — французский художник и коллекционер.
Кайо Генриетта (1874–1943) — парижская светская львица и супруга Жозефа Кайо.
Кайо Жозеф (1863–1944) — французский политический и государственный деятель.
Кальметт Гастон (1858–1914) — французский журналист и редактор газеты «Фигаро».
Камондо Исаак де, граф (1851–1911) — французский коммерсант и коллекционер еврейского происхождения.
Камуан Шарль (1879–1965) — французский художник.
Кан Гюстав (1859–1936) — французский поэт и прозаик, литературный и художественный критик.
Канвейлер Даниэль-Анри (1884–1979) — французский галерист немецкого происхождения, историк искусства и писатель.
Кандинский Василий (1866–1944) — русский художник и теоретик искусства.
Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ.
Каролюс-Дюран (наст. имя Шарль-Эмиль-Огюст Дюран; 1838–1917) — французский художник.
Карпо Жан-Батист (1827–1875) — французский скульптор.
Каррье-Беллез Пьер (1851–1932) — французский художник. 105, 143, 144, 145, 160, 161, 205, 230.
Кателино мадам — знакомая Клода Моне.
Кейнс Джон Мэйнард (1883–1946) — английский экономист.
Келли Элсуорт (1923–2015) — американский художник и скульптор.
Кер-Ксавье Руссель (1867–1944) — французский художник.
Кимбол Уильям (1828–1904) — американский предприниматель, основатель фирмы «Кимбол интернешнл», изготавливающей фортепиано и орга́ны.
Кимбол Эвалайн (1840–1921) — американский коллекционер, супруга Уильяма Кимбола.
Киплинг Редьярд (1865–1936) — английский писатель и поэт.
Кладель Жюдит (1873–1958) — французская писательница, романистка, драматург, биограф.
Кларк Кеннет (1903–1983) — британский писатель, историк, искусствовед.
Клемансо Альберт (1861–1955) — французский политик и адвокат, брат Жоржа Клемансо.
Клемансо Бенжамен (1810–1897) — французский землевладелец, отец Жоржа Клемансо.
Клемансо Жан (XVI в.) — книготорговец, пожалованный дворянским титулом.
Клемансо Жорж (1841–1929) — политический деятель, премьер-министр Франции в 1906–1909, 1917–1920 гг.
Клемансо Мишель (1873–1964) — французский политик, сын Жоржа Клемансо.
Клемансо Софи (1853–1923) — сестра Жоржа Клемансо.
Клемантель Этьен (1864–1936) — французский политический деятель.
Климт Густав (1862–1918) — австрийский художник.
Клотильда — кухарка Жоржа Клемансо.
Кобурн Энни Суон (1856–1932) — американская собирательница произведений искусства и меценат.
Кокрейн Александр (1840–1919) — американский предприниматель, владелец химических предприятий.
Кокто Жан (1889–1963) — французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер.
Коллиньон Альбер (1839–1922) — французский литератор, мэр Живерни.
Констебл Джон (1776–1837) — английский художник.
Коро Камиль (1796–1875) — французский художник и гравер, пейзажист.
Коттен Эмиль (1896–1936) — французский анархист, покушавшийся на Жоржа Клемансо.
Кошен Дени (1851–1922) — французский писатель и политик.
Кошлен Альфред (1829–1895) — французский промышленник и политический деятель.
Кошлен Раймон (1860–1931) — французский журналист, историк искусства и коллекционер.
Крайслер Уолтер Перси-младший (1909–1988) — американский коллекционер, меценат.
Крафт Хью (1853–1935) — французский путешественник и фотограф.
Крюси Франсуа (1875–1958) — французский журналист.
Курбе Гюстав (1819–1877) — французский художник.
Куроки Сандзи — японский барон.
Куроки Такико — супруга Сандзи Куроки.
Кутела Шарль (1876–1969) — французский офтальмолог.
Кэссетт Мэри (1844–1926) — американская художница и график, бо́льшую часть жизни работавшая во Франции.
Ла Туш Гастон де (1854–1913) — французский художник и иллюстратор.
Лаведан Анри (1859–1940) — французский сценарист, драматург, романист.
Лагард Пьер (1853–1910) — французский художник.
Ланктюи Морис — директор строительной компании и владелец каменоломни, руководивший строительством третьей мастерской Клода Моне в Живерни.
Латур-Марлиак Жозеф Бори (1830–1911) — французский юрист и ботаник и селекционер.
Лафорг Жюль (1860–1887) — французский поэт.
Ле Гриэль Жак — член городского совета Сен-Этьена.
Лебре Леон — садовник Клода Моне.
Левайн Стивен — американский историк искусства.
Левич Марк — американский историк искусства.
Левр Жанна — племянница Эдгара Дега.
Леже Фернан (1881–1955) — французский художник и скульптор.
Лейг Жорж (1857–1933) — французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1920–1921 гг.
Леконт Жорж (1867–1958) — французский писатель, журналист, драматург и литературный критик.
Леневё Жюль-Эжен (1819–1898) — французский художник.
Ленотр Андре (1613–1700) — французский ландшафтный архитектор, придворный садовод Людовика XIV.
Леото Поль (1872–1956) — французский писатель.
Леруа Луи — французский журналист, драматург и гравер.
Лефевр Камиль (1876–1946) — французский архитектор.
Лизес Шарлотта (1877–1956) — французская актриса театра и кино, супруга Саша Гитри.
Лимузен Кристиан (р. 1948) — французский поэт, историк искусства и художественный критик.
Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1945) — британский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг.
Лодж Генри Кэбот (1850–1924) — американский политик и историк.
Лоран Жан-Поль (1838–1921) — французский художник, скульптор, график и иллюстратор, член Академии художеств.
Лот Андре (1885–1962) — французский художник и скульптор.
Лушер Луи (1872–1931) — французский писатель и политический деятель.
Людендорф Эрих (1885–1937) — немецкий генерал пехоты.
Людовик XII (1462–1515) — король Франции с 1498 г.
Людовик XIV (1638–1715) — король Франции с 1643 г.
Людовик Тулузский (1274–1297) — принц, епископ Тулузы, католический святой.
Люс де Тремон Амеде — французский землевладелец, владелец поместья «Белеба».
Мавас Жак — французский офтальмолог.
Маке Август (1887–1914) — немецкий художник.
Макмоннис Фридерик Уильям (1863–1937) — американский художник и скульптор.
Макэйди Александр (1863–1943) — американский метеоролог.
Малларме Стефан (1842–1898) — французский поэт.
Маль Эмиль (1862–1954) — французский историк искусства, медиевист.
Мальви Жан Луи (1875–1949) — французский политический деятель, член партии радикал-социалистов.
Мандель Жорж (1885–1944) — французский политик и государственный деятель.
Мане Эдуард (1832–1883) — французский художник.
Манц Поль (1821–1895) — французский историк искусства.
Манци Микеле (1849–1915) — французский гравер итальянского происхождения, издатель, торговец произведениями искусства.
Маргарита — кухарка Клода Моне.
Маргарита Наваррская (1492–1549) — французская принцесса, одна из первых женщин-писательниц во Франции.
Маре Андре (1885–1932) — французский художник.
Мария-Луиза Австрийская (1791–1847) — императрица Франции в 1810–1814 гг.
Марк Франц (1880–1916) — немецкий художник.
Марке Альбер (1875–1947) — французский художник.
Мартен Анри (1860–1943) — французский художник.
Марчена Мария дель Пилар де, герцогиня (1869–1926) — испанская аристократка.
Массон Андре (1896–1987) — французский художник.
Матисс Анри (1869–1954) — французский художник.
Матисс Жан (1899–1976) — сын Анри Матисса.
Матисс Маргарита (1894–1982) — дочь и модель Анри Матисса.
Матисс Пьер (1900–1989) — сын Анри Матисса.
Мацуи Кеисиро (1868–1946) — японский дипломат и государственный деятель, посол Японии во Франции и в Великобритании.
Мацуката Кодзиро (1865–1950) — японский предприниматель и коллекционер.
Мейровиц Э. Б. — специалист по глазной оптике.
Мельба Нелли (1861–1931) — австралийская оперная певица.
Менон Клэр — французский историк искусства.
Ментенон Франсуаза д’Обинье де, маркиза (1635–1719) — морганатическая супруга Людовика XIV, основательница первой светской женской школы в Европе.
Мерсон Люк-Оливье (1846–1920) — французский художник, график, гравер, иллюстратор, член Академии художеств.
Месонье Жан-Луи-Эрнест (1815–1891) — французский художник, автор картин на исторические темы, обычно небольшого формата.
Метерлинк Морис (1862–1949) — бельгийский писатель, драматург и философ.
Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.
Мильеран Александр (1859–1943) — французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1920 г., президент в 1920–1924 гг.
Мирбо Октав (1848–1917) — французский писатель.
Митчелл Джоан (1926–1992) — американская художница.
Мишель Пьер (р. 1942) — французский литературовед, специалист по творчеству Октава Мирбо.
Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк и публицист.
Модюи Луи де (1857–1921) — французский дивизионный генерал.
Моклер Камиль (1872–1945) — французский поэт, прозаик и художественный критик.
Мольтке Хельмут Иоганн Людвиг фон (1848–1916) — немецкий военный деятель, генерал-полковник.
Моне Жан (1867–1914) — старший сын Клода Моне.
Моне Леон (1836–1917) — брат Клода Моне, владелец химического завода.
Моне Мишель (1878–1966) — младший сын Клода Моне.
Монтень Мишель де (1533–1592) — французский писатель и философ.
Монтескье Робер де (1855–1921) — французский писатель, денди и критик.
Мопассан Ги де (1850–1893) — французский писатель.
Моризо Берта (1841–1895) — французская художница.
Морис Шарль (1860–1919) — французский писатель, поэт и критик.
Моррас Шарль (1868–1952) — французский публицист, критик, поэт.
Мэйволд Вилли (1907–1985) — французский фотограф немецкого происхождения, официальный фотограф дома «Диор».
Мэри см. Пламмер Мэри
Мюрер Эжен (1845–1906) — владелец кондитерской и ресторана, писатель, художник-любитель и коллекционер.
Мюссе Альфред де (1810–1857) — французский поэт, драматург и прозаик.
Надо Гюстав (1820–1893) — французский композитор, поэт, сочинитель песен и шансонье.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) — император французов, полководец и государственный деятель.
Наполеон III Шарль Луи Бонапарт (1808–1873) — французский император в 1852–1870 гг.
Нивель Робер (1856–1924) — французский дивизионный генерал, главнокомандующий французской армией во время Первой мировой войны.
Ноай Анна де (1876–1933) — французская поэтесса, хозяйка литературного салона.
Нордау Макс (наст. имя Симон Максимилиан Зюдфельд; 1849–1923) — врач-психиатр, философ, писатель, общественный деятель.
Ньюман Барнетт (1905–1970) — американский художник.
Овидий Публий Назон (43 до н. э. — 17/18 н. э.) — древнеримский поэт.
Одюбон Джон Джеймс (1785–1851) — американский художник-анималист, натуралист и орнитолог.
Остхаус Карл Эрнст (1874–1921) — немецкий коллекционер и меценат.
Оффенбах Жак (1819–1880) — французский композитор и дирижер.
Ошеде Алиса см. Ошеде-Моне Алиса
Ошеде Жак (1869–1941) — пасынок Клода Моне.
Ошеде Жан-Пьер (1877–1961) — пасынок Клода Моне, автор книги о художнике.
Ошеде Женевьева (урожд. Косто; 1874–1957) — супруга Жан-Пьера Ошеде.
Ошеде Жермена (1873–1968) — падчерица Клода Моне.
Ошеде Марта (1864–1925) — падчерица Клода Моне.
Ошеде Сюзанна (1868–1899) — падчерица и модель Клода Моне.
Ошеде Эрнест (1838–1891) — французский предприниматель и коллекционер, друг Клода Моне.
Ошеде-Моне Алиса (в девичестве Ренго, 1844–1911) — вторая супруга Клода Моне.
Ошеде-Моне Бланш (1865–1947) — французская художница, падчерица и невестка Клода Моне.
Палмер Берта (1849–1918) — американская предпринимательница, филантроп и коллекционер.
Пастер Луи (1822–1895) — французский микробиолог и химик.
Пеладан Жозеф (1858–1918) — французский писатель, символист, глава розенкрейцеров во Франции.
Пельтан Камиль (1846–1915) — французский политический деятель, журналист и писатель.
Пенлеве Поль (1863–1933) — французский математик и политик, занимал пост премьер-министра в 1917 и 1925 гг.
Пикассо Пабло (1881–1973) — французский художник.
Пилон Эдмон (1874–1945) — французский писатель.
Пинни Томас (р. 1932) — американский филолог, специалист по английской литературе.
Писсарро Камиль (1830–1903) — французский художник.
Писсарро Люсьен (1863–1944) — французский и английский художник, график и ксилограф.
Писсарро Поль-Эмиль (1884–1972) — французский художник, сын Камиля Писсарро.
Пламмер Мэри (1848–1922) — супруга Жоржа Клемансо.
Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики.
По Эдгар Аллан (1809–1849) — американский поэт, писатель, литературный критик.
Поллок Джексон (1912–1956) — американский художник.
Поль — управляющий Живерни, поместьем Клода Моне.
Прейсак Шарль де (1876–1945) — французский фотограф.
Пруст Марсель (1871–1922) — французский писатель и критик.
Пти Жорж (1856–1920) — владелец галереи в Париже и торговец произведениями искусства.
Пуанкаре Генриетта (1858–1943) — супруга Раймона Пуанкаре.
Пуанкаре Раймон (1860–1934) — французский государственный деятель, трижды занимавший пост премьер-министра, президент Франции в 1913–1920 гг.
Пулицер III Джозеф (1913–1993) — американский издатель, газетчик и коллекционер.
Пулицер Ральф (1879–1939) — сын американского газетного магната, издатель и литератор.
Пуссен Никола (1594–1665) — французский художник.
Пуэтр Сесиль (ум. 1903) — французская актриса, подруга Мориса Роллина.
Пьер — слуга Жоржа Клемансо.
Пюви де Шаванн Пьер Сесиль (1824–1898) — французский художник.
Райан Томас Ф. (1851–1928) — американский предприниматель, коллекционер и благотворитель.
Райерсон Кэролайн — супруга Мартина Райерсона.
Райерсон Мартин (1856–1932) — американский юрист, бизнесмен, коллекционер и благотворитель.
Расин Жан (1639–1699) — французский драматург.
Расселл Джон Питер (1858–1930) — австралийский художник.
Рафаэль Санти (1483–1520) — итальянский живописец, график и архитектор.
Рей Роберт (1888–1964) — коллекционер, художественный критик, историк искусства, хранитель Люксембургского музея.
Рембо Артюр (1854–1891) — французский поэт.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — голландский художник и гравер.
Рентген Вильгельм Конрад (1845–1923) — немецкий физик, открывший икс-излучение.
Ренуар Жан (1894–1979) — французский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист, сын Огюста Ренуара.
Ренуар Клод (Коко) (1901–1969) — французский кинооператор, сын Огюста Ренуара.
Ренуар Огюст (1841–1919) — французский художник.
Ренуар Пьер (1885–1952) — французский актер, сын Огюста Ренуара.
Ренье Анри де (1864–1936) — французский поэт и писатель.
Реньо Алиса (1849–1931) — французская актриса и писательница, супруга Октава Мирбо.
Рёскин Джон (1819–1900) — английский писатель, художник, теоретик искусства, критик и поэт.
Рибо Александр (1842–1923) — французский политический и государственный деятель, неоднократно возглавлявший кабинет министров Франции.
Риопель Жан-Поль (1923–2002) — канадский художник и скульптор.
Робеспьер Максимилиан (1758–1794) — французский революционер.
Роден Огюст (1840–1917) — французский скульптор.
Розенберг Исаак (1890–1918) — английский художник и поэт.
Розенблюм Роберт (1927–2006) — американский историк искусства, хранитель Музея Гуггенхайма.
Роллина Морис (1846–1903) — французский поэт.
Рони Жозеф-Анри (1856–1940) — французский писатель бельгийского происхождения.
Россини Джоакино (1792–1868) — итальянский композитор.
Россиф Фредерик (1922–1990) — французский режиссер, сценарист, актер и продюсер.
Ростан Эдмон (1868–1918) — французский поэт и драматург.
Ротко Марк (1903–1970) — американский художник.
Ротшильд Аделаида (1850–1954) — супруга Эдмона Ротшильда.
Ротшильд Эдмон (1845–1934) — французский филантроп, организатор и покровитель еврейского поселенческого движения в Палестине.
Рубенс Питер Пауль (1577–1640) — фламандский художник, дипломат и коллекционер.
Рузвельт Теодор (1858–1919) — американский политический деятель, президент США в 1901–1909 гг.
Сайондзи Киммоти (1849–1940) — японский политический и государственный деятель, дипломат.
Салеру Альбер (1873–1954) — адвокат, муж Жермены Ошеде.
Салеру Нитья (1909–1964) — правнучка Клода Моне.
Салеру Симона (1903–1986) — правнучка Клода Моне.
Саломон Аннет — племянница Эдуарда Вюйара.
Саломон Жак (1885–1985) — муж племянницы Эдуарда Вюйара и биограф художника.
Сальмон Андре (1881–1969) — французский поэт, писатель и художественный критик.
Санвуазен Гаэтан (1894–1975) — французский журналист.
Санд Жорж (наст. имя Амандина Дюпен; 1804–1876) — французская писательница.
Сарджент Джон Сингер (1856–1925) — американский художник.
Саттон Джеймс Ф. (ум. 1915) — американский арт-дилер, основатель Американской ассоциации искусств.
Севинье Мари де Рабютен-Шанталь де, маркиза (1626–1696) — французская писательница.
Сезанн Поль (1839–1906) — французский художник.
Сенжо Дельфен — домовладелец из Живерни.
Сенжо Луи-Жозеф — владелец имения в Живерни, впоследствии приобретенного Клодом Моне.
Сен-Санс Камиль (1835–1921) — французский композитор, музыкант, дирижер и критик.
Сен-Симон Анри (1760–1825) — французский философ и социолог.
Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804–1869) — французский литературный критик, романист и поэт.
Сеон Александр (1855–1917) — французский художник, декоратор и иллюстратор.
Сёра Жорж (1859–1891) — французский художник.
Сикерт Уолтер (1860–1942) — английский художник.
Сильвен — шофер Клода Моне.
Сильвер Кеннет — американский историк искусства.
Синьяк Поль (1863–1935) — французский художник.
Сислей Альфред (1839–1899) — французский художник английского происхождения.
Соваж Мишель — французский поэт.
Солнье-Циолковский Анри — французский журналист, художественный критик и иллюстратор.
Спейт Вирджиния (р. 1937) — британский историк искусства.
Стендаль (Мари Анри Бейль; 1783–1842) — французский писатель.
Стенель Маргерит (1869–1954) — французская куртизанка.
Субиз герцог, Шарль де Роган (1715–1787) — французский военачальник и государственный деятель, маршал Франции.
Тадамаса Хаяси (1853–1906) — японский арт-дилер, поставлявший предметы японского искусства на европейский рынок.
Такер Пол Хейс (р. 1950) — американский историк искусства, профессор и музейный куратор.
Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754–1838) — французский политик и дипломат.
Тамерлан (1336–1405) — тюркский полководец, основатель империи Тимуридов.
Танака Хидемиши (р. 1942) — японский историк искусства.
Танги Жюльен-Франсуа (Папаша Танги) (1825–1894) — парижский торговец картинами и художественными принадлежностями.
Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк.
Теонеста сестра — монахиня, сестра милосердия.
Тёрнер Уильям (1775–1851) — британский живописец.
Тинторетто Якопо (1518/19–1594) — итальянский художник.
Тиффани Луис Комфорт (1848–1933) — американский художник и дизайнер.
Тициан Вечеллио (1488/90–1576) — итальянский художник.
Толл Катерина (1854–1936) — американская предпринимательница.
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — русский писатель.
Тома Габриель — французский финансист, владелец газеты «Голуа».
Тревизский Эдуард Мортье, герцог (1883–1946) — французский коллекционер, друг Клода Моне.
Тулгуа Рожер — дизайнер мебели, муж внучки Моне Лили Батлер.
Тулуз-Лотрек Анри де (1864–1901) — французский художник и график.
Тьебо-Сиссон Франсуа (1856–1944) — французский художественный критик.
Тэн Ипполит (1828–1893) — французский философ, эстетик, писатель, историк и психолог.
Уайльд Оскар (1854–1900) — английский писатель, драматург, поэт и философ.
Уайт Стэнфорд (1853–1906) — американский архитектор.
Уде Вильгельм (1874–1947) — немецкий писатель, художественный критик, коллекционер и торговец картинами.
Уистлер Джеймс (1834–1903) — англо-американский художник.
Уитмор Харрис (1864–1927) — американский сталелитейщик, коллекционер.
Уоллер Эдмунд (1606–1687) — английский поэт и политический деятель.
Уорд Уильям (1922–2004) — художник, дизайнер, фотограф, каллиграф.
Уорт Чарльз Фредерик (1825–1895) — английский дизайнер одежды, основатель модного дома.
Уотерхаус Джон Уильям (1849–1917) — английский художник.
Уссе Арсен (1815–1896) — французский писатель, поэт и литературный критик.
Утамаро Китагава (1753–1806) — японский художник.
Фалькенхайн Эрих фон (1861–1922) — немецкий военный деятель, начальник Генерального штаба Германии в 1914–1916 гг.
Фантен-Латур Анри (1836–1904) — французский художник и литограф.
Фель Флоран (1891–1977) — французский журналист и художественный критик.
Фенеон Феликс (1861–1944) — французский публицист, художественный критик, писатель.
Фицджеральд Десмонд (1846–1926) — американский инженер и коллекционер.
Фламан — домовладелец.
Фландрен Ипполит (1809–1864) — французский художник.
Флобер Гюстав (1821–1880) — французский писатель.
Флоран Антуан (1857–1927) — французский врач и друг Жоржа Клемансо.
Фор Феликс (1841–1899) — французский политический деятель, президент Французской республики в 1895–1899 гг.
Фош Фердинанд (1851–1929) — французский военный деятель, военачальник времен Первой мировой войны, маршал Франции.
Фрагонар Жан-Оноре (1732–1806) — французский художник.
Фрай Роджер (1866–1934) — британский художник и критик, автор понятия «постимпрессионизм».
Франк Поль — французский кинорежиссер.
Франс Анатоль (1844–1924) — французский писатель и литературный критик.
Франц Фердинанд фон Габсбург (1863–1914) — эрцгерцог Австрийский, наследник престола Австро-Венгрии.
Френе Роже де ла (1885–1925) — французский художник.
Фрэнсис Сэм (1923–1994) — американский художник и график.
Фукумото Кадзуо — японский историк искусства.
Хайат Анна (1876–1973) — американский скульптор.
Харди Томас (1840–1928) — английский писатель и поэт.
Хата Васуке — японский садовник, работавший в Париже.
Хатчинсон Фрэнсис — супруга Чарльза Хатчинсона.
Хатчинсон Чарльз (1854–1924) — американский финансист, филантроп, президент Чикагского института искусств.
Хаус Джон (1945–2012) — английский историк искусства.
Хейвемайер Луизин (1855–1929) — американка, филантроп и коллекционер.
Хендерсон Хант — американский предприниматель и коллекционер.
Хиросигэ Утагава (1797–1858) — японский художник.
Хирохито (1901–1989) — японский принц, император Японии с 1926 г.
Хитчкок Гилберт (1859–1934) — американский политический деятель, сенатор.
Хокусай Кацусика (1760–1849) — японский художник.
Хуг Мишель (р. 1932) — французский историк искусства.
Хук Филип (р. 1951) — британский историк искусства, старший эксперт аукционного дома «Сотби».
Хьюз Роберт (1938–2012) — австралийский и американский художественный критик, писатель, создатель документальных фильмов.
Чартрис Эван (1864–1940) — английский биограф, директор галереи Тейт с 1934 г.
Черчилль Уинстон (1874–1965) — премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг., писатель.
Чингисхан (ок. 1155–1227) — основатель и первый великий хан Монгольской империи.
Шарко Жан-Мартен (1825–1893) — французский врач-психиатр, специалист по неврологическим заболеваниям.
Шартруль де Монтифо Мари-Амели (псевд. Марк де Монтифо; ок. 1850–1912/13) — французская писательница.
Шеналь Марта (1881–1947) — французская певица.
Шере Жюль (1836–1932) — французский художник и график.
Шеридан Клэр (1885–1970) — английская журналистка, писательница и скульптор.
Шерфис Пьер (1849–1933) — французский бригадный генерал.
Шиле Эгон (1890–1918) — австрийский художник.
Шиллер Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, философ, теоретик искусства.
Шомье Себастьян — член городского совета Сен-Этьена.
Шумов Пьер (Петр Иванович; 1872–1936) — русско-французский фотохудожник, личный фотограф Огюста Родена.
Эбрар Адриен — французский юрист.
Эйкен Катарина — директор школы-пансиона для девочек в Стамфорде, штат Коннектикут.
Элдер Марк (наст. имя Марсель Тандрон; 1884–1933) — французский писатель, искусствовед и критик.
Эллё Поль Сезар (1859–1927) — французский художник и гравер.
Энгр Жан-Огюст-Доминик (1780–1867) — французский художник.
Энник Леон (1850–1935) — французский романист и драматург.
Эптер Эмили (р. 1954) — американский литературовед.
Эрве Гюстав (1871–1944) — французский журналист, историк, политический деятель.
Эрвье Поль (1857–1915) — французский романист и драматург.
Эрлих Пауль (1854–1915) — немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, основоположник химиотерапии.
Юргенсен Инга (1862–1944) — супруга Жака Ошеде.
Картины Клода Моне с водяными лилиями в собраниях музеев мира
США
Музей изящных искусств, Бостон
Пруд с водяными лилиями, 1900
Водяные лилии, 1905
Водяные лилии, 1907
Музей искусств, Вустер
Водяные лилии, 1908
Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк
Водяные лилии, 1919
Водяные лилии, 1914–1926
Мостик над прудом с водяными лилиями, 1899
Тропинка в ирисах, 1914–1917
Художественный музей, Филадельфия
Японский пешеходный мостик, Живерни, 1895
Японский мостик, 1919–1924
Национальная галерея, Вашингтон
Японский пешеходный мостик, 1899
Музей изобразительных искусств, Ричмонд
Ирисы, 1914–1917
Музей искусств Карнеги, Питтсбург
Водяные лилии, ок. 1915–1926
Художественный музей, Кливленд
Водяные лилии (Агапантус), ок. 1915–1926 (часть триптиха)
Мемориальный художественный музей Аллена, Оберлинский колледж, Огайо
Вистерия (Глициния), ок. 1919–1920
Художественный музей, Колумбус
Плакучая ива, 1918
Институт искусств, Дейтон
Водяные лилии, 1903
Художественный музей, Толидо
Нимфеи, 1914–1917
Институт искусств, Чикаго
Мостик над прудом с водяными лилиями, 1900
Водяные лилии, 1906
Институт искусств, Миннеаполис
Японский мостик, 1919–1924
Художественный музей, Сент-Луис
Агапантус, ок. 1915–1926 (центральная часть триптиха, две другие картины находятся в Художественном музее Кливленда и Музее искусств Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити)
Музей искусств Нельсона-Аткинса, Канзас-Сити
Водяные лилии (Агапантус), ок. 1915–1926 (часть триптиха)
Музей искусств, Даллас
Водяные лилии, 1908
Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт
Плакучая ива, 1918–1919
Музей изящных искусств, Хьюстон
Водяные лилии, 1907
Художественный музей, Денвер
Водяные лилии, 1904
Музей искусств, Финикс
Розовая арка в Живерни, 1913
Художественный музей, Портленд
Нимфеи, 1914–1917
Музей изобразительных искусств, Сан-Франциско
Нимфеи, 1914–1917
Музей искусств округа Лос-Анджелес
Нимфеи, ок. 1897–1898
Художественный музей, Гонолулу
Водяные лилии, 1917–1919
В других странах
Франция
Музей Орсе, Париж
Пруд с водяными лилиями. Гармония в зеленом, 1899
Пруд с водяными лилиями. Гармония в розовом, 1900
Музей Мармоттан-Моне, Париж
Нимфеи, 1916–1919
Нимфеи, 1916–1919
Плакучая ива и пруд с водяными лилиями, 1916–1919
Лилейник, 1914–1917
Нимфеи, 1914–1917
Нимфеи и агапантус, 1914–1917
Лицей Клода Моне, Париж
Водяные лилии и ветви плакучей ивы, 1916–1919
Великобритания
Национальная галерея, Лондон
Водяные лилии, после 1916
Водяные лилии. Заходящее солнце, ок. 1907
Пруд с водяными лилиями, 1899
Ирисы, 1914–1917
Национальный музей и художественная галерея, Кардифф, Уэльс
Водяные лилии, 1908
Швейцария
Кунстхаус, Цюрих
Пруд с водяными лилиями (диптих), ок. 1915–1926
Собрание фонда Эмиля Бюрле, Цюрих
Пруд с водяными лилиями, ок. 1920–1926
Германия
Новая Пинакотека, Мюнхен
Нимфеи, 1914–1917
Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн
Нимфеи, 1914–1917
Швеция
Художественный музей, Гётеборг
Водяные лилии, 1907
Австралия
Национальная галерея, Канберра
Нимфеи, 1914–1917
Япония
Музей искусств Титю, Наосима
Пруд с водяными лилиями (диптих), ок. 1915–1926
Пруд с водяными лилиями и островками травы, 1914–1917
Водяные лилии, 1914–1917
Пруд с водяными лилиями, 1917–1919
Водяные лилии, отражения плакучих ив, 1916–1919
Национальный музей европейского искусства, Токио
Водяные лилии, 1914
Художественный музей Бриджстоун, Токио
Водяные лилии, 1907
Водяные лилии, 1916
Художественный музей Фуджи, Токио
Водяные лилии, 1908
Музей современного искусства, Гунма
Нимфеи, 1914–1917
Музей Оямазаки, Киото
Нимфеи, 1914–1917
Права на изображения предоставлены
Цветные иллюстрации на вклейке:
1, 2, 3, 4, 5: фото предоставлено DeAgostini / Getty Images
6: фото предоставлено Художественным музеем Сент-Луиса при поддержке миссис Марк Стейнберг (Saint Louis Art Museum, funds given by Mrs. Mark C. Steinberg)
7: фото предоставлено Национальным музеем и художественной галереей Уэльса (National Museum and Galleries of Wales; Enterprises Limited / Heritage Images / Getty Images)
8: фото предоставлено Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images
9: © 2016 Succession H. Matisse (Фонд Анри Матисса) / Artists Rights Society (ARS) New York
10, 11, 14: © Bridgeman Images
12: фото © Музей изящных искусств, Бостон (Museum of Fine Arts, Boston). All Rights Reserved
13: © Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт (Kimbell Art Museum, Fort Worth)
15: © Музей нового и современного искусства Сен-Этьен Метрополь (Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole)
16: © Getty Images
17: фото Photo IZ / UIG / Getty Images
18: фото Chesnot / Getty Images
19: © Foundation Claude Monet, Giverny (Фонд Клода Моне, Живерни)
20: фото Hubert Fanthomme / Paris Match при посредничестве Getty Images
21: фото View Pictures / UIG при посредничестве Getty Images
Цветные иллюстрации
1. Клод Моне. Женщины в саду. 1866. Музей Орсе, Париж
Фото предоставлено DeAgostini / Getty Images
2. Эдуард Мане. Клод Моне в своей плавучей мастерской. 1874. Новая Пинакотека, Мюнхен
Фото предоставлено DeAgostini / Getty Images
3. Клод Моне. Руанский собор, портал и башня Сен-Ромен, полдень. Гармония в синем и золотом. 1894. Музей Орсе, Париж
Фото предоставлено DeAgostini / Getty Images
4. Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар. Прибытие поезда. 1877. Музей Фогга, Гарвард
Фото предоставлено DeAgostini / Getty Images
5. Клод Моне. Скирды пшеницы в конце лета. 1891. Музей Орсе, Париж
Фото предоставлено DeAgostini / Getty Images
6. Поль Сезанн. Купальщики. 1890–1892. Художественный музей, Сент-Луис
Одна из четырнадцати картин Сезанна, принадлежавшая Моне
Фото предоставлено Художественным музеем Сент-Луиса при поддержке миссис Марк Стейнберг (Saint Louis Art Museum, funds given by Mrs. Mark C. Steinberg)
7. Клод Моне. Водяные лилии. 1908. Национальный музей и художественная галерея, Кардифф, Уэльс
Одна из «перевернутых картин», представленных на знаковой выставке в галерее Дюран-Рюэля в 1909 г.
Фото предоставлено Национальным музеем и художественной галереей Уэльса (National Museum and Galleries of Wales; Enterprises Limited / Heritage Images / Getty Images)
8. Клод Моне. Водяные лилии. 1916. Национальный музей европейского искусства, Токио
Картина, за которую Кодзиро Мацуката заплатил рекордные 800 000 франков
Фото предоставлено Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images
9. Анри Матисс. Урок музыки. 1917. Фонд Барнса, Филадельфия
Картина, написанная Матиссом вскоре после посещения Живерни
© 2016 Succession H. Matisse (Фонд Анри Матисса) / Artists Rights Society (ARS) New York
10. Клод Моне. Автопортрет. 1917. Музей Орсе, Париж
© Bridgeman Images
11. Клод Моне. Японский мостик в Живерни. 1918–1924. Музей Мармоттан-Моне, Париж
© Bridgeman Images
12. Утагава Хиросигэ. В храме Тэндзин в пригороде Камэйдо. Из серии «100 знаменитых видов Эдо». 1856
Фото © Музей изящных искусств, Бостон (Museum of Fine Arts, Boston). All Rights Reserved
13. Клод Моне. Плакучая ива. 1918–1919. Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт
© Художественный музей Кимбелла, Форт-Уэрт (Kimbell Art Museum, Fort Worth)
14. Клод Моне. Розовая аллея в Живерни. 1920–1922. Музей Мармоттан-Моне, Париж
© Bridgeman Images
15. Клод Моне. Нимфеи. 1907. Музей нового и современного искусства, Сен-Этьен Метрополь
Объект паломничества Шомье и Ле Гриэля в 1925 г.
© Музей нового и современного искусства Сен-Этьен Метрополь (Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole)
16. Моне за работой в своей мастерской. 1920
© Getty Images
17. Клод Моне в своем саду. Цветное фото по методу «автохром». Ок. 1921
Фото Photo IZ / UIG / Getty Images
Фото 18. Дом Клода Моне в Живерни сегодня
Chesnot / Getty Images
19. Столовая в доме Моне в Живерни, интерьер которой бережно сохраняется таким, каким он был во времена хозяина
© Foundation Claude Monet, Giverny (Фонд Клода Моне, Живерни)
20. «Заходящее солнце» на экспозиции в Музее Оранжери (комната № 1). Слева «Утро», справа «Облака»
Hubert Fanthomme / Paris Match при посредничестве Getty Images
Фото View Pictures / UIG при посредничестве Getty Images
21. «Две ивы» в комнате № 2 Музея Оранжери
Примечания
1
Gil Blas. Avril 26, 1914.
(обратно)2
Gil Blas. Février 23; Mai 6, 1912.
(обратно)3
Gil Blas. Septembre 7, 1909. О доме и парке Клемансо в Бернувиле см.: Dallas Gregor. At the Heart of a Tiger: Clemenceau and His World, 1841–1929. London: Macmillan, 1993. P. 442.
(обратно)4
Elder Marc. A Giverny, chez Claude Monet. Paris: Bernheim-Jeune, 1924; переиздание: Paris: Mille et une nuits, 2010; Kindle edition. Loc. 658.
(обратно)5
Clemenceau Georges. Lettres à une amie, 1923–1929 / Ed. Pierre Brive. Paris: Gallimard, 1970. P. 17.
(обратно)6
Gil Blas. Août 31, 1911.
(обратно)7
О численности населения, составлявшей 250 человек, см.: Quilbeuf M. G. La Loi sur l’assistance: ses conséquences financières pour les communes. Rouen, 1906. P. 9.
(обратно)8
Цит. по: Impressionist Giverny: A Colony of Artists, 1885–1915 / Ed. Katherine M. Bourguignon. Giverny: Musée d’art Américain 2007. P. 19, 29.
(обратно)9
Saint-Marceaux Marguerite de. Journal 1894–1927 / Ed. Myriam Chimènes. Paris: Fayard, 2007. P. 308.
(обратно)10
Об эпизоде со свадьбой в поезде, описанном Жан-Пьером Ошеде, см.: Hoschedé Jean-Pierre. Claude Monet, ce mal connu: intimité familiale d’un demi-siècle à Giverny de 1883 à 1926. Geneva: Pierre Cailler, 1960. Vol. 1. P. 24.
(обратно)11
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 52.
(обратно)12
Je sais tout. Janvier 15, 1914.
(обратно)13
Wildenstein Daniel. Claude Monet: Biographie et catalogue raisonné. 5 vols. Lausanne-Paris: La Bibliothèque des Arts, 1974–1991. Vol. 1, 1840–1881. Letter 50. В дальнейшем все письма Моне, цитируемые в тексте, будут обозначаться в соответствии с нумерацией, присвоенной им Вильденштейном, и сопровождаться аббревиатурой WL. Всюду, где не указано иное, переводы на английский язык выполнены автором.
(обратно)14
WL 108. См. также: WL 117 (январь 1878), где упоминается эта нежелательная перспектива.
(обратно)15
Эпизод с картофелем, якобы реальный, описан в газете «L’Echo de Paris» от 6 декабря 1926 года. О нехватке еды и красок см.: WL 46, 51, 52. Об эпизоде с мясником см.: Gimpel René. Diary of an Art Dealer / Trans. John Rosenberg. London: Hodder & Stoughton, 1966. P. 72–73. О булочнике и прачке см.: Wildenstein Daniel. Monet, or the Triumph of Impressionism. Cologne; Paris: Taschen, 1996. P. 130, 150. О торговце тканями см.: Butler Ruth. Hidden in the Shadow of the Master: The Model-Wives of Cézanne, Monet, and Rodin. New Haven: Yale University Press, 2008. P. 199. Что касается двадцати франков, цифру приводит Поль Дюран-Рюэль, торговец живописью и коллекционер, приобретавший работы Моне, см.: Durand-Ruel Paul. Le Bulletin de la Vie Artistique. Avril 15, 1920.
(обратно)16
WL 148, 155.
(обратно)17
Рецензию Поля Манца см.: Gazette des beaux-arts. Juillet 1865; Privat Gonzague. Place aux jeunes! Causeries critiques sur le Salon de 1865. Paris: F. Cournol, 1865. P. 190.
(обратно)18
Le Charivari. Avril 25, 1874.
(обратно)19
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 216; Clemenceau Georges. Claude Monet: Les Nymphéas. Paris: Plon, 1928. P. 70.
(обратно)20
Geffroy Gustave. Claude Monet: sa vie, son temps, son oeuvre. Paris: G. Crès, 1922. P. 312.
(обратно)21
La Vie Moderne. Juin 12, 1880.
(обратно)22
Cabot Perry Lilla. Reminiscences of Claude Monet // American Magazine of Art. March 1927.
(обратно)23
Gazette des beaux-arts. Avril 1, 1883.
(обратно)24
Пол Хейс Такер утверждает, что вовсе не картина «Впечатление. Восходящее солнце» «стала источником названия „импрессионисты“, которое впервые дал этой группе» Луи Леруа, опубликовав свою неоднократно цитируемую статью в газете «Le Charivari» за 25 апреля 1874 г. Такер отмечает, что Леруа использует это понятие в контексте комментария к картине Моне «Бульвар Капуцинов», двум холстам Сезанна и одной работе Эжена Будена. См.: Tucker Paul Hayes. Claude Monet: Life and Art. New Haven; CT; London: Yale University Press, 1995. P. 77–78.
(обратно)25
Об этих сделках см.: Wildenstein Daniel. Claude Monet: Biographie et catalogue raisonné. Vol. 1: 1840–1881. 1974. P. 226.
(обратно)26
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 45.
(обратно)27
Цит. по: Tucker Paul Hayes. Monet in the ‘90s: The Series Paintings: Exhibition catalogue. Boston: Museum of Fine Arts, 1989. P. 3. Об успехе Моне в 1889 г. см.: Ibid. P. 59.
(обратно)28
L’Art moderne. Juillet 7, 1889; L’Art et les artistes. Juillet 1909; Gourmont Remy de. L’Oeil de Claude Monet // Promenades philosophiques. Paris, 1905. Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 376.
(обратно)29
Gasquet Joachim. Cézanne. Paris: Les Éditions Bernheim-Jeune, 1921. P. 90.
(обратно)30
Le Carnet de la semaine. Juillet 1, 1917.
(обратно)31
Modern Art. January 1897. О «манере Живерни» см.: Impressionist Giverny. P. 23.
(обратно)32
Le Temps. Juin 7, 1904.
(обратно)33
WL 1151.
(обратно)34
Guitry Sacha. If I Remember Right / Trans. Lewis Galantière. London: Methuen, 1935. P. 232.
(обратно)35
О доходах Моне см.: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 399. О заработке парижского рабочего: Tucker Paul Hayes. Revolution in the Garden: Monet in the Twentieth Century // Tucker et al. Monet in the 20th Century. New Haven; CT; London: Yale University Press, 1998. P. 17. Note 7. P. 286.
(обратно)36
Brush and Pencil. March 1905.
(обратно)37
Revue Mensuelle du Touring-Club de France. Mai, Septembre 1906. Моне и его семье принадлежали несколько автомобилей марки «Панар», в одном экземпляре — «Мендельсон», «Морс», «Пежо», «Льон-пежо», «Пежо-торпедо», «Зедель», «Де Дион-бутон» и «Клеман-байяр».
(обратно)38
Le Temps. Juillet 19, 1901.
(обратно)39
WL 1736.
(обратно)40
L’Art et les artistes. Novembre 1905.
(обратно)41
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 37.
(обратно)42
L’Art et les artistes. Novembre 1920.
(обратно)43
WL 2024a.
(обратно)44
WL 1962, 1968, 1977.
(обратно)45
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 217.
(обратно)46
WL 1972.
(обратно)47
Цит. по: Alphant Marianne. Claude Monet: une vie dans le paysage. Paris: Hazan, 1993. P. 644; WL 1989.
(обратно)48
WL 2023.
(обратно)49
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 331.
(обратно)50
Gazette des beaux-arts. Avril 1, 1883.
(обратно)51
Vollard Ambrose. Paul Cézanne / Trans. H. L. van Doren. London: Brentano, 1924. P. 117; Gasquet. Cézanne. P. 90.
(обратно)52
Le Petit Parisien. Août 3, 1912.
(обратно)53
Gil Blas. Septembre 3, 1913.
(обратно)54
WL 2097.
(обратно)55
Brush and Pencil. March 1905.
(обратно)56
О том, когда и где они встретились впервые, сведений не осталось. Биографы Клемансо предполагают, что знакомство могло состояться в мастерской художника Жан-Батиста Делестра. См.: Duroselle Jean-Baptiste. Clemenceau. Paris: Fayard, 1988. P. 43. Грегор Даллас пишет, что Клемансо впервые посетил Живерни в 1890 г. Dallas. At the Heart of a Tiger. P. 267.
(обратно)57
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 40; Vol. 2. P. 111. Ошеде утверждает, что Моне впервые принял участие в голосовании только после Первой мировой войны.
(обратно)58
L’Art et les artistes. Novembre 1920. Марианна Альфан отмечает те же черты сходства: «Смелость, гордость, упрямство, взрывная восторженность, страсть и чувствительность, буйство темперамента и невероятная молодость духа этих двух людей — все их сближало» (Alphant. Claude Monet. P. 677).
(обратно)59
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet: Correspondance. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1993. P. 161, 168, 182.
(обратно)60
Gil Blas. Janvier 31, 1914.
(обратно)61
La Croix. Février 8–9, 1914.
(обратно)62
Цит. по: Duroselle. Clemenceau. P. 35.
(обратно)63
Цит. по: Ibid. P. 34.
(обратно)64
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 184.
(обратно)65
Gil Blas. Janvier 31, 1914.
(обратно)66
Цит. по: Dallas. At the Heart of a Tiger. P. 439.
(обратно)67
Цит. по: Williams Wythe. The Tiger of France: Conversations with Clemenceau. New York: Duell, Sloan & Pearce, 1949. P. 282.
(обратно)68
Цит. по: Dallas. At the Heart of a Tiger. P. 102.
(обратно)69
Цит. по: Ibid. P. 192.
(обратно)70
The Letters of Rudyard Kipling / Ed. by Thomas Pinney. Vol. 5. Iowa City: University of Iowa Press, 2004. P. 325.
(обратно)71
La Justice. Janvier 16, 1880.
(обратно)72
Цит. по: Duroselle. Clemenceau. P. 310.
(обратно)73
Milner Violet. My Picture Gallery, 1886–1901. London: John Murray, 1951. P. 62–63.
(обратно)74
Guitry. If I Remember Right. P. 234.
(обратно)75
Tabarant Adolphe. Manet et ses oeuvres. Paris: Gallimard, 1947. P. 358. Эти портреты хранятся ныне в Художественном музее Кимбелла в Форт-Уэрте и в музее Орсе в Париже.
(обратно)76
La Justice. Mai 20, 1895.
(обратно)77
Клемансо поквитается с антидрейфусаром Фором, произнеся знаменитый каламбур. После кончины Фора в 1899 году, во время свидания с бывшей любовницей президента Маргерит Стенель, когда дама устами ублажала причинную часть его тела, он саркастически произнес: «Il voulait être César, il ne fut que Pompée». Буквально это означает: «Хотел стать Цезарем, но оказался Помпеем». Однако фраза двусмысленна, поскольку во французском языке глагол pomper (от pompe, «насос») имеет табуированное значение, символизирующее оральный интимный акт.
(обратно)78
WL 2287.
(обратно)79
Claude Monet. P. 327.
(обратно)80
Je sais tout. Janvier 15, 1914.
(обратно)81
WL 2642.
(обратно)82
Gil Blas. Mars 20, 1906.
(обратно)83
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 92. Положительный отзыв о творчестве Бланш Ошеде-Моне и ее отношениях с Моне см.: Burke Janine. Monet’s Angel’: The Artistic Partnership of Claude Monet and Blanche Hoschedé-Monet. Colloquy: text theory critique. 22 (2011). P. 68–80.
(обратно)84
О занятиях Мишеля перепродажей автомобилей см.: Revue Mensuelle du Touring-Club de France. Septembre, décembre 1906, avril 1907, janvier 1913, décembre 1913, avril 1914. Раздел коммерческих объявлений «Предложение и спрос» в этом же издании свидетельствует о том, что Жан-Пьер Ошеде активно занимался тем же.
(обратно)85
Martet Jean. Clemenceau: The Events of His Life as Told by Himself to His Former Secretary / Trans. Milton Waldman. London: Longmans, Green & Co., 1930. P. 220. Мишелю Моне действительно суждено было погибнуть в мчащемся автомобиле, но только в 1966 г., когда за несколько недель до своего восьмидесятивосьмилетия он разбился в Верноне, на мосту, названном в честь Клемансо.
(обратно)86
La Presse. Août 1, 1910. О мастерской и магазине велосипедов в Верноне («Моше & Ошеде») см.: La Croix. Juillet 19, 1906; Guide Michelin (1912). P. 35. Мастерская, расположенная по адресу: Парижское шоссе, 105, позднее стала называться «Ошеде & Вейё» (L’Ouest-Eclair. Octobre 22, 1922).
(обратно)87
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 123. Книга Ошеде вышла одновременно с публикацией 1898 г.: Flore de Vernon et de la Roche-Guyon // Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen. О его членстве в Линнеевском обществе см.: Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Caen: Lanier, 1901. P. x. О разведении ирландских водяных спаниелей см.: L’Ouest-Eclair. Juillet 24, 1913.
(обратно)88
L’Art dans les Deux Mondes. Mars 7, 1891.
(обратно)89
Je sais tout. Janvier 15, 1914.
(обратно)90
См.: Giolkowska Muriel. Memories of Monet // Canadian Forum. March 1927. Переиздание: Shackleford George T. M. et al. Monet and the Impressionists. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2008. P. 203; Geffroy. Claude Monet. P. 1.
(обратно)91
Ibid. P. 122.
(обратно)92
Цит. по: Merriman John M. The Margins of City Life: Explorations on the French Urban Frontier, 1815–1851. Oxford: Oxford University Press, 1991. P. 216. О дурной репутации Энгувиля (по мнению автора указанного издания, не вполне заслуженной) см. с. 210–217.
(обратно)93
Geffroy. Claude Monet. P. 5.
(обратно)94
Ibid. О первых набросках Моне см.: Stuckey Charles F. Claude Monet, 1840–1926. London: Thames & Hudson, 1995. P. 186.
(обратно)95
Silvestre Armand. Au Pays des souvenirs: mes maîtres et mes maîtresses. Paris: La Librairie Illustrée, 1892. P. 161.
(обратно)96
Charteris Evan. John Sargent. New York: Charles Scribner’s Sons, 1927. P. 129.
(обратно)97
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 36.
(обратно)98
Clemenceau. Claude Monet. P. 15.
(обратно)99
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 37.
(обратно)100
La Revue de l’art ancien et moderne. Juin 1927.
(обратно)101
См.: Maloon Terence. Meeting Monsieur Monet // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 194; Alphant. Claude Monet. P. 649.
(обратно)102
La Revue de l’art ancien et moderne. Juin 1927.
(обратно)103
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 8.
(обратно)104
Ibid. P. 60; Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 53.
(обратно)105
Gil Blas. Août 31, 1911. Андре Арнивельд описывает подъем по лестнице с японскими эстампами: Je sais tout. Janvier 15, 1914.
(обратно)106
Саша Гитри описывает подобный эпизод, рассказывая о Ренуаре в созданной им в 1952 г. обновленной версии фильма «Соотечественники», изначально снятого в 1915 г.
(обратно)107
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 80.
(обратно)108
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 8.
(обратно)109
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 82. О блюдах и рецептах в доме Моне см.: Joyes Claire. Monet’s Table: The Cooking Journal of Claude Monet. New York: Simon & Schuster, 1989.
(обратно)110
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 61.
(обратно)111
La Revue de l’art ancien et moderne. Juin 1927.
(обратно)112
Цит. по: Tucker. Claude Monet: Life and Art. P. 177.
(обратно)113
Огромные конические копны, покрытые соломой, строго говоря, представляли собой meules de blé (пшеничные скирды), а не стога сена (meules de foin). Таким образом сжатую пшеницу хранили в зимние месяцы. Чтобы защитить зерно от ветров и осадков, пшеницу складывали колосьями к центру, а сверху покрывали соломой, которой в то время были также устланы крыши большинства домов в Живерни.
(обратно)114
См. об этом: Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 45–48.
(обратно)115
Cim Albert. Un homme de lettres messin: Albert Collignon // Le Pays Lorrain et Le Pays Messin: Revue mensuelle illustré (1922). P. 476.
(обратно)116
WL 2319.
(обратно)117
С заказом Моне можно ознакомиться на сайте компании «Латур-Марлиак»: -marliac.com.
(обратно)118
La Revue illustrée. Mars 15, 1898.
(обратно)119
О стоимости содержания сада см.: Jullian Philippe. Jean Lorrain ou le satiricon de 1900. Paris: Fayard, 1974. P. 244. О процентах по счетам Моне см.: Spate Virginia. Claude Monet: The Colour of Time. London: Thames & Hudson, 1992. P. 331. N. 3.
(обратно)120
Tucker Paul Hayes. Monet in the ‘90s: The Series Paintings. Boston: Museum of Fine Arts, in association with Yale University Press, 1989. P. 37.
(обратно)121
Ibid. P. 148.
(обратно)122
Цит. по: Tucker. Revolution in the Garden. P. 17.
(обратно)123
Geffroy. Claude Monet. P. 314.
(обратно)124
Об отношении Моне к «делу Дрейфуса» см.: Tucker. Monet in the ‘90s. P. 6; Idem. Revolution in the Garden. P. 20–23.
(обратно)125
WL 1397. Письмо Моне появилось раньше, чем статья «Я обвиняю», и было написано в поддержку журналистской деятельности Золя, защищавшего капитана Дрейфуса в газете «Фигаро» в ноябре и декабре 1897 г.
(обратно)126
L’Aurore. Janvier 13, 1898.
(обратно)127
Geffroy. Claude Monet. P. 314.
(обратно)128
Gazette des beaux-arts. Juin 1909; L’Art et les artistes. Juillet 1909.
(обратно)129
Tucker. Claude Monet: Life and Art. P. 197.
(обратно)130
L’Art et les artistes. Novembre 1905.
(обратно)131
Gréard Valéry C. O. Meissonier: His Life and Art / Trans. Lady Mary Loyd, Miss Florence Simmonds. London: William Heinemann, 1897. P. 345. Я рассматриваю взлет и падение Месонье в книге: King Ross. The Judgment of Paris: The Revolutionary Decade that Gave the World Impressionism. New York: Walker, 2006.
(обратно)132
Gil Blas. Janvier 31, 1912.
(обратно)133
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 12, 15.
(обратно)134
Valéry Paul. Degas Manet Morisot / Trans. David Paul. Ed. Jackson Mathews. New York: Bollingen, 1960. P. 99.
(обратно)135
Цит. по: Mary Cassatt: Modern Woman: Exhibition catalogue / Ed. Judith A. Barter. Chicago: Art Institute of Chicago, 1998. P. 350.
(обратно)136
La Chronique des arts et de la curiosité. Juin 25, 1898.
(обратно)137
Морис Дени (в 1907) и Эмиль Бернар (в 1904); цит. по: Herbert Robert. Method and Meaning in Monet // Art in America. 67 (September 1979). P. 90, 92.
(обратно)138
Цит. по: Buckley Harry E. Guillaume Apollinaire as an Art Critic. Ann Arbor: UMI Research Press, 1969. P. 55.
(обратно)139
André Salmon on Modern French Art / Ed., trans. Beth S. Gersh-Nesic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. P. 83.
(обратно)140
Archives Claude Monet. P. 74.
(обратно)141
Gil Blas. January 25, 1914.
(обратно)142
Вилла получила название по пьесе Саша Гитри «У Зоаков» (1906).
(обратно)143
WL 2076.
(обратно)144
Reboux Paul. Mes mémoires. Paris: Éditions Haussmann, 1956. P. 195.
(обратно)145
Gil Blas. September 3, 1913.
(обратно)146
Archives Claude Monet. P. 83. О работах, которые Моне осуществил в «Зоаках», см.: WL 2112, 2115.
(обратно)147
Gil Blas. Septembre 3, 1913.
(обратно)148
Je sais tout. Janvier 15, 1914.
(обратно)149
WL 2050.
(обратно)150
Martet. Clemenceau. P. 237.
(обратно)151
Ibid. В 1927 г. Клемансо скажет Гаэтану Санвуазену: «Я подал ему идею „Водяных лилий“. „Что, если написать для богатого заказчика круговой цикл на больших холстах?“ — предложил я ему» (Le Gaulois. Mai 18, 1927).
(обратно)152
WL 2116.
(обратно)153
Clemenceau. Claude Monet: Les Nymphéas. Paris: Plon, 1928. P. 19, 18.
(обратно)154
Charteris. John Sargent. P. 131.
(обратно)155
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 259.
(обратно)156
Цит. по: Bernier Ronald R. Monument, Moment, and Memory: Monet’s Cathedral in Fin de Siècle France. Cranbury, NJ: Associated University Press, 2007. P. 73.
(обратно)157
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 2. P. 112. Моне о понятии «envelope» см.: Gil Blas. Mars 3, 1889.
(обратно)158
Gil Blas. Mars 3, 1889.
(обратно)159
American Magazine of Art. March 1927.
(обратно)160
Martet. Clemenceau. P. 216.
(обратно)161
Gil Blas. Septembre 28, 1886.
(обратно)162
Le Temps. Juin 7, 1904.
(обратно)163
Charteris. John Sargent. P. 126.
(обратно)164
Modern Art. Winter 1897.
(обратно)165
Блестящее исследование, показывающее, что работы Моне были не просто спонтанными импровизациями, написанными с натуры, см.: Herbert. Method and Meaning in Monet. P. 90–108.
(обратно)166
Gil Blas. Juin 22, 1889.
(обратно)167
Lyon Christopher. Unveiling Monet // MoMA. No. 7 (Spring, 1991). P. 22.
(обратно)168
Цит. по: Geffroy. Claude Monet. P. 121.
(обратно)169
Gazette des beaux-arts. Juin 1909.
(обратно)170
Proust Marcel. Journées de lecture // Contre Sainte-Beuve / Ed. Pierre Clarac, Yves Sandre. Paris: Gallimard, 1971. P. 178.
(обратно)171
Слова Филипа Хука цит. по: The Times. December 31, 2014.
(обратно)172
Geffroy. Claude Monet. P. 335; Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 96.
(обратно)173
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 179.
(обратно)174
Archives Claude Monet. P. 96.
(обратно)175
Licquet Théodore. Rouen: précis de son histoire, son commerce, son industrie, ses manufactures, ses monumens. Rouen: Édouard Frère, 1831. P. 17.
(обратно)176
WL 1343.
(обратно)177
The American Magazine of Art. March 1927.
(обратно)178
WL 40.
(обратно)179
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 73.
(обратно)180
The American Magazine of Art. March 1927.
(обратно)181
Mirbeau Octave. Correspondance avec Claude Monet / Ed. Pierre Michel, Jean-François Nivet. Tusson: Du Lérot, 1990. P. 210.
(обратно)182
WL 1064.
(обратно)183
Modern Art. Winter 1897.
(обратно)184
Об этом эпизоде см.: Daudet Léon. Un Prince de la Lumière // L’Action française. Décembre 8, 1926.
(обратно)185
Geffroy. Claude Monet. P. 335.
(обратно)186
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 101.
(обратно)187
Martet. Clemenceau. P. 238.
(обратно)188
WL 1066.
(обратно)189
Le Temps. Juin 7, 1904.
(обратно)190
WL 183, 1832.
(обратно)191
WL 1850.
(обратно)192
Цит. по: Piguet Philippe. Claude Monet au temps de Giverny. Paris: Centre culturel du Marais, 1983. P. 270.
(обратно)193
Chicago Tribune. May 16, 1908. Такер предполагает, что много раз публиковавшиеся рассказы о том, как Моне уничтожает свои холсты, «могли появляться в прессе ради рекламы, чтобы успевшие оценить его творчество американские коллекционеры покупали больше работ, которые вот-вот станут редкостью» (Tucker. Claude Monet: Art and Life. P. 190).
(обратно)194
Correspondence avec Claude Monet. P. 215.
(обратно)195
WL 1854.
(обратно)196
Le Gaulois. Mai 5, 1909; Comoedia. Mai 8, 1909.
(обратно)197
Forth Christopher E. Neurasthenia and Manhood in fin-de-siècle France // Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War / Ed. Marijke Gijswijt-Hofstra, Roy Porter. Amsterdam: Éditions Rodopi, 2001. P. 329–362.
(обратно)198
La Revue de l’art ancien et moderne. Juin 1927.
(обратно)199
Proust Antonin. Edouard Manet: Souvenirs. Paris: Librairie Renouard, 1913. P. 84.
(обратно)200
WL 1060.
(обратно)201
Cahiers Octave Mirbeau / Ed. Pierre Michel. No. 8 (2001). P. 261.
(обратно)202
Эту информацию я почерпнул в следующем издании: Herbert. Method and Meaning in Monet. P. 90–108.
(обратно)203
Masson André. Monet the Founder / Trans. Terence Maloon // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 190.
(обратно)204
Herbert. Method and Meaning in Monet. P. 98.
(обратно)205
Lyon. Unveiling Monet. P. 22.
(обратно)206
Revue Hebdomadaire. Août 21, 1909; цит. по: Levine Steven Z. Monet, Narcissus, and Self Reflection. University of Chicago Press, 1984. P. 246.
(обратно)207
Новаторство техники Моне в этих работах рассматривается в следующих изданиях: Tucker. Claude Monet: Life and Art. P. 190–198; Spate. Claude Monet: The Colour of Time. P. 62. Такер отмечает, что Моне нарушил «один из фундаментальных законов пейзажной живописи: небо — вверху, земля — внизу» (с. 191), а Спейт пишет, что художник «перечеркнул само понятие „вид“» (или «пейзаж») (c. 254).
(обратно)208
Revue Hebdomadaire. Août 21, 1909; цит. по: Levine. Monet, Narcissus, and Self Reflection. P. 247.
(обратно)209
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 135.
(обратно)210
Цит. по: Geffroy. Claude Monet. P. 240.
(обратно)211
Comoedia. Mai 8, 1909; цит. по: Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 214.
(обратно)212
Цит. по: Benjamin Roger. The Decorative Landscape, Fauvism and the Arabesque of Observation // Art Bulletin (June 1993). P. 299. Об интересе к декоративной живописи в конце XIX в. см.: Tucker. Monet in the ‘90s. P. 133–134.
(обратно)213
Revue des Deux Mondes. Juin 1906.
(обратно)214
Le Gaulois. Mai 22, 1909.
(обратно)215
Gazette des beaux-arts. Juin 1909.
(обратно)216
L’Art moderne. Juillet 7, 1889.
(обратно)217
Цит. по: Smith Anne Y. The Whittemores of Connecticut: Pioneer Collectors of French Impressionism // Antiques & Fine Art (Spring 2010). P. 158.
(обратно)218
Geffroy. Claude Monet. P. 331.
(обратно)219
L’Art et les artistes. Décembre 1905 / Trans. Terence Maloon // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 198.
(обратно)220
Georges-Michel Michel. Peintres et sculpteurs que j’ai connu, 1900–1942. New York: Brentano’s, 1942. P. 35.
(обратно)221
Gil Blas. Juin 5, 1914. В 1920 г. Моне утверждал, что в его спальне размещены четырнадцать работ Сезанна (La Revue de l’art ancien et moderne. Janvier — Mai 1927), но, по другим сведениям, некоторые из них находились в мастерской.
(обратно)222
Guitry. If I Remember Right. P. 223. О спиртных напитках за завтраком см.: Haine W. Scott. The World of the Paris Café: Sociability Among the French Working Class, 1789–1914. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998. P. 94.
(обратно)223
Gillet Louis. Trois variations sur Claude Monet. Paris: Librairie Plon, 1927. P. 45.
(обратно)224
WL 2123.
(обратно)225
WL 2119.
(обратно)226
WL 2113.
(обратно)227
Цит. по: Rushton Ray. Ingres: Drawings from the Musée Ingres at Montauban and Other Collections // Journal of the Royal Society of Arts (February 1980). P. 159.
(обратно)228
О карикатурах, созданных в Гавре, см.: Tucker. Claude Monet: Life and Art. P. 9; Edwards Hugh. The Caricatures of Claude Monet // Bulletin of the Art Institute of Chicago (1907–1951). Vol. 37 (September-October, 1943). P. 71–72. О портретных набросках в «Брассери де Мартир» см.: Maillard Firmin. Les Derniers Bohèmes: Henri Murger et son temps. Paris: Librairie Satorius, 1874. P. 42.
(обратно)229
Marmottan inventory no. 5128 (Sketchbook 1); Marmottan inventory no. 5129 (Sketchbook 6).
(обратно)230
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 78–79.
(обратно)231
La Revue de l’art ancien et moderne. Juin 1927. Об улучшении зрения в 1914 г. см.: WL 2123.
(обратно)232
La Renaissance: politique, littéraire et artistique. Juin 13, 1914.
(обратно)233
WL 642.
(обратно)234
Цит. по: Spate. Claude Monet: The Colour of Time. P. 280.
(обратно)235
Работы Бланш Ошеде-Моне можно встретить в собраниях многих национальных музеев Франции: в Музее Клемансо и в Музее Мармоттан-Моне в Париже, в Музее Тулуз-Лотрека в Альби, в Музее изящных искусств в Руане, в Музее августинцев в Тулузе, в Музее Ла Кою в Ване и в Музее А.-Ж. Пулена в Верноне.
(обратно)236
WL 2103.
(обратно)237
Geffroy. Claude Monet. P. 332. О том, как Бланш поддерживала художника и помогала ему в то время, см. также: Burke. Monet’s Angel. P. 74–75.
(обратно)238
Goncourt E. de, Goncourt J. de. Manette Salomon. Paris: Charpentier, 1902. P. 162, 267–268.
(обратно)239
L’Artiste. Juin 1, 1873.
(обратно)240
Писсарро цит. по: Becker Christoph et al. Camille Pissarro, Impressionist Artist. Staatsgalerie, Stuttgart, 1999. P. 103. Об идеальном расстоянии до холста, по мнению Писсарро, см.: Gage John. The Technique of Seurat: A Reappraisal // Art Bulletin. Vol. 69 (September 1987). P. 451–452.
(обратно)241
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 75.
(обратно)242
Цит. по: Ball Philip. Bright Earth: The Invention of Colour. London: Viking, 2001. P. 153.
(обратно)243
Цит. по: Ibid. P. 13.
(обратно)244
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 59. О красках и технике Моне в поздний период см.: Roy Ashok. Monet’s Palette in the Twentieth Century: Water-Lilies and Irises // National Gallery Technical Bulletin. Vol. 28. London: National Gallery, 2007. P. 61–67.
(обратно)245
Слова Леонса Бенедита цит. по: Moore, Sarah J. John White Alexander and the Construction of National Identity: Cosmopolitan American Art, 1880–1915. Cranbury, NJ: Associated University Presses, 2003. P. 49.
(обратно)246
WL 2617.
(обратно)247
WL 1132.
(обратно)248
L’Art et les artistes. Décembre 1905 / Trans. Terence Maloon // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 197.
(обратно)249
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 86.
(обратно)250
Деревенский житель (фр.).
(обратно)251
La Renaissance de l’art français et des industries de luxe. Janvier 1920. Этим другом был Жорж Леконт, описанный эпизод произошел в начале 1890-х гг.
(обратно)252
Gil Blas. Juin 3, 1914.
(обратно)253
Факт путешествия Моне в Париж и посещения залов Камондо подтверждает газета: Le Journal des débats politiques et littéraires. Juin 9, 1914.
(обратно)254
La Revue de Paris. Février 1927.
(обратно)255
Цит. по: Tucker. Monet in the ‘90s. P. 246.
(обратно)256
WL 243.
(обратно)257
Цит. по: Isham Howard. Image of the Sea: Oceanic Consciousness in the Romantic Century. New York: Peter Lang, 2004. P. 335.
(обратно)258
Manet by Himself: Correspondence and Conversation / Ed. Juliet Wilson-Bareau. London: MacDonald & Co., 1991. P. 31.
(обратно)259
Цит. по: Tucker. Claude Monet: Life and Art. P. 96.
(обратно)260
Burlington Magazine for Connoisseurs. May 1911.
(обратно)261
Vollard Ambrose. Recollections of a Picture Dealer / Trans. Violet M. MacDonald. Mineola, NY: Dover, 2002. P. 103.
(обратно)262
Le Carnet de la semaine. Juin 24, 1917.
(обратно)263
Journal des débats politiques et littéraires. Juin 9, 1914.
(обратно)264
La Lanterne. Juin 17, 1914.
(обратно)265
Gil Blas. Juin 16, 1914. Данные о разрушениях взяты из: La Lanterne. Juin 16, 1914.
(обратно)266
Имеется в виду традиционное французское приветствие, сопровождающееся троекратным символическим поцелуем в щеку. — Примеч. перев.
(обратно)267
Le Figaro. Juin 20, 1913.
(обратно)268
Archives Claude Monet. P. 152. Романистом был Леон Верт.
(обратно)269
WL 2120, 2121.
(обратно)270
WL 2122, 2123.
(обратно)271
Цит. по: Holt Edgar. The Tiger: The Life of Georges Clemenceau, 1841–1929. London: Hamish Hamilton, 1976. P. 165.
(обратно)272
L’Homme Libre. Juin 25, 1914.
(обратно)273
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 164.
(обратно)274
См.: Zeldin Theodore. France 1848–1945: Politics and Anger. Oxford: Oxford University Press, 1979. P. 397.
(обратно)275
Цит. по: Goldberg Harvey. The Life of Jean Jaurès. Madison: University of Wisconsin Press, 1962. P. 460, 463.
(обратно)276
Le Figaro. Mars 13, 1914. Все обстоятельства дела см.: Berenson Edward. The Trial of Madame Caillaux. Berkeley: University of California Press, 1992.
(обратно)277
L’Homme Libre. 21 Juillet 1914.
(обратно)278
О погоде 3 августа см.: Le Matin. 4 Août 1914.
(обратно)279
WL 2128.
(обратно)280
WL 3102.
(обратно)281
Le Matin. Août 4, 1914.
(обратно)282
Le Temps. Septembre 4, 1914.
(обратно)283
The Times. Septembre 3, 1914.
(обратно)284
Автор благодарит за эту информацию Клэр Менон (личная электронная переписка, 17 декабря 2014 г.). См.: Maingon Claire; Campserveux, David. A Museum at War: The Louvre 1914–1921 // L’Esprit Créateur. Vol. 54 (Summer 2014). P. 127–140.
(обратно)285
WL 2642.
(обратно)286
Buffet Eugénie. Ma vie, mes amours, mes aventures: confidences recueillies par Maurice Hamel. Paris: Eugène Figuière, 1930. P. 129.
(обратно)287
Le Radical. Novembre 19, 1914.
(обратно)288
Buffet. Ma vie, mes amours, mes aventures. P. 129–130.
(обратно)289
WL 2132
(обратно)290
WL 2124.
(обратно)291
WL 2126.
(обратно)292
Об этой аварии см.: WL 1673. Моне пишет об освобождении сына от службы в письме: WL 2128.
(обратно)293
WL 2125.
(обратно)294
WL 2127.
(обратно)295
Mirbeau Octave. Correspondance Générale / Ed. Pierre Michel with the assistance of Jean-François Nivet. Lausanne: L’Age d’Homme, 2005. Vol. 2. P. 260.
(обратно)296
Guitry. If I Remember Right. P. 222.
(обратно)297
Ibid. P. 227.
(обратно)298
Elder. A Giverny, chez Claude Monet. Loc. 835.
(обратно)299
L’Homme Libre. Août 2, 1913.
(обратно)300
Ibid. Septembre 14, 1913.
(обратно)301
Harding James. Sacha Guitry: The Last Boulevardier. London: Methuen, 1968. P. 51.
(обратно)302
Le Figaro. Octobre 22, 1932.
(обратно)303
Le Journal. Septembre 16, 1894.
(обратно)304
Mirbeau. Correspondance Générale. Vol. 2. P. 284.
(обратно)305
Ibid. P. 261.
(обратно)306
Le Figaro Février 17, 1917.
(обратно)307
Пьер Мишель рассказывает о верной собаке динго как о «близнеце» Мирбо в предисловии к опубликованному издательством «Буше» роману Мирбо «Динго»: Mirbeau. Dingo. Société Octave Mirbeau, 2003. P. 6. Издание доступно онлайн: .
(обратно)308
Carr Reg. Anarchism in France: The Case of Octave Mirbeau. Manchester, UK: Manchester University Press, 1977. P. 147.
(обратно)309
L’Echo de Paris. Mars 31, 1891.
(обратно)310
Цит. по: Michel Pierre, Nivet Jean-Francois. Octave Mirbeau: l’imprécateur au cœur fidèle. Paris: Librairie Séguier, 1990. P. 905–906.
(обратно)311
Mirbeau Octave. Sébastien Roch. Preface by Pierre Michel. Angers: Éditions du Boucher, 2003. P. 268, 269.
(обратно)312
Le Petit Parisien. Août 13, 1915.
(обратно)313
Elder Marc. Deux essais: Octave Mirbeau, Romain Rolland. Paris: Georges Cres, 1914. P. 22.
(обратно)314
Mirbeau. Correspondance avec Claude Monet. P. 215.
(обратно)315
Gil Blas. Septembre 3, 1913.
(обратно)316
WL 2124.
(обратно)317
Ibid.
(обратно)318
См.: раздел «Погода» на с. 3 газеты «Матэн» за июль 1914 г. (Le Temps Qu’il Fait // Le Matin. Juillet 1914).
(обратно)319
Le Matin. Septembre 14, 1914.
(обратно)320
Определение «Великая война» вошло в обиход в начале осени 1914 г. См.: La Grande Guerre: La Vie en Lorraine / Ed. René Mercier. Septembre 1914. Nancy: L’Est Républicain; а также: La Grande Guerre par les artistes / Ed. Gustave Geffroy.Paris: Georges Crès. Novembre 1914. Той осенью были также опубликованы фотографии Шарля де Прейсака (Charles de Preissac. Photographies de la Grande Guerre). Понятие «мировая война» появляется в издании: Revue Générale Militaire 16. Juillet-décembre 1914. Paris: Berger-Levrault. P. 104.
(обратно)321
WL 2642.
(обратно)322
WL 2129.
(обратно)323
WL 2130.
(обратно)324
В издании: L’Echo de Paris. Novembre 8, 1914, указано всего четыре парижских отеля, «открытые во время войны».
(обратно)325
Le Petit Parisien. Novembre 10, 1914.
(обратно)326
Ibid.
(обратно)327
Geffroy. Claude Monet. P. 1.
(обратно)328
Слова Жюля Амеде Барбе д’Оревильи цит. по: Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 103.
(обратно)329
L’Art et les artistes. Décembre 1905 / Trans. Terence Maloon // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 197.
(обратно)330
Geffroy. Claude Monet. P. 313.
(обратно)331
См.: Dallas. At the Heart of a Tiger. P. 440.
(обратно)332
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 79.
(обратно)333
L’Homme Libre. Août 2, 1914.
(обратно)334
Clemenceau. Discours de Guerre: Recueillis et publiés par la Société des Amis de Georges Clemenceau. Paris: Presses Universitaires de France, 1968. P. 43.
(обратно)335
Цит. по: Watson D. R. Clemenceau: A Political Biography. London: Eyre Methuen, 1974. P. 252.
(обратно)336
Цит. по: Suarez Georges. La vie orgueilleuse de Clemenceau. Paris: Éditions P. Saurat, 1987. P. 128.
(обратно)337
Цит. по: Becker Jean-Jacques. The Great War and the French People / Trans. Arnold Pomerans. Leamington Spa: Berg, 1985. P. 45.
(обратно)338
WL 2135.
(обратно)339
The International Journal of Ethics. November 1915.
(обратно)340
Le Figaro. Février 20, 1915.
(обратно)341
Цит. по: Delouche Danielle. Cubisme et camouflage // Guerres mondiales et conflits contemporains. No. 171: Représenter la Guerre de 1914–1918. Juillet 1993. P. 125.
(обратно)342
Цит. по: Ibid. P. 131–132. О кубизме и обвинениях в отсутствии патриотизма см. с. 129.
(обратно)343
Le Figaro. Juin 2, 1915.
(обратно)344
L’Homme Libre. Août 9, 1914.
(обратно)345
Le Matin. Août 30, 1914.
(обратно)346
Revue de Paris. Decembre 15, 1914. Перевод на английский язык см.: Byrnes Joseph F. Reconciliation of Cultures in the Third Republic: Émile Mâle (1862–1954) // Catholic Historical Review. Vol. 83. No. 3 (July 1997). P. 417–418. Высказывание Родена о Реймсе см.: Cadel Judith. Rodin: Sa vie glorieuse, sa vie inconnue. Paris: Grasset, 1937. P. 110.
(обратно)347
Цит. по: Kelly Barbara L. Debussy and the Making of a musicien français: Pelléas, the Press, and World War I // French Music, Culture, and National Identity, 1870–1939 / Ed. Barbara L. Kelly. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2008. P. 69.
(обратно)348
Becker. The Great War and the French People. P. 91.
(обратно)349
L’Echo de Paris. Septembre 19, 1914.
(обратно)350
WL 2143.
(обратно)351
Les Allemands: destructeurs des cathédrales et de trésors du passé. Paris: Hachette, 1915. P. 76.
(обратно)352
«Большая декорация» (фр.).
(обратно)353
Цит. по: Dallas Gregor. 1918: War and Peace. London: Pimlico, 2002. P. 170.
(обратно)354
Le Matin. Decembre 5, 1914.
(обратно)355
L’Echo de Paris. Janvier 2, 1915.
(обратно)356
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 80.
(обратно)357
Le Figaro. Decembre 10, 1914.
(обратно)358
Le Matin. Février 25, 1915; Le Petit Parisien. Février 29, 1915.
(обратно)359
L’Homme Libre. Decembre 15, 1914.
(обратно)360
Le Petit Parisien. Février 12, 1922.
(обратно)361
Guitry. If I Remember Right. P. 23.
(обратно)362
Fels Marthe de. La Vie de Claude Monet. Paris: Gallimard, 1929. P. 173.
(обратно)363
Guitry. If I Remember Right. P. 236.
(обратно)364
См.: Geffroy. Claude Monet. P. 14–15.
(обратно)365
Gil Blas. Decembre 9, 1909.
(обратно)366
Персики Мельба — десерт, придуманный кулинаром и ресторатором Огюстом Эскофье в первой половине 1890-х годов в честь оперной певицы Нелли Мельба; представляет собой сочетание персика и ванильного мороженого с добавлением малинового пюре.
(обратно)367
Elder. A Giverny, chez Claude Monet. Loc. 662.
(обратно)368
Цит. по: Lloyd Rosemary. Mallarmé: The Poet and His Circle. Ithaca: Cornell University Press, 1999. P. 138. Моне приводит текст стихотворения Малларме в письме 1920 г., адресованном Жеффруа: WL 2390. Конверт размещался на небольшой подставке, установленной в застекленном бюро во второй мастерской (Je sais tout. Janvier 15, 1914).
(обратно)369
См.: Le Figaro. Juin 15, 1907. Книга Пруста должна была называться «Шесть садов Рая»; предполагалось, что речь в ней пойдет о саде графини де Ноай, о садах Рёскина на озере Конистон-Уотер и Мориса Метерлинка (которого автор называет «Вергилием Фландрии»), поэтов Анри де Ренье и Франсиса Жамма, а также о саде Моне в Живерни.
(обратно)370
Marcel Proust on Art and Literature, 1896–1919 / Trans. Sylvia Townsend Warner. New York: Meridian Books, 1958. P. 357.
(обратно)371
Nouvelle Revue Française. Juillet 1, 1909.
(обратно)372
Здесь и далее цит. по: Пруст М. В сторону Сванна / Пер. Е. В. Баевской. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2013.
(обратно)373
WL 2640.
(обратно)374
Le Figaro. Novembre 20, 1914.
(обратно)375
Ibid. Decembre 23, 1914.
(обратно)376
Banks Arthur, Palmer Alan. A Military Atlas of the First World War. London: Leo Cooper, 1989. P. 13 (кайзер Вильгельм); Stibbe Matthew. Germany, 1914–1933: Politics, Society and Culture. Abingdon: Routledge, 2013. P. 16 (Мольтке); Chandler Malcolm. Home Front 1914–18. Oxford: Heinemann, 2001. P. 7 (Асквит).
(обратно)377
Le Temps. Decembre 27, 1914.
(обратно)378
WL 3103.
(обратно)379
Koechlin Raymond. Souvenirs d’un vieil amateur d’art de l’Extrême-Orient. Chalon-sur-Saone: Imprimerie Française et Orientale E. Bertrand. P. 3, 38. О его отце Альфреде Кошлене см.: Tableaux Généalogiques de la Famille Koechlin, 1460–1914. Mulhouse: Ernest Meinenger, 1914. P. 19.
(обратно)380
Archives Claude Monet. P. 82.
(обратно)381
WL 2142.
(обратно)382
Les Musées de France: Bulletin publié sous le patronage de la Direction des Musées Nationaux avec le concours de la Société des Amis du Louvre et de l’Union Centrale des Arts Décoratifs / Ed. Paul Vitry. Paris: D.-A. Longuet, 1913. P. 55–56.
(обратно)383
В последний раз, в 1892 г., члены комиссии по вопросам оформления ратуши проголосовали за Пьера Лагарда (10 голосов), в итоге победившего Моне (4 голоса). См.: Patry Sylvie. Monet and Decoration // Claude Monet, 1840–1926. Paris: Réunion des musées nationaux, 2010. P. 323. Вильденштейн отмечает, что в письмах Моне нет упоминаний о конкурсе, а значит, «судя по всему, результат его мало заботил. Да и неизвестно, претендовал ли он на заказ» (Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 288).
(обратно)384
Цит. по: Gotlieb Marc J. The Plight of Emulation: Ernest Meissonier and French Salon Painting. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 24.
(обратно)385
Цит. по: Gotlieb. The Plight of Emulation. P. 21.
(обратно)386
Lettres de Eugène Delacroix / Ed. Philippe Burty. Paris: A. Quantin, 1878. P. 147.
(обратно)387
Revue des Deux Mondes. Juin 1906.
(обратно)388
Единственное исключение, да и то в США, а не во Франции, — триптих Мэри Кэссетт «Современная женщина», созданный для «Дома женщин» во время Всемирной Колумбовой выставки 1893 года в Чикаго.
(обратно)389
Mercure de France. Septembre 16, 1912.
(обратно)390
Цит. по: Patry. Monet and Decorations. P. 318.
(обратно)391
WL 2145.
(обратно)392
Ibid.
(обратно)393
Discours de Guerre. P. 46.
(обратно)394
WL 2145.
(обратно)395
Le Figaro. Mai 31, 1912.
(обратно)396
Ibid. Février 18, 1913.
(обратно)397
Ibid. Février 20, 1913.
(обратно)398
Gil Blas. Avril 3, 1913.
(обратно)399
WL 2148.
(обратно)400
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 155.
(обратно)401
Clemenceau. Claude Monet: Les Nymphéas. Paris: Plon, 1928. P. 16.
(обратно)402
Je sais tout. Janvier 15, 1914.
(обратно)403
L’Art et les artistes. Décembre 1905 / Trans. Terence Maloon // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 197.
(обратно)404
WL 2127, 2134, 2136, 2149.
(обратно)405
WL 2153.
(обратно)406
Цит. по: The Prix Goncourt // Encyclopedia of Library and Information Science / Ed. Allen Kent, Harold Lancourt, Jay E. Daley. New York: Marcel Dekker, 1978. Vol. 24. P. 206.
(обратно)407
Goncourt Edmond, Jules de. Journal: Mémoires de la vie littéraire. Vol. 3 / Ed. Robert Ricatte. Paris: Robert Laffont, 1989. P. 348.
(обратно)408
Elder. A Giverny, chez Claude Monet. Loc. 674. Экранизацию романа «Борьба за огонь» (La Guerre du Feu) осуществил в 1981 г. режиссер Жан-Жак Анно.
(обратно)409
Geffroy. Claude Monet. P. 329.
(обратно)410
Paris-Magazine. Août 25, 1920; цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 406.
(обратно)411
L’Oeuvre. Decembre 11, 1926.
(обратно)412
Цит. по: Ravon Georges. L’Académie Goncourt en dix couverts. Avignon: E. Aubanel, 1943. P. 59.
(обратно)413
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 46.
(обратно)414
Stuckey. Claude Monet, 1840–1926. P. 247.
(обратно)415
La Guerre Mondiale. Juillet 22, 1915.
(обратно)416
WL 2155.
(обратно)417
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 83. Борьба Моне против строительства фабрики по производству крахмала широко освещалась в тогдашней прессе; см., например: La Chronique des arts et de la curiosité. Septembre 21, 1895.
(обратно)418
Geffroy. Claude Monet. P. 324.
(обратно)419
La Vie Moderne. Juillet 12, 1880.
(обратно)420
Revue illustrée. Mars 15, 1898, цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 321.
(обратно)421
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 130.
(обратно)422
Martet Jean. M. Clemenceau peint par lui-même. Paris: Albin Michel, 1929. P. 52–53. Версии этого эпизода, как и его весьма отличное изложение на английском языке (Martet. Clemenceau. P. 217), а также вариант, изложенный Бланш Ошеде-Моне (Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 163), подробно рассматриваются Джанин Берк, см.: Burke. Monet’s Angel. P. 75–76. Берк предполагает что Бланш могла играть и более активную роль в создании Grande Décoration, поскольку была способна «изящно передавать и имитировать стиль мастера». Исследовательница утверждает, что Бланш, возможно, положила несколько красочных слоев, чтобы художник затем доработал их характерными сложными мазками (с. 76). Однако сама Бланш это отрицала, а других свидетельств не осталось, так что это любопытное предположение остается неподтвержденным.
(обратно)423
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 163.
(обратно)424
Ibid. P. 81.
(обратно)425
Le Temps. Juillet 8, 9, 1915.
(обратно)426
Le Figaro. Juillet 8, 1915.
(обратно)427
См. рецензию на статью Альфреда Анго «Пушка и дождь»: Hawke E. L. Monthly Weather Review. Vol. 45 (September 1917). P. 450–451; см. также: Campbell W. W. The War and the Weather // Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Vol. 29 (October 1917). P. 200–202.
(обратно)428
Об обедах в Париже см.: Gil Blas. Mai 15, 1913. О поисках специалиста по глазным болезням см.: Alphant. Claude Monet. P. 658. О пребывании в Буа-Люретт: WL 2079.
(обратно)429
Harding. Sacha Guitry. P. 77.
(обратно)430
Так описывает эту встречу сам Гитри в созданной в 1952 г. расширенной версии фильма «Соотечественники». В более поздней версии, подготовленной для телевидения совместно с Фредериком Россифом, Гитри путает Клода Ренуара с его старшим братом Жаном.
(обратно)431
Harding. Sacha Guitry. P. 77.
(обратно)432
О нелюбви Моне к собакам и кошкам см. в: Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 123. О японских курах см.: Elder. A Giverny, chez Claude Monet. Loc. 677. О Ласси: L’Ouest-Éclair. Juillet 24, 1913.
(обратно)433
WL 2158.
(обратно)434
WL 2161a.
(обратно)435
WL 2160.
(обратно)436
WL 2157, 2158.
(обратно)437
Le Petit Parisien. Novembre 4, 1915; L’Homme Libre. Novembre 5, 1915.
(обратно)438
Le Petit Journal. Mars 22, 1915. Фотографии и перечень мест, которым был нанесен ущерб, см.: Le Petit Parisien. Mars 22, 1915.
(обратно)439
Ibid. Mai 2, 1915.
(обратно)440
La Croix. Août 25, 1915.
(обратно)441
Ibid. Octobre 2, 1915.
(обратно)442
См.: Watson. Clemenceau. P. 256.
(обратно)443
WL 2162.
(обратно)444
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 83.
(обратно)445
Le Figaro. Novembre 24, 1915.
(обратно)446
Le Gaulois. Novembre 23, 1915.
(обратно)447
Le Figaro. Décembre 6, 1915.
(обратно)448
Le Petit Parisien. Novembre 25, 1915.
(обратно)449
Le Figaro. Décembre 6, 1915.
(обратно)450
Ibid. Novembre 24, 1915.
(обратно)451
Цит. по: Harding. Sacha Guitry. P. 79.
(обратно)452
Le Figaro. Décembre 10, 1915.
(обратно)453
Ibid. Juin 2, 1915.
(обратно)454
Le Gaulois. Juillet 23, 1921.
(обратно)455
WL 2164, 2165.
(обратно)456
День Нового года (фр.).
(обратно)457
Le Matin. Janvier 1, 1916.
(обратно)458
Цит. по: Horne Alistair. The Price of Glory: Verdun 1916. London: Macmillan, 1962. P. 34.
(обратно)459
Цит. по: Foley Robert T. German Strategy and the Path to Verdun: Erich Von Falkenhayn and the Development of Attrition, 1870–1916. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. P. 189.
(обратно)460
L’Echo de Paris. Janvier 5, 1915.
(обратно)461
Le Petit Parisien. Mars 22, 1915.
(обратно)462
Ibid. Janvier 30, 1916.
(обратно)463
Цит. по: Horne. The Price of Glory. P. 76.
(обратно)464
Ibid.
(обратно)465
Le Petit Parisien. Mars 1, 1916.
(обратно)466
Ibid. Octobre 11, 1914; Octobre 3, 1915.
(обратно)467
Davenport Gibbons Helen. Paris Vistas. New York: The Century Co., 1919. P. 224.
(обратно)468
Le Petit Journal. Décembre 23, 24, 1874.
(обратно)469
WL 2172.
(обратно)470
WL 2172, 2173.
(обратно)471
WL 2170.
(обратно)472
WL 2163.
(обратно)473
WL 2177.
(обратно)474
Journal des débats politiques et littéraires. Avril 14, Juillet 24, 1915; WL 2151.
(обратно)475
WL 2176.
(обратно)476
The Times. November 11, 1914.
(обратно)477
Gil Blas. Juin 2, 1912.
(обратно)478
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 253.
(обратно)479
Archives Claude Monet. P. 137.
(обратно)480
Le Figaro. Novembre 10, 1916.
(обратно)481
WL 2188.
(обратно)482
WL 2183.
(обратно)483
WL 2180.
(обратно)484
McAdie Alexander. Has the War Affected the Weather? // Atlantic Monthly. September 1916. P. 392–395. Макэйди пишет, что «аномальная погода, которая держится уже несколько месяцев, стала частой темой для разговоров» (c. 392). О недовольстве Моне погодой см.: WL 2188.
(обратно)485
Rapports de M. Paul Peytral, Préfet de L’Allier et des Chefs de Service. Part 3: Rapports des Chefs de Service et Renseignments Divers: Finances. Moulins: Fudez Frères, 1915. P. 11.
(обратно)486
WL 2178.
(обратно)487
Hoschedé. Claude Monet. Vol. 1. P. 37.
(обратно)488
Bulletin de la Statistique générale de la France. Vol. 6 (Octobre 1916). P. 18, 25.
(обратно)489
Le Matin. Septembre 19, 1916.
(обратно)490
WL 2187.
(обратно)491
WL 2178.
(обратно)492
WL 2190.
(обратно)493
Carr. Anarchism in France. P. 164, n. 17.
(обратно)494
Цит. по: Butler Ruth. Rodin: The Shapes of Genius. New Haven, CT: Yale University Press, 1993. P. 88.
(обратно)495
Le Figaro. Février 23, 1916.
(обратно)496
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 174.
(обратно)497
Le Figaro. Février 23, 1916.
(обратно)498
WL 2192.
(обратно)499
Le Matin. Août 22, 1916.
(обратно)500
Цит. по: Horne. The Price of Glory. P. 304.
(обратно)501
Цит. по: Watson Alexander John. Marginal Man: The Dark Vision of Harold Innis. Toronto: University of Toronto Press, 2006. P. 77.
(обратно)502
Barbusse Henri. Under Fire / Trans. W. Fitzwater Wray. London: Dent, 1988. P. 325. В переводе на английский язык роман был впервые опубликован в 1917 г. издательством «Wray». Перевод на русский язык В. Я. Парнаха.
(обратно)503
WL 2182, 2184.
(обратно)504
Le Figaro. Novembre 10, 1916.
(обратно)505
Législation de la guerre de 1914–1916: Lois, décrets, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles. Vol. 5. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1917. P. 267.
(обратно)506
Martet. Clemenceau. P. 223.
(обратно)507
Цит. по: Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 19.
(обратно)508
Цит. по: Elsen Albert E., Jamison Rosalyn Frankel. Rodin’s Art: The Rodin Collection of Iris & B. Gerald Cantor Center of Visual Arts at Stanford University / Ed. Bernard Barryte. New York: Oxford University Press, 2003. P. 480.
(обратно)509
Le Gaulois. Mars 11, 1917.
(обратно)510
Цит. по: Levitch Mark. The Great War Re-remembered: The Fragmentation of the World’s Largest Painting // Matters of Conflict: Material Culture, Memory and the First World War / Ed. Nicholas J. Saunders. London: Routledge, 2004. P. 96.
(обратно)511
WL 2200.
(обратно)512
WL 2191.
(обратно)513
WL 2192.
(обратно)514
WL 2201.
(обратно)515
WL 2205.
(обратно)516
Gil Blas. Octobre 17, 1905. Именно в этой рецензии Воксель окрестил Матисса, Дерена и прочих «дикими зверями».
(обратно)517
Слова Ж. Пеладана цит. по: Les Fauves: A Sourcebook / Ed. Russell T. Clement. Westport, CT: Greenwood Press, 1994. P. xxix.
(обратно)518
Archives Claude Monet. P. 105.
(обратно)519
Цит. по: O’Brian John. Ruthless Hedonism: The American Reception of Matisse. Chicago: University of Chicago Press, 1999. P. 6.
(обратно)520
L’Art et les Artistes. Décembre 1905 / Trans. Terence Maloon // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 198.
(обратно)521
Цит. по: Spurling Hilary. The Unknown Matisse: A Life of Henri Matisse: The Early Years, 1869–1908. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1998. P. 126.
(обратно)522
Цит. по: Spurling. The Unknown Matisse. P. 133.
(обратно)523
Цит. по: Benjamin. The Decorative Landscape. P. 304.
(обратно)524
Matisse on Art / Ed. Jack Flam. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1995. P. 39.
(обратно)525
Archives Claude Monet. P. 105.
(обратно)526
Matisse on Art. P. 5.
(обратно)527
История этого художественного состязания прекрасно рассказана в книге: Flam Jack. Matisse and Picasso: The Story of Their Rivalry and Friendship. Cambridge, MA: Westview Press, 2004. Об их соперничестве в первые годы войны, в том числе и о «Купальщицах у реки», см. с. 102–112. Об экспериментах Матисса с кубизмом см.: Golding John. Matisse and Cubism. Glasgow: University of Glasgow Press, 1978. P. 14–19.
(обратно)528
Цит. по: Flam. Matisse and Picasso. P. 109.
(обратно)529
L’Anti-Boche. Juillet 8, 1916.
(обратно)530
Об этом переходе см.: Flam Jack. Introduction // Matisse on Art. P. 5.
(обратно)531
WL 2207.
(обратно)532
WL 2205a.
(обратно)533
WL 2208.
(обратно)534
New York Herald. March 11, 1917.
(обратно)535
WL 2014.
(обратно)536
WL 2212.
(обратно)537
WL 2210.
(обратно)538
WL 2211.
(обратно)539
Le Figaro. Février 1, 1917.
(обратно)540
Le Matin. Février 3, 1917.
(обратно)541
Le Figaro. Janvier 30, 1917.
(обратно)542
WL 2217.
(обратно)543
Цит. по: Stuckey. Claude Monet. P. 248.
(обратно)544
WL 2216.
(обратно)545
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 408.
(обратно)546
WL 2219.
(обратно)547
Le Petit Parisien. Février 19, 1917.
(обратно)548
Ibid. Juillet 28, 1915.
(обратно)549
Ibid. Août 13, 1915.
(обратно)550
Слова Поля Леото цит. по: Carr. Anarchism in France. P. 161.
(обратно)551
Цит. по: Ibid.
(обратно)552
Подробнее об этом см.: Ibid. P. 161ff; Werth Léon. Le ‘Testament politique d’Octave Mirbeau’ est un faux // Combats politiques de Mirbeau / Ed. Pierre Michel, Jean-François Nivet. Paris: Librairie Séguier, 1990. P. 268–273; Michel, Nivet. Octave Mirbeau: l’imprécateur au cœur fidèle. P. 920–924.
(обратно)553
WL 2232.
(обратно)554
Clemenceau. Claude Monet: Les Nymphéas. P. 25.
(обратно)555
WL 2242.
(обратно)556
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 58.
(обратно)557
Clemenceau. Claude Monet. P. 28, 31.
(обратно)558
Цит. по: Watson. Clemenceau. P. 258.
(обратно)559
См.: Vollard. Recollections of a Picture Dealer. P. 238–240.
(обратно)560
Ibid. P. 240. О зарисовках Клемансо см.: Exposition de Peintures et Dessins d’Étienne Clémentel // La Renaissance de l’art français et des industries de luxe (Juillet 1926). P. 637.
(обратно)561
WL 2230.
(обратно)562
Цит. по: House. Nature into Art. P. 246. N. 56.
(обратно)563
Morice Charles. Introduction // Rodin Auguste. Les Cathédrales de France. Paris: Librairie Armand Colin, 1914. P. 22.
(обратно)564
Цит. по: Goebel Stefan. The Great War and Medieval Memory: War, Remembrance and Medievalism in Britain and Germany. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007. P. 181. Об использовании Реймса во французской пропаганде см.: Harlault Yann. La Cathédrale de Reims, du 4 septembre 1914 au 10 juillet 1938: Idéologies, controverses et pragmatisme / Marie-Claude Genet-Delacroix. Université de Reims Champagne-Ardenne, 2006; Idem. Naissance d’un mythe: l’Ange au Sourire de Reims. Reims: Éditions Guéniot, 2008; Demouy Patrick. Le Sourire de Reims // Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 153. No. 4 (2009). P. 1609–1627.
(обратно)565
Цит. по: Demouy. Le Sourire de Reims. P. 1613, 1615.
(обратно)566
Le Matin. Octobre 9, 1914.
(обратно)567
Ibid. Février 24, 1917.
(обратно)568
Le Matin. Avril 9, 10, 21, 1917; Le Croix. Avril 14, 1917.
(обратно)569
Le Matin. Avril 21, 1917.
(обратно)570
Ibid. Avril 30, 1917.
(обратно)571
WL 2230.
(обратно)572
L’Homme Libre. Décembre 16, 1914.
(обратно)573
WL 2231.
(обратно)574
La Réglementation de la Consommation de l’Essence // Bulletin des Usines de Guerre (Mai 21, 1917). P. 27.
(обратно)575
WL 2232a.
(обратно)576
Le Matin. Avril 15, 1917.
(обратно)577
Ibid. Mai 10, 1917.
(обратно)578
См.: Becker. The Great War and the French People. P. 210ff.
(обратно)579
WL 2232.
(обратно)580
WL 2229.
(обратно)581
Ibid.
(обратно)582
Марианна Альфан датирует этот визит 10 мая. См.: Alphant. Claude Monet: une vie dans le paysage. P. 654. О сильных грозах см.: Le Matin. Mai 11, 1917.
(обратно)583
Такер рассуждает о том, что Матисс «мог иметь в виду старейшину импрессионизма», когда писал «Урок музыки». См.: Tucker. Revolution in the Garden. P. 70–71.
(обратно)584
О бомбардировках в течение месяца до 23 июля, когда Моне написал Клемантелю, см.: Le Matin. Juin 22, 27, 30; Juillet 7, 8, 11, 13, 16, 1917.
(обратно)585
Le Matin. Juillet 4, 1917.
(обратно)586
Le Carnet de la semaine. Septembre 16, 1917.
(обратно)587
Цит. по: Rewald John. The History of Impressionism. Vol. 1. New York: Museum of Modern Art, 1961. P. 220.
(обратно)588
О некоторых изменениях см.: Herbert. Method and Meaning in Monet. P. 102. Подробный разбор того, что изображение Реймсского собора не соответствовало бы обычному подходу Моне, см.: Hoog Michel. La Cathédrale de Reims de Claude Monet, ou le tableau impossible // Revue du Louvre. No. 1 (1981). P. 22–24. Хуг пишет, что в картинах Моне «художественный замысел преобладает над предметностью» и что «предметное изображение собора, а уж тем более нанесенного ему ущерба означало бы отказ от всех его достижений как до, так и после» (с. 24). Джон Хаус пишет в том же ключе, что даже в сериях картин Моне со скирдами и тополями «традиционная риторика важности темы» приглушена «в целях вынесения на первый план способности художника видеть и переосмыслять». См. рецензию: House John. Art Bulletin (June 1996). P. 366.
(обратно)589
American Magazine of Art. March 1927.
(обратно)590
Gillet Louis. Trois variations sur Claude Monet. Paris: Librairie Plon, 1927. P. 53.
(обратно)591
Kandinsky: Complete Writings on Art. Vol. 1 / Ed. Kenneth C. Lindsay, Peter Vergo. Boston: G. K. Hall, 1982. P. 363. О знакомстве Кандинского с творчеством Моне см.: Avtonomova Natalya. Vasilii Kandinsky and Claude Monet // Experiment: A Journal of Russian Culture 9 (2003). P. 57–68.
(обратно)592
French Cathedrals, by B. Winkles, from Drawings Taken on the Spot by R. Garland, Architect, with an Historical and Descriptive Account. London: Charles Tilt, 1837. P. 149.
(обратно)593
Clark Kenneth. Landscape into Art. London: John Murray, 1976. P. 94.
(обратно)594
Le Carnet de la Semaine. Novembre 4, 1917.
(обратно)595
WL 2235a.
(обратно)596
Le Matin. Juillet 24, 1917.
(обратно)597
Le Carnet de la Semaine. Septembre 16, 1917. Воксель подписал эту статью псевдонимом Пинтуриккьо.
(обратно)598
Churchill Winston. Thoughts and Adventures. London: Thornton Butterworth, 1932. P. 169, 175, 177.
(обратно)599
WL 2238a.
(обратно)600
Le Matin. Septembre 30, 1917.
(обратно)601
WL 2233.
(обратно)602
WL 2235.
(обратно)603
WL 2238.
(обратно)604
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 16.
(обратно)605
Ibid. P. 154.
(обратно)606
Geffroy. Claude Monet. P. 332.
(обратно)607
WL 2245.
(обратно)608
WL 2240.
(обратно)609
WL 2242.
(обратно)610
Geffroy. Claude Monet. P. 5.
(обратно)611
Gil Blas. Mars 3, 1889.
(обратно)612
Geffroy. Claude Monet. P. 8.
(обратно)613
WL 2247.
(обратно)614
Ibid.
(обратно)615
Цит. по: Alphant. Claude Monet: une vie dans le paysage. P. 682.
(обратно)616
WL 2248.
(обратно)617
WL 2249.
(обратно)618
Hoog. La Cathédrale de Reims de Claude Monet. P. 24. N. 13.
(обратно)619
WL 2251.
(обратно)620
WL 2248.
(обратно)621
WL 2254.
(обратно)622
Цит. по: Keiger J. F. V. Raymond Poincaré. Cambridge, UK: Cambridge University Press. P. 3.
(обратно)623
Цит. по: Ibid. P. 11.
(обратно)624
Berger Marcel, Allard Paul. Les Secrets de la censure pendant la guerre. Paris: Éditions des portiques, 1932. P. 63.
(обратно)625
Цит. по: Zeldin. Politics and Anger. P. 233.
(обратно)626
Цит. по: Keiger. Raymond Poincaré. P. 236.
(обратно)627
Цит. по: MacMillan Margaret. Paris 1919: Six Months that Changed the World. New York: Random House, 2001. P. 33–34.
(обратно)628
Цит. по: Watson. Clemenceau. P. 269.
(обратно)629
Цит. по: Keiger. Raymond Poincaré. P. 372.
(обратно)630
La Croix. Novembre 17, 1917.
(обратно)631
L’Opinion. Novembre 24, 1917.
(обратно)632
Clemenceau. Discours de Guerre. P. 133.
(обратно)633
Churchill Winston. Great Contemporaries. London: Thornton Butterworth, 1937. P. 312.
(обратно)634
WL 2259.
(обратно)635
La Revue de l’art ancien et moderne. Juin 1927.
(обратно)636
WL 2285.
(обратно)637
Delouche. Cubisme et camouflage. P. 127; Illustrated London News. November 6, 1920.
(обратно)638
Clémentel Étienne. La France et la Politique économique interalliée. Paris: Les Presses Universitaires de France, 1931. P. 217.
(обратно)639
Archives Claude Monet. P. 29.
(обратно)640
Le Figaro. Janvier 29, 1918.
(обратно)641
Stovall Tyler. Paris and the Spirit of 1919: Consumer Struggles, Transnationalism, and Revolution. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012. P. 219.
(обратно)642
Milwaukee Journal. November 25, 1929.
(обратно)643
WL 2260.
(обратно)644
Gibbons. Paris Vistas. P. 282.
(обратно)645
Clémentel. La France et la Politique économique interalliée. P. 233.
(обратно)646
Le Gaulois. Novembre 25, 1917.
(обратно)647
WL 2255a.
(обратно)648
Цит. по: Hayman Ronald. Proust. London: William Heinemann, 1990. P. 433.
(обратно)649
Цит. по: Watson. Clemenceau. P. 294.
(обратно)650
Цит. по: Fussell Paul. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 78.
(обратно)651
Le Matin. Mars 30, 1918.
(обратно)652
Ibid. Mars 23, 1918.
(обратно)653
Clemenceau. Discours de Guerre. P. 177.
(обратно)654
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 189, 206.
(обратно)655
Цит. по: Gilbert Martin. Winston S. Churchill, 1874–1965. Vol. 4: 1916–1922. London: Heinemann, 1975. P. 99.
(обратно)656
Churchill. Great Contemporaries. P. 312.
(обратно)657
WL 2275.
(обратно)658
Cologne Gazette. Avril 16, 1918. Цит. по: Le Matin. Avril 21, 1918.
(обратно)659
WL 2277.
(обратно)660
WL 2266, 2274.
(обратно)661
Le Carnet de la semaine. Janvier 27, 1918.
(обратно)662
WL 2275.
(обратно)663
WL 2261, 2271, 2272.
(обратно)664
WL 2278.
(обратно)665
Grandville J. J. Élégie: Le Saule Pleureur // Les Fleurs animées. Paris: Garnier-Frères, 1847. P. 211–212.
(обратно)666
Rollinat Maurice. La Lune // Choix de poésies. Paris: Charpentier, 1926.
(обратно)667
Перевод Аполлона Григорьева. Текст из «Отелло» см.: Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini. Vol. 19 / Ed. Michael Collins. Fondazione Rossini: Pesaro, 1994. P. 786.
(обратно)668
Virmaître Charles, Buguet Henry. Paris Croque-Mort. Paris: Camille Dalou, 1889. P. 56.
(обратно)669
WL 2275.
(обратно)670
Tucker. Revolution in the Garden. P. 76–77.
(обратно)671
Claude Monet: Life and Art. P. 210. См. также у Такера анализ этих картин как «носителей глубокого смысла»: Tucker. Revolution in the Garden. P. 76–77.
(обратно)672
American Art News. February 23, 1907.
(обратно)673
Подробнее об этой встрече см.: Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 57–60.
(обратно)674
Le Matin. Août 3, 1918.
(обратно)675
Цит. по: The War Lords / Ed. Michael Carver. London: Weidenfeld & Nicolson, 1976. P. 41.
(обратно)676
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 212. N. 1.
(обратно)677
Watson. Clemenceau. P. 314.
(обратно)678
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 219.
(обратно)679
Paris 1918: The War Diary of the 17th Earl of Derby / Ed. David Dutton. Liverpool: Liverpool University Press, 2001. P. 217.
(обратно)680
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 218.
(обратно)681
Ibid. P. 241.
(обратно)682
Цит. по: Ibid. P. 251.
(обратно)683
Art & Life. November 1919. О коллекции японского искусства Клемансо см.: Séguéla Matthieu. Le Japonisme de Georges Clemenceau // Ebisu 27 (Automne — hiver 2001). P. 7–44.
(обратно)684
Clemenceau. Discours de Guerre. P. 43.
(обратно)685
Ibid. P. 211.
(обратно)686
Le Temps. Octobre 20, 1918.
(обратно)687
Dallas Gregor. 1918: War and Peace. London: Pimlico, 2002. P. 172. Даллас пересказывает печальную историю: в последние минуты жизни Аполлинера до Парижа дошла новость об отречении кайзера Вильгельма («Гийома» во французском произношении). Услышав, что толпа под его окном скандирует: «A bas Guillaume!» («Долой Вильгельма!»), поэт решил, что люди хотят его смерти.
(обратно)688
Цит. по: Darmon Pierre. La grippe espagnole submerge la France // L’Histoire. No. 281 (Novembre 2003). P. 84. Информацию об эпидемии в Париже я почерпнул из этой работы, а также из статьи: Lahaie Olivier. l’épidémie de grippe dite ‘espagnole’ et sa perception par l’armée française (1918–1919) // Revue historique des armées. Vol. 262 (2011). P. 102–109.
(обратно)689
Becker. The Great War and the French People. P. 318.
(обратно)690
Цит. по: Neiberg. Michael S. Foch: Supreme Allied Commander in the Great War. Dulles, VA: Potomac Books, 2003. P. 86.
(обратно)691
Цит. по: Neiberg. Foch. P. 86.
(обратно)692
Цит. по: Dallas. 1918. P. 173.
(обратно)693
Эти описания (как и описания в следующих абзацах) взяты из публикаций за 12 ноября в «Фигаро», «Ом либр», «Юманите», «Матэн», «Пти паризьен» и «Тан».
(обратно)694
L’Homme Libre. Novembre 12, 1918.
(обратно)695
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 218.
(обратно)696
Churchill. Great Contemporaries. P. 302.
(обратно)697
Clemenceau. Discours de Guerre. P. 203.
(обратно)698
Цит. по: Watson. Clemenceau. P. 327.
(обратно)699
WL 2290.
(обратно)700
WL 2287.
(обратно)701
Le Matin. Novembre 14, 18, 1918.
(обратно)702
La Renaissance: Politique, Economique, Littéraire et Artistique. Décembre 7, 1918. В этой заметке, «Тигр в джунглях», его визит ошибочно отнесен к дню перемирия.
(обратно)703
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 75.
(обратно)704
Ibid. P. 75–76.
(обратно)705
Guitry. If I Remember Right. P. 238.
(обратно)706
Le Bulletin de la Vie Artistique. Mai 1, 1920.
(обратно)707
Guitry. If I Remember Right. P. 238.
(обратно)708
La Renaissance: Politique, Economique, Littéraire et Artistique. December 7, 1918.
(обратно)709
Geffroy. Claude Monet. P. 333.
(обратно)710
L’Homme Libre. Décembre 1, 1918.
(обратно)711
Geffroy. Claude Monet. P. 333. Вильденштейн пишет, что из свидетельств Жеффруа «возникает искушение сделать вывод, что мысль о более значительном даре оформилась к 18 ноября» (Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 410).
(обратно)712
L’Art et les artistes. Novembre 1920.
(обратно)713
Excelsior. Janvier 26, 1921.
(обратно)714
Марк Левич, из электронного письма за 26 февраля 2015 г.
(обратно)715
Le Gaulois. Décembre 29, 1918. О погружении в атмосферу см.: Levitch. The Great War Re-remembered: The Fragmentation of the World’s Largest Painting. P. 94–95.
(обратно)716
France-Etats-Unis: revue mensuelle du Comité France-Amérique (Janvier 1919). P. 379.
(обратно)717
Le Figaro. Novembre 25, 1917. Я также использовал подробности описания похорон в газете: Le Matin. Novembre 25, 1917.
(обратно)718
Archives Claude Monet. P. 137.
(обратно)719
WL 2288, 2289, 2290.
(обратно)720
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 74.
(обратно)721
WL 2292.
(обратно)722
Le Matin. Décembre 5, 1918.
(обратно)723
WL 2294.
(обратно)724
Le Matin. Août 2, 1918.
(обратно)725
Ibid. Septembre 6, 1918.
(обратно)726
WL 2296, 2299.
(обратно)727
Art et Décoration: Revue mensuelle d’Art moderne (Juillet — décembre 1910).
(обратно)728
New York Times. January 11, 1914.
(обратно)729
New York Sun. October 7, 1917.
(обратно)730
Ibid. April 14, 1918.
(обратно)731
WL 2280.
(обратно)732
WL 2294.
(обратно)733
См.: Le Petit Parisien. Janvier 9, 1919, а также многочисленные газетные сообщения.
(обратно)734
WL 2296.
(обратно)735
WL 2297.
(обратно)736
WL 2296.
(обратно)737
WL 2308.
(обратно)738
WL 2306.
(обратно)739
Archives Claude Monet. P. 12.
(обратно)740
WL 2306.
(обратно)741
The Times. December 2, 4, 1918.
(обратно)742
Paris 1918: The War Diary of the British Ambassador. P. 83.
(обратно)743
Ibid. P. 287.
(обратно)744
Об этом недопонимании см.: Dallas. 1918. P. 216.
(обратно)745
Цит. по: MacMillan. Paris 1919. P. 27.
(обратно)746
Цит. по: Dallas. 1918. P. 212.
(обратно)747
The Times. December 31, 1918.
(обратно)748
Ibid. January 23, 1919.
(обратно)749
Подробности покушения взяты из заметок в «Ом либр», «Пти паризьен», «Таймс» и «Нью-Йорк таймс» от 20 февраля 1919 г.
(обратно)750
La Croix. Mai 7, 1912.
(обратно)751
L’Homme Enchâiné. Octobre 20, 1916. О ее пребывании на рю Франклин в феврале 1919 г. писала «Фигаро» 23 и 24 февраля.
(обратно)752
Delamarre L. Lettre à mes soldats. Paris: A. Rasquin, 1919. P. 4.
(обратно)753
Archives Claude Monet. P. 31.
(обратно)754
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 228. Коттена выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья в августе 1924 г.
(обратно)755
Цит. по: Dallas. 1918. P. 177.
(обратно)756
The Times. December 5, 1918.
(обратно)757
Эту статистику см.: McDonald William. Reconstruction in France. London: Macmillan, 1922. P. 24–30.
(обратно)758
Dallas. 1918. P. 84.
(обратно)759
Collected Writings of John Maynard Keynes. Vol. 2 / Ed. Donald Moggridge, Elizabeth Johnson. London: Macmillan, 1971. P. 94.
(обратно)760
Le Figaro. Avril 9, 1919.
(обратно)761
WL 2319.
(обратно)762
WL 2316.
(обратно)763
WL 2313.
(обратно)764
WL 2319.
(обратно)765
Le Figaro. Août 16, 1919, а также см. заметки: Times. August 14, 18, 1919.
(обратно)766
WL 2319.
(обратно)767
The Literary Digest. February 3, 1917.
(обратно)768
Le Looping. Août 10, 1918.
(обратно)769
Cocteau Jean. A Call to Order / Trans. Rollo H. Myers. London: Faber & Gwyer, 1926. См. об этом фундаментальную работу: Silver Kenneth. Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First World War, 1914–1925. Princeton: Princeton University Press, 1989. Сильвер демонстрирует, как попадали под подозрение художники-иностранцы, работавшие во Франции во время войны и совсем с ней не связанные, и как модернизм в целом, а кубизм в особенности стали ассоциироваться с немецкими захватчиками. Недавно Сильвер еще детальнее обосновал свои доводы в издании: Silver Kenneth. Chaos and Classicism: Art in France, Italy, and Germany, 1918–19: Exhibition catalogue. New York: Guggenheim Museum Publications, 2010.
(обратно)770
Lampué Pierre. Rapport: Au nom de la 4e Commission (1), relatif aux diverses propositions de la glorification de la Victoire. Paris: Conseil Municipal de Paris, 1919. P. 2.
(обратно)771
Vachon Marius. La Guerre artistique avec l’Allemagne: L’Organization de la Victoire. Paris: Librairie Payot et Cie, 1916. P. 138, 140.
(обратно)772
Убедительный анализ того, чем именно поздние работы Моне противоречили магистральному направлению послевоенного искусства, см.: Tucker. Revolution in the Garden. P. 78–79.
(обратно)773
WL 2324.
(обратно)774
Clemenceau. Claude Monet: Les Nymphéas. P. 31.
(обратно)775
См.: Archives Claude Monet. P. 140.
(обратно)776
WL 2326.
(обратно)777
L’Épitaphe // Rollinat Maurice. Les Névroses: les âmes, les luxures, les refuges, les spectres, les ténèbres. Paris: G. Charpentier, 1885. Об интересе Роллина к пациентам психиатрических больниц см.: Gordon Rae Beth. From Charcot to Charlot // The Mind of Modernism: Medicine, Psychology, and the Cultural Arts in Europe and America, 1880–1940 / Ed. Mark S. Micale. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. P. 105.
(обратно)778
Цит. по: Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 148.
(обратно)779
WL 923.
(обратно)780
Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 105.
(обратно)781
Цит. по: Vinchon Émile. Maurice Rollinat dans la Creuse // Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse. Vol. 27 (1938–1940). P. 318. Именно из этой работы я взял подробности о жизни Роллина во Фресселине.
(обратно)782
WL 2326.
(обратно)783
Цит. по: Hanson Lawrence. Renoir: The Man, the Painter, and His World. London: Leslie Frewin, 1972. P. 248. Хэнсон пишет, что эта реплика приводится в нескольких вариантах, «но смысл всегда один и тот же» (c. 270, примеч. 64). В журнале «Мон иллюстре» эта «легенда» появилась уже 20 декабря 1919 г., и там Ренуар, умирая, говорит: «Je faisais encore des progrès!» («Я все еще совершенствуюсь!»).
(обратно)784
Цит. по: Rushton Ray. Ingres: Drawings from the Musée Ingres at Montauban and Other Collections // Journal of the Royal Society of Arts (February 1980). P. 159.
(обратно)785
Цит. по: Mayor Hyatt A.; Betchaku Yasuko. Hokusai // Metropolitan Museum of Art Bulletin. New Series. Vol. 43 (Summer 1985). P. 5.
(обратно)786
Vollard Ambrose. Renoir: An Intimate Record / Trans. Harold L. Van Doren, Randolph T. Weaver. New York: Alfred A. Knopf, 1925. P. 225–226.
(обратно)787
Archives Claude Monet. P. 135.
(обратно)788
WL 2328, 2329.
(обратно)789
Le Radical. Décembre 4, 1919.
(обратно)790
Le Gaulois. Janvier 19, 1920.
(обратно)791
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 127.
(обратно)792
Цит. по: Byrd Robert C. The Senate, 1789–1989. Vol. 1: Addresses on the History of the United States Senate. Washington, DC: Senate Historical Office, 1988. P. 424.
(обратно)793
Цит. по: Times. December 11, 1919.
(обратно)794
Об участии Ллойд-Джорджа см.: Dallas. 1918. P. 501.
(обратно)795
Le Monde illustré. Janvier 24, 1920.
(обратно)796
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 247.
(обратно)797
WL 2319b.
(обратно)798
La Revue hebdomadaire. Février 6, 1909.
(обратно)799
Le Bulletin de la vie artistique. Février 1, 1920.
(обратно)800
Archives Claude Monet. P. 78.
(обратно)801
WL 2333.
(обратно)802
Вильденштейн пишет: «Возникло предположение — хотя доказательств не существует, — что Клемансо привез в Живерни иностранного коллекционера, чтобы сквитаться со своими неблагодарными соотечественниками» (Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 412). Если под этим коллекционером имеется в виду Зубалов, вряд ли его можно назвать «иностранным» в том смысле, что он увезет Grande Décoration из страны. Но даже если Клемансо и привез Зубалова в Живерни, он совершенно не обязательно поступил так из вредности: Зубалов, скорее всего, приобрел бы панно (как поступил уже со многими произведениями искусства) не для себя, а для Франции.
(обратно)803
WL 2335.
(обратно)804
Le Petit Parisien. Février 12, 1922.
(обратно)805
WL 2341.
(обратно)806
WL 2336. О высоких ценах на работы Моне в Америке в этот период см.: La Renaissance de l’art français et des industries de luxe (Janvier 1920): там сказано, что его работы продавались даже по 130 тысяч франков.
(обратно)807
La Renaissance de l’art français et des industries de luxe. Mai 1927.
(обратно)808
Le Bulletin de la Vie Artistique. Août 15, 1921.
(обратно)809
Ibid. Mai 1, 1920.
(обратно)810
Bertha Palmer: Curatorial Entry // Monet: Paintings and Drawings at the Art Institute of Chicago / Ed. Gloria Groom, Jill Shaw. Chicago: Art Institute of Chicago, 2014. Par. 6.
(обратно)811
Bulletin de la vie artistique. Avril 15, 1921. О работах импрессионистов в Люксембургском музее см.: Les Peintures, Ecole Française. Paris: H. Laurens, 1923. Passim.
(обратно)812
Об участии в поездке хранителя и архитектора см.: Le Temps. Octobre 14, 1920.
(обратно)813
Chicago Daily Tribune. December 6, 1926. В 1920 г. американский доллар равнялся 15 франкам.
(обратно)814
Alumni Directory: University of Chicago. Chicago: University of Chicago Press, 1920. P. xiv — xv.
(обратно)815
WL 2335a.
(обратно)816
Alphant. Claude Monet: une vie dans le paysage. P. 675.
(обратно)817
La Revue de l’art ancien et moderne. Janvier — Mai 1927.
(обратно)818
Chicago Daily Tribune. December 6, 1926.
(обратно)819
WL 578.
(обратно)820
La Revue de l’art ancien et moderne. Janvier — Mai 1927.
(обратно)821
WL 2358.
(обратно)822
WL 2359.
(обратно)823
WL 2355, 2358.
(обратно)824
WL 2362.
(обратно)825
WL 2326, 2355.
(обратно)826
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 80.
(обратно)827
Ibid.
(обратно)828
Duroselle. Clemenceau. P. 898.
(обратно)829
Цит. по: Ibid. P. 899.
(обратно)830
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 84.
(обратно)831
WL 2366.
(обратно)832
Léon Paul. Du Palais-Royal au Palais-Bourbon: souvenirs. Paris: Albin-Michel, 1947. P. 207.
(обратно)833
О деятельности Леона в Реймсе см.: Bidaud Camille. Paul Léon et la restauration monumentale: l’exemple de Saint-Remi de Reims // Diplôme Propre aux Écoles d’Architecture, directed by Jean-Philippe Garric, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (2012); Idem. Des expérimentations légitimées par le traumatisme: Paul Léon à Saint-Remi de Reims // Situ: Revue des patrimoines. No. 23 (2014), доступно онлайн: .
(обратно)834
Благодарю Камиллу Бидо (частная переписка по электронной почте, 29 июля 2015) и Яна Харло (август 2015), которые подтвердили: сведения о том, что Поль Леон был как-то связан с реймсским заказом Моне, отсутствуют.
(обратно)835
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 150.
(обратно)836
Цит. по: Lortsch Charles. La Beauté de Paris et la Loi. Paris: Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1913. P. 205. О влиянии введенных Боннье в 1902 г. архитектурных ограничений см.: Ayers Andrew. The Architecture of Paris. Stuttgart; London: Axel Menges, 2004. P. 400.
(обратно)837
Le Cri de Paris. Juin 8, 1913.
(обратно)838
Sheridan Alan. André Gide: A Life in the Present. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998. P. 217.
(обратно)839
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 414.
(обратно)840
Цит. по: Sheridan. André Gide. P. 223.
(обратно)841
Wildenstein. Claude Monet: Biographie et catalogue raisonné. Vol. 4. P. 97. N. 887.
(обратно)842
Ibid. Vol. 4. P. 98. N. 902; P. 99. N. 912.
(обратно)843
Ibid. P. 97. N. 887.
(обратно)844
Le Petit Parisien. Octobre 14, 1920.
(обратно)845
L’Opinion. Octobre 16, 1920.
(обратно)846
WL 2380.
(обратно)847
WL 2391.
(обратно)848
Le Temps. Octobre 14, 1920.
(обратно)849
La Revue de l’art ancien et moderne. Février 1927.
(обратно)850
Le Temps. Octobre 14, 1920.
(обратно)851
Le Populaire. Octobre 20, 1920.
(обратно)852
L’Humanité. Octobre 29, 1920.
(обратно)853
Le Figaro. Octobre 21, 1920.
(обратно)854
La Renaissance de l’Art Français et des Industries de Luxe. Janvier 1921. В этой статье, равно как и в статье Александра в «Фигаро» и во всех тогдашних документах, включая и записи самого Моне, картина называется «Dames cueillant des fleurs» («Женщины, собирающие цветы»).
(обратно)855
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 153.
(обратно)856
Normand // Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, доступно онлайн: .
(обратно)857
WL 2384.
(обратно)858
Le Figaro. Novembre 14, 1920.
(обратно)859
Ibid. Octobre 21, 1920.
(обратно)860
La Renaissance de l’art français et des industries de luxe. Janvier 1920.
(обратно)861
La Revue de l’art ancien et moderne. Janvier — Mai 1927.
(обратно)862
Le Populaire. Novembre 23, 1920.
(обратно)863
Le Journal. Septembre 26, 1911.
(обратно)864
Elder. A Giverny, chez Claude Monet. Loc. 641.
(обратно)865
Mauclair Camille. L’Impressionnisme: son histoire, son esthétique, ses maîtres. Paris: Librairie de l’Art Ancien et Moderne, 1904. P. 220. Картины Моне см.: Exposition universelle de 1900: Catalogue officiel illustré de l’exposition centennale de l’art français de 1800 à 1889. Paris: Lemercier, 1900. P. 211.
(обратно)866
Tabarant Adolphe. Manet et ses oeuvres. Paris: Gallimard, 1947. P. 316.
(обратно)867
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 40.
(обратно)868
Цит. по: Peyrefitte Roger. L’Illustre écrivain. Paris: Albin Michel, 1982. P. 197.
(обратно)869
Le Bulletin de la vie artistique. Décembre 1, 1920.
(обратно)870
Le Figaro. Janvier 30, 1921.
(обратно)871
Ibid. Décembre 31, 1920.
(обратно)872
Illustrated London News. February 26, 1921.
(обратно)873
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 415.
(обратно)874
Цит. по: Kelly Simon. Monet’s Water Lilies: The Agapanthus Triptych. St. Louis: St. Louis Art Museum, 2011. P. 30–31.
(обратно)875
Цит. по: Kelly. Monet’s Water Lilies. P. 30. Цит. по: Léon Paul. La Renaissance des ruines: maisons, monuments. Paris: H. Laurens, 1918. P. 44.
(обратно)876
Цит. по: Ibid. P. 44.
(обратно)877
WL 2406.
(обратно)878
WL 2398.
(обратно)879
WL 2402.
(обратно)880
WL 2400, 2402.
(обратно)881
Цит. по: Duroselle. Clemenceau. P. 914.
(обратно)882
The Times. November 28, 1929.
(обратно)883
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 85.
(обратно)884
Ibid. P. 101.
(обратно)885
Le Matin. Avril 8, 1921.
(обратно)886
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 87.
(обратно)887
WL 2418.
(обратно)888
Le Matin. Avril 8, 1921.
(обратно)889
WL 2419, 2421.
(обратно)890
WL 2422.
(обратно)891
WL 2424.
(обратно)892
WL 2426.
(обратно)893
Моне жаловался Арсену Александру на то, что в Оранжери не обеспечивается «необходимая дистанция» для восприятия картин (WL 2437).
(обратно)894
WL 2426.
(обратно)895
О дружбе Клемансо с герцогом Сайондзи см: Séguéla Matthieu. Le Japonisme de Georges Clemenceau. P. 12; о его бонсаях и садовнике см.: Ibid. P. 35.
(обратно)896
Archives Claude Monet. P. 78.
(обратно)897
Le Bulletin de la vie artistique. Novembre 15, 1921.
(обратно)898
Ibid. Décembre 15, 1922.
(обратно)899
L’Homme Libre. Mars 16, 1924. Визит Мацукаты в Живерни я датирую июнем на основании письма Моне Арсену Александру от 19 июня (WL 2442).
(обратно)900
Le Bulletin de la vie artistique. Decembre 15, 1922.
(обратно)901
Ibid.
(обратно)902
См.: Horner Libby. Brangwyn and the Japanese Connection // Journal of the Decorative Arts Society 1850–the Present. No. 26, Omnium Gatherum: A Collection of Papers (2002). P. 72–83.
(обратно)903
WL 2341a.
(обратно)904
Mirbeau Octave. La 628-E8. Paris: Charpentier, 1910. P. 207–209. Ошеде тоже рассказывает историю о магазине пряностей в Голландии (Vol. 1. P. 54).
(обратно)905
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 54.
(обратно)906
Gazette des Beaux-Arts. Juin 1909.
(обратно)907
Excelsior. January 26, 1921; цит. по: Shackleford et al. Monet and the Impressionists. Cat. 37. P. 162.
(обратно)908
Цит. по: Shackleford George T. M. Monet and Japanese Art // Shackleford et al. Monet and the Impressionists. P. 91.
(обратно)909
См.: Tanaka Hidemichi. Cézanne and Japonisme // Artibus et Historiae 22. No. 44 (2001). P. 201–220. Танака ссылается на работы более ранних японских исследователей, таких как Кадзуо Фукумото, который в 1950-е гг. отметил сходство между работами Сезанна и японских художников. Танака и другие японские искусствоведы отмечали, что изображения горы Сен-Виктуар у Сезанна вдохновлены также и скирдами Моне, «на которые, в свою очередь, оказали влияние пейзажные серии Хокусая» (P. 203).
(обратно)910
Le Temps. Juin 7, 1904.
(обратно)911
Archives Claude Monet. P. 142.
(обратно)912
Le Temps. Juin 7, 1904.
(обратно)913
Об этом совпадении см.: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 290.
(обратно)914
American Art News. January 21, 1922.
(обратно)915
L’Homme Libre. Mars 16, 1924.
(обратно)916
Ibid. В статье сказано, что это произошло «два года назад», однако Мацуката познакомился с Моне и приобрел его работы только в 1921-м.
(обратно)917
Le Bulletin de la vie artistique. Novembre 15, 1921.
(обратно)918
В «Бюллетэн де ла ви артистик» сообщалось, что Мацуката «выбрал… в Живерни пятнадцать полотен Моне… Теперь у него, видимо, двадцать пять „моне“» (15 декабря 1922). В статье отмечено, что он приобрел «скирды, тополя, лондонские мосты, водяные лилии, пейзажи со снегом, виды Бель-Иля».
(обратно)919
Цит. по: Horner. Brangwyn and the Japanese Connection. P. 75.
(обратно)920
Ibid.
(обратно)921
WL 2442.
(обратно)922
American Art News. January 21, 1922. Согласно этой статье, Мацукате принадлежит 25 полотен Моне.
(обратно)923
WL 2437.
(обратно)924
WL 2442.
(обратно)925
WL 2435.
(обратно)926
WL 2444.
(обратно)927
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 89.
(обратно)928
The Times. June 23, 1921.
(обратно)929
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 89.
(обратно)930
Le Petit Parisien. Octobre 3, 1921.
(обратно)931
Ibid.
(обратно)932
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 89.
(обратно)933
Ibid. P. 119.
(обратно)934
Le Petit Parisien. Octobre 1, 1921.
(обратно)935
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 90.
(обратно)936
Эти подробности я взял из статьи в «Пти паризьен» от 1 октября 1921 г.
(обратно)937
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 107–108.
(обратно)938
Ibid. P. 149, 151.
(обратно)939
Ibid. P. 89.
(обратно)940
Duroselle. Clemenceau. P. 900.
(обратно)941
Le Petit Parisien. Octobre 1, 1921.
(обратно)942
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 323n.
(обратно)943
Le Petit Parisien. Octobre 1, 1921.
(обратно)944
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 81; Le Temps. Août 31, 1924.
(обратно)945
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 90.
(обратно)946
Ibid. P. 91.
(обратно)947
WL 2458.
(обратно)948
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 91.
(обратно)949
WL 2463.
(обратно)950
WL 2470.
(обратно)951
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 94.
(обратно)952
WL 2474.
(обратно)953
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 94.
(обратно)954
Ibid. P. 98.
(обратно)955
WL 2489. Он использует выражение «que sale type je suis».
(обратно)956
WL 2490.
(обратно)957
WL 2491.
(обратно)958
Подробнее об этом контракте см.: Stuckey Charles F. Blossoms and Blunders: Monet and the State. Part I: Art in America (January-February 1979). P. 114–115.
(обратно)959
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 101.
(обратно)960
WL 2500.
(обратно)961
Le Figaro. Novembre 19, 1922.
(обратно)962
Geffroy. Claude Monet. P. 324, 335.
(обратно)963
L’Art dans les deux mondes. Mars 7, 1891.
(обратно)964
La Revue Indépendante de Littérature et d’Art. Mars 1892.
(обратно)965
Geffroy. Claude Monet. P. 335–336.
(обратно)966
Fermes et Château. September 1, 1908.
(обратно)967
Geffroy. Claude Monet. P. 334, 336.
(обратно)968
Овидий. Метаморфозы. Кн. 9. Ст. 347. Пер. С. Шервинского.
(обратно)969
Ward William E. The Lotus Symbol: Its Meaning in Buddhist Art and Philosophy // Journal of Aesthetics and Art Criticism. 11 (December 1952). P. 136. N. 9. О египетских символах Уорд говорит на с. 135.
(обратно)970
Dobkin de Rios Marlene. The Influence of Psychotropic Flora and Fauna on Maya Religion // Current Anthropology15 (June 1974). P. 150–151; Pasztory Esther. The Iconography of the Teotihuacan Tlaloc // Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology. No. 15 (1974). P. 7, 10.
(обратно)971
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 68–69.
(обратно)972
Maeterlinck Maurice. The Intelligence of Flowers / Trans. Alexander Teixeira de Mattos. New York: Dodd Mead & Co., 1907. P. 34.
(обратно)973
Sand George. François le Champi. Paris: Hachette, 1855. P. 11. Жорж Санд. Франсуа-найденыш. Пер. Ю. Корнеева. Санд пишет, что «нап» — это местное диалектное слово, обозначавшее «красивый цветок, известный… под именем ненюфара или нимфеи»: по ее мнению, название связано с напеями, покровительницами лугов и лесов (с. 1).
(обратно)974
l’Abbé Thiébaud. Marie dans les Fleurs: ou, reflet symbolique des privilèges de la Sainte Vierge dans les beautés de la Nature. Paris: Lecoffre Fils et Cie., 1867. P. 284–285.
(обратно)975
Rollinat Maurice. Létang // Les névroses.
(обратно)976
Rollinat Maurice. L’Étang Rouge // En errant, proses d’un solitaire. Paris: Charpentier, 1903. P. 132. Среди других стихотворений Роллина, где упомянуты водяные лилии, — «Глаза девственниц» и «Луна».
(обратно)977
Мирбо Октав. Сад мучений / Пер. В. А. Ф. 1909.
(обратно)978
Там же.
(обратно)979
L’Art dans les deux Mondes. Mars 7, 1891.
(обратно)980
Mercure de France. Février 1901. Цит. по: Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 196.
(обратно)981
Pilon Edmond. Octave Mirbeau. Paris: Bibliothèque Internationale, 1903. P. 8.
(обратно)982
Apter Emily. The Garden of Scopic Perversion from Monet to Mirbeau // October 47 (Winter, 1988). P. 106. См. также: Limousin Christian. Monet au Jardin des supplices // Cahiers Octave Mirbeau. Angers. No. 8 (Avril 2001). P. 256–278, доступно онлайн: http:// mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Limousin-JDSmonet.pdf.
(обратно)983
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 58.
(обратно)984
Пер. В. Козового.
(обратно)985
Apter. The Garden of Scopic Perversion. P. 110–111.
(обратно)986
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 339.
(обратно)987
Limousin. Monet au Jardin des supplices, доступно онлайн: -francais/Limousin-JDSmonet.pdf.
(обратно)988
Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 252.
(обратно)989
Цит. по: Geffroy. Claude Monet. P. 244.
(обратно)990
Цит. по: Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 223.
(обратно)991
Rey Robert. La Renaissance du sentiment classique dans la peinture française à la fin du 19e siècle: Degas, Renoir, Gauguin, Cézanne, Seurat. Paris: Les Beaux-Arts, Édition d’Études et de Documents, 1931. P. 136–137. Рей пишет вскоре после смерти Моне и предсказывает, что, если бы мастер прожил еще десять лет, на его пейзажах появились бы человеческие фигуры.
(обратно)992
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 129. N. 2.
(обратно)993
Cuvier Georges Leçons d’anatomie comparée. Vol. 5. Paris: Crochard, 1805. P. 122.
(обратно)994
Huysmans. Against Nature / Trans. Robert Baldick. Baltimore: Penguin, 1966. P. 67.
(обратно)995
Le Gaulois. December 6, 1926.
(обратно)996
Variations. Mai 27, 1927.
(обратно)997
Dictionnaire encyclopédique usuel. 4th edition. Paris: Librairie Scientifique, Industrielle et Agricole de Lacroix-Comon, 1858. Vol. 2. P. 969.
(обратно)998
Родосский Аполлоний. Аргонавтика. Кн. 1. Ст. 1227–1230. Пер. Н. Чистяковой.
(обратно)999
См., напр.: Félix Jahrer’s Etude des Beaux-arts: Salon de 1865. Paris, 1865. P. 55; Revue française. Mai-Août 1865. О скандале вокруг «Олимпии» Мане также рассказано в моей книге: King Ross. The Judgment of Paris. P. 151–155.
(обратно)1000
Clemenceau. Claude Monet: Les Nymphéas. P. 19.
(обратно)1001
Selected Writings of Jules Laforgue / Ed., trans. William Jay Smith. New York: Grove Press, 1956. P. 192.
(обратно)1002
Nordau. Degeneration. New York: D. Appleton & Co., 1895. P. 43.
(обратно)1003
Ibid. P. 37.
(обратно)1004
Цит. по: Apter. The Garden of Scopic Perversion. P. 104, 105.
(обратно)1005
Цит. по: Lanthony Philippe. Art and Ophthalmology: The Impact of Eye Diseases on Painters / Trans. Colin Mailer. Amsterdam: Kugler, 2009. P. 134.
(обратно)1006
WL 2494.
(обратно)1007
A Giverny, chez Claude Monet. Loc. 930.
(обратно)1008
WL 2503.
(обратно)1009
Цит. по: Tucker. Revolution in the Garden. P. 82.
(обратно)1010
Датировать эти поздние работы сложно, поскольку Моне после 1919 г. упорно отказывался подписывать свои картины и ставить на них дату. Впрочем, Такер считает, что пейзаж с японским мостиком (их в 1918 г. было начато три) и аллея с розами (мотив, к которому он вернулся в 1920-м) были написаны летом 1922 г.: Claude Monet: Life and Art. P. 218–219.
(обратно)1011
WL 2504a.
(обратно)1012
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 423.
(обратно)1013
Le Journal. Mai 22, 1922.
(обратно)1014
Личная переписка с Полом Хейсом Такером 2 августа 2015 г. Благодарю доктора Такера за информацию об этой сделке и за подтверждение моих догадок по поводу того, какую именно картину приобрел Мацуката.
(обратно)1015
WL 2505.
(обратно)1016
Royer J., Haut J., Almaric P. l’Opération de la cataracte de Claude Monet: Correspondance inédite du peintre et de G. Clemenceau au docteur Coutela // Histoire des Sciences Médicales. 18 (1984). P. 110.
(обратно)1017
Ibid.
(обратно)1018
WL 2507.
(обратно)1019
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 111.
(обратно)1020
New York Times. September 10, 1922.
(обратно)1021
Цит. по: Holt. The Tiger. P. 251.
(обратно)1022
Об отрицании Киплингом этого высказывания см.: The Letters of Rudyard Kipling. Vol. 5. P. 127–128. Пинни считает, что «нет никаких сомнений, что он все-таки это сказал» (с. 128).
(обратно)1023
The Times. September 11, 1922.
(обратно)1024
New York Times. September 10, 1922.
(обратно)1025
Le Petit Journal. Septembre 12, 1922.
(обратно)1026
New York Tribune. Octobre 22, 1922.
(обратно)1027
The Times. November 11, 1922.
(обратно)1028
New York Tribune. October 22, 1922.
(обратно)1029
Ibid. November 20, 1922.
(обратно)1030
Ibid.
(обратно)1031
New York Evening World. November 20, 1922.
(обратно)1032
New York Tribune. November 24, 1922.
(обратно)1033
Ibid.
(обратно)1034
New York Evening World. December 5, 13, 1922.
(обратно)1035
Le Figaro. Novembre 19, 1922.
(обратно)1036
WL 2517.
(обратно)1037
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 142.
(обратно)1038
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 423–424.
(обратно)1039
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 142.
(обратно)1040
Ibid. Vol. 1. P. 142–143.
(обратно)1041
Heuraux Léon. Cocaïne et stovaïne en ophtalmologie: leurs indications particulières. Lyon: Delaroche et Schneider, 1906. P. 51.
(обратно)1042
Fuchs E. Manuel d’ophtalmologie. 2nd French edition / Trans. C. Lacompte, L. Leplat. Paris: Georges Carré, C. Naud, 1897. P. 787.
(обратно)1043
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 143.
(обратно)1044
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 424–425.
(обратно)1045
WL 2505.
(обратно)1046
La Lanterne. Mai 24, 1922.
(обратно)1047
Le Bulletin de la vie artistique. Octobre 15, 1923.
(обратно)1048
WL 2522.
(обратно)1049
См.: Golan Romy. Oceanic Sensations: Monet’s Grandes Décorations and Mural Painting in France from 1927 to 1952 // Tucker et al. Monet in the 20th Century. P. 92.
(обратно)1050
Royer et al. l’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 111.
(обратно)1051
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 116.
(обратно)1052
Royer et al. l’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 112.
(обратно)1053
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 144.
(обратно)1054
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 116.
(обратно)1055
Ibid. P. 118.
(обратно)1056
Ibid. P. 119.
(обратно)1057
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 113–114.
(обратно)1058
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 119.
(обратно)1059
Ibid. P. 122.
(обратно)1060
WL 2526.
(обратно)1061
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 124.
(обратно)1062
WL 2528; Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 114.
(обратно)1063
Ibid. P. 115.
(обратно)1064
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 125.
(обратно)1065
Ibid. P. 126; WL 2538.
(обратно)1066
WL 2529.
(обратно)1067
Отчет доктора Кутела об этой консультации см.: Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 128–130.
(обратно)1068
WL 2530.
(обратно)1069
WL 2531.
(обратно)1070
Lanthony Philippe. La xanthopsie de Van Gogh // Bulletin des Sociétés d’ophtalmologie de France (Octobre 1989). P. 133–134; Arnold W. N.; Loftis L. S. Xanthopsia and van Gogh’s Yellow Palette // Eye 5 (1991). P. 503–510.
(обратно)1071
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 116.
(обратно)1072
Guitry. If I Remember Right. P. 233.
(обратно)1073
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 126, 127.
(обратно)1074
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 116.
(обратно)1075
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 132–134.
(обратно)1076
Ibid. P. 137.
(обратно)1077
WL 2535.
(обратно)1078
WL 2539.
(обратно)1079
WL 2534.
(обратно)1080
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 9, 58.
(обратно)1081
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 139.
(обратно)1082
WL 2664.
(обратно)1083
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 140–141.
(обратно)1084
Ibid. P. 142, 143. Об аварии написали многие газеты, см., напр.: «Пти паризьен» и «Фигаро» от 17 декабря 1923 г.
(обратно)1085
Цит. по: Weisenfeld Gennifer. Imaging Disaster: Tokyo and the Visual Culture of Japan’s Great Earthquake of 1923. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2012. P. 2.
(обратно)1086
См., напр.: L’Humanité. Septembre 5, 1923.
(обратно)1087
Le Petit Parisien. Décembre 1, 1923.
(обратно)1088
Le Rappel. Janvier 15, 1924.
(обратно)1089
WL 2554.
(обратно)1090
WL 2545.
(обратно)1091
Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 137.
(обратно)1092
Gillet Louis. Trois variations sur Claude Monet. Paris: Librairie Plon, 1927. P. 45. Все цитаты взяты из этого текста.
(обратно)1093
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 143.
(обратно)1094
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 119.
(обратно)1095
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 147.
(обратно)1096
WL 2489.
(обратно)1097
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 89.
(обратно)1098
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 148, 149, 150, 157.
(обратно)1099
Ibid. P. 113.
(обратно)1100
Martet. Clemenceau. P. 219.
(обратно)1101
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 149.
(обратно)1102
Ibid. P. 150.
(обратно)1103
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 120.
(обратно)1104
WL 2567.
(обратно)1105
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 102.
(обратно)1106
Рассказ приведен: Ibid. P. 146.
(обратно)1107
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 434.
(обратно)1108
Цит. по: Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 146.
(обратно)1109
Требования к измерениям для производства линз «Катрал» приведены: Dufour M. Sur le centrage des verres de lunettes // Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. Paris: Masson et Cie., 1914. P. 220–222.
(обратно)1110
Correspondance: Jacques-Emile Blanche — Maurice Denis (1901–1939) / Ed. Georges-Paul Collet. Geneva: Droz, 1989. P. 61.
(обратно)1111
La Renaissance de l’art français et des industries de luxe (Mai 1923). P. 310. О проживавших на рю Кастильон говорится на с. 274–375.
(обратно)1112
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 154.
(обратно)1113
Ibid. P. 157.
(обратно)1114
WL 2575.
(обратно)1115
Цит. по: Levine. Monet, Narcissus, and Self-Reflection. P. 266.
(обратно)1116
См.: Stuckey. Blossoms and Blunders. P. 120.
(обратно)1117
Georges Clemenceau à son ami. P. 158.
(обратно)1118
Письмо Леону не сохранилось, поэтому вопрос о том, насколько решительно Моне высказывался о разрыве договора, остается открытым.
(обратно)1119
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 432.
(обратно)1120
Цит. по: Spate. Claude Monet: The Colour of Time. P. 285.
(обратно)1121
Ibid.
(обратно)1122
См.: Kelly Simon. Monet’s Water Lilies: The Agapanthus Triptych. P. 40–41.
(обратно)1123
Lyon Christopher. Unveiling Monet // MoMA, No. 7 (Spring, 1991). P. 16.
(обратно)1124
Friedländer Walter. Poussin’s Old Age // Gazette des beaux-arts. Vol. 60 (Juillet-Août 1962). P. 249.
(обратно)1125
Clark Kenneth. The Artist Grows Old // Daedalus 135 (Winter 2006). P. 85.
(обратно)1126
Цит. по: Mazis Glen A. ‘Modern Depths, Painting, and the Novel: Turner, Melville, and the Interstices // Soundings: An Interdisciplinary Journal. Vol. 70 (Spring/Summer 1987). P. 125.
(обратно)1127
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 158.
(обратно)1128
Ibid. P. 161.
(обратно)1129
WL 2583, 2584, 2585.
(обратно)1130
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 163.
(обратно)1131
Цит. по: Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 2. P. 15.
(обратно)1132
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 162–163.
(обратно)1133
О подробностях этого визита см.: Griel Jacques Le. Voyage fait à Giverny (Eure) par les conseillers municipaux de Saint-Étienne qui y allèrent pour acquérir pour le musée un tableau de M. Claude Monet // Les Amitiés Foréziennes et Vellaves (Avril 1925), перепечатано: Bulletin du Vieux Saint-Etienne. No. 218 (Juin 2005). P. 36–41.
(обратно)1134
Цит. по: Maloon. Monet’s Posterity. P. 179.
(обратно)1135
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 438.
(обратно)1136
WL 2589.
(обратно)1137
WL 2589, 2590.
(обратно)1138
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 163–164.
(обратно)1139
Ibid. P. 164.
(обратно)1140
Ibid.
(обратно)1141
Ibid. P. 165.
(обратно)1142
О садах и погоде см. письмо Клемансо, написанное позднее в том же месяце: Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 165. О разговорах про политическую ситуацию см.: Clemenceau. Lettres à une amie. P. 136.
(обратно)1143
Royer et al. L’Opération de la cataracte de Claude Monet. P. 123.
(обратно)1144
WL 2606.
(обратно)1145
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 166.
(обратно)1146
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 103.
(обратно)1147
Ibid. P. 166.
(обратно)1148
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 167.
(обратно)1149
Ibid. P. 168.
(обратно)1150
Ibid. P. 167.
(обратно)1151
Clemenceau. Claude Monet. P. 19.
(обратно)1152
Ruby Jay. Secure the Shadow: Death and Photography in America. Cambridge, MA: MIT Press, 1995; Moring John. Early American Naturalists: Exploring the American West, 1804–1900. Lanham, MD: Taylor Trade Publishing, 2005. P. 124–125.
(обратно)1153
WL 2612.
(обратно)1154
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 146–147.
(обратно)1155
WL 2683.
(обратно)1156
WL 2609, 2611.
(обратно)1157
WL 2683.
(обратно)1158
WL 2615.
(обратно)1159
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 171.
(обратно)1160
Ibid. P. 173.
(обратно)1161
Ibid. P. 174.
(обратно)1162
Ibid. P. 176.
(обратно)1163
Milwaukee Journal. May 6, 1943.
(обратно)1164
Цит. по: Denommé. The Naturalism of Gustave Geffroy. P. 29. О дрожащем голосе Клемансо см.: Le Petit Parisien. Avril 8, 1926.
(обратно)1165
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 268.
(обратно)1166
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 173.
(обратно)1167
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 266.
(обратно)1168
Le Gaulois. May 18, 1927.
(обратно)1169
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 266.
(обратно)1170
Charteris. John Sargent. P. 128–129.
(обратно)1171
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 444.
(обратно)1172
La Revue de Paris. Février 1927.
(обратно)1173
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 453.
(обратно)1174
Le Gaulois. December 6, 1926.
(обратно)1175
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 294.
(обратно)1176
Цит. по: Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 151. Описание этого визита см. также в: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 446.
(обратно)1177
Цит. по: Alphant. Claude Monet. P. 674.
(обратно)1178
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 35.
(обратно)1179
Ibid. P. 348–349.
(обратно)1180
Georges Clemenceau à son ami Claude Monet. P. 186.
(обратно)1181
Ibid. P. 181.
(обратно)1182
Ibid. P. 111.
(обратно)1183
Thiébault-Sisson. Le Temps. Janvier 8, 1927. О том, что именно Клемансо якобы приказывал шоферу, рассказано: Guitry. If I Remember Right. P. 233. При этом Гитри ошибочно пишет, что Клемансо приехал не из Парижа, а из «Белеба».
(обратно)1184
Le Figaro. Décembre 9, 1926.
(обратно)1185
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 458.
(обратно)1186
Hubert R. l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire des Andelys, to Achille Delaplace, l’Instituteur de Giverny. Décembre 7, 1926. Благодарю Жан-Мишеля Пирса за разрешение процитировать это письмо.
(обратно)1187
L’Echo de Paris. Décembre 9, 1926.
(обратно)1188
Guitry. If I Remember Right. P. 233–234.
(обратно)1189
L’Echo de Paris. Décembre 9, 1926.
(обратно)1190
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 268.
(обратно)1191
Le Petit Parisien. Décembre 9, 1926.
(обратно)1192
Интервью см.: Le Gaulois. Mai 18, 1926.
(обратно)1193
Clemenceau. Lettres à une amie. P. 401.
(обратно)1194
Цит. по: Maloon Terence. Monet’s Posterity // Monet and the Impressionists / Ed. George T. M. Shackleford. Sydney: Art Gallery of New South Wales, 2008. P. 185.
(обратно)1195
Gimpel. Diary of an Art Dealer. P. 59.
(обратно)1196
Le Populaire. Mai 19, 1926.
(обратно)1197
Comoedia. Mai 17, 1927; Le Petit Journal. Mai 17, 1927.
(обратно)1198
Цит. по: Maloon. Monet’s Posterity. P. 301. О высказываниях Сикерта см.: House John. Monet: Nature into Art. New Haven, CT: Yale University Press, 1986. P. 108.
(обратно)1199
Gréard. Meissonier: His Life and Art. P. 345.
(обратно)1200
О рецензиях см.: Maloon. Monet’s Posterity. P. 182–183, 185.
(обратно)1201
L’Art Vivant. Septembre 1927.
(обратно)1202
Martet. Clemenceau. P. 244.
(обратно)1203
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 97.
(обратно)1204
Цит. по: Golan Romy. Oceanic Sensations: Monet’s Grandes Décorations and Mural Painting in France from 1927 to 1952 // Tucker Paul Hayes et al. Monet in the 20th Century. P. 92.
(обратно)1205
См.: Golan. Oceanic Sensations. P. 86, 96.
(обратно)1206
Цит. по: Easton Elizabeth W. Monet: New York // Burlington Magazine. Vol. 151 (December 2009). P. 867.
(обратно)1207
Le Ménestrel. Octobre 18, 1929.
(обратно)1208
Andigné Fortuné d’. Les Musées de Paris. Paris: Éditions Alpina, 1931. P. 135.
(обратно)1209
La Renaissance: Politique, Littéraire, Artistique. Janvier 14, 1928.
(обратно)1210
Claude Monet: Exposition Rétrospective. Paris: Musée de l’Orangerie, 1931. P. 8.
(обратно)1211
Докторская диссертация Роберта Рея была посвящена «возрождению классики» в работах Дега, Ренуара, Гогена, Сезанна и Сёра. Интересно, что Рей предсказал, что, если бы Моне довелось жить и писать еще десять лет, «облака водяных линий приняли бы человеческие очертания… и превратились в гениев и нимф». Иными словами, в пейзажах художника опять появились бы фигуры; тем самым Рей утверждает, что даже Моне — проживи он дольше — рано или поздно вернулся бы к «великой классике». См.: Rey. La Renaissance du sentiment classique dans la peinture française à la fin du 19e siècle: Degas, Renoir, Gauguin, Cézanne, Seurat. Paris: Les Beaux-Arts, Édition d’Études et de Documents, 1931. P. 136–137.
(обратно)1212
Claude Monet: Exposition Rétrospective. P. 77.
(обратно)1213
Цит. по: Golan. Oceanic Sensations. P. 92.
(обратно)1214
Formes (May 1931). P. 75.
(обратно)1215
Цит. по: Maloon. Monet’s Posterity. P. 184.
(обратно)1216
О ностальгии по сельской жизни после Первой мировой войны см.: Golan Romy. Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the Wars. New Haven, CT: Yale University Press, 1995. О нападках на произведения Моне, выставленные в Оранжери, она пишет на с. 29–40.
(обратно)1217
Цит. по: Golan. Modernity and Nostalgia. P. 40.
(обратно)1218
Paris-Normandie. Novembre 28, 1949.
(обратно)1219
Masson André. Monet the Founder / Trans. Terence Maloon // Monet and the Impressionists. P. 190.
(обратно)1220
Цит. по: Golan Romy, Oceanic Sensations. P. 96.
(обратно)1221
Sunday Times. March 6, 1966.
(обратно)1222
Цит. по: Gheith Jenny. Tableau Vert // Art Institute of Chicago Museum Studies 35. No. 2 (2009). P. 45.
(обратно)1223
Time. January 16, 1956.
(обратно)1224
Цит. по: Plante Michael. Fashioning Nationality: Sam Francis, Joan Mitchell, and American Expatriate Artists in Paris in the 1950s // Out of Context: American Artists Abroad / Ed. Laura Felleman Fattal, Carol Salus. Westport, CT: Praeger, 2004. P. 143.
(обратно)1225
Цит. по: Nasgaard Roald. Abstract Painting in Canada. Vancouver: Douglas & McIntyre, 2007. P. 82.
(обратно)1226
Livingston Jane. The Paintings of Joan Mitchell // The Paintings of Joan Mitchell. New York: Whitney Museum of American Art, 2002. P. 40. Искусствоведы часто и оправданно сравнивают работы Моне и Митчелл, однако Митчелл категорически отрицала влияние на нее Моне. Вот отрывок из ее интервью «Нью-Йорк таймс», данного за год до смерти. «„Я купила этот дом, потому что мне нравился вид, а не из любви к Монету“, — заявила она резко, намеренно коверкая имя художника, чтобы оно звучало посмешнее» (New York Times. November 24, 1991).
(обратно)1227
Цит. по: Temkin Anne; Lawrence Nora. Claude Monet: Water Lilies. New York: Museum of Modern Art, 2009. P. 18.
(обратно)1228
Цит. по: Maloon. Monet’s Posterity. P. 186.
(обратно)1229
Clement Greenberg: Collected Essays and Criticism. Vol. 4. Ed. John O’Brian. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 3.
(обратно)1230
Greenberg Clement. Art and Culture: Critical Essays. Boston: Beacon Press, 1961. P. 45.
(обратно)1231
Цит. по: Wildenstein. Monet, or the Triumph of Impressionism. P. 446.
(обратно)1232
Interview with William Wright // Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings / Ed. Kristine Stiles and Peter Selz. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1996. P. 22.
(обратно)1233
Hoschedé. Claude Monet, ce mal connu. Vol. 1. P. 83.
(обратно)1234
Time. July 19, 1971; March 26, 1990.
(обратно)1235
Ibid. March 21, 1960.
(обратно)1236
Ibid. January 28, 1957.
(обратно)1237
Masson. Monet the Founder. P. 191.
(обратно)1238
Rousseau Pascal. Monet, le cycle des Nymphéas // Journal de l’année (2000). P. 323. О проекте реставрации см.: Musée de l’Orangerie: Dossier de presse. Paris: Ministère de la culture et de la communication, 2006.
(обратно)1239
Le Petit Parisien. Février 12, 1922.
(обратно)1240
Личное письмо по электронной почте, 2 августа 2015 г.
(обратно)


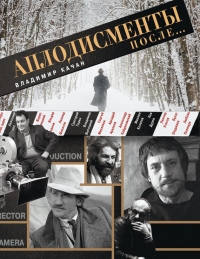
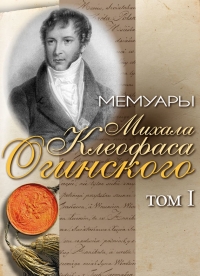
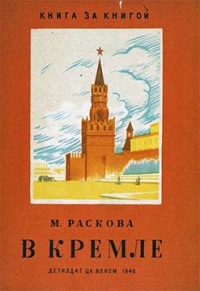
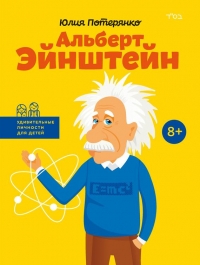
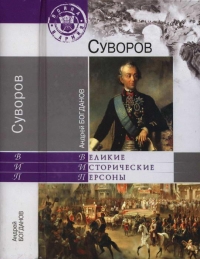
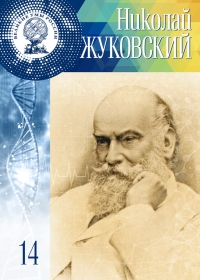
Комментарии к книге «Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии», Росс Кинг
Всего 0 комментариев