Илья Эренбург Запомни и живи…
Борис Фрезинский О жизни и поэзии Ильи Эренбурга и об этой книге
В огромном литературном наследии Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967) поэзия занимает небольшое место. При жизни о его стихах знали только знатоки поэзии (последние сорок пять лет жизни Эренбург гораздо больше был известен как публицист и прозаик), хотя сам он не раз говорил, что прежде всего считает себя поэтом. К этим заявлениям читающая публика и критика относились вполне снисходительно. О масштабе личности Эренбурга, о его достижениях и неудачах, исканиях и находках можно судить и по его многотомным мемуарам, и по доступным сегодня документам и свидетельствам современников. Стихи Эренбурга, которые, за вычетом молодых лет автора, возникали, казалось, на обочине этой нетривиальной жизни, сегодня видятся в ее центре. Они так прочно связаны с жизнью автора, с событиями, свидетелем и участником которых он был, что по-настоящему поняты могут быть лишь в контексте этой жизни, на фоне сложных политических и литературных событий 1910—1960-х годов.
Начало пути (1891–1914)
Илья Григорьевич Эренбург родился в Киеве 26 (14) января 1891 года в еврейской семье купца 2-й гильдии, который, как сказано в книге «Люди, годы, жизнь», «принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто»; «при этом, — продолжает Эренбург, — отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения»[1]. Илья — четвертый ребенок в семье: три его сестры были старше его.
В 1896 году отец получил место управляющего Хамовническим медопивоваренным заводом, и семья переехала в Москву. Расчет на ассимиляцию в семье Эренбургов был изначальным, и дети не обучались еврейскому языку, не получили никакого еврейского образования, хотя родители говорили между собой на идиш, когда не хотели, чтоб дети их поняли.
Илья поступил в первый класс Первой московской мужской гимназии на Волхонке, выдержав жесткие экзамены за подготовительный класс (нужно было преодолевать процентную норму: хотя гимназия и была платной, действовало правительственное ограничение на прием евреев).
С малых лет Эренбург тянулся к старшим (только под старость — к молодым); сначала — внутри класса, потом — к старшеклассникам.
«В нашем классе был „лев“ — князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, „Жерминаль“, старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу»[2].
Старшие товарищи Ильи Эренбурга гимназисты Николай Бухарин и Григорий Брильянт (Сокольников) оказали огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь…
Революция 1905 года захватила Эренбурга-гимназиста; занятия в гимназии были отменены, и он живейшим образом участвовал в московских событиях — строил баррикады на Пресне. Через это прошли многие его сверстники: Осип Мандельштам в Питере помогал эсерам; участвовал в московском восстании Маяковский, даже Пастернак сбежал из дома и таки заработал удар казацкой нагайкой…
В 1906 году Илья Эренбург — уже один из лидеров Социал-демократического союза учащихся средних учебных заведений Москвы, наряду с Бухариным, Сокольниковым, Членовым. В 1907-м в Москве прошел общероссийский съезд этого Союза, на нем Эренбурга избрали в редколлегию печатного органа Союза[3].
После подавления революции многие ее боевые организаторы были схвачены охранкой, либо бежали за границу; оставшиеся на воле вербовали новеньких — в основном гимназистов. В мае-июне 1907 года вместе с Бухариным Эренбург вел стачку на обойной фабрике Сладкова; в итоге рабочих активистов арестовали и посадили, но юных организаторов они не выдали[4].
Осенью 1907 года Эренбургу нет еще и семнадцати, но партия большевиков поручает ему работу в военных казармах; у него хранится печать военной организации большевиков и документы… В октябре его впервые задерживают, но ему удается избавиться от улик. В сентябре арестовывают Сокольникова, уже окончившего гимназию. Эренбург чувствует, к чему идет дело, понимает, что ему грозит волчий билет: запрет на образование (это и случилось с некоторыми его товарищами — после ареста их исключили из гимназий без права продолжать образование). Родители превентивно подают заявление директору гимназии о выходе своего сына из состава учащихся. Сам Эренбург в официальных бумагах тогда объяснял свое отчисление намерением учиться самостоятельно и экстерном сдать экзамен за оставшиеся классы. Освободившись от досаждавшей ему учебы, он все время отдает подпольной работе, не забывая и о том, что в мемуарах назовет «моя первая любовь». В 1960 году Н. Я. Белобородова писала Эренбургу:
«Помню наши прогулки, бесконечные „философские“ разговоры и споры. Помню, как Вы вводили меня в нелегальные революционные кружки. Как объясняли мне разницу между большевиками и меньшевиками… Ведь несмотря на свои 16–17 лет, были уже матерый революционер»[5].
В автобиографии Эренбург пишет об этом времени:
«Поймали у фабрики Бутикова с прокламациями. Сошло. Был „организатором“ в Замоскворецком районе. Еще составлял прокламации и трактат „Два года единой партии“. Тщился одолеть третий дом „Капитала“. Искусство и стихи презирал»[6].
Встреча с поэзией тогда могла бы состояться. Эренбург был влюбчив и донжуанский список открыл еще гимназистом. В Социал-демократический союз входила и гимназистка Надежда Львова. У нее впереди были еще шесть лет жизни, в которой обыск и арест — не главное, а главное — книга стихов, вышедшая посмертно, роман с Брюсовым и самоубийство, в котором обвиняют Валерия Яковлевича. Гимназистка и революционерка Надя Львова любила стихи и писала стихи. Гимназист и революционер Илья Эренбург говорил с ней об этом, но стихов тогда опасался. А так как романа между ними не произошло, то и о значении поэзии они не договорились. Почти тридцать лет спустя Эренбург напишет в «Книге для взрослых»:
«В ранней молодости я стихи ненавидел. Лермонтов приводил меня в болезненное состояние. Я лечился от поэзии сначала микроскопом, потом „Положением рабочего класса в Англии“. Я помню, как Надя Львова, которая входила в нашу гимназическую организацию большевиков, прочитала мне стихи Блока. Я ей сказал: „Выкиньте! Этого нельзя держать дома — это страшно…“ Два года спустя я сам начал писать стихи»[7].
Илья Эренбург был арестован в январе 1908 года; его полгода держали под арестом, переводя из тюрьмы в тюрьму. Потом под крупный залог отпустили для лечения за границу, и 4 декабря 1908 года он отбыл в Париж, тогда главный зарубежный центр русских социал-демократов, где находились Ленин, Мартов, Дан, Каменев, Зиновьев и другие.
В Париже Ленин удостоил его личной аудиенции (свежий человек из России!), а там — постоянные собрания, дискуссии; Каменев, Зиновьев, иногда Луначарский и даже Ленин, прозвавший Эренбурга «Ильей Лохматым». Ему советовали подучиться в Париже, а потом возвращаться в Россию, в подполье. Это внимание, разумеется, было лестно восемнадцатилетнему юноше, но атмосфера политической эмиграции, оторванной от живых и опасных дел, постоянные дрязги — не для юности.
А за стенами этих собраний и склок жил Париж…
Каждодневный круг общения юного Эренбурга составляла тогда молодежь из большевистского подполья, по разным причинам оказавшаяся в Париже. Они не только посещали собрания и «рефераты», но и спорили, смеялись, совершали прогулки, читали и делились прочитанным — они уже не жили революцией как idée fixe.
Центром молодежного кружка была Лиза Мовшенсон, приехавшая из Петербурга. Она любила стихи, увлекалась Брюсовым, Бальмонтом, Блоком и сама понемногу писала. Впоследствии она стала поэтессой и Серапионовой сестрой Елизаветой Полонской.
Роман Ильи Эренбурга с Лизой оказался непродолжительным, но взаимно незабываемым, хотя и по-разному: для Полонской — как первая и самая сильная любовь, для Эренбурга — как событие, с которого начались его стихи. В мемуарах Эренбург написал об этом так:
«Лиза страстно любила поэзию; она читала мне стихи… Я подтрунивал над Надей Львовой, когда она говорила, что Блок — большой поэт. Лизе я не смел противоречить… Я начал брать в Тургеневке стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то, что не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое…»[8].
В 1909 году Эренбург вместе с Лизой стал издавать сатирические журналы «Бывшие люди» и «Тихое семейство» о жизни русской социал-демократической колонии. Их шаржи и текст вызвали гнев Ленина и фактически отлучение Эренбурга от большевистской группы[9]. Отлучение было окончательным[10]. Разрыв переживался Эренбургом тяжело; ощущение, что «у меня нет больше цели», как он потом скажет[11], — давило. Не забудем: Эренбургу не было и восемнадцати, когда он оказался в Париже — один, без знакомых, с плохим французским и скромными средствами. Большевистский кружок пригрел его, укрепив поначалу уверенность: он нужен для серьезного и важного дела. Теперь этого не стало. Было от чего тосковать. Стихи и новая любовь оказались спасением и выходом…
О 1910–1914 (до начала войны) годах говорят как о времени расцвета русской культуры. Конечно, в самой культуре — это пора динамичных и антагонистических процессов: закат символизма, подъем акмеизма, зарождение футуризма. Искусство России начало победный марш по Европе. Чьи-то проницательные головы и чуткие сердца, может быть, и чувствовали тревогу, но не это предощущение создавало общий настрой европейских столиц.
В 1910 году Илье Эренбургу исполнилось 19 лет. Его жизненный опыт был не так уж и мал — подполье, тюрьма, высылка, кочевья, политэмиграция, но его образование — только пять классов гимназии и некий курс марксистской политграмоты. Всё остальное надлежало изучить самостоятельно. Эренбург впитывает искусство Европы и ее литературу: много читает, осваивает языки — французский, потом еще испанский, путешествует, подолгу бывает в музеях.
Литература была выбрана им в качестве поля деятельности. Выбор, сегодня это ясно, оказался верным; две грани его дара — лирика и сатира — не сразу, но отлились в адекватные таланту литературные формы. Зрелого Эренбурга в публицистике, эссеистике, в поэзии и в прозе можно узнать по нескольким строчкам. Но путь к этому оказался долгим и нелегким; внешние обстоятельства достижению цели тоже не помогали — прежде всего изолированность от России (язык, общение); хотя до 1914-го ее не следует особенно переоценивать: русские журналы и книги были доступны, почта работала исправно, перемещения по Европе не ограничивались ничем, кроме денег, общение с русскими поэтами оказывалось возможным и в Париже — Бальмонт, Волошин, Сологуб, Алексей Толстой, Гумилев живали там или наезжали погостить. Старшие друзья Эренбурга пытались знакомить его с работами новых русских мыслителей — он узнал имена Бердяева, Булгакова, Флоренского, пробовал их читать, но бросил, предпочитая поэзию. Какое-то время увлекался Достоевским, отголоски этого увлечения заметны и в его стихах, и в прозе. Чтение русских апокрифов, поэтов старой Франции и старой Испании наполняло его жизнь наравне со стихами Блока и Верлена. Вообще, особенность поэтического пути Эренбурга — несомненное живое влияние новой и старой французской и старой испанской поэзии (Вийон, Хорхе Манрике, Жамм, Аполлинер); оно было длительным, сказавшись и на его зрелых стихах.
Эренбург не ставил перед собой задачи предварительного овладения богатствами культуры — он писал все время, а пристрастия менялись быстро, что видно по его первым книгам.
В жизни Эренбурга десятые годы — время серьезных, иногда судорожных исканий; счастливыми, гармоничными они были только поначалу. Тем не менее, он постоянно и много работал над стихами, печатался, обрастал новыми друзьями — из русской колонии (художники и поэты) и французами; вписался в мир «Ротонды» с ее международным богемным братством нищеты и талантов. Он всегда был увлечен будущим и отталкивал от себя даже самое недавнее прошлое: каждая следующая книга стихов (а выпускались они ежегодно) отрицала предыдущую. Небольшие деньги из России поступали от родителей, и кое-что давал литературный труд — при минимальных запросах жизнь могла быть безмятежной…
Его автопортрет той пор умело набросан в «Книге для взрослых»:
«Одет в бархатную куртку. Провожу целые дни в музеях. Мне нравится Боттичелли. Второй год как пишу стихи. Начал случайно: полюбилась девушка, она любила стихи; я промучился ночь и срифмовал несколько четверостиший. Денег нет, но вместо колбасы покупаю туберозы. Презираю действие: верю, что красота связана с созерцанием…»[12]
Всякий раз, цитируя в мемуарах свои ранние стихи, Эренбург оговаривается: ученические, бледные, слабые, плохие. Но всякий раз признает: тогдашнее душевное состояние они передают довольно точно[13].
Кипу его стихов отвезла в Россию в конце 1909 года Лиза Мовшенсон и вскоре телеграфировала из Питера, что их приняли в «Северных зорях». В январе 1910-го стихотворения Эренбурга печатаются одно за другим: самая первая публикация: «Я шел к тебе…» в журнале «Северные зори» (он вышел 8 января), затем 17 января — в «Студенческой жизни» (эти стихи — наивная помесь Надсона с Некрасовым), затем 29 января снова «Северные зори», потом — журнал «Жизнь для всех», «Московская газета» (это, возможно, уже с подачи сестер) и т. д. Новое имя появилось… Это еще только проба пера, в них и придуманное, и пережитое, размышления и отталкивания:
Я ушел от ваших ярких, дерзких песен, От мятежно поднятых знамен, — Оттого, что лагерь был мне слишком тесен, А вдали мне снился новый небосклон.Это обобщенная и потому не слишком точная формула; путь к стиху, где события реальной жизни находят не декларативное, а художественное отражение — нелегкий. Впрочем, в этих стихах интересны не биографические мотивы, а заключающая их мысль:
Но, когда подслушал я в далеком храме Странную, как море, тихую тоску, — Понял я, что слишком долго был я с вами И что петь другому я уж не могу. —здесь «наглядно соединились два определивших жизнь Эренбурга мотива — верности и отречения»[14].
В конце 1909 года на эмигрантском вечере Эренбург познакомился с первокурсницей-медичкой Сорбонны Катей Шмидт. «Влюбился я сразу»[15] — это единственное такого рода признание в семитомных его воспоминаниях. Испытанное им чувство (тогда взаимное) оказалось одним из самых сильных в жизни.
Тетрадка стихов начинающего поэта попадает к Брюсову (в сентябре 1910-го Эренбург напомнит ему об этом в письме: «Весной этого года Вы взяли на себя труд просмотреть мои первые стихи. Ваши указания послужили мне руководством в дальнейшей работе»[16].).
В июле 1910-го вместе с Екатериной Шмидт Эренбург совершает поездку в Бельгию и Голландию. Из всех городов, где они побывали — Брюссель, Антверпен, Амстердам — больше всего его поразил город-музей Брюгге; там были написаны все стихи, составившие его первую книжку. Они объединены не только единством времени и места написания, но и единством переживаний. Ощутив себя среди декораций на старинных подмостках, Эренбург, без основательных исторических штудий, фантазируя, представлял себе сцены былых времен с участием рыцарей и Прекрасных Дам, монахинь и труверов. Пять столетий — такое расстояние по времени он определил для этих сцен. В стихотворении, открывавшем книгу (на него не раз потом пеняли Эренбургу, удивляясь, как это он, всегда такой суперсовременный писатель, упорно следующий по пятам политических событий, иногда даже наступая на них, начинал столь изысканно и отстраненно), было заявлено:
В одежде гордого сеньора На сцену выхода я ждал, Но по ошибке режиссера На пять столетий опоздал.Почти так же демонстративно открывал первую свою книгу и Гумилев:
Как конквистадор в панцире железном, Я вышел в путь и весело иду…,но то был образ сильного, не без влияния Ницше, героя, а над героем Эренбурга — смеются, да он и сам понимает, что его доспехи — картонные:
Как жалобно сверкают латы При электрических огнях…Электрические огни — это ведь не пять столетий назад, это современность; так что здесь всего лишь театр, сон, может быть, мечта — не более. Время от времени действие книги из Средневековья ненатужно перемещается в новые времена, и тогда возникает Вандея и — в пику недавним товарищам — «озверевшие Мараты» и «слепые Робеспьеры»; почти религиозная аскетичность сюжетов вдруг разбавляется эротикой, не нарушая, впрочем, общей изысканности тона. Недаром именно «севрские чашки, гобелены, камины, арлекины, рыцари и мадонны» из первой книги Эренбурга запомнились Кузмину[17], а вся книга в целом попала в поэзы ненавистного Эренбургу Северянина:
И культом ли католицизма, Жеманным ли слегка стихом С налетом хрупкого лиризма, Изящным ли своим грехом, — Но только книга та пленила Меня на несколько недель…[18]О разнообразии влияний, сказавшихся на первой книге Эренбурга, говорили и писали много. Список оказался длинный: помимо Блока, Брюсова, Кузмина отмечен был еще и бельгийский символист Жан Роденбах (и сам Эренбург подтверждал это в письме к Брюсову[19]); Эренбургу предлагали даже назвать свой сборник «Под влиянием Роденбаха»[20].
Завершающие книгу Эренбурга стихи обращены к Богородице, которую автор на католический лад зовет Мадонной; в религиозном плане это, может быть, самые чистые стихи.
Более всего обрадовала Эренбурга рецензия Брюсова:
«Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил „Вечерний альбом“ Марины Цветаевой и мой сборник: „Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург“. Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться»[21].
Последнее случилось быстро, это подтверждают два документа 1910 года. 11 ноября кузен Эренбурга Илья Лазаревич, художник и меньшевик, не изменивший русской социал-демократии и читавший тогда для партийной кассы лекции об импрессионизме рабочим-эмигрантам, сообщал из Парижа сестре:
«Вчера Илья читал свой реферат: Последний трилистник (Гумилев, Кузмин и Черубина де Габриак). Народу было очень мало. Человек двадцать, и то все свои… Но можно только пожалеть тех, кто не пришел. Илья прочел нам даже не реферат, а художественное произведение, красивое, яркое, не уступающее его лучшим стихотворениям. Когда слышишь такие красивые вещи — прощаешь ему его „сжигание кораблей“ и преувеличения: ему это нужно было для того, чтобы развернуться, — пусть. Не жалко».
А через месяц, 14 декабря, он пишет сестре совсем иное:
«Илья всё дальше уходит в своих взглядах. Вероятно, не малую роль играет стремление к парадоксальности, чтобы épater и слушателя, и самого себя, найдет какую-нибудь глупость и сам радуется, что дико звучит. В этом отношении логика гонит его всё дальше. Теперь он уже ценит искусство потому, что это религия. Спорить с с-д, которые для нас воплощение земного прогресса и разума, для него невозможно (хотя он постоянно спорит и ругает их), потому что религия и искусство вне жизни, выше ее. Поэты и вообще дух совершенно отделен от земли и не связан ни со своей бренной оболочкой тела, ни с условиями среды, времени и пространства. Он прямо говорит, что ведь верующему нельзя спорить с атеистом и позитивистом, тот хочет знать, а этот верит. Он тоже верит, и всё остальное ерунда, и потому все земные аргументы недействительны, так как они на другом языке говорят. Ох, раздражает меня этот свихнувшийся…»[22].
1911 год отмечен в жизни Ильи Эренбурга двумя событиями: 25 марта в Ницце у него с Е. О. Шмидт родилась дочь Ирина, и он впервые побывал в Италии.
Стихи, написанные в Италии, Эренбург в апреле 1911-го отправил Брюсову («Я посылаю Вам новые стихи, которые мне кажутся иными и по своим задачам, и по технике»[23]); в начале лета он отправил Брюсову рукопись новой книги[24]. В августе сборник «Я живу» вышел в Петербурге (это первая книга Эренбурга в России), и он послал сборник Брюсову с сопроводительным письмом: «Если Вы найдете в нем стихи более совершенные, то в этом я в значительной степени обязан Вам»[25]. В мемуарах об этих стихах сказано коротко: «Я попытался быть холодным, рассудительным — подражал Брюсову»[26].
Стихи книги «Я живу», наверное, не столько холодны, сколько умиротворенны. Если лицо первой его книги определяла тема Средневековья, то здесь — античность и Возрождение. Всё это вполне в духе символистов и после Брюсова и Вяч. Иванова не было новостью в русских стихах; впрочем, Эренбург и сам понимал, что это лишь упражнения.
Объяснимая для забитого городом человека нота антиурбанизма неожиданно звучит в стихах о Париже, финал которых по-юношески печален:
И до утра над Сеною недужной Я думаю о счастье и о том, Как жизнь прошла бесследно и ненужно В Париже непонятном и чужом. —здесь явственно намечаются будущие мотивы «Будней».
Но тогда же, весной 1911-го, читая книги Кузмина, Эренбург воспримет не настроение, не тон, не тонкую стилизацию и любовь к XVIII веку, а свободу говорить в стихах о подробностях, даже бытовых, своей жизни. И это проявится в стихах, вошедших в следующую книгу Эренбурга, «Одуванчики» (1912). Почитатели прежних двух сборников были сразу предупреждены:
Не ищите в этой книге Сказок, раньше вас пленявших…(Осип Мандельштам на это предуведомление ответил в известной рецензии: «Но скромная, серьезная быль г. Эренбурга гораздо лучше и пленительней его „сказок“»[27].)
Не расчлененные на разделы «Одуванчики» были тематически неявно структурированы: десять первых стихотворений — о московском детстве, в них последовательность воспоминаний является самодостаточной.
Следующие десять стихотворений, естественно примыкающих к «детскому» циклу, — странички наивного лирического дневника, связанного с Е. О. Шмидт. Сюжетно они не о семье — о любви, но не о страсти — о гармонии, радости сочувствия, взаимопонимания; стихи светло-грустные, почти на одной ноте, пока внутренняя тревога, связанная с возможностью потери счастья, не пробьется наружу растерянностью и горем. Затем десять стихов о Флоренции, Амстердаме, Париже и олеографической России. И наконец последний раздел — лирика природы.
Заметная перемена в поэтике Эренбурга отразилась на сопоставлениях его с Мариной Цветаевой. Брюсов о стихах 1910 года писал:
«Довольно резкую противоположность И. Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им. <…> Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта…»[28].
После «Одуванчиков» Эренбурга и Цветаеву уже не противопоставляют; как писал Бальмонт:
«Из поэтов, со стихами которых мне пришлось сколько-нибудь ознакомиться, выгодно выделяются Эренбург и Марина Цветаева. Они очень родственны друг другу. У обоих есть поэтическая нежность, меткость стиха, интимность настроения. Но их голос малого размера, и, когда они, не сознавая этого, пытаются быть сильными, они почти всегда впадают в кричащую резкость»[29].
Эренбург в мемуарах отзывается об «Одуванчиках» столь же строго, как и о первой своей книжке, — стилизация, «только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму»[30], но это был еще один и существенный этап ученья.
1912–1913 годы — нелегкие для Эренбурга. Постепенно расстраивается его жизнь с Екатериной Шмидт; осенью 1913 года она ушла от него к приятелю Эренбурга Тихону Сорокину.
«Я погоревал, поревновал, но примирился. У нас с Катей жизнь не клеилась, мы были людьми с разными характерами, но с одинаковым упрямством…»[31]
Еще раньше рухнули надежды на политическую амнистию к 300-летию дома Романовых — неотвратимость каторги при возвращении на родину навсегда закрывала дорогу домой. Об этом времени Эренбург вспоминает мельком, неохотно: «Жил беспорядочно и на редкость скверно»[32]. Образ этой жизни — в стихах о Париже, напечатанных в следующей книге Эренбурга «Будни», из-за них запрещенной в России. Эти стихи оттолкнули многих; тематически их сравнивали с Бодлером, пеняя Эренбургу — нет у него таланта для таких тем. Тень Бодлера, у которого Париж — мир возвышающих его фантомов, не появляется в «Буднях», там есть тень Верлена — и даже не тень, а портрет: Эренбург любил стихи Верлена, но, находясь тогда на том же парижском дне, уже не мог и не хотел в стихах над этим дном воспарить. У него — сатира, но не смешная и едкая, как у Саши Черного, а едкая и отталкивающая. Бодлер воспарял, Саша Черный подсматривал, Эренбург жил на дне и не видел выхода, даже звезды казались ему наглыми и бездушными, даже солнце ему казалось только сводней. Когда обольщение универсальностью классовых схем разрешения проблем общественного бытия прошло, оказалось, что вопрос: откуда происходит зло? — продолжал мучить.
Эренбург, которому было чуждо последовательное смирение, наивно пытался найти спасение в религии. Еще в 1912-м он познакомился с католическим поэтом Франсисом Жаммом; переводил его стихи и писал о нем, посетил его деревенский дом в Ортезе, где поэт жил практически безвыездно. Католицизм Жамма мирно сосуществовал с его пантеизмом, и Эренбургу это показалось спасением. Идея войти в рай вместе с ослами его прельстила. В автобиографии 1922 года об этом сказано так:
«Часто голодал: пятый, шестой день. Спина болит, гуд. А в последнюю минуту всегда кто-нибудь принесет франчишко. Увлекался Средневековьем. Много читал. Потом — Жамм, католицизм. Предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Говорить об этом трудно. Не свершилось»[33].
Цикл светлых стихотворений, графически напечатанных как проза в сборнике «Детское» (1914), посвященном Жамму, опубликован уже после описанных выше событий, в пору, когда Эренбурга увлекла большая работа: он задумал представить русскому читателю в своих переводах новую поэзию Франции. Его антология «Поэты Франции (1870–1913)» появилась в начале 1914 года, когда Эренбург уже, казалось, выходил из кризиса.
Тогда же Эренбург, продолжая свой прежний парижский опыт (участие в литературно-художественном журнале «Гелиос» и в деятельности «Русской Академии»), реализует идею издания поэтического журнала «Вечера», где предполагалось печатать стихи поэтов, живших и в Париже, и в России. Казалось, жизнь — снова на подъеме, но тут разразилась мировая война.
Война. Революция. Война (1914–1920)
Период 1914–1916 годов занимает в автобиографии Ильи Эренбурга несколько строк:
«В начале войны захотел воевать. Не взяли. Потом на вокзале в Иври по ночам вагоны грузил за сто су. Я мерз. Скверно было. Потом писал „Стихи о канунах“. Затем стал корреспондентом „Биржевки“. Попал на фронт. Об этом писал»[34].
К стихам Эренбург вернулся в декабре 1914-го, когда военный угар в умах и душах начал мало-помалу рассеиваться под влиянием реалий войны. Впрочем, из 69 стихотворений, допущенных цензурой в сборник «Стихи о канунах», только два военных стихотворения могли быть прежде напечатаны в русской периодике, — «Стихи о канунах» никак не вписывались в заполнивший ее поток патриотического рифмоплетства. Не обещая читателям вести их на Берлин, но мучая их кликушескими причитаниями над «угнанными на войну» и ни за что погибшими «Ванечками и Петеньками», Эренбург имел не много шансов быть напечатанным; его недвусмысленный призыв к миру:
А там, при медленном разливе Рейна, Ты, лоза злобы, зацвела. Вы, собутыльники, скорее пейте У одного стола! — еще не мог быть услышан.«Стихи о канунах» заботами Максимилиана Волошина и материальной поддержкой Михаила и Марии Цетлиных увидели свет в Москве в 1916-м. Несмотря на темный, энигматический характер многих стихов, цензура почувствовала что к чему и книгу изрядно изувечила.
«Стихи о канунах» — самая большая и самая темная поэтическая книга Ильи Эренбурга; в ней и лирика, и театральные сцены, и портреты друзей (цикл стихотворений «Ручные тени»), и повести в стихах, и циклы молитв. Ее объединяет единая эстетика неэстетичного, новая для Эренбурга поэтика, и, в плане общего развития русской поэзии Серебряного века, она соответствует переходу от акмеизма к футуризму (этот переход виден не только в фактуре стиха, но даже и во внешних, подчас житейских, случайных совпадениях — желтая куртка Эренбурга, которую он стал носить, сродни желтой кофте Маяковского, книжка, литографированная в 1916-м в Париже, естественно ассоциировалась в России с футуристическими сборниками); при этом о русском футуризме Эренбург ничего толком не знал, считая футуристом только Игоря Северянина… Резкая смена эстетической программы обусловлена и внешними событиями — мировой войной, бессмысленной гибелью миллионов людей, и внутренними — вынужденным бездействием, невозможностью ни принять участие в событиях, ни укрыться от них, угнетающей неустроенностью жизни — переживаниями сильными, горькими, мучающими.
Выразительный портрет Эренбурга с натуры сделал тогда Волошин:
«С косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, „которым только что вымыли пол“, Эренбург настолько „левобережен“ и „монпарнасен“, что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих»[35].
Вспоминая в 1932-м «Стихи о канунах», Волошин записал:
«Это были образы и мысли без пути к ним, часть логического домысла сознательно опускалась. Это давало большую свободу в распоряжении образами, в их чередовании и нагромождении. Вместе с новыми сочетаниями отдаленных рифм-ассонансов составляло большую расчлененность стихам его смысла, что, в общем, было приятно и ново и мало похоже на прежнее. Евангельская простота, наивность и искренность Жамма остались далеко позади»[36].
Это не поздние раздумья — и в 1915 году Волошин понимал природу новых стихов Эренбурга, многие элементы их поэтики, что и заострил в тогдашней пародии (см. Приложение).
1 сентября 1915-го, получив свежие новости из России, Эренбург писал Волошину:
«Русские газеты оставляют на меня все более впечатление страшное и непонятное. Рядом с известиями вроде следующего, что два уезда со скотом, тщетно ища пастбищ и воды, шли месяц от Холма до Кобрина или что еврейские „выселенцы“ в так называемых „блуждающих“ поездах два месяца ездят со станции на станцию, потому что их нигде не принимают, — бега, скоро открываются театры, какое-то издательство выпускает поэзы Игоря Северянина в 100 экз. по 10 целковых каждый, а „Универсальная библиотека“ распространяет [книгу] „Битва при Триполи, пережитая и воспетая Маринетти, под редакцией и в переводе Вадима Шершеневича“. Что это всё? Ремизовщина? И смирение Руси не кажется ли минутами каким-то сладким половым извращением, чем-то вроде мазохизма?»[37].
И потом, в сентябре, снова Волошину:
«В Ваших последних стихах о войне слишком много непозволительного холода»[38], а в конце месяца Савинков сообщает Волошину об Эренбурге: «Он ругает меня нещадно за статьи, взвивается, закипает и доказывает, что я „шовинист“»[39]. Эта страсть осталась с Эренбургом навсегда — и в гражданскую, и в испанскую, и в Отечественную он ни о чем другом думать, говорить и писать не мог.
Как это случалось и потом у Эренбурга («Оттепель»!), название книги, в определенной мере, значительней ее содержания (оказалось, что это действительно кануны неслыханных перемен и в судьбе Европы, и — в особенности — в судьбе России и всех ее народов). «Стихи о канунах» — книга не точных исторических предвидений (даже ошибшийся на год Маяковский — «в терновом венце революций / грядет шестнадцатый год» — был точнее и яснее), но темных многозначных пророчеств, богоборчества и покаяний, богохульства и молитв. Слова из «Откровения святого Иоанна Богослова», поставленные эпиграфом к книге, — «Горе живущим на земле…» — в эпохи таких бессмысленных с точки зрения здравого смысла потрясений, звучат оправданно. «Стихи о канунах» — несомненно антивоенная книга: в ней горечь и скорбь, стон и плач по убитым; в ее причитаниях речь идет о русских крестьянских сыновьях, мало что понимающих в происходящем. Тема смерти присутствует во многих вещах этой книги, она присутствует даже в «Колыбельной» (что повторится и в 1942-м). Неслучайно уже в первой своей корреспонденции из Парижа для «Утра России» (18 ноября 1915 г.) Эренбург написал не о героизме французских солдат и русских волонтеров, не о варварстве немцев, но о скромной могиле на чужой земле с простой надписью «Сержант Первого иностранного полка Jean N-off», к которой приписали по-русски: «Ненаглядному Ванюше моему». В очерках Эренбурга, печатавшихся с жесткой цензурной правкой в «Утре России», а потом в «Биржевых ведомостях», много описаний встреч и разговоров с русскими солдатами, воевавшими во Франции, — эти косноязычные крестьянские слова, их внутренний алогизм и бессвязность удивительным образом соответствовали исполненным темной силы стихам Эренбурга (всякая мысль о красивых словах про некрасивые убийства выводила его из себя). «Стихи о канунах» нельзя назвать «гражданской поэзией» в прямом смысле, поскольку она предполагает ясность и общедоступность, но и небезызвестный образ башни из слоновой кости не имеет к ним ровно никакого отношения.
В стихотворении, которое обычно цитируют, когда речь заходит о «Стихах о канунах», на картинке, повешенной над кроваткой малыша, чтоб ему было радостно, изображено, как
Казак наскочил своей пикой На другого чужого солдата. И красная краска падает на пол.Что и говорить, такие стихи не имели отношения к военно-патриотическому воспитанию, как называли соответствующую литзадачу в последующие десятилетия.
Семантически многое в «Стихах о канунах» — неясно; музыка изгнана из них, рифмы едва прослушиваются, ритмы нестабильны, но такая поэтика осознанна, — Эренбург писал о ней Брюсову:
«То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим — я чувствую как свое, подлинное, а значит, ни красивое, ни безобразное, а просто должное. Пишу я без рифмы и „размеров“ не по „пониманию поэзии“, а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух. „Музыка стиха“ — для меня непонятное выражение — всякое живое стихотворение по-своему музыкально. В разговорной речи, в причитаниях кликуш, в проповеди юродивого, наконец, просто в каждом слове — „музыка“ <…> Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее „монументальное“, мне всегда хочется вскрыть вещь. <…> Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм».
И затем важное признание:
«Вы говорите мне о „сладких звуках и молитвах“. Но ведь не все сладкие звуки — молитвы, или, вернее, все они молитвы богам, но не все — Богу. А вне молитвы Богу — я не понимаю поэзии»[40].
Это прямое обращение к Богу выражено в обнаженном, без какой-либо заботы о собственном имидже (если пользоваться современным словом), цикле «Прости меня» — блудливого, богохульника, поэта, нерадивого, злобного… Здесь и о грехах, и о смиренном покаянии говорится с предельной, исступленной искренностью.
Пророчества Эренбурга наиболее монументально звучали в стихотворении «Пугачья кровь», которое цензура запретила печатать. На фоне, созданном повторением строк:
Желтый снег от мочи лошадиной. Вкруг костров тяжело и дымно,рисующих Москву во время казни Емельяна Пугачева, звучат причитания:
…Прорастут, прорастут твои рваные рученьки, И покроется земля злаками горючими, И начнет народ трясти и слабить, И потонут детушки в темной хляби, И пойдут парни семечки грызть, тешиться, И станет тесно, как в лесу, от повешенных, И кого за шею, а кого за ноги, И разверзнется Москва смрадными ямами, И начнут лечить народ скверной мазью, И будут бабушки на колокольни лазить, И мужья пойдут в церковь брюхатые, И родят, и помрут от пакости, И от нашей родины останется икра рачья Да на высоком колу голова Пугачья!..Уж это, точно, не для аристократических ушей, недаром возмущенный Иван Бунин покинул помещение во время чтения этих стихов автором…
В 1936 году в пору максимальной веры в справедливость советской идеологии, Эренбург жестко и строго вспомнит себя в 1915-м:
«Мне 24 года, на вид дают 35. Рваные башмаки, на штанах бахрома. Копна волос. Читаю Якоба Бёме, Арсипресто де Ита, русские апокрифы. Ем чрезвычайно редко. Заболел неврастенией, но болезнью своей доволен. Ненавижу красоту. В стихах перешел на прозаизмы и на истерику; в жизни запутался. История вызывает во мне отвращение. Одобряю апостола Павла: он дробил античные статуи. Боттичелли кажется мне коробкой для конфет. Признаю Греко и кубистов»[41].
Это, надо сказать, точный портрет, многое объясняющий в «Стихах о канунах». В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург процитировал письмо Макса Жакоба Гийому Аполлинеру (1915):
«У нас довольно крупный русский поэт Илья Эренбург; он перевел мне свои стихи. Он считает себя учеником Жамма, но он гораздо больше напоминает тебя или Гейне. У него в стихах нечто вроде Страшного суда: идут за стариком, который сидит в кафе, — разве вы не знаете, что пришел Страшный суд? Нужно идти! А старик отвечает: „Что там? Страшный суд? Не могу — меня к ужину ждут…“ Не все его стихи достигают подобной силы, но хотелось бы побольше поэтов, таких сильных, как этот человек».
Приведя эту цитату, Эренбург заметил: «Максу Жакобу я тогда казался сильным, но это была сила отрицания, сам же я часто думал о своей слабости»[42].
Вторая сквозная тема «Стихов о канунах» — тема скуки, бессмысленности круговорота жизни; молитвы здесь соседствуют с богохульством; тема заявлена уже в эпиграфе из Второзакония — Пятой книги Моисея. (Заметим к месту, что отношение к заполненности жизни было всегда очень острым у Эренбурга; так, по возвращении из оккупированного гитлеровцами Парижа он выразил свою тоску словами: «Жизнь такая неинтересная…»[43]) Эренбург прямо писал об этом Волошину в конце сентября 1915-го:
«От этого дьявола (скуки. — Б. Ф.) никакими запахами, никакими мазями не отвяжешься — ибо даже закурить папиросу скучно и нельзя. А ему безмерно уютно в человечьей душе»[44].
Это — письмо в связи со стихами Волошина «Усталость», где предсказывается, что Христос, придя на землю, тихо пройдет по ней — «Ничего не тронет и не сломит / Тлеющего не погасит льна…». И Эренбург, комментируя эти строки, написал Волошину, что созданный им образ «очень страшен», и добавил:
«Каббалисты говорят, что у Бога нет положительных свойств, а только отрицательные. Он эн-соф, то есть безграничный, всевмещающий — вот это самое страшное, это Скука… Если бы Вы знали, как быстро я иду „путем усталости“, но это не путь к Богу, ибо в нем нет ни любви, ни ненависти»[45].
Книга «Стихи о канунах» была издана в Москве в 1916 году в сокращенном и изуродованном цензурой виде…
Путь, пройденный Эренбургом-поэтом за шесть лет, путь, в части поэтики условно помечаемый вехами: символизм-акмеизм-футуризм (причем, только последний отрезок его Эренбург считал «своим»), ретроспективно выглядит понятным, однако предсказать его было невозможно. В этом смысле характерны два суждения В. Я. Брюсова о поэзии Эренбурга — 1911:
«Вероятно, его стихотворениям всегда останутся присущи два недостатка, которые портят его первый сборник: холодность и манерность»[46];
1916:
«Для И. Эренбурга стихи — не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни»[47].
Февральскую революцию 1917 года Эренбург встретил с огромной надеждой: помимо всего прочего она открывала ему путь в Россию. Возвращение русских политэмигрантов из Парижа на родину в условиях разрезанной фронтами Европы растянулось на месяцы в порядке установленной жребием очереди. Эренбургу выпал июль. Кружным путем через Англию Эренбург прибыл в Петроград в разгар подавления большевистского выступления.
«В Торнео поручили солдатику „сопроводить“. Солдатик решил, что я анархист и показывал меня, как зверя, „товарищам“ на всех финляндских станциях. Хотели убить. В Белоострове офицеры (к.-р.) приняли меня за большевика. Отняли всё. Приехал с вокзала — пулеметы и пр.»[48].
Приехав в Москву, Эренбург застал там только отца. Ему пришлось пересечь всё еще воюющую Россию с севера на юг, чтобы в Крыму повидать отдыхавшую там мать и сестер, а заодно и Волошина. Эта поездка, затянувшаяся до осени (в Москву Эренбург возвратился под канонаду октябрьского переворота большевиков), произвела на него удручающее впечатление. Родина, с которой он расстался в декабре 1908 года, предстала перед ним в совершенно ином обличье — война ее вдрызг разболтала: солдаты убивали офицеров, бросали окопы и устремлялись в города по пути домой; обыватели жили в тревоге, не зная, что их ждет завтра.
Октябрьского переворота Эренбург, как и большинство интеллигентов, не принял; своих прежних парижских знакомцев в роли новых вождей России он не воспринимал всерьез и считал, что они ненадолго. С детства не вынося никакого диктата, Эренбург естественно выступил и против диктата большевиков. В автобиографии 1922 года об этом сказано очень кратко и дипломатично:
«Октября, которого так долго ждал, как многие, я не узнал»[49].
Литературный урожай Эренбурга в 1917-м небогат — несколько газетных статей о Франции и о том, что он видел в дороге; в ноябре — декабре были написаны четырнадцать стихотворений, составившие «Молитву о России».
Стихи «Молитвы о России» отличает пылкая непосредственность отклика на реальные события и ясность — этим они не похожи на «Стихи о канунах». В них впервые Эренбург использует слово «мы» (с широтой адресации, включающей даже «наши церкви православные»); позже оно будет сильно звучать в его «белой» публицистике. Но влияние поэтики «Стихов о канунах» ощутимо — не только благодаря жанру молитв, который здесь продолжен, но и ткани самого стиха (недаром впервые опубликованная в «Молитве о России» «Пугачья кровь» не выпадает из остального текста).
Эпический размах «Судного Дня», этой хроники российских событий 1917 года, с его скорбным рефреном:
Детям скажете: «Осенью Тысяча девятьсот семнадцатого года Мы ее распяли!» —и частушечное, лихое и грозное начало книги («Двенадцать» написаны позже — то есть давление живой «революционной» речевой стихии на поэтическое слово испытывал не один Блок), и даже «Похороны» и «У окна», прямо продолжающие военные стихи 1915-го, — придают «Молитве о России», поэтическому дневнику 1917 года, характер впечатляющего экспрессивной трагичностью свидетельства, в котором есть, конечно, и прочувствованные личные страницы — «Молитва о детях», «Моя молитва», «В переулке»…
«Молитва о России» вызвала острые отклики по обе стороны баррикад. Она появилась до «Двенадцати» Александра Блока, в пору, когда еще неизвестны были «дневниковые» филиппики Зинаиды Гиппиус, а стихи Максимилиана Волошина, лишь изредка появлявшиеся в периодике, еще не были собраны в книгу «Демоны глухонемые» (1919); впрочем, и с «другого берега», кроме известной частушки Маяковского насчет ананасов и буржуев, еще ничего в стихах «в пользу» переворота не было написано — русская поэзия молчала, и в этой тишине растерянности и подавленности одних и беспардонных надежд других «Молитва о России» была услышана.
Наиболее обстоятельно на нее отозвался Максимилиан Волошин в статье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург», датированной 15 октября 1918-го. Приведем здесь по необходимости пространные цитаты из нее:
«Эстетическая культурность Блока чувствуется особенно ярко рядом с действительно варварской по своей мощи и непосредственности поэзией Эренбурга. Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно столь захватанных, испошленных и скомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идеи Родины и Церкви. Только теперь в пафосе национальной гибели началось их очищение. И ни у кого из современных поэтов эти воскресающие слова не сказались с такой исступленной и захватывающей силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины. <…> Да, очевидно надо было быть совершенно лишенным родины и церкви, чтобы дать этим идеям в минуту гибели ту силу тоски и чувства, которых не нашлось у поэтов, пресыщенных ими. „Еврей не имеет права писать такие стихи о России“, — пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу этих поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имел никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав».
Анализируя стихотворение «Судный День», Волошин отмечает:
«И тут вдруг встает неожиданное сродство с поэмой Блока:
И когда на Невском шут скомандовал: „Направо!“ И толпа разлилась по Дворцовой площади — Слышно было, кто-то взывал средь ночи: „Савл! Савл!“Эти слова Христа обращенные к своему гонителю, который глубже, чем кто-либо другой из людей на земле, несет Его в своей душе, — сильнее, глубже и шире финала Блоковской поэмы… Только один из политических поэтов приходит на память, когда читаешь поэмы Эренбурга, и это, конечно, вовсе не поэт „Кар“ и „Страшного Года“ — слишком красноречивый Виктор Гюго, а тот суровый и жестокий поэт шестнадцатого века, который кричал свои поэмы — „устами своих ран“; тот, кто описал Варфоломеевскую ночь с натуры: я говорю об Агриппе д’Обинье… В них обоих звучит голос Библии. Но в то время как для д’Обинье очищение мира совершается только в пламенах Страшного суда, для Эренбурга, для которого земная жизнь и есть Ад, а человеческие страсти и есть пламена, — разрешение обид земных совершается в Сердце Христовом, которое есть — Церковь».
Приведя финал последнего стихотворения «Молитвы о России», Волошин заканчивает статью патетически:
«Этим экстазом слияния всех в едином кончается книга поэта — „не имеющего права молиться за Россию“, книга, переполненная чувствами и образами, книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание»[50].
Ни от каких других своих стихов Эренбург не открещивался потом так настойчиво и последовательно, как от этих — и публично, и приватно. Публично — потому что их однозначная политическая ярость создавала ему столь же однозначную репутацию врага революции. Приватно — потому что гимны Церкви и надежды на Церковь, в ней воспетые, были так наивны и недальновидны, что опрокинулись в самое ближайшее время и навсегда. (Отметим, что основным источником «церковности» Эренбурга стало его тогдашнее славянофильство, стимулированное откровенным унижением России и русских во Франции в годы войны). В «Книге для взрослых» Эренбург мужественно каялся:
«В Октябрьские дни я поверил, что у меня отнимают родину. Я вырос с понятьем свободы, которое досталось нам от прошлого века. Я уважал неуважение, ценил ослушничество. Ребенком я читал только те книги, которые мне запрещали читать. Когда я таскал прокламации, я шел против сильных, это меня вдохновляло. Я не мог понять прямоты и жесткости нового языка. Он казался мне лепетом. Я не хотел разучиться говорить на том языке, где выбор слова иногда важнее самого понятья. Я ходил на собрания писателей: мы протестовали против „насилья“. Я нашел новых „униженных“. Чугун справедливости — или ее олово — висел на моих ногах. Я писал стихи — „Молитву о России“. Мне казалось, что я снова иду против сильных. Я исступленно клялся тем Богом, в которого не верил, и оплакивал тот мир, который никогда не был моим»[51].
Через четверть века, вспоминая зиму 1917 / 18 года, Эренбург повторил:
«Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя — молился Богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду»[52].
Эренбург здесь, в самом деле, «упрощает» (если употребить слово из газеты «Правда» 1945 года): его отношение к Богу включало и веру, и сомнения, даже богоборчество и богохульство, оно было по временам истеричным и экзальтированным, но однозначным отрицанием оно не было никогда. Изменилось его отношение к Октябрьскому перевороту — он принял его через три года под давлением многих и разнообразных аргументов, хотя процесс притирки к новому режиму растянулся на десятилетие с гаком. Сегодня, когда вопрос об отношении к Октябрьскому перевороту, по крайней мере, дискуссионен, книга «Молитва о России» ценна не только свидетельскими показаниями очевидца грозных событий, но и его прорицаниями — кое-что в них пережило и автора, и тот строй, которому он в конце концов присягнул.
Стихи, написанные Эренбургом в Москве 1918-го и напечатанные год спустя за ее пределами, существенно отличаются от стихов конца 1917-го. Политическая тема переместилась в его газетную публицистику, а то ощущение безнадежности, которое диктовало строки: «Нет, не могу, Россия! / Умереть бы только с тобой!», сменилось нечасто покидавшей Эренбурга жаждой жизни. Познакомившись в Москве с Маяковским и Хлебниковым, Эренбург жадно читает их стихи — отголосок раннего Маяковского явственно ощутим в стихотворении «Нет, я не поэт…», характерном для Эренбурга той поры. До июля 1918 года не были окончательно закрыты лишь время от времени прикрываемые эсеровские газеты и журналы, и печататься еще было где. В исполненных сатирического яда статьях Эренбурга доставалось не только вождям большевиков — прежним парижским знакомцам, но и тем литераторам, которые охотно сотрудничали с новым режимом (Маяковский, Каменский, Есенин, даже Блок). В Москве наиболее близкие отношения связали Эренбурга с кругом Вячеслава Иванова, особенно с почитавшими мэтра поэтессами Елизаветой Кузьминой-Караваевой и Верой Меркурьевой; более сложными оказались отношения с Мариной Цветаевой, наладившиеся только к зиме 1921 года.
О дальнейшем — в письме Эренбурга Волошину из Полтавы 30 октября 1918 г.:
«В сентябре мне пришлось бежать из Москвы, ибо большевики меня брали заложником. Путь кошмарный, но кое-как доехал я. Вскоре за мной поехали на Украину родители. Мама в пути заболела воспалением легких и, приехав в Полтаву, умерла. Меня вызвали (из Киева — Б. Ф.) телеграммой, но я не успел. Это время был с отцом, на днях еду в Киев, а потом намерен пробираться в Швейцарию. Надеюсь, что удастся. О жизни в Москве трудно тебе что-либо сказать. Это наваждение, но более реальное, чем когда-либо существовавшая реальность. Я, кажется, опустошен и храню большие мысли и страсти по инерции»[53].
Провинциальная жизнь была невыносима для Эренбурга, и в Полтаве он даже большевистскую Москву готов был вспомнить добрым словом. В Киеве, занятом немцами, он несколько месяцев «не высовывался», потом появился на литературной арене. Год, проведенный в Киеве, описан в автобиографии впечатляющей строчкой: «Киев, четыре правительства. При каждом казалось — другое лучше»[54].
Первые месяцы при красных Эренбург, вроде бы, нашел для себя идеологическую нишу — он работал с беспризорниками, читал молодежи лекции по стихосложению и писал политически нейтральные стихи, в которых прославлял земную жизнь; потрясавшие Россию события он все больше осознает как посланные ей великие испытания, которые не должны отвратить от жизни:
Что войны, народов смятение, Красный стяг или золото Рима — Перед слабой маленькой женщиной, Рожающей сына?Это, разумеется, было скрытым вызовом пролетарским ортодоксам; впрочем, Эренбург не надеялся и на понимание потомков:
Наши внуки будут удивляться… <…> Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы, Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи…К лету отношения Эренбурга с красными становятся всё более напряженными; его раздражает их полуграмотное всезнайство: «Вам все понятно в мире…» (заметим, что этот мотив снова прозвучит у Эренбурга в 1957-м).
Среди важных событий киевской жизни Эренбурга укажем два — знакомство с новыми стихами Осипа Мандельштама (Эренбург так часто повторял вслух стихи «Я изучил науку расставанья…», что слушатели его студии приняли их за его собственное сочинение) и дружбу с их автором, второе (не по значимости) — встречу с юной ученицей художественной студии А. А. Экстер Любовью Михайловной Козинцевой, которая была его двоюродной племянницей, а вскоре стала женой и, как оказалось, спутницей всей жизни. В Киеве 1919 года объявлялось о выходе не одной книги Эренбурга, но ни одна из них не вышла — путь в печать ему практически закрыли.
Пережив в Киеве немцев, петлюровцев и красных, Эренбург искренне приветствует приход белых, и в условиях относительного идеологического плюрализма в глубоко выношенных и пылких статьях утверждает новый путь развития России — не большевистский и не монархический, а демократический, свободный. Он убежден в осуществимости этой программы при белых настолько, что даже погромы не могли его образумить, и, покинув Киев осенью 1919-го, по пути в Крым, в Ростове, Эренбург продолжает печатать статьи, которые могли бы вскоре стоить ему жизни. Тем страшнее было не заставившее себя ждать разочарование…
Девять месяцев (декабрь 1919 — сентябрь 1920), проведенные у Волошина в Коктебеле (под белыми), — с их бытовыми тяготами, голодом, ссорами и тревогами помогли Эренбургу многое переосмыслить.
«Коктебель. Зима. Безлюдь. Очухался. Впервые за годы революции удалось задуматься над тем, что же совершилось. Многое понял. Написал „Раздумья“»[55].
В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург сказал об этом очень взвешенно:
«Со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне вопросы в Москве и не получил ответа. <…> Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким… <…> Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем „историей“, убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени новой эпохи»[56].
Продуманность этих слов не делает их неуязвимыми, однако смысл идеологического сдвига Эренбурга они передают точно. Восемнадцать написанных в Коктебеле стихотворений «Ночи в Крыму» и были попыткой ответа тому Сфинксу.
5 апреля 1920-го Волошин сообщал М. С. Цетлин:
«Эренбург живет всю зиму у меня… Пишет прекрасные стихи — и очень много»[57].
Спустя сорок лет Эренбург скажет об этих стихах, что его «коробит от нарочито книжного языка: „гноище“, „чрево“, „борозды“», и удивится, как это после «Стихов о канунах» он «сбился на словарь символистов», однако, приведя отрывок из стихотворения «России», заметит, что эти стихи «выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет»[58]. По коктебельским стихам января — марта 1920-го, свободным и от молитв, и от пророчеств, эволюция отношения Эренбурга к происходящему в стране вполне реконструируется.
Гражданская война заканчивалась, большевики фактически победили, поддержанные (активно или пассивно) большинством населения; надежды Эренбурга на демократическое переустройство России оказались иллюзией. У него было две возможности: бежать из России вместе с остатками врангелевской армии или, признав власть большевиков, остаться. Если раньше ради большой идеи Эренбург считал наносным все отрицательное, что несла с собой белая армия, то теперь именно это отчетливо всплывало в памяти, да и жизнь в Крыму под властью врангелевцев не располагала к тому, чтобы следовать за ними в эмиграцию (достаточно упомянуть арест О. Э. Мандельштама в Феодосии). От эмиграции без шансов на возвращение Эренбург отказался, но ожиданию предпочел движение навстречу неизвестности и осенью 1920-го весьма драматическим способом бежал в независимую тогда Грузию, а уже оттуда двинулся в красную Россию.
Осознанность этого решения прочитывается в коктебельских стихах; в них происходящее в стране изображается торжественно.
Суровы роды, час высок и страшен. Не в пене моря, не в небесной синеве, На темном гноище, омытый кровью нашей, Рождается иной, великий век.Кровавая вакханалия, прокатившаяся по стране, теперь осознается Эренбургом как предопределенная свыше, и участие в ней принимается спокойно: «Мы первые исполнили веление судьбы». Приятие случившегося Эренбург честно понимает как отречение от прошлой веры, он пишет об этом без обиняков: «Отрекаюсь, трижды отрекаюсь / От всего, чем я жил вчера».
Отречение это связано с вольным или невольным выбором страны: «Нет свободы, ее разлюбили люди. / Свобода сон, а ныне день труда…», оно — вынужденное: «Умевший дерзать — умей примириться».
Отречение от прошлого, от свободы и еретичества оказалось для Эренбурга процессом долговременным и никогда не было полным; в 1920 году оно — скорее декларативно.
Конечно, в 1920-м Эренбург не видел контуров будущего и даже обмолвился о «пути бесцельном»; говоря о новом веке, он называл его темным. Однако плач по прошлому был закончен.
К концу затянувшейся войны Эренбург, как казалось, обрел некоторое душевное спокойствие: «Всё, что понять не в силах, / Прими и благослови». Он понимает, что это приятие-отречение не сулит лавров:
…За то, что в душе моей смута, За то, что я слеп, хваля и кляня, — Назовут меня люди отступником И отступятся от меня…В Париже Эренбург думал о предназначенной России мировой роли (усиленный войной французский шовинизм обострил его славянофильские настроения). Теперь, когда эпоха смуты завершалась, а будущее оставалось неясным, Эренбург — европеец и парижанин — испытывал на переломе судьбы отталкивание (в итоге несостоявшееся) от Запада:
О, радость жить на рубеже, когда чисты скрижали, Не встретить дня и не обресть дорог, Но видеть, как истаивает запад дальний И разгорается восток.Перелом в воззрениях на гражданскую войну в России, столь явственно запечатленный в цикле стихов «Ночи в Крыму», перелом, определившийся не только содержанием и итогом политических и военных событий 1919–1920 годов, но и чертами личности Ильи Эренбурга, предопределил в значительной степени его дальнейшую судьбу.
Промежуток (1921–1936)
Вскоре по приезде в Москву, 25 октября 1920 года, Эренбург был арестован как агент Врангеля и помещен во внутреннюю тюрьму ВЧК, откуда его вызволил Бухарин. Так восстановились связи поэта с друзьями юности (затем Л. Б. Каменев помог ему обзавестись одеждой, а Н. И. Бухарин через Менжинского — тоже парижского знакомца! — оформил зарубежную командировку).
В цикле стихов «Московские раздумья» (январь — февраль 1921), написанных в продолжение «Ночей в Крыму», мысли о «новом веке» окрашены в суровые тона московской жизни:
Москва! Москва! Безбытье необжитых будней, И жизни чернота у жалкого огня. Воистину, велик и скуден Зачин неведомого дня.Новые пророчества — точные, ясные, беглый рисунок будущего не сатиричен, но всё же не противоречит замятинской антиутопии:
Провижу грозный город-улей, Стекло и сталь безликих сот…Эренбург не отвергает грандиозного плана, думая о котором, соотносит Ленина с Петром, хотя, симпатизируя «размытому уюту» прежних дней, сочувственно допускает, что:
Какой-нибудь Евгений снова возмутится И каменного истукана проклянет — Усмешку глаз, и лик монгольский, И этот трезвенный восторг…Он искренен, когда признается: «Революция, трудны твои уставы!» и когда надеется, что его будущий читатель:
Средь мишуры былой и слов убогих, Средь летописи давних смут Увидит человека, умирающего на пороге, С лицом, повернутым к нему.В марте 1921-го, переполненный нереализуемыми в Москве литературными планами, среди которых сатирический роман «Хулио Хуренито» (этот замысел обсуждался с Бухариным, именно под него была получена «командировка») и книга о новом левом русском искусстве, напомнившем прорывы в будущее ротондовских художников, рукописи стихов и «Портреты русских поэтов», начатые еще в Киеве, а законченные в Москве, — со всем этим духовным и материальным багажом Эренбург сел в вагон «Москва — Рига» и отбыл с женой на Запад, намереваясь осесть в Париже. Уже в поезде он написал стихи, в которых есть внутренняя раскованность, какой, пожалуй, не хватает «Московским раздумьям»; она и в признаньях: «Повторить ли, что я не согласен, / Что мне страшно?..», и в зарисовках, и в откровенной надежде на недалекое будущее, когда Москва забудет «обиды всех разлук» и ответит «гулом любящим на виноватый стук».
Начинается новая, уникальная для тогдашнего русского литературного мира полоса жизни Эренбурга: на Западе, но с советским паспортом. Она продолжалась почти двадцать лет, приносила победы и горести, благополучие и лютое безденежье, почти полную свободу и литературные обязанности, жизнь, которой одни завидовали, другие ее осуждали, жизнь, на которую ссылался Замятин, прося Сталина отпустить его в Париж, жизнь, за которой всегда присматривала Москва — иногда сочувственно, иногда очень опасно. Стихи писались лишь поначалу этой жизни (отчасти как бы между прочим, по инерции) и в ее конце — совсем всерьез, и — лучшие у Эренбурга.
Быстро высланный из Парижа по доносу «братьев-писателей» (кажется, А. Н. Толстого), он смог обосноваться в Бельгии. Здесь за 28 дней (работа с утра до ночи) был написан давно и в деталях продуманный роман «Хулио Хуренито», остающийся лучшей прозаической книгой Эренбурга. Книга сразу замышлялась как сатирическая и антивоенная; события русской революции и Гражданской войны вошли в роман, придав ему дополнительную остроту. Отвергая капиталистический миропорядок, Эренбург оставался еретиком и, повествуя о русской революции, видя ее несообразности, издевался над ними так же, как над французской демократией и папским престолом, над необузданностью итальянцев и законопослушанием немцев, над всхлипыванием русской интеллигенции и американской деловитостью, над красноречием социалистических партий, несостоятельных перед натиском национализма, и штампами большевистской печати, над элитарным искусством и конструктивизмом для масс, над буржуазным браком и собственными стихами из «Молитвы о России» — недаром Лев Лунц назвал «Хуренито» «сатирической энциклопедией»[59]. (Отметим попутно, что, не принимая оценки прошлого в мандельштамовском «Шуме времени», Цветаева писала в 1926 году:
«Возьмем Эренбурга — кто из нас укорит его за „Хулио Хуренито“ после „Молитвы о России“. Тогда любил это, теперь то. Он чист. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром…»[60].)
«Хулио Хуренито» издали в 1922-м (в Берлине, а потом в Москве), перевели на все европейские языки; он принес автору писательскую славу. На ее фоне затерялась написанная следом небольшая книжка стихов «Зарубежные раздумья». Так произошла смена литературной ориентации: Эренбург стал прозаиком, стихи теперь он пишет только в перерывах между большой работой над прозой (когда роман завершен или произошел сбой в работе).
Между тем в стихах «Зарубежных раздумий» Эренбург многое сказал — о времени и, главным образом, о себе. Напряженная работа над сатирическим романом потребовала переключения, и в стихах Эренбург сдержанно торжественен. Думая о происшедшем в России, он понимает, что это — не конец света: «Будет день, и станет наше горе / Датами на цоколе историй». Образ голодной страны фантастов в этих стихах не плакатен.
Там, в кабинетах, схем гигантских, Кругов и ромбов торжество, А на гниющих полустанках Тупое, вшивое «чаво?».На Западе комфортно, сытно и — всё как прежде, а всё новое — в России: «Да, моя страна не знала меры, / Скарб столетий на костер снесла…»
Когда некий знакомый, снова увидев Эренбурга в «Ротонде», сказал ему: «Что-то вас давно не было!», даже видавший виды Эренбург обомлел — за четыре года он прожил не одну жизнь; он испытывает, пожалуй, даже гордость.
Над персонажем романа по имени Илья Эренбург автор подтрунивал, даже издевался; в стихах он серьезен и даже пафосен: «Я не трубач — труба. Дуй, Время! / Дано им верить, мне звенеть…», хотя и здесь возникают самобичующие ноты:
Он в серый день припал и дунул, И я безудержно завыл, Простой закат назвал кануном И скуку мукой подменил.Эти, может быть, запальчивые строки критика обошла вниманием, желая спрямить путь их автора к революции, между тем — они свидетельство двойственного, амбивалентного, как с некоторых пор принято выражаться, отношения к ней; в любом случае, победа революции — это победа над поэтом:
И кто поймет, что в сплаве медном Трепещет вкрапленная плоть, Что прославляю я победы Меня сумевших побороть?В декабре 1921-го в Берлине, куда он осенью перебрался, Эренбург начал писать новый роман «Жизнь и гибель Николая Курбова» о судьбе молодого человека — непримиримого большевика и чекиста, каким его сделала несладкая российская жизнь, которую он вместе с единомышленниками решил «обустроить» по формулам нового социального вероучения; в конце концов стихия жизни, любовь одолевает волю героя и он пускает себе пулю. Роман писался трудно, долго, с перерывами, и не признающий праздности Эренбург заполнял иной работой. В первый же перерыв, в январе 1922-го, залпом была написана новая книжка стихов «Опустошающая любовь», по-своему продолжавшая главную идею романа, на замысел которого, в свою очередь, повлияли популярные на Западе в начале века идеи о самодовлеющей роли «пола».
Стихи эти отличает торжественность лексики, классическая строфика и пренебрежение к ясности их содержания (лишь иногда стих становится прозрачным — «Ты Канадой запахла, Тверская…» или «Когда замолкнет суесловье»). «Опустошающая любовь» — не любовная лирика в принятом смысле; сформулировать «общую идею» ее не просто.
Языковая стихия Андрея Белого, прозой которого тогда была увлечена едва ли не вся русская литература, владела Эренбургом в пору работы над «Курбовым», и даже в завершенном поздней осенью 1922 года романе следы этого воздействия остались. Еще одно, всё возрастающее, воздействие на Эренбурга оказывала лирика Пастернака. Эти две волны, усиленные прежде неведомым Эренбургу психологическим комфортом массового успеха, ощущаются в стихах, написанных в январе 1922-го — стихах о любви, которая, как известно со времен Данте, правит миром:
Здесь в глухой Калуге, в Туле иль в Тамбове, На пустой обезображенной земле Вычерчено торжествующей Любовью Новое земное бытие.Это новое бытие пока Эренбургу чужое:
Глуха безрукая победа. Того ль ты жаждала, мечта, Из окровавленного снега Лепя сурового Христа?Оно отрицает прошлое, ибо пожар революции испепеляющ:
Взвился рыжий, ближе! ближе! И в осенний бурелом Из груди России выжег Даже память о былом,и все-таки его надо понять и принять:
О, если б этот новый век Рукою зачерпнуть, Чтоб был продолжен в синеве Тысячелетий путь.Заключительное стихотворение «Опустошающей любви» — программно, в нем библейский сюжет позволяет Эренбургу точно заявить о себе Держателю библейских весов:
Запомни только — сын Давидов — Филистимлян я не прощу. Скорей свои цимбалы выдам, Но не разящую пращу… —и подтвердить, может быть, главную поэтическую мысль книги:
Но неизбывна жизни тяжесть: Слепое сердце дрогнет вновь, И перышком на чашу ляжет Полузабытая любовь.Следующий, затяжной, перерыв в работе над романом начался в мае, и Эренбург уехал на Балтийское море (остров Рюген); в июне там была написаны новеллы «13 трубок», а на рубеже июля — августа 25 стихотворений, составивших книгу «Звериное тепло» — тематически она продолжила «Опустошающую любовь», существенно отличаясь от нее ясностью. Иногда в этих, по замечанию Андрея Белого, «безукоризненно, четко изваянных» стихах ощутимы интонации Пастернака: «Даже грохот катастроф забудь: / Эти задыханья и бураны…», иногда, почти неуловимо, — Мандельштама («Психея бедная, не щебечи!»), иногда — даже Маяковского («Ворочая огромной глыбой плеч»), но, разумеется, прежде и больше всего (словарь, чувства, мысли, образный строй) эта экспрессивная книга о любви — книга Ильи Эренбурга. На дистанции в двадцать пять стихотворений он не мог ограничиться только любовью и вспоминает события октября 1917-го:
Остались средь дворцовых малахитов Солдатские окурки и тоска, —Москву, где:
Средь гуда «Ундервудов», гроз и поз, Под верным коминтерновым киотом — Рябая харя выставляла нос, И слышалась утробная икота… —но в целом, как сказано, книга не об этом:
Двух сердец такие замиранья, Залпы перекрестные и страх, Будто салютуют в океане Погибающие крейсера.Из образов «двух сердец» один — автопортрет, он узнаваем и когда изображается прямо:
Столь невеселая веселость глаз, Сутулость вся — тяжелая нагрузка, — Приметы выгорят дотла, И, уж конечно, трубка.Второй образ — пленителен: «Есть в тебе льняная чистота…» Любовная лирика — не слишком частая гостья в поэзии Эренбурга, тем заметнее ее удачи:
О вымыслах иных я не прошу. Из шумов всех один меня смущает — Под левой грудью твой угрюмый шум, Когда ты ничего не отвечаешь.Сравнения впечатляющи («женщины, как розовые семги»), стих внятен и ярок:
И всё же, зная кипь и накипь И всю беспомощность мою, — Шершавым языком собаки Расписку верности даю.В ноябре 1922-го в состоянии почти полного опустошения Эренбург завершает работу над «Курбовым». Осенью он много общается в Берлине с Пастернаком и Маяковским; стихами Пастернака он буквально бредит (очарование лирики и личности Пастернака оказалось долгодействующим). В январе 1923-го легко и весело Эренбург начал писать фантастический роман «Трест ДЕ. История гибели Европы» и в марте его закончил. Летом, отдыхая от многочисленных издательских забот сначала в горах Гарца, а затем на Северном море, после перерыва длиной в год он снова пишет стихи. В августе работа над двадцатью стихотворениями была завершена; Эренбург хотел их издать либо отдельно под названием «Не переводя дыхания», либо вместе со «Звериным теплом». Кратко рассказывая в мемуарах о том, где он писал эти стихи, Эренбург ошибся:
«Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал»[61].
Из двадцати написанных тогда стихотворений известны только девять (при жизни автора были напечатаны два), и только по ним можно судить о книге. Стихи по духу близки к «Звериному теплу», но свободнее, не так зажаты корсетом формы (в большинстве их Эренбург отказался от классической строфики); бесспорно также очевидное влияние лирики Пастернака, которое открыто признавалось самим автором и тогда («пастерначество» — как сказано им в письме Полонской в 1923-м), и потом («Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим»[62]).
Так умирать, чтоб бил озноб огни, Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский: «Ну ты, угомонись, уймись, никшни», — Прошамкал мамкой ветровому сердцу… <…> Так умирать, понять, что гам и чай, Буфетчик, вечный розан на котлете, Что это — смерть, что на твое «прощай!» Уж мне никак не суждено ответить.В этих стихах уже слышен голос зрелой поэзии Эренбурга, до которой оставался пятнадцатилетний антракт.
Можно лишь гадать о том, почему в 1923 году умолкла муза поэта. Понять, почему она очнулась в 1939-м, легче. Длительный перерыв в творчестве зрелого поэта — наверное, не частый случай. По необходимости кратко скажем здесь, чем были заполнены эти 15–16 лет в жизни Эренбурга.
С конца 1924-го он снова жил в Париже, время от времени наезжая в Россию за новыми впечатлениями (1924, 1926, 1932). У него выработалась журналистская хватка — приезжал, жадно впитывал новое, затем в парижских кафе писал очередные романы. Их было немало — это западный стиль: Эренбург работал интенсивно, выпускал роман, потом расслаблялся, путешествовал, потом снова работал. Его романы и эссеистика издавались в Москве и за границей, переводы тоже приносили какие-то деньги, жить было можно. Обрушилось всё разом — экономический кризис потряс Запад, а в Москве с установлением единоличной сталинской диктатуры идеологическая цензура стала вконец свирепой.
Идеальная модель, которую построил для себя Эренбург в 1921 году — жить в Париже с советским паспортом, свободно писать об изъянах Запада и по возможности правдиво об интересном в Советской России; печататься в СССР, где читательская аудитория огромна и наиболее привлекательна, но и на Западе (в переводах), где интерес к российскому феномену обеспечен, — эта, не свободная от известной дозы цинизма, модель начала давать сбои с самого начала, но первоначально идеологические проблемы преодолевались с помощью влиятельных друзей (так, предисловие Бухарина открыло дорогу для «Хулио Хуренито»). Однако чем дальше, тем все труднее было этого добиваться[63]: ортодоксальная «критика» провозгласила Эренбурга необуржуазным писателем и требовала его запрета, в итоге два года шла борьба за «Рвача»(1925), и его напечатали только в Одессе, где почти весь тираж залило водой на складе; повесть «В проточном переулке» (1926) цензура искромсала, роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»(1927) издать на родине автора вообще не удалось — он стал его последним сатирическим романом на российском материале. Эренбург искал выход и проявлял немалую гибкость — он находил новые сюжеты и новые жанры: исторический роман о Великой французской революции «Заговор равных» (1928) — разумеется, с очевидными аллюзиями, книги об «акулах» капиталистического мира «Хроника наших дней» (с 1929), книга путевых очерков «Виза времени» (1930), антология высказываний о Франции и России «Мы и они» (1931; совместно с О. Савичем) и т. д. — но и эти вещи пробивались к советскому читателю с трудом, выходили изувеченными или попросту запрещались. Советский цензурный пресс становился невыносимым, а кризис на Западе лишал дополнительного заработка. Положение стало безвыходным — чтобы преодолеть советскую цензуру, надо было резко изменить репутацию. Эренбурга спасла Испания — он отправился туда в конце 1931-го, вскоре после свержения короля Альфонса XIII.
«Я видел немало стран, некоторые полюбил. Обычно они подтверждали то, чем я жил до этого. Испания подсказала мне нечто новое… Я встретил людей, которым невыносимо трудно жить, они улыбались, они жали мне руку, говоря „товарищ“, они храбро шли на смерть ради права жить. Это было приготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке»[64].
Эренбург поверил в справедливую революцию благородных испанцев, в перспективу полевения Европы и в возможность остановить продвижение фашизма в ее центре. Он поверил и в то, что эти процессы рано или поздно цивилизуют идеологическую политику СССР в части свободы творчества. Роспуск РАППа (апрель 1932) укрепил эту иллюзию и облегчил Эренбургу решение ответственно присягнуть советскому режиму. Первая присяга была принесена в 1921-м, и, живя в Париже, Эренбург не сотрудничал с эмиграцией — он не забывал о своем паспорте, но, приняв Октябрьскую революцию, не отказывал себе в праве видеть несообразности ее последствий; в «Книге для взрослых» об этом сказано кратко:
«Мою судьбу я связал с судьбой моей страны. Но некоторые слова продолжали обольщать меня»[65].
Новая присяга требовала о большинстве несообразностей помалкивать. Известная формула из мемуаров «Люди, годы, жизнь» лишь облекает эти соображения в цензурно проходимую форму:
«В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что было мне дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию»[66].
Книга «Испания» (1932) с ее романтическим образом пробуждавшейся к новой жизни страны Дон Кихота присягой на верность сталинскому режиму служить не могла, нужно было другое. Летом 1932-го Эренбург совершает давно им задуманную поездку на Урал и в Сибирь — на стройки первой пятилетки. Его зоркий глаз видит многое, но он принуждает себя видеть и то, что должно быть; он принимает концепцию «нового человека», результатом чего становится роман «День второй»(1933) — первая советская книга Эренбурга. Она вышла в Москве через год достаточно острой, стоившей автору многих нервов, борьбы, но в итоге утвердилась в обойме советской классики о первой пятилетке («Это не „сладкий“ роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной массы, куда идет наша жизнь, показывающий, что все эти тяжести масса несет не зря, что они ведут к построению социализма», — писал в «Известиях»[67] Карл Радек, имевший полномочия поставить Эренбургу «зачет»).
Эренбург больше не раздваивался, не сочетал несочетаемое; он старался быть честным в жестких рамках, добровольно принятых для себя. Когда-то персонаж романа «Хулио Хуренито», именуемый Ильей Эренбургом, из двух слов — «да» и «нет» — предложенных ему «великим провокатором», выбрал «нет». Эренбург хорошо знал, что такое ненависть, но у него не было булгаковского изначального высокомерия, позволившего не обольщаться «новизной», и, даже идя на компромиссы, не стремиться к возможности говорить «мы» — такова уж была природа его дара, каждому свое.
«Страшно жить отрицанием, не знать тепла множества рук, местоимения „мы“, кровной связанности. За мои книги я расплачивался жизнью. Я говорил „нет“ самому себе, близким, возможному счастью..»[68].
Принеся присягу, которой не изменял, Эренбург себя подбадривал:
«Сильные продолжают идти вперед, слабые отходят в сторону. Я хорошо знаю эти боковые тропинки: они ведут к равнодушью или к отчаянью»[69].
Новая присяга не пробудила его поэтическую музу, отнюдь. 4 апреля 1933 года Марина Цветаева писала Ю. П. Иваску:
«Эренбург мне не только не „ближе“, но никогда, ни одной секунды не ощущала его поэтом. Эренбург — подпадение под всех, бесхребтовость. Кроме того: циник не может быть поэтом»[70].
Оставим в стороне причину такой запальчивости (в ней много личного), неточность диагноза и несоразмерность этого приговора реальностям, но неслучайность того, что в 1924–1937 годах Эренбург не мог писать стихи (не рифмовать) — эти слова подтверждают. Отметим здесь к слову, что именно в ту пору формировалась «советская поэзия», и голоса Эренбурга в ней не звучало. Его лирическая муза спасительным для поэзии образом просыпалась лишь при значительном градусе сомнений, горечи, страданий… Летом 1941 года Марина Цветаева держала в руках надписанную ей эренбурговскую «Верность» и, может быть, успела это почувствовать.
Дальнейший путь Эренбурга в 1930-е годы не знал явных сбоев, если не говорить о качестве его схематичной прозы — оно оставляло желать лучшего. Наряду с писательством — было еще и другое: участие в работе Первого съезда советских писателей (1934), трудоемкая организация Парижского конгресса писателей в защиту культуры (1935) и, наконец, работа военным корреспондентом «Известий» в Испании на фронтах гражданской войны, вспыхнувшей в 1936-м.
Войны (1936–1945)
Поначалу в Испании Эренбург занимался не только репортажами — выпускал газету для бойцов-республиканцев, организовал кинопередвижку и показывал фильм «Чапаев» на позициях анархистов, вел конфиденциальные переговоры с их лидерами, посылал подробные отчеты советскому послу в Мадрид и консулу в Барселону, но потом резко оборвал всю эту деятельность и ограничил себя только статьями и сообщениями для газеты (надо думать, необычайно быстро и привольно разросшаяся в Испании сеть НКВД, особые права, которые она там получила, сподвигли Эренбурга аккуратно выйти из нелитературной игры, — была некая черта, которую он отлично чувствовал и никогда не переступал). Сохранив неизжитую горечь от поражения республиканцев и романтическое отношение к советскому участию в антифашистской испанской войне, Илья Эренбург внутренне отмежевался от тайной и циничной его стороны и таким образом сумел сохранить для себя незапятнанным самый образ трех военных лет, проведенных в Испании.
В конце декабря 1937-го Эренбург приехал на короткий срок в Москву, но был неожиданно для него лишен загранпаспорта и полгода провел в эпицентре сталинского террора; ему пришлось присутствовать на бухаринском процессе и слышать там чудовищные признания, в которые он мужественно не поверил. В итоге дважды повторенного личного обращения к Сталину он вырвал право вернуться в Испанию, но это был уже другой человек. Кафкианский, мертвящий ужас массового террора в СССР, наложившийся на неминуемую катастрофу Испанской республики, с которой Эренбург прошел весь ее путь, изменили и его облик, и его нутро — он постарел, узнав и горе, и тоску, и бессилие, и непредсказуемость рока, и вероломство, и щемящую нежность; исчезли былые уверенность и усмешка, в литературе он вновь обрел многомерность (если быть точным, только в стихах). Грозный груз пережитого давил на душу — от него нельзя было избавиться ни в газетных статьях, ни даже в прозе. В апреле 1939-го положение Эренбурга стало еще тягостнее: впервые за все последние годы он сидел в Париже без дела — в угоду Гитлеру Сталин сворачивал антифашистскую пропаганду; испанские статьи Эренбурга в «Известиях» закончились вместе с войной, французские корреспонденции, которые он публиковал под псевдонимом Поль Жослен, тоже оказались нежелательными (последнюю статью Жослена напечатали 10 апреля, последнее сообщение — 12-го). Так совершенно неожиданно для него самого в апреле 1939 года Эренбург почувствовал себя свободным от дел. Вот тогда-то и возник первый большой цикл его испанских стихов. Возможно, какие-то строфы их, отдельные образы складывались и раньше, в Испании, но именно в апреле 1939-го Эренбург начал их писать — быстро, взахлеб, и это вернуло его к жизни.
То, что он снова пишет стихи, его ошеломило, он вспомнил себя в 1909-м и 28 апреля послал новые стихи в Ленинград Елизавете Полонской (импульс был сильным — они не переписывались с 1931-го; Эренбург пытался скрыть волнение тем, что писал о себе в третьем лице):
«Дорогая Лиза, мировые событья позволяют гулять Эренбургу-Жослену, ввиду этого Эренбург вспомнил старину и после семнадцати лет перерыва пишет стихи (Эренбург забыл про не вышедшую книгу „Не переводя дыхания“ и вел счет молчанию от „Звериного тепла“. — Б. Ф.). Так как в свое время он показал тебе первые свои стихи, то и теперь ему захотелось послать именно тебе, а не кому-либо иному, его вторые дебюты. Прочти на досуге и напиши мне, что ты думаешь об этом. Я не гага (от фр. gaga — человек, впавший в детство. — Б. Ф.), но прозу писать теперь труднее — мы живем здесь от одного выпуска газет до другого»[71].
Стихи были без названий, все об испанской войне; в них немало точно увиденных деталей этой войны: Мадрид после бомбардировок — Мадрид, откуда до окопов добираются на трамвае, ржавые солдатские фляжки без глотка воды, бойцы ночью в горах, закутанные в одеяла, батареи, укрытые оливами, русские волонтеры, про которых не знают, что они русские; в них живая Испания: бульвар Рамбла в Барселоне, выжженная солнцем провинция Арагон, женщины с тяжелыми кувшинами на головах. Это были горькие стихи. Горькие не только потому, что внешняя, событийная их сторона связана с проигранной войной — за их горечью читается нечто другое. Это стихи о войне, написанные ее участником, который там, в Испании, не забывал о том, что творится у него дома, старался об этом не думать и не мог не думать. Именно это двойное зрение придает лучшим испанским стихам Эренбурга особую глубину и поднимает их над импрессионистически воссозданными декорациями сюжета. В этих стихах тяжелый груз тридцатых годов; такие стихи Эренбург не мог написать раньше, а понятны они будут всегда:
В темноте все листья пахнут летом, Все могилы сиротливы ночью. Что придумаешь просторней света, Человеческой судьбы короче?Испанские стихи Эренбурга отличаются сжатостью и сдержанным, внутренним трагизмом от истеричной по тону «Молитвы о России» и от зачастую темных по существу «Стихов о канунах»; они ближе к последним «Раздумьям» и стихам не вышедшей книги «Не переводя дыхания» — но проще (той простотой, что после сложности, а не до — как любил говорить Эренбург), яснее, мудрее их, хотя в испанских стихах встречаются и давно полюбившиеся Эренбургу образы, очень выразительно вписывающиеся в новый контекст — скажем, помешанный трубач, и вообще — медь трубы…
Борис Слуцкий вспоминал, как студентом, видимо, в конце мая 1941-го, он застал недавнего лефовского теоретика Осипа Брика и недавнего вождя конструктивистов Илью Сельвинского беседующими на лестнице Литературного института:
«Оба держат в руках только что вышедшую книгу стихов Эренбурга. Взаимно ухмыляются. Открывают книги, каждый свою. Показывают друг другу рифмы Эренбурга. Расходятся»[72].
Это красноречивая сцена. Эренбург — пусть и присягнувший советскому режиму — не имел никакого отношения к становлению советской поэзии с ее достаточно разнообразной техникой и достаточно однообразной риторикой. В испанских стихах Эренбург меньше всего был озабочен нарядным оснащением стиха элементами рафинированной техники, например изощренными рифмами; его заботило иное: донести до читателя чувство, мысль во всей ее сложной простоте.
Одни стихи были написаны сразу и навсегда — Эренбург потом не исправил в них ни слова (только некоторым дал названия): «Гончар в Хаэне», «Разведка боем», «Гроб несли по розовому щебню…», «Горят померанцы…», «В январе 1939» и другие. Иные потом переделывались — подбирались более точные, более емкие слова, безжалостно сокращались. Некоторые Эренбург не перепечатывал.
За испанскими последовали новые стихи (июнь — август 1939) — о том же и не о том.
«Чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем <…> А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи»[73].
По тихим плитам крепостного плаца Разводят незнакомых часовых. Сказать о возрасте? Уж сны не снятся, А книжка — с адресами неживых. Стоят, не шелохнутся часовые. Друзья редеют, и молчит беда. Из слов остались самые простые: Забота, воздух, дерево, вода…В августе, в деревне виноделов, в округе Божоле, Эренбург жил наедине с природой. Пейзаж стал едва ли не главным инструментом его лирики.
Додумать всё до конца оказалось не только трудно, но и страшно — как с этим было жить и работать в условиях принесенной присяги? В прозе и публицистике Эренбург сознательно недодумывал страшной сути тех лет, скользил по поверхности, лишь изредка взрыхляя ее. Но он не мог обмануть себя, поэтому стихи — там, где это лирический дневник, странички которого заполнялись без оглядки на немедленную печать, стихи, писавшиеся в периоды, когда драма, созданная обстоятельствами времени и усугубленная принесенной присягой, резко обострялась, стихи Эренбурга дают почувствовать суть времени острее, чем его проза. Не случайна поэтому и горечь этой лирики.
Борис Пастернак в Москве 1938-го сказал Эренбургу: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про всё Сталину!»[74], а в пору оттепели написал: «Во всем мне хочется дойти до самой сути…». Прямо противоположное заклинание в лишенных кокетства стихах Эренбурга 1939 года, в стихах, выражавших безысходное отчаяние и бесстрашных лишь в выражении этого отчаяния, выглядит, скорей всего, не столь привлекательно, но честнее: «Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, / Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось». (Эренбург иногда ставил под этим стихотворением дату 1938, иногда добавлял: Барселона, были на то причины). Бенедикт Сарнов посвятил проблеме «додумать не дай» в творчестве Эренбурга суровые и жесткие страницы статьи о поздних его стихах[75], подводящие к вопросу: «Что ж, значит, он совершил роковую ошибку, или, скажем иначе, проявил слабость, подчинившись обстоятельствам своего времени и забыв о главном предназначении поэта — быть заложником вечности „у времени в плену“?»; ответ дан в следующей же фразе:
«Праздный вопрос. Он был таким, каким был, и не мог быть другим». Говоря об Эренбурге и помня резонанс написанного, опубликованного, сказанного и сделанного им хотя бы в 40—60-е годы, трудно отделить стихи от другой его литературной работы, во многом «заложницы времени», а не вечности, если продолжить разговор в терминах, употреблявшихся в статье Сарнова, судившей написанное Эренбургом по законам вечности… Здесь происходит некая подмена — прижизненный масштаб Эренбурга определялся отнюдь не его стихами, и «суд» над ним идет по совокупности написанного. Время, конечно, произведет (и уже производит) естественный отбор в его наследии, предоставив лишь историкам восстанавливать иную картину, существовавшую в эренбурговской современности. Не имея в виду прямого сопоставления и понимая сомнительность исторических параллелей, заметим всё же, что политические статьи Тютчева, биографически существенные и понятные, спустя время, выглядят несопоставимо рядом с «вечными» стихами поэта…
Жизнь вынуждала Эренбурга искать опоры, недаром «Додумать не дай…» — молитва (в отличие от его прежних молитв, адресат здесь не назван); уговорить себя нетрудно, поскольку
Утешить человека может мелочь: Шум листьев или летом светлый ливень, Когда, омыт, оплакан и закапан, Мир ясен — весь в одной повисшей капле…— (тут снова возникает тень Пастернака). И представление о сегодняшнем времени как о потоке, кидающемся самоубийцею в ущелье, естественно порождало видение будущего — река, плавно несущая свои воды; так возникало утешение, а поиск более прочных фундаментов для оптимизма приводил к умозрительным, шатким построениям: «Мы победим. За нас вся свежесть мира…»
В стихах лета 1939-го Эренбург возвращается к своей присяге, и слово «верность» прочно входит в его словарь; дважды — в 1939-м и в 1957-м — он пишет стихи под этим названием. В 1939-м верность для Эренбурга включает и верность смерти, и верность обидам, верность погибшим друзьям; эта верность — «зрелой души добродетель…»
В июле 1939-го Эренбург, извиняясь в сопроводительном письме за пессимизм своих новых стихов, отослал их в Москву, но в печать они уже попасть не могли (испанский цикл чудом проскочил в «Знамени» буквально перед самым началом переговоров о советско-германском пакте) — 23 августа пакт Молотова — Риббентропа был подписан, идеологическая политика окончательно прояснилась, и непоправимый антифашист Илья Эренбург для советской печати стал персоной non grata.
Советские читатели испанских стихов Эренбурга до того знали его статьи в «Известиях». За годы, проведенные в Испании, Эренбург написал для газеты сотни запоминающихся репортажей, статей, памфлетов — они, наряду с сообщениями корреспондентов ТАСС, со статьями Кольцова в «Правде» и Савича в «Комсомолке», были в те нетелевизионные времена единственным источником информации граждан СССР об испанских событиях, но одновременно — частью госпропаганды, и, хочешь не хочешь, не могли не быть по существу своей задачи двуцветными, бинарными, как это называется в теории информации (да и нет), не допускали разномыслия. Испанские стихи Эренбурга, напечатанные, когда война в Испании уже была проиграна республиканцами, проиграна не только генералу Франко, но и Гитлеру с Муссолини, и когда Сталин заключил с Гитлером договор о дружбе, — очевидно контрастировали с его же статьями и со всем, что писалось и говорилось прежде об этой войне в Советском Союзе. Это было не проявлением раздвоения личности, но естественным пониманием природы поэзии (то, что можно сказать в статье, нелепо перекладывать стихами). Контраст этот точно почувствовал год спустя поэт Илья Сельвинский, но, будучи ортодоксальным коммунистом, этим не восхитился, а был возмущен — он обвинил Эренбурга в «двухпалубности»: статьи-де — для нас, а стихи — для себя[76]. Редактор «Знамени» Всеволод Вишневский, человек очень эмоциональный, приезжавший в Испанию в разгар войны и влюбившийся в страну, уверенный во временности перемирия с Германией и думающий дальше этого перемирия, напротив, восхитился стихами Эренбурга и жестко отвел все замечания статьи-доноса Сельвинского, подчеркнув, что в пору, когда «в литературе молчание», Эренбург стремится «всё осмыслить»[77]. Это было, повторяю, год спустя, а летом 1939-го испанская тема еще не была закрыта, но напечатали в «Знамени» стихи Эренбурга в пору действия пакта Молотова — Риббентропа, когда они уже не могли вызвать публичного резонанса, хотя советская критика — прислужница по части сиюминутных потребностей власти — многословно и путано успела их осудить. Их читали молча (по свидетельствам многих поэтов военного поколения, испанские стихи Эренбурга были ими перед самой войной внимательно прочтены, и они потом аукнулись в их собственной поэзии). Выраженные в этих стихах тоска, горе, растерянность, соотнесение конкретных событий со всей прожитой жизнью, а конкретной человеческой судьбы — с вечностью, со спокойно взирающей на всё природой создавало негазетный масштаб для суждений и оценок. За два десятилетия советской власти страна была оскоплена репрессиями, счет которым шел на миллионы; выросло поколение, воспитанное новой идеологией, — стихи Эренбурга, напечатанные в советском журнале, помогали этому поколению задуматься.
От советского поэта, обязанного приравнивать перо к штыку, требовались однозначность и кругозор политрука. В те же предвоенные времена подававший большие надежды Евгений Долматовский, вернувшись из военного похода в Восточную Польшу (по тогдашней терминологии — Западную Украину и Западную Белоруссию), писал:
Когда на броневых автомобилях Вернемся мы, изъездив полземли, Не спрашивайте, скольких мы убили, Спросите раньше, скольких мы спасли.Это была настоящая советская, бинарная поэзия, дававшая формулы жизни на десятилетия вперед, критика ее комментировала столь же четко: «И в самом деле, советские бойцы не убивают людей напрасно»[78]. Эренбургу стихи Долматовского ставили в пример…
Илья Эренбург был умный человек и политик, но пакта между СССР и Германией он никак не предвидел:
«Шок был настолько сильным, что я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало. <…> Это произошло внезапно: прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба (болезнь прошла так же внезапно, как началась, — от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть)»[79].
Вторжение в Бельгию произошло 10 мая 1940-го, а 14 июня немцы вошли в Париж.
Время с сентября 1939-го по июль 1940-го — из самых мрачных в жизни Эренбурга: он тяжело болел, многие друзья-французы от него отвернулись (Франция находилась в состоянии войны с Германией, а СССР — в состоянии «дружбы»), полиция намеревалась выслать его из страны, а он не мог ехать, да и куда? — в Москве, скорей всего, ждал арест (потом подтвердилось, что Сталин так и распорядился[80]), Европа почти вся была под сапогом Гитлера (обсуждали ситуацию с бежавшим из Праги Романом Якобсоном, говорили даже о Палестине, где нашел смерть несчастный Лазик Ройтшванец, — в итоге Якобсон отправился в Америку, а Эренбург остался в Париже), вскоре его арестовали, но спасло чудо: после прорыва немцев правительство решило отправить министра авиации Пьера Кота, с которым Эренбург был дружен, в Москву за самолетами, и Эренбург оказался полезен.
Когда гитлеровцы вошли в Париж, Эренбурга с женой разместили в комнатенке советского посольства, в это время в Москве пустили слух, что он невозвращенец. Жизнь в оккупированном гитлеровцами Париже была невыносима: «Я отводил душу в стихах»[81]. Стихи из цикла «Париж, 1940» — это трагический и страстный лирический дневник, у стихов одна тема, одна мысль, один нерв, одно чувство:
Глаза закрой и промолчи — Идут чужие трубачи. Чужая медь, чужая спесь. Не для того я вырос здесь!Эренбург согласился вернуться в Москву поездом через Германию по подложным документам, когда из разговоров немцев в Париже понял: нападение Гитлера на СССР неминуемо, а значит — можно возвращаться, он понадобится. Вернувшись в Москву 29 июля 1940 года, Эренбург сразу же написал о том, что узнал в Париже, Молотову. Ответа не получил, но его положение определилось — разрешили напечатать стихи и, с великим трудом, очерки о разгроме Франции. Эренбург вернулся в Москву, не поправившись, был слух, что у него рак, выглядел он ужасно, об этом свидетельствует Н. Я. Мандельштам:
«Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту. Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом, — ни тени иронии, исчезла вся жовиальность. Он был в отчаянье: Европа рухнула, мир обезумел… В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком — не тем, которого я знала многие годы. И совсем по-новому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: „Есть только стихи: „Осы“ и все, что Ося написал…“. Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела: война с Гитлером вернула ему равновесие»[82].
15 сентября 1940 года Эренбург начал работу над задуманным еще во Франции романом «Падение Парижа»; в декабре — завершил первую часть и отдал ее в «Знамя», не слишком надеясь, что цензура пропустит. Снова он пишет стихи в перерыве большой прозы — в январе 1941-го; в этих стихах — порабощенная Гитлером Европа, ужас холокоста, о нем — не со стороны:
Горе, открылась старая рана, Мать мою звали по имени — Хана.И, продолжая тему прежних стихов, снова признание: «Всё за беспамятство отдать готов…»
Одно из январских стихотворений посвящено Лондону (Англия — единственная страна Европы, насмерть стоявшая против Гитлера, а его войска занимали Европу на советской нефти и с советским зерном), это была запретная тема, поскольку виновниками европейской войны советская пропаганда изображала англо-французских империалистов, но Эренбург не молчал:
Город тот мне новым горем дорог, По ночам я вижу черный город…Первую часть «Падения Парижа» разрешили печатать, в январе — марте Эренбург написал вторую, но ее тут же запретили, разрешение дал в конце апреля лично Сталин, позвонивший Эренбургу домой: полной уверенности в том, что Гитлер не нарушит пакта у Сталина не было, и печатание антифашистского по сути романа было политическим жестом. Этот звонок изменил положение Эренбурга: печатался роман, разрешили издать книгу стихов. Эренбург назвал ее «Верность».
Эта книга представила нового поэта: автора сжатых, емких, не разделенных на строфы стихов, произносимых тихим, раздумчивым, равнодушным к напевности голосом (недаром петь стихи Эренбурга стали только в эпоху «авторской песни», не требующей оперных голосов и внимательной больше к смыслу, чем к музыкальности текста), стихов короткого, иногда затрудненного дыхания, стихов, использующих опыт французской поэзии, где слово цепляет слово и по смыслу, и по звучанию, и где еще со времен Вийона (а в XX веке у Жакоба) виртуозно работал прием настойчивого повтора, стихов, если пользоваться аналогией с пластическими искусствами, напоминающих не пастозное масло, но беглую и убедительную карандашную графику. Эренбург предстал мастером строгой философской лирики, выразившей сложную долю мыслящего человека в бесчеловечном мире, человека, и сквозь грохот орудий слышащего голос птицы и тишину леса, видящего красоту цветов и ощущающего их запах, человека, знающего тяжелое бремя верности и неодолимую власть искусства.
Недаром стихи из «Верности» Эренбург включал во все свои последующие сборники стихов.
В июне 1941-го он продолжал работать над третьей частью «Падения Парижа» — 22-е число застало его на 37-й главе романа…
Отечественную войну по справедливости принято считать звездным часом Ильи Эренбурга. Он стал едва ли не первым публицистом антигитлеровский коалиции — художественная ярость написанного им сочеталась с гигантским количеством: около полутора тысяч статей для центральных, фронтовых, армейских, даже дивизионных и тыловых газет, специально для зарубежной прессы и телеграфных агентств (статьи переводились на многие языки, распространялись подпольно, выпускались в виде листовок и брошюр). Добавим к этому систематические выступления по радио; затем тысячи писем чаще всего совершенно незнакомых людей с фронта и тыла (малограмотные писали сами, а неграмотным — товарищи под диктовку) — ни одно Эренбург не оставил без короткого ответа на машинке, и на фронте бойцы дорожили этими листочками, как медалью или упоминанием в приказе Верховного главнокомандующего. Поразительная, фантастическая работоспособность, беспрецедентный запал — а ведь писателю было за пятьдесят! Он взял это на себя в первый день войны и, не жалуясь на усталость, нес свой груз до конца. История русской публицистики другого такого примера не знает.
Лишь изредка Эренбург мог урвать время от публицистики — так, в феврале 1942-го была завершена третья, последняя, часть романа «Падение Парижа», а осенью, после отчаянного лета (немцы вышли к Волге и поднялись на Кавказ), Эренбург написал несколько стихотворений. Они, в отличие от стихов 1939 года, продолжали его военные статьи (в которых, правда, всегда была острая лирическая нота). Это были стихи о внезапном для населения нападении немцев и о всенародном отпоре ненавистному врагу, плач по занятому немцами родному Киеву («Киев, Киев! — повторяли провода, — / Вызывает горе, говорит беда…»), о вере в победу (звучащие тогда почти абстрактно строки о грядущем вступления наших войск в Берлин) и о самой победе, которая «…не гранит, не мрамор светлый, — / В грязи, в крови, озябшая сестра», о не сдавшейся Франции, о Париже и заклинание «Так ждать…», напоминающее симоновское «Жди меня», стихи о старых солдатах и о погибших юношах. Хорошие, искренние, вполне эренбурговские стихи — не событие в поэзии, но важная временная мета в знаковой хронологии стихов Эренбурга.
В этом перечне не упомянута еще одна тема статей и стихов Эренбурга 1942 года, самого успешного для Германии года войны, — «Убей немца!». В сборнике «Стихи о войне» (1943) она представлена стихотворениями «Убей!», «Возмездие», «Немец», «Проклятие», «Немецкий солдат», «Немцы вспоминали дом и детство», «Колыбельная». Адрес этих стихов, как и аналогичных статей Эренбурга, конкретен и во времени, и в пространстве — речь идет о гражданах гитлеровской Германии, с оружием в руках 22 июня 1941 года вступивших на территорию СССР с целью его порабощения и поголовного уничтожения миллионов мирных людей, в частности, за один только факт их принадлежности к неарийским народам. Победить врага, который уже захватил всю Европу (за вычетом Великобритании), можно было только не щадя собственной жизни, только напряжением всех мыслимых и немыслимых сил, когда все живут одним — уничтожить врага! Блюстители юридической чистоты текстов хотели бы, чтобы Эренбург писал «фашист» всюду, где у него было «немец». Но в конкретных обстоятельствах Отечественной войны Эренбург писал так, как он писал. Можно спросить: в какой мере тема «Убей!» вообще может быть предметом поэзии? Ответ прост: в той же мере, в какой она может быть предметом жизни.
Лучшие из этих стихов, как и аналогичные стихи Симонова или «Итальянец» Светлова, остаются в поэтической летописи русского XX века страшными, но справедливыми страницами…
Летом 1943 года барометр войны впервые указывал на победу.
«Понемногу всё становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких…»[83]
Почувствовав некоторое облегчение (оно было куплено безмерной ценой миллионов жизней, которые испокон веку на Руси никто не считал), власть могла вернуться к прежним идеологическим заботам, наверстывала упущенное: снова пошли проработочные статьи в прессе и травля писателей; в искусстве утверждался помпезный великорусский стиль, в жизни — государственный антисемитизм. Интеллигенции давали понять, чтоб не заносилась; надежды на невозможность после такой войны повторения 1937 года повисали. Всё это порождало те раздумья, которые, понятно, не могли быть предметом газетных статей. Так возникли у Эренбурга стихи 1943–1945 годов.
«Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и не похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании…»[84].
Есть время камни собирать, И время есть, чтоб их кидать. Я изучил все времена, Я говорил: на то война, Я камни на себе таскал, Я их от сердца отрывал…Снова в стихах Эренбурга — библейские ассоциации (Екклесиаст и несчастный Иов), снова двойное зрение — горе, принесенное врагом, и горе, которое впереди.
Молчи — словами не смягчить беды. Ты хочешь пить, но не ищи воды. Тебе даны не воск, не мрамор. Помни — Ты в этом мире всех бездомней. Не обольстись цветком: и он в крови. Ты видел всё. Запомни и живи.Эренбург постоянно выезжал на фронт, писал о территориях, освобожденных от немцев, своими глазами видел следы их разбоя, кровавых трудов их усердных помощников из местных жителей; письма, которые он получал, документы, которые к нему попадали, рисовали еще более жестокую картину. Стихи «Бабий Яр» (1944) — о расстреле в 1941-м всего еврейского населения Киева — не раз потом аукнутся автору.
Этого Эренбург никогда не забывал, а для государства холокост был «чужим горем» (недаром горькие стихи Эренбурга 1945 года «Чужое горе — оно как овод…» трудно проходили цензуру).
В годы войны Эренбург начал работу над документами и свидетельствами об уничтожении гитлеровцами еврейского населения в СССР, задумав издать их книгой. Потом к этой работе — ее курировал Еврейский антифашистский комитет — подключился и Василий Гроссман. «Черная книга» в 1947 году была запрещена, за участие в ней многие пострадали; почти весь состав комитета был арестован, а в 1952-м расстрелян; «Черную книгу» у нас издали только в годы перестройки.
В стихах 1943–1945 годов — раздумья о долгой жизни. Войны и кровь — всю жизнь; где тот покой, о котором говорил Пушкин?
Было в жизни мало резеды, Много крови, пепла и беды. Я не жалуюсь на свой удел, Я бы только увидать хотел День один, обыкновенный день, Чтобы дерева густая тень Ничего не значила, темна, Кроме лета, тишины и сна.В стихах Эренбурга не равнодушная, но вечная природа — главная опора духа, но, конечно, не только она, и в этом случае трагические стихи перестают быть скорбными; таково одно из самых пронзительных стихотворений 1945 года:
Когда я был молод, была уж война, Я жизнь свою прожил — и снова война. Я всё же запомнил из жизни той громкой Не музыку марша, не грозы, не бомбы, А где-то в рыбацком селенье глухом К скале прилепившийся маленький дом. В том доме матрос расставался с хозяйкой, И грустные руки метались, как чайки. И годы, и годы мерещатся мне Всё те же две тени на белой стене.В 1943-м Эренбург ощутил, что стосковался по прозе, но ежедневная работа публициста не позволяла сосредоточиться на серьезном большом замысле, стихи же — лирический дневник (отсюда, кстати, и отсутствие заботы о нарядных и просто точных рифмах), это — другое; каким-то выходом оказались написанные одна за другой четыре сюжетные поэмы: две на зарубежном материале Сопротивления (Франция, Чехия), две — на русском. Поэмы, написанные одним размером, рождались с ходу, ритм вел автора сам собой, сюжеты были бесхитростны («Париж» и «Прага говорит», как кажется, менее плакатны, чем «Варя» и «Наступление»), во всех поэмах главные герои жертвуют жизнью ради Свободы (этим словом Эренбург и назвал выпущенную в 1943-м книжку, предпослав поэмам лирическое вступление — свое признание в любви Европе). Цикл поэм выстраивал единую картину героического европейского Сопротивления фашизму, вписывая сцены Отечественной войны в общую панораму Второй мировой.
Поэтический мир лирики 1943–1945 годов нов и не нов для Эренбурга: это раздумья о трагичности жизни; но в отличие от горького мира испанских стихов, теперь в них, как правило, отсутствует романтическая нота, ее проблеск мелькнет разве лишь в стихах о Победе (май 1945). Но и в этом цикле сама Победа похожа и не похожа на Победу из испанских стихов, где ее романтически освещала Самофракийская Ника:
Я запомнил несколько примет: У победы крыльев нет как нет, У нее тяжелая ступня, Пот и кровь от грубого ремня…Теперь образ Победы строже и заземленнее:
Она была в линялой гимнастерке, И ноги были до крови натерты…Дело не только в смене размера стихов, дело прежде всего в смене восприятия: нищета опустошенной войною земли, сгоревшие русские избы, незарытые кости солдат, миллионы убитых и, несмотря на всё, продолжающаяся на ней жизнь под всё тем же прессом власти, разве что без революционно-романтического флёра, — всё это изменило тон стихов.
Трагичность мира испанских стихов благожелательная критика могла объяснять тем, что та война была проиграна. Трагичность стихов Эренбурга 1943–1945 годов такого объяснения не имела. Когда эти стихи были собраны в книгу «Дерево» — пресса о ней промолчала…
Конец войны был связан у Эренбурга с событием, которому он не мог не придать значения. 14 апреля 1945-го в «Правде» была напечатана статья зав. Агитпропом ЦК Г. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает», которая в угоду политическому расчету обвиняла Эренбурга в неклассовом подходе к немцам и дезавуировала его публицистику. Эренбурга немедленно перестали печатать; фронтовики присылали ему недоуменные письма: почему молчишь? На его столь же недоуменное письмо Сталин не ответил. Теперь эта история объяснима документально[85]: вернувшись из поездки в занятую советскими войсками Восточную Пруссию, Эренбург был потрясен творившимся там мародерством, пьянством и насилием. Он открыто говорил об этом в нескольких своих выступлениях в Москве. Доносы не заставили себя ждать, и начальник СМЕРШа Абакумов, будущий сталинский министр Госбезопасности, направил вождю секретное донесение с предложением принять меры к слишком много позволяющему себе писателю. Популярность Эренбурга и в стране, и за ее рубежами была столь велика, что Сталин предпочел не арестовывать его, а, в обычной своей иезуитской манере, обвинить писателя во всем том, против чего он выступал. Возможности публичного ответа Эренбургу естественно не дали. Так он встретил Победу, в таком состоянии думал о сделанном и писал стихи:
Я смутно жил и неуверенно, И говорил я о другом…Он это хорошо понимал, но среди написанного им в те «воинственные годы» было и не о «другом»:
Умру — вы вспомните газеты шорох, Проклятый год, который всем нам дорог. А я хочу, чтоб голос мой замолкший Напомнил вам не только гром у Волги, Но и деревьев еле слышный шелест, Зеленую таинственную прелесть…Выживание и преодоление (1946–1967)
После победы опалу сняли — Эренбурга отправили в страны Восточной Европы (инициатива исходила от Сталина), был он и на Нюрнбергском процессе, где подсудимые — сподвижники фюрера — его узнали; очерки «Дороги Европы» (цель поездки) печатались в «Известиях» и вышли отдельной книжкой. В январе 1946-го Эренбург принялся за большой роман («Буря»), а в апреле его вызвали к Молотову, который сообщил, что Эренбург направляется в длительную поездку по США (начиналась «холодная война», и Эренбургу отводилась определенная роль в ее пропагандистском обеспечении); в порядке любезности ему позволили затем побывать во Франции. В 1946-м в СССР прошла гнусная кампания против Зощенко и Ахматовой; упоминание об «упадочной» книге стихов Эренбурга «Дерево» вычеркнули из очередной разгромной статьи только потому, что автор находился за рубежом. Прерванная работа над романом возобновилась по возвращении домой и была закончена летом 1947-го (это очень длинный роман, с множеством героев, действие его происходит и в СССР, и в Европе; но он, несмотря на внушительный объем, — вовсе не эпос, это скорее лирические сцены с быстро меняющимися декорациями).
В 1948-м Эренбург снова пишет стихи — последние при Сталине; они писались без оглядки на возможность публикации и большей частью остались ненапечатанными при жизни автора (между «Деревом», вышедшем в 1946-м, и следующей книгой стихов Эренбурга — интервал в 13 лет). Уже ощущалась черная атмосфера последних лет сталинского произвола — был убит Михоэлс, начались массовые изгнания евреев со службы, аресты членов Еврейского антифашистского комитета. В стихах Эренбург вспоминал войну, убитых под Ржевом, говорил о Франции, где прожита половина жизни и куда его не выпустили в 1948-м — он вспомнил старую песню «Во Францию два гренадера…» и в сердцах обронил: «Зачем только черт меня дернул / Влюбиться в чужую страну?»
Вообще, небанальная тема родины звучала почти во всех стихах 1948-го — и ржевских, и о лермонтовских Тарханах, и в поразительном для обстановки тех лет стихотворении «К вечеру улегся ветер резкий…». Лучшие из этих стихов уже предвещали стиль оттепельных — они, как правило, длиннее и сюжетнее военных.
В январе 1949 года стартовала официальная антисемитская кампания по борьбе с «космополитами» — первая в сериале, задуманном Сталиным. Эренбурга перестали печатать, об аресте «космополита № 1 Ильи Эренбурга» объявили с трибуны большого московского собрания. Но не арестовали. Эренбург обратился с коротким письмом к Сталину, сухо прося прояснить свое положение. Второй человек в партии Маленков на следующий день в телефонном звонке назвал всё недоразумением. В очередной раз Сталин решил, что Эренбург еще пригодится, и поручил ему заниматься «борьбой за мир». Эренбург снова много и часто ездил на Запад, обрел новых и вспомнил старых друзей (Жолио-Кюри, Тувима, Элюара, Незвала, Амаду, Леви…), но мало с кем мог быть откровенен до конца — даже бумаге в те, не приспособленные для стихов годы, он не мог доверить своих раздумий. Он писал подчас несправедливо резкие статьи о политике Запада и, единственный у нас, потом в этом покаялся.
В январе 1953 года было разыграно начало последнего акта антисемитской кампании Сталина: дело кремлевских врачей-евреев («убийц в белых халатах»). В это же самое время Сталин присуждает Эренбургу, первому из советских деятелей, Международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами», демонстрируя миру свою лояльность к евреям. Отказаться от нее было равносильно самоубийству; принимая премию в Кремле в день своего рождения, Эренбург не упомянул в речи арестованных врачей, как «убийц в белых халатах», хотя ему это рекомендовали, но фактически сказал о них, вспомнив тех, «которых преследуют, мучают, травят», сказал «про ночь тюрем, про допросы, суды — про мужество многих и многих».
«В Свердловском зале было тихо, очень тихо»[86], — вспоминал Эренбург; в напечатанном газетами тексте после слова «преследуют» вставили: «силы реакции».
Дело врачей естественно породило ожидания массовых погромов и последующей депортации еврейского населения СССР в Магадан. Эти ожидания резко усилились, когда самым знаменитым деятелям советской культуры еврейского происхождения «предложили» подписать письмо в «Правду», поддерживающее «требование народа покарать врачей-убийц». В тщательно выверенном письме, адресованном и доставленном Сталину, Эренбург — единственный — высказал прагматические аргументы против публикации коллективного письма (реакция Запада, непоправимые последствия для коммунистического движения и недавно созданного всемирного движения сторонников мира). Эти аргументы не должны были вызвать гнева диктатора и в то же время не моги не обратить на себя его внимания. Сталин прочел письмо Эренбурга. Скорее всего, оно на него повлияло, во всяком случае, события не стали форсировать, а 5 марта 1953 года дело закрылось за смертью инициатора…
В том же 1953-м на чистом листе бумаги Илья Эренбург вывел название новой повести. Это слово облетело весь мир и в итоге стало общепризнанным названием наступившей эпохи — Оттепель.
В мае 1945 года Илья Эренбург написал стихотворение:
Прошу не для себя, для тех, Кто жил в крови, кто дольше всех Не слышал ни любви, ни скрипок, Ни роз не видел, ни зеркал, Под кем и пол в сенях не скрипнул, Кого и сон не окликал… <…> Прошу до слез, до безрассудства, Дойдя, войдя и перейдя, Немного смутного искусства За легким пологом дождя.Теперь наступили годы, когда молитва могла стать программой действий.
Начиная с 1953-го, Эренбург, используя новую ситуацию в стране, отдавал именно этому делу особенно много сил. Наряду с «Оттепелью» (вторая часть повести была напечатана в апреле 1956-го после осудившего преступления Сталина XX съезда КПСС) он пишет статьи и эссе о литературе и искусстве, от него — от первого! — люди, выросшие в условиях духовного вакуума, узнают о Цветаевой и Бабеле, Мандельштаме и Ремизове, Мейерхольде и Фальке; он добивается издания стихов Слуцкого и Мартынова; президент общества «СССР — Франция», Эренбург способствует переводу книг западных авторов (Сартр, Элюар, Моравиа, Амаду; разве что издания Альбера Камю и испанского романа Хемингуэя не дождался), организует первую в стране выставку Пикассо (1956), он становится одним из самых деятельных и признанных общественных лидеров эпохи оттепели и потому концентрирует на себе едва ли не главный огонь занимающих по-прежнему командные высоты сталинистов — кампаниями прессы против него дирижируют мастера со Старой площади.
В конце 1956-го произошел первый серьезный сбой в той политике, которую зовут оттепельной, хрущевской, политикой XX съезда. Было подавлено восстание в Венгрии, начался идеологический откат. Теперь главным оружием Эренбурга становится эзопов язык (недаром в ту пору Борис Слуцкий дарит ему старинное московское издание басен Эзопа с шутливой надписью: «для дальнейшего совершенствования в эзоповом языке по первоисточнику»[87]). 23 марта 1957 года Эренбург пишет в Ленинград Елизавете Полонской: «Я борюсь, как могу, но трудно. На меня взъелись за статью о Цветаевой…», сообщив дальше, что сейчас пишет о Стендале, добавляет: «Это, разумеется, не история, а всё та же борьба»[88].
В 1956-м Эренбург возвращается к своей работе 1915 года — переводам из Вийона; переводит его стихи заново, демонстрируя блестящее мастерство. Сейчас много издают и много переводят Вийона — переводы Эренбурга, особенно «Баллада примет» (в переводе Эренбурга все ее строки начинаются одинаково: «Я знаю…», но это не создает ощущения однообразия, благодаря виртуозной рифмовке [89], которая, в свою очередь, повторяется в каждой из 8-строчных строф, создавая впечатляющий звуковой эффект), «Баллада поэтического состязания в Блуа», «Баллада истин наизнанку», сразу ставшие фактом русской поэзии, — остаются непревзойденными. Затем он занялся переводом старинных французских песен и лирики любимого им современника и друга Ронсара Жоашена (Эренбург называл его Иоахимом) Дю Белле. Эти работы не имеют ничего общего с заказными — они выполнены по личной потребности и личному отбору, а потому естественно вписываются в собственную лирику Эренбурга тех лет.
Статью «О стихах Бориса Слуцкого»[90], сделавшую поэта «широко известным» не только «в узких кругах», Эренбург закончил оптимистично: «Хорошо, что настает время стихов». Это, как оказалось, относилось и к нему самому — 1957 годом датированы и первые после почти десятилетнего перерыва стихи Эренбурга. Он оставался действующим публицистом и в статьях писал о несомненных вещах — о необходимости мира и разоружении, взаимопонимании между народами и надеждах, связанных с новым курсом страны, в его эссе речь шла о взаимосвязи культур, о писателях, загубленных и уцелевших, о живописи, которую прежде никто не мог увидеть и которая теперь выходит к людям, а в стихах речь шла о праве человека на сомнения, о муках совести, о той цене, которой покупается верность однажды выбранному пути или оплачивается звонкая, эфемерная слава.
На фоне обычной советской риторики, ее холодного «мастерства» и отсутствия живой мысли стихи Эренбурга с их затрудненным словом, бедными рифмами, коротким, как после тяжелой болезни, дыханием, казались неумелыми. Но тем-то и хороши эти стихи, что в них остановлено мгновение возвращения русской поэзии к самой себе после долгих лет всеобщего одичания…
Эренбург вспоминал[91], как осенью 1957-го работал («стучал на машинке»), поглядел в окно и… так неожиданно для него появилось первое стихотворение «Был тихий день обычной осени…» — про опавшие, мертвые листья, взлетевшие с земли под порывом ветра:
Давно истоптаны, поруганы, И всё же, как любовь, чисты, Большие, желтые и рыжие И даже с зеленью смешной, Они не дожили, но выжили И мечутся передо мной…Это, конечно, не о листьях, это о своем поколении. В данном случае эзопов язык был не средством обойти цензуру, зашифровав понятным читателю образом свои мысли, а, по признанию автора, «бессилием выразить себя»[92], порождавшим сомнения в «верности и точности слова», сомнения, классически выраженные Тютчевым (заметим, к слову, что стихотворение Эренбурга «Ты помнишь — жаловался Тютчев…» с его жестким финальным приговором, не включено автором в книгу 1959 года по причине очевидной цензурной непроходимости его в контексте сборника). Общий же комментарий автора к его стихам 1957–1958 гг. таков:
«Всё, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе: эти мысли выходили из рамок исторических оценок, становились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни»[93].
«Люди, годы, жизнь» — подцензурные мемуары, и под «выходом из рамок исторических оценок» подразумевались суждения, не соответствующие официальным идеологическим клише. Внимательный читатель Эренбурга находил в его «пейзажной» лирике актуальные раздумья о жизни, хотя цензура и в пейзаже, конечно, выискивала явные аллюзии, но органичность и серьезность эренбурговских природных сюжетов ее обескураживала.
Особенно остро и внятно звучал эзопов язык в стихотворении «Да разве могут дети юга», где географическая подмена (Запад — Восток на Юг — Север) позволила создать эмоционально убедительную картину советской жизни — бытовой и духовной, идеологической, прошлой и нынешней: холода, заморозки, закованная льдом река и прочее — в противовес жизни счастливцев южного рая, «где розы плещут в январе». Не нужны были никакие филиппики по части «культа личности и его последствий» (тогдашний эвфемизм, означавший преступления сталинской эпохи), простые слова:
А мы такие зимы знали, Вжились в такие холода… —не требовали расшифровки, как и заключительные строки стихотворения:
И в крепкой, ледяной обиде, Сухой пургой ослеплены, Мы видели, уже не видя, Глаза зеленые весны.Это было ясно и неназойливо, все всё понимали — неслучайно именно эти, первые у Эренбурга, стихи стали петь под гитару… Так же и евангельский образ Фомы Неверного, и до того встречавшийся в стихах Эренбурга, обрел теперь актуальный смысл разумности сомнений, и, наоборот, картина смены речных отмелей на полноводье должна, по мысли Эренбурга, приводить не к смирению перед действием слепых сил, а лишь подчеркивать ответственность человека за свою судьбу при всех поворотах истории — дело не в эпохе, дело в нас самих (мысль, ставшая крылатой, благодаря строкам совсем другого поэта, в 1958-м только еще начинавшего свой путь: «Времена не выбирают, / В них живут и умирают».[94]
Не надо, однако, думать, что стихи Эренбурга — зашифрованная «антисоветчина». Газетная конкретика (в прямом ли, в эзоповском ли виде) вообще отсутствует в его стихах, — стихов «на случай» Эренбург не писал (может быть, за исключением стихотворений «Спутник» и «Товарищам», но и в них содержание существенно шире непосредственного повода). Его стихи — лирические раздумья, и картины природы, столь тонко чувствуемые автором, лишь помогают ему выразить свою мысль (подтекст вообще — существенная черта русской лирики периода оттепели).
Так, стихи «Ошибся — нужно повторить…» начинаются с рассказа об уютным мире заемных слов, знакомом с детства, а заканчиваются горькой исповедью:
Лишь через много-много лет, Когда пора давать ответ, Мы разгребаем груду слов — Весь мир другой, он не таков. Слова швыряем мы в окно И с ними славу заодно.Не всегда в основе стихов Эренбурга драма его поколения, не всегда и сатирические стрелы (вообще, в стихах Эренбурга с годами всё чаще встречался сатирический сюжет) обращены только к прошлому. Антибуржуазности, усвоенной с юности, Эренбург не изменял; в неопубликованном при жизни автора стихотворении «В их мире, замкнутом и спертом…», речь идет о той части тогдашнего молодого поколения, которая, репродуцировав себя, привольно заняла сегодня просцениум российского жизненного пространства; ее логика нехитра: «Прошла эпоха революций. / А сколько платят за стихи?»
Иногда Эренбург ищет рациональные оправдания верности давней присяге, пытается объяснить необъяснимое. Воспоминания о дореволюционной России с миллионами неграмотных крестьян, со страшным бытом и законами домостроя, с межнациональной рознью, затаенной злобой — той России, которую Эренбург знал, а не той, что была и будет на олеографических картинках, — эти воспоминания при сопоставлении с первым в мире советским спутником, с десятками ежедневно приходящих горячих, искренних писем незнакомых читателей, вообще при взгляде на пылкое, многим интересующееся поколение, давно уже окрещенное шестидесятниками, создавали столь сильный контраст, что не могла не родиться надежда: рано или поздно всё это сработает, и люди станут лучше. Это давнее заблуждение Эренбурга относительно быстроты появления «нового человека» касается только масштаба времени. Человечество становится «лучше» лишь в масштабе истории, что делает наивным эренбурговское обольщение «многомиллионными массами» советских читателей. Сегодня этот конкретный аргумент в пользу быстрого прогресса: мы самая читающая страна и т. д. — отпал сам собой. Пессимизм на сей счет всегда оказывается в выигрыше, и булгаковская, устами Воланда, реплика о том, что люди — те же, и «квартирный вопрос» их сделал даже хуже, заслуженно торжествует на ограниченном отрезке исторического времени.
Есть в стихах 1958 года прямая перекличка с испанскими — мотив Верности. Теперь в энергичном стихе Эренбург уточняет его, проклиная веру в идолов. Он различает Веру и Верность, и называет мало что уточняющие адреса Верности: веку, людям, судьбе. Стихи — не политическая декларация, в них многозначность слова зачастую основа выразительности, потому не будем спорить с Эренбургом, но обратим внимание лишь на так не вяжущуюся с советской идеологией (в контексте этого стиха) готовность к смерти, решительно выраженную в финале:
Если терпеть, без сказки, Спросят — прямо ответь, Если к столбу, без повязки, — Верность умеет смотреть.Стало быть, эта жертвенная Верность (а значит, и присяга) — не режиму, который как раз и ставил исправно к столбу верных ему граждан, а идее, которую этот режим давно растоптал. В жизни Эренбурга всё было сложнее.
В характерное для тогдашней поэзии Эренбурга стихотворение «Есть в севере чрезмерность…» вплетается новый для нее мотив — о большом счастье, которое «сдуру, курам на смех, расцвело». Так пробивается в стихи Эренбурга любовная тема, чтобы в полный голос прозвучать в стихотворении «Про первую любовь писали много…» — в нем речь о последней любви, про вечер жизни: «Когда уж дело не в стихе, не в слове, / Когда всё позади, а счастье внове».
Это — шлейф последней большой любви Эренбурга. Он познакомился с Лизлоттой Мэр в Стокгольме в 1950-м, их роман начался в середине пятидесятых и продолжался до последнего часа Эренбурга. Жена крупного политического деятеля Швеции социал-демократа Ялмара Мэра, Лизлотта родилась в Германии, откуда ее родители бежали после прихода Гитлера к власти, и в итоге оказались в Москве, где она училась в десятилетке, а потом перебралась в Стокгольм, там вышла замуж и вместе с мужем сотрудничала в Движении сторонников мира. Эренбург не скрывал этого романа; Лизлотта была на 26 лет его моложе; посвященные люди шутили, что на их романе держится всё Движение за мир…
Многие из стихов 1957–1958 годов впервые были напечатаны в 1959-м в итоговой книжке «Стихи. 1938–1958». Эту книгу, несомненно, заметили читатели, хотя на нее не было ни одной рецензии (либеральные критики не обладали эренбурговским даром эзоповой речи и помалкивали, ортодоксам же Эренбург был не по зубам: печатно признать криминал в его стихах о природе означало направить мысль читателя в политически опасную сторону).
В 1959 году Эренбург приступил к осуществлению самого монументального своего замысла — мемуарам, над которыми работал до конца дней. Стихи — его лирический дневник — он писал не для печати: не отказываясь от реально возможных публикаций, не спешил предлагать их издательствам и редакциям. Иное дело проза и эссеистика — писательская природа Эренбурга была такова, что он никогда не писал «в стол», считая, что работает для сегодняшнего читателя (другое дело, что лучшие вещи Эренбурга пережили свое время). Так и мемуары — Эренбург мог начать работу над ними, только поняв, что хотя бы половину написанного сможет напечатать (здесь он с самого начала допускал жесткое цензурное сопротивление и готов был печатать не все главы).
Появление в «Новом мире» первой книги «Люди, годы, жизнь» в почти полном объеме (1960) перестроило работу Эренбурга: он писал остальные части на пределе цензурных возможностей. Печатавшиеся шесть лет шесть книг воспоминаний «Люди, годы, жизнь» (седьмую автор не закончил, и ее напечатали лишь в перестройку) сыграли исключительную роль в просвещении страны. И как бы ни критиковали Эренбурга и ортодоксы (в застой), и радикалы (в перестройку и после нее) — эта книга, изданная сегодня без цензурных купюр, остается увлекательным повествованием об уникальной жизни ее автора, о его встречах на многих горизонтах мира и всё еще впечатляющей панорамой русской и мировой культуры и политики вплоть до 60-х годов XX века.
Не раз оказываясь в эпицентре острых политических событий, заслужив именно политической публицистикой мировую известность, если не сказать — славу, Эренбург всю жизнь оставался поэтом и чувствовал себя прежде всего поэтом. Наверное, его тронула не затерявшаяся в большом потоке поздравлений к семидесятилетию телеграмма, в которой было выверено каждое слово:
«Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова»…[95]
Говоря из времени, когда роль современной литературы в жизни людей совершенно ничтожна, о времени, когда эта роль была исключительно высока, нелегко сочетать историческое видение с современным. Подчеркнем поэтому, что, как писал еще в 1916 году Валерий Брюсов, литература для Эренбурга — не игра, не забава и не ремесло, но дело жизни…
В 1964-м Эренбург, воодушевленный беседой с Хрущевым в августе 1963-го, его извинениями за нападки («я книги тогда еще не читал, подвели референты») и обещаниями не чинить никаких препятствий в публикации написанного, завершил работу над шестой книгой мемуаров (по первоначальному плану — последней). Осенью этого же года Хрущев в результате заговора был смещен, и началась новая полоса капитального отката — на этот счет Эренбург не обольщался, ему шел уже восьмой десяток и иллюзий у него не было. В том же 1964-м он снова вернулся к стихам и писал их до конца 1966-го, когда решил продолжить мемуары и начал работу над седьмой книгой (о хрущевской поре).
Для цикла последних стихов Эренбурга, частично напечатанных при его жизни, частично — в перестройку, характерна предельная исповедальность.
Есть в этих стихах и отклик на смещение Хрущева («Стихи не в альбом»; «В римском музее» — где императорский Рим легко подразумевает тогдашнюю Москву, а Хрущев сравнивается с Калигулой, выходки которого не вынес сенат, как и выходки Никиты Сергеевича — Политбюро:
Простят тому, кто мягко стелет, На розги розы класть готов, Но никогда не стерпит челядь, Чтоб высекли без громких слов.«Когда зима, берясь за дело…» — стихи о зиме, устилающей белоснежным покровом все хляби осени, а по существу о том, как под видом борьбы с ошибками Хрущева осуществляли возврат в прошлое, откорректировав его лишь гарантиями для партаппарата), есть и жесткий взгляд на советский политический театр, и шире — на судьбу русской революции («В театре» — о фальшивом спектакле и несчастном зрителе, который смотрит его лишь потому, что есть билет, — в 1915 году Эренбург допускал для зрителя возможность возврата билета, имея в виду формулу Ивана Карамазова, теперь у него другая формула — «надо пережить и это», так что зритель обречен досмотреть фарс до конца; «В ветхой истории» — о первых христианах, оказавшихся в дураках, коль скоро создали церковь, неминуемо самодостаточную и т. д.).
Взгляд на собственную длинную жизнь лишен каких бы то ни было прикрас:
Пора признать — хоть вой, хоть плачь я, Но прожил жизнь я по-собачьи, Не то что плохо, а иначе, — Не так, как люди, или куклы, Иль Человек с заглавной буквы: Таскал не доски, только в доску Свою дурацкую поноску, Не за награду — за побои Стерег закрытые покои, Когда луна бывала злая, Я подвывал и даже лаял Не потому, что был я зверем, А потому, что был я верен — Не конуре, да и не палке, Не драчунам в горячей свалке, Не дракам, не красивым вракам, Не злым сторожевым собакам, А только плачу в темном доме И теплой, как беда, соломе.[96].Этот горький итог прожитой жизни — последнее слово о Верности.
«С грубой, ничем не прикрытой прямотой он „признавал пораженье“», — пишет об этих стихах Бенедикт Сарнов[97] (в белинковском тоне «Сдачи и гибели советского интеллигента»). Но — тут ни убавить, ни прибавить…
В последних стихах Эренбург раздумывает о своем ремесле в контексте неизбежной для России темы «писатель и власть», находя в европейском прошлом поучительные сюжеты («Сэм Тоб и король Педро Жестокий»). Весь внешний, политический, в итоге чужой ему мир — зверинец, паноптикум, кошмар, при одном воспоминании о котором из души вырывается вопль «Я больше не могу!..».
Это был бы беспросветный, черный мир, если бы не искусство (как решительно, как определенно сказано в «Сонете»: «Всё нарушал, искусства не нарушу»!), и если бы не
В голый, пустой, развороченный вечер Радость простой человеческой встречи.Итог итогов несет лирическое утешение:
Но долгий день был не напрасно прожит — Я разглядел вечернюю звезду.В этих раздумьях над итогами прожитого естественны возвраты к давним стихам и мыслям, к давним молитвам, и звучат они теперь уже бесстрашно:
Не жизнь прожить, а напоследок Додумать, доглядеть позволь.Поздние стихи Эренбурга не стали сенсацией, как его мемуары, но и не прошли незамеченными.
Вот недавнее свидетельство поэта, принадлежащего тому поколению, которое оказалось последним, чьи стихи успел узнать неутомимый в интересе к поэзии Илья Эренбург:
«Стихи Эренбурга 50—60-х гг. были мне небезразличны, поскольку их отличала „последняя“ прямота, они были лишены всяческих красот и украшений, в них запечатлен трагический опыт XX века, опыт человека, прошедшего через революцию, несколько войн, ужасы сталинского террора, собственный страх, сознание своей вины, разочарование в „оттепельных“ надеждах и обещаниях и т. д.
Было понятно, почему этот человек любит поэзию Слуцкого.
Поздние стихи Эренбурга внушали доверие к нему. В этом интимном жанре Эренбург был прост, суров, правдив.
На фоне сентиментально-народной, официально-патриотической или легкомысленно-передовой, громкоголосой поэзии тех лет эти стихи, отказавшиеся от пышных словесных нарядов, шероховатые, вне каких-либо забот о поэтическом „мастерстве“, привлекали подлинностью горечи и страданием, неутешительностью итогов большой и противоречивой человеческой жизни.
Короче говоря, был такой момент, когда стихи Эренбурга оказались нужнее многих других»[98].
Нет никакого сомнения — еще не раз и не для одного человека опыт XX столетия, аккумулированный в стихах Ильи Эренбурга, окажется нужным.
~~~
В заключение — несколько слов об этой книге.
В книгу «Запомни и живи…», названную строчкой из стихотворения Ильи Эренбурга 1943 года, вошли расположенные хронологически избранные стихи 1910–1966 годов, охватывающие почти все его поэтические сборники. Стихи и переводы печатаются по тексту самого полного издания поэзии Ильи Эренбурга, осуществленного нами в Новой библиотеке поэта (СПб., 2000), за исключением нескольких переводов, источник которых указан в комментариях.
Из многочисленных статей и эссе Эренбурга о поэзии и поэтах в настоящее издание включены, главным образом, его статьи о французских и русских поэтах. В частности, все статьи из его знаменитого сборника «Портреты русских поэтов» (Берлин, 1922), а также многие работы, включенные нами в 6-й том последнего бесцензурного восьмитомного собрания сочинений, выходившего в 1991–2000 годах. Помимо них включены и некоторые из статей 1914–1965 годов, не вошедшие в 6-й том.
Стихи (1910–1923)
«Я ушел от ваших ярких, дерзких песен…»
Я ушел от ваших ярких, дерзких песен, От мятежно поднятых знамен, — Оттого, что лагерь был мне слишком тесен, А вдали мне снился новый небосклон. Отдал я всю радость, солнечные битвы, Бранные доспехи, грозные права — За одни, как вечер, тихие молитвы, За одни, как сказка, тихие слова. Да, я знал, что песни бранные могучи И что весь ваш лагерь радостно суров, Но меня пленили дальние созвучья, Но меня пленила тайна новых слов. Я ушел, далекий, в облачные страны, Я ушел молиться сказочным богам, Я забыл про горе, я забыл про раны, Я забыл про клятвы, данные врагам. Но, когда подслушал я в далеком храме Странную, как море, тихую тоску, — Понял я, что слишком долго был я с вами И что петь другому я уж не могу. 1910«В одежде гордого сеньора…»
В одежде гордого сеньора На сцену выхода я ждал, Но по ошибке режиссера На пять столетий опоздал. Влача тяжелые доспехи И замедляя ровный шаг, Я прохожу при громком смехе Забавы жаждущих зевак. Теперь бы, предлагая даме, Свой меч рукою осенить, Умчаться с верными слугами На швабов[99] ужас наводить. А после с строгим капелланом Благодарить Святую Мать И перед мрачным Ватиканом Покорно голову склонять. Но кто теперь поверит в Бога? Над ним смеется сам аббат, И только пристально и строго О Нем преданья говорят. Как жалобно сверкают латы При электрических огнях, И звуки рыцарской расплаты На сильных не наводят страх. А мне осталось только плавно Слагать усталые стихи. И пусть они звучат забавно, Я их пою, они — мои. 1910Брюгге
Есть в мире печальное тихое место, Великое царство больных. Есть город, где вечно рыдает невеста, Есть город, где умер жених. Высокие церкви в сиянье покорном О вечном смиреньи поют. И женщины в белом, и женщины в черном, Как думы о прошлом, идут.[100] 1910«Там, где темный пруд граничит с лугом…»
Там, где темный пруд граничит с лугом И где ночь кувшинками цветет, Рассекая воду, плавно, круг за кругом, Тихий лебедь медленно плывет. Но лишь тонкий месяц к сонным изумрудам Подольет лучами серебро, Лебедь, уплывая, над печальным прудом Оставляет белое перо. 1910«Вы приняли меня в изысканной гостиной…»
Вы приняли меня в изысканной гостиной, В углу дремал очерченный экран. И, в сторону глядя, рукою слишком длинной Вы предложили сесть на шелковый диван. На тонком столике был нежно сервирован В лиловых чашечках горячий шоколад. И если б знали Вы, как я был зачарован, Когда меня задел Ваш мимолетный взгляд. Я понял, отчего Вы смотрите нежнее, Когда уходит ночь в далеких кружевах, И отчего у вас змеятся орхидеи И медленно ползут на тонких стебельках. 1910Вандея
Когда мятежные солдаты Громили парки Тюльери[101] И озверевшие Мараты В церквах сжигали алтари, Когда, от страха цепенея, Молчала галльская земля, Восстала гордая Вандея И поднялась за короля. Потомкам доблестных маркизов Своих преданий не забыть, И если им бросают вызов, Они сумеют отомстить. И королевские вассалы Сбираются на шумный зов, Несут старинные кинжалы Из заплеснелых погребов. Сверкает белая корона На потемневшем серебре, Несут тяжелые знамена Благословенные кюре. Пусть на стальную гильотину Король безропотно взошел[102], Они законному дофину Заставят возвратить престол. Мадонна верную Вандею На перебежчиков ведет, И, что бы ни случилось с нею, Она назад не повернет. В последний раз за герб Бурбонов Сражались рыцари мечты, Слагая у разбитых тронов Свои разбитые щиты. И в замки, пышные когда-то, Вонзились острые штыки. На них повесили солдаты Свои трехцветные значки. 1910[103]
«Так устали согнутые руки…»
Так устали согнутые руки От глубоко вставленных гвоздей, Столько страшной, непосильной скуки Умирать зачем-то за людей. Им так скучно без огня и жара Кровь мою по полю разносить, Чтобы с всплеском нового удара Руки кверху снова заносить. Сколько скуки было у Пилата, Сколько высшей скуки пред собой, В миг, когда над урной розоватой Руки умывал перед толпой. А теперь несбыточного чуда Так напрасно ждут ученики. Самый умный сгорбленный Иуда Предал, и скорее, чем враги. Царство человеческого сына — В голом поле обветшалый крест. Может быть, поплачет Магдалина, Да и ей не верить надоест. А кругом — кругом всё то же поле, Больше некуда и не на что взглянуть. Только стражники без радости и боли Добивают сморщенную грудь. 1910Флорентийские терцины
1. «Я подошел к вершинам Миниато…»
Я подошел к вершинам Миниато[104], Когда дремали горы и поля, В минуты острые его заката. Долины, отдых сладостный суля, Задумались и вспоминали Бога. Над ними горевали тополя. Среди полей широкая дорога И пара розовеющих волов, Всё было просто, искренно и строго. Донесся дальний гул колоколов, И где-то птицы, замирая, пели. А город был как кружево дворцов И, может, как Венера Боттичелли.2. «Как ясен день у золотого Арно…»
Как ясен день у золотого Арно, Когда весною яблони цветут И небо голубое лучезарно. Как нежен листьев ранних изумруд, Он на апрельском солнце золотится. Как травы дико и легко растут. Вот пролетела над кустами птица, Она как все понятна и нужна. Я вижу, как она в лазури мчится. Душа моя сурова и нежна, Ей далеки тревоги и сомненья. Я чувствую, что жизнь моя полна. Так снился мир героям Возрожденья. 1911«Как хорошо, когда нисходит плавно…»
Как хорошо, когда нисходит плавно На улицы ночная полумгла, Увидеть церкви русской, православной, Зарей блистающие купола. Над садиком медово-серебристым Струится горький ладан в небеса. И в воздухе особенно душистом Далёко замирают голоса. А ребятишки из соседней школы Играют, книги побросав свои; От их возни, беспечной и веселой, Под купола взлетают воробьи. 1911Париж
Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв, Чуть оголил фигуры труб и крыш. Под четкий стук разбуженных трамваев Встречает утро заспанный Париж. И утомленных подымает властно Грядущий день, всесилен и несыт. Какой-то свет, тупой и безучастный, Над пробужденным городом разлит. И в этом полусвете-полумраке Кидает день свой неизменный зов, Как странно всем, что пьяные гуляки Еще бредут из сонных кабаков. Под крик гудков бессмысленно и глухо Приходит новый день — еще один! И завтра будет нищая старуха Его искать средь мусорных корзин. А днем в Париже знойно иль туманно, Фабричный дым, торговок голоса, Когда глядишь, то далеко и странно, Что где-то солнце есть и небеса. В садах, толкаясь в отупевшей груде, Кричат младенцы сотней голосов И женщины высовывают груди, Отвисшие от боли и родов, Стучат машины в такт, неторопливо В конторах пишут тысячи людей, И час за часом вяло и лениво Показывают башни площадей. По вечерам, сбираясь в рестораны, Мужчины ждут, чтоб опустилась тьма, И при луне, насыщены и пьяны, Идут толпой в публичные дома. А в маленьких кафе и на собраньях Рабочие бунтуют и поют, Чтоб завтра утром в ненавистных зданьях Найти тяжелый и позорный труд. Блуждает ночь по улицам тоскливым. Я с ней иду измученный туда, Где траурно-янтарным переливом К себе зовет пустынная вода. И до утра над Сеною недужной Я думаю о счастье и о том, Как жизнь прошла бесследно и ненужно В Париже, непонятном и чужом. 1911«Печальны и убоги…»
Печальны и убоги, Убогие в пыли, Осенние дороги, Куда вы привели? Открытые туманам, Пустые тополя; Поросшие бурьяном Изрытые поля. Печальны и убоги, Убогие в пыли, Осенние дороги, Куда вы привели? 1911«Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме…»
Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме И о мамином черном платке, О столовой с буфетом, с большими часами И о белом щенке. В летний полдень скажу вам о вкусе черники, О червивых изъеденных пнях И о только что смолкнувшем крике Перед вами в кустах. Если осень придет, я скажу, что уснула Опьяневшая муха на пыльном окне, Что зима на последние астры дохнула И что жалко их мне. Я скажу вам о каждой минуте, о каждой! И о каждом из прожитых дней. Я люблю эту жизнь, с ненасытною жаждой Прикасаюсь я к ней! 1912«Как скучно в „одиночке“ вечер длинный…»
Как скучно в «одиночке» вечер длинный, А книги нет. Но я мужчина, И мне семнадцать лет. Я, Марсельезу напевая, Ложусь лицом к стене, Но отдаленный гул трамвая Напоминает мне, Что есть Остоженка[105] и в переулке Наш дом, И кофе с молоком, и булки, И мама за столом. Темно в передней и в гостиной, Дуняша подает обед… Как плакать хочется! Но я мужчина, И мне семнадцать лет. 1912«Как странно жить не дома…»
Как странно жить не дома, Без мамы, без сестер, И есть с тарелки незнакомой, И засыпать без старых штор. Несут счета, приходит прачка… Как много новых скучных дум! Лишь мама пишет: «Не запачкай Пальто и береги костюм!» 1912«Я люблю тебя за запах жесткий…»
Я люблю тебя за запах жесткий Тмина, мяты и сухой земли, И за руки, тонкие березки, И за ноги крепкие твои. И за то, что ты смеешься звонко, И за то, что глухо плачешь ты, И за ласки робкого ребенка, И за все твои привычки и черты. В час, когда печальный вечер тает, На лету целуя облака, И миндаль на грудь твою роняет Два закатно-нежных лепестка, Я молюсь заре вечерней и рассветной, Серебристым каплям крупных рос И твоей груди, едва заметной Средь стыдливо спущенных волос. 1912Амстердам
Он пахнет сухими селедками, Уютом, хлебами домашними. Каналы с скользящими лодками, И церкви высокие с башнями. И женщины с лицами кроткими. С мечтами былыми, вчерашними. 1912«Не вспоминай с улыбкой милой…»
Не вспоминай с улыбкой милой Страны моей. Иль на сегодня ты забыла, Что я еврей? В Париже средь толпы нарядной, В краю родном Блуждаю я с мечтою жадной Лишь об одном, Чтоб было стерто и забыто, Что я еврей, Чтоб я припал к груди раскрытой Земли моей! 1912«Когда встают туманы злые…»
Когда встают туманы злые И ветер гасит мой камин, В бреду мне чудится, Россия, Безлюдие твоих равнин. В моей мансарде полутемной, Под шум парижской мостовой, Ты кажешься мне столь огромной, Столь беспримерно неживой. Таишь такое безразличье, Такое нехотенье жить, Что я страшусь твое величье Своею жалобой смутить. 1912Парижу
С лицом, напудренным и белым, С фальшивым перстнем на руке, С своим, наверно, гадким телом Он шел за нею вдалеке. А ей другие были мерзки, Она ждала, чтоб после них Он лег бы с ней, тупой и дерзкий, Ее хозяин и жених. Да, он придет, ее отбросит И будет дергать, тискать, бить, «Еще! еще!» — она запросит, Чтоб боли жажду утолить. За миг истомы и позора И за сладчайший блуд потом Она отдаст ему без спора Гроши, добытые трудом. Тебя, Париж, я жду ночами, Как сутенер приходишь ты И грубо тискаешь руками Все потаенные мечты. И всё, чем я был свеж и молод, Тебе даю я, как гроши, Чтоб ты насытил блудный голод И похоть жадную души. 1913Письмо
Я пишу из маленького бара, Предо мной пустой стакан стоит, И давно погасшая сигара Серым глазом на меня глядит. В мокром и заплеванном Париже Виден длинный ряд блестящих крыш… Ты теперь налаживаешь лыжи И по снегу жесткому скользишь. И когда ты, выйдя на поляну, Отряхаешь снег с замерзших ног, На твоей щеке слегка румяной Серебрится ласковый пушок. На березах дремлет птичья стая И, сметая с ветки снег, взлетает вновь… Помолись, далекая, родная, За мою убогую любовь! 1913Вместо письма
На конверте выведено ясно И подчеркнуто — «В Москву», Но уж целый час напрасно Я пишу тебе, пишу и рву. Да о чем писать? Что нудные бульвары, Что я за зиму устал Иль о том, что пепел сморщенной сигары Задрожал, упал… А у вас нахохлились смешные ветки, Палисадник начинает подсыхать, Брызжет дождик крупный, редкий… И тебе не хочется писать… 1913Воскресный вечер
В кафе играли вальс печальный, И дамы, зависть затая, Мечтали, позабыв, что в спальной Их стиснут грубые мужья, Вспотевшие, с лицом блудливым, Налитые тяжелым пивом, Пропахшие — одни вином, Другие скверным табаком. Завидуя своим соседкам, Богатым женам, шансонеткам, Они мечтали о деньгах, Автомобилях и духах. А их мужья, скучая рядом, Чтоб разогнать воскресный сон, Читали бойкий фельетон И обводили мутным взглядом Певиц визгливые ряды, Их бедра, груди и зады. Но вдруг коту лакей прыщавый Из мышеловки крысу дал, И все, довольные забавой, Привстали. Вальс веселым стал. А крыса быстро побежала, Метнулась, резко запищала И хрустнула в кошачьих лапах. И все почуяли кругом Какой-то острый, сладкий запах, Как будто смешанный с вином. И дамы, задыхаясь в блуде, Глядели нежно на мужей, Их зашнурованные груди Дрожали чаще и сильней. А крысу взял лакей за хвост И выкинул… Столы сдвигали, Окурки и плевки сметали… И было в небе столько звезд, Прекрасных, сладостных и ясных, Таких далеких и бесстрастных! 1913Верлен в старости
Лысый, грязный, как бездомная собака, Ночью он бродил, забытый и ничей. Каждый кабачок и каждая клоака Знали хорошо его среди гостей. За своим абсентом, молча, каждой ночью Он досиживал до «утренней звезды», И торчали в беспорядке клочья Перепутанной и неопрятной бороды. Но, бывало, Муза, старика жалея, Приходила и шептала о былом, И тогда он брал у сонного лакея Белый лист, залитый кофе и вином, По его лицу ребенка и сатира Пробегал какой-то сладостный намек, И, далек от злобы и далек от мира, Он писал, писал и не писать не мог… 1913О Москве
Есть город с пыльными заставами, С большими золотыми главами, С особняками деревянными, С мастеровыми вечно пьяными, И столько близкого и милого В словах «Арбат», «Дорогомилово»… 1913На вокзале
Помнишь ты на вокзале Грохот, крик, суету, Затаенной печали Только вздох на лету? Было странно средь давки, Беспокойно дрожа, Говорить об отправке Твоего багажа. Разрыдаться б как дети… Но с улыбкой тупой, О каком-то билете Мы болтали с тобой. И лишь в миг расставанья Я увидел, о чем Мы в минуты свиданья Тосковали вдвоем. 1913Сологуб
Под моим окном червивые бульвары И газетчиков бессвязный хрип… Я не знаю, если бы не «Навьи чары»[106], Я бы в этой горечи погиб. В мозг вонзаются, как злобные иголки, — Грохот дикий, хохот, писк и крик. Но как дивный амулет беру я с полки Несколько таящих чары книг. Кто-то тонким пальцем мне сжимает губы, От меня уводит прочий мир, Я не знаю, это чары Сологуба Или, может, сладостный эфир… Я читаю, и светает, в четком свете Странно видеть рядом на стене Уж живого Сологуба (на портрете) Средних лет, с бородкой и в пенсне… Если б заклинаньем снова вызвать чудо, Чтоб глядел не этот, а другой, Может быть, смешной и толстый Будда, Наводящий сладость и покой. 1913Плющиха
Значит, снова мечты о России — Лишь напрасно приснившийся сон; Значит, снова дороги чужие, И по ним я идти обречен!.. И бродить у Вандомской колонны Или в плоских садах Тюильри, Где над лужами вечер влюбленный Рассыпает, дрожа, фонари, Где, как будто веселые птицы, Выбегают в двенадцать часов Из раскрытых домов мастерицы, И у каждой букетик цветов. О, бродить и вздыхать о Плющихе, Где, разбуженный лаем собак, Одинокий, печальный и тихий Из сирени глядит особняк, Где, кочуя по хилым березкам, Воробьи затевают балы И где пахнут натертые воском И нагретые солнцем полы… 1913Девичье поле
Уж слеза за слезою Пробирается с крыш, И неловкой ногою По дорожке скользишь. И милей и коварней Пооттаявший лед, И фабричные парни Задевают народ. И пойдешь от гуляний — Вдалеке монастырь. И извозчичьи сани Улетают в пустырь. Скоро снег этот слабый И отсюда уйдет, И веселые бабы Налетят в огород. И от бабьего гама, И от крика грачей, И от греющих прямо Подобревших лучей Станет нежно-зеленым Этот снежный пустырь, И откликнется звоном, Загудит монастырь.[107] 1913Осенью
О чем-то скучно и лениво Досказывает мокрый лес. Обрывки туч дрожат пугливо И жмутся на краю небес. Кой-где дубки, орешник мелкий, А за кустами тишь и глушь, Лишь слышен шорох юркой белки Да ноги хлюпают меж луж. Что я скажу тебе сегодня, Когда еще желтей листва, Когда темней и безысходней Мои ненужные слова? А там уж кружит птичья стая. Куда она летит опять? И высь такая голубая, Что не измерить, не понять. И, слыша крик, душа, как птица С дробинкой маленькой в крыле, Еще наверх взлететь стремится И грузно падает к земле. 1913Франсису Жамму
Часто блуждая вечером по Парижу, я ваш скромный домик снова вижу.
Зимнее солнце сквозь окна светит, на полу играют ваши дети. У камина старая собака греясь спит и громко дышит, в камине трещат еловые шишки, вы говорите, а я слушаю и думаю, откуда в вас столько покоя, думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропахший дымом поезд.
Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм[108]! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!
1914России («В тебе тоска…»)
В тебе тоска и лицемерие!.. Болота дым, и пьяный огонек, и топкий берег. Летают маленькие мошки, Гудя и жалуясь, слепят. И гнется под метельной ношей Печальный березняк. Ты в схиме, вечная гордыня! Ты перед Господом права! О, как блюдешь ты отдых зимний, Благочестивые слова! Лицо закрыть… еще светлей… еще морозней… А там, под снегом, злая озимь… Бессвязный бред… Нева и газовый рожок… Как тяжелы твои громады И чинной жизни мнимый ход! Сквозь камень проступает влага, Нева тоску назад несет… Разбойник на кресте цветет! Разбойник на кресте, уверуй! Но слез восторг, но муки нега, Огромная, назойливая, серая, Как это небо… 1914Как умру
Комната в том же отеле — Обвиты углы паутиной. Я лежу на высокой постели, Придавленный грязной периной. Обои с цветами. Книг нелепая груда. Зеркало в пышной раме. И табак, и табак повсюду… Сосед по лестнице всходит, Ключом гремит неуклюже… Мне сегодня ни лучше, ни хуже, И нет никаких откровений, О которых вы столько писали, Только больше обычной лени И немного меньше печали. 1914О соборе Реймса
Доходил смердящий ветер И по улицам носил дитя потерянное. И стучали тихие калеки Деревом. Господень Ларь, уныл и дымчат, Стоял расщепленный, как дуб, Лишь обратив на запад стылый и пустынный Последний Суд. И семь птенцов, голодные, взлетали, В ночи не видя ясного лица, На грозный и сулящий палец Окаменелого Творца. Пришла ко мне ты, тяжкая, нагая, Спросить, готов ли я. Готов! Но погоди! Ты слышишь — это плачет Каин Над пеплом жертвенных даров.[109] Декабрь 1914«Люблю немецкий старый городок…»
Люблю немецкий старый городок — На площади липу, Маленькие окна с геранями, Над лавкой серебряный рог И во всем этом легкий привкус Милой романтики. Летний дождик каплет. Люб мне бледно-красный цвет моркови На сером камне. За цветными стеклами клетчатая скатерть, И птица плачет о воле, О нежной, о давней. А в церкви никто не улыбнется, — Кому молиться? Зачем? И благочестивые уродцы Глядят со стен. Сторож тихо передвигает стулья. Каплет дождик. Уродцы уснули. Январь 1915Гоголь
Неуклюжий иностранец, — Он сидел в кофейне «Греко». Были ранние сумерки Римского лета, Ласточки реяли над серыми церквами. Завлекла его у ног Мадонны Ангельская тягота и меч, А потом на Пьяцца Спанья[110] запах розы… (Медные тритоны Не устанут извиваться и звенеть.) Вспомнил он поля и ночи, Колокольцев причитанье И туман Невы. Странный иностранец, — Он просил кого-то (Вечер к тонкому стеклу приник): «От летучих, от ползучих и от прочих Охрани!» Сумрак, крылья распуская, Ласточек вспугнул. В маленькой кофейне двое Опечалились далекой синевой. …И тогда припал к его губам Сладчайший, Самый хитрый, самый свой. Январь 1915Над книгой Вийона
Бедный мэтр Франсуа!..[111] В таверне «Золотой Осел» сегодня весело. Пришел, усмехнулся даме, (Все мы грешные!) Кинул на стол золотое экю. На твоем Завещании Три повешенных[112]. И горек твой дар Моей печали В этот желтый и мокрый март, Когда даже камень истаял. Пошел — монастырский двор, И двери раскрыты к вечерне. Маленький черт Шилом колет соперника. Всё равно! Пил тяжелое туренское вино. Ночи лик клонился ниже. Пели девы — вот Он! вот Он! Петухи кричали. Трижды От него отрекся Петр. Февраль 1915Канун
На площади пел горбун. Уходили, дивились прохожие. «Тебе поклоняюсь, буйный канун Черного года! Монахи раскрывали горящие рясы, Казали волосатую грудь. Но земля изнывала от засухи И тупился серебряный плуг. Речи говорили они дерзкие, Поминали Его имена. Лежит и стонет, рот отверст, Суха, темна. Приблизился вечер. Кличет сыч. Ее вы хотели кровью человечьей Напоить. Тяжелы виноградные грозди, Собран хлеб. Мальчик слепого за руку водит. Все города обошли. От горсти земли он ослеп, Посыпал ее на горячие очи, Затмились они. Видите — стали белыми ночи И чернью покрылись дни. Раздайте нашу великую веру, Чтоб пусто стало в сердцах! И темной ночи отверстые Целуйте следы слепца. Ничего не таите — ибо время Причаститься иной благодати!..» И пел горбунок о наставшем Успении Его преподобной матери[113]. Февраль 1915«В кафе пустынном плакал газ…»
В кафе пустынном плакал газ На воле плакал сумеречный час. О, как томителен и едок Двух родников единый свет, Когда слова о горе и победах Встают из вороха газет. В углу один забытый старец Не видел вымеренных строк — Он этой поднебесной гари И смеха выдержать не мог. Дитя, дитя забыли в пепле. В огнем добытой стороне. Никто не закричал — спасите!.. И старец встал, высок и светел, Сказал: «Тебя узрел, Учитель, Узрел в печали и в огне! Рази дракона в райском лике, И снег падет на мой огонь!..» Но отвечал ему Учитель: «Огня не тронь!» Февраль 1915Натюрморт
От этой законченной осени Душа наконец ослабла. На ярком подносе Спелые, красные яблоки. Тяготейте вы над душой ослабшей, Круглые боги, веские духи! Чую средь ровного лака Вашу унылую сущность. Все равно, обрастая плотью, Душа моя вам не изменит. Зреет она на тяжелом подносе В эти тихие дни завершений. Март 1915В детской
Рано утром мальчик просыпался, Слушал, как вода в умывальнике капала. Встала — упала, упала — и жалко… Ах, как скулила старая собака, Одна, с подшибленной лапой. Над подушкой картинку повесили, Повесили лихого солдата, Повесили, чтобы мальчику было весело, Чтоб рано утром мальчик не плакал, Когда вода в умывальнике капает. Казак улыбается лихо, На казаке папаха. Казак наскочил своей пикой На другого чужого солдата. И красная краска капает на пол. Март 1915В вагоне
В купе господин качался, дремал, качаясь, Направо, налево, еще немножко. Качался один, неприкаянный, От жизни качался, от прожитой. Милый, и ты в пути, Куда же нам завтра идти? Но верю — ватные лица, Темнота, чемоданы, тюки, И рассвет, что тихо дымится Среди обгорелых изб, Под белым небом, в бесцельном беге, Отряхая и снова вбирая Сон, полусон — Всё томится, никнет и бредит Одним концом. Апрель 1915В августе 1914 года
Издыхая и воя, Пролетал за поездом поезд, И вдоль рельс на сбегающих склонах Подвывали закланные жены. А в вагоне каждый зуав Пел высокие гимны. (И нимфы Стенали среди дубрав.) «Ах, люблю я Мариетту, Мариетту, Эту. Всё за ней хожу. Где мы? Где мы? Где мы? Я на штык мой десять немцев Насажу!» Дамы на штыки надели Чужеземные цветы — хризантемы. А рельсы всё пели и пели: Где же мы? где мы? — И кто-то, тая печаль свою, Им ответил — в раю! Май 1915На войну
Уходили маленькие дети — Ванечки и Петеньки — Уходили на войну. Ну! Ну! Пейте! Бейте! Бейтесь! Смейтесь! На вокзальной скамейке! Какой пухлый профиль, И заботливо прицеплена фляжка. Он сегодня утром еще пил кофе С мамашей. Пили и забыли. Уходили. Не глядели, не скорбели. Пили. Пели. Чад ли? жар ли? Солнце в лужи тычется. Скоро снег последней марли Скроет личико. Вечер светится. Отдыхают усталые люди. А нового Петеньки Больше не будет. Май 1915На закате
Было особенно душно. Приходили оловянные солдатики И стреляли из маленьких пушек. Старший цедил какую-то шутку. Дымила трубка. Дрогнули тела, повалились рядами, Сокрушенные зорким огнем. И видел, и плакал Каменщик Над гиблым трудом; К ночи пришли влюбленные девы, Грудью прильнули к вспаханному полю, К полю, сытому от цельного хлеба И от соли. (О, как нежные губы жжет Смертный пот!) А в деревне выла собака, Вспоминая жилье, Выла, что что-то было И что иссякло Всё. Май 1915После смерти Шарля Пеги
В дни Марны, на горячей пашне Лежал ты, семени подобен, Следя светил, спокойно протекавших, Далекие дороги. А жирные пласты земли Свои упрашивали, угощали снедью жаркой, Свои упрашивали и враги. В дни сентября мы все прочли: На Марне Убит Пеги[114]. О Господи, все виноградники Шампани, Все отягченные сердца Налились темным соком брани И гнут бойца. А там, при медленном разливе Рейна, Ты, лоза злобы, зацвела. Вы, собутыльники, скорее пейте У одного стола! Над этой бедной, бездыханной плотью, О, чокнитесь! Май 1915Р. S
Я знал, что утро накличет Этот томительный вечер; Что малая птичка Будет клевать мою печень[115]; Что на четыре части переломанный Я буду делать то, что надо И чего не надо: Прыгать на короткой веревочке Мелким шагом, Говорить голоском заученным Про свою тоску, Перечитывать житье какого-нибудь мученика Или кричать: а-а! ку-ку! Глуп-глуп! Мал-мал! Я это знал — И всё же, когда любовь пришла, я не понял — Где это? Что это? То или это? Заплакал и отдал картонной Мадонне Ключи погибающей крепости… Май 1915Из цикла «Ручные тени»
«Вы жить обречены…»
Вы жить обречены В снегах моей полярной страны И охотиться ночами весенними За уплывающими тюленями. Каждый день Розовый умирает серый тюлень, Каждый день я повторяю: «Боже, Вот они бродят голые, Осенú их плоть тихим холодом И сердца замороженные Сохрани В дни и в дни. Чтоб они не плакали, Чтоб они не прыгали, Проклятые — Я их выдумал!..» Май 1915Е<катерины> Ш<мидт>
Каторжница, и в минуты злобы Губы темные на всё способны. От какой Сибири ты взяла эти скулы, Эту волю к разгрому, к распаду, к разгулу? Жизни твоей половодья, пороги И пожары далеких усобиц… Сколько раз этих щек провалы Синели от слез и жалоб, А бровей исступленные крылья Распускались, собирались и бились!.. Но Господь обрел в этом пепле Живой огонь и глаза затеплил, Разъятые жалостью, дымом, гарью — Огромные, темные, карие.[116] Февраль 1915Т<ихона> С<орокина>
Жил бы в Ливнах, в домике с маленькими оконцами, Ездил бы на богомолье к Тихону Задонскому[117]. На праздниках кутил бы в Москве с пьяной ватагой. (В лучших ресторанах первого разряда!) Но февральские сумерки у Вандомской колонны И огни кафе жалят веки бессонные. Маркизы Ватто[118] и амуры из вилл Фраскати[119], Ах, если бы жить, но немного иначе. Вспоминает, на миг степенеет и кается, Читает Булгакова[120] или Бердяева[121]. Карие глаза, добрые, бабье лицо — исступляться нечего. Слабость его, и твоя, и моя — человеческая…[122] Февраль 1915Веры Инбер
Были слоны из кипарисового дерева, Из бронзы, из кости, еще из чего-то. Не помогли амулеты — маленькие слоны, Не помогли даже рифмы «Ленотра и смотра»[123]… Вижу вас — вечно новая шляпка И волосы ветра полны. Голос капризный, лукавый: «Где вы? Скажете еще! Неправда…» Не помогли амулеты. Испить вам дано Жизни думы и годы — Не хмельную печаль, не чужое вино[124], Только холодную воду.[125] Февраль 1915О. Цадкина
Люблю твое лицо — оно непристойно и дико, Люблю я твой чин первобытный, Восточные губы, челку, красную кожу И всё, что любить почти невозможно. Как сросся ты со своей неуклюжей собакой[126], Из угла вдруг залаешь громко внезапно, И смущенно глядишь: «Я дикий, Не комнатный — вы извините!..» Но страшно в твоей мастерской: собака, Прожженные трубки, ненужные книги и девичьих статуй От какого-то ветра загнутые руки, Прибитые головы, надломленные шеи, — Это побеги лесов дремучих, Где кончала плясать Саломея… Ты стоишь среди них удивлен и пристыжен — Жалкий садовник! Темный провидец![127] Февраль 1915Максимилиана Волошина
Елей как бы придуманного имени И вежливость глаз очень ласковых. Но за свитками волос густыми Порой мелькнет порыв опасный Осеннего и умирающего фавна. Не выжата гроздь, тронутая холодом… Но под тканью чуется темное право Плоти его тяжелой. Пишет он книгу, Вдруг обернется — книги не станет… Он особенно любит прыгать, Но ему немного неловко, что он пугает прыжками. Голова его огромная, Столько имен и цитат в ней зачем-то хранится, А косматое сердце ребенка. И вместо ног — копытца. Февраль 1915Бальмонта
Пляши вкруг жара его волос! Не пытай, как он нес Постами Этот легкий звенящий пламень. Но иди домой и отдай подруге Один утаенный уголь. Когда же средь бед и горя Он станет уныл и черен, Скажи, но только негромко: «Прости, я сегодня видел Бальмонта…» Апрель 1915Модильяни
Ты сидел на низенькой лестнице, Модильяни. Крики твои буревестника, Улыбки обезьяньи. А масляный свет приспущенной лампы, А жарких волос синева!.. И вдруг я услышал страшного Данта — Загудели, расплескались темные слова. Ты бросил книгу, Ты падал и прыгал, Ты прыгал по зале, И летящие свечи тебя пеленали. О безумец без имени! Ты кричал: «Я могу! Я могу!» И четкие черные пинии Вырастали в горящем мозгу. Великая тварь — Ты вышел, заплакал и лег под фонарь. Апрель 1915Маревны
Ты смеешься весьма миловидно и просто, И волосы у тебя соломенные. Ах, как больно глазам от известки Заплясавших, задрыгавших домиков! Жарко три дня подряд. Что ж, купайся, пей лимонад! Нет, лучше у горячих стен Потанцуй под «Кармен», Потанцую, подурачусь, покричу — В домике оставил я трескучую свечу!.. Но болезное святое дитятко Не потерпит никакой беды, Чтоб залить огонь, у Бога выпросит Маленькую капельку воды.[128] Май 1915Ропшина
Лицо подающего надежды дипломата, Только падают усталые веки. (Очень уж гадко На свете!) О силе говорит каждый палец. О прежней. И лишь порой стыдливая сентиментальность Как будто брезжит. Ах, он написал очень хорошие книги, У него большая душа и по-французски редкий выговор. Только хорошо бы с ним запить, О России пьяным голосом бубнить: «Ты, Россия, ты огромная страна, Не какая-нибудь маленькая улица. Родила ты, да и то спьяна, Этакое чудище!..»[129] Июнь 1915Своя
Горбится, мелкими шажками бежит Туда и обратно. Тонкие пальцы от всех обид Скручены как-то. Раздумчивый глаз И усмешка: Кое-что знаю про вас, Все мы здешние. Все мы грешные! Жизнь нелегка, И очиститься нечем. Убьешь паука — Отойдешь и повесишься. Поглядит и бежит куда-то — Туда иль обратно. И, отвисшие, к ночи засохшие (От молитвы иль только от старости скрытой?), Жадно ловят комнатный воздух Губы семита. Июнь 1915В пивной
Приходили четыре безногих солдата. Пили горькое пиво. О лихих, о далеких атаках Говорили лениво. Говорили, смотрели На женские прелести. «Пушка, ты пушечка, Как тебя называть? Душечка! Семьдесят пять[130]! Рушь ты немчиков, Розовых младенчиков! Всё разрушишь — Тихо будет к вечеру. Дай, моя пушечка, Я поцелую твое плечико!..» Девки целовали солдат, Какая кого, наугад. «Пригожие мои, видные, Румяные. Ножки у вас не какие-нибудь — Деревянные!» Целуйте! Какая кого! Не спорьте! Горько! горько! Солдат вынул образок, Лег на скамью, как в гроб. Плакал Никола Чудотворец, Застилал одинокую душу. И золотое, прошлое горе Всё еще пенилось в кружках. Июнь 1915Ars
Я бродил, я любил здесь когда-то, А теперь, разлюбив, позабыв, Я касаюсь мрамора статуй Среди тощих низких олив. Я дрожу — ни тоска, ни трепет Эту белую плоть не пронзит. Только изредка летний ветер По глянцу листвы скользит. Не хочу! Не хочу вашей правды! Вы всего мудрей и ясней, Но даже малая травка Не взойдет из этих камней…[131] Июнь 1915Другу
Тихону Сорокину[132]
Выдерни, родимый, Волосок за волоском! Похлещи меня, как сына, И пусти гулять потом. Встану я на пригорке, Закричу одноногим аистом — Поглядите на исцеленного от порчи, На покаявшегося! Он меня всему научит, Как он пытает ласково Своим именем мученика, Добрыми карими глазками… Летите вы, птицы вольные, На зеленый, на вымерший пруд! Покричу и лягу средь черного поля, Кровь землицей сотру… Июнь 1915Где-то в Польше
Приходили, уходили сердитые… Иудеи, снова приходила наша судьба! Убегали, прятали старые свитки В погреба… Бедный Иоська, раскачайся, покачайся и завой! — Я есмь Господь Бог твой! Наше племя Очень дрессированное. Мы видели девятьсот пленений Снова, снова и снова… Мама Иосеньке поет, Соской затыкает рот: «Ночью приходили И опять придут. Дедушку убили И тебя убьют!» Дымятся снега, но цела Твоя Тора! Видишь, Господь? Шли же скорей своих тихих воронов Разрывать нашу древнюю плоть. «Ой! Ой! Боже мой! Дышат тише. Ходят ближе. Спи, мой милый, Спи же, жди же!..» Июль 1915Летним вечером
Я приду к родимой, кинусь в ноги, Заору: Бабы плачут в огороде Не к добру. Ты мне волосы обрезала, В соли омывала, Нежная! Любезная! Ты меня поймала! Пред тобой, пред барыней Я дорожки мету. Как комарик я Всё звеню на лету — Я влюблен! Влюблен! Тлею! Млею! Повздыхаю! Полетаю! Околею! Июль 1915Прогулка
В колбасной дремали головы свиньи, Бледные, как дамы. Из недвижных глаз сочилось унынье На плачущий мрамор. Если хотите, я подарю вам фаршированного борова Или бонбоньерку с видами Реймского собора. «Ох вы рóдные, хорошие! Подсобите мне!.. Очень уж тошно Без Митеньки!» И на мокрых досках Колыхался мертвый солдат, Торчала горькая соска В ярко-лиловых губах. Нет, я поднесу вам паштеты. А эти туши Мы прикажем убрать астрами, только фиолетовыми, И вечером скушаем. «Мальчик мой убитый!.. Всё переменится…» Только ветер один причитывал: «И презревши все прегрешения…»[133] Сентябрь 1915Прости меня…
1. Прости меня — блудливого
Утром не было письма. Тело было бело — белей бельма. Качал стул. До обеда три раза зевнул. Сколько? Четыре? — Четверть пятого — Как рано! (И мухи, и патока.) Я глазами прощупал сквозь блузку — ага! Что-то новое… Со скуки разве попробовать? На диван присели. …Как мухи засидели Боттичелли!.. Ку-ку, Венера, Нашла кавалера? Знаешь, милый, нет дня — Поцелуй меня! Знаешь, так лучше, не надо огня — Поцелуй меня! Я люблю его! Господи, неужели как всех? Господи, грех? Знаешь, это дудки! Не затем диван. Грудки твои, грудки, Точно марципан. Цепляемся за руки, за волосы, за плечи! О, Владыко! Выплыть хочется! Выплыть! Не надо! Слышишь! Не надо! И падаем!.. Так птица с дробинкой в груди падает в землю, упершись крылами, Так падает в воду — камень, Так падает старый бродяга, прикончив четверть, в последний раз, Так падает час! От тел горячих этот запах терпкий. Господи! Трупы простертые, смотрим мы в око смерти! И как плиты, чужие плечи. А сказать друг другу нечего! Милый, где мы? У меня. — Отвернись, я оденусь! Не глядел ей в глаза. Страшно! Я знаю всё, и какая на ней рубашка. Выпил три кружки пива. Господи, прости меня блудливого! За то, что я спал в детской кровати (С сеткой). Касался плоти матери. За то, что в тринадцать лет я плакал, Не в силах понять твоего знака. За то, что я ночью бегал — лицо мокрое — И щипал свою грудь, щипал дó крови, За то, что делать — просто делать нечего, И с четырех так долго еще до вечера, За то, что я пил пиво, За то, что я блудливый, Прости, прости меня, Господи!2. Прости меня — богохульника
Тик-так. Вот так тáк! Сосед где-то прыснул, фыркнул, харкнул. И сладкий запах лекарства. Глупости! Просто Сосчитаю дó ста. Двадцать, двадцать пять… Страшно помирать. Двадцать шесть… А если что-нибудь есть?.. Помирает сыночек. (Ночью, всё ночью!) Тридцать девять и восемь. Доктор, просим! Просим. Господи, вот его повозка, Шапка матросская. «Адмирал». Он в «Адмирале» только «А» знал. Ну-ну! Видно, сегодня усну. Помрешь — будет скверный дух, Вырастет из тебя лопух. А в гробу жить хочется. Волосы растут и ноготочки. Уж кричит петух. Хорошо бы угостить конфетами дюжину старух, Показать им, на прощанье, Как приятно баловаться в бане. Я не плачу — Я кричу по-поросячьи, Так визжал Петр: «И! и! и! Твои, и мои, и твои!» Так визжит мать в ногах у профессора. «Лучше?» — «Сударыня, надейтесь, бывают случаи…» Так визжит кошка: «Ой-я, ой-я! На помойке, на помойке!» Кончено. Лучше хлебнуть коньячку, а потом лимончиком… Эта икона какого письма? Какого века? Экземпляр! И триста — недорого это… Какая наивность! Простите — перебил вас, вы коньячку или пива? Озирис[134]. Будда. Христос. Позвольте, один вопрос — Будет или не будет Хотя бы сковородка? Господи, за что Ты? И сил больше нет… Что сегодня на обед? Хе! Еще поживем на этом свете. Скажу вам — паштетик! В раю и на стуле. Господи, прости меня — богохульника За то, что я, похоронив в саду Жучку, Оглянулся, сказал: «Ничего нет, и скучно». За то, что любишь загадки И с ними играешь в прятки. За то, что я кричал: ау! ау! За то, что я еще живу, Не оставив записки: «Засим довольно, Погуляли, никого не нашли и уходим по доброй воле!» За то, что ночью уговаривает маятник — Так всё начинается, так всё и кончается. За то, что я, как в раю, на стуле, За то, что я богохульник, Прости, прости меня, Господи!3. Прости меня — поэта
Заберусь в уголок, Напишу стишок. Размечтаюсь, покаюсь, Затоскую. Но «Христа» и «креста» Обязательно срифмую. Дай мне тот платок вязаный! Знаешь, это покойной… Сегодня что-то вспомнилось разное… Посиди со мной! Так здесь невесело… Помню, у нас дома была под лестницей… Обожди — платок! платочек! Очень хорошо! очень! Тише! тише! Два четверостишия. Тебе лучше не жить, А то, а то я теряю нить. Я его хлестал, по щекам хлестал, И он закрыл свои щеки руками «Довольно!» Но я писал. Она умрет. Посвящу мою книгу великой печали, Отшедшей музе и так далее. Я мерзость чиню пристойно. Так делили твои ризы воины[135]. Так за рубль продают серебряный крестик, Так воют шакалы, на мокром месте, Так плакальщицы идут за покойником И стыдливо смотрят вниз. Эй, дай мне клок его риз! Вечерние тернии[136], И гвозди, и гвозди!.. Вам нравится это?.. Господи, прости меня — поэта За то, что я прежде не знал, с чем рифмуется «бог» И глумиться еще не мог. За то, что я первый стишок написал почти плача, Тайком, от любви неудачной. За то, что я признан «избранными», потом буду признан всеми, За то, что у меня к себе только отвращенье! За то, что теперь я строчу эффектный куплет, За то, что я «милостью божьей» — поэт, Прости, прости меня, Господи!4. Прости меня — нерадивого
Вдалеке Кто-то прыгает. А я в гамаке И не двигаюсь. Дай мне спичку, И чаю, только с клубничным. «Жив-здоров, пришли еще деньжат». Пальцы дрожат, И как носила, и как рожала, И как простилась, и как не стало… Ни любви! Ни ненависти! Но вполне беспристрастно! Вы любите хризантемы? А я астры. Впрочем, и хризантемы прекрасны! Она ждет ребенка — Женка! женка! женка! Отрицаю Бога! Мне мила свобода! Я поеду поразвлечься, И за ширмами Поглядеть на бабьи плечи Очень жирные. Как поле в год засухи, Как чрево монахини, Как в бюро — «Вы за пособьем? Вот месячные, а вот еще три на гробик». Запомните это — Гробик с глазетом! Как молитва поэта! Как в блудилище семя. Так велико мое нераденье. «Папа, хочу тебя скушать!» Нет, я дам тебе горбушку В моем ведении Недоеденную. Я безгрешен, Никого не вешаю! Застрелил бы я утку — Не заряжено ружье. Я растлил бы Анютку — Да в тюрьме какое житье! Лучше чистеньким Заниматься мистикой! Поминать Тебя всуе — И то пригодится. Вы хотите крови? Не торгую, Вот в графине чистая водица. Лежу в гамаке под ивой. Господи, прости меня — нерадивого! За то, что я плакал, прыгал и бегал, За то, что в первый раз, не доев ломтя хлеба, Я удивился — не понял! За то, что пусто в твоем доме! За то, что, как камень, ложится на сердце каждая книга, За то, что никто не прощает обиды, Прости за то, что меня не прощали, За то, что я нынче зубы скалю За чашкой чая, под ивой, За то, что я нерадивый, Прости, прости меня, Господи!5. Прости меня — злобного
На подоконнике приятен мушиный лазарет. У этой крылышка, у этой ножки нет. С платком на окошке. Ножки вы, ножки! Снег скучный, снег белый. Ты меня рассмешила! Хорошо бы, если б на снегу задымилась… «Что ты делаешь?..» Ах, родимая, Кровь задымилась бы. Не твоя — а мушиная. «Милый, отчего ты заходишь так редко?» Занят. «Страшно мне вспомнить про это!..» А ты сходи в баню. И я не кричу. Я молчу. Так молчат дрессированные грешники. Так молчат на пожаре головешки. Так молчат коты, облизываясь. Так молчат, развернув бонбоньерку «С сюрпризом». Так молчат после травли усталые гончие. Так молчат, когда всё, когда всё уже кончено! Я сегодня выгляжу немного лучше. Ночью было малость — Щипал деткины ручки. Утешался. Знаете, это от Бога… Господи, прости меня — злобного! За то, что я грудь мамки зубами кусал, Но не знал! За то, что, увидев впервые битую бабу, Я спросил Тебя: «И это надо?» За то, что без крови и мухе скучно, А с кровью, а с кровью не лучше. За то, что сладко пахнут моченые розги, За то, что Ты, а не он меня создал, За то, что всё ведь от Бога, За то, что я злобный. Прости, прости меня Господи!6. Прости!
Ты простил змее ее страшный яд! Ты простил земле ее чад и смрад! Ты простил того, кто тебя бичевал! И того, кто тебя целовал[137], Ты простил! За всё, что я совершил, И за всё, что свершить каждый миг я готов, За ветром взрытое пламя, За скуку грехов И за тайный восторг покаянья Прости меня, Господи! Труден полдень, и страшен вечер. Длится бой. За страх мой, за страх человечий, За страх пред Тобой Прости меня, Господи! Я лязг мечей различаю. Длится бой. Я кричу: «Победи!» Я кричу, но кому — не знаю. За то, что смерть еще впереди, — Прости, прости меня, Господи! Ноябрь 1915Пугачья кровь
На Болоте стоит Москва, терпит; Приобщиться хочет лютой смерти. Надо, как в Чистый четверг, выстоять. Уж кричат петухи голосистые. Желтый снег от мочи лошадиной. Вкруг костров тяжело и дымно. От церквей идет темный гуд. Бабы всё ждут и ждут. Крестился палач, пил водку, Управился, кончил работу, Да за волосы как схватит Пугача[138]. Но Пугачья кровь горяча. Задымился снег под тяжелой кровью. Начал парень чихать, сквернословить: «Уж пойдем, пойдем, твою мать!.. По Пугачьей крови плясать!» Посадили голову на кол высокий, Тело раскидали, и лежит оно на Болоте[139]. И стоит, и стоит Москва. Над Москвой Пугачья голова. Разделась баба, кинулась голая Через площадь к высокому колу: «Ты, Пугач, на колу не плачь! Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач! …Прорастут, прорастут твои рваные рученьки, И покроется земля злаками горючими, И начнет народ трясти и слабить, И потонут детушки в темной хляби, И пойдут парни семечки грызть, тешиться, И станет тесно, как в лесу, от повешенных, И кого за шею, а кого за ноги, И разверзнется Москва смрадными ямами, И начнут лечить народ скверной мазью, И будут бабушки на колокольни лазить, И мужья пойдут в церковь брюхатые, И родят, и помрут от пакости, И от нашей родины останется икра рачья Да на высоком колу голова Пугачья!..» И стоит, и стоит Москва. Над Москвой Пугачья голова. Желтый снег от мочи лошадиной. Вкруг костров тяжело и дымно. Париж, ноябрь 1915Молитва о России
Эх, настало время разгуляться, Позабыть про давнюю печаль! Резолюцию, декларацию Жарь! Прослужи-ка нам, красавица! Что? не нравится? Приласкаем, мимо не пройдем — Можно и прикладом, Можно и штыком!.. Да завоем во мгле От этой, от вольной воли!.. О нашей родимой земле Миром Господу помолимся. О наших полях пустых и холодных, О наших безлюбых сердцах, О тех, что молиться не могут, О тех, что давят малых ребят, О тех, что поют невеселые песенки, О тех, что ходят с ножами и с кольями, О тех, что брешут языками песьими, Миром Господу помолимся. Господи, пьяна, обнажена Вот Твоя великая страна! Захотела с тоски повеселиться, Загуляла, упала, в грязи и лежит. Говорят — «не жилица». Как же нам жить? Видишь, плачут горькие очи Твоей усталой рабы; Только рубашка в клочьях Да румянец темной гульбы. И поет, и хохочет, и стонет… Только Своей ее не зови — Видишь, смуглые церковные ладони В крови! …А кто-то орет: «Эй, поди ко мне! Ишь, раскидалась голенькая!..» О нашей великой стране Миром Господу помолимся. О матерях, что прячут своих детей — Хоть бы не заметили!.. Господи, пожалей!.. О тех, что ждут последнего часа, О тех, что в тоске предсмертной молятся, О всех умученных своими братьями Миром Господу помолимся. Была ведь великая она! И, маясь, молилась за всех, И верили все племена, Что несет она миру Крест. И, глядя на Восток молчащий, Где горе, снег и весна, Говорили, веря и плача: «Гряди, Христова страна!» Была, росла и молилась, И нет ее больше… О всех могилах Миром Господу помолимся. О тех, что с крестами, О тех, на которых ни креста, ни камня, О камнях на месте, где стояли церкви наши, О погасших лампадах, о замолкших колокольнях, О запустении, ныне наставшем, Миром Господу помолимся. Господи, прости, помилуй нас! Не оставь ее в последний час! Всё изведав и всё потеряв, Да уйдет она от смуты К Тебе, трижды отринутому, Как ушла овца заблудшая От пахучих трав На луг родимый! Да отвергнет духа цепи, Злое и разгульное житье, Чтоб с улыбкой тихой встретить Иго легкое Твое! Да искупит жаркой стрáдой Эти адовы года, Чтоб вкусить иную радость Покаянья и труда! Ту, что сбилась на своем таинственном пути, Господи, прости! Да восстанет золотое солнце, Церкви белые, главы голубые, Русь богомольная! О России Миром Господу помолимся. Москва, ноябрь 1917Судный День
Детям скажете: «Когда с полей Галиции, Зализывая язвы, Она бежала еще живая — Мы могли, как прежде, грустить и веселиться, Мы праздновали, Что где-то под Санем[140] теперь не валяемся. Зубы чужеземные Рвали родимую плоть, А все мы Крохи подбирали, как псы лизали кровь. Срывали с нее рубище, Хлестали плетьми, Кусали тощие груди, Которые не могли кормить…» Детям скажете: «К весне она хотела привстать, Мы кричали: „Пляши! Эй, Дунька!“ Это мы нарядили болящую мать В красное трико площадной плясуньи. Лето пришло. Она стонала, Рукой не могла шевельнуть. Мы били ее — кто мужицким кнутом, кто палочкой. „Ну, смейся! Веселенькой будь!“ Ты первая в мире — Ух, упирается, дохлая! Живей на канат и пляши в нашем цирке! Все тебе хлопают!» Детям скажете: «Мы жили до и после, Ее на месте лобном Еще живой мы видали». Скажете: «Осенью Тысяча девятьсот семнадцатого года Мы ее распяли». Октябрь Всех покрыл своим туманом. Были среди них храбрые, Молодые, упрямые. Они шли и жадно пили отравленный воздух, Будто не на смерть шли, А только сорвать золотые звезды, Чтоб они на земле цвели. Были обманутые — нестройно шагали, Что ни шаг, оглядывались назад. «На прицел!» — уж курки сжимали их пальцы, Но еще стыдливо притуплялись глаза. Были трусливые — юлили, ползали. Были исступленные, как звери. Были усталые, бездомные, голодные, У которых в душе только смерть. Было их много, шли они быстро, Прикрытые желтым туманом, Вел их на страшный приступ Дед балаганный. И когда на Невском шут скомандовал: «Направо!» И толпа разлилась по Дворцовой площади — Слышно было, кто-то взывал средь ночи: «Савл! Савл![141]» Еще многие руки — пусть слабые! — Сжимали невидимый ларь, Где хранилась честь Российской Державы. «Чего зря болтать!.. Ставь пулеметы!.. Жарь!» В Зимнем дворце среди пошлой мебели, Средь царских портретов в чехлах, Пока вожди еще бредили, В последний час, Бедные куцые девушки[142] В огромных шинелях, Когда все предали, Умереть за нее хотели — За Россию. Кричала толпа: «Распни ее!» Уж матросы взбегали по лестницам: «Сучьи дети! Всех перебьем! Ишь, бабы! Экая нечисть заводится!..» И они перед смертью Еще слышали колыханье победных знамен Ныне усопшей Родины… «Эй, тащи девку! Разложим бедненькую! На всех хватит! Черт с тобой!» — «Это будет последний И решительный бой». Пушки гремели. Свистели пули. Добивали раненых. Сжигали строения. Потом всё стихло. Прости, Господь! Только краснела на заплеванных улицах Средь окурков и семечек Русская кровь. Бились и в Москве. На белые церкви Трехдюймовки выплевывали адов смрад, И, припав к ране Богородицыного Сердца, Плакал патриарх[143]. Пощаженные рукой иноземной В Наполеоновы дни[144], Под снарядами гнулись Кремлевские стены — Им нечего больше хранить! Вот юнкера, гимназисты На бульвар выбегают, юные, смелые. Баррикада. Окоп. «Кто там? Слушай!» Но вот подошел и выстрелил, И душа Отчизны в небо отлетела Вместе со столькими юными душами. Радуйся, Берлин! Готовьте трофеев смотр! Стройте памятники! Жены, дарите героев любовью! Больше до вас не дойдут с Востока Наши Христовы славословья! Белая держава миру не напомнит, Что не только в Эссене льется сталь, Что в нашей обители темной Любовью ковали мы меч Христа! Радуйся, Германия! Deutschland, Deutschland über alles! В балагане Резвые клоуны кувыркались: «Старое — долой его! Старое издохло! В новом мире Мы получим… что? Всё!..» А на Гороховой[145] Пьяный старичок в потертом мундире Еще вопил: «Да приидет Царствие Твое!» По всем проводам сновали вести. «Они уничтожены!.. Мы победили!» В Аткарске в маленьком домике, сидя в кресле, Плакала мать: «Мишенька, миленький!..» В снежных пустынях Сибири, Урала Проволоки пели: «Да здравствует Циммервальд![146]» А мертвая даль Молчала. Усадьбы горели, там, в глуби, Кровянел встревоженный Юг. И наборщики складывали те же пять букв: «Убить! Убить! Убить!» В Туле Иванов Третий день как морит тараканов, Выпил чай, зевнул, перекрестил рот. «Экстренные телеграммы! Новый переворот!» Парни пьяным-пьяные С тоски стреляют в ворон… С севера, с юга народы кричали: «Рвите ее! Она мертва!» И тащили лохмотья с смердящего трупа. Кто? Украинцы, татары, латгальцы. Кто еще? Это под снегом ухает, Вырывая свой клок, мордва. И только на детской карте (ее не будет больше) Слово «Россия» покрывает Полмира, и «Р» на Польше, А «я» у границ Китая. Вот уж свои отрекаются: «Мы не русские! Мы не останемся с ними вместе. Идут германцы. Пусть они Эту сволочь скорее повесят!» И цепляются за скользящие акции, И прячут серебряные ложки. Ночью не спится, Они злятся и думают: «Когда-то В это время мы спаржу сосали в Ницце». В Петербурге от запаха гари, крови, спирта Кружится голова. Запустенье! Пугливо жмутся Китайчата и поют: «А! а!» Кто-то выбежал нагишом, орет: «Всемирная Революция!» А вывески усмехаются мерзко — Их позабыли снести — «Еще есть в Каире отель „Минерва“!» «Еще душатся в Париже духами „Коти“!» В театре — там нету окон! Певица поет еще о страсти Кармен. На улице пусто. Стреляет кто-то… Еще стреляет — зачем? Там на вокзале последний поезд Сейчас заплачет и скроется Средь снега. Где ты, Родина? Ответь! Не зови! Не проси! Не требуй! Дай одно — умереть!.. За гробом идет старикашка пьяный. Споткнулся, упал, плюнул. «Мамочка! Оступился!.. Эх, еще б одну рюмочку!..» Вы думаете — хоронят девку, Пройти б стороной! Стойте и пойте все вы: «Со святыми упокой!» Хоронить, хоронить нам всего и осталось, Ночью и днем хоронить. Вот жалобно Последние гаснут огни. Темь. Нищий мальчик Просит: «Ради Бога Над сиротинкой сжальтесь!» Детям скажете: «Осенью Тысяча девятьсот семнадцатого года Мы ее распяли!» Москва, ноябрь 1917В ноябре 1917
Крутили цигарки и пели: «Такая-сякая, моя!» Только на милых серых шинелях Кровь была — и чья! И с песней Ее убили… Кого — разве знали они? Только бабы, крестясь, голосили, Да выли псы на цепи. Над землей церковной и нежной Стлался желтый тяжелый дым. Мы хотели спасти, но где же!.. И клали пятак на помин. Вы пришли в этот час последний, Светлые дети — не зная как, Вы молили не о победе — Умереть за Нее и за нас. Когда всё кончилось, вы, дети, Закричали: «Она жива!» Но никто, никто не ответил, — В эти дни молчала Москва. Кто знает, как вы бились? И когда не стало дня, — Как вы ночью одни исходили На холодных осенних камнях, Когда всё затихло и ночью Только стылые звезды зажглись, Когда те делили уж клочья[147] Ее омраченных риз. И какою великой верой В этот час прикрылись вы, Прижавшись слабеющим сердцем К мертвому сердцу Москвы. Москва, ноябрь 1917У окна
Темно. Стреляют. Мы? они? Не всё ли равно! Это день или месяц? Не знаю! Может, снится? отчего ж так долго? Пуля пролетела. Отчего же мимо? А снег лежит сухой, тяжелый — Его не сдвинуть. Пьяный солдат поет: «Вставай! подымайся!..»[148] Кричит воронье, Да в сторожке баба завывает: «На кого ты меня оставил?.. Боренька! родненький!.. И пойду я по миру…» Если б злоба — стрелять в этих хмурых солдат. Если б слезы были — заплакать… «Товарищи! час настал!..» Бегут куда-то… Снег на них, на земле, на сердце, Не сойдет… И зачем весна? «Ура!» Это кто-то бредит перед смертью, А может, и так, спьяна… Что же! прыгай да пой по-новому, И шуми, и грозись, и стреляй!.. Лихая ты! непутевая! Родная моя! прощай! «Всем! Всем! Воззвание. Спасайте! Стреляйте! Вперед!» Закроют глаза пятаками, И ветер один пропоет: «Вечная память!» Придут другие, чужие, Над твоей посмеются судьбой. Нет, не могу! Россия! Умереть бы только с тобой!.. Москва, декабрь 1917В переулке
Переулок. Снег скрипит. Идут обнявшись. Стреляют. А им всё равно. Целуются, и два облачка у губ дрожащих Сливаются в одно. Смерть ходит разгневанная, Вот она! за углом! близко! рядом! А бедный человек обнимает любимую девушку И говорит ей такие странные слова: «Милая! ненаглядная!» Стреляют. Прижимаются друг к другу еще теснее. Что для Смерти наши преграды? Но даже она не сумеет Разнять эти руки слабые! Боже! Зимой цветов не найти, Малой былинки не встретить — А вот люди могут так любить На глазах у Смерти! Может, через минуту они закачаются, Будто поскользнувшись на льду, Но, так же друг друга нежно обнимая, Они к Тебе придут. Может, в эти дни надо только молиться, Только плакать тихо… Но, Господи, что не простится Любившим? Москва, декабрь 1917Моя молитва
Утром, над ворохом газет, Когда хочется выбежать, закричать прохожим: «Нет! Послушайте! так невозможно!» Днем, когда в городе Хоронят, поют, стреляют, Когда я думаю, чтоб понять: «Я в Москве, нынче вторник, Вот дома, магазины, трамваи…» Вечером, когда мы собираемся, спорим долго, Потом сразу замолкаем, и хочется плакать, Когда так неуверенно звучит голос: «До свиданья! до завтра!» Ночью, когда спят и не спят, и ходят на цыпочках, И слушают дыханье ребят, и молятся, Когда я гляжу на твою карточку, на письма — Всё, что у меня есть… может, не увижу больше… Я молюсь о тебе, о всех вас, мои любимые! Если б я мог Заслонить вас молитвой, как птица заслоняет крыльями Птенцов. Господи, заступись! не дай их в обиду! Я не знаю — может, мы увидимся, Может, скажем обо всем: «Это было только сон!» А может, скоро уснем… Знаю одно — в час смертный, Когда будет смерть в моем сердце, Еще живой, уже недвижный, Скажу я: «Господи, спасибо! Ты дал мне много, много!.. Не оставил меня свободным. Ярмо любви я тащил и падал, От земли ухожу, но я знаю радость. От земли ухожу, но на землю гляжу я, Где ты, где все вы еще любите и тоскуете… Господи, заступись! не дай их в обиду! Я люблю их! Господи, спасибо!» Москва, декабрь 1917«Нет, я не поэт, я или пророк…»
Нет, я не поэт, я или пророк, Или только жалкий юродивый, Что, задрав рубашку на брюхе, ползет И орет: «Это будет! это будет сегодня!» Это будет! и сердце полно предчувствий. Что будет? вечный живот? или смерть? Не знаю, но знаю, что будет, и вьюсь я, Как раздавленный червь. Не поэт я! вы слушаете: Вот раздадутся звуки плавные, И наши истомленные души Заночуют в тихой гавани. А мои стихи выползают — голые птенчики, Розовые, пискливые, еще необсохшие. И вы кричите: «Оденьте их! Мы не можем! стыдно, тошно нам!» Во что одену их? у поэтов пышные облачения, А я не поэт — я нищий. У меня нет даже дерева, Чтоб сорвать хоть один фиговый листик. Я могу визжать про свою муку, Прыгать с перешибленной лапой, Как старый развратник, сюсюкать И по-ребячески плакать. Вы кричите: «Уберите его! Довольно он здесь кривлялся!» А я мог бы так любить вас, Такая у меня ко всем жалость… Но вот встаю, кричу — опомнитесь! Я не могу — вы легли! вы уснули! Он придет, а вы заперлись в ваших комнатах, Вы не успеете выбежать на улицу! Прочтете стихи, мой скулящий голос послушаете, На миг раздражитесь и уйдете безответные, Чтоб упасть, как на мягкие подушки, На стройные строфы — не мои — поэтовы. И забудьте того, кому тоже было стыдно и горько, Кто, как вы, хотел любви, радости тихой, Но не мог, ибо прыгал и корчился, Слыша то, что вы не расслышали. Лишь когда запоет труба Архангела[149] И ослиные копыта прозвенят на площади каменной[150], — Вы скажете: «Ведь и тот кривляка Кричал: Осанна! Осанна!» Москва, январь 1918«Наши внуки будут удивляться…»
Наши внуки будут удивляться, Перелистывая страницы учебника: «Четырнадцатый… семнадцатый… девятнадцатый… Как они жили?., бедные!., бедные!..» Дети нового века прочтут про битвы, Заучат имена вождей и ораторов, Цифры убитых И даты, Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы, Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи, Как была прекрасна в те годы Жизнь. Никогда, никогда солнце так радостно не смеялось, Как над городом разгромленным, Когда люди, выползая из подвалов, Дивились: есть еще солнце!.. Гремели речи мятежные. Умирали ярые рати. Но солдаты узнали, как могут пахнуть подснежники За час до атаки. Вели поутру, расстреливали, Но только они узнали, что значит апрельское утро. В косых лучах купола горели, А ветер молил: обожди! минуту! еще минуту!.. Целуя, не могли оторваться от грустных губ, Не разжимали крепко сцепленных рук, Любили — умру! умру! Любили — гори, огонек, на ветру! Любили — о, где же ты? где? Любили, как могут любить только здесь, на мятежной и нежной звезде. В те годы не было садов с золотыми плодами, Но только мгновенный цвет, один обреченный май! В те годы не было «до свиданья», Но только звонкое, короткое «прощай». Читайте о нас — дивитесь! Вы не жили с нами — грустите! Гости земли, мы пришли на один только вечер. Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный час. Но над нами стояли звезды вечные, И под ними зачали мы вас. В ваших очах горит еще наша тоска. В ваших речах звенят еще наши мятежи. Мы далеко расплескали в ночь, и в века, в века Нашу угасшую жизнь. Киев, март 1919«Я не знаю грядущего мира…»
Я не знаю грядущего мира, На моих очах пелена. Цветок, я на поле брани вырос, Под железной стопой отзвенела моя весна. Смерть земли? Или трудные роды? Я летел, и горел, и сгорел. Но я счастлив, что жил в эти годы — Какой высокий удел! Другие слагали книги пророчеств, Пламена небес стерегли. Мы же горим, затопив полярные ночи Костром невозможной любви. Небожители! духи! святые! Вот я, слепой человек, На полях мятежной России Прославляю восставший век! Мы ничего не создали, Захлебнулись в тоске, растворились в любви, Но звездное небо нами разодрано, Зори в нашей крови. Гнев и смерть в наших сердцах, На лицах отсвет кровавый — Это мы из груди окаменевшего Творца Мечом высекали новую правду. Киев, март 1919«Гудит и плещет стихия…»
Гудит и плещет стихия… (Потом отметят: «Такой-то жил в России В двадцатом веке…») Иду ли стезей звезды падучей Или тропой муравья? Под ногой гранитные тучи Или только зыбкая земля? Я хотел устоять, отделиться, Звали меня «Илья», Теперь я ветр, безымянный, безликий, Пролетаю, встречные души метя. За мной! вы еще убегаете? Бурю хотите остановить? Меня гонит огонь поедающий Любви. В груди пылает не сердце — солнце, Ты горишь — спеши! спеши! Кинь его в черные волны Огромной мирской души! Времена распадаются. Нет людей, только грома голоса. Любви огонь пылающий Смыл порфирные небеса. Я люблю тебя, встречный, прохожий! Утонувший в веках, ты жив! Больше никто не проложит Меж сердцами жесткой межи. Враг мой, дай летучую руку! Я возьму и тебя, и его… Цепью рук мы землю опутаем, От края до края святой хоровод. Нет края! И на небе наши знаки. Луна, я тебя не забыл! Мы примем в свои объятья Рои безумных светил. Звезда — сестра, и тля весенняя — сестра. Мы мчимся быстро, быстро, Одного великого костра Дикие искры, — Это Творец от любви умирает, это сгорает в мирах Сердце Его неистовое. Март 1919«Вам всё понятно в мире…»
Вам всё понятно в мире: Дважды два — четыре, Любовь — это только размножение, Звезды — астрономический атлас. Из земной утробы выросло новое племя, Небеса оно запечатало. Саранча с человечьими ужимками, Антихристы в пиджаках, Вы застлали поля Европы дымкой. На Творца ополчился прах. Времена распались. Люди в корчах Разят друг друга, роют землю, в землю идут. Это плоть огромная и мертвая Восстала на вольный Дух. Кто узы рассек? Кто из сердца вынул Любви огонь неуемный? Господи! ветер гонимый. Бездомный! Воешь, мятежный, бессмертный. В темной норе и в небе пустом, Врываясь в мое смятенное сердце, Исторгаешь вопль и гром. Я могу только петь и молиться. Среди толп мирских я одинок. Пусть тяжелые кони победной колесницы Растопчут звонкий цветок! Пусть погибну — безумный глашатай, — В хляби земной утону, До последнего часа мой яростный факел Озарял не бывшую весну! Победители, тщетно мните Устоять на скрипучих годах — Мой дух, закружившись в вселенском вихре, Сметет торжествующий прах. Жаркий ключ пробьет земные толщи, Пророчьи побеги буйно взойдут. Люди будут, лобзая, ловить только ветер и солнце, Златоструйный летучий Дух. Наша земля заневестилась. В знойных розах, в снопах огневых, Истекая звездными песнями, Снизойдет Жених. Апрель 1919«Не уйти нам от теплой плоти…»
Не уйти нам от теплой плоти. От нашей тяжкой земли. Кто уйдет, всё равно вернется, Только ноги будут в пыли. Кружись вкруг себя холодеющий шар, Мастери игрушку, новый Икар, Слепцы, пролагайте по небу пути, — Всё равно никуда не уйти. Огнь Прометея, Марсия песни, Всё, чем дерзкое сердце живет, Только круженье на месте, Темный водоворот. Ошибиться и то нельзя: У земли ведь своя стезя, И в чужие миры, что за этим путем, Не прольется она золотым дождем. Сердце, и что твой бунт? Выполни молча оброк — Господь закружил среди звезд и лун Еще один малый волчок. Будь же гордым, умей не заметить, Не убегай от любви. Эти святые цепи Трижды благослови. Кружись и пой за годом год, Как мудрый каторжник поет, Припав к печальному окну, Свою острожную весну. Киев, сентябрь 1919Осел
Дорога длинная, пустая, И не видно ни конца ни края. Стал осел. Стоит. Не идет. Хозяин кричит: «Вперед!» И гладит его, и бьет, Но осел не идет. Думают люди: «Упрямый осел». Хочет ослик сказать: «Я всё утро шел. На спине бочонок тяжелый, И кусают спину оводы, От острых камней болят копыта. Хозяин сердитый, А у хозяина палка, И никому меня не жалко. А когда я был маленьким осленком, Я кувыркался в траве зеленой, Не знал ни поклажи, ни седла, Не знал я про долю осла. У меня были розовые мягкие копытца. Я жил на воле. Не надо на меня сердиться, Я не могу больше…» 1919В раю
Есть у Бога ясный сад, Всех садов зеленей — Это рай для ребят И для зверей. Там щенята, котята, мышата играют, А взрослых туда не пускают. У входа Заяц, Он совсем не пугается, Смотрит в щелку И кричит Волку: «Войди, не стесняйся, Здесь все свои, зайцы». Мышки, выбежав из норки, Играют со старым Котом, За усы его дергают И ездят на нем верхом. Медведи танцуют на площадке, И прыгают на одной лапе (а это очень трудно). Слоны играют в прятки, И прячутся друг от друга. Волчиха у колыбели, А в колыбели Зайчик беленький. Волчиха его убаюкивает, Лапой машет, хвостом постукивает: «Бай-бай, малый Зай, засыпай, засыпай!» А Иринка кормит Волчиху травой пахучей[151], В школу не ходит, уроков не учит. Ездит у Слона на спине, Сосет леденцы, даже во сне. И считает, сколько на небе звезд, Сколько у Бога в бороде волос. 1919–1920«Ветер летит и стенает…»
Ветер летит и стенает. Только ветер. Слышишь — пора!.. Отрекаюсь, трижды отрекаюсь От всего, чем я жил вчера. От того, кто мнился в земной пустыне, В легких сквозил облаках, От того, чье одно только имя Врачевало сны и века. Это не трепет воскрылий Архангела, Не Господь-Саваоф гремит — Это плачет земля многопамятная Над своими лихими детьми. Сон отснился. Взыграло жестокое утро, Души пустыри оголя. О, как небо чуждо и пусто! Как черна родная земля! Вот мы сами и паства, и пастырь. Только земля нам осталась — На ней ведь любить, рожать, умирать, Трудным плугом, а после могильным заступом Ее черную грудь взрезать. Золотые взломаны двери. С тайны снята печать. Принимаю твой крест, безверье, Чтобы снова и снова алкать! Припадаю, лобзаю черную землю. О, как кратки часы бытия! Мать моя, светлая, бренная, Ты моя! ты моя! ты моя! Коктебель, январь 1920«За то, что губы мои черны от жажды…»
За то, что губы мои черны от жажды, А живой воды не найти, За то, что я жадно пытаю каждого — Не знает ли он пути, За то, что в душе моей смута, За то, что слеп я, хваля и кляня, — Назовут меня люди отступником И отступятся от меня. Я не плачу, я иду путем тяжелым, И разве моя вина, Если я жив и молод, А за кладбúщем весна? О, как быстро прирастают к телу ризы, Я с ними сдираю живую плоть. Родное дитя изгоняю úз дому, Себя хочу обороть. Уверовав — вновь отвергну, Не остудив тоски, Ибо все небожители смертны, Все пути — тупики. Но жизни живой не предам вовеки, И, когда от нее уйду, На могиле моей бездумные дети Первый подснежник найдут. Коктебель, февраль 1920«Мои стихи не исповедь певца…»
Мои стихи не исповедь певца, Не повесть о любви высокого поэта — Так звучат тяжелые сердца, Тронутые ветром. Я не резвился с музами в апреля навечерия, Не срывал Геликона доцветающих роз, Лиру разбил о камень севера, Косматым руном оброс. На развалинах мира молчи, Пушкина полдневная цевница! Варвар смеется, забытый младенец кричит, Бьет крылами вспугнутая птица. Не о себе говорю — о многих и многих, Ибо нем человек и громка гроза. Одни приходят — другие уходят, Потупляют, встретившись, глаза. Все одной непогодой покрыты, И поет протяжная труба, Медная, оплакивает павшего владыку И приветствует раба. Имя мое забудут, стихи прочитав, усмехнутся: Умирающая мать, грустя, Грусть свою тая, в последний раз баюкала Новое безлюбое дитя. Март 1920«Нарекли тебя люди Любовью…»
Нарекли тебя люди Любовью, Дочь безлюбой земли, Предрекли в этом светлом слове Муки страстные твои. Ты взошла в годину бунта, Когда дух мой, смертельно скорбя, Мудрствуя и безумствуя, Отступился сам от себя. Не зная о горе и злобе, Своим незнаньем крепка, Ты смело сошла в мои преисподния, Где опаляет тоска. Не смирить меня праздной надеждой, Не залить этот огненный сноп, Только росой человеческой нежности Остудить страдальческий лоб. И скоро в земной пустыне, Расплескав золотое вино, Поняла ты, какое тяжелое имя Тебе нести суждено. Пока я слежу, как выходит за племенем племя И ветер треплет гранит кулис, Ты крепко сжимаешь в руке младенческой Горсть земли и зеленый лист. … … … … … … … … … … … … … … … Землей посыпьте, А в руку отверстую Желтый лист положите: Смертному — смертное. 1920«Далеко, на милой могиле…»
Далеко, на милой могиле Снег, тишина. Сначала плакали и приходили. Теперь ты одна. Кто-то шепчет мне: час настанет, Ты ее обретешь в небесах, Тихо шепни «до свиданья» И поцелуй этот прах. О, я знаю — в часы потери Нет сил пережить один день, И слишком трудно не верить Хотя бы в легкую тень. Но такая во мне алчба и тоска! Сердце смириться не хочет, Не опускается рука, Не закрываются очи. Крикнуть — никто не ответит. Только ветер шумит — не зови! Навеки! Слышишь, навеки! Если ты можешь — живи. Живу, брожу, но другой, не прежний. Я что-то большое постиг. И с великой прощальной нежностью Я теперь говорю — прости! Часто, шутя или споря, я замолкаю внезапно, Вижу могилу с осенней мерзлой травой, И трудно бывает вернуться обратно, Вспомнить, что я живой… 1920«Я в мир пришел накануне…»
Я в мир пришел накануне, Видел еще отходящее светило И, когда опустились сумерки, Лобызал святые могилы. Было грозово и душно. Взыграли вы, на веси ринулись Перепахать оскудевшие души Оралами кровяными. Я люблю закат золотой и пурпуровый, Нежное пение клира, Черный плющ и пустую урну Над прахом былого мира. Рожденный вчера, люблю я вчерашнюю мудрость. Был на запад мой лик обращен. Предавши мертвого Бога, я никогда не забуду Его грозных и детских имен. Вы принесли мне сиротство, И смерть среди вашей весны. Родные могилы весело топчут Буйные табуны. О, как голо в катакомбах ваших, как тускло мерцают светильники, Как дик и груб ваш новый Синай! И мнится мне — горше былого чистилища Ваш новоданный рай. Вы бедны и темны, ваши лица дымны, Нет у вас песен, только ветер и гром. Я стою перед вами, как порфироносец Рима Перед убогим крестом. Что вам цирка арены кровавые? Пред рабом отучневший кесарь падет. И мрамор Пароса неистовый Павел Будто камень простой разобьет. Что я знаю? Мудрец и начетчик, Ваш язык я напрасно учу. Не могу о грядущем пророчествовать, А причитать над былым не хочу. Огонь раздуйте и веселитесь! Вам простится безвинная кровь. Вот я всхожу на костер очистительный, Прославляя темную новь. И проклят одними, другими осмеян, Один, один, средь огня, Я гляжу на зарю едва розовеющую Моего посмертного дня. 1920России («Смердишь, распухла с голоду…»)
Смердишь, распухла с голоду, сочится кровь и гной из ран отверстых, Вопя и корчась, к матери-земле припала ты. Россия, твой родильный бред они сочли за смертный, Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты. Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют. Кто древнее наследие возьмет? Кто разожжет и дальше понесет Полупогасший факел Прометея? Суровы роды, час высок и страшен. Не в пене моря, не в небесной синеве, На темном гноище, омытый кровью нашей, Рождается иной, великий век. Уверуйте! Его из наших рук примите! Он наш и ваш — сотрет он все межи. Забытая, в полунощной столице, Под саваном снегов таилась жизнь. На краткий срок народ бывает призван Своею кровью напоить земные борозды — Гонители к тебе придут, Отчизна, Целуя на снегу кровавые следы. 1920«Бунтом не зовите годы высокой работы…»
Бунтом не зовите годы высокой работы. Мы первые исполнили веления судьбы. И не мятежники — смиренные рабы, Кровью скрепившие пирамиды Хеопса. Нет свободы, ее разлюбили люди, Свобода — сон, а ныне день труда. Себя взнуздав, несемся в грозные года, Топчем могилы отцов, рощи священные рубим. Имя свое забудь, в ночь распахни свое сердце! Был человек, а ныне тьмы кишат. Пред каждым устьем воды неслиянные спешат В море слиться новой безликой веры. Братья, мужайтесь, славьте выпавший жребий! Мы камень раздробим, другой построит дом. Пусть наша кровь останется на нем — Розы зари в черном безрадостном небе. 1920«Москва! Москва! Безбытье необжитых будней…»
Москва! Москва! Безбытье необжитых будней И жизни чернота у жалкого огня. Воистину, велик и скуден Зачин неведомого дня. Идет, и шаг его чугунен, По нежной россыпи снегов в овьюженном Кремле. Какое варварское однодумье На неуступчивом челе! Кругом забвенное посмертье. Последний плач там, за Москва-рекой, умолк. Он на снегу еще невыпавшие тени чертит: Стекло, железо, толпы толп. А там, в домах, где сон веков поруган, Рассечена, еще влачится жизнь, И щедро мы скрепляем кровью скудной Таинственные чертежи. Над золотой землей, далекой, медоносной, Светило легкое, плыви, гори! Но я не отрекусь от трепыханья косного Моей обезображенной зари. 1921«Провижу грозный город-улей…»
Провижу грозный город-улей, Стекло и сталь безликих сот, И умудренный труд, и карнавал средь гулких улиц, Похожий на военный смотр. На пустыри мои уже ложатся тени Спиралей и винтов иных времен. Так вот оно — ярмо великого равненья, И рая нового бетон. Припомнив прежних дней уют размытый, Души былой певучий строй и ход, Какой-нибудь Евгений снова возмутится И каменного истукана проклянет — Усмешку глаз, и лик монгольский, И этот трезвенный восторг, Поправшего змеи златые кольца Копытами неисчислимых орд. Дитя, прочти о наших днях кровавых: Их было много, и в горячечном бреду Они не раз пытались выхватить из рук корявых Железную узду. Где сечи шли, где деды умирали — На бархате покоится музейная змея. Погладь ее — она уже не жалит Копыта опустившего коня. 1921«Кому предам прозренья этой книги?…»
Кому предам прозренья этой книги? Мой век среди растущих вод Земли уж близкой не увидит, Масличной ветви не поймет. Ревнивое встает над миром утро. И эти годы не разноязычий сечь, Но только труд кровавой повитухи, Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь. Да будет так! От этих дней безлюбых Кидаю я в века певучий мост. Концом другим он обопрется о винты и кубы Очеловеченных машин и звезд. Как полдень золотого века будет светел! Как небо воссияет после злой грозы! И претворятся соки варварской лозы В прозрачное вино тысячелетий. И некий человек в тени книгохранилищ Прочтет мои стихи, как их читали встарь, Услышит едкий запах седины и пыли, Заглянет, может быть, в словарь. Средь мишуры былой и слов убогих, Средь летописи давних смут Увидит человека, умирающего на пороге С лицом, повернутым к нему. 1921«Весна снега ворочала…»
Весна снега ворочала, Над золотом Москвы Шутя шумела клочьями Внезапной синевы. Но люди шли с котомками, С кулями шли и шли, И дни свои огромные Тащили, как кули. Раздумий и забот своих Вертели жернова. Нет, не задела оттепель Твоей души, Москва! Я не забуду очередь, Старуший вскрик и бред, И на стене всклокоченный Невысохший декрет. Кремля в порфирном нищенстве Оскал зубов и крест — Подвижника и хищника Неповторимый жест. Разлюбленный, затверженный И всё ж святой искус, И стольких рук удержанных Прощальный жар и хруст. Но верю — днями дикими Они в своем плену У будущего выкупят Великую весну. Тогда, Москва, забудешь ты Обиды всех разлук, Ответишь гулом любящим На виноватый стук. Вагон Москва — Рига, март 1921«Позади ты и всё же со мною…»
Позади ты и всё же со мною, Будто конница темная гонится. Не покрыть музыкантами воя, Не уйти, не забыть, не опомниться. Треплешь рифмы ты в хóленом парке, Гасишь люстры парадного вечера. Вот она на расчерченной карте, Кровь точа, копошится и мечется! Что слова? На письмо не ответит, Но целуя удушит нечаянно. Ах, скажите знакомым — здесь дети, Будто в книгах, еще улыбаются. Говорят, что всегда так бывает, Что в борьбе погибают лишь слабые, Крылья будут — кокóн пробивает Исполинская дивная бабочка. Повторить ли, что я не согласен, Что мне страшно, но это уж сказано, И Господь уж привык в своей кассе[152] К бесконечным хвостам Карамазовых. Догнала ты, калужская кляча, Этот поезд, от муки отодранный. Вот минута еще — я заплачу Над святыми для русского ребрами. Вагон Москва — Рига, март 1921«Скрипки, сливки, книжки, дни, недели…»
Скрипки, сливки, книжки, дни, недели. Напишу еще стишок — зачем? Что это — тяжелое похмелье Или непроветренный Эдем? У Вердена[153] лимонад в киосках. Выше — тщательная синева. Остается, прохладившись просто, Говорить хорошие слова. Время креповую сажу счистит — Ведь ему к тому не привыкать. Пусть займется остальным статистик, А поэту должно воспевать. Да, моя страна не знала меры, Скарб столетий на костер снесла. И обугленные нововеры Не дают уюта и тепла. Да, конечно, радиатор лучше! Что же, Эренбург, попав в Париж, Это щедрое благополучье В хóленые оды претвори. Но язык России дик и скорбен, И не русский станет славить днесь Победителя, что мчится в «форде» Привкус смерти трюфелем заесть. Впрочем, всё это различье вкусов, И невежливо его просить, Выпив чай, к тому ж еще вприкуску, На костре себя слегка спалить. Ля Панн, июль 1921«Я не трубач — труба. Дуй, Время!..»
Я не трубач — труба. Дуй, Время! Дано им верить, мне звенеть. Услышат все, но кто оценит, Что плакать может даже медь? Он в серый день припал и дунул, И я безудержно завыл, Простой закат назвал кануном И скуку мукой подменил. Старались все себя превысить — О ком звенела медь? о чем? Так припадали губы тысяч, Но Время было трубачом. Не я, рукой сухой и твердой Перевернув тяжелый лист, На смотр веков построил орды Слепых тесальщиков земли. Я не сказал, но лишь ответил, Затем, что он уста рассек, Затем, что я не властный ветер, Но только бедный человек. И кто поймет, что в сплаве медном Трепещет вкрапленная плоть, Что прославляю я победы Меня сумевших побороть? Ля Панн, июль 1921«Пятно на карте — места хватит…»
Пятно на карте — места хватит… Страна «пропавших без вестей» — Всех европейских хрестоматий Мораль для озорных детей. Был лес и хлеб, табак и хлопок, Но смыла материк вода. И вот, отчалив, пол-Европы Плывет неведомо куда. Не ты ли захотела с неба Свести обещанный огонь, Чтоб после за краюхой хлеба Тянуть дрожащую ладонь? Кафе, своим избытком чванясь, Разжав газетные листы, Тебе готовы бросить камень — Быть может, каменщица ты? Возьми его, былое бремя Преображая в новый плен, Вздымая тяжкие каменья И кровью заменив цемент. Какое жалкое величье — Сивиллы[154] полоумный чин И христорадничество нищей У блеска лондонских витрин. Там, в кабинетах, схем гигантских, Кругов и ромбов торжество, И на гниющих полустанках Тупое вшивое «чаво?». Потешных электрификаций Святого Эльма огоньки[155]. Но кто посмеет посмеяться Пред слепотой такой тоски? И всё ж смеются над юродством Проспекты тридцати столиц — Исав[156], продавший первородство За горсть вареных чечевиц. Ля Панн, июль 1921«Разграбив житницы небес…»
Разграбив житницы небес, Дитя вселенской суматохи, Как я могу, засевши в бест[157], Сбирать любви златые крохи? О, парадизов преснота, И буколические встречи! Припомнив дикие лета, Чем осолю свой ранний вечер? Конечно, одуванчик мил, И Беатриче цель поэта. Но я сивуху долго пил И нечувствителен к букету. Еще, пожалуй, десять лет, (Мне тридцать минуло), готовься — Придется этот скудный хлеб Солить слезою стариковства. Я очень, очень виноват, Что пережил свое безумье — Неразорвавшийся снаряд Еще валяется на клумбе. Сан-Идельсбад, август 1921«Будет день — и станет наше горе…»
Будет день — и станет наше горе Датами на цоколе историй, И в обжитом доме не припомнят О рабах былой каменоломни. Но останется от жизни давней След нестертый на остывшем камне, Не заглохшие без эха рифмы, Не забытые чужие мифы, Не скрижали дикого Синая — Слабая рука, а в ней другая. Чтобы знали дети легкой неги О неупомянутой победе Просто человеческого сердца Не над человеком, но над смертью. Так напрасно все ветра пытались Разлучить хладеющие пальцы. Быстрый выстрел или всхлипы двери, Но в потере не было потери. Мы детьми играли на могиле. Умирая, мы еще любили. Стала смерть задумчивой улыбкой На лице блаженной Суламиты[158]. Сан-Идельсбад, август 1921«О горе, горе убежавшим с каторги!..»
О горе, горе убежавшим с каторги! Их манят вновь отринутые льды. И кто средь равноденствия экватора Не помянёт священной баланды? И кто на Пикадилли баров вишенье, Златые грозди самой легкой лжи Не даст за эту все еще небывшую, Уже как бы нежизненную жизнь? В какой передпещерный век отброшенный Иль прыгнувший в тридцатый, крайний край, Ты, арестант, перебирай горошины И на гармошке марш веков играй. На девочке дешевенькая ленточка, Пустая соска и приписка «Цель», И смотрит любопытная Вселенная На эту гробовую колыбель. Благословенны разные, но близкие, Враги, познавшие ярмо одно — Чудовищное Эльдорадо выстрадать В чумной столице им одним дано. И горе нам в обетованных выселках! Ах, тяжек сброшенный на землю груз, И в сердце всё ж, огнем российским высечен, Не зарастает каторжника туз. Брюссель, сентябрь 1921«Тяжелы несжатые поля…»
Тяжелы несжатые поля, Золотого века полнокровье. Чем бы стала ты, моя земля, Без опустошающей любови? Да, любовь, и до такой тоски, Что в зените леденеет сердце, Вместо глаз кровавые белки Смотрят в хаотические сферы. Закипает глухо желчь земли, Веси заливает бунта лава, И горит Нерукотворный Лик, Падает порфировая слава. О, я тоже пил твое вино! Ты глаза потупила, весталка[159], Проливая в каменную ночь Первые разрозненные залпы. 1922«Тело нежное строгает стругом…»
Тело нежное строгает стругом, И летит отхваченная бровь, Стружки снега, матерная ругань, Голубиная густая кровь. За чужую радость эти кубки. Разве о своей поведать мог, На плече, как на голландской трубке, Выгрызая черное клеймо? И на Красной площади готовят Этот теплый корабельный лес — Дикий шкипер[160] заболел любовью К душной полноте ее телес. С топором такою страстью вспыхнет, Так прекрасен пурпур серебра, Что выносят замертво стрельчиху, Повстречавшую глаза Петра. Сколько раз в годину новой рубки Обжигала нас его тоска И тянулась к трепетной голубке Жадная, горячая рука. Бьется в ярусах чужое имя. Красный бархат ложи, и темно. Голову любимую он кинет На обледенелое бревно. 1922«Ты Канадой запахла, Тверская…»
Ты Канадой запахла, Тверская. Снегом скрипнул суровый ковбой. Никого, и на скрип отвечает Только сердца чугунного бой. Спрятан золота слиток горячий. Часовых барабанная дробь. Ах, девчонки под мехом кошачьим Тяжела загулявшая кровь! Прожужжали мохнатые звезды, Рукавицей махнул и утих. Губы пахнут смолой и морозом. От любви никому не уйти. Санки — прямо в метельное небо. Но нельзя оглянуться назад, Где всё ближе и ближе средь снега Кровянеют стальные глаза. Дух глухого звериного рая Распахнувшейся шубкой обжег. А потом пусть у стенки оттает Голубой предрассветный снежок. 1922«Какой прибой растет в угрюмом сердце…»
Какой прибой растет в угрюмом сердце, Какая радость и тоска, Когда чужую руку хоть на миг удержит Моя горячая рука! Огромные, прохладные, сухие — Железо и церковный воск — И скрюченные в смертной агонии, И жалостливые до слез. Привить свою любовь! И встречный долго Стоит, потупивши глаза, — Вбирает сок соленый и тяжелый Обогащенная лоза. 1922«Стали сны единой достоверностью…»
Стали сны единой достоверностью. Два и три — таких годов орда. На четвертый (кажется, что Лермонтов) — Это злое имя «Кабарда». Были же веснушчатые истины: Мандарином веяла рука. Каменные базилúки лиственниц, Обитаемые облака. И какой-то мост в огромном городе — Звезды просто в водах, даже в нас. Всё могло бы завершиться легким шорохом — Зацепилась о быки волна. Но осталась горечь губ прикушенных, И любовь до духоты, до слез. Разве знали мы, что ночь с удушьями Тоже брошенный дугою мост? — От весны с черешневыми хлопьями, От любви в плетенке Фьезоле[161] — К этому холодному, чужому шлепанью По крутой занозливой земле. 1922«Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег…»
Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег. И Вестминстерское сердце скрипнуло сердито[162]. В синем жире стрелки хóленых «Омег» Подступали к тихому зениту. Прыгало тустепом[163] юркое «люблю». Стал пушинкой Арарата камень. Радугой кривая ввоза и валют Встала над замлевшими материками. Репарации петит и выпот будних дней. И никто визиток сановитых не заденет. И никто не перережет приводных ремней Нормированных совокуплений. Но Любовь — сосед и миф — Первые глухие перебои, Столкновенье диких цифр И угрюмое цветенье зверобоя. Половина первого. Вокзальные пары. На Пинеге снег. Среди трапеций доллар. Взрыв. Душу настежь. Золото и холод. Только ты, мечта, не суесловь — Это ведь всегда бывает больно. И крылатым зимородком древняя любовь Бьется в чадной лапе Равашоля[164]. Это не гудит пикардская земля[165] Гудом императорского марша. И не плещет нота голубятника Кремля — Чудака, обмотанного шарфом. Это только тишина и жар, Хроника участков, крохотная ранка. Но, ее узнав, по винограднику, чумея и визжа, Оглушенный царь метался за смуглянкой[166]. Это только холодеющий зрачок И такое замедление земного чина, Что становится музейным милое плечо, Пережившее свою Мессину[167]. 1922«Что седина? Я знаю полдень смерти…»
Что седина? Я знаю полдень смерти — Звонарь блаженный звоном изойдет, Не раскачнув земли глухого сердца, И виночерпий чаши не дольет. Молю, — о Ненависть, пребудь на страже! Среди камней и рубенсовских тел, Пошли и мне неслыханную тяжесть, Чтоб я второй земли не захотел. 1922«…И кто в сутулости отмеченной…»
…И кто в сутулости отмеченной, В кудрях, где тишина и гарь, Узнает только что ушедшую От дремы теплую Агарь[168]. И в визге польки недоигранной, И в хрусте грустных рук — такой — Всю жизнь с неистовым эпиграфом И с недодышанной строкой. Ей толп таинственные выплески, И убыль губ, и юбок скрип — Аравия, и крики сиплые Огромной бронзовой зари. Как стянут узел губ отринутых! Как бьется сеть упругих жил! В руках какой обидой выношен Жестковолосый Измаил! О, в газовом вечернем вереске Соборную ты не зови, Но выпей выдох древней ереси Неутоляющей любви! 1922«Что любовь? Нежнейшая безделка…»
Что любовь? Нежнейшая безделка. Мало ль жемчуга и серебра? Милая, я в жизни засиделся, Обо мне справляются ветра. Видя звезд пленительный избыток, Я к земле сгибаюсь тяжело — На горбу слепого следопыта Прорастает темное крыло. И меня пугает равнодушье. Это даже не былая боль, А над пестрым ворохом игрушек Звездная рождественская соль. Но тебя я не могу покинуть! Это — голову назад — еще! — В землю уходящей Прозерпины Пахнущее тополем плечо. Но твое дыханье в диком мире — Я ладонью заслонил — дыши! — И никто не снимет этой гири С тихой загостившейся души. 1922«Когда замолкнет суесловье…»
Когда замолкнет суесловье, В босые тихие часы, Ты подыми у изголовья Свои библейские весы. Запомни только — сын Давидов — Филистимлян[169] я не прощу. Скорей свои цимбалы выдам, Но не разящую пращу. Ты стой и мерь глухие смеси, Учи неистовству, пока Не обозначит равновесья Твоя державная рука. Но неизбывна жизни тяжесть: Слепое сердце дрогнет вновь, И перышком на чашу ляжет Полузабытая любовь. 1922«Нежное железо — эти скрепы…»
Нежное железо — эти скрепы, Даже страсть от них изнемогла. Каждый вздох могильной глиной лепок, Топки шепоты, и вязок глаз. Чтоб кружиться карусельным грифом, Разлетевшись — прискакать назад. В каждой родинке такие мифы, Что и в ста томах не рассказать. Знаешь этих просыпаний смуту, Эти шорохи и шепотá? — Ведь дыханье каждую минуту Может убежать за ворота. Двух сердец такие замиранья. Залпы перекрестные и страх, Будто салютуют в океане Погибающие крейсера. Как же должен биться ток багряный, Туго стянутый в узлы висков, Чтоб любовь, надышанная за ночь, Не смешалась с роем облаков? 1922«Не мы придумываем казни…»
Не мы придумываем казни, Но зацепилось колесо — И в жилах кровь от гнева вязнет, Готовая взорвать висок. И чтоб душа звериным пахла — От диких ливней — в темноту — Той нежности густая нахлынь Почти соленая во рту. И за уступками — уступки. И разве кто-нибудь поймет, Что эти соты слишком хрупки И в них не уместится мед? Пока, как говорят, «до гроба», — Средь ночи форточку открыть, И обрасти подшерстком злобы, Чтоб о пощаде не просить. И всё же, зная кипь и накипь И всю беспомощность мою, — Шершавым языком собаки Расписку верности даю. 1922«Заезжий двор. Ты сердца не щади…»
Заезжий двор. Ты сердца не щади И не суди его — оно большое. И кто проставит на моей груди: «Свободен от постоя»[170]? И кто составит имя на снегу Из букв раскиданных, из рук и прозвищ? Но есть ладони — много губ Им заменяло гвозди[171]. Столь невеселая веселость глаз, Сутулость вся — тяжелая нагрузка, — Приметы выгорят дотла, И уж, конечно, трубка. Одна зазубрина, ущербный след, И глубже всех изданий сотых — На зацелованной земле Вчерашние заботы. Я даже умираю впопыхах, И пахнет нежностью примятый вереск — Парная розоватая тропа Подшибленного зверя. 1922«„Аврора“ дулась, дулась и река…»
«Аврора» дулась, дулась и река, Был бог салопницы навек отобран, Веселый зверь позевывал слегка И ударял хвостом державы ребра. Когда ж повис над Вислою-рекой, Неотвратимый, как любовь и голод, Запахло конским потом и тоской Кремлевского ученого монгола[172]. Средь гуда «Ундервудов»[173], гроз и поз, Под верным коминтерновым киотом — Рябая харя выставляла нос, И слышалась утробная икота. Ему не нужно византийских слав, Он знает меди сплав и прах сиротства, Он общипал парадного орла Со всей находчивостью домоводства. А после — окопались, улеглись. Скуластая земля захолодела. И можно ль за какой-нибудь маис Отдать тоску такого передела? Ты о корысти мне не говори! — Пусть у кремлевских стен могильный ельник, На полчаса кабацкий материк Напоминал великую молельню. 1922«Остановка. Несколько примет…»
Остановка. Несколько примет. Расписанье некоторых линий. Так одно из этих легких лет Будет слишком легким на помине. Где же сказано — в какой графе, На каком из верстовых зарубка, Что такой-то сиживал в кафе И дымил недодымившей трубкой? Ты ж не станешь клеверá сушить, Чиркать ногтем по полям романа. Это — две минуты, и в глуши Никому не нужный полустанок. Даже грохот катастроф забудь: Это — задыханья, и бураны, И открытый стрелочником путь Слишком поздно или слишком рано. Вот мое звериное тепло, Я почти что от него свободен. Ты мне руку положи на лоб, Чтоб услышать, как оно уходит. Есть в тебе льняная чистота, И тому, кому не нужно хлеба, — Три аршина грубого холста На его последнюю потребу. 1922«Так умирать, чтоб бил озноб огни…»
Так умирать, чтоб бил озноб огни, Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский: «Ну, ты, угомонись, уймись, никшни», — Прошамкал мамкой ветровому сердцу, Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать Ремень окна, чтоб не было «останься», Чтоб, умирая, о тебе гадать По сыпи звезд, по лихорадке станций, — Так умирать, понять, что гам и чай, Буфетчик, вечный розан на котлете, Что это — смерть, что на твое «Прощай!» Уж мне никак не суждено ответить. 1923«Жалко в жизни мне еще дождя…»
Жалко в жизни мне еще дождя. Тихо он на цыпочках разгуливал. Косенький, зеленый, в гости заходя, Заставал врасплох, гонял по улицам. Тротуары полотером тер, Прыскал, фыркал, наметавши, ласковый, В комнату черемуховый вздор, Он глаза мечтою ополаскивал. Из трамвая делал птичий гам. Обдавал шкафы листом смородины. Был такой, чтоб целоваться нам, Чтобы никогда не распогодилось. Вел чечеткой свой любовный счет. Заставлял средь книжек, шпилек, наволок, Таволгою отдавать плечо И зрачкам захлебываться паводком. Падал, прядал, прятался от нас, Чтоб с сестрой его, как он, обманчивой, Выбежавшей из счастливых глаз, Я б и в ясную погоду нянчился. 1923«Я так любил тебя — до грубых шуток…»
Я так любил тебя — до грубых шуток И до таких пронзительных немот, Что даже дождь стекло и ветки путал, Не мог найти каких-то нужных нот. Так только варвар, бросивший на форум Косматый запах крови и седла, Богинь оледенивший волчьим взором Занеженные зябкие тела, Так только варвар, конь чей, дико пенясь, Ветрами заальпийскими гоним, Копытом высекал из сердца пленниц Источники чистительные нимф, И после, приминая мех медвежий, Гортанным храпом плача и шутя, Так только варвар пестовал и нежил Диковинное южное дитя. Так я тебя, без музыки, без лавра, Грошовую игрушку смастерил, Нет, не на радость, как усталый варвар, Ныряя в ночь, большую, без зари. 1923«Там телеграф и рахитик-подсолнечник…»
Там телеграф и рахитик-подсолнечник, Флюс у дежурного, в одури, в мякоти, Храп аппарата, собака, до полночи Можно заполнить листок и расплакаться. Слезы врастут, станут памятью, матрицей, Проволок током, звонком неожиданным. Эту тоску с перепутанным адресом Ты не узнаешь, ты примешь за выдумку. Ты же была «на чаек» или краденой. Вместо тебя пересадки, попутчики. Муха брюзжит над оплывшей говядиной Всё о таком же, мушином, умученном. Руки отучатся миловать милую, Станут дорожными верстами, веслами. Сердце хотело еще одну вылазку, Ты мне ответила: надо быть взрослыми! Что же прибавить мне к дребезгу чайника, К мухе и к флюсу, чтоб ты не оставила, Чтоб ты узнала походку отчаяния В каждом нажиме ленивого клавиша? Если ж не станет дыханья от нежности, В зале, махоркой и кашлем замаянном, Трубка, упавшая на пол, по-прежнему Будет дымить еще после хозяина. Нудный дежурный все жалобы выдавит, Капнув на зуб, чтобы ты отозвалася, Чтобы тебя, что далёко, за тридевять, Как-нибудь вызволить, вызвать, разжалобить. 1923«Хотеть его. Чем реже крови дробь…»
Хотеть его. Чем реже крови дробь, Чем гуще муть в пивном стеклянном глазе, Чем сердце чаще, клячей меж оглобль, Захлестанное, грохается наземь, В слезах и чванясь, будто глупый бурш, Когда летит на кегельбане сверстник, Чем мне ясней, что из таких цезур Одна окажется моей же смертью, — Тем всё сильней хотеть его. Любовь — Она наутро снимется, как табор. Твоя нигде не вытравлена бровь, И этот поцелуй никем еще не набран. Так даром жизнь и пропит целый свет, Как в подворотне штоф, взасос и кончен. Не мне достался этот теплый бред Средь розовых грудей земных поденщиц. Я ночью вскакиваю: нет, не мой! Семь этажей. Чужое счастье плачет. Он где-то есть, и ждут его домой, Он шавкой под ноги, он в горе — мячик. В игрушечьем миру, средь снежных баб, Он в плюше хроменького медвежонка, Он мог бы быть, и прятаться за шкаф, И плакать оттого, что там потемки. Он мог бы в этих номерах кричать Средь багажа, звонков, чаев, приезжих И каждой родинкой напоминать О том, как я тебя любил и нежил. 1923Стихи (1938–1948)
«Сердце, это ли твой разгон?..»
Сердце, это ли твой разгон? Рыжий, выжженный Арагон[174]. Нет ни дерева, ни куста, Только камень и духота. Всё отдать за один глоток! Пуля — крохотный мотылек. Надо выползти, добежать. Как звала тебя в детстве мать? Красный камень. Дым голубой. Орудийный короткий бой. Пулеметы. Потом тишина. Здесь я встретил тебя, война. Одурь полдня. Глубокий сон. Край отчаянья, Арагон. 1939«Парча румяных жадных богородиц…»
Парча румяных жадных богородиц, Эскуриала грузные гроба. Века по каменной пустыне бродит Суровая испанская судьба. На голове кувшин. Не догадаться, Как ноша тяжела. Не скажет цеп О горе и о гордости батрацкой, Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб. И если смерть теперь за облаками, Безносая, она земле не вновь. Она своя, и знает каждый камень Осколки глины, человека кровь. Ослы кричат. Поет труба пастушья. В разгаре боя, в середине дня, Вдруг смутная улыбка равнодушья, Присущая оливам и камням. 1939Бой быков
Зевак восторженные крики Встречали грузного быка. В его глазах, больших и диких, Была глубокая тоска. Дрожали дротики обиды. Он долго поджидал врага, Бежал на яркие хламиды И в пустоту вонзал рога. Не понимал — кто окровавил Пустынь горячие пески, Не знал игры высоких правил И для чего растут быки. Но ни налево, ни направо, — Его дорога коротка. Зеваки повторяли «браво» И ждали нового быка. Я не забуду поступь бычью, Бег напрямик томит меня, Свирепость, солнце и величье Сухого, каменного дня. 1939«Тогда восстала горная порода…»
Тогда восстала горная порода, Камней нагроможденье и сердец, Медь Рио-Тинто[175] бредила свободой, И смертью стал Линареса свинец. Рычали горы, щерились долины, Моря оскалили свои клыки, Прогнали горлиц гневные маслины, Седой листвой прикрыв броневики, Кусались травы, ветер жег и резал, На приступ шли лопаты и скирды, Узнали губы девушек железо, В колодцах мертвых не было воды, И вся земля пошла на чужеземца: Коренья, камни, статуи, пески, Тянулись к танкам нежные младенцы, С гранатами дружили старики, Покрылся кровью булочника фартук, Огонь пропал, и вскинулось огнем Всё, что зовут Испанией на картах, Что мы стыдливо воздухом зовем. 1939В Барселоне
На Рамбле[176] возле птичьих лавок Глухой солдат — он ранен был — С дроздов, малиновок и славок Глаз восхищенных не сводил. В ушах его навек засели Ночные голоса гранат. А птиц с ума сводили трели, И был щеглу щегленок рад. Солдат, увидев в клюве звуки, Припомнил звонкие поля, Он протянул к пичуге руки, Губами смутно шевеля. Чем не торгуют на базаре? Какой не мучают тоской? Но вот, забыв о певчей твари, Солдат в сердцах махнул рукой. Не изменить своей отчизне, Не вспомнить, как цветут цветы, И не отдать за щебет жизни Благословенной глухоты. 1939«Горят померанцы, и горы горят…»
Горят померанцы, и горы горят. Под ярким закатом забытый солдат. Раскрыты глаза, и глаза широки, Садятся на эти глаза мотыльки. Натертые ноги в горячей пыли, Они еще помнят, куда они шли. В кармане письмо — он его не послал. Остались патроны, не все расстрелял. Он в городе строил большие дома, Один не достроил. Настала зима. Кого он лелеял, кого он берег, Когда петухи закричали не в срок, Когда закричала ночная беда И в темные горы ушли города? Дымились оливы. Он шел под огонь. Горела на солнце сухая ладонь. На Сьерра-Морена[177] горела гроза. Победа ему застилала глаза. Раскрыты глаза, и глаза широки, Садятся на эти глаза мотыльки. 1939У Брунете
В полдень было — шли солдат ряды. В ржавой фляжке ни глотка воды. На припеке, — а уйти нельзя, — Обгорали мертвые друзья. Я запомнил несколько примет: У победы крыльев нет как нет, У нее тяжелая ступня, Пот и кровь от грубого ремня, И она идет, едва дыша, У нее тяжелая душа, Человека топчет, как хлеба, У нее тяжелая судьба. Но крылатой краше этот пот, Чтоб под землю заползти, как крот, Чтобы руки, чтобы ружья, чтобы тень Наломать, как первую сирень, Чтобы в яму, к черту, под откос, Только б целовать ее взасос![178] 1939«„Разведка боем“ — два коротких слова…»
«Разведка боем» — два коротких слова. Роптали орудийные басы, И командир поглядывал сурово На крохотные дамские часы. Сквозь заградительный огонь прорвались, Кричали и кололи на лету. А в полдень подчеркнул штабного палец Захваченную утром высоту. Штыком вскрывали пресные консервы. Убитых хоронили как во сне. Молчали. Командир очнулся первый: В холодной предрассветной тишине, Когда дышали мертвые покоем, Очистить высоту пришел приказ. И, повторив слова: «Разведка боем», Угрюмый командир не поднял глаз. А час спустя заря позолотила Чужой горы чернильные края. Дай оглянуться — там мои могилы, Разведка боем, молодость моя! 1939«Батарею скрывали оливы …»
Батарею скрывали оливы. День был серый, ползли облака. Мы глядели в окно на разрывы, Говорили, что нет табака. Говорили орудья сердито, И про горе был этот рассказ. В доме прыгали чашки и сита, Штукатурка валилась на нас. Что здесь делают шкаф и скамейка, Эти кресла в чехлах и комод? Даже клетка, а в ней канарейка, И, проклятая, громко поет. Не смолкают дурацкие трели. Стоит пушкам притихнуть — поет. Отряхнувшись, мы снова глядели: Перелет, недолет, перелет. Но не скрою — волненье пичуги До меня на минуту дошло, И тогда я припомнил в испуге Бредовóе мое ремесло: Эта спазма, что схватит за горло, Не отпустит она до утра, — Сколько чувств доконала, затерла Слов и звуков пустая игра! Канарейке ответила ругань, Полоумный буфет завизжал, Показался мне голосом друга Батареи запальчивый залп. 1939«В кастильском нищенском селенье…»
В кастильском нищенском селенье, Где только камень и война, Была та ночь до одуренья Криклива и раскалена. Артиллерийской подготовки Гроза гремела вдалеке. Глаза хватались за винтовки, И пулемет стучал в виске. А в церкви — экая морока! — Показывали нам кино. Среди святителей барокко Дрожало яркое пятно. Как камень, сумрачны и стойки, Молчали смутные бойцы. Вдруг я услышал — русской тройки Звенели лихо бубенцы, И, памятью меня измаяв, Расталкивая всех святых, На стенке бушевал Чапаев, Сзывал живых и неживых. Как много силы у потери! Как в годы переходит день! И мечется по рыжей сьерре Чапаева большая тень. Земля моя, земли ты шире, Страна, ты вышла из страны, Ты стала воздухом, и в мире Им дышат мужества сыны. Но для меня ты — с колыбели Моя земля, родимый край, И знаю я, как пахнут ели, С которыми дружил Чапай. 1939«Нет, не забыть тебя, Мадрид…»
Нет, не забыть тебя, Мадрид, Твоей крови, твоих обид. Холодный ветер кружит пыль. Зачем у девочки костыль? Зачем на свете фонари? И кто дотянет до зари? Зачем живет Карабанчель[179]? Зачем пустая колыбель? И сколько будет эта мать Не понимать и обнимать? Раскрыта прямо в небо дверь, И, если хочешь, в небо верь, А на земле клочок белья, И кровью смочена земля. И пушки говорят всю ночь, Что не уйти и не помочь, Что зря придумана заря, Что не придут сюда моря, Ни корабли, ни поезда, Ни эта праздная звезда. 1939«В городе брошенных душ и обид…»
В городе брошенных душ и обид Горе не спросит и ночь промолчит. Ночь молчалива, и город уснул. Смутный доходит до города гул: Это под темной больной синевой Мертвому городу снится живой, Это проходит по голой земле Сон о веселом большом корабле, Ветер попутен, и гавань тесна, В дальнее плаванье вышла весна. Люди считают на мачтах огни; Где он причалит, гадают они. В городе горе, и ночь напролет Люди гадают, когда он придет. Ветер вздувает в ночи паруса. Мертвые слышат живых голоса. 1939У Эбро
На ночь глядя выслали дозоры. Горя повидали понтонёры. До утра стучали пулеметы, Над рекой[180] сновали самолеты, С гор, раздроблены, сползали глыбы, Засыпали, проплывая, рыбы, Умирая, подымались люди, Не оставили они орудий, И зенитки, заливаясь лаем, Били по тому, что было раем. Другом никогда не станет недруг, Будь ты, ненависть, густой и щедрой, Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба, Чтобы не было над ними неба, Чтоб не ластились к ним дома звери, Чтоб не знать, не говорить, не верить, Чтобы мудрость нас не обманула, Чтобы дулу отвечало дуло, Чтоб прорваться с боем через реку К утреннему, розовому веку. 1939«Молча — короткий привал…»
Молча — короткий привал — Ночью ее целовал, И не на ласку был скуп Жар запечатанных губ. Молча и до дурноты Утром глядел на цветы, Молча курил он табак, Молча он гладил собак, И суетился у ног Теплый мохнатый щенок. С ним говорила трава. Где потерял он слова? Вот истребитель идет, Скажет свое пулемет, Летчик глядит и молчит: Нет языка у обид. Громкая ночь жестокá, Нет у нее языка. 1939Русский в Андалузии
Гроб несли по розовому щебню, И труба унылая трубила. Выбегали на шоссе деревни, Подымали грабли или вилы. Музыкой встревоженные птицы, Те свою высвистывали зорю. А бойцы, не смея торопиться, Задыхались от жары и горя. Прикурить он больше не попросит, Не вздохнет о той, что обманула. Опускали голову колосья, И на привязи кричали мулы. А потом оливы задрожали, Заступ землю жесткую ударил. Имени погибшего не знали, Говорили коротко «товарищ». Под оливами могилу вырыв, Положили на могиле камень. На какой земле товарищ вырос? Под какими плакал облаками? И бойцы сутулились тоскливо, Отвернувшись, сглатывали слезы. Может быть, ему милей оливы Простодушная печаль березы? В темноте все листья пахнут летом, Все могилы сиротливы ночью. Что придумаешь просторней света, Человеческой судьбы короче? 1939Гончар в Хаэне
Где люди ужинали — мусор, щебень, Кастрюли, битое стекло, постель, Горшок с сиренью, а высоко в небе Качается пустая колыбель. Железо, кирпичи, квадраты, диски, Разрозненные смутные куски. Идешь — и под ногой кричат огрызки Чужого счастья и чужой тоски. Каким мы прежде обольщались вздором! Что делала, что холила рука? Так жизнь, ободранная живодером, Вдвойне необычайна и дика. Портрет семейный — думали про сходство. Загадывали, чем обить диван. Всей оболочки грубое уродство Навязчиво, как муха, как дурман. А за углом уж суета дневная, От мусора очищен тротуар, И в глубине прохладного сарая Над глиной трудится старик-гончар. Я много жил, я ничего не понял, И в изумлении гляжу один, Как, повинуясь старческой ладони, Из темноты рождается кувшин.[181] 1939«Крепче железа и мудрости глубже…»
Крепче железа и мудрости глубже Зрелого сердца тяжелая дружба. В море встречаясь и бури изведав, Мачты заводят простые беседы. Иволга с иволгой сходятся в небе, Дивен и дик их загадочный щебет. Медь не уйдет от дыханья горниста, Мертвый, живых поведет он на приступ. Не говори о тяжелой потере: Если весло упирается в берег, Лодка отчалит и, чуждая грусти, Будет качаться, как люлька, — до устья. 1939«Сбегают с гор, грозят и плачут…»
Сбегают с гор, грозят и плачут, Стреляют, падают, ползут. Рассохся парусник рыбачий, И винодел срубил лозу. Закутанные в одеяла, Посты застыли начеку. Война сердца освежевала И выпустила в ночь тоску. Рука пощады не попросит. Слова врага не обелят. Зовут на выручку колосья, Родные жадные поля. Суров и грозен боя воздух, И пулемета голос лют. А упадешь — земля и звезды, И путь один — как кораблю. 1939«Бомбы осколок. Расщеплены двери…»
Бомбы осколок. Расщеплены двери. Всё перепуталось — боги и звери. Груди рассечены, крылья отбиты, Праздно зияют глазные орбиты. Ломкий, истерзанный, раненый камень Невыносим и назойлив, как память. (Что в нас от смутного детства осталось, Если не эта бесцельная жалость?) В полуразрушенном брошенном зале Беженцы с севера заночевали. Средь молчаливых торжественных статуй Стонут старухи и плачут ребята. Нимф и кентавров забытая драма — Только холодный поверженный мрамор. Но не отвяжется и не покинет Белая рана убитой богини. Грудь обнажив в простоте совершенства, Женщина бережно кормит младенца. Что ей ваятели? Созданы ею Хрупкие руки и нежная шея. Чмокают губы, и звук этот детский Нови невнятен в высокой мертвецкой. 1939В январе 1939
В сырую ночь ветра точили скалы. Испания, доспехи волоча, На север шла. И до утра кричала Труба помешанного трубача. Бойцы из боя выводили пушки. Крестьяне гнали одуревший скот. А детвора несла свои игрушки, И был у куклы перекошен рот. Рожали в поле, пеленали мукой И дальше шли, чтоб стоя умереть. Костры еще горели пред разлукой, Трубы еще не замирала медь. Что может быть печальней и чудесней? Рука еще сжимала горсть земли. В ту ночь от слов освобождались песни И шли деревни, будто корабли. 1939После…
Проснусь и сразу: не увижу я Ее, горячую и рыжую, Ее, сухую, молчаливую, Одну под низкою оливою, Не улыбнется мне приветливо Дорога розовыми петлями, Я не увижу горю почести, Заботливость и одиночество, Куэнку с красными обвалами И белую до рези Мáлагу, Ее тоску великодушную, Июль с игрушечными пушками, Мадрид, что прикрывал ладонями Детей последнюю бессонницу. 1939«Бои забудутся, и вечер щедрый…»
Бои забудутся, и вечер щедрый Земные обласкает борозды, И будет человек справлять у Эбро Обыкновенные свои труды. Всё зарастет — развалины и память, Зола олив не скажет об огне, И не обмолвится могильный камень О розовом потерянном зерне. Совьют себе другие гнезда птицы, Другой словарь придумает весна. Но вдруг в разгул полуденной столицы Вмешается такая тишина, Что почтальон, дрожа, уронит письма, Шоферы отвернутся от руля, И над губами высоко повиснет Вина оледеневшая струя. Певцы гитару от груди отнимут, Замрет среди пустыни паровоз, И молча женщина протянет сыну Патронов соты и надежды воск. 1939«Есть перед боем час — всё выжидает…»
Есть перед боем час — всё выжидает: Винтовки, кочки, мокрая трава. И человек невольно вспоминает Разрозненные, темные слова. Хозяин жизни, он обводит взором Свой трижды восхитительный надел, Всё, что вчера еще казалось вздором, Что второпях он будто проглядел. Как жизнь не дожита! Добро какое! Пора идти. А может, не пора?.. Еще цветут горячие левкои. Они цвели… Вчера… Позавчера… 1939«Не торопясь, внимательный биолог…»
Не торопясь, внимательный биолог Законы изучает естества. То был снаряда крохотный осколок, И кажется, не дрогнула листва. Прочтут когда-нибудь, что век был грозен, Страницу трудную перевернут И не поймут, как умирала озимь, Как больно было каждому зерну. Забыть чужого века созерцанье, Искусства равнодушную игру, Но только чье-то слабое дыханье Собой прикрыть, как спичку на ветру. 1939«О той надежде, что зову я вещей…»
О той надежде, что зову я вещей, О вспугнутой, заплаканной весне, О том, как зайчик солнечный трепещет На исцарапанной ногтем стене. (В Испании я видел, средь развалин, Рожала женщина, в тоске крича, И только бабочки ночные знали, Зачем горит оплывшая свеча.) О горе и о молодости мира, О том, как просто вытекает кровь, Как новый город в Заполярье вырос И в нем стихи писали про любовь, О трудном мужестве, о грубой стуже, Как отбивает четверти беда, Как сердцу отвечают крики ружей И как молчат пустые города, Как оживают мертвые маслины, Как мечутся и гибнут облака И как сжимает ком покорной глины Неопытная детская рука. 1939«На ладони — карта, с малолетства…»
На ладони — карта, с малолетства Каждая проставлена река, Сколько звезд ты получил в наследство, Где ты пас ночные облака. Был вначале ветер смертоносен, Жизнь казалась горше и милей. Принимал ты тишину за осень И пугался тени тополей. Отзвенели светлые притоки, Стала глубже и темней вода. Камень ты дробил на солнцепеке, Завоевывал пустые города. Заросли тропинки, где ты бегал, Ночь сиреневая подошла. Видишь — овцы будто хлопья снега, А доска сосновая тепла. 1939«Я знаю: будет золотой и долгий…»
Я знаю: будет золотой и долгий, Как мед густой, непроходимый полдень, И будут с гирями часы на кухне, В саду гудеть пчела и сливы пухнуть. Накроют к ужину, и будет вечер Такой же хрупкий и такой же вечный, И женский плач у гроба не нарушит Ни чина жизни, ни ее бездушья. 1939У приемника
Был скверный день, ни отдыха, ни мира. Угроз томительная хрипота, Все бешенство огромного эфира, Не тот обет, и жалоба не та. А во дворе, средь кошек и пеленок, Приемника перебивая вой, Кричал уродливый, больной ребенок, О стену бился рыжей головой, Потом ребенка женщина чесала, И, материнской гордостью полна, Она его красавцем называла, И вправду любовалась им она. Не зря я слепоту зову находкой. Тоску зажать, как мертвого птенца, Пройти своей привычною походкой От детских клятв до точки — до свинца. 1939«Ты тронул ветку, ветка зашумела…»
Ты тронул ветку, ветка зашумела. Зеленый сон, как молодость, наивен. Утешить человека может мелочь: Шум листьев или летом светлый ливень, Когда, омыт, оплакан и закапан, Мир ясен — весь в одной повисшей капле, Когда доносится горячий запах Цветов, что прежде никогда не пахли. …Я знаю всё — годов проломы, бреши, Крутых дорог бесчисленные петли. Нет, человека нелегко утешить! И всё же я скажу про дождь, про ветви. Мы победим. За нас вся свежесть мира, Все жилы, все побеги, все подростки, Всё это небо синее — на вырост, Как мальчика веселая матроска. За нас все звуки, все цвета, все формы, И дети, что, смеясь, кидают мячик, И птицы изумительное горло, И слезы простодушные рыбачек. 1939Монруж
Был нищий пригород, и день был сер, Весна нас выгнала в убогий сквер, Где небо призрачно, а воздух густ, Где чудом кажется сирени куст, Где не расскажет про тупую боль, Вся в саже, бредовáя лакфиоль, Где малышей сажают на песок И где тоска вгрызается в висок. Перекликались слава и беда, Росли и рассыпались города, И умирал обманутый солдат Средь лихорадки пафоса и дат. Я знаю, век, не изменить тебе, Твоей суровой и большой судьбе, Но на одну минуту мне позволь Увидеть не тебя, а лакфиоль, Увидеть не в бреду, а наяву Больную, золотушную траву.[182] 1939«Ногти ночи цвета крови…»
Ногти ночи цвета крови, Синью выведены брови, Пахнет мускусом крысиным, Гиацинтом и бензином, Носит счастье на подносах, Ищет утро, ищет небо, Ищет корку злого хлеба. В этот час пусты террасы, Спят сыры и ананасы, Спят дрозды и лимузины, Не проснулись магазины. Этот час — четвертый, пятый — Будет чудом и расплатой. Небо станет как живое, Закричит оно о бое, Будет нежен, будет жаден Разговор железных градин, Город, где мы умираем, Станет горем, станет раем. 1939«Жилье в горах как всякое жилье…»
Жилье в горах как всякое жилье: До ночи пересуды, суп и скука, А на веревке сушится белье, И чешется, повизгивая, сука. Но подымись — и сразу мир другой, От тысячи подробностей очищен, Дорога кажется большой рекой И кораблем убогое жилище. О, если б этот день перерасти И с высоты, средь тишины и снега, Взглянуть на розовую пыль пути, На синий дым последнего ночлега! Савойя, 1939«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе…»
Не здесь, на обломках, в походе, в окопе, Не мертвых опрос и не доблести опись. Как дерево, рубят товарища, друга. Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь! Работать средь выстрелов, виселиц, пыток И ночи крестить именами убитых. Победа погибших, и тысяч, и тысяч — Отлить из железа, из верности высечь — Отрублены руки, и, настежь отверсто, Не бьется, врагами расклевано, сердце. 1939«Сочится зной сквозь крохотные ставни…»
Сочится зной сквозь крохотные ставни. В беленой комнате темно и душно. В ослушников кидали прежде камни, Теперь и камни стали равнодушны. Теперь и камни ничего не помнят, Как их ломали, били и тесали, Как на заброшенной каменоломне Проклятый полдень жаден и печален. Страшнее смерти это равнодушье. Умрет один — идут, назад не взглянут. Их одиночество глушит и душит, И каждый той же суетой обманут. Быть может, ты, ожесточась, отчаясь, Вдруг остановишься, чтоб осмотреться, И на минуту ягода лесная Тебя обрадует. Так встанет детство: Обломки мира, облаков обрывки, Кукушка с глупыми ее годами, И мокрый мох, и земляники привкус, Знакомый, но нечаянный, как память. 1939«По тихим плитам крепостного плаца…»
По тихим плитам крепостного плаца Разводят незнакомых часовых. Сказать о возрасте? Уж сны не снятся, А книжка — с адресами неживых. Стоят, не шелохнутся часовые. Друзья редеют, и молчит беда. Из слов остались самые простые: Забота, воздух, дерево, вода. На мир гляжу еще благоговейней, Уж нет меня. Покоя тоже нет — Чужое горе липнет, как репейник, И я не в силах дать ему ответ. Хожу, твержу, ищу такое слово, Чтоб выразить всю тишину, всю боль — Чужого мне, родного часового С младенчества затверженный пароль. 1939«Есть в хаосе самóм высокий строй…»
Есть в хаосе самóм высокий строй, Тот замысел, что кажется игрой, И, может быть, начертит астроном Орбиту сердца, тронутого сном. Велик и дивен океана плач. У инея учился первый ткач. Сродни приливам и корням близка Обыкновенной женщины тоска. И есть закон для смертоносных бурь И для горшечника, кладущего глазурь, — То — ход страстей, и зря зовут судьбой Отлеты птиц иль орудийный бой. Художнику свобода не дана, Он слышит, что бормочет тишина, И, как лунатик, выйдя в темноту, Он осязает эту темноту. Не переставить звуки и цвета, Не изменить кленового листа. И дружбы горяча тяжелая смола, И вечен след от легкого весла. 1939«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос…»
Додумать не дай, оборви, молю, этот голос, Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась, Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума, Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать, Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол, Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал, Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то, Какая-то видимость точной, срочной работы, Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули, Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули. Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось. 1939«Верность — прямо дорога без петель…»
Верность — прямо дорога без петель, Верность — зрелой души добродетель, Верность — августа слава и дым, Зной, его не понять молодым, Верность — вместе под пули ходили, Вместе верных друзей хоронили. Грусть и мужество — не расскажу. Верность хлебу и верность ножу, Верность смерти и верность обидам, Бреда сердца не вспомню, не выдам. В сердце целься! Пройдут по тебе. Верность сердцу и верность судьбе. 1939«Самоубийцею в ущелье…»
Самоубийцею в ущелье С горы кидается поток, Ломает вековые ели И сносит камни, как песок. Скорей бы вниз! И дни и ночи, Не зная мира языка, Грозит, упорствует, грохочет. Так начинается река, Чтоб после плавно и лениво Качать рыбацкие челны И отражать то трепет ивы, То башен вековые сны. Закончится и наше время Среди лазоревых земель, Где садовод лелеет семя И мать качает колыбель, Где летний день глубок и долог, Где сердце тишиной полно И где с руки усталый голубь Клюет пшеничное зерно. 1939Дыхание
Мальчика игрушечный кораблик Уплывает в розовою ночь. Если паруса его ослабли, Может им дыхание помочь, То, что домогается и клянчит, На морозе обретает цвет, Одолеть не может одуванчик И в минуту облетает свет, То, что крепче мрамора победы, Хрупкое, не хочет уступать, О котором бредит напоследок Зеркала нетронутая гладь. 1939«Как восковые, отекли камельи…»
Как восковые, отекли камельи. Расина декламируют дрозды. А ночью невеселое веселье И ядовитый изумруд звезды. В туманной суете угрюмых улиц Еще у стоек поят голытьбу, А мудрые старухи уж разулись, Чтоб легче спать в игрушечном гробу. Вот рыболов с улыбкою беззлобной Подводит жизни прожитой итог, И кажется мне лилией надгробной В летейских водах праздный поплавок. Домов не тронут поздние укоры, Не дрогнут до рассвета фонари. Смотри — Парижа путевые сборы. Опереди его, уйди, умри! 1939«Когда подымается солнце и птицы стрекочут…»
Когда подымается солнце и птицы стрекочут, Шахтеры уходят в глубокие вотчины ночи. Упрямо вгрызаясь в утробу земли рудоносной, Рука отбивает у смерти цветочные вёсны. От сварки страстей, от металла, что смутен и труден, — Топор дровосека и ропот тяжелых орудий. Леса уплывают, деревьев зеленых и рослых Легки корабельные мачты и призрачны весла. На веслах дойдешь ты до луга. Средь мяты горячей Осколок снаряда и старая женщина плачет. Горячие зерна опять возвращаются в землю, Притихли осины, и жадные ласточки дремлют. 1939«Всё простота: стекольные осколки…»
Всё простота: стекольные осколки, Жар августа и духота карболки, Как очищают от врага дорогу, Как отнимают руку или ногу. Умом мы жили и пустой усмешкой, Не знали, что закончим перебежкой, Что хрупки руки и гора поката, Что договаривает всё граната. Редеет жизнь, и утром на постое Припоминаешь самое простое: Не ревность, не заносчивую славу — Песочницу, младенчества забаву. Распались формы, а песок горячий Ни горести не знает, ни удачи. Осталась жизни только сердцевина: Тепло руки и синий дым овина, Луга туманные и зелень бука. Высокая военная порука — Не выдать друга, не отдать без боя Ни детства, ни последнего покоя. 1939«Я должен вспомнить — это было…»
Я должен вспомнить — это было: Играли в прятки облака, Лениво теплая кобыла Выхаживала сосунка, Кричали вечером мальчишки, Дожди поили резеду, И мы влюблялись понаслышке В чужую трудную беду. Как годы обернулись в даты? И почему в горячий день Пошли небритые солдаты Из ошалелых деревень? Живи хоть час на полустанке, Хоть от свистка и до свистка. Оливой прикрывали танки В Испании. Опять тоска. Опять несносная тревога Кричит над городом ночным. Друзья, перед такой дорогой Присядем, малость помолчим, Припомним всё, как домочадцы, — Ту резеду и те дожди, Чтоб не понять, не догадаться, Какое горе впереди. 1939«Говорит Москва»
Трибун на цоколе безумца не напоит, Не крикнут ласточки средь каменной листвы. И вдруг доносится, как смутный гул прибоя, Дыхание далекой и живой Москвы. Всем пасынкам земли знаком и вчуже дорог (Любуются на улиц легкие стежки) — Он для меня был нежным детством, этот город, Его Садовые и первые снежки. Дома кочуют[183]. Выйдешь утром, а Тверская Свернула за угол. Мостов к прыжку разбег. На реку корабли высокие спускают, И, как покойника, сжигают ночью снег. Иду по улицам, и прошлого не жалко. Ни сверстников, ни площади не узнаю. Вот только слушаю всё ту же речь с развалкой И улыбаюсь старожилу-воробью. Сердец кипенье: город взрезан, взорван, вскопан, А судьбы сыплются меж пальцев, как песок. И, слыша этот шум, покорно ночь Европы Из рук роняет шерсти золотой моток. 1939«Птица полевая…»
Птица полевая, Ты тоску спровадь. Нам судьба такая — Век провоевать. Разоряет гнезда Недруга рука. Застилают звезды Дыма облака. Не пытал я славы, Не искал врага. Вытоптала травы Не моя нога. Не на злой дороге В трудную страну, На своем пороге Встретил я войну. Тишина сурова. Ноша тяжела. Не сказав ни слова, За руку взяла. Золото июля. Голубой зенит. Кажется, не пуля, Но оса звенит. Тонкие осоки Говорят с судьбой Про покой глубокий. Про короткий бой. 1939«Чем расставанье горше и труднее…»
Чем расставанье горше и труднее, Тем проще каждодневные слова: Больного сердца праздные затеи. А простодушная рука мертва, Она сжимает трубку или руку. Глаза еще рассеянно юлят, И вдруг ныряет в смутную разлуку Как бы пустой, остекленелый взгляд. О, если бы словами, но не теми, — Быть может, взглядом, шорохом, рукой Остановить, обезоружить время И отобрать заслуженный покой! В той немоте, в той неуклюжей грусти — Начальная густая тишина, Внезапное и чудное предчувствие Глубокого полуденного сна. 1940«Нет, не зеницу ока и не камень…»
Нет, не зеницу ока и не камень, Одно я берегу: простую память. Так дерево — оно ветров упорней — Пускает в ночь извилистые корни. Пред чудом человеческой свободы Ничтожны версты и минута — годы, И сердце зрелое — тот мир просторный, Где звезды падают и всходят зерна. 1940«Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги…»
Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги. А у ноги хлопочут муравьи, И это — тоже мир, один из многих, Его не тронут горести твои. Как разгадать, о чем бормочет воздух? Зачем закат заночевал в листве? И если вечером взглянуть на звезды, Как разыскать себя в густой траве? 1940Париж, 1940
1. «Умереть и то казалось легче…»
Умереть и то казалось легче, Был здесь каждый камень мил и дорог. Вывозили пушки. Жгли запасы нефти. Падал черный дождь на черный город. Женщина сказала пехотинцу (Слезы черные из глаз катились): «Погоди, любимый, мы простимся», — И глаза его остановились. Я увидел этот взгляд унылый. Было в городе черно и пусто. Вместе с пехотинцем уходило Темное, как человек, искусство.2. «Не для того писал Бальзак…»
Не для того писал Бальзак. Чужих солдат чугунный шаг. Ночь навалилась, горяча. Бензин и конская моча. Не для того — камням молюсь — Упал на камень Делеклюз[184]. Не для того тот город рос, Не для того те годы гроз, Цветов и звуков естество, Не для того, не для того! Лежит расстрелянный без пуль. На голой улице патруль. Так люди предали слова, Траву так предала трава, Предать себя, предать других. А город пуст, и город тих, И тяжелее чугуна Угодливая тишина. По городу они идут, И в городе они живут, Они про город говорят, Они над городом летят, Чтоб ночью город не уснул, Моторов точен грозный гул. На них глядят исподтишка, И задыхается тоска. Глаза закрой и промолчи — Идут чужие трубачи. Чужая медь, чужая спесь. Не для того я вырос здесь!3. «Глаза погасли, и холод губ…»
Глаза погасли, и холод губ, Огромный город, не город — труп. Где люди жили, растет трава, Она приснилась и не жива. Был этот город пустым, как лес, Простым, как горе, и он исчез. Дома остались. Но никого. Не дрогнут ставни. Забудь его! Ты не забудешь, но ты забудь, Как руки улиц легли на грудь, Как стала Сена, пожрав мосты, Рекой забвенья и немоты.4. «Упали окон вековые веки…»
Упали окон вековые веки. От суеты земной отрешены, Гуляли церемонные калеки, И на луну глядели горбуны. Старухи, вытянув паучьи спицы, Прохладный саван бережно плели. Коты кричали. Умирали птицы. И памятники по дорогам шли. Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись. Был сер и нежен города скелет. Мы узнавали все суставы улиц, Все перекрестки юношеских лет. Часы не били. Стали звезды ближе. Пустынен, дик, уму непостижим, В забытом всеми, брошенном Париже Уж цепенел необозримый Рим.5. «Номера домов, имена улиц…»
Номера домов, имена улиц, Город мертвых пчел, брошенный улей. Старухи молчат, в мусоре роясь. Не придут сюда ни сон, ни поезд, Не придут сюда от живых письма, Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел. Люди не придут. Умереть поздно. В городе живут мрамор и бронза. Нимфа слез и рек, — тишина, сжалься! — Ломает в тоске мертвые пальцы, Маршалы, кляня века победу, На мертвых конях едут и едут, Мертвый голубок — что ему снится? — Как зерно, клюет глаза провидца. А город погиб. Он жил когда-то, Он бьется в груди забытых статуй.6. «Уходят улицы, узлы, базары…»
Уходят улицы, узлы, базары, Танцоры, костыли и сталевары, Уходят канарейки и матрацы, Дома кричат: «Мы не хотим остаться», А на соборе корчатся уродцы[185], Уходит жизнь, она не обернется. Они идут под бомбы и под пули, Лунатики, они давно уснули, Они идут, они еще живые, И перед ними те же часовые, И тот же сон, и та же несвобода, И в беге нет ни цели, ни исхода: Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде, И всё ж они идут, не камни — люди.7. «Над Парижем грусть. Вечер долгий…»
Над Парижем грусть. Вечер долгий. Улицу зовут «Ищу полдень». Кругом никого. Свет не светит. Полдень далеко, теперь вечер. На гербе корабль. Черна гавань. Его трюм — гроба, парус — саван. Не сказать «прости», не заплакать. Капитан свистит. Поднят якорь. Девушка идет, она ищет, Где ее любовь, где кладбúще. Не кричат дрозды. Молчит память. Идут, как слепцы, ищут камень. Каменщик молчит, не ответит, Он один в ночи ищет ветер. Иди, не говори, путь тот долгий, — Здесь весь Париж ищет полдень.8. «Как дерево в большие холода…»
Как дерево в большие холода, Ольха иль вяз, когда реки вода, Оцепенев, молчит и ходит вьюга, Как дерево обманутого юга, Что, к майскому готовясь торжеству, Придумывает сквозь снега листву, Зовет малиновок и в смертной муке Иззябшие заламывает руки, — Ты в эту зиму с ночью говоришь, Расщепленный, как старый вяз, Париж.Возле Фонтенбло
Обрывки проводов. Не позвонит никто. Как человек, подмигивает мне пальто. Хозяева ушли. Еще стоит еда. Еще в саду раздавленная резеда. Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья. Убитый будто спит. Смеется клок белья. Размолот камень, и расщеплен грустный бук. Леса без птиц, и нимфа дикая без рук. А в мастерской, средь красок, кружев и колец, Гранатой замахнулся на луну мертвец, И синевой припудрено его лицо. Как трудно вырастить простое деревцо! Опять развалины — до одури, до сна. Невыносимая чужая тишина. Скажи, неужто был обыкновенный день, Когда над детворой еще цвела сирень?[186] 1940«Где играли тихие дельфины…»
Где играли тихие дельфины, Далеко от зелени земли, Нарываясь по ночам на мины, Молча умирают корабли. Суматошливый, большой и хрупкий, Человек не предает мечты, Погибая, он спускает шлюпки, Скидывает сонные плоты, Синевой охваченный, он верит, Что земля любимая близка, Что ударится о светлый берег Легкая, как жалоба, доска. Видя моря горестную смуту, Средь ночи, измученной волной, Он еще в последнюю минуту Бредит берегом и тишиной. 1940Лондон
Не туманами, что ткали Парки, И не парами в зеленом парке, Не длиной, а он длиннее сплина, Не трезубцем моря властелина, Город тот мне новым горем дорог. По ночам я вижу черный город, Горе там сосчитано на тонны, В нежной сырости сирены стонут, Падают дома, и день печален Средь чужих уродливых развалин. Но живые из щелей выходят, Говорят, встречаясь, о погоде, Убирают с тротуаров мусор, Покупают зеркальце и бусы. Ткут и ткут свои туманы Парки. Зелены загадочные парки. И еще длинней печали версты, И людей еще темней упорство. 1940«Бродят Рахили, Хаимы, Лии…»
Бродят Рахили, Хаимы, Лии, Как прокаженные, полуживые, Камни их травят, слепы и глухи, Бродят, разувшись пред смертью, старухи, Бродят младенцы, разбужены ночью, Гонит их сон, земля их не хочет. Горе, открылась старая рана, Мать мою звали по имени — Хана. 1941«Всё за беспамятство отдать готов…»
Всё за беспамятство отдать готов, Но не забыть ни звуков, ни цветов, Ни сверстников, ни смутного ребячества (Его другие перепишут начисто). Вкруг сердцевины кольца наросли. Друзей всё меньше: вымерли, прошли. Сгребают сено девушки веселые, И запах сена веселит, как молодость. Всё те же лица, клятвы и слова: Так пахнет только мертвая трава. 1940«Рядила нас в путь обида…»
Рядила нас в путь обида От Пресни и до Мадрида. Не май мы нашли — маевку. Сжимали во сне винтовку. Хотели любить берлогу — Пришлось полюбить дорогу, И смолоду знали руки Про холод большой разлуки. Ревнива и зла победа До крика, до сна, до бреда, До ливней косых, как счастье, До дивной росы безучастья. 1940«Как эти сосны и строенья…»
Как эти сосны и строенья Прекрасны в зеркале пруда, И сколько скрытого волненья В тебе, стоячая вода! Кипят на дне глухие чувства, Недвижен темных вод покров, И кажется, само искусство Освобождается от слов. 1940«Белесая, как марля, мгла…»
Белесая, как марля, мгла Скрывает мира очертанье, И не растрогает стекла Мое убогое дыханье. Изобразил на нем мороз, Чтоб сердцу биться не хотелось, Корзины вымышленных роз И пальм былых окаменелость, Язык безжизненной зимы И тайны памяти лоскутной. Так перед смертью видим мы Знакомый мир, большой и смутный. 1940«В лесу деревьев корни сплетены…»
В лесу деревьев корни сплетены, Им снятся те же медленные сны, Они поют в одном согласном хоре, Зеленый сон, земли живое море. Но и в лесу забыть я не могу: Чужой реки на мутном берегу, Один как перст, непримирим и страстен, С ветрами говорит высокий ясень. На небе четок каждый редкий лист. Как, одиночество, твой голос чист! 1940«Был бомбой дом как бы шутя расколот…»
Был бомбой дом как бы шутя расколот. Убитых выносили до зари. И ветер подымал убогий полог, Случайно уцелевший на двери. К начальным снам вернулись мебель, утварь. Неузнаваемый, рождая страх, При свете дня торжественно и смутно Глядел на нас весь этот праздный прах. Был мертвый человек, стекла осколки, Зола, обломки бронзы, чугуна. Вдруг мы увидели на узкой полке Стакан и в нем еще глоток вина… Не говори о крепости порфира. Что уцелеет, если не трава, Когда идут столетия на выруб И падают, как ласточки, слова? 1940«Опять развалины, опять…»
Опять развалины, опять Огня и жалоб не унять. Расплата, говорят они, За дым, за ветреные дни, За сон одних, за кровь других, За каждый дом, за каждый стих. Опять холодная зола, И плач разбитого стекла, И та же девочка без ног, И тот же бисерный венок. За что ее? За век? За свет? За пять, как снег, коротких лет? И плачет мать, и всё опять. И не понять, и не принять. 1940«Кончен бой. Над горем и над славой…»
Кончен бой. Над горем и над славой В знойный полдень голубеет явор. Мертвого солдата тихо нежит Листьев изумительная свежесть. О деревья, мира часовые, Сизо-синие и голубые! Под тобой пастух играл на дудке, Отдыхал, тобой обласкан, путник. И к тебе, шутя, пришли солдаты. Явор счастья, убаюкай брата! 1940«Пред зрелищем небес, пред мира ширью…»
Пред зрелищем небес, пред мира ширью, Пред прелестью любого лепестка Мне жизнь подсказывает перемирье И тщится горю изменить рука. Как ласточки летают в поднебесье! Как тих и дивен голубой покров! Цветов и форм простое равновесье Приостанавливает ход часов. Тогда, чтоб у любви не засидеться, Я вспоминаю средь ночи огонь, Короткие гроба в чужой мертвецкой И детскую холодную ладонь. Глаза к огромной ночи приневолить, Чтоб сердце не разнежилось, грустя, Чтоб ненависть собой кормить и холить, Как самое любимое дитя. 1940«Рта и надбровья смутное строенье…»
Рта и надбровья смутное строенье, Все тени, что с младенчества легли, — Есть в человеке мастера волненье И тишина глубокая земли. Когда земля в опасности, бесстрашней К ней человек на выручку идет. Не отличить бойца от жадной пашни, И зерна гнева мечет пулемет. Где скошенные падали на землю И мертвые еще живых вели, Под светлым деревом победа дремлет, Как слепок с темной и большой земли. 1940«Потеют сварщики, дымятся домны…»
Потеют сварщики, дымятся домны, Всё высчитано — поле и полет, То век, как карлик с челюстью огромной, Огнем плюется и чугун жует. А у ворот хозяйские заботы: Тысячелетий, тот, что в поте, хлеб, Над трубами пернатые пилоты, И возле шлака яркий курослеп. А женщина младенца грудью кормит, Нема, приземиста и тяжела, Не помышляя о высокой форме, О торжестве расчета и числа. Мне не предать заносчивого века, Не позабыть, как в огненной ночи Стихии отошли от человека И циркуль вывел новые лучи. Но эта мать, и птицы в поднебесье, И пригорода дикая трава — Всё удивительное равновесье Простого и большого естества. 1940«Умрет садовник, что сажает семя…»
Умрет садовник, что сажает семя, И не увидит первого плода. О, времени обманчивое бремя! Недвижен воздух, замерла вода, Роса, как слезы, связана с утратой, Напоминает мумию кокóн, Под взглядом оживает камень статуй, И ящерицы непостижен сон. Фитиль уснет, когда иссякнет масло, Ветра сотрут ступни горячий след. Но нежная звезда давно погасла, И виден мне ее горячий свет. 1940«Не раз в те грозные, больные годы…»
Не раз в те грозные, больные годы, Под шум войны, средь нищенства природы, Я перечитывал стихи Ронсара, И волшебство полуденного дара, Игра любви, печали легкой тайна, Слова, рожденные как бы случайно, Законы строгие спокойной речи Пугали мир ущерба и увечий. Как это просто всё! Как недоступно! Любимая, дышать и то преступно… 1940Воздушная тревога
Что было городом — дремучий лес, И человек, услышав крик зловещий, Зарылся в ночь от ярости небес, Как червь слепой, томится и трепещет. Ему теперь и звезды невдомек, Глаза закрыты, и забиты ставни. Но вдруг какой-то беглый огонек — Напоминание о жизни давней. Кто тот прохожий? И куда спешит? В кого влюблен? Скажи ты мне на милость! Ведь огонька столь необычен вид, Что кажется — вся жизнь переменилась. Откинуть мишуру минувших лет, Принять всю грусть, всю наготу природы, Но только пронести короткий свет Сквозь темные, томительные годы! 1940«Города горят. У тех обид…»
Города горят. У тех обид Тонны бомб, чтоб истолочь гранит. По дорогам, по мостам, в крови, Проползают ночью муравьи, И летит, летит, летит щепа — Липы, ружья, руки, черепа. От полей исходит трупный дух. Псы не лают, и молчит петух, Только говорит про мертвый кров Рев больных, недоенных коров. Умирает голубая ель, И олива розовых земель, И родства не помнящий лишай Научился говорить «прощай», И на ста языках человек, Умирая, проклинает век. …Будет день, и прорастет она — Из костей, как всходят семена, — От сетей, где севера треска, До Сахары праздного песка, Всколосятся руки и штыки, Зашагают мертвые полки, Зашагают ноги без сапог, Зашагают сапоги без ног, Зашагают горя города, Выплывут утопшие суда, И на вахту встанет без часов Тень товарища и облаков. Вспомнит старое крапивы злость, Соком ярости нальется гроздь, Кровь проступит сквозь земли тоску, Кинется к разбитому древку, И труба поведает, крича, Сны затравленного трубача. 1940«О чем молчат Моравии леса…»
О чем молчат Моравии леса, Фиордов воды густо-голубые, Мадрида дым, альпийская роса И сизые Парижа мостовые? Как склянки затонувших кораблей, Как с гор, как говор улея, что вымер, Обходит мир пернатых и полей Короткое торжественное имя. Привет днепровской боевой воде, Лугам Рязани, залежам Урала. По василькам, по братству и руде Земля измученная стосковалась. Как веток бред, как рук взметенных хруст, На тысяче наречиях — надейся. Привет тебе, цветущий розы куст, Винтовка юного красноармейца! 1941«Замерзшее окно как глаз слепца…»
Замерзшее окно как глаз слепца. Я не забуду твоего лица. А на окне — зеленый стебелек, Всё, что от времени я уберег: В краю, где вьется легкая лоза, Зеленые туманные глаза. 19411941
Мяли танки теплые хлеба, И горела, как свеча, изба. Шли деревни. Не забыть вовек Визга умирающих телег, Как лежала девочка без ног, Как не стало на земле дорог. Но тогда на жадного врага Ополчились нивы и луга, Разъярился даже горицвет, Дерево и то стреляло вслед, Ночью партизанили кусты И взлетали, как щепа, мосты, Шли с погоста деды и отцы, Пули подавали мертвецы, И, косматые, как облака, Врукопашную пошли века. Шли солдаты бить и перебить, Как ходили прежде молотить, Смерть предстала им не в высоте, А в крестьянской древней простоте, Та, что пригорюнилась, как мать, Та, которой нам не миновать. Затвердело сердце у земли, А солдаты шли, и шли, и шли, Шла Урала темная руда, Шли, гремя, железные стада, Шел Смоленщины дремучий бор, Шел глухой, зазубренный топор, Шли пустые, тусклые поля, Шла большая русская земля. 1942Убей!
Как кровь в виске твоем стучит, Как год в крови, как счет обид, Как горем пьян и без вина, И как большая тишина, Что после пуль, и после мин, И в сто пудов, на миг один, Как эта жизнь — не ешь, не пей И не дыши — одно: убей! За сжатый рот твоей жены, За то, что годы сожжены, За то, что нет ни сна, ни стен, За плач детей, за крик сирен, За то, что даже образа Свои проплакали глаза, За горе оскорбленных пчел, За то, что он к тебе пришел, За то, что ты — не ешь, не пей, Как кровь в виске — одно: убей! 1942Ненависть
Ненависть — в тусклый январский полдень Лед и сгусток замершего солнца. Лед. Под ним клокочет река. Рот забит, говорит рука. Нет теперь ни крыльца, ни дыма, Ни тепла от плеча любимой, Ни калитки, ни лая собак, Ни тоски. Только лед и враг. Ненависть — сердца последний холод. Всё отошло, ушло, раскололось. Пуля от сердца сердце найдет, Чуть задымится розовый лед. 1942«Знакомые дома не те…»
Знакомые дома не те. Пустыня затемненных улиц. Не говори о темноте: Мы не уснули, мы проснулись. Избыток света в поздний час И холод нового познанья, Как будто третий, вещий глаз Глядит на рухнувшие зданья. Нет, ненависть — не слепота. Мы видим мир, и сердцу внове Земли родимой красота Средь горя, мусора и крови. 1942«Настанет день, скажи — неумолимо…»
Настанет день, скажи — неумолимо, Когда, закончив ратные труды, По улицам сраженного Берлина Пройдут бойцов суровые ряды. От злобы побежденных или лести Своим значением ограждены, Они ни шуткой, ни любимой песней Не разрядят нависшей тишины. Взглянув на эти улицы чужие, На мишуру фасадов и оград, Один припомнит омраченный Киев, Другой — неукротимый Ленинград. Нет, не забыть того, что было раньше. И сердце скажет каждому: молчи! Опустит руки строгий барабанщик, И меди не коснутся трубачи. Как тихо будет в их разбойном мире! И только, прошлой кровью тяжелы, Не перестанут каменных валькирий[187] Когтить кривые прусские орлы. 1942«Они накинулись, неистовы…»
Они накинулись, неистовы, Могильным холодом грозя, Но есть такое слово «выстоять», Когда и выстоять нельзя. И есть душа — она всё вытерпит, И есть земля — она одна, Большая, добрая, сердитая, Как кровь, тепла и солона. 1942«Привели и застрелили у Днепра…»
Привели и застрелили у Днепра. Брат был далеко. Не слышала сестра. А в Сибири, где уж выпал первый снег, На заре проснулся бледный человек И сказал: «Железо у меня в груди. Киев, Киев, если можешь, погляди!..» «Киев, Киев! — повторяли провода. — Вызывает горе, говорит беда». «Киев, Киев!» — надрывались журавли. И на запад эшелоны молча шли. И от лютой человеческой тоски Задыхались крепкие сибиряки… 1942«Так ждать, чтоб даже память вымерла…»
Так ждать, чтоб даже память вымерла, Чтоб стал непроходимым день, Чтоб умирать при милом имени И догонять чужую тень, Чтоб не довериться и зеркалу, Чтоб от подушки утаить, Чтоб свет своей любви и верности Зарыть, запрятать, затемнить, Чтоб пальцы невзначай не хрустнули, Чтоб вздох и тот зажать в руке. Так ждать, чтоб, мертвый, он почувствовал Горячий ветер на щеке. 1942Моряки Тулона
Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали? Мы вахту проспали? Приятель, проснись! А рыбы глядят, как всегда равнодушные, И рыбы не знают, что значит «проснись». Я помню в Тулоне высокое зарево, Как нас захлестнула большая волна. Скажи мне скорее: где наши товарищи? Я слезы глотаю, а соль солона. Куда мы ушли? И хватило ли топлива? Чужие солдаты на борт не взошли. Любимая Франция, нами потоплены Большие, живые твои корабли. В Бретани — старушка. Что с матерью станется? Глаза дорогие проплачет она. Скажи мне, где наша любимая Франция? Какая ее захлестнула волна? Но вот средь густого тумана, как в саване, Со дна подымаются все корабли. Идем мы, приятель, в последнее плаванье. Идем за щепоткой французской земли. Вот пена взлетает веселыми хлопьями, Огонь орудийный врезается в ночь, И, голос услышав эскадры потопленной, Чужие солдаты кидаются прочь. А девушки нам улыбаются с берега, И, сколько цветов, не смогу я сказать. Ты знаешь, приятель, мне как-то не верится, Что я расцелую родимую мать. Скажу ей: три года я плавал на «Страсбурге», Там много осталось хороших ребят. А рыбы вздыхают кровавыми жабрами, И рыбы на нас равнодушно глядят. 1942«Он пригорюнится, притýлится…»
Он пригорюнится, притýлится, Свернет, закурит и вздохнет, Что есть одна такая улица, А улицы не назовет. Врага он встретит у обочины. А вдруг откажет пулемет, Он скажет: «Жить кому не хочется», — И сам с гранатой поползет. 1942«Когда закончен бой, присев на камень…»
Когда закончен бой, присев на камень, В грязи, в поту, измученный солдат Глядит еще незрячими глазами И другу отвечает невпопад. Он, может быть, и закурить попросит, Но не закурит, а махнет рукой. Какие жал он трудные колосья, И где ему почудился покой? Он с недоверьем оглядит избушки Давно ему знакомого села. И, невзначай рукой щеки коснувшись, Он вздрогнет от внезапного тепла. 1942«С ручной гранатой, иль у пушки…»
С ручной гранатой, иль у пушки, Иль в диком конников строю Он слышит, как услышал Пушкин: «Есть упоение в бою»[188]. Он знает всё. Спокойно целясь, Он к смерти запросто готов. Но для него всё та же прелесть В звучании далеких слов, И, смутным гулом русской речи Как бы наполнен до краев, Он смерти кинется навстречу И не почувствует ее. 1942«Бывала в доме, где лежал усопший…»
Бывала в доме, где лежал усопший, Такая тишина, что выли псы, Испуганная, в мыле, билась лошадь И слышно было, как идут часы. Там на кровати, чересчур громоздкой, Торжественно покойник почивал, И горе молча отмечалось воском Да слепотой завешенных зеркал. В пригожий день, среди кустов душистых, Когда бы человеку жить и жить, Я увидал убитого связиста, — Он всё еще сжимал стальную нить, В глазах была привычная забота, Как будто, мертвый, опоздать боясь, Он торопливо спрашивал кого-то, Налажена ли прерванная связь. Не знали мы, откуда друг наш смелый, Кто ждет его в далеком городке, Но жизнь его дышала и гудела, Как провод в холодеющей руке. Быть может, здесь, в самозабвенье сердца, В солдатской незагаданной судьбе, Таится то высокое бессмертье, Которое мерещилось тебе? 1942«Я помню — был Париж. Краснели розы…»
Я помню — был Париж. Краснели розы Под газом в затуманенном окне, Как рана. Нимфа мраморная мерзла. Я шел и смутно думал о войне. Мой век был шумным, люди быстро гасли. А выпадала тихая весна — Она пугала видимостью счастья, Как на войне пугает тишина. И снова бой. И снова пулеметчик Лежит у погоревшего жилья. Быть может, это всё еще хлопочет Ограбленная молодость моя? Я верен темной и сухой обиде, Ее не позабыть мне никогда, Но я хочу, чтоб юноша увидел Простые и счастливые года. Победа — не гранит, не мрамор светлый, — В грязи, в крови, озябшая сестра, Она придет и сядет незаметно У бледного погасшего костра. 1942«Было в слове „русский“ столько доброты…»
Было в слове «русский» столько доброты, Столько русой, грустной, чудной простоты. Снег слезами обливался. Помним мы Все проталины отходчивой зимы. А теперь и у доверчивых берез, Если сердце есть, ты не отыщешь слез. Славы и беды холодная ладонь В эту зиму обжигает, как огонь. 1943В Белоруссии
Мы молчали. Путь на запад шел, Мимо мертвых догоравших сел, И лежала голая земля, Головнями тихо шевеля. Я запомню как последний дар Этот сердце леденящий жар, Эту ночь, похожую на день, И средь пепла брошенную тень. Запах гари едок, как беда, Не отвяжется он никогда, Он со мной, как пепел деревень, Как белесая, больная тень, Как огрызок вымершей луны Средь чужой и новой тишины. 1943«Над пепелищем показались звезды…»
Над пепелищем показались звезды. Иссякли слезы. В тишине морозной Детей окоченевших синева. И если были у тебя слова, Молчи. Тебе изменит даже голос. Дошел до сердца тот последний холод, Что выше жалости и вне обид. Его и смерть сама не размягчит. 1943«Был дом обжит, надышан мной…»
Был дом обжит, надышан мной, Моей тоской и тишиной. Они пришли, и я умру. Они сожгли мою нору. Кричал косой, что он один, Что он умрет, что есть Берлин. Кому скажу, как я одна, Как я темна и холодна? Моя любовь, моя зола, Согрей меня! Я здесь жила. 1943«Скребет себя на пепле Иов…»
Скребет себя на пепле Иов[189], И дым глаза больные выел, А что здесь было — нет его, И никого, и ничего. Зола густая тихо стынет. Так вот она, его пустыня. Он отнял не одно жилье — Он сердце обобрал мое. Сквозь эту ночь мне не пробраться. Зачем я говорил про братство? Зачем в горах звенел рожок? Зачем я голос твой берег? Постой. Подумай. Мы не знали, В какое счастье мы играли. Нет ничего. Одна зола По-человечески тепла. 1943Россия
Когда в пургу ворвутся кони, Она благословит бойца, Ее горячие ладони Коснутся смутного лица. Она для сердца больше значит, Чем все обеты, все пути. И если дерево — на мачты, И если камень — улети, И если не пройти — тараном, И если смерть — переступи И стой один седым курганом В пустой заснеженной степи. Ты видишь, выйдя из окопа, — Она, оснащена тобой, Пересекает ночь Европы. И сквозь тяжелый, долгий бой, Сквозь зарева туман кровавый Ты видишь под большой луной Броню тяжелую державы И хлопья пены кружевной. 1943«Есть время камни собирать…»
Есть время камни собирать, И время есть, чтоб их кидать. Я изучил все времена, Я говорил: на то война, Я камни на себе таскал, Я их от сердца отрывал, И стали дни еще темней От всех раскиданных камней. Зачем же ты киваешь мне Над той воронкой в стороне, Не резонер и не пророк, Простой дурашливый цветок? 1943«Запомни этот ров. Ты всё узнал…»
Запомни этот ров. Ты всё узнал: И города сожженного оскал, И черный рот убитого младенца, И ржавое от крови полотенце. Молчи — словами не смягчить беды. Ты хочешь пить, но не ищи воды. Тебе даны не воск, не мрамор. Помни — Ты в этом мире всех бродяг бездомней. Не обольстись цветком: и он в крови. Ты видел всё. Запомни и живи. 1943«Белеют мазанки. Хотели сжечь их…»
Белеют мазанки. Хотели сжечь их, Но не успели. Вечер. Дети. Смех. Был бой за хутор, и один разведчик Остался на снегу. Вдали от всех Он как бы спит. Не бьется больше сердце. Он долго шел — он к тем огням спешил. И если не дано уйти от смерти, Он, умирая, смерть опередил. 1943«Был час один — душа ослабла…»
Был час один — душа ослабла. Я видел Глухова[190] сады И срубленных врагами яблонь Уже посмертные плоды. Дрожали листья. Было пусто. Мы постояли и ушли. Прости, великое искусство, Мы и тебя не сберегли! 1943«Были липы, люди, купола…»
Были липы, люди, купола. Мусор. Битое стекло. Зола. Но смотри — среди разбитых плит Уж младенец выполз и сидит, И сжимает слабая рука Горсть сырого теплого песка. Что он вылепит? Какие сны? А года чернеют, сожжены… Вот и вечер. Нам идти пора. Грустная и страстная игра. 1943Европа
Летучая звезда, и моря ропот, Вся в пене, розовая, как заря, Горячая, как сгусток янтаря, Среди олив и дикого укропа, Вся в пепле, роза поздняя раскопок, Моя любовь, моя Европа! Я исходил петлистые дороги Твои, твое глубокое вчера, С той пылью, что старее серебра. Я знаю теплые твои берлоги, Твои сиреневые вечера, И глину под ладонью гончара. Надышанная тихая обитель, Больших веков душистый сеновал. Горшечник твой, как некогда Пракситель[191], Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал. Был в Лувре небольшой невзрачный зал. Безрукая[192] доверчиво, по-женски, Напоминала всем о красоте. И плакал перед нею Глеб Успенский, А Гейне знал, что все слова — не те[193]. В Париже, средь машин, по-деревенски Шли козы. И свирель впивалась в день. Был воздух зацелованной святыней. И мастерицы простодушной тень По скверу проходила, как богиня. Твои черты я узнаю в пустыне, Горячий камень дивного гнезда, Средь серы, средь огня, в чаду потопа, Летучая зеленая звезда, Моя звезда, моя Европа! 1943«Гляжу на снег, а в голове одно…»
Гляжу на снег, а в голове одно: Ведь это — день, а до чего темно! И солнце зимнее, оно на час, Торопится — глядишь, и день погас. Под деревом солдат. Он шел с утра. Зачем он здесь? Ему идти пора. Он не уйдет. Прошли давно войска, И день прошел. Но не пройдет тоска. 1943«Было в жизни мало резеды…»
Было в жизни мало резеды, Много крови, пепла и беды. Я не жалуюсь на свой удел, Я бы только увидать хотел День один, обыкновенный день, Чтобы дерева густая тень Ничего не значила, темна, Кроме лета, тишины и сна. 1943«Слов мы боимся, и всё же прощай…»
Слов мы боимся, и всё же прощай. Если судьба нас сведет невзначай, Может, не сразу узнаю я, кто Серый прохожий в дорожном пальто, Сердце подскажет, что ты — это тот, Сорок второй и единственный год. Ржев догорал. Мы стояли с тобой, Смерть примеряли. И начался бой… Странно устроен любой человек: Страстно клянется, что любит навек, И забывает, когда и кому… Но не изменит и он одному: Слову скупому, горячей руке, Ржевскому лесу и ржевской тоске. 1944Бабий Яр
К чему слова и что перо, Когда на сердце этот камень, Когда, как каторжник ядро, Я волочу чужую память? Я жил когда-то в городах, И были мне живые милы, Теперь на тусклых пустырях Я должен разрывать могилы, Теперь мне каждый яр знаком, И каждый яр теперь мне дом. Я этой женщины любимой Когда-то руки целовал, Хотя, когда я был с живыми, Я этой женщины не знал. Мое дитя! Мои румяна! Моя несметная родня! Я слышу, как из каждой ямы Вы окликаете меня. Мы понатужимся и встанем, Костями застучим — туда, Где дышат хлебом и духами Еще живые города. Задуйте свет. Спустите флаги. Мы к вам пришли. Не мы — овраги.[194] 1944В гетто
В это гетто люди не придут. Люди были где-то. Ямы тут. Где-то и теперь несутся дни. Ты не жди ответа — мы одни, Потому что у тебя беда, Потому что на тебе звезда, Потому что твой отец другой, Потому что у других покой. 1944«За то, что зной полуденной Эсфири…»
За то, что зной полуденной Эсфири[195], Как горечь померанца, как мечту, Мы сохранили и в холодном мире, Где птицы застывают на лету, За то, что нами говорит тревога, За то, что с нами водится луна, За то, что есть петлистая дорога И что слеза не в меру солона, Что наших девушек отличен волос, Не те глаза и выговор не тот, — Нас больше нет. Остался только холод. Трава кусается, и камень жжет. 1944«Ракеты салютов. Чем небо черней…»
Ракеты салютов. Чем небо черней, Тем больше в них страсти растерзанных дней. Летят и сгорают. А небо черно. И если себя пережить не дано, То ты на минуту чужие пути, Как эта ракета, собой освети. 1944«Мир велик, а перед самой смертью…»
Мир велик, а перед самой смертью Остается только эта горстка, Теплая и темная, как сердце, Хоть ее и называли черствой, Горсть земли, похожей на другую, — Сколько в ней любви и суеверья! О такой и на небе тоскуют, И в такую до могилы верят, За такую, что дороже рая, За лужайку, дерево, болотце, Ничего не видя, умирают В час, когда и птица не проснется. 1944Статуя Афродиты
Он много знал, во имя Бога Он суетных богов ломал, И всё же он душою дрогнул, Когда тот мрамор увидал. Не знаю, девкой деревенской Иль домыслом она была И чья догадка совершенство Из глыбы камня родила, Но плакал, как дитя, апостол, Что слишком поздно увидал, Зачем он был на землю послан И по какой земле ступал. Давно тот след на камне стерся. И падал снег, и таял снег. Но вижу я — к тому же торсу В тоске подходит человек, И та же красота земная Вдруг открывается ему, И смутно слезы он роняет, Не понимая почему. 1945«Когда я был молод, была уж война…»
Когда я был молод, была уж война, Я жизнь свою прожил — и снова война. Я всё же запомнил из жизни той громкой Не музыку марша, не грозы, не бомбы, А где-то в рыбацком селенье глухом К скале прилепившийся маленький дом. В том доме матрос расставался с хозяйкой, И грустные руки метались, как чайки. И годы, и годы мерещатся мне Всё те же две тени на белой стене. 1945«Я смутно жил и неуверенно…»
Я смутно жил и неуверенно, И говорил я о другом, Но помню я большое дерево, Чернильное на голубом, И помню милую мне женщину, — Не знаю, мало ль было сил, Но суеверно и застенчиво Я руку взял и отпустил. И всё давным-давно потеряно, И даже нет следа обид, И только где-то то же дерево Еще по-прежнему стоит. 1945«Ты говоришь, что я замолк…»
Ты говоришь, что я замолк, И с ревностью, и с укоризной. Париж не лес, и я не волк, Но жизнь не вычеркнешь из жизни. А жил я там, где, сер и сед, Подобен каменному бору, И голубой, и в пепле лет, Стоит, шумит великий город. Там даже счастье нипочем, От слова там легко и больно, И там с шарманкой под окном И плачет, и смеется вольность. Прости, что жил я в том лесу, Что всё я пережил и выжил, Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа. 1945«Чужое горе — оно как овод…»
Чужое горе — оно как овод: Ты отмахнешься, и сядет снова, Захочешь выйти, а выйти поздно, Оно — горячий и мокрый воздух, И, как ни дышишь, всё так же душно, Оно не слышит, оно — кликуша, Оно приходит и ночью ноет, А что с ним делать — оно чужое. 1945«Мне было многое знакомо…»
Мне было многое знакомо И стало сердцу дорогим, Но не было на свете дома, Который бы назвал своим. И только в час глухой и злобный, Когда горела вся земля, Я дверь одну ревниво обнял, Как будто это дверь — моя. И дым глаза мне ночью выел, Но я не опустил руки, Чтоб дети, не мои — чужие, Играли утром у реки. 1945«Была трава, как раб, распластана…»
Была трава, как раб, распластана, Сияла кроткая роса, И кровлю променяла ласточка На ласковые небеса, И только ты, большое дерево, Осталось на своем посту — Солдат, которому доверили Прикрыть собою высоту, И были ветки в муке скрещены, Когда огонь тебя подсек, И умирало ты торжественно, Как умирает человек. 1945В феврале 1945
1. «Будет солнце в тот день, или дождь, или снег…»
Будет солнце в тот день, или дождь, или снег, Тишина удивит, к ней придет человек. Тишиной начинается всё, как во сне, Человек возвращается вновь к тишине. О, победы последней салют! Не слова, Нам расскажут о счастье вода и трава, Не орудья отметят сражений конец, А биение крохотных птичьих сердец. Мы услышим, как тихо летит мотылек, Если ветер улегся и вечер далек.2. «День придет, и славок громкий хор…»
День придет, и славок громкий хор Хорошо прославит птичий вздор, И, смеясь, наденет стрекоза Выходные яркие глаза. Будут снова небеса для птиц, А Медынь для звонких медуниц, Будут только те затемнены, У кого луна и без луны, Будут руки, чтобы обнимать, Будут губы, чтобы целовать, Даже ветер, почитав стихи, Заночует у своей ольхи.3. «Мне снился мир, и я не мог понять…»
Мне снился мир, и я не мог понять, — Он и во сне казался мне ошибкой: Был серый день, и на ребенка мать Глядела с неуверенной улыбкой, А дождь не знал, идти ему иль нет, Выглядывало солнце на минуту, И ветки плакали — за много лет, И было в этом счастье столько смуты, Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг, Застывшие, не улетали птицы, Притихло всё. А сердце билось так, Что и во сне могло остановиться.4. «Прошу не для себя, для тех…»
Прошу не для себя, для тех, Кто жил в крови, кто дольше всех Не слышал ни любви, ни скрипок, Ни роз не видел, ни зеркал, Под кем и пол в сенях не скрипнул, Кого и сон не окликал, — Прошу для тех — и цвет, и щебет, Чтоб было звонко и пестро, Чтоб, умирая, день, как лебедь, Ронял из горла серебро, — Прошу до слез, до безрассудства, Дойдя, войдя и перейдя, Немного смутного искусства За легким пологом дождя. 1945«За что он погиб? Он тебе не ответит…»
За что он погиб? Он тебе не ответит. А если услышишь, подумаешь — ветер. За то, что здесь ярче густая трава, За то, что ты плачешь и, значит, жива, За то, что есть дерева грустного шелест, За то, что есть смутная русская прелесть, За то, что четыре угла у земли[196], И сколько ни шли бы, куда бы ни шли, Есть, может быть, лучше, красивей, богаче, Но нет вот такой, над которой ты плачешь. 1945Ленинград
Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы, Простора площадей, разросшейся листвы, И кроме статуй, и мостов, и снов державы, И кроме незакрывшейся, как рана, славы, Которая проходит ночью по проспектам, Почти незримая, из серебра и пепла, — Есть в Ленинграде жесткие глаза и та, Для прошлого загадочная, немота, Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце, Что, может быть, одни спасли его от смерти. И если ты — гранит, учись у глаз горячих: Они сухи, сухи, когда и камни плачут. 1945В мае 1945
1. «Когда она пришла в наш город…»
Когда она пришла в наш город, Мы растерялись. Столько ждать, Ловить душою каждый шорох И этих залпов не узнать. И было столько муки прежней, Ночей и дней такой клубок, Что даже крохотный подснежник В то утро расцвести не смог. И только — видел я — ребенок В ладоши хлопал и кричал, Как будто он, невинный, понял, Какую гостью увидал.2. «О них когда-то горевал поэт…»
О них когда-то горевал поэт[197]: Они друг друга долго ожидали, А встретившись, друг друга не узнали На небесах, где горя больше нет. Но не в раю, на том земном просторе, Где шаг ступи — и горе, горе, горе, Я ждал ее, как можно ждать любя, Я знал ее, как можно знать себя, Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал — закончилась война. Я шел домой. Навстречу шла она. И мы друг друга не узнали.3. «Она была в линялой гимнастерке…»
Она была в линялой гимнастерке, И ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать. Был стол накрыт к обеду. «Твой сын служил со мной в полку одном, И я пришла. Меня зовут Победа». Был черный хлеб белее белых дней, И слезы были соли солоней. Все сто столиц кричали вдалеке, В ладоши хлопали и танцевали. И только в тихом русском городке Две женщины, как мертвые, молчали. 1945«Умру — вы вспомните газеты шорох…»
Умру — вы вспомните газеты шорох, Проклятый год, который всем нам дорог. А я хочу, чтоб голос мой замолкший Напомнил вам не только гром у Волги, Но и деревьев еле слышный шелест, Зеленую таинственную прелесть. Я с ними жил, я слышал их рассказы, Каштаны милые, оливы, вязы — То не ландшафт, не фон и не убранство; Есть в дереве судьба и постоянство, Уйду — они останутся на страже, Я начал говорить — они доскажут. 1945«Прости — одна есть рифма к слову „смерть“…»
Прости — одна есть рифма к слову «смерть», Осточертевшая, как будто в стужу Могилу роют, мерзлая земля Упорствует, и твердь не поддается. Ты рифмы не подыщешь к слову «жизнь», Ни отклика, ни даже отголоска. А сколько слез, признаний, сколько просьб! Все говорят, никто не отвечает. 1945«В печальном парке, где дрожит зола…»
О, дайте вечность мне, и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.
И. Анненский В печальном парке, где дрожит зола, Она стоит, по-прежнему бела. Ее богиней мира называли, Она стоит на прежнем пьедестале. Ее обидели давным-давно. Она из мрамора, ей всё равно. Ее не тронет этот день распятый, А я стою, как он стоял когда-то. Нет вечности, и мира тоже нет, И не на что менять остаток скверных лет. Есть только мрамор и остывший пепел. Прикрой его, листва: он слишком светел. 1945«Я не завидую ни долголетью дуба…»
Я не завидую ни долголетью дуба, Ни журавлям, ни кораблям, ни человеку, Чьи ослепительные зубы Уже сверкают на экранах Будущего века. В музеях плачут мраморные боги. А люди плакать разучились. Всем Немного совестно и как-то странно. Завидую я только тем, Кто умер на пороге Земли обетованной. 1945Французская песня
Свободу не подарят, Свободу надо взять. Свисти скорей, товарищ, Нам время воевать. Мы жить с тобой бы рады, Но наш удел таков, Что умереть нам надо До первых петухов. Нас горю не состарить, Любви не отозвать. Свисти скорей, товарищ, Нам время воевать. Другие встретят солнце И будут петь и пить, И, может быть, не вспомнят, Как нам хотелось жить. 1946«Во Францию два гренадера…»
«Во Францию два гренадера…»[198] Я их, если встречу, верну. Зачем только черт меня дернул Влюбиться в чужую страну? Уж нет гренадеров в помине, И песни другие в ходу, И я не француз на чужбине, — От этой земли не уйду, Мне всё здесь знакомо до дрожи, Я к каждой тропинке привык, И всех языков мне дороже С младенчества внятный язык. Но вдруг замолкают все споры, И я, — это только в бреду, — Как два усача гренадера, На запад далекий бреду, И всё, что знавал я когда-то, Встает, будто было вчера, И красное солнце заката Не хочет уйти до утра. 1947«К вечеру улегся ветер резкий…»
К вечеру улегся ветер резкий, Он залег в тенистом перелеске, Уверяли галки очень колко, Что растет там молодая елка. Он играл с ее колючей хвоей, Говорил: «На свете есть другое, А не только эти елки-палки, А не только глупенькие галки», Говорил, что он бывал на Тибре, Танцевал с нарядными колибри, Обнимал высокую агаву, Но нашлась и на него управа. Отвечала молодая елка: «Я в таких речах не вижу толка, С вами я почти что незнакома, Нет у вас ни адреса, ни дома, Может, по миру гулять просторней, Но стыдитесь — у меня есть корни, Я стою здесь с самого начала, Как моя прабабушка стояла. Я не мельница. Зачем мне ветер? У меня, наверно, будут дети. На мои портреты ротозеи Смотрят в краеведческом музее». Вздрогнули деревья на рассвете — Это поднялся внезапно ветер, И завыла на цепи собака Оттого, что ветер выл и плакал, Оттого, что без цепи привольно, Оттого, что даже ветру больно. 1948Франция
1. «Дорога вьется, тянет, тянется…»
Дорога вьется, тянет, тянется. Заборы, люди, города. И вдруг одно: а где же Франция? Запряталась она куда? Бретань, и море в злобе щерится, И скалы рвет огромный вал. Разлука ли? Мне всё не верится, Что эти руки целовал. Не улыбнешься, не расплачешься, А вспомнишь — закричишь со сна. Парижа позднее ребячество, Его туманная весна — В цветах, в огнях, в соленой сырости… Я не спрошу, что стало с ним. Другие девушки там выросли И улыбаются другим. Так сделан человек: расстанется, Всё заметет тяжелый снег. И я как все. А где же Франция? Я выдумал ее во сне. Но ты не говори о верности, Я верен, только не себе — Тому, что бьется, вьется, вертится — Своей тоске, своей судьбе.2. «Читаешь, пишешь, говоришь…»
Читаешь, пишешь, говоришь, И вдруг встает былой Париж, Огромный, огненный, живой, С горячей, мокрой синевой. Как он сумел прийти сюда? Ходить — не ходят города, Им тяжело, у них дома. И кто из нас сошел с ума? Тот город, что, забыв про честь, Готов в любое сердце влезть, Готов смутить любой покой Своей шарманочной тоской, — Сошел ли город тот с ума, Сошли ли с мест своих дома? Иль, может, я в бреду ночном, Когда смолкает всё кругом, Сквозь сон, сквозь чащу мутных лет, Сквозь ночь, которой гуще нет, Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь Бреду туда — всё в тот Париж? 1948Село Лермонтово
Тарханы это не поэма — Большое крепкое село. Давно в музей безумный Демон Сдал на хранение крыло. И посетитель видит хрупкий, Игрушечный, погасший мир — Изгрызанную в муке трубку И опереточный мундир. И каждому немного лестно, Что это — Лермонтова кресло. На стенах множество цитат О происшедшей перемене. А под окном заглохший сад, И «счастье», скрытое в сирени. Машины облегчили труд. В селе теперь десятилетка. Колхозники исправно чтут Дела прославленного предка. И двадцать пятого июля, Когда его сразила пуля, В Тарханах праздник. Там с утра Вся приодета детвора. Уж кумачом зардели арки, Уж сдали государству рожь, И в старом лермонтовском парке Танцует дружно молодежь. Здесь нет ни топота, ни свиста[199]… Давно забыт далекий выстрел, И только в склепе, весь продрог, Стоит обшитый цинком гроб. Мотор заглох. Шофер хлопочет. А девушка в избе бормочет Всё тот же сердцу страшный стих, И страсть в ее глазах пустых, Приподняты углами брови, А ночь, как никогда, темна. Поют и пьют, стихи читают, сквернословят. А сердце в цинк стучит. Всё выпито до дна. «Люблю отчизну я, но странною любовью…»[200] А что тут странного? Она одна. 1948У Ржева
1. «Трагедия закончена — так пишут…»
Трагедия закончена — так пишут, И это правда, — строят города, Влюбляются и по ночам не слышат, Как голосит железная беда. Но вот война — окопы, танк подбитый, Оборван провод и повисла нить, Как будто после той ужасной битвы Здесь занавес забыли опустить. Торчит стена расщепленного дома, В глубоких ямах желтая вода. Как это всё мучительно знакомо, Мне кажется, что я здесь жил всегда. Обломаны, обрублены деревья, Черны они, в них битв минувших страсть, И, руки заломив в последнем гневе, Они ни жить не могут, ни упасть.2. «Могила солдата, а имени нет…»
Могила солдата, а имени нет, Мы дату едва разобрали, — Здесь в сорок втором, не дождавшись побед, Погиб неизвестный товарищ. Тогда отступали, и он отступал. Потом был приказ закрепиться. В Москве не раздался торжественный залп — Погиб он в проигранной битве. Откуда шли танки? Хватило ль гранат? В газете никто не поведал, Как в сорок втором неизвестный солдат Увидел впервые победу. О том не узнали ни мать, ни жена, С похода друзья не вернулись. Он спит одиноко, и только сосна В почетном стоит карауле.3. «Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской…»
Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской. Нас было четверо, любили мы смеяться, Цвела тогда сирень, мы были влюблены, Ходили в школу мы за месяц до войны. Прохожий, пели мы. Потом запели пули. Ты знаешь жизнь, в нее мы только заглянули. Мы жить хотели, но была беда: Мы отступали и сдавали города. В то лето было много горя и развалин. Кукушки коротко в то лето куковали, Мы в поле залегли, касалась щек трава. Была пред нами смерть, а позади — Москва. Есть нечто, вечности оно дороже: Погибли мы, но ты живешь, прохожий, Ты смотришь, говоришь, и этот день живой Стоит, как облако, над розовой Москвой. 1948«Мне всё мерещится одна…»
Мне всё мерещится одна Большого полдня тишина, И те же блики от каштана, И тот же зной, как мед, густой, Кувшин, а рядом два стакана, Один с вином, другой пустой. Обычно отвечают: «Ба, Что тут попишешь, не судьба…» Уж больше ничего не будет, Теперь и говорить смешно, А всё мерещится одно: Так и ушел, и не пригубил… 1948«Я в море вижу не свободу…»
Я в море вижу не свободу, А некий исполинский труд, Как будто яростные воды Повинность тяжкую несут, С ожесточеньем терпеливым Прилив сменяется отливом, Стихия пробует восстать, Закону темному покорна, Шумит, грозит. А после шторма Всё та же тишина и гладь. Скажи мне, сколько нужно странствий, Как отвергал, как был отвергнут, Чтоб говорило море сердцу О верности, о постоянстве, Чтоб стало всё, чем жил и жив, Как тот прилив, как тот отлив? 1948«У маленькой речушки на закате…»
У маленькой речушки на закате, Закинув удочку, сидел мечтатель, И, отдыхая от пустых тревог, Глядел на неподвижный поплавок. Он смутно думал: «Тонет луг в тумане, Возможно, завтра и меня не станет, Но будет снова тот же летний день, И та же рябь реки, и та же лень». О вечности он думал нехотя и вяло. А рядом на песочке трепетала Им пойманная рыбка. Где вода? Ее не будет больше никогда. Дышать она пыталась. Слишком поздно: Не для нее сухой и грозный воздух. Вздымались жабры. Белый жег песок. Мечтатель всё глядел на поплавок. 1948«Что за дурацкая игра?..»
Что за дурацкая игра? Всё только слышится и кажется. А стих пристанет — до утра Не замолчит и не отвяжется. Другие спят, а ты не спи, Как кот ученый на цепи. Всю жизнь прожить в каком-то поезде, Разгадывая стук колес, Откроется и сразу скроется, И ночью доведет до слез, Послышится и померещится Тень на стене, разводы, трещина. Песчинки, сжатые в руке, — Слова о доблести, о храбрости. А ты, как рыба на песке, Всё шевели сухими жабрами. 1948«Быть может…»
Быть может… Тогда мечта повелевала мной, И я про всё забыл; но поневоле Вдруг поражен был радостной весной, Смеявшейся на всем широком поле. Темно-зеленые листы Из лопавшихся почек прорастали, А желтые и красные цветы Полям живую радость придавали. Был дождь похож на сотни ярких стрел, В листве играло солнце так задорно, И тополь зачарованно смотрел На гладь реки, спокойной и просторной. Пройдя так много тропок и дорог, В весну я лишь теперь вглядеться мог. Я ей сказал: «Ты, к счастью, запоздала, И вот могу я на тебя взглянуть!» Потом, предавшись новой, небывалой Мечте, добавил тихо: «Снова в путь! И юность нагоню когда-нибудь». <1948>Стихи (1957–1958)
«Был тихий день обычной осени…»
Был тихий день обычной осени. Я мог писать иль не писать: Никто уж в сердце не запросится, И тише тишь, и глаже гладь. Деревья голые и черные — На то глаза, на то окно, — Как не моих догадок формулы, А всё разгадано давно. И вдруг, порывом ветра вспугнуты, Взлетели мертвые листы, Давно истоптаны, поруганы, И всё же, как любовь, чисты, Большие, желтые и рыжие И даже с зеленью смешной, Они не дожили, но выжили И мечутся передо мной. Но можно ль быть такими чистыми? А что ни слово — невпопад. Они живут, но не написаны, Они взлетели, но молчат. 1957«Ошибся — нужно повторить…»
Ошибся — нужно повторить: Ребенка учат говорить. К чему леса? К чему трава? Пред ним дремучие слова, И он в руке зажать готов Добычу дня — охапку слов. До смерти их не перечесть. А попугай — тот любит есть, А водолей — тот воду льет, И человек средь слов живет. Кто открывал, и кто крестил, И кто кого когда любил? Ведь он не нов, ведь он готов, Уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, Когда пора давать ответ, Мы разгребаем груду слов — Ведь мир другой, он не таков. Слова швыряем мы в окно И с ними славу заодно. Как ни хвали, как ни пугай, Молчит облезший попугай, — Слова ушли, как сор, как дым, Он хочет умереть немым. 1957«Есть надоедливая вдоволь повесть…»
Есть надоедливая вдоволь повесть, Как плачет человеческая совесть. Она особенно скулит средь ночи, Когда никто с ней говорить не хочет, Когда подсчитаны давно балансы И оттанцованы и сны, и танцы, Когда глаза, в которых жизнь поблёкла, Похожи на замызганные стекла Большого недостроенного дома, Где всё необжито и всё знакомо. Она скулит, что день напрасно прожит И что никто не лезет вон из кожи, Что убивают лихо изуверы И что вздыхают тихо маловеры, Что никому сегодня неохота Примерить шлем дурацкий Дон Кихота, Что классиков неоспоримо слово, Дубасят ведь не мертвого — живого. Она скулит от жалости и страха, Как на цепи дворовая собака. Она скулит, никто ее не слышит — Ни ангелы, ни близкие, ни мыши. Да что тут слушать? Плачет, и не жалко. Да что тут слушать? Есть своя смекалка. Да что тут слушать? Это ведь не дело. И это всем смертельно надоело. 1957«Я не знаю, тигра мучают ли тигры…»
Я не знаю, тигра мучают ли тигры, Обижают выдру ль царственные выдры, Хочется ль верблюду друга опорочить, Шепчутся ли карпы средь тревожной ночи, Носят ли сороки домыслы и толки, Пишут ли доносы с голодухи волки, На далеком Марсе есть ли тоже люди, С кем они воюют, как рядят и судят, В гроб кладут ли мертвых, и верна ль до гроба Друга-марсианца клевета и злоба? Знаю, на любимой, на моей планете Жизни доверяют крохотные дети. Просвещают в школе, обучают речи, Взвешивают, холят, заболеет — лечат. А потом тихонько или очень громко Тонкая веревка, атомная бомба. Можно и без бомбы, ведь бывает всяко, Умирают дома от простого рака. Пусть живет бедняга, жить, конечно, лучше. А пока не умер, можно и помучить. О любви и братстве произносят речи, Утром обнимают, вечером клевещут. Позвонят, что умер — век его недолог — Вспомнят, продиктуют маленький некролог, Скажут о почившем ласковое слово И помчатся быстро добивать живого. 1957«Есть в севере чрезмерность, человеку…»
Есть в севере чрезмерность, человеку Она невыносима, но сродни — И торопливость летнего рассвета, И декабря огрызки, а не дни, И сада вид, когда приходит осень: Едва цветы успели расцвести, Их заморозки скручивают, косят, А ветер ухмыляется, свистит, И только в пестроте листвы кричащей, Календарю и кумушкам назло, Горит последнее большое счастье, Что сдуру, курам на смех, расцвело. 1957«Я смутно помню шумный перекресток…»
Я смутно помню шумный перекресток, Как змей клубок, петлистые пути. Я выбрал свой, и всё казалось просто: Коль цель видна, не сбиться и дойти. Одна судьба — не две — у человека, И как дорогу ту ни назови, Я верен тем, с которыми полвека Шагал я по грязи и по крови. Один косился на другого, мучил Молчанием, томила сердце тень, Что рядом шла — не друг и не попутчик, А только тень. Ни зелень деревень, Ни птицы крик нам не несли отрады. Страшнее переходов был привал. Порой один, чуть покачнувшись, падал, Все дальше шли, он молча умирал. Но, кажется, и в час предсмертной стужи, Когда пойму — мне больше не идти, Нахлынет нежность, сердце скрутит ужас При памяти о пройденном пути. 1957Дождь в Нагасаки
Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен. Куклу слепую девочка в ужасе держит. Дождь этот лишний, деревья ему не рады, Вишня в цвету, цветы уже начали падать. Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка, Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра, Будет отравой доска для детского гроба, Будет приправой тоска и долгая злоба, Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться, Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы. Голуби скоро начнут, как вороны, каркать, Будут кусаться и выть молчальники карпы, Будут вгрызаться в людей цветы полевые, Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест. Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки. Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки! Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах, — Здесь не о вере, не с верой, не против веры, Здесь о другом — о простой человеческой жизни. Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет. 1957Товарищам
В любой трущобе, где и камню больно, В Калькутте душной, в чопорном Стокгольме, В японском домике, пустом от страха, Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте, У Миссисипи, где и снам не выжить, В заласканном, заплаканном Париже, И в брюхе птицы, прорезавшей небо, — Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы — Я вижу их, я узнаю их сразу, Не по затверженным знакомым фразам, По множеству примет, едва заметных, По хмурости и по усмешке светлой, По мужеству, по гордости, по горю, Которых не унять, не переспорить, И по тому, как промолчат о главном, Как через силу выговорят «ладно», Как не расскажут про беду и смуту И как доверчиво пожмут мне руку. Я с ними в сговоре — мы вместе жили, В одно мы верили, одно любили, И пуд мы съели — не по нашей воле — Такой соленой, что не скажешь, соли. Суровый, деловой и всё же нежный Огромный заговор одной надежды. 1957Спутник
Есть нечто милое в самом том слове С далеких, незапамятных времен, Хоть многим кажется, что это — внове, Хоть ошарашен мир и окрылен. Не знаю, догадаются, поймут ли, Увидев искру в голубой дали, Какой невидимый и близкий спутник Уж сорок лет кружит вокруг Земли. В глухую осень из российской пущи, Средь холода и грусти волостей, Он был в пустые небеса запущен Надеждой исстрадавшихся людей. Ему орбиты были незнакомы, Он оживал в часы сухой тоски, О нем не говорили астрономы, За ним следили только бедняки. Что испытал он, в спехе пролетая, Запущен рано, нестерпимо нов, Над горем стародавнего Китая, Над голодом бразильских пастухов? Его боялись на допросе выдать, Он был судим, и был он осужден. Я помню — пролетал он над Мадридом, И люди улыбались: это — он! Он осветил последние минуты Заложников, он мчался вкруг Земли, Его видали тени Равенсбрука[201], Индийцы разговоры с ним вели. Он вспыхивал и пропадал надолго, Никто его путей не объявлял, Но в смертный час над потрясенной Волгой Он будущее мира отстоял. Его не признавали: «Это — опыт», В сердцах твердили: «Это — русских дурь», Пока не увидали в телескопы Его кружение средь звездных бурь. Не знаю, догадаются, поймут ли… Он сорок лет бушует надо мной, Моих надежд, моей тревоги спутник, Немыслимый, далекий и родной. 1957«Был пятый час среди январских сумерек…»
Был пятый час среди январских сумерек. На улице большой и незнакомой Она бумажку вынула из сумочки, — Быть может, позабыла номер дома, А может, просто улыбнулась почерку Измятой зацелованной записки. Где друг ее, в какой далекой области? Иль, может быть, спешила на свиданье? Но губы дрогнули, и, будто облако, Взлетело к небу легкое дыханье. Когда мы говорим на громких сборищах Про ненависть, про бомбы и про стронций, Когда слова, в которых столько горечи, Горячим пеплом заслоняют солнце, Я вспоминаю улицу морозную И облако у каменного зданья, Огромный мир с бесчисленными звездами И крохотное, слабое дыханье. 1958Верность
Жизнь широка и пестра. Вера — очки и шоры. Вера двигает горы, Я — человек, не гора, Вера мне не сестра. Видел я камень серый, Стертый трепетом губ. Мертвого будит вера. Я — человек, не труп. Видел, как люди слепли, Видел, как жили в пекле, Видел — билась земля, Видел я небо в пепле, Вере не верю я. Скверно? Скажи, что скверно. Верно? Скажи, что верно. Не похвальбе, не мольбе, Верю тебе лишь, Верность, Веку, людям, судьбе. Если терпеть, без сказки, Спросят — прямо ответь, Если к столбу, без повязки — Верность умеет смотреть. 1958Самый верный
Я не знал, что дважды два — четыре, И учитель двойку мне поставил. А потом я оказался в мире Всевозможных непреложных правил. Правила менялись, только бойко, С той же снисходительной улыбкой, Неизменно ставили мне двойку За допущенную вновь ошибку. Не был я учеником примерным И не стал с годами безупречным, Из апостолов Фома Неверный[202] Кажется мне самым человечным. Услыхав, он не поверил просто — Мало ли рассказывают басен? И, наверно, не один апостол Говорил, что он весьма опасен. Может, был Фома тяжелодумом, Но, подумав, он за дело брался, Говорил он только то, что думал, И от слов своих не отступался. Жизнь он мерил собственною меркой, Были у него свои скрижали. Уж не потому ль, что он «неверный», Он молчал, когда его пытали? 1958«Да разве могут дети юга…»
Да разве могут дети юга, Где розы плещут в декабре, Где не разыщешь слова «вьюга» Ни в памяти, ни в словаре, Да разве там, где небо сине И не слиняет ни на час, Где испокон веков поныне Всё то же лето тешит глаз, Да разве им хоть так, хоть вкратце, Хоть на минуту, хоть во сне, Хоть ненароком догадаться, Что значит думать о весне, Что значит в мартовские стужи, Когда отчаянье берет, Всё ждать и ждать, как неуклюже Зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, Вжились в такие холода, Что даже не было печали, Но только гордость и беда. И в крепкой, ледяной обиде, Сухой пургой ослеплены, Мы видели, уже не видя, Глаза зеленые весны. 1958«Вчера казалась высохшей река…»
Вчера казалась высохшей река, В ней женщины лениво полоскали Белье. Вода не двигалась. И облака, Как простыни распластаны, лежали На самой глади. Посреди реки Дремали одуревшие коровы. Баржа спала. Рыжели островки, Как поплавки лентяя рыболова. Вдруг началось. Сошла ль река с ума? Прошла ль гроза? Иль ей гроза приснилась? Но рвется прочь. Земля, поля, дома — Всё отдано теперь воде на милость. Бывает — жизнь мельчает. О судьбе Не говори — ты в выборе свободен. И если есть судьба, она в тебе — И эти отмели, и половодье. 1958В зоопарке Лондона
До слез доверчива собака, Нетороплива черепаха, Близка к искусству обезьяна, Большие чувства у барана, Но говорят, что только люди, — И дело здесь не в глупом чуде, А дело здесь в природе высшей, А дело здесь в особой мышце, — И не скворец в своей скворешне И никакой не пересмешник, Не попугай или лисица Не могут этого добиться, Но только люди, — это с детства, — Едва успеют осмотреться, Им даже нечего стараться — Они умеют улыбаться. Я много жил и видел многих, Высокомерных и убогих, И тех, что открывают звезды, И тех, что разоряют гнезда. Есть у людей носы и ноги Для любопытства, для тревоги, Есть настороженные уши Для тишины, для малодушья, Есть голова для всякой прыти, Кровопролитий и открытий, Чтоб расщепить, как щепку, атом, Чтоб за Луну был всяк просватан, Чтоб был Сатурн в минуту добыт, Чтоб рифмовал и плакал робот. Умеют люди зазнаваться, Но разучились улыбаться. И только в вечер очень жаркий В большом и душном зоопарке, Где, не мечтая о победе, Лизали кандалы медведи, Где были всяческие люди — И дети королевских судей, И маклеры, а с ними жены, И малолетние ньютоны, Где люди громко гоготали, А звери выли от печали, Где даже тигр пытался мямлить, Как будто он не тигр, а Гамлет, Да, только там, у тесных клеток, Средь мудрецов и малолеток, Я видел, как один слоненок, Быть может, сдуру иль спросонок, Взглянув на дамские убранства, На грустное, пустое чванство, Наивен будучи и робок, Слегка припóднял тонкий хобот, И словно от природы высшей, И словно одарен он мышцей, К слонихе быстро повернулся, Не выдержал и улыбнулся. 1958В Греции
Не помню я про ход резца — Какой руки, какого века, — Мне не забыть того лица, Любви и муки человека. А кто он? Возмущенный раб? Иль неуступчивый философ, Которого травил сатрап За прямоту его вопросов? А может, он бесславно жил, Но мастер не глядел, не слушал И в глыбу мрамора вложил Свою бушующую душу? Наверно, мастеру тому За мастерство, за святотатство Пришлось узнать тюрьму, суму И у царей в ногах валяться. Забыты тяжбы горожан, И войны громкие династий, И слов возвышенный туман, И дел палаческие страсти. Никто не свистнет, не вздохнет — Отыграна пустая драма, — И только всё еще живет Обломок жизни, светлый мрамор. 1958«Про первую любовь писали много…»
Про первую любовь писали много, — Кому не лестно походить на Бога, Создать свой мир, открыть в привычной глине Черты еще не найденной богини? Но цену глине знает только мастер — В вечерний час, в осеннее ненастье, Когда всё прожито и всё известно, Когда сверчку его знакомо место, Когда цветов повторное цветенье Рождает суеверное волненье, Когда уж дело не в стихе, не в слове, Когда всё позади, а счастье внове. 1958Сердце солдата
Бухгалтер он, счетов охапка, Семерки, тройки и нули. И кажется, он спит, как папка В тяжелой голубой пыли. Но вот он с другом повстречался. Ни цифр, ни сплетен, ни котлет. Уж нет его, пропал бухгалтер, Он весь в огне прошедших лет. Как дробь, стучит солдата сердце: «До Петушков рукой подать!» Беги! Рукой подать до смерти, А жизнь в одном — перебежать. Ты скажешь — это от контузий, Пройдет, найдет он жизни нить, Но нити спутались, и узел Уж не распутать — разрубить. Друзья и сверстники развалин И строек сверстники, мой край, Мы сорок лет не разувались, И если нам приснится рай, Мы не поверим. Стой, не мешкай, Не для того мы здесь, чтоб спать! Какой там рай! Есть перебежка — До Петушков рукой подать! 1958Сосед
Он идет, седой и сутулый. Почему судьба не рубнула? Он остался живой, и вот он, Как другие, идет на работу, В перерыв глотает котлету, В сотый раз заполняет анкету, Как родился он в прошлом веке, Как мечтал о большом человеке, Как он ел паёчную воблу И в какую он ездил область. Про ранения и про медали, Про сражения и про печали, Как узнал он народ и дружбу, Как ходил на войну и на службу. Как ходила судьба и рубала, Как друзей у него отымала. Про него говорят «старейший», И ведь правда — морщины на шее, И ведь правда — волос не осталось. Засиделся он в жизни малость. Погодите, прошу, погодите! Поглядите, прошу, поглядите! Под поношенной, стертой кожей Бьется сердце, других моложе. Он такой же, как был, он прежний, Для него расцветает подснежник. Всё не просто, совсем не просто, Он идет, как влюбленный подросток, Он не спит голубыми ночами, И стихи он читает на память, И обходит он в вечер морозный Заснежённые сонные звезды, И сражается он без ракеты В черном небе за толику света. 1958«Мы говорим, когда нам плохо…»
Мы говорим, когда нам плохо, Что, видно, такова эпоха, Но говорим словами теми, Что нам продиктовало время. И мы привязаны навеки К его взыскательной опеке, К тому, что есть большие планы, К тому, что есть большие раны, Что изменяем мы природу, Что умираем в непогоду И что привыкли наши ноги К воздушной и земной тревоге, Что мы считаем дни вприкидку, Что сшиты на живую нитку, Что никакая в мире нежить Той тонкой нитки не разрежет. В удаче ль дело, в неудаче, Но мы не можем жить иначе, Не променяем — мы упрямы — Ни этих лет, ни этой драмы, Не променяем нашей доли, Не променяем нашей роли — Играй ты молча иль речисто, Играй героя иль статиста, Но ты ответишь перед всеми Не только за себя — за Время. 1958«Я слышу всё — и горестные шепоты…»
Я слышу всё — и горестные шепоты, И деловитый перечень обид. Но длится бой, и часовой как вкопанный До позднего рассвета простоит. Быть может, и его сомненья мучают, Хоть ночь длинна, обид не перечесть, Но знает он — ему хранить поручено И жизнь товарищей, и собственную честь. Судьбы нет горше, чем судьба отступника, Как будто он и не жил никогда, Подобно коже прокаженных, струпьями С него сползают лучшие года, Ему и зверь, и птица не доверятся, Он будет жить, но будет неживой, Луна уйдет, и отвернется дерево, Что у двери стоит, как часовой. 1958«Ты помнишь, жаловался Тютчев…»
Ты помнишь, жаловался Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь»[203]. Ты не пытался думать — лучше Чужая мысль, чужая ложь. Да и к чему осьмушки мысли? От соски ты отвык едва, Как сразу над тобой нависли Семипудовые слова. И было в жизни много шума, Пальбы, проклятий, фарсов, фраз. Ты так и не успел подумать, Что набежит короткий час, Когда не закричишь дискантом, Не убежишь, не проведешь, Когда нельзя играть в молчанку, А мысли нет, есть только ложь. 1957«В их мире замкнутом и спертом…»
В их мире замкнутом и спертом И логика была простой, Она была того же сорта, Что окрик часового «Стой!» «Стой!» — и построй себе жилище, «Стой!» — и свивай себе уют, «Стой!» — и работай ради пищи, Живи, как прочие живут. Да кто вы? Люди или птицы? Сыны богов или кроты? «Мы? Жители. Жильцы, жилицы, Квартиросъемщики. А ты, А ты, что вечно споришь с веком?» — «Я был собою до конца: Неполноценным человеком, Пытавшимся поджечь сердца». «Ну как, поджег? — И все смеются, Все полноценны и тихи: — Прошла эпоха революций. А сколько платят за стихи?» 1957«Однажды черт меня сподобил…»
Однажды черт меня сподобил: Я жил в огромном небоскребе. Скребутся мыши, им не снится, Что есть луна над половицей. Метались этажи в ознобе. Я не был счастлив в небоскребе, Я не кивал пролетной птице, Я жил, как мышь под половицей. Боюсь я слов больших и громких, Куда тут «предки» и «потомки», Когда любой шальной мышонок, Как сто веков, высок и громок. В ознобе бьются линотипы, Взлетают яростные скрипы. И где уж догадаться мыши, Что незачем скрестись на крыше? 1957Париж — Токио
Мысли в пути
Были когда-то небеса для влюбленных, Плыли облака от луны до солнца, Звезда с звездой встречались, прощались, И одна на землю падала в печали. Стали небеса проезжей дорогой, От взлета до посадки четыре бутерброда. Говорят о делах, деловито дремлют, Порой, зевая, смотрят на землю. Господа Вселенной от взлета до посадки Хвастают успехами, клянут неполадки, Вспоминают расходы, расставляют цифры, Спорщики спорят, ревнуют ревнивцы. Облака над ними — грязная вата, Под ватой и они живали когда-то. Что им звезды? Незачем ломаться. Видели они немало декораций. Если радисту радист не ответит, Если сядет самолет на чужой планете, Слегка удивятся, спросят кого-то, Сколько им дивиться — от посадки до взлета, А потом займутся своими делами — Пуском машин или грустными глазами Той, что осталась на другой планете, Что вчера провожала, а завтра не встретит. Вынуты блокноты — догадки, подсчеты. Споры продолжаются — от посадки до взлета. Четыре бутерброда… летят на Землю. Падает звезда. Великое племя! Страшное племя! До чего ты знакомо. Господа Вселенной! Туча насекомых! 1957«Летают самолеты через полюс…»
Летают самолеты через полюс. Бежит на карте тоненькая нить. И путник видит ледяное поле, Его никто не вздумал растопить. И видит он — ракета небо режет, Прокладывает зыбкие пути. А люди строят тысячи убежищ, Чтоб жизнь свою кротовую спасти. И путник раскрывает пухлую газету: Рябят, стрекочут сотни телеграмм — Ожесточение большого света И тишина обыкновенных драм. Есть в самолете запасная дверца, Он к ней подходит — вниз легко лететь. Всё, кажется, продумано. А сердце? Его никто не вздумал отогреть. 1957Стихи (1964–1966)
Над рукописью
Если слово в строке перечеркнуто, А поверх уж другое топорщится, Значит, эти слова — заменители, Невесомы они, приблизительны, Значит, каждое слово уж выспалось, Значит, это — слова, а не исповедь, Значит, всё раздобыто, не добыто, Продиктовано роботом роботу.Люди, годы, жизнь
Пять лет описывал[204] не пестрядь быта, Не короля, что неизменно гол, Не слезы у разбитого корыта, Не ловкачей, что забивают гол. Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я Ходы еще не конченной игры. Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья, Он видит в гору путь и путь с горы. Меня корили — я не знаю правил, Болтлив, труслив — про многое молчу… Костра я не разжег, а лишь поставил У гроба лет грошовую свечу. На кладбище друзей, на свалке века Я понял: пусть принижен и поник, Он всё ж оправдывает человека, Истоптанный, но мыслящий тростник[205].Сонет
Давно то было. Смутно помню лето, Каналов высохших бродивший сок И бархата спадающий кусок — Разодранное мясо Тинторетто[206]. С кого спадал? Не помню я сюжета. Багров и ржав, как сгусток всех тревог И всех страстей, валялся он у ног. Я всё забыл, но не забуду это. Искусство тем и живо на века — Одно пятно, стихов одна строка Меняют жизнь, настраивают душу. Они ничтожны — в этот век ракет, И непреложны — ими светел свет. Всё нарушал, искусства не нарушу.Над стихами Вийона
«От жажды умираю над ручьем»[207]. Водоснабженцы чертыхались: «Поклеп! Тут воды ни при чем! Докажем — сделаем анализ». Вердикт гидрологов, врачей: «Вода есть окись водорода, И не опасен для народа Сей оклеветанный ручей». А человек, пускавший слухи, Не умер вовсе над ручьем, — Для пресечения разрухи Он был в темницу заключен. Поэт, ты лучше спичкой чиркай Иль бабу снежную лепи, Не то придет судья с пробиркой И ты завоешь на цепи. Хотя — и это знает каждый — Не каждого и не всегда Излечит от жестокой жажды Наичистейшая вода.Надежда
Любой сутяга или скаред, Что научился тарабарить, Попы, ораторы, шаманы, Пророки, доки, шарлатаны, Наимоднейшие поэты, Будь разодеты иль раздеты, Предатели и преподобья Всучают тухлые снадобья. Но надувают все лекарства, Оказывалось хлевом царство, От неудачника, как шкура, Бежит нежнейшая Лаура, И смертнику за час до смерти Приятель говорит «поверьте», Когда он все помои вылил, Когда веревку он намылил. Но есть одна — она не кинет, Каким бы жалким ни был финиш, Она растерянных и наглых, Без посторонних, с глазу на глаз, Готова не судить, не вешать, А всем наперекор утешить. О чем печалилась Пандора? Не стало славы и позора, Убрались ангелы и черти, Никто не говорит «поверьте», Но где-то в темном закоулке, На самом дне пустой шкатулки, Хоть всё доказано, хоть режь ты, Чуть трепыхает тень Надежды.Ветхая история
Не говори о маловерах, Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз[208] Не жили — корчились в пещерах, В грязи, в крови, средь склизких крыс, Задрипанные львы их драли, Лупили все кому не лень, И на худом пайке печали Они твердили всякий день, Пусты, обобраны, раздеты, Пытаясь обмануть конвой, Что к ним придет из Назарета Хоть и распятый, но живой. Пришли в рождественской сусали, Рубинами усыпав крест. Тут кардинал на кардинале И разругались из-за мест, Кадили, мазали елеем, Трясли божественной мошной, А ликовавшим дуралеям, Тем всыпали не по одной. Так притча превратилась в басню: Коль петь не можешь, молча пей. Конечно, можно быть несчастней, Но не придумаешь глупей.Сем Тоб и король Педро Жестокий
То было время раннее, И не было в Испании Ни золота, ни пороха, Ни флота Христофорова[209] Тогда еще горшечники Не рвались к бесконечности, Не ведали святители, Что значит относительность. Король[210] тягался с грандами, Корпел он над финансами, Слал против мавров конницу И заболел бессонницей. Все медики с примочками Не знали, как помочь ему. Коль спишь, так спишь, а úначе Лежишь один среди ночи. Сем Тоб[211], бедняк, юродствовал, Мудрил и стихоплетствовал, Ходил с большими пейсами — Был рода иудейского. А всё ж король попробовал И приказал Сем Тобу он: «Ты знаешь всё нечистое, Раскрой такую истину, Чтоб я уж не тревожился, А спал, как спать положено». Забыв про трон и титулы, Сем Тоб приказ тот выполнил: «На свете всё случается, На свете всё кончается. Луна бывает месяцем, Потом растет и светится, Она такая полная, Такая безусловная, Что не убавят толики Ни мавры, ни католики. Но вот луна уж нервная, Как говорят, ущербная, Отгрызена, отъедена — На свете так заведено». Король взревел неистово: «Ты не поэт, а выскочка! — И застучал он по столу: — Читаешь Аристотеля? Ах, морда ты жидовская, Не били уж давно тебя. Луна луной останется, А вот тебе достанется…» Сем Тобу крепко всыпали, Но он, как встарь, пописывал. А короля Кастилии Ближайший родич вылечил: Рубать умея смолоду, Отсек больную голову. Не мучаясь вопросами, Король заснул без просыпу.В Римском музее
В музеях Рима много статуй, Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит, Любой разбойный император Классический имеет вид. Любой из них, твердя о правде, Был жаждой крови обуян, Выкуривал британцев Клавдий, Армению терзал Траян. Не помня давнего разгула, На мрамор римляне глядят И только тощим Калигулой Пугают маленьких ребят. Лихой кавалерист пред Римом И перед миром виноват: Как он посмел конем любимым Пополнить барственный сенат? Оклеветали Калигýлу — Когда он свой декрет изрек, Лошадка даже не лягнула Своих испуганных коллег. Простят тому, кто мягко стелет, На розги розы класть готов, Но никогда не стерпит челядь, Чтоб высекли без громких слов.«Когда зима, берясь за дело…»
Когда зима, берясь за дело, Земли увечья, рвань и гной Вдруг прикрывает очень белой Непогрешимой пеленой, Мы радуемся, как обновке, Нам, простофилям, невдомек, Что это старые уловки, Что снег на боковую лег, Что спишут первые метели Не только упраздненный лист, Но всё, чем жили мы в апреле, Чему восторженно клялись. Хитро придумано, признаться, Чтоб хорошо сучилась нить, Поспешной сменой декораций Глаза от мыслей отучить.Последняя любовь
Календарей для сердца нет, Всё отдано судьбе на милость. Так с Тютчевым на склоне лет То необычное случилось[212], О чем писал он наугад, Когда был влюбчив, легкомыслен, Когда, исправный дипломат, Был к хаоса жрецам причислен. Он знал и молодым, что страсть Не треск, не звезды фейерверка, А молчаливая напасть, Что жаждет сердце исковеркать, Но лишь поздней, устав искать, На хаос наглядевшись вдосталь, Узнал, что значит умирать Не поэтически, а просто. Его последняя любовь Была единственной, быть может. Уже скудела в жилах кровь[213] И день положенный был прожит. Впервые он узнал разор, И нежность оказалась внове… И самый важный разговор Вдруг оборвался на полслове.Старость
1. «Всё призрачно, и свет ее неярок…»
Всё призрачно, и свет ее неярок. Идти мне некуда. Молчит беда. Чужих небес нечаянный подарок, Любовь моя, вечерняя звезда! Бесцельная, и увести не может. Я знаю всё, я ничего не жду. Но долгий день был не напрасно прожит — Я разглядел вечернюю звезду.2. «Молодому кажется, что в старости…»
Молодому кажется, что в старости Расступаются густые заросли, Всё измерено, давно погашено, Не пойти ни вброд, ни врукопашную, Любит поворчать, и тем не менее Он дошел до точки примирения. Всё не так. В моем проклятом возрасте Карты розданы, но нет уж козыря, Страсть грызет и требует по-прежнему, Подгоняет сердце, будто не жил я, И хотя уже готовы вынести, Хватит на двоих непримиримости, Бьешься, и не только с истуканами, Сам с собой. Еще удар — под занавес.3. «У человека много родин…»
У человека много родин, Разноречивым жизнь полна, Но если жить он непригоден, То родина ему одна. И уж не золотом по черни, А пальцем слабым на песке Короче, суше, суеверней Он пишет о своей тоске. Душистый разворочен ворох, Теперь не годы, только дни, И каждый пуще прежних дорог: Перешагни, перегони, Перелети, хоть ты объедок, Лоскут, который съела моль, — Не жизнь прожить, а напоследок Додумать, доглядеть позволь.4. «Устала и рука. Я перешел то поле…»
Устала и рука. Я перешел то поле. Есть мýка и мукá, но я писал о соли. Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо. Идут по полосе и думают о хлебе. Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен. Даст бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!5. «Позабыть на одну минуту…»
Позабыть на одну минуту, Может быть, написать кому-то, Может, что-то убрать, передвинуть, Посмотреть на полет снежинок, Погадать — додержусь, дотяну ли, Почитать о лихом Калигýле. Были силы, но как-то не вышло, А теперь уже скоро крышка. Не додумать, быть очень твердым, Просидеть над дурацким кроссвордом, — Что от правды и что от кривды, Не помогут ни мысли, ни рифмы. Это дальше теперь или ближе? Нужно выбраться, вытянуть, выжить. Время мешкает, топчется глухо, Не взлетает, как поздняя муха. Есть черед, а хотелось бы через. Нужно жить, а уж нет суеверий. Если держит еще — не надежда, А густая и цепкая нежность, Что из сердца не уберется. Если сердце всё еще бьется.6. «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я…»
Пора признать — хоть вой, хоть плачь я, Но прожил жизнь я по-собачьи, Не то что плохо, а иначе — Не так, как люди, или куклы, Иль Человек с заглавной буквы, — Таскал не доски, только в доску Свою дурацкую поноску, Когда луна бывала злая, Я подвывал, и даже лаял, Не потому, что был я зверем, А потому, что был я верен — Не конуре, да и не плети, Не всем богам на белом свете, Не дракам, не красивым вракам, Не злым сторожевым собакам, А только плачу в темном доме И теплой, как беда, соломе.7. «Из-за деревьев и леса не видно…»
Из-за деревьев и леса не видно. Осенью видишь, и вот что обидно: Как было много видно, но мнимо, Сколько бродил я случайно и мимо, Видеть не видел того, что случилось, Не догадался, какая есть милость — В голый, пустой, развороченный вечер Радость простой человеческой встречи.8. «Не время года эта осень…»
Не время года эта осень, А время жизни. Голизна, Навязанный покой несносен: Примерка призрачного сна. Хоть присказки, заботы те же, Они порой не по плечу. Всё меньше слов, и встречи реже. И вдруг себе я бормочу Про осень, про тоску. О Боже, Дойти бы, да не хватит сил. Я столько жил, а все не дожил, Не доглядел, не долюбил.9. «Свет погас…»
Свет погас. Говорят — через час Свет дадут Или нет. Слишком много мне лет, Чтобы ждать и гадать — Будет шторм или гладь. Далеко далека Та живая рука. А включат или нет, Будут врать или драть, Больше нет тех монет, Чтоб в орлянку играть.10. «Мое уходит поколение…»
Мое уходит поколение, А те, кто выжил, — что тут ныть, — Уж не людьми, а просто временем, Лежалые, уценены. Исхода нет, есть только выходы, Одни, хоть им уйти пора, Куда придется понатыканы, Пришамкивают «чур-чура», Не к спеху им — коль так завéдено, И старость чем не хороша? По дворику ступают медленно И умирают не спеша. Хоть мне осточертели горести, Хоть я обмерз и обожжен, Я с теми, кто по-детски борется, Кто прет дурацки на рожон, Кто не забыл, как свищет молодость, Кто жизнь продрог, а не продрых, И хоть хлебал, да всё не солоно, Хоть бит, не вышел из игры.«Морили прежде в розницу…»
Морили прежде в розницу, Но развивались знания. Мы, может, очень поздние, А может, слишком ранние. Сидел писец в Освенциме, Считал не хуже робота — От матерей с младенцами Волос на сколько добыто. Уж сожжены все родичи, Канаты все проверены, И вдруг пустая лодочка Оторвалась от берега, Без виз, да и без физики, Пренебрегая воздухом, Она к тому приблизилась, Что называла звездами. Когда была искомая И был искомый около, Когда еще весомая Ему дарила локоны. Одна звезда мне нравится. Давно такое видано, Она и не красавица, Но очень безобидная. Там не снует история, Там мысль еще не роздана, И видят инфузории То, что зовем мы звездами. Лети, моя любимая! Так вот оно, бессмертие, — Не высчитать, не вымолвить, Само собою вертится.В самолете
Носил учебники я в ранце, Зубрил латынь, над аргонавтами Зевал и, прочитав «Каштанку», Задумался об авторе. Передовые критики Поругивали Чехова: Он холоден к политике И пишет вяло, нехотя, Он отстает от века И говорит как маловер, Зауважают человека, Но после дождика в четверг; Он в «Чайке» вычурен, нелеп, Вздыхает над убитой птичкою, Крестьян, которым нужен хлеб, Лекарствами он пичкает. Я жизнь свою прожить успел, И, тридцать стран объехав, Вдруг в самолете поглядел И вижу — рядом Чехов. Его бородка и пенсне И говорит приглýшенно. Он обращается ко мне: «Вы из Москвы? Послушайте, Скажите, как вы там живете? Меня ведь долго не было. Я оказался в самолете, Хоть ничего не требовал. Подумать только — средь небес Закусками нас потчуют! Недаром верил я в прогресс, Когда нырял в обочину…» Волнуясь, я сказал в ответ Про множество успехов, Сказал о том, чего уж нет. И молча слушал Чехов. «Уж больше нет лабазников. Сиятельных проказников, Помещиков, заводчиков, И остряков находчивых, Уж нет Его Величества, Повсюду перемены, Метро и электричество, Над срубами антенны, Сидят у телевизора, А космонавты кружатся — Земля оттуда мизерна, А океаны — лужица, И ваша медицина На выдумки богата — Глотают витамины, Есть пищеконцентраты. Живу я возле Вознесенска[214], Ваш дом — кругом слонялись куры — Сожгли при отступленьи немцы. Построили Дворец культуры. Как мирно воевали прадеды! Теперь оружье стало ядерным…» Молчу. Нам до посадки полчаса. «Вы многое предугадали: Мы видели в алмазах небеса[215], Но дяди Вани отдыха не знали…» Сосед смеется, фыркает, Побрился, снял пенсне. «Что видели во сне? Сон прямо богатырский. Лечу я в Лондон — лес и лен, Я из торговой сети, Лес до небес и лен, как клен, Всё здорово на свете!»В Копенгагене
Кому хулить, а прочим наслаждаться — Удой возрос, любое поле тучно, Хоть каждый знает — в королевстве Датском По-прежнему не всё благополучно[216]. То приписать кому? Земле? Векам ли? Иль, может, в Дании порядки плохи? А королевство ни при чем, и Гамлет Страдает от себя, не от эпохи.Коровы в Калькутте
Как давно сказано, Не все коровы одним миром мазаны: Есть дельные и стельные, Есть комолые и бодливые, Веселые и ленивые, Печальные и серьезные, Индивидуальные и колхозные, Дойные и убойные, Одни в тепле, другие на стуже, Одним лучше, другим хуже. Но хуже всего калькуттским коровам: Они бродят по улицам, Мычат, сутулятся — Нет у них крова, Свободные и пленные, Голодные и почтенные, Никто не скажет им злого слова — Они священные. Есть такие писатели — Пишут старательно, Лаврами их украсили, Произвели в классики, Их не ругают, их не читают, Их почитают. Было в моей жизни много дурного, Частенько били — за перегибы, За недогибы, за изгибы, Говорили, что меня нет — «выбыл», Но никогда я не был священной коровой, И на том спасибо.В театре
Хоть славен автор, он перестарался: Сложна интрига, нитки теребя, Крушит героев. Зрителю не жалко — Пусть умирают. Жаль ему себя. Герой кричал, что правду он раскроет, Сразит злодея. Вот он сам — злодей. Другой кричит. У нового героя Есть тоже меч. Нет одного — людей. Хоть бы скорей антракт! Пить чай в буфете. Забыть, как ловко валят хитреца. А там и вешалка. Беда в билете: Раз заплатил — досмотришь до конца.Зверинец
Приснилось мне, что я попал в зверинец, Там были флаги, вывески гостиниц, И детский сад, и древняя тюрьма, Сновали лифты, корчились дома, Но не было людей. Огромный боров Жевал трико наездниц и жонглеров, Лишь одряхлевший рыжий у ковра То всхлипывал, то восклицал «ура». Орангутанг учил дикообраза, Что иглы сделаны не для показа, И, выполняя обезьяний план, Трудился оскопленный павиан. Шакалы в страхе вспоминали игры Усатого замызганного тигра[217], Как он заказывал хороший плов Из мяса дрессированных волков, А поросята «с кашей иль без каши» На вертел нацепляли зад мамаши. Над гробом тигра грузный бегемот[218] Затанцевал, роняя свой живот, Сжимал он грозди звезд в коротких лапах И розы жрал, хоть осуждал их запах. Потом прогнали бегемота прочь И приказали воду истолочь. «Который час?» — проснулся я, рыдая, Состарился, уж голова седая. Очнуться бы! Вся жизнь прошла, как сон. Мяукает и лает телефон: «Доклад хорька: луну кормить корицей», «Все голоса курятника лисице», «А носорог стал богом на лугу». Пусть бог, пусть рог. Я больше не могу!Стихи не в альбом
Смекалист, смел, не памятлив, изменчив, Увенчан глупо, глупо и развенчан, На тех, кто думал, он глядел с опаской — Боялся быть обманутым, но часто, Обманут на мякине, жил надеждой — Всеведущ он, заведомый невежда. Как Санчо, грубоват и человечен, Хоть недоверчив, как дитя беспечен, Не только от сохи и от утробы Он власть любил, но не было в нем злобы, Охоч поговорить, то злил, то тешил, И матом крыл, но никого не вешал.В доме литераторов
Для золота — старатели, Для полок — собиратели, Для школ — преподаватели, Чтоб знали кто и что, Но для чего писатели, Не ведает никто. Завалены заказами, Классическими фразами Иль, ударяясь в стих, Умеют пересказывать, Что сказано до них. Пораспрощался с музами, Ну чем тебе не бог, И хоть не связан узами, Но знает свой шесток. Оракулы, ораторы, Оратели и патеры Кричат про экскаваторы И прославляют труд В том Доме литераторов, Где и богов секут. Исхлестаны, взлелеяны, Подкованы, подклеены, Вдыхают юбилеями Душистый дерматин, И каждому по блеянью Положен сан и чин. Но вот поэту томному, Прозаику скоромному Старуха шепчет «стоп!» Приносят в Дом тот, в комнату, Двуличен был, в огромную, Был высечен, — в укромную — Вполне приличный гроб. У ног иль изголовия С глазищами коровьими Становятся друзья, Один принес пословицу, Другому нездоровится, А третьему нельзя. Четвертый молвит вежливо: «Скажи, любимый, где же ты? Уж нет зубов для скрежета, И скорбь легла на грудь. Мы будем жить по-прежнему, А ты, назло всей нежити, Ступай в последний путь! Мы из того же семени, Мы все пойдем за премией, Как ты ходил вчера. Иди путями теми… Нет, Тебе уж спать пора!»Очки Бабеля
Средь ружей ругани и плеска сабель, Под облаками вспоротых перин, Записывал в тетрадку юный Бабель[219] Агонии и страсти строгий чин. И от сверла настойчивого глаза Не скрылось то, что видеть не дано: Ссыхались корни векового вяза, Взрывалось изумленное зерно. Его ругали — это был очкастый, Он вместо девки на ночь брал тетрадь, И петь не пел, а размышлял и часто Не знал, что значит вовремя смолчать. Кто скажет, сколько пятниц на неделе? Все чешутся средь зуда той тоски. Убрали Бабеля, чтоб не глядели Разбитые, но страшные очки.«Называли нас „интеллигентщиной“…»
Называли нас «интеллигентщиной», Издевались, что на книгах скисли, Были мы, как жулики, развенчаны И забыли, что привыкли мыслить. Говорили и ногами топали, Что довольно нашей праздной гнили, Нужно воз вытаскивать безропотно, Мы его как милые тащили, Нас топтали — не хватало опыта, Мы скакали, будто лошадь в мыле. Но на кухню не дали нам пропуска И без нас ту кашу заварили. Было много пройдено и добыто, Оказалось, что ошибся повар, И должны мы кашу ту расхлебывать Без интеллигентских разговоров.«Конечно, есть у вас загибы…»
«Конечно, есть у вас загибы, Вы правильней писать могли бы, Вы зря винили нас в молчанье, Для нас блеяние баранье, — Вы вслушаться не захотели, — Звучит как соловьины трели. Поскольку возраст ваш преклонный, Мы говорим вам благосклонно: Коль слух ослаб и нет наитий, Вы напоследок помолчите. А мы вас очень уважаем И угостим вас сладким чаем». Как в старости противны сласти! Будь то в моей бараньей власти, Я бы сказал: «Ругайся крепче, Побереги твой ветхий чепчик. Ты, не стыдясь, зубами щелкай, Как это подобает волку, И загрызи, хоть я и грубый, Хоть у тебя ослабли зубы, Хоть хочешь ты на самом деле, Чтоб все бараны уцелели». Мне, право, не до чаепитий, А вы немного погодите, Вы не останетесь в обиде — Расскажете на панихиде Про то, что был баран и сплыл он С весьма неподходящим рылом, Что всем баранам в назиданье Он даже сдох не по-бараньи.Переводы
Из французской поэзии
Народные песни
Пернетта (XV век)
Пернетта слова не скажет, Она до зари встает, Тихо сидит за пряжей, Слезы долгие льет. Жужжит печальная прялка. Пернетта молчит и молчит. Отцу Пернетту жалко, Пернетте отец говорит: «Скажи, что с тобою, Пернетта? Может быть, ты больна, Может быть, ты, Пернетта, В кого-нибудь влюблена?» Отвечает Пернетта тихо: «Я болезни в себе не найду. Но бежит за ниткою нитка, А я все сижу и жду». «Пернетта, не плачь без причины, Жениха я тебе найду, Приведу прекрасного принца, Барона к тебе приведу». На дворе уж вечер темный, Задувает ветер свечу. «Не хочу я глядеть на барона, На принца глядеть не хочу. Я давно полюбила Пьера И буду верна ему, Я хочу только друга Пьера, А его посадили в тюрьму». «Никогда тебе Пьера не встретить, Ты скорее забудь про него — Приказали Пьера повесить, На рассвете повесят его». «Пусть тогда нас повесят вместе, Буду рядом я с ним в петле. Пусть тогда нас зароют вместе, Буду рядом я с ним в земле. Посади на могиле шиповник — Я об этом прошу тебя, Пусть прохожий взглянет и вспомнит, Что я умерла, любя».По дороге, по Лоррэнской (XVI век)
По дороге, по Лоррэнской Шла я в грубых, в деревенских — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Повстречала трех военных По дороге, по Лоррэнской — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Посмеялись три военных Над простушкой деревенской — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Не такая я простушка, Не такая я дурнушка — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Не сказала им ни слова, Что я встретила другого, — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Шла дорогой, шла тропинкой, Шла и повстречала принца — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Он сказал, что я всех краше, Он мне дал букет ромашек — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Если расцветут ромашки, Я принцессой стану завтра — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо. Если мой букет завянет, Ничего со мной не станет — Топ-топ-топ, Марго, В этаких сабо.Рено (XVI век)
Ночь была, и было темно, Когда вернулся с войны Рено. Пуля ему пробила живот. Мать его встретила у ворот: «Радуйся, сын, своей судьбе — Жена подарила сына тебе». «Поздно, — ответил он, — поздно, мать. Сына мне не дано увидать. Ты мне постель внизу приготовь, Не огорчу я мою любовь, Вздох проглоти, слезы утри, Спросит она — не говори». Ночь была, и было темно, Ночью темной умер Рено. «Скажи мне, матушка, скажи скорей, Кто это плачет у наших дверей?» — «Это мальчик упал ничком И разбил кувшин с молоком». — «Скажи мне, матушка, скажи скорей, Кто это стучит у наших дверей?» — «Это плотник чинит наш дом, Он стучит своим молотком». — «Скажи мне, матушка, скажи скорей, Кто поет это у наших дверей?» — «Это, дочь моя, крестный ход, Это певчий поет у ворот». — «Завтра крестины, скорей мне ответь, Какое платье мне лучше надеть?» — «В белом платье идут к венцу, Серое платье тебе не к лицу, Выбери черное, вот мой совет, Черного цвета лучше нет». Утром к церкви они подошли. Видит она холмик земли. «Скажи мне, матушка, правду скажи, Кто здесь в могиле глубокой лежит?» — «Дочь, не знаю, с чего начать, Дочь, не в силах я больше скрывать. Это Рено — он с войны пришел, Это Рено — он навек ушел». — «Матушка, кольца с руки сними, Кольца продай и сына корми. Мне не прожить без Рено и дня. Земля, раскройся, прими меня!» Земля разверзлась, мольбе вняла. Земля разверзлась, ее взяла.Возвращение моряка (XVII век)
Моряк изможденный вернулся с войны, Глаза его были от горя черны. Он видел немало далеких краев, А больше он видел кровавых боев. «Скажи мне, моряк, из какой ты страны?» — «Хозяйка, я прямо вернулся с войны. Судьба моряка — всё война и война. Налей мне стаканчик сухого вина». Он выпил стаканчик и новый налил. Он пел, выпивая, и с песнями пил. Хозяйка взирает на гостя с тоской, И слезы она утирает рукой. «Скажите, красотка, в чем гостя вина? Неужто вам жалко для гостя вина?» — «Меня ты красоткой, моряк, не зови. Вина мне не жалко, мне жалко любви. Был муж у меня, он погиб на войне, Покойного мужа напомнил ты мне». — «Я слышал, хозяйка, от здешних людей, Что муж вам оставил двух малых детей. А время бежит, будто в склянках песок, Теперь уже третий, я вижу, сынок». — «Сказали мне люди, что муж мой убит, Что он за чужими морями лежит. Вина мне не жалко, что осень — вино, А счастья мне жалко, ведь счастье одно». Моряк свой стаканчик поставил на стол, И молча он вышел, как молча пришел, Печально пошел он на борт корабля, И вскоре в тумане исчезла земля.Враки (XVII век)
— Я видела — лягушка Дала солдату в зубы. У зуба на макушке Росли четыре чуба, И каждый чуб был выше, Чем эти вот дома, И даже выше мыши. — Не врете ль вы, кума? — Я видела — два волка Петрушкой торговали, Кричали втихомолку И щуку отпевали, Король влюблен был в щуку, От щуки без ума, Он предложил ей руку. — Не врете ль вы, кума? — Я видела — улитка Двух кошек обряжала, В иглу вдевала нитку, А нитка танцевала, Баран был очень весел, И шум, и кутерьма, Их чижик всех повесил. — Не врете ль вы, кума?Господин Ля Палисс (XVII век)
Кто ни разу не встречал Господина Ля Палисса[220], Тот, конечно, не видал Господина Ля Палисса. Но скрывать тут нет причин, Мы об этом скажем прямо: Ля Палисс был господин И поэтому не дама. Знал он с самых ранних лет, Что впадают реки в море, Что без солнца тени нет И что счастья нет без горя. Жизнь была ему ясна, Говорил он, строг и точен: «Чтоб проверить вкус вина, Нужно отхлебнуть глоточек». Если не было дождя, Выходил он на прогулку. Уходил он, уходя, Булкой называл он булку. Жизнь прожив холостяком, Не сумел бы он жениться, И поэтому в свой дом Ввел он чинную девицу. У него был верный друг, И сказал он сразу другу, Что поскольку он — супруг, У него теперь супруга. По красе и по уму, Будь бы он один на свете, Равных не было б ему Ни в мечтах, ни на примете. Был находчив он везде, Воле Господа послушен, Плавал только по воде И не плавал он по суше. Повидал он много мест, Ездил дальше, ездил ближе, Но когда он ездил в Брест, Не было его в Париже. Чтил порядок и закон, Никаким не верил бредням. День, когда скончался он, Был и днем его последним. В пятницу он опочил. Скажем точно, без просчета — Он на день бы дольше жил, Если б дожил до субботы.Гора (XVIII век)
Между мной и любимым гора крутая. Мы в гору идем и печально вздыхаем. Тяжело подыматься, вниз идти легче. Над горой облака, на руке колечко. Мне сказал любимый: «Мы намучились оба, Дай мне, любимая, немного свободы». О какой свободе ты вздыхаешь, милый? За крутой горой я тебя полюбила. У меня в саду на чинаре ветвистой До утра поет соловей голосистый. На своем языке поет соловьином Про то, как печально на свете любимым. Если кто-нибудь сроет гору крутую, Мы камни притащим, построим другую.Франсуа Вийон
Баллада поэтического состязания в Блуа
От жажды умираю над ручьем. Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом, Чужбина мне — страна моя родная. Я знаю всё, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, Кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Нагой, как червь, пышней я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз — я вижу розы мая. Долина слез мне радостнее рая. Зажгут костер — и дрожь меня берет, Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я и вдруг забуду, Кому презренье, а кому почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, Но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, а сплю я только днем. Я по земле с опаскою ступаю, Не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полыни горше мед. Но как понять, где правда, где причуда? А сколько истин? Потерял я счет. Я всеми признан, изгнан отовсюду Не знаю, что длиннее — час иль год, Ручей иль море переходят вброд? Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаянье мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду.Из «Большого завещания» («Я знаю, что вельможа и бродяга…»)
Я знаю, что вельможа и бродяга, Святой отец и пьяница поэт, Безумец и мудрец, познавший благо И вечной истины спокойный свет, И щеголь, что как кукла разодет, И дамы — нет красивее, поверьте, Будь в ценных жемчугах они иль нет, Никто из них не скроется от смерти. Будь то Парис иль нежная Елена[221], Но каждый, как положено, умрет. Дыханье ослабеет, вспухнут вены, И желчь, разлившись, к сердцу потечет, И выступит невыносимый пот. Жена уйдет, и брат родимый бросит, Никто не выручит, никто не отведет Косы, которая, не глядя, косит. Скосила — и лежат белее мела, Нос длинный заострился, как игла, Распухла шея, и размякло тело. Красавица, нежна, чиста, светла, Ты в холе и довольстве век жила, Скажи, таков ли твой ужасный жребий — Кормить собой червей, истлеть дотла? — Да, иль живой уйти, растаять в небе.Баллада и молитва
Ты много потрудился, Ной, Лозу нас научил сажать, При сыновьях лежал хмельной[222]. А Лот, отведав кружек пять, Не мог понять, где дочь, где мать[223]. В раю вам скучно без угара, Так надо вам похлопотать За душу стряпчего Котара[224]. Он пил, и редко по одной, Ведь этот стряпчий вам под стать, Он в холод пил, и пил он в зной, Он пил, чтоб лечь, он пил, чтоб встать, То в яму скок, то под кровать. О, только вы ему под пару, Словечко надо вам сказать За душу стряпчего Котара. Вот он стоит передо мной, И синяков не сосчитать, У вас за голубой стеной Небось вода и тишь да гладь, Так надо стряпчего позвать, Он вам поддаст немного жара, Уж постарайтесь постоять За душу стряпчего Котара. Его на небо надо взять, И там, по памяти по старой, С ним вместе бочку опростать За душу стряпчего Котара.Из жалоб прекрасной оружейницы
Где крепкие, тугие груди? Где плеч атлас? Где губ бальзам? Соседи и чужие люди За мной бежали по пятам, Меня искали по следам. Где глаз манящих поволока? Где тело, чтимое, как храм, Куда приходят издалёка? Гляжу в тоске — на что похожа? Как шило нос, беззубый рот, Растрескалась, повисла кожа, Свисают груди на живот. Взгляд слезной мутью отдает, Вот клок волос растет из уха. Самой смешно — смерть у ворот, А ты всё с зеркалом, старуха. На корточках усевшись, дуры, Старухи все, в вечерний час Мы раскудахчемся, как куры, Одни, никто не видит нас, Всё хвастаем, в который раз, Когда, кого и как прельстила. А огонек давно погас — До ночи масла не хватило.Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения
Швея Мари, в твои года Я тоже обольщала всех. Куда старухе? Никуда. А у тебя такой успех. Тащи ты и хрыча, и шкета, Тащи блондина и брюнета, Тащи и этого, и тех. Ведь быстро песенка допета, Ты будешь как пустой орех, Как эта стертая монета. Колбасница, ты хоть куда, Колбасный цех, сапожный цех — Беги туда, беги сюда, Чтоб сразу всех и без помех! Но не зевай, покуда лето, Никем старуха не согрета, Ни ласки ей и ни утех, Она лежит одна, отпета, Как без вина прокисший мех, Как эта стертая монета. Ты, булочница, молода, Ты говоришь — тебе не спех, А прозеваешь — и тогда Уж ни прорух, и ни прорех, И ни подарков, ни букета, Ни ночи жаркой, ни рассвета, Ни поцелуев, ни потех, И ни привета, ни ответа, А позовешь — так смех и грех, Как эта стертая монета. Девчонки, мне теперь не смех, Старуха даром разодета, Она как прошлогодний снег, Как эта стертая монета.Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады
У солдата в медной каске, У монаха и у вора, У бродячего танцора, Что от Троицы до Пасхи Всем показывает пляски, У лихого горлодера, Что рассказывает сказки, У любой бесстыжей маски Шутовского маскарада — Я у всех прошу пощады. У девиц, что без опаски, Без оттяжки, без зазора Под мостом иль у забора Потупляют сразу глазки, Раздают прохожим ласки, У любого живодера, Что свежует по указке, — Я у всех прошу пощады. Но доносчиков не надо, Не у них прошу пощады. Их проучат очень скоро — Без другого разговора Для показки, для острастки, Топором, чтоб знали, гады, Чтобы люди были рады, Топором и без огласки. Я у всех прошу пощады.Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою…»)
Я душу смутную мою, Мою тоску, мою тревогу По завещанию даю Отныне и навеки Богу И призываю на подмогу Всех ангелов — они придут, Сквозь облака найдут дорогу И душу Богу отнесут. Засим земле, что наша мать, Что нас кормила и терпела, Прошу навеки передать Мое измученное тело, Оно не слишком раздобрело, В нем черви жира не найдут, Но так судьба нам всем велела, И в землю все с земли придут.Послание к друзьям
Ответьте горю моему, Моей тоске, моей тревоге. Взгляните: я не на дому, Не в кабаке, не на дороге И не в гостях, я здесь — в остроге. Ответьте, баловни побед, Танцор, искусник и поэт, Ловкач лихой, фигляр хваленый, Нарядных дам блестящий цвет, Оставите ль вы здесь Вийона? Не спрашивайте почему, К нему не будьте слишком строги, Сума кому, тюрьма кому, Кому роскошные чертоги. Он здесь валяется, убогий, Постится, будто дал обет, Не бок бараний на обед, Одна вода да хлеб соленый, И сена на подстилку нет, Оставите ль вы здесь Вийона? Скорей сюда, в его тюрьму! Он умоляет о подмоге, Вы не подвластны никому, Вы господа себе и боги. Смотрите — вытянул он ноги, В лохмотья жалкие одет. Умрет — вздохнете вы в ответ И вспомните про время оно, Но здесь, средь нищеты и бед, Оставите ль вы здесь Вийона? Живей, друзья минувших лет! Пусть свиньи вам дадут совет. Ведь, слыша поросенка стоны, Они за ним бегут вослед. Оставите ль вы здесь Вийона?Баллада истин наизнанку
Мы вкус находим только в сене И отдыхаем средь забот, Смеемся мы лишь от мучений, И цену деньгам знает мот. Кто любит солнце? Только крот. Лишь праведник глядит лукаво, Красоткам нравится урод, И лишь влюбленный мыслит здраво. Лентяй один не знает лени, На помощь только враг придет, И постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет, Дурак нам истину несет, Труды для нас — одна забава, Всего на свете горше мед, И лишь влюбленный мыслит здраво. Коль трезв, так море по колени, Хромой скорее всех дойдет, Фома не ведает сомнений, Весна за летом настает, И руки обжигает лед. О мудреце дурная слава, Мы море переходим вброд, И лишь влюбленный мыслит здраво. Вот истины наоборот: Лишь подлый душу бережет, Глупец один рассудит право, И только шут себя блюдет, Осел достойней всех поет, И лишь влюбленный мыслит здраво.Спор между Вийоном и его душою
— Кто это? — Я. — Не понимаю, кто ты? — Твоя душа. Я не могла стерпеть. Подумай над собою. — Неохота. — Взгляни — подобно псу, — где хлеб, где плеть, Не можешь ты ни жить, ни умереть. — А отчего? — Тебя безумье охватило. — Что хочешь ты? — Найди былые силы. Опомнись, изменись. — Я изменяюсь. — Когда? — Когда-нибудь. — Коль так, мой милый, Я промолчу. — А я, я обойдусь. — Тебе уж тридцать лет. — Мне не до счета. — А что ты сделал? Будь умнее впредь. Познай! — Познал я всё, и оттого-то Я ничего не знаю. Ты заметь, Что нелегко отпетому запеть. — Душа твоя тебя предупредила. Но кто тебя спасет? Ответь. — Могила. Когда умру, пожалуй, примирюсь. — Поторопись. — Ты зря ко мне спешила. — Я промолчу. — А я, я обойдусь. — Мне страшно за тебя. — Оставь свои заботы. — Ты — господин себе. — Куда себя мне деть? — Вся жизнь — твоя. — Ни четверти, ни сотой. — Ты в силах изменить. — Есть воск и медь. — Взлететь ты можешь. — Нет, могу истлеть. — Ты лучше, чем ты есть. — Оставь кадило. — Взгляни на небеса. — Зачем? Я отвернусь. — Ученье есть. — Но ты не научила. — Я промолчу. — А я, я обойдусь. — Ты хочешь жить? — Не знаю. Это больно. — Опомнись! — Я не жду, не помню, не боюсь. — Ты можешь всё. — Мне всё давно постыло. — Я промолчу. — А я, я обойдусь.Рондо
Того ты упокой навек, Кому послал ты столько бед, Кто супа не имел в обед, Охапки сена на ночлег, Как репа гол, разут, раздет — Того ты упокой навек! Уж кто его не бил, не сек? Судьба дала по шее, нет, Еще дает — так тридцать лет. Кто жил похуже всех калек — Того ты упокой навек!Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожидании виселицы
Ты жив, прохожий. Погляди на нас. Тебя мы ждем не первую неделю. Гляди — мы выставлены напоказ. Нас было пятеро. Мы жить хотели. И нас повесили. Мы почернели. Мы жили, как и ты. Нас больше нет. Не вздумай осуждать — безумны люди. Мы ничего не возразим в ответ. Взглянул и помолись, а Бог рассудит. Дожди нас били, ветер тряс и тряс, Нас солнце жгло, белили нас метели. Летали вороны — у нас нет глаз. Мы не посмотрим. Мы бы посмотрели. Ты посмотри — от глаз остались щели. Развеет ветер нас. Исчезнет след. Ты осторожней нас живи. Пусть будет Твой путь другим. Но помни наш совет: Взглянул и помолись, а Бог рассудит. Господь простит — мы знали много бед. А ты запомни — слишком много судей. Ты можешь жить — перед тобою свет, Взглянул и помолись, а Бог рассудит.Баллада примет
Я знаю, кто по-щегольски одет, Я знаю, весел кто и кто не в духе, Я знаю тьму кромешную и свет, Я знаю — у монаха крест на брюхе, Я знаю, как трезвонят завирухи, Я знаю, врут они, в трубу трубя, Я знаю, свахи кто, кто повитухи, Я знаю всё, но только не себя. Я знаю летопись далеких лет, Я знаю, сколько крох в сухой краюхе, Я знаю, что у принца на обед, Я знаю — богачи в тепле и в сухе, Я знаю, что они бывают глухи, Я знаю — нет им дела до тебя, Я знаю все затрещины, все плюхи, Я знаю всё, но только не себя. Я знаю, кто работает, кто нет, Я знаю, как румянятся старухи, Я знаю много всяческих примет, Я знаю, как смеются потаскухи, Я знаю — проведут тебя простухи, Я знаю — пропадешь с такой, любя, Я знаю — пропадают с голодухи, Я знаю всё, но только не себя. Я знаю, как на мед садятся мухи, Я знаю смерть, что рыщет, всё губя, Я знаю книги, истины и слухи, Я знаю всё, но только не себя.Четверостишие, которое написал Вийон, приговоренный к повешению
Я — Франсуа, чему не рад. Увы, ждет смерть злодея, И сколько весит этот зад, Узнает скоро шея.Пьер де Ронсар
«Старухой после медленного дня…»
Старухой после медленного дня, Над пряжей, позабывши о работе, Вы нараспев стихи мои прочтете: — Ронсар в дни юности любил меня. Служанка, голову от сна клоня И думая лишь о своей заботе, На миг очнется. Именем моим вспугнете Вы двух старух у зимнего огня. Окликнете — ответить не сумею; Я буду мертвым, под землей истлею. И, старая, вы скажете, грустя: — Зачем его любовь я отвергала? Вот роза расцветает, час спустя Ее не будет — доцвела, опала.Жоашен Дю Белле
Из книги «Олива»
LIX. «Голубка над кипящими валами…»
Голубка над кипящими валами Надежду обреченным принесла — Оливы ветвь. Та ветвь была светла, Как весть о мире с тихими садами. Трубач трубит. Несет знаменщик знамя. Кругом деревни сожжены дотла. Война у друга друга отняла. Повсюду распри и пылает пламя. О мире кто теперь не говорит? Слова красивы и посулы лживы. Но я гляжу на эту ветвь оливы: Моя надежда, мой зеленый щит, Раскинь задумчивые ветви шире И обреченным ты скажи о мире!LXXXIII. «Уж ночь на небо выгоняла стадо…»
Уж ночь на небо выгоняла стадо Своих блуждающих косматых звезд, И ночи конь, вздымая черный хвост, Уж несся вниз, в подземную прохладу. Уж в Индии, встревожены и рады, Перекликались сонмы сонных звезд. Всё розовело. Трав был слышен рост. Туманов плотных дрогнула ограда. Тогда, вся в жемчуге, светясь, горя, Вдруг показалась новая заря. И день, пристыжен смутным ожиданьем, Далекой Индии большой Восток И пыль анжуйских голубых дорог[225] Залил своим как бы двойным сияньем.Из книги «Древности Рима»
III. «Увидев Рим с холмами неживыми…»
Увидев Рим с холмами неживыми, Безмолвствует в смятенье пилигрим: Нагромождение камней пред ним. Напрасно Рим найти он тщится в Риме. Был пышен Рим и был непобедим, Он миром правил. В серо-синем дыме — Обломки славы, щебень. Где же Рим? Уж Рима нет, осталось только имя. Он побеждал чужие города, Себя он победил — судьба солдата. И лишь несется, как неслась когда-то, Большого Тибра желтая вода. Что вечным мнилось, рухнуло, распалось. Струя поспешная одна осталась.VII. «Повсюду славен, повсеместно чтим…»
Повсюду славен, повсеместно чтим, С поверженными, праздными богами. С убогим мусором в разбитом храме, Нам открывается великий Рим. Был блеск его уму непостижим, Беседовали башни с небесами, И вот, расщеплен, он лежит пред нами, Он нас томит ничтожеством своим. Где слава цезарей, рабов работа, Побед кровавых пышные ворота, Героев рой, бессмертия ключи? Всё унесли века. Страшней нет власти. Я говорю себе: коль эти страсти Испепелило время, промолчи.XXVII. «Пришельца потрясает запустенье…»
Пришельца потрясает запустенье. Те арки, что страшили небеса, И дерзкий мост, и мрамора леса — Пожарище, камней нагроможденье. Но этот прах — источник вдохновенья; Еще звучат былого голоса, И зодчий, открывая чудеса, Возносит к небу дивные строенья. Не думайте, что всё окрест мертво, Колонны рухнули, не мастерство. Обманчивому облику не верьте; Вот он — веками истребленный Рим, Он воскресает, он неистребим, Рожденный страстью, он сильнее смерти.Из книги «Сожаления»
I. «Я не берусь проникнуть в суть природы…»
Я не берусь проникнуть в суть природы, Уму пытливому подать совет, Исследовать кружение планет, Архитектуру мира, неба своды. Не говорю про битвы, про походы. В моих стихах высоких истин нет, В них только сердца несколько примет, Рассказ про радости и про невзгоды. Не привожу ни доводов, ни дат. Потомкам не твержу, как жили предки. Негромок я, цветами не богат. Мои стихи — случайные заметки. Но не украшу, не приглажу их — В них слишком много горестей моих.V. «Льстецы покажут нам искусство лести…»
Льстецы покажут нам искусство лести, Влюбленные раскроют сердца страсть, Хвастун свой подвиг приукрасит всласть, Вздохнет пройдоха о доходном месте. Ревнивец будет бурно жаждать мести, Ханжа докажет, что от Бога власть, Подлиза скажет, как к стопам припасть, Вояка бравый помянет о чести, Хитрец откроет мудрость дурака, Дурак его похвалит свысока, Моряк расскажет, как он плавал в море, Злословить будут злые языки, Шутить не перестанут шутники. Я в горе вырос и прославлю горе.IX. «В лесу ягненок блеет — знать…»
В лесу ягненок блеет — знать, Овцу зовет. Меня вскормила Ты, Франция. Кого мне звать? Ты колыбель, и ты могила. Меня ты нянчила, учила. Меняют стих, меняют стать. Но как найти другую мать? Кому ты место уступила? Зову, кричу, а толка нет: Лишь эхо слышу я в ответ. Другим тепло, другим отрада, А мне зима, а мне сума, И волчий вой сведет с ума. Я — тот, что отстает от стада.XII. «Служу — я правды от тебя не прячу…»
Служу — я правды от тебя не прячу, — Хожу к банкирам, слушаю купцов. Дивишься ты — на что я годы трачу, Как петь могу, где время для стихов. Поверь, я не пою, в стихах я плачу, Но сам заворожен звучаньем слов, Я до утра слагать стихи готов, В слезах пою, и не могу иначе. Так за работою поет кузнец, Иль, веслами ворочая, гребец, Иль путник, вдруг припомнив дом родимый, Так жнец поет, когда невмочь ему, Иль юноша, подумав о любимой, Иль каторжник, кляня свою тюрьму.XXXI. «Счастлив, кто, уподобясь Одиссею…»
Счастлив, кто, уподобясь Одиссею, Исколесит полсвета, а потом, В чужих порядках сведущ, зрел умом, На землю ступит, что зовет своею. Когда ж узрю Луару, что лелею, Мою Луару, мой убогий дом И дым над крышей в небе голубом? Я не хочу величья Колизея. Не мил мне мрамор. Как ни дивен Рим, Он не сравнится с домиком моим. На что бы ни глядел и ни был где бы, Передо мной не боги на горе, Не быстрый Тибр, а милая Лире[226] И Франции единственное небо.XXXIX. «Хочу я верить, а кругом неверье…»
Хочу я верить, а кругом неверье. Свободу я люблю, но я служу. Слова чужие нехотя твержу, Который год ряжусь в чужие перья. Льстецы трусливо шепчутся за дверью, Вельможа лжет вельможе, паж — пажу. Не слышу правды, правды не скажу, Хожу, твержу уроки лицемерья. Ищу покоя, а покоя нет. Я из одной страны спешу в другую И тотчас о покинутой тоскую. Стихи люблю, а мне звучит в ответ Всё та же речь фальшивая, пустая, — Святоши ложь, признанья краснобая.CVI. «Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то…»
Зачем глаза им? Ведь посмотрит кто-то, Доложит. Уши им зачем? Для сна? Они не видят горя, им видна Доспехов и трофеев позолота. Кто плачет там? Им воевать охота. Страна измучена, разорена, Но между ними и страной стена. Еще поцарствовать — вот их забота. Страна в слезах. У них свои игрушки: Знамена, барабаны, трубы, пушки. Приказ готов. Оседлан быстрый конь. Так, на холме король троянский[227] стоя Глядел, как перед ним горела Троя, И, обезумев, прославлял огонь.Поль Верлен
Сердце тихо плачет…
Il pleut doucement sur la ville.
A. Rimbaud[228] Сердце тихо плачет, Точно дождик мелкий, Что же это значит, Если дождик плачет? Падая на крыши, Плачет мелкий дождик, Плачет тише, тише, Падая на крыши. И, дождю внимая, Сердце тихо плачет. Отчего — не зная, Лишь дождю внимая. И ни зла, ни боли! Всё же плачет сердце, Плачет оттого ли, Что ни зла, ни боли?Андре Спир
Франции
О прелестная страна, Поглотившая столько народов, Неужели ты хочешь поглотить меня? Твой язык меняет мою душу; Ты делаешь мои мысли ясными. Ты слагаешь уста в улыбку. И твои выхоленные поля, И оберегаемые леса, Леса, в которых больше никому не страшно, И нежность твоих очертаний, И плавные реки, и дома, и виноградники… Я уже почти твой!.. Полюблю ли я скоро твои словесные бои, Безделушки и ленты, Кафе и маленькие театры, Изысканные салоны? Стану ли я размеренным, как твои огороды? Томным и расслабленным, Как стриженые дубы твоих изгородей? Приникну ли я к земле, Как твои послушные яблони? Начну ли я слагать рифмованные стишки Для милых дам, покрытых кружевами? Вежливость, ты и меня хочешь сделать пресным! Шутка, ты хочешь и мою душу сделать удобной! О скорбь, о гнев, о безумье, Чем я буду без вас? Придите, спасите меня От рассудка этой счастливой страны!Гийом Аполлинер
«Много погибло прекрасных грез…»
Много погибло прекрасных грез Это над ними плачут ивы Сладкий Пан любовь и Христос Умерли Кошки мяучат тоскливо И я не в силах сдержать своих слез Я знающий лэ[229] для шателен[230] И рабов страшные гимны Для огромных мурен[231] И злые хвалы для любимой И романсы для грустных сирен Я верен как хозяину собака Как побеги плюща стволам Как верны запорожские казаки Набожные в грабеже и в драке Вере родной и степям Султан им писал «придите Склонитесь скорей предо мной О казаки я ваш повелитель И мой полумесяц златой Вы как иго на шее влачите Станьте моими верными слугами Покоритесь приказу моему» Они встретили смехом посланье И ответили тотчас ему При огарка тусклом мерцаньеКрокусы
Долина осенью пышна но ядовита И медленно бредут по ней коровы Вбирая темный и тягучий яд От крокусов долины той лиловой Как крокус пышен и лилов твой взгляд И в жизнь мою из глаз твоих струится Такой же медленный и страшный яд Шумя проходят школьники В передниках играя на гармонике Срывают крокусы играющие дети Срывают крокусы похожие по цвету на твои большие веки Которые дрожат под ветром злым Пастух поет тихонько и покинутые им Ступая медленно бросают навсегда коровы Долину зло расцвеченную осенью лиловой«Я смело взглянул назад…»
Я смело взглянул назад На трупы моих дней Они обозначали пройденную мной дорогу Одни из них сгнили средь флорентийских церквей Или в лимонных рощах Которые во всякое время года Цветут и дают плоды Другие плакали в тавернах умирая Где дрожали яркими лепестками Большие зрячие мулатки И электрические розы еще раскрываются В садах моих воспоминанийРобер Деснос
Куплеты улицы Сен-Мартен
Улица Сен-Мартен[232] у меня была, Улица Сен-Мартен мне теперь не мила, Улица Сен-Мартен даже днем темна, Не хочу от нее и глотка вина. У меня был друг Платар Андре, Платара Андре увезли на заре. Крышу и хлеб мы делили года. Увезли на заре, кто знает куда. Улица Сен-Мартен, много крыш и стен. Но Платар Андре не на Сен-Мартен…«Взгляни — у бездны на краю трава…»
Взгляни — у бездны на краю трава, Послушай песнь — она тебе знакома, Ее ты пела на пороге дома, Взгляни на розу. Ты еще жива. Прохожий, ты пройдешь. Умрут слова, Глава уйдет разрозненного тома. Ни голоса, ни жатв, ни водоема. Не жди возврата. Ты блеснешь едва. Падучая звезда, ты не вернешься, Подобно всем, исчезнешь, распадешься, Забудешь, что звала собой себя. Материя в тебе себя познала. И всё ушло, и эхо замолчало, Что повторяло: «Я люблю тебя».Из поэзии Латинской Америки
Пабло Неруда
Мадрид (1936)
Мадрид, одинокий и гордый, июль напал на твое веселье[233] бедного улья, на твои светлые улицы, на твой светлый сон. Черная икота военщины, прибой яростных ряс, грязные воды ударились о твои колени. Раненый, еще полный сна, охотничьими ружьями, камнями ты защищался, ты бежал, роняя кровь, как след корабля, с ревом прибоя, с лицом, навеки изменившимся от цвета крови, подобный звезде из свистящих ножей. Когда в полутемные казармы, когда в ризницы измены вошел твой клинок, ничего не было, кроме тишины рассвета, кроме шагов с флагами, кроме кровинки в твоей улыбке.Объяснение
Вы спросите: где же сирень, где метафизика, усыпанная маками, где дождь, что выстукивал слова, полные пауз и птиц? Я вам расскажу, что со мною случилось. Я жил в Мадриде, в квартале, где много колоколен, много башенных часов и деревьев. Оттуда я видел сухое лицо Кастилии: океан из кожи. Мой дом называли «домом цветов»: повсюду цвела герань. Это был веселый дом с собаками и с детьми Помнишь, Рауль[234]? Помнишь, Рафаэль[235]? Федерико[236] — под землей, — помнишь балкон? Июнь метал цветы в твой рот. Всё окрест было громким: горы взволнованных хлебов, базар Аргуэльес и памятник, как чернильница, среди рыбин. Оливковое масло текло в жбаны. Сердцебиение ног заполняло улицы. Метры, литры. Острый настой жизни. Груды судаков. Крыши и усталая стрелка на холодном солнце. Слоновая кость картошки, а помидоры до самого моря. В одно утро всё загорелось. Из-под земли вышел огонь. Он пожирал живых. С тех пор — огонь, с тех пор — порох, с тех пор — кровь. Разбойники с марокканцами и бомбовозами[237], разбойники с перстнями и с герцогинями, разбойники с монахами, благословлявшими убийц, пришли, и по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей. Шакалы, от которых отступятся шакалы, гадюки — их возненавидят гадюки, камни — их выплюнет репейник. Я видел, как в ответ поднялась кровь Испании, чтобы потопить вас в одной волне гордости и ножей.Мадрид (1937)
Сейчас я вспоминаю всё и всех, в самых глубинах, хоть за землей, но все же на земле. Вторая зима[238]. В этом городе, где всё, что я люблю, нет больше ни хлеба, ни света. Над сухой геранью хрустальный холод. Ночью в стены, пробитые снарядом, как быком, входят горестные сны. На рассвете средь укреплений — никого, только брошенная телега. В сгоревшем доме с дверью в небо вместо ласточек заплесневелый камень и тишина веков. Базар. Немного нищей зелени. Сюда привозят каждый день дорогой крови рыбу, апельсины — сестре или вдове. Город горя раненый расщепленный, подточенный, осколки стекла и кровь, город, лишенный ночи, город ночи, город тишины и канонады, город героев. Новая зима, вторая, голая — ни хлеба, ни шагов. Солдатская луна и город. Всё и всем. Нищая земля, и жилы настежь — кровь, большое сердце, а слезы падают, как пули, на истерзанную землю, как голуби — звеня. Кровь, что ни час, что ни день. Я не говорю о вас, уснувшие герои: перед вашей волей дрогнула земля. Я слушаю: на улице зима идет. Дом, где я жил, дома и город — всё оцеплено огнем. Уж больше года, как предатели с разбега ударились об этот берег. Ток твоей крови их поразил. Ни огонь, ни смерть не скрыли этих стен. Теперь убийцы караулят: епископ с низким лбом, золотая рота бездельников, генерал и тридцать сребреников. Вокруг тебя центурии слезливых богомольцев, эскадроны протухших послов, вся свора в мундирах. Хвала тебе, хвала в тумане в свете, колыбель грозы, воздух крови, в котором рождается пчела! Сейчас, Хуан, ты дышишь, Педро, ты смотришь, думаешь, ты спишь. Сейчас в ночи без света, без сна, без отдыха, одни, среди бетона и проволоки, на юге, в сердце, на каждом повороте люди, без неба и без тайн, обороняют город Мадрид, в высокой тишине победы, потрясенный, как сломанная роза, и окруженный лавром.Николас Гильен
«Полковники из терракоты…»
Полковники из терракоты, Политиков темный лай, Булочка с маслом и кофе. Гитара моя, играй! Чиновники все на месте, Берут охотно на чай Двести долларов в месяц. Гитара моя, играй! Янки дают нам кредиты, Они купили наш край — Родина всего превыше. Гитара моя, играй! Болтают вовсю депутаты, Сулят горемыке рай, А за всем этим сахар и сахар… Гитара моя, играй!Моя родина кажется сахарной
Моя родина кажется сахарной, Но сколько горечи в ней! Моя родина кажется сахарной, Она из зеленого бархата, Но солнце из желчи над ней. А небо над ней — как чудо: Ни грома, ни туч, ни бурь. Ах, Куба, скажи мне, откуда, Ах, Куба, скажи мне, откуда Взяла ты эту лазурь? Птица прилетела неживая, Прилетела с песенкой печальной. Ах, Куба, тебя я знаю! На крови растут твои пальмы, Слезы — вода голубая. За твоей улыбкой рая, — Ах, Куба, тебя я знаю, — За твоей улыбкой рая Вижу я слезы и кровь, За твоей улыбкой рая — Слезы и кровь. Люди работают в поле, Похоронены в темной могиле, Они умерли до того, как жили, Люди, что работают в поле. А те, что живут в городах, Бродят вечно голодные, Просят: «Подайте грош», — Без гроша и в раю умрешь. Они бродят вечно голодные, Те, что живут в городах, Даже если носят шляпы модные И танцуют на светских балах. Была испанской, Стала — янки. Да, сударь, да. Была испанской, Стала — янки. Для бедных — беда, Земля родная и голая, Земля чужая и голодная. Если протягивают руку Робко или смело, На радость или на муку, Черный или белый, Индеец или китаец — Рука руку знает, Рука руке отвечает. Американский моряк — Хорошо! — В харчевне порта — Хорошо! — Показал мне кулак — Хорошо! Но вот он валяется мертвый — Американский моряк, Тот, что в харчевне порта Показал мне кулак. Хорошо!Когда я пришел на эту землю
Когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал. Я пошел по дороге со всеми и этим себя утешал, потому что, когда я пришел на землю, никто меня не ожидал. Я гляжу, как люди приходят, как люди уходят в славе и в обиде. Я иду по дороге. Нужно глядеть, чтоб видеть, нужно идти по дороге. Некоторые плачут от обид, а я смеюсь смело: это мой щит, мои стрелы — я смеюсь смело. Я иду вперед, нет у меня посоха. Кто идет — поет. Я иду вперед, я пою досыта, я иду вперед, нет у меня посоха. Гордые меня не любят: я простой, а они — знать, но они умрут, эти гордые люди, и я приду их отпевать, они меня потому и не любят, что я приду их отпевать. Я гляжу, как люди приходят, как люди уходят в славе или в обиде. Я иду по дороге, нужно жить, чтоб видеть, нужно идти по дороге. Когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал. Я пошел по дороге со всеми и этим себя утешал, потому что, когда я пришел на эту землю, никто меня не ожидал.Венесуэла
Она — как сало, белее мела, луна большая Венесуэлы. И тот же голос поет усердно про тот же голод того же негра и про рубашку — она из пепла, про печь без углей — она ослепла. Земля — и койка и одеяло. Как это грустно! Начнем сначала: она устала и побледнела, луна большая Венесуэлы.О поэзии и поэтах
Данте — величие поэзии
Величие Данте сказывается хотя бы в том, с каким восхищением говорят о нем во всех углах нашего разъединенного мира — и обитатели подлинного или предполагаемого ада, и люди, не думающие о том, что они пребывают в чистилище, и зыбкие тени рая.
Чтение — творчество; каждый читатель «Комедии» прибавляет к тексту Данте толику себя, да и своего века. Тысячи комментариев заполняют длиннущие полки библиотек. Данте превращается в героя «Комедии», о нем пишут так же произвольно, как о Гамлете или Дон Кихоте. Данте выглядит то угрюмым схоластом, то страстным ниспровергателем догм, то просветленным мудрецом, который только по рассеянности пап не причислен к лику святых.
Алигьери мечтал о посмертной славе и не ошибся. Пожалуй, только в эпоху, почитавшую поэзию дурным тоном, о Данте забывали, и когда в 1757 году итальянец Беттинелли пренебрежительно отозвался о «Божественной комедии», Вольтер написал ему: «Я очень ценю смелость, с которой вы провозгласили, что Данте — сумасшедший, а поэма чудовищна».
Когда пришла пора романтики и поэзии, занавес поднялся и «Комедию» открыли — и вдохновленный ею Гёте, и Новалис, и Байрон, и Шелли, и Пушкин.
Начался поток комментариев. Одна книга мне показалась забавной: в 1853 году исступленный католик Ару посвятил ее папе Пию VII, и о силе фантазии автора свидетельствует заглавие «Данте — еретик, революционер и социалист». Это, однако, исключение… Обычно комментаторы, споря друг с другом, пытались подвести Данте на ту позицию, которую они защищали. Его объявляли своим и католики, и атеисты, и монархисты, и республиканцы. В эпоху фашизма начитанные изуверы доказывали, что Данте и Вергилий были прямыми предками дуче и д’Аннунцио.
Спор затянулся. Его ведут главным образом не любители поэзии, а начетчики всех мастей. Конец XIII — начало XIV века был переходной эпохой, ее легко назвать и поздним Средневековьем и ранним Возрожденьем, легко поворачивать лицо Данте то назад, то вперед. Даже в советской литературе мы видим полемику. В двадцатые годы Фриче спокойно обозвал Данте «империалистом в средневековом значении этого слова». Против него выступил Луначарский, который считал Данте «величайшим поэтом раннего Возрождения». В 1965 году один литературовед и поэт писал: «Советские дантологи видят в Данте прежде всего политика и моралиста», — а молодой политик и моралист Баткин[239] написал эссе, показывая сложность, глубину, силу Данте-поэта.
Я рассказал о всех этих старых и новых пререканиях не для того, чтобы самому нацепить на портрет ярлычок, зарегистрировать его по такому-то рангу. (Хотя Данте изобразил знавший его Джотто, я не верю в портретное сходство: Джотто мог так же написать Данте, как Данте описал Беатриче. Остался условный профиль повторенный Рафаэлем, и вот даже в стихах Александра Блока показалась «тень Данта с профилем орлиным». Лица нет, есть орлиный профиль, условность. «Суровый Дант» Пушкина. «Угрюмый образ из далеких лет» Брюсова).
О тысячах комментариев, о древних и новых спорах я вспомнил лишь для того, чтобы мне легче было говорить о Данте не как специалисту, а как писателю и читателю нашего времени. Нужно ли говорить, что Данте меня притягивает как поэт, и только как поэт? Можно ли, глядя на картины Леонардо да Винчи, заменить живописное восприятие мыслями о труде инженера или анатомиста? Можно ли, читая «Фауста», думать о работах Гёте по изучению света? Меня не интересует ни тяжба белых гвельфов, ни папа Бонифаций VIII, ни знакомство Данте с компасом, ни его представление о геометрии, будь она евклидовой или неевклидовой, ни его мечты о всемирной монархии, ни его концепция небесного совершенства, ни многое другое, о чем писали и пишут все дантологи мира, в том числе и некоторые мои соотечественники. Я верю в силу и жизненность поэзии, и если познания Данте устарели, то его чувства, выраженные согласно законам искусства, живы, они пылают и жгут.
Самые различные поэты — от Сен-Жон Перса до Заболоцкого — писали о поэтической силе «Комедии». Данте сомневался в возможности перевода стихов и, конечно, был прав: добротный перевод терцинами всей «Божественной комедии», над которым поэт Лозинский просидел много лет, — это всё же не магия слов, а рассказ об этой магии.
Неудивительно, что Данте наиболее потряс советских поэтов, которые могли прочитать его в подлиннике, — Анну Ахматову и Осипа Мандельштама. Об эссе Мандельштама я скажу позднее, а сейчас хочу привести стихотворение Ахматовой, написанное в 1936 году, — о разрыве ягненка с милой овчарней:
Он и после смерти не вернулся В старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся, Этому я эту песнь пою. Факел, ночь, последнее объятье, За порогом дикий вопль судьбы. Он из ада ей послал проклятье И в раю не мог ее забыть, — Но босой, в рубахе покаянной, Со свечой зажженной не прошел По своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной…У каждого поколения своя судьба, и каждое поколение по-своему читает «Комедию» Данте. Я хочу сказать о том, что мне представляется наиболее существенным для нас, людей 1965 года, в творчестве великого флорентийца, что отвечает нашим путешествиям по аду, чистилищу и раю.
Начну с тенденциозности: уж слишком часто за нее нас ругают. «Завербованные поэты» — эти слова, связанные с легкой усмешкой, должны служить объяснением того, что советская литература последних десятилетий не достигает потолка великих русских писателей прошлого века. Объяснение, однако, ложное. Мне приводилось ссылаться на многих писателей, которым тенденциозность никак не помешала в их творчестве, напротив, была дрожжами — и для Стендаля, и для Достоевского, и для многих иных. Но лучшего примера, чем Данте, не найти. Он не только не чуждался политики, много лет он ею жил, из-за нее узнал изгнание:
«Ты будешь знать, как горестен устам чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням».
«Комедия» была напечатана в годы борьбы. Алигьери еще вел переговоры с другими эмигрантами — белыми гвельфами, и, разочарованный ими, все больше сближался с гибеллинами, надеялся на интервенцию Генриха VII, словом, не отрывался от политической жизни. «Божественная комедия» наполнена гражданской страстью. В «Чистилище» Данте восклицает:
«Италия, раба, скорбей очаг, в великой буре судно без кормила, не госпожа народов, а кабак!»
Тенденциозность не только помогла Данте написать «Комедию», она наполнила многие песни страстью, жизнью. А кого теперь может заинтересовать борьба гвельфов с гибеллинами? Да разве тех из дантологов, которые, посвятив свою жизнь поэту, забывают о самой сущности его поэзии.
Принижает искусство не тенденциозность, а попытка исказить сущность искусства. Часто приходится напоминать о весьма старой и простой истине — бессмысленно вбивать гвозди скрипкой: и потому, что лучше для этого взять молоток, и потому, что скрипка может пригодиться при других обстоятельствах. Стендаль, который бывал вдоволь тенденциозен, на полях рукописи «Люсьена Левена» написал: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не может больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор».
Может быть, Данте и не смог бы сформулировать с такой точностью задачу поэта, но, будучи одним из самых гениальных поэтов мира, он сумел создать поэму, которая потрясает читателей не пятьдесят, а шестьсот пятьдесят лет спустя: не исторические споры потрясают, а человеческие страсти.
Я хотел сказать об этом, потому что любое осуждение художественного произведения так называемого «завербованного писателя» наших дней, правильное или неправильное, сторонники эстетического направления связывают с тенденциозностью. Однако тенденциозность не помешала моим современникам Маяковскому, Элюару, Брехту, Арагону, Альберти, Пабло Неруде стать большими поэтами. Может быть, юбилей Данте поможет некоторым эстетам задуматься над взаимоотношениями тенденциозности и объективности, временного и постоянного.
~~~
Другим вопросом, волнующим нас в 1965 году, я назову вопрос о реализме Данте-поэта. Слово «реализм» порой звучит абстрактно, как числа в поэме Алигьери: его поносят или превозносят, предают анафеме или канонизируют.
Мне хочется прежде всего сказать об ошибке некоторых историков, которые рассматривают смены форм в искусстве так, как надлежит делать, говоря о социальном прогрессе или об успехах точных наук. Стендаль в своей книге, посвященной итальянской живописи, говорит о Джотто как о неумелом зачинателе высокого искусства Возрождения. Таково было общераспространенное мнение в первой четверти XIX века. Потом наступила пора признания XIV века. Сначала люди увлеклись Боттичелли, позднее «открыли» Мазаччо и заговорили о том, что у этого художника, рано умершего, уже видны все элементы современной живописи. Этого нельзя сказать о Рафаэле. Но это не умаляет совершенства его фресок. В зависимости от устремлений и вкусов эпохи меняется отношение к художникам прошлого. Можно ли сказать, что Джотто примитивен, потому что не знал академической эклектики Гвидо Рени? Ведь то, что Джотто хотел выразить, было весьма отличным от знаний и канонов XVII века. Разве можно объяснить обобщенные формы Пикассо или Брака неумением изображать мир как ряд раскрашенных фотографий?
Общество эволюционировало. Географические, физические, астрономические знания увеличивались. В XIII веке скульпторы готических соборов давали выразительную энциклопедию познаний, и некоторые сюжеты барельефов могут нас рассмешить. Однако мастерство этих скульпторов было никак не ниже, а выше, чем многих мастеров второй половины нашего века.
Гюго писал:
«Наука непрестанно продвигается вперед, подчеркивая самое себя. Плодотворные вымарки!.. Наука — лестница. Поэзия — взмах крыльев… Шедевр искусства рождается навеки. Данте не перечеркивает Гомера».
Гюго знал, что земля вертится. Наши современники узнали, что бесконечность не абстракция, а реальность. Это перечеркивает космогонию и космографию Данте, но отнюдь не его поэзию.
Реализм в искусстве начинается с ощущения живой жизни, природы человека, и, конечно же, Данте, как все подлинные художники, был реалистом. Мы читаем с увлечением его «Комедию», хотя мы равнодушны и к символике цифр, и к святости христианских догм, и к мечтаниям Данте о миролюбивой и справедливой монархии.
Не только ад и чистилище, но даже рай описан Данте по-земному, по всему тому, что он видел и пережил. Конечно, его картины фантастичны, но разве фантазия не входит в реальный мир человека? Разве «Шинель» Гоголя и «Процесс» Кафки не реалистичны по-своему? Реалистическая фантастика — таково видение Данте, это связано и с душевной природой поэта, и с замыслом «Комедии». Гойя обладал огромной фантазией и показал войну иначе, чем батальные художники, его современники. Но Пикассо в «Гернике» дал нечто иное — предчувствие Хиросимы. Блуждая по загробному миру, Данте все время видит перед собой знакомые картины земли. Среди теней — живой человек.
Мне хочется привести отрывок из неопубликованного эссе Осипа Мандельштама «Разговор о Данте»[240]:
«Когда встает Фарината, презирающий ад наподобие богатого барина, попавшего в тюрьму, маятник беседы уже раскачивается во весь диаметр сумрачной равнины, изрезанной огнепроводами. Понятие скандала в литературе гораздо старше Достоевского. <…> Данте нарывается на нежелательную и опасную встречу с Фаринатой совершенно так же, как проходимцы Достоевского наталкиваются на своих мучителей — в самом неподходящем месте. Навстречу плывет голос, пока что еще неизвестно чей <…> „Тосканец, ты, что городом огня живым идешь и скромен столь примерно, приди сюда и стань вблизи меня. Ты, судя по наречию, наверно, сын благородной родины моей, быть может, мной измученной чрезмерно“. <…> Данте — внутренний разночинец, для него характерна совсем не любезность, а нечто противоположное. Нужно быть слепым кротом для того, чтобы не заметить, что на всем протяжении „Божественной комедии“ Данте не умеет себя вести, не знает, как ступить, что сказать, как поклониться <…> Внутреннее беспокойство и тяжелая смутная неловкость, сопровождающие на каждом шагу неуверенного в себе, как бы недовоспитанного, не умеющего применить свой внутренний опыт и объективировать его в этикет измученного и загнанного человека, — они-то и придают поэме всю прелесть, всю драматичность, они-то и работают над созданием ее фона как психологической загрунтовки. Если бы Данте пустить одного — без „дольче падре“, без Вергилия, скандал неминуемо разразился бы в самом начале и мы имели бы не хождение по мукам, а самую гротескную буффонаду <…> „Божественная комедия“ вводит нас вовнутрь лаборатории душевных качеств Данте».
Тоска по земле не только в аду, но и в раю, множество точных определений, найденных образов, а главное — сложность поэта, его духовный мир позволяют нам причислить Данте к поэтам реальности.
О какой схоластике может идти речь, когда видишь Одиссея, который, наперекор греческим легендам, не осторожен, не хитер, который предлагает своим товарищам плыть дальше дозволенного, забывая о родном доме и о Пенелопе.
«О, братья, — так сказал я, — на закат пришедшие дорогой многотрудной! Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их остаток скудный отдайте постиженью новизны, чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный! Подумайте о том, чьи вы сыны: вы созданы не для животной доли, но к доблести и к знанью рождены».
Можно ли говорить о торжестве Данте, религиозного моралиста, над поэтом, который перед описанием мук Одиссея пишет:
«Как селянин, на холме отдыхая, — когда сокроет ненадолго взгляд тот, кем страна озарена земная, и комары, сменяя мух, кружат, — долину видит полной светляками, там, где он жнет, где режет виноград».
Данте вспоминает земной пейзаж и вдруг видит огонь, который терзает не флорентийских ростовщиков или алчных пап, даже не героя «Одиссеи», а человека, стремившегося увидеть и узнать. У гувернера Вергилия на всё есть объяснение, но Данте, который сам отправляется в несуществующий мир, хочет увидеть и узнать запретное, содрогается: ад приподнимается, а рай становится всё более и более бесплотным.
Данте — и гуманист, и реалист, но прежде всего великий поэт, который переступает и через границы христианской догмы, и через границы упрощенной реалистической концепции. Приходится простить ему то открытие второго невидимого мира, за которое был жестоко наказан Одиссей, примириться с тем, что Данте бродил не только по улицам итальянских городов, но и в подземном мире смутных чувствований.
В «Чистилище» Данте встречает певца Касселу, которого знал и любил на земле. Поэт неуверенно просит:
«О, если ты не отлучен от дара нежных песен, что, бывало, мою тревогу погружали в сон, не уходи, не спев одну сначала моей душе…»
Кассела поет канцону о любви из дантовского «Пира». Зачарованные, слушают его и временные постояльцы чистилища, и Данте, и даже разумный Вергилий; и только страж блуждающих душ, государственный деятель Рима и моралист Катон-младший, покончивший с собой после разгрома республиканской партии, вдруг начинает бранить слушающих дивную музыку: «Ленивые души!.. Бегите в гору!..»
~~~
Что же пережило и войны гвельфов и гибеллинов, и каноны религии, и учения Аристотеля и Платона? «Комедия» Данте, сила поэзии, музыка — как бы на это ни сердились все Катоны-младшие…
Конечно, работа историков велика. Мы наслаждаемся чудными яблоками, а они тщательно анализируют ту почву, на которой выросла яблоня.
Любовь в моей стране к Данте велика, тиражи переводов растут, и «Комедию» читают не только люди, интересующиеся историей, но и любители поэзии, этого древнейшего и неподдающегося логическому анализу искусства.
«Комедия» кончается хорошо известными стихами: «Любовь, что движет солнце и светила».
Каждый мальчишка теперь знает, что Данте ошибался, считая, будто Солнце и другие светила кружатся вокруг Земли, но каждый современный человек, если есть в нем толика человеческого, твердо знает, что Данте был прав: любовь направляет Солнце, другие светила, в том числе не очень большую, но довольно важную планету, именуемую Землей. Поэзия побеждает.
1965
Поэзия Франсуа Вийона
В 1431 году английские захватчики сожгли на костре Жанну д’Арк как «отступницу и еретичку».
В 1431 году родился Франсуа Вийон — самый французский и самый еретический из всех поэтов Франции.
Ужасное зрелище являла тогда родина Вийона. Горели города. Кони топтали нивы. Было много предательства, много подвигов, много трупов, много побед, но не было ни хлеба, ни спокойствия. К ужасам войны прибавились неурожайные годы, на редкость суровые зимы и, наконец, чума. На обочинах дорог валялись трупы. Банды разбойников бродили по стране. Волки нападали на деревни. Судьи быстро судили, и палачи быстро вешали. На перекрестках росли виселицы, раскачивались тела повешенных.
Из Италии приходили первые голоса Возрождения. Мир, очерненный аскетами Средневековья, смутно улыбался, несмотря на холод и голод. Боясь потерять власть над смятенными душами, церковь усердствовала: что ни день, находили новых еретиков, бросали их в подземелья, вешали, жгли.
В угрюмых замках доживали свой век участники последнего Крестового похода. Они в сотый раз рассказывали внукам о штурме сирийских городов, о борьбе Креста и Полумесяца. Молодые над ними тихонько посмеивались. Молодых интересовало, выгонят ли из Франции англичан, справится ли молодой король с восстанием еретиков, которых называли «пражанами», потому что они вдохновлялись примером чешских гуситов; молодых интересовало, на кого собираются напасть «живодеры» — так именовали большие шайки бандитов.
Еще продолжались поэтические турниры. Последние поэты Средневековья еще восхваляли рыцарские добродетели. Бродячие жонглеры еще распевали на ярмарках стихи о милосердии Богородицы. Но любители искусств сокрушенно говорили, что наступает варварская эпоха: нет больше ни автора «Романа Розы», ни других нежных певцов былого. Новые церковные здания не могут сравниться с соборами Шартра или Парижской Богоматери. Модный художник Фуке изображает Святую Деву слишком вульгарно. Жизнь грубеет, и красота уходит. Из всего, что написал Франсуа Вийон, который оставался для эстетов своего времени подозрительным и грубоватым острословцем, они признавали только балладу, оплакивающую дам былого, с ее элегическим припевом:
Но где же прошлогодний снег?Откуда же пришел Франсуа Вийон?
В Париже, на улице Сен-Жак была небольшая церковь Святого Бенедикта, расписанная мастерами Средневековья. Капелланом одной из часовен этой церкви был некто Гийом Вийон; он усыновил маленького Франсуа, которого мать не могла прокормить. Франсуа Вийон потом писал:
Я беден, беден был я с детства, Лишь нищеты тяжелый крест Отцу оставил как наследство Мой дед по имени Орест.В церкви Франсуа глядел на чертей, которые поджаривали грешников, и на крылатых праведников с глазами новорожденных. Мать клала поклоны Святой Деве. Вийон смеялся в жизни надо всем: над верой и над знанием, над вельможами и над епископами, смеялся и над самим собой, но всегда с умилением вспоминал мать:
Она печалится о сыне, И хоть просторен белый свет, Нет у меня другой твердыни, Убежища другого нет.Для матери он написал молитву и в ней вспомнил фрески церкви Святого Бенедикта:
Я — женщина убогая, простая, И букв не знаю я. Но на стене Я вижу голубые кущи рая И грешников на медленном огне, И слезы лью, и помолиться рада — Как хорошо в раю, как страшно ада!Вийону было немногим более двадцати лет, когда он попал в скверную переделку. Ему нравилась женщина, которую звали Катрин де Воссель; у него был соперник, некто Сермуаз; на паперти церкви они подрались. Сермуаз ножом рассек губу Вийону. Тогда Вийон бросил камень в голову обидчика. Сермуаз умер. Цирюльник, который промыл рану Вийона, сообщил о происшедшем полиции, и Вийону пришлось убраться из Парижа.
Он долго бродяжничал. В 1456 году король Карл VII согласился помиловать поэта, направившего ему слезное ходатайство. Вийон вернулся в Париж и написал «Малое завещание». Это шутливое произведение, в котором поэт одаривает различными предметами своих друзей и врагов.
Можно сказать, что с этого времени Вийон стал поэтом. С этого времени он стал также студентом Сорбонны, или, как он говорил, «бедным школяром». Сорбонна привлекала его отнюдь не знаниями. «Школяры» были неподсудны королевскому суду, и это весьма интересовало Вийона, так как он вел далеко не добродетельный образ жизни.
Год спустя мы находим Вийона в кабаке «Бисетр», где собирались преступники. Он водился с Монтиньи, которого позднее приговорили к повешению за убийство, с шулером Гара, с ворами Лупа и Шолляром. Вийон не терял времени, его звали «отцом-кормильцем» — он умел мастерски украсть окорок и бочку вина. Он просил, чтобы в тюрьме Шатле для него оставили самую удобную камеру «трех нар».
Полиция искала виновников: были совершены крупные кражи. Средь белого дня из кельи монаха-августинца воры унесли пятьсот золотых экю. В коллеже, где настоятелем был дядюшка Катрин ле Воссель, они взломали часовню и забрали шестьсот экю. Одного из участников кражи задержали, и он выдал Вийона. Поэту снова пришлось оставить Париж.
Он уехал в Анжер и, видимо, там сошелся с прославленной бандой разбойников. Он написал ряд стихотворений на блатном языке.
Вскоре его арестовали. Он был приговорен к повешению вместе с другими виновными. Ожидая казни, он написал «Эпитафию»:
Нас было пятеро. Мы жить хотели. И нас повесили. Мы почернели. Мы жили, как и ты. Нас больше нет. Не вздумай осуждать — безумны люди. Мы ничего не возразим в ответ. Взглянул и помолись, а Бог рассудит.Попадая в тюрьмы, Вийон неизменно обращался с ходатайством о защите к влиятельным друзьям.
Многие именитые люди ценили поэтический дар «бедного школяра». Наиболее верным защитником Вийона был принц Карл Орлеанский, один из крупнейших поэтов своего времени. Прося о помощи, Вийон порой пытался растрогать своих покровителей, а порой издевался над ними. Он был вором, но царедворцем он никогда не был. Пушкин как-то в полемическом азарте[241], вспомнив «королевского слугу» Клемана Маро, сказал, что французская поэзия родилась в передней и не пошла дальше гостиной. Поэзия Вийона родилась не в передних, а в притонах и в тюрьмах.
В 1461 году Вийону исполнилось тридцать лет. По приказу епископа Тибо д’Оссиньи его посадили в тюрьму в небольшом городке Мён-сюр-Луар, близ Орлеана. Только что взошедший на престол Людовик XI, приехав в Мён-сюр-Луар, приказал освободить поэта. Вийон торжественно проклял зловредного епископа, а молодому королю пожелал двенадцать сыновей.
Вскоре после освобождения из тюрьмы Вийон, вернувшись в Париж, написал «Большое завещание». Он снова одаривает всех всем, но на этот раз перед нами произведение зрелого мастера: в нем не только стихи на случай и колкие эпиграммы, в нем — философия поэта.
Мы ничего не знаем о конце Франсуа Вийона. Вряд ли он умер своей смертью: не такой у него был нрав, да и времена были не такие. Может быть, он погиб во время одного из разбойных нападений? А может быть, «мастера трогательных обрядов» (так называли тогда палачей) в конце концов всё же его повесили: ведь не каждый год объявляется амнистия по случаю коронации…
Мы знаем, что ему нравились многие женщины: и Катрин де Воссель, и толстуха Марго, и курносая Розали, и «любезная перчаточница». Однако его любовные стихи полны условных поэтических формул, либо написаны с издевкой. Так, он обращается к Марго со следующим признанием:
Что ветер, снег? Мне хлеб всегда готовый. Я жулик, а она нашла такого. Кто лучше? Хороши они вдвоем. И верьте, рыбка стоит рыболова…Вспоминая о Катрин, он говорит:
Встречать — встречал, любить — любили. Из-за нее меня лупили, Как на реке белье колотят, Как на гумне снопы молотят…Трудно себе представить, что он мог умереть, «любви стрелой пронзенный», как он писал, отдавая должное поэтическим традициям.
Жил он всегда в нищете и голоде; с необычайной живостью описывал различные яства, обеды и ужины богачей:
Огромные на блюдах рыбы, Бараний бок на вертеле, Лепешек горы, масла глыбы, Чего уж нет на том столе — Творог, глазунья и желе, И крем, и пышки, и свинина, И лучшие в округе вина. Он сам кусочка не возьмет, Он сам вина не разольет — Не утруждать бы белых рук, На то есть много резвых слуг.Он знал, что у богатых не только сила, но и право. Он рассказывает, как к Александру Македонскому привели пойманного пирата. Царь пытался пристыдить грабителя, но тот ответил:
А в чем повинен я? В насилье? В тяжелом ремесле пирата? Будь у меня твоя флотилья, Будь у меня твои палаты, Забыл бы я про все улики, Не звал бы вором и пиратом, А стал бы я как ты, Великий, И уж, конечно, император.За спиной Вийона стояло Средневековье с его юродивыми и мистиками, с танцами смерти и с райскими видениями. Человек, однажды приговоренный к смерти и много раз ее ожидавший, не мог о ней не думать. Перед глазами Вийона вставали не кущи рая, не костры ада, и думал он не о загробной жизни, в которую вряд ли верил, а о конце первой, доподлинной жизни:
Сгниют под каменным крестом Тела красотки, и монаха, И рыцарей, не знавших страха, Откормленных с большим трудом И сливками, и пирогом…Он был первым поэтом Франции, который жил не в небесах, а на земле и который сумел поэтически осмыслить свое существование. Однажды принц Карл Орлеанский устроил в своем замке, в Блуа, поэтический турнир. Такие состязания были любимой забавой просвещенной знати. Карл Орлеанский предложил участникам турнира написать балладу, которая должна была начинаться словами:
От жажды умираю над ручьем…
Для принца это было нелепицей, забавной шуткой. Я читал балладу, написанную им на приведенные слова. Карл Орлеанский был хорошим поэтом, и стихи у него вышли хорошие, в меру умные, в меру смешные — милая, светская забава. Читал я балладу и другого участника турнира, известного в то время поэта Жана Робертэ. Он был знатоком латинской поэзии, и он блеснул своим красноречьем. Вийон, однако, принял всерьез предложенную тему и в свою балладу вложил многое: это — исповедь человека, освобожденного от догмы, да и от веры, его сомнения, его противоречия, его внутренняя сложность:
Мне из людей всего понятней тот, Кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Нагой, как червь, пышней я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду.В его стихах, порой лукавых, порой откровенных до грубости, глубокая человечность; это — жизнь без проповедей. Олимп для него был опустевшей горой или привычной рифмой, а слова Священного Писания — теми трогательными фресками, глядя на которые умильно вздыхала его старая неграмотная мать. Занимался новый день — светлый и трудный.
Может быть, чересчур прямой, народный характер поэзии Вийона, может быть, и неприглядная биография «бедного школяра» отталкивали от него читателей последующих столетий, пышных и самоуверенных, как новые дворцы, сменившие суровые, темные замки. Современники Расина и Корнеля возмущенно отворачивались от «Большого завещания». Пушкин, видимо, основываясь на одном из трактатов XVIII века, писал:
«Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народным поэтом»[242].
Вийону Пушкин противопоставлял Шекспира и Кальдерона. Однако «Большое завещание» было написано за сто лет до рождения Шекспира и за полтораста до рождения Кальдерона. Мы знаем теперь, что Вийон был первым поэтом Возрождения. Однако не только в этом его значение: он остается близким, понятным нашему времени. Его поэзия оказала огромное влияние на крупных поэтов XIX и XX веков как во Франции, так и далеко за ее пределами.
Позволю себе короткую личную справку. Я переводил стихи Вийона сорок лет назад и недавно вернулся к «Большому завещанию». Многие из моих давних увлечений теперь мне кажутся непонятными, порой смешными. Но стихи Вийона восхищают меня в старости, как они восхищали меня в молодости. Говорят, что для поэта важно выдержать испытание временем. Бесспорно, Вийон его выдержал. Конечно, во французских школах заучивают стихи Буало, а не Вийона; однако французы хорошо знают поэзию «бедного школяра». Пожалуй, еще труднее выдержать испытания теми тремя или четырьмя десятилетиями, которые лежат между утром и вечером человеческой жизни. Говоря о себе, я могу сказать, что Вийон выдержал и это испытание.
Почему он притягивает меня к себе? Почему теперь его читают и перечитывают поэты разных стран, разных поколений? Меньше всего это можно объяснить его пестрой, беспокойной жизнью. Люди XX века, мы перевидали достаточно войн, преступлений и казней, чтобы нас могла удивить биография Вийона. Он потрясает нас, и не только потому, что он большой поэт. Есть немало больших поэтов, которых мы знаем по школьным годам; их имена мы произносим неизменно с уважением, но к их книгам никогда не возвращаемся. Вийон — не памятник, не реликвия, не одна из вех истории. Минутами он мне кажется современником, несмотря на диковинную орфографию старофранцузского языка, несмотря на архаизм баллад и рондо, несмотря на множество злободневных для его времени и непонятных мне намеков.
В двадцатые годы приходилось слышать разговоры об отмирании различных, ранее процветавших форм искусства: станковой живописи, лирической поэзии, романа. Люди, так рассуждавшие, утверждали, что, поскольку индивидуум уступает место коллективу, нет больше места ни лирике, выражающей субъективные переживания поэта, ни романам, посвященным личным судьбам героев, ни картинам, украшавшим дома богатых любителей живописи. По мнению таких людей, наступала эпоха фресок, очерков, эпопей.
Мир будущего в утопических романах неизменно напоминает мир прошлого с иными пропорциями, иным освещением, — очевидно, и у фантазии есть свои границы. Люди, желавшие разгадать роль искусства в новом едва родившемся мире, может быть, сами того не сознавая, поворачивались к далекому прошлому. Некоторый догматизм, всегда отличающий годы становления, сближал людей, упрощавших новое миросозерцание, с теми далекими временами, когда создавались «Песнь о Роланде» или «Слово о полку Игореве», когда бродячие поэты распевали патетические романсеро или нравоучительные фаблио, когда строились готические соборы, эта каменная энциклопедия Средневековья. Может быть, догматиков, с которыми мне приходилось иногда спорить, прельщала умонастроенность Средних веков? Говоря это, я, конечно, не думаю о религии, я имею в виду стремление средневекового христианства осмыслить и направить любую сторону человеческой деятельности, сузить и организовать мир эмоций, отвергая как ересь, а то и как колдовство не только любое отклонение от канона, но и любое проявление критического мышления.
Время не оправдало прорицаний, о которых шла речь выше; формы искусства, родившиеся в эпоху Возрождения, живы, и никто теперь не говорит об их закате. Разумеется, эти формы эволюционируют, но не отмирают. Роман нашего времени многим отличается от романа XIX века, построенного на истории одного человека или одной семьи. В современном романе больше героев, судьбы их переплетаются, писатель часто переносит читателя из одного города в другой, порой даже в другую страну, композиция повествования напоминает сменяющиеся на экране кадры с чередованием крупных планов и массовых сцен. Мы видим некоторое оживление стенной живописи, связанное с возросшей ролью общественных зданий (достаточно вспомнить современную живопись Мексики), но люди по-прежнему любят портреты, пейзажи, натюрморты. Такие произведения, как «150 000 000» Маяковского или «Всеобщая песнь» Пабло Неруды, родились не случайно, их эпичность связана со временем; однако лирика жива, о чем свидетельствуют стихи многих современных поэтов от Элюара и Тувима до Назыма Хикмета и Заболоцкого.
Ошибка людей, предсказывавших конец некоторым формам искусства, заключалась в неверном понимании взаимоотношений между человеком и обществом. В их представлении поход против индивидуализма должен был привести к исчезновению индивидуальности. Между тем новое общество немыслимо без всестороннего и полного расцвета человека с его сложным миром тончайших чувствований.
Поэзия Вийона — первое изумительное проявление человека, который мыслит, страдает, любит, негодует, издевается. В ней уже слышна и та ирония, которая прельщала романтиков, и соединение поэтической приподнятости с прозаизмами, столь близкое современным поэтам — от Рембо до Маяковского.
С понятием Возрождения у нас связаны представления о радости, о живительном смехе Рабле, о щебете, свисте, соловьиных трелях глухого Ронсара, который наполнил мир звучанием. Неужто, могут спросить, тюрьмы и виселицы притоны и кладбища, паутина душевных противоречий, всё, что вдохновляло Вийона, — тоже поэзия Возрождения? А между тем Вийон не только открыл новую эру в поэзии, он предопределил ее развитие. Художник не может в солнечное утро написать дерево без того, чтобы не передать тени, падающей от дерева. Освободившись от условностей Средневековья, познав всю прелесть критического мышления, человек обрел новую радость и новые страдания. Стихи Вийона порой печальны, потому что нелегкой была жизнь поэта, но чаще печаль эта связана с развитием мысли, с тем грузом, какой почувствовали на своих плечах люди, сбросившие с себя оковы смирения, послушания и слепой веры. Трудно без волнения читать «Спор между Вийоном и его душой»:
— Душа твоя тебя предупредила. Но кто тебя спасет? Ответь. — Могила. Когда умру, пожалуй, примирюсь. — Поторопись. — Ты зря ко мне спешила. — Я промолчу. — А я, я обойдусь.Помню, как Маяковский, когда ему бывало не по себе, угрюмо повторял четверостишие Вийона:
Я — Франсуа, чему не рад, Увы, ждет смерть злодея, И сколько весит этот зад, Узнает скоро шея.Я сказал, что Вийон — самый французский поэт Франции. Его стихи — ключ ко многим душевным тайнам этой страны.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом, Чужбина мне — страна моя родная. Я знаю всё, я ничего не знаю…Часто вспоминал я эти строки, и читая современных поэтов Франции, и беседуя с парижскими рабочими, и глядя на поля близ Луары, то широкой, то обмелевшей, на поля необозримые и вместе с тем сжатые, может быть, деревьями, а может быть, невидимым присутствием людей, поля, в одно и то же время светлые и удивительно печальные. Французы улыбаются порой, когда им совсем невесело, они становятся грустными в минуты большой радости.
Вийон в своей «Балладе истин наизнанку» не только предвосхитил и печальных шутников галантного века, и «проклятых поэтов» прошлого столетия, в его стихах то сочетание скепсиса и восхищения, которое можно увидеть на каждой странице французской книги, в каждом словце старого парижского эпикурейца, как и в стыдливой усмешке подростка из деревушки Турени или Анжу. Стихи Вийона помогают глубже понять Францию, и за это, как и за многое другое, я их любил и люблю.
1956
Старая французская песня
В Вене много магазинов музыкальных инструментов. В Париже чуть ли не на каждой улице торгуют красками и кистями. Выставок живописи в Париже больше, чем концертов. Говорят, что каждый народ полнее выражает себя в том искусстве, которое наиболее отвечает его душевному складу, и что французам скорее свойственно зрительное восприятие мира, а не музыкальное. Говорят также, что когда французы начинают петь хором, получается нескладно. Всё это, может быть, и правильно, однако, французы любят петь, и песни проходят через всю их жизнь.
Есть у французов даже поговорка: «Во Франции всё кончается песнями», — она, видимо, должна успокаивать и безнадежно влюбленных, и неисправимых консерваторов. Разумеется, и во Франции далеко не всё кончается песнями. Вернее сказать, что многое начинается с песен. Девушка обычно поет о любви до замужества, а «Марсельеза» родилась накануне решающих битв революции.
На парижских улицах можно увидеть бродячих певцов: даже в холодный зимний день вокруг них толпятся прохожие и подхватывают припев. Что же поют эти безголосые певцы? Мелодия несложна, и мелодия повторяется, а слова — это рифмованные истории, печальные или шутливые. Существует особый жанр исполнения таких песенок; их исполнители — нечто среднее между певцами и куплетистами, между эстрадными актерами и менестрелями.
Конечно, песенки мюзик-холлов или кинокартин нельзя назвать народными, хотя некоторые из них облетают Францию, их поют на ярмарках, на свадьбах, под платанами и под каштанами. Среди современных песенок имеются и милые романсы, и пошлые куплеты; но есть между плохими и хорошими нечто общее — у них те же истоки.
Ив Монтан поет печальную песенку:
Когда на войну уходит солдат, Победу сулят и розы дарят, А если солдат приходит назад, «Ему повезло», — о нем говорят.Несколько веков назад на севере Франции пели:
Уходит солдат на войну, В тоске обнимая жену, Соседи кругом говорят: Он скоро вернется назад, Вернется к любимой жене, Прискачет на быстром коне, Он будет одет в серебро, На шляпе победы перо. Когда через много годов, Без хлеба, без песен, без слов, Солдат возвратится с войны, Своей не найдет он жены, Он будет в лохмотья одет, Его не узнает сосед. Река не помчится назад, С войны не вернется солдат.Дело, конечно, не в подражании, а в живучести не только чувств, но манеры выражения, формы, интонаций.
От старой русской песни путь шел к Кольцову и к Некрасову; склад и душу народной песни можно найти в стихах Есенина и Твардовского. К отдаленным временам следует отнести рождение испанского «романсеро», который предопределил многое в дальнейшем развитии испанской поэзии от Гонгоры до наших современников Гарсии Лорки и Рафаэля Альберти.
Обычно под понятием «народной поэзии» подразумевают сочинения неизвестных авторов, которые люди пели или напевали, сокращали, изменяли. Для многих фольклористов народное творчество прежде всего анонимно. Однако такое определение условно. Мы не знаем имени поэта, сложившего песню о Жане Рено, но разве нельзя отнести к народному творчеству песни блузников 1848 года, хотя нам известно, что они написаны Дюпоном, или «Марсельезу», которую сложил Руже де Лиль? Два русских этнографа написали две русских песни — «Славное море священный Байкал» и «Из-за острова на стрежень». Никто не помнит имен Давыдова и Садовникова, а песни их живы. Во время Первой мировой войны во Франции я не раз слышал горькую солдатскую песенку:
Ночь черна в окопах, Счастье не забрезжит, А в тылу далеком Жизнь идет, как прежде.Автор этой песни Вайян-Кутюрье.
Кто не слыхал в Париже любовной песенки о поре, когда поспевают вишни:
Когда пора настанет вишен И дрозд-насмешник засвистит, Уж если ты любви боишься, Скорей от девушек беги…Но мало кто знает историю этой песни. Ее написал рабочий Жан-Батист Клеман, член Парижской Коммуны. Одной из последних баррикад была баррикада на Монмартре, у Фонтен-де-Руа. Там сражался Клеман, а девушка, которую звали Луизой, перевязывала раненых. Она погибла, и ее памяти Клеман посвятил песенку, написанную им еще в 1866 году, о вишнях, о насмешливом дрозде, о любви.
До сих пор в Чили имеются народные поэты, они поют свои поэмы на праздниках, заходят в харчевни, в дома. В Чили поэзию делят на «ученую» и «народную».
У народных песен были свои авторы: песню сочинял один человек, как один человек писал балладу или сонет. Но баллады и сонеты входили в книги, книги стояли на полках, иногда переиздавались, иногда становились школьными пособиями. А песни менялись — их исправляло само время.
«Ученая» французская поэзия была многоликой, формы быстро снашивались, на смену героическим или дидактическим поэмам Средневековья в XV веке пришли баллады, рондо, ле; в XVI и XVII веках — сонеты, оды; в XVIII — пасторали и рифмованные философские размышления. На смену пылким и туманным романтикам пришли чересчур трезвые парнасцы. Их сменили «проклятые поэты» — Бодлер, Рембо, Верлен. Классические размеры и строгие формы уступили место свободному стиху, ассонансам. Так было в поэзии «ученой». Что касается «народной», то, несколько обновляя сюжеты и словарь, она, в общем, оставалась верной традиционным формам.
Темы народной поэзии разных стран сходны: повсюду люди пели о страданиях любви, о войне, которая несет горе, о тяжести труда земледельца, каменщика, ткача, о притягательной силе свободы. Можно просмотреть сборники народных песен Италии и Швеции, Украины и Бразилии — ни в одном не найдешь песен, которые прославляли бы богатство немилого, правоту судьи, благородство палача.
Почему одни и те же темы, одни и те же образы можно найти в поэзии различных народов? О солдате, вернувшемся с войны, которого жена не узнает, пели в Бретани и в Андалузии. Может быть, песня перелетела через Пиренеи: у песни ведь крепкие крылья. А может быть, то же горе рождало те же песни: все народы знали, что такое долгие войны. В поэзии Индии и России, Норвегии и Греции влюбленный мечтает стать то соловьем, который поет для возлюбленной, то ручейком возле ее дома, то лентой в ее косе. Может быть, чужая песня соблазнила своей красотой неизвестного автора? Вернее предположить, что мечты всех влюбленных, где бы и когда бы они ни жили, имеют между собой много общего.
Французские песни отзывались на бури, потрясавшие Францию. Многие из этих бурь давно забыты, а песни живут. Кого теперь волнует боевая слава английского герцога Джона Черчилля-Мальборуга? Он командовал нидерландской армией, которая разбила французов. Во французской песне герцог Мальборуг стал Мальбруком, и эту песню знают все дети Франции:
Мальбрук в поход собрался, Мальбрук в поход собрался, Мальбрук и сам не знает, Когда вернется он. … … … … … … … … … … … … … … … Мальбрука хоронили Четыре офицера, Один нес тяжкий панцирь, Другой нес пышный щит, За ними следом третий, За ними шел четвертый И ничего не нес. <…> Мальбрукову победу Все шумно прославляли, Молебен отслужили, А после спать пошли. Поплакав о Мальбруке, Одни легли на ложе С супругами своими, Другие без супруг. Отпраздновав победу, Пошли на боковую, А что за этим было — О том я не скажу.Все французские школьники зубрят, что в VII веке при династии Меровингов был мудрый король Дагобер, но гораздо сильнее их увлекает старая песенка:
Король Дагобер На войну идет, Он штаны надел Задом наперед.Героические песни порой превращались в шутливые. Капитан Ля Палисс был убит в битве при Павии. Его солдаты сложили песню, прославляя отвагу своего капитана:
Он за час до смерти жил, Ля Палисс отважный.Потомкам эти строки показались смешными; они сочинили другую песенку, которая обошла всю Францию. Никто не вспомнил о храбрости капитана. Ля Палисс стал олицетворением ходячей морали, общих мест, трюизмов:
В пятницу он опочил, Скажем точно, без просчета: Он на день бы дольше жил, Если б дожил до субботы.Одна из самых старых песен Франции, дошедших до нас, «Пернетта», родилась в XV веке; ее пели друзья Франсуа Вийона в кабаках и тюрьмах.
Вийон, наверное, любил «Пернетту». Он был первым поэтом французского Возрождения, духовно чрезвычайно сложным, поэтом трагических противоречий. Вместе с тем «бедный школяр» Сорбонны был тесно связан с жизнью народа. В своих балладах он порой ссылался на греческих богов и на философов древности, но его сердце и его словарь были сродни сердцу и словарю неизвестного нам автора «Пернетты». Разрыв между поэзией «ученой» и «народной» обозначился сто лет спустя. Сонеты Ронсара и песня о Рено, который вернулся с войны, написаны в одно время, но они нам кажутся выражением двух различных эпох, а может быть, и двух различных миров. Начиная с XVI века народная поэзия порой радовала «ученых» поэтов Франции, но не она определяла их пути.
Песни, переведенные мною, относятся к XV–XVIII векам. Конечно, можно найти чудесные образцы народной поэзии и в последующее время, всё же они мне кажутся слабее: поэтическая эссенция в них разбавлена водой литературного красноречия. «Ученая» поэзия влияла на «народную» не лучшими своими произведениями, а наиболее ходкими. В народных песнях XIX века много сентиментализма, условности, словесной франтоватости.
Поэты XVIII века любили пасторали, им казалось, что они описывают безмятежную жизнь народа. Аристократов привлекал вымышленный рай, заселенный воображаемыми землепашцами и пастухами. Эти землепашцы и пастухи, однако, жили отнюдь не идиллически, и в своих песнях больше говорили о своей тяжелой участи, нежели о благодатной тишине сельского вечера.
Народные песни Франции далеки от буколики, в них много трагизма: нужда, войны, разлука, тяжелый труд. Может быть, именно потому, что в жизни народа было много несносного и немилого, люди часто пели шутливые задорные песенки; такова черта французского характера — французы говорят, что смешное убивает.
Сто лет назад в некоторых литературных кругах увлекались народным искусством, считая его наивным, ребячливым. Старые песни ценились за неуклюжесть строки, за неожиданность эпитета, за шаткость рифм.
В то время как «ученая» поэзия придерживалась строгих канонов французского силлаботонического стихосложения и точных рифм, народная поэзия не знала регламента. Часто в строке не хватает слога, цезура не на месте. Полные, по большей части глагольные, рифмы сменяются весьма далекими ассонансами («Renaud» и «trésors» или «ami» и «mourir»). Однако не к таким ли вольностям пришла «ученая» поэзия в начале XX века? Что касается содержания, то народная поэзия отнюдь не отличается наивностью. Вот песня «Гора», она посвящена сложностям любви. Между любящими — крутая гора.
Если кто-нибудь сроет гору крутую, Мы камни притащим, построим другую.Мне эта песня по глубине напоминает некоторые стихи Тютчева, Бодлера, Блока, Элюара.
В течение многих веков придворные поэты прославляли военные победы. Народная поэзия вдохновлялась иным: ненавистью к войне.
Прощай, трубач с трубою медной, Прощай, бездушный генерал, Прощайте, слезы и победы, Чтоб больше вас я не видал!Солдаты, маршируя по крепостным плацам, пели:
Раз и два, раз и два. А зачем голова? Шаг вперед, шаг назад. Раз солдат — виноват. Помыкает капрал, Дует пиво капрал, А солдату вода, А солдату беда, А солдату — шагай, Прямо в сердце стреляй. Погоди, помолчи, Не кричи, не учи, Наведу я ружье Прямо в сердце твое! Раз и два, раз и два, Вот зачем голова.В народных песнях сказался непослушный нрав народа, его любовь к свободе. Все знают песни французской революции — «Марсельезу», «Песню похода», «Карманьолу». Под «Карманьолу» танцевали санкюлоты, повторяя слова припева: «Да здравствует пушек гром!»
В 1848 году блузники любили песни, написанные Пьером Дюпоном. Потом, в дни Коммуны, родились песни Потье. В годы последней войны партизаны пели: «Свисти, свисти, товарищ!»
Французы часто поют печальные песни весело: человек как будто хочет скрыть тоску не только от других, но и от самого себя. Некоторые озорные песни звучат торжественно и прискорбно, как заупокойные молитвы. Мне думается, что во всем этом много от французского характера, от душевной стыдливости, от почти обязательного сочетания растроганности с иронией.
Пожалей меня, я не искусница, Нить бежит, за ней не поспеть. Если трудно мне, если грустно мне, Если мне не хочется петь, Я спою веселую песенку, Ты на песенку эту ответь. Если радостно, если весело, Нить бежит, за ней не поспеть, Я спою печальную песенку. Ты на песенку эту ответь.Песни меняются, и песни остаются. Даже громкий голос радиоприемника или телевизора, врывающийся далеко от столиц в тишину длинных зимних вечеров, не может победить в человеке жажду своей песни. Вероятно, есть в песне притягательная сила, которая заставляет человека, народ петь.
День был синий и ветреный, Подымали корабль волны, Корабль тот был серебряный, Паруса — из синего шелка. Матрос взобрался на мачту. Прощай, я люблю другого! А вспомню песню и плачу — Песня сильнее слова.Конечно, нельзя жить подделками. Нельзя перенести в современную поэзию ритм и построение старых народных песен. Хотя на всех языках мира слово «искусственный» и «искусство» близки, бесконечно далеки эти понятия. Мы не раз видели в разных литературах попытки перенять формы старой народной поэзии и потрясались бесплодием этих попыток. Бюффон некогда сказал: «Стиль — это человек». Можно добавить, что стилизация — это отсутствие человека, стилизованная поэзия прежде всего безлична и бесчеловечна. Нельзя теперь написать ни «Песни о Роланде», ни песенки о Пьере, которого любит Пернетта. Наш век вложил в понятье народной поэзии новый смысл; может быть, после многовекового разрыва мы подходим к эпохе, когда исчезнет деление между «ученой» поэзией и «народной».
А старые песни живут. Это не страницы хрестоматии, не архивы музея, — это ключ к сердцу народа, народа, который не вчера родился и не завтра умрет.
1957
Поэзия Иоахима Дю Белле
[243]
На полках библиотек стоят книги; они пронумерованы, изучены. В музеях висят картины; из одного века переходишь в другой, меняются манера письма, сюжеты, художественные школы. В одной зале много посетителей, в другой мало. Заглянув в книги прошлого столетия, узнаешь, что пустые залы прежде были наполнены восхищенными знатоками, а те, что теперь привлекают к себе посетителей, пустовали. Есть старые книги, которые снова обретают читателей через многие столетия. Мы читаем, смотрим на живопись или на архитектуру прошлого живыми глазами, одно нас оставляет равнодушным, в другом мы находим нечто близкое нашим мыслям и чувствам.
Просвещенные люди XVII и XVIII веков презрительно усмехались, встречая имя Ронсара: его стихи казались им образцами дикости и безвкусия. Века большой философии и мелкого философствования, века возвышенных страстей, строгого этикета и париков не способствовали развитию поэтической стихии.
Романтики «открыли» Ронсара; и теперь, если спросить француза, любящего поэзию, кого он считает лучшим поэтом своей страны, он, может быть, назовет Гюго, а может быть, и Ронсара.
(Русский ценитель поэзии, если ему поставят подобный вопрос, не колеблясь назовет Пушкина, литературный подвиг которого беспримерен: не прожив и сорока лет, он позволил русской поэзии наверстать потерянные века — он совместил в себе и то, что открыл Франции Ронсар, и то, что дали ей поэты классицизма, и то, что принес ей Гюго.)
Для французов группа поэтов XVI века, назвавшая себя «Плеядой», была началом национальной поэзии, утверждением силы родного языка, торжеством разума над средневековой схоластикой и лирики над рифмованными наставлениями. Главой «Плеяды» был бесспорно Пьер Ронсар; я не покушаюсь на его славу, не думаю отрицать его первенствующей роли в поэзии французского Возрождения. Его облик мне кажется величественным: именно таких поэтов представляешь себе беседующими с музами, лавровые венки на них не смешны.
Ронсар оставил после себя много книг. С отрочества оглохший, он был чрезвычайно чувствителен к музыке стиха, к ритму. Как многие большие поэты, он не успевал проверять линейкой вдохновение: в его стихах есть строки, оскорбляющие вкус, преувеличения, риторика, но всегда в них голос гения. В любовные сонеты он порой вкладывал свою тревогу за судьбы Франции, а в его песнях, гимнах, одах, посвященных волновавшим его политическим событиям, философским проблемам, литературным спорам, можно найти строки, продиктованные очередным любовным увлечением.
Мир Ронсара был широким, его волновали все бури века. В «Обличении корыстных» он проклинал молодую буржуазию, которая ищет богатства в Индии, в Африке, в Америке, суетится в портах Антверпена и Венеции и которая строит для себя пышные дворцы из мрамора. Он сумел прожить жизнь в сети придворных интриг, среди борьбы фаворитов и религиозных распрей. Ему были, пожалуй, равно противны фанатизм католиков и мещанский ригоризм гугенотов. Однако лучше всего он писал о любви. В одной из од он признается:
Когда сложить я должен славословье, Превознести сиятельных владык, Не хочет повернуться мой язык. Но о любви я говорю с любовью И для любви всегда найду слова…Многие события, потрясавшие современников Ронсара, нас оставляют равнодушными. Нам знакомо имя современного английского маршала Монтгомери, но нас мало интересует, что шотландский капитан Монтгомери, служивший при французском дворе, в 1559 году на турнире смертельно ранил короля Генриха II. Люди, любящие французскую поэзию, однако, помнят имена Елены, Кассандры, Марии — женщин, которых Ронсар прославил в стихах. В одном из сонетов он рассказывает, что вырезал на коре мощной ели имя Елены. Дерево давно истлело, остались стихи, написанные на хрупкой бумаге.
Сорок лет назад я зачитывался Ронсаром и перевел тогда один из его сонетов, обращенных к Елене:
Старухой после медленного дня, Над пряжей, позабывши о работе, Вы нараспев стихи мои прочтете: — Ронсар в дни юности любил меня. Служанка, голову от сна клоня И думая лишь о своей заботе, На миг очнется. Именем моим вспугнете Вы двух старух у зимнего огня. Окликнете — ответить не сумею; Я буду мертвым, под землей истлею. И, старая, вы скажете, грустя: — Зачем его любовь я отвергала? Вот роза расцветает, час спустя Ее не будет — доцвела, опала.Радость жизни, которую вернуло Франции Возрождение, была связана с мыслями о быстротечности всего, с легкой печалью, свойственной искусству Древней Греции. Однако по своему душевному складу Ронсар был поэтом полудня, лета, душевного веселья.
Моим любимым поэтом французского Возрождения я, однако, назову не блистательного Ронсара, а его близкого друга Иоахима Дю Белле. Они вместе возглавляли новую школу, которую назвали «Плеядой». Величье Ронсара как бы мешало рассмотреть тихого и чрезвычайно скромного Дю Белле. Их роднила не только поэзия: как и Ронсар, Дю Белле страдал глухотой. Судьбы их были, однако, различны. Дю Белле умер в возрасте тридцати восьми лет, и знали его только немногие ценители поэзии. Ронсар прожил шестьдесят один год, стал придворным поэтом Карла IX, вкусил славу.
Если снова припомнить Пушкина, то можно сказать, что Дю Белле рядом с Ронсаром казался Баратынским рядом с Пушкиным. Баратынский писал:
Мой дар убог, и голос мой негромок, Но я живу, и на земле мое Кому-нибудь любезно бытие: Его найдет далекий мой потомок В моих стихах…Необычно близки к этому признанию признания Дю Белле:
Не привожу ни доводов, ни дат. Потомкам не твержу, как жили предки, Негромок я, цветами не богат. Мои стихи — случайные заметки, Но не украшу, не приглажу их — В них слишком много горестей моих.Не следует продлевать сравнения: Баратынского отличали от Пушкина и его душевная настроенность — он был по природе мрачен, и мироощущение — он не верил в будущее человечества. Дю Белле и Ронсар были во многом сходны, оба пережили глубокую радость Возрождения, оба испытали ту легкую, почти неуловимую печаль, которую принесло людям освобождение от их вчерашних верований, оба мучительно переживали кровавые столкновения и внутренние противоречия своего времени.
Дю Белле я полюбил как поэта, сумевшего в своих глубоко личных поэтических признаниях выразить нечто близкое нам, подымающегося над границами и времени, и пространства. Белинский очень точно определил ту радость, которую приносят нам стихи любимых поэтов:
«…В созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно предощущали, или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли найти слова и что, следовательно, поэт умел только выразить».
Определение поэзии как глубокого и полного выражения мыслей и чувствований поэта иным кажется апофеозом отъединенности, даже отторжения, противопоставления одного всем. Конечно, если поэт, даже обладающий подлинным даром, душевно искалечен, живет своим внутренним уродством, видя в нем своеобразие, его стихи могут взволновать только узкий круг людей, страдающих тем же душевным недугом. Но разве не является глубоким выражением себя лирика Гейне, Лермонтова, Верлена, Блока? А их стихи понятны всякому любящему поэзию.
Дю Белле был одним из первых французских поэтов, выразивших в стихах себя, а люблю я его потому, что в его стихах нахожу многое из того, что сам прочувствовал и о чем думал.
Для того, чтобы понять истоки поэзии Дю Белле, нужно оглянуться на то время, когда он жил. Он родился в 1525 году. Этот год был шумным: войска Карла V взяли в плен французского короля Франциска I. Таков был один из эпизодов кровавой борьбы за первое место в Европе, борьбы, которая бросила тень на всю короткую жизнь поэта.
Беспокойным и ярким было время Дю Белле: время научных исканий и взрывов древних суеверий, двойного фанатизма — яростных католиков и непримиримых гугенотов. Франция почти непрерывно воевала и со своим заклятым врагом Карлом V, и с англичанами. Империя Габсбургов пугала мир своей мощью. Карл V, родившийся во Фландрии и царствовавший в Мадриде, правил Германией и Мексикой, Голландией и Италией. Французы тогда впервые заговорили о «европейском равновесье». Франциск I предложил союз турецкому султану. Король Франции договаривался и с мусульманами, и с немецкими протестантами. Это не мешало ему жечь на кострах доморощенных еретиков.
Идеи Возрождения, пришедшие из Италии, потрясают просвещенных французов. Вельможи читают «Одиссею» и рассказывают об открытиях Коперника. Студенты смущают своих возлюбленных стихами Петрарки. Король заказывает свой портрет Тициану. Король основывает Коллеж де Франс — первую высшую школу, лишенную теологического характера. Он покровительствует философам, филологам, поэтам, художникам. Он говорит о значении книгопечатания. При этом он сжигает на костре одного из лучших печатников Франции, филолога Доле, обвиненного в «дерзких и грубых идеях». Выступают первые ученики Лойолы, воинствующие иезуиты. Кальвинисты протестуют против фанатизма католиков, но отнюдь не отказываются от методов своих противников. В католическом Париже преподает медицину испанский врач Сервет, он изучает систему кровообращения. Страшась преследований церкви, он направляется в Женеву, где Кальвин образовал протестантскую республику. Конечно, Кальвин порицает инквизицию, но научное объяснение мира беспокоит его, может быть, еще больше, чем папу. Свободолюбивые гугеноты торжественно сжигают на костре медика Сервета.
Появляются люди нового времени, жадные и свирепые буржуа, которых описал Рабле, колонизаторы с разговорами о тоннаже кораблей, завоеватели и авантюристы, мечтающие о золоте Канады.
Быстро меняется облик Франции. Подростком Иоахим Дю Белле часто бродил по берегам широкой Луары. Он жил в маленьком местечке Лире. А на Луаре построили новые замки — Шенонсо, Шомон, Азэ. Замки больше не были суровыми крепостями Средневековья. В них появились свет, перспектива, прямые лестницы вместо винтовых, отдохновенные сады. Для великосветских приемов сцены Троянской войны или Амур с Психеей казались более пристойными украшениями, нежели мученичество святой Урсулы или святого Себастьяна.
Род Дю Белле был знаменитым: епископы, губернаторы, дипломаты, полководцы. Почти всегда в знатном роде бывала слабая боковая ветвь: поэт был сыном не очень знатного и далеко не богатого Дю Белле. Он рано лишился родителей и с детских лет хворал.
«Болезнь мне помешала стать солдатом…»
Он отправился в город Пуатье, чтобы в университете изучать право. Там он встретился с Ронсаром, который был на год старше его. По преданию, они познакомились случайно в пригородном трактире. Юриспруденция не увлекала Дю Белле; в 1547 году (ему тогда было двадцать два года) он перебрался в Париж и поступил в коллеж Кокэре, где учился его новый друг Ронсар. Юноши жили в интернате, увлекались итальянской поэзией, бродили по узеньким улицам Латинского квартала, влюблялись в девушек, которых неизменно сравнивали с петрарковской Лаурой.
Два года спустя Дю Белле издает сборник стихов «Олива» — так называет поэт предмет своей любви, может быть, воображаемой. В книге немало прелестных сонетов; эта новая для французов форма поэзии требует сжатости мысли, скупости слов, мастерства. Немало в «Оливе» и подражательного: Дю Белле не скрывает своего восхищения Петраркой и другими поэтами итальянского Возрождения.
Почти одновременно появляется трактат, или, вернее, памфлет Дю Белле «Защита и прославление французского языка». Не раз русские писатели XVIII века высмеивали аристократов, которые стыдились говорить по-русски и строили из себя французов. Дю Белле писал:
«Почему мы так почитаем всё чужое? Почему так несправедливы к себе? Почему мы просим милостыню у чужих языков, словно мы стыдимся говорить на своем родном языке?»
Памфлет Дю Белле был направлен не только против аристократов, презирающих французский язык, но и против всей французской литературы, существовавшей до «Плеяды»: это был боевой манифест новой поэтической школы.
Все литературные манифесты — от сочиненного Дю Белле до футуристических или сюрреалистических — производили впечатление на современников не столько глубиной доводов, сколько запальчивостью тона. Дю Белле высмеивал поэтов Франции, которые писали по-латыни. Это не помешало ему впоследствии написать много поэтических произведений на латинском языке. Дю Белле доказывал, что не следует увлекаться поэтическими переводами, ибо перевод по отношению к оригиналу — это «снежные вершины Кавказа» рядом с «пылающей Этной», что, в свою очередь, не помешало ему перевести Гомера, Вергилия, Овидия и многих других поэтов древности.
Французский язык давно не нуждается в защите. Поэтические формы Возрождения оказались не менее условными и преходящими, чем средневековые баллады или рондо. Есть, однако, в книге Дю Белле прекрасные слова о работе над языком. Он советует поэту прислушиваться к живой речи ремесленников, литейщиков, живописцев, моряков, расширяя свой словарь. Он требует от поэта взыскательной работы: «Если ты хочешь облететь на крыльях весь свет, умей подолгу сидеть в своей комнате». Он говорит о «дрожи и поте» поэтической работы и этим своим суждениям он остался верен до конца своей жизни. Он назвал свои стихи «случайными заметками», но никогда в них не было ничего случайного, неточного, недоделанного. Он подолгу над ними работал, был предан тому, что старая русская поэтесса Каролина Павлова назвала «святым ремеслом»[244].
Три года спустя Дю Белле снова выступает с обличениями. На этот раз его возмущают не далекие тени Средневековья, а то, что он еще недавно почитал. Давно ли он написал «Оливу»? Он отрекается от того, что любил. Конечно, не от женщины по имени Олива (может быть, такой вообще не было), а от манеры, в которой он ее описывал, от всего того, что он называет «петраркизмом»:
Слова возвышенны и ярки, А всё — притворство, всё — слова. Горячий лед. Любовь мертва, Она не терпит мастерства, Довольно подражать Петрарке! <…> Хочу любить, и без оглядки. Ведь, кроме поз и кроме фраз, Амура стрел, Горгоны глаз, Есть та любовь, что вяжет нас. Я больше не играю в прятки.(Маяковский, которому опостылели возвышенные и порой картонные образы некоторых символистов, писал:
Нам надоели бумажные страсти — Дайте жить с живой женой!)В 1553 году Дю Белле исполнилось двадцать восемь лет. Жизнь его была смутной и трудной. Еще в отрочестве он заболел туберкулезом; процесс то приостанавливался, то снова обострялся. Два года ему пришлось провести в постели. Время от времени он лишался слуха, и это сильно его угнетало. Не было денег, и он напрасно искал службу.
Наконец судьба ему улыбнулась. Король Генрих II решил отправить в Рим родственника поэта — кардинала Жана Дю Белле. Продолжалась борьба между Габсбургами и Францией за злосчастную, разоренную и все же заманчивую Италию. Каждая из сторон хотела заручиться поддержкой папы. В свою очередь, Ватикан мечтал освободиться и от Габсбургов, и от французов. Рим был центром сложных дипломатических интриг, и кардиналу Жану Дю Белле король поручил ответственную миссию. Кардинал внял просьбам нищего поэта и прихватил его с собой.
Пока кардинал договаривался с папой, поэту тоже приходилось вести трудные переговоры: он выполнял обязанности атташе по финансовым делам. Не раз в истории судьба зло подшучивала над поэтами, превращала их то в таможенных чиновников, то в цензоров, то в интендантов, то в делопроизводителей. Дю Белле жаловался:
Ростовщикам я раздаю улыбки, Банкира соблазняю, а потом Торгуюсь с надоедливым купцом. Боюсь себя я выдать по ошибке.Всё же у Дю Белле находится время, чтобы глядеть, думать, страдать, писать. Четыре года, которые он провел в Риме, были решающими: там он нашел себя, там написал две книги, которые много веков спустя принесли ему славу: «Римские древности» и «Сожаления».
Прежде всего его поразило зрелище развалин. Новый Рим в те времена терялся среди огромного мира смерти, на каждом шагу виднелись обломки древней империи. Люди Возрождения относились к Древнему Риму как к ключу с живой водой. Таким Рим казался и Дю Белле, когда в парижской школе он зачитывался стихами Горация. Он был потрясен развалинами, хаосом небытия. Однако он был человеком эпохи, которая утверждала жизнь, и вскоре даже в развалинах нашел пафос созидания. Он писал о том, что поэты Древнего Рима живы, их устами говорит Рим. Расщепленные камни вдохновляют живых мастеров.
Рим оказался не только развалинами: в годы, когда там жил Дю Белле, еще работал неистовый Микеланджело, исполнялись впервые литургии Палестрины, архитекторы строили дворцы, сочетая гармонию Золотого века с первыми прихотями сумасбродного барокко. Направляясь от одного банкира к другому, Дю Белле окунался в близкую ему стихию искусства. Он учился писать сонеты не только у своих предшественников, но и у камней Рима, у его художников.
До своего отъезда в Италию Дю Белле пережил недлительный и не очень-то страстный период приближения к христианству. Рим погасил в нем чуть тлевшую веру. Конечно, и в Париже Дю Белле мог увидеть лицемерие, разврат, корысть, жестокость, но только в папском Риме ему открылось лицо порока. В ряде сонетов он описал жизнь «священного города» — интриги кардиналов, их финансовые проделки, шулерство дипломатии, бесстыдство куртизанок, смесь полуголых девок с рясами, ладана с винным угаром, четок с выкладками банкиров.
Он начал тосковать по родине, и Франция ему представлялась не шумным Парижем, не университетом Пуатье, но тихой деревней на берегу Луары, с большими одинокими вязами и дубами, с легкими облаками на бледно-голубом небе, с домами, крытыми шифером и обвитыми маленькими плетистыми розами. Он чувствовал себя изгнанником. Тоска по родине вдохновляла многих поэтов от Овидия до нашего современника Рафаэля Альберти; это то чувство, которое понятно людям любой страны и любой эпохи.
Книга «Сожаления» — дневник, четыре года наблюдений, раздумий, признаний. В конце своего римского «изгнания» Дю Белле узнал любовь — не стилизованную, не петрарковскую, а подлинную. Мы знаем, что женщина, которую он полюбил, была римлянкой, звали ее Фаустина, у нее был муж. Любовь протекала бурно и оказалась нелегкой. Об этом, как о многом другом, он рассказал читателям. Любовь, однако, не стала основной темой его «Сожалений». Он знал, что Ронсар о любви пишет с большим самозабвением.
О чем же предпочтительно писал Дю Белле? О жизни. О себе. Читая его «Сожаления» четыре века спустя, мы видим живого человека, радостного без слепоты, печального без отчаянья, любящего красоту, но никогда не отделяющего путей искусства от трудной, широкой и вместе с тем узкой, длинной, всегда запутанной дороги жизни.
Кто кого обманул — папа французского короля или французский король папу? Положение в Риме кардинала Дю Белле стало чрезвычайно трудным. Папа Павел IV неожиданно заявил о своем решении опереться на Францию. Тотчас войска Габсбургов двинулись к Риму. Французский король был вынужден послать герцога Гиза в Италию, а тем временем Габсбурги, вместе с англичанами, захватывали города на севере Франции.
В 1557 году Дю Белле возвращается в Париж. Может быть, он не угодил кардиналу и наделал глупостей? Может быть, ему самому стало невтерпеж? У него немного денег, рукописи и большие надежды. Он устраивается в Париже у своего друга Бизе, каноника собора Нотр-Дам. Перед ним пепельный собор, Сена, Франция.
Дю Белле рассчитывал, что влиятельный родственник поможет ему устроиться во Франции. Книга «Сожаления» вывела кардинала из себя. Нечего сказать, помог ему этот треклятый поэт! Что скажут кардиналы, найдя себя в стихах Дю Белле? Что скажет святейший отец? Нет, бедному родственнику нечего рассчитывать на протекцию кардинала.
Дю Белле снова болеет и снова мечтает о службе: хлопоты, обиды, невзгоды. Осенью 1559 года он лежит больной. Он снова оглох. Потом наступает очередное облегчение. Он улыбается возвращенной жизни. Весело он встречает Новый год в доме своего друга Бизе; возвращается к себе и пишет стихи. Смерть застает его за рабочим столом. Он умер в ночь на 1 января 1560 года.
Не прошло и трех лет после смерти Дю Белле, как во Франции многое переменилось. Началась война между католиками и гугенотами. Просветителям пришлось позабыть о своих недавних мечтах: эпоха Возрождения кончилась.
Вскоре после войны, в 1946 году, я провел несколько недель в анжуйской деревне, неподалеку от родины Дю Белле. Широкая Луара то кажется полноводной, то внезапно мельчает, выступают островки. Деревья стоят на страже, как часовые. На дальних холмах виноградники; анжуйское вино очень душистое, сладковатое, с легким горьким привкусом. Воздух морской, влажный, на губах чувствуешь соль. Редки дни без солнца, и редки дни без дождя. Есть в Дю Белле нечто от этого пейзажа, от природы всей Франции. Он всегда думает, даже когда хочет забыться. Его усмешка переходит в улыбку, но он не смеется, он усмехается. Он человечен в слабостях, в ошибках, в заблуждениях. Поэт страны, которая слишком хорошо узнала, что такое война, он (впрочем, как и все поэты Франции) прославляет мир. Безмерно преданный искусству, он порой издевается над ним. Он — поэт эпохи и народа, которым не свойственны ни фанатизм, ни даже полнота веры. Это придает его стихам и мягкость, и светлую грусть. Может быть, именно в тот век Франция наиболее полно выразила свою душу. Дю Белле не был ни мудрым Паскалем, ни непримиримым солдатом, как Агриппа д’Обинье, ни «принцем поэтов», сладкогласным Ронсаром. Он не обличал, не прославлял, не учил, он оставил нам свои признания. В этом для меня объяснение его жизненности: я переводил стихи близкого мне человека, современника, которого я случайно встретил в одном из придорожных трактиров Франции.
1957
Поль Верлен и Артюр Рембо (Из книги «Поэты Франции. 1871–1913»)
1. Поль Верлен (1844–1896)
П. Верлен родился в Меце 30 марта 1844 года. Выйдя из лицея, он занял место чиновника сначала в страховом обществе, потом в муниципалитете. В это время он сблизился с некоторыми другими поэтами и выпустил в свет свою первую книгу «Poèmes saturniens», а вскоре за ней (в 1869 г.) «Fêtes Galantes». Уже в этих стихах раскрылась ребяческая верующая и богохульствующая душа Верлена. Стараясь в первой книге дать стихи, отмеченные роковым знаком Сатурна, он вместо этого тихо жаловался («Привычная мечта», «Усталость» и др.). В «Fêtes Galantes», вспоминая пышные парики и плюмажи прошлого века, он скорей увлекался не нежным и изысканным пороком, не внешним великолепием, а грустной статуей упавшего Амура или невнятным шепотом двух, всё потерявших, теней. Следующая книга «La Bonne Chanson», книга, единственная в своем роде, любви ясной и торжествующей; ребенок, которому на миг показали неземную игрушку, создал эти безыскусные песни. К этому времени относится женитьба Верлена, и вскоре за ней война 1870 года и Коммуна. Эти два года Верлен жил в состоянии душевной радости и покоя.
Но вскоре приезд в Париж поэта А. Рембо и дружба с ним Верлена вызвали ряд столкновений как в семье, так и в кругу друзей. Привязавшись нежно и восторженно к юноше, Верлен пренебрег всем и уехал с ним блуждать по Англии и Бельгии. Среди переездов, в маленьких кабачках, Верлен писал свою новую книгу «Romances sans paroles». Эта полоса жизни кончилась тяжелым и непонятным случаем. Рембо хотел бросить Верлена, и тот в отчаянье и в запальчивости выстрелил в своего друга, легко ранив его. Несмотря на старания Рембо, Верлена присудили к двум годам тюрьмы.
Там, в этой тесной серой камере, с Распятьем на стене, не видя больше ничего на земле, Верлен поднял впервые свои глаза к небу. От него отвернулись все: жена развелась с ним, почти все друзья стыдились знакомства с поэтом. Его, со всей неутоленной жаждой любви, со всей нерастраченной нежностью какие-то люди бросили в тюрьму. В высшем экстазе Верлен отдал тогда свою душу Тому, кто с лубочной картины, по-детски наивно и грустно глядел на узника. В дни заключения на линованных листах школьной тетради была написана книга последней веры «Sagesse».
Но этим приобщением не закончились блуждания Верлена. Правда, выйдя из тюрьмы, он провел ряд лет во внешнем и внутреннем покое, вначале учителем английского языка в маленьком городке, потом в деревне, занимаясь сельскими работами. Но какой-то вихрь, — их было так много в жизни Верлена, — внезапно выбил поэта из мирной колеи и бросил снова в Париж, где горели ярко люстры кафе и злые огоньки абсента. Все книги, написанные в этот период, — среди них есть замечательные — всегда омрачены каким-то ощущением своей гибели. Внешняя жизнь Верлена этих лет неприглядна, единственная его опора — мать умерла в 1886 году. Последние десять лет он провел в грязных меблированных комнатах, одинокий и больной. Друзья его описывают эту причудливую жизнь, когда не хватало на обед 10–15 копеек, когда пропивался в один вечер заработок месяца. Видевшие Верлена вспоминают, как в маленьком кабачке «Chat Noir» он набрасывал на клочке бумаги стихотворение, где средь груды фраз ронял несколько божественных слов, и, со слезами на глазах, читал его среди завсегдатаев и лакеев. А на заре выходил из кабака и под струей утреннего воздуха вспоминал дни, проведенные в монской тюрьме, бежал в соседнюю церковь, стараясь вновь вернуться к Нему.
Часто он ложился в городскую больницу, чтобы отдохнуть от такой жизни. Там, в больничном колпаке и халате, Верлен принимал молодых поэтов, приходивших, чтобы поглядеть на своего учителя.
Один из них, Пьер Луис[245], во время подобного посещения спросил Верлена, что он любит больше всего из своих книг? Верлен назвал написанную в дни своей любви к молоденькой и наивной девушке песенку «Свет луны туманной» — разве в этом ответе не сказался весь «бедный Лелиан»[246]?
Главной мечтой последних лет жизни Верлена было умереть не в больнице, а дома. Эта мечта сбылась: в бедной своей квартире, редко приходя в сознание, Верлен умер в ночь с 7-го на 8-е января 1896 года…
2. Артюр Рембо (1854–1891)
А. Рембо родился 20 октября 1854 года в небольшом городке Шарлевилле. До пятнадцати лет он жил в семье; и уже тогда пристрастье к описаниям путешествий предсказало его столь необычайный жизненный путь.
Шестнадцати лет он впервые тайно покинул дом, надеясь дойти до Парижа. Возвращенный обратно, он через некоторое время снова убегает из дому и блуждает в Арденнах около Шарлеруа. Без денег, голодая и не имея пристанища, чувствуя безысходность своего положения, Рембо решается еще раз вернуться в свой родной город. Вскоре он снова уезжает; на этот раз попадает в Париж, во время торжества Коммуны, вступает в ряды революционеров и после разгрома (71-го года) бежит в Шарлевилль.
«Мне кажется самым невыносимым, — писал Рембо, — оставаться долго в одном и том же месте. Я хотел бы объехать весь свет, который в конце концов уже не так велик».
Этими словами объясняется весь ход жизни Рембо. Из Шарлевилля он обращается с письмом к П. Верлену и посылает ему свои стихи. Верлен, увлеченный этим необычным юношей, зовет Рембо в Париж. Но, введенный в литературные круги, Рембо производит на всех отталкивающее впечатление. Не разгадавшие его гения, друзья Верлена видели в Рембо лишь заносчивого и дерзкого мальчишку. Только Верлен понял восторженную и неутоленную душу своего молодого друга и ради него, со свойственной ему страстью, пожертвовал семейным счастьем, добрым именем и позже свободой. В 1872 году оба поэта тайно покидают Париж и бродят по Англии и Бельгии. Но бродяге Рембо скоро наскучила совместная жизнь и, жаждая свободы, он решил расстаться с Верленом. Это привело к тяжелому концу. Верлен в раздражении выстрелил в Рембо. Выйдя из госпиталя, Рембо был выслан из Бельгии, вернулся в Шарлевилль и там издал свою книгу «Une saison en enfer», которую вскоре уничтожил. Он путешествует потом по Европе, записывается в голландские войска на Яве, бежит оттуда под страхом смерти, грозящей дезертирам, но счастливо достигает Англии. Там он получает должность кассира бродячего цирка и объезжает с труппой Англию, Голландию и Швецию. Но наконец сбываются его заветные мечты: ему удается достать небольшие деньги, покинуть надоевшую ему Европу; он проникает в глубь Африки, ведет торговлю с неграми и с английскими купцами и посылает оттуда доклады в парижское географическое общество. Там он остается около пятнадцати лет, окруженный любовью туземцев, которые звали его «Рембо Праведный». В 1891 году он получает тяжелую болезнь ноги, требующую операции. Больной, он приезжает в Марсель, героически переносит ампутацию и умирает 10 ноября 1891 года. Сестра Рембо так рассказывает о его последних минутах:
«Закрытые плотно двери и ставни, зажженные лампы, свечи, тихие звуки маленькой шарманки… Он переживал вслух вновь свою жизнь, воскрешая картины детства и мечтая о будущем. Так узнали мы, что там, в Африке, он знал о своем литературном успехе во Франции, но он поздравлял себя с тем, что бросил поэзию, говоря: „Это было все очень скверно!“»
Это «скверное», эти стихи 16—17-летнего мальчика мы можем назвать гениальными. В своих лучших стихотворениях, как «Пьяный корабль» (неоднократно переведенный на русский язык) и др., Рембо достигает при полной самостоятельности редкой силы впечатления. Еще, быть может, выше стоит проза Рембо, его «Une saison en enfer». Вначале непризнанный, Рембо скоро занял свое место среди поэтов-символистов. Поль Клодель[247], один из крупнейших писателей современной Франции, говорит, что из всех книг наибольшее влияние на его душу оказал тоненький томик Рембо…
1914
О Гийоме Аполлинере
Современная лирическая поэзия Франции родилась во времена Бодлера, дала миру Верлена, Рембо, Аполлинера, Элюара. Сейчас эта поэзия понята и признана литературоведами различных тенденций и различных стран. Многие поэты, с которыми мне приходилось встречаться, говорили, какую роль в их работе сыграли Бодлер, Рембо, Аполлинер — Мачадо, Альберти, Неруда, Мандельштам, Цветаева, Назым Хикмет. Самый крупный из ныне живых поэтов Франции, Арагон, разумеется, органически связан с новой французской лирикой.
Наши современники, русские читатели за редкими исключениями, знают французскую поэзию только по переводам. Итальянская поговорка, основанная на сходстве слов, гласит: «traduttore — traditore» — «переводчик — предатель». Это никак не значит, что переводчик ленив или невежествен. Говоря об искусстве перевода, Брюсов приводил слова Шелли:
«Стремление передать создания поэта с одного языка на другой — это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку, с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно возникнуть вновь из собственного семени, или оно не даст цветка — в этом-то и заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков».
(Это не помешало Брюсову бросать в тигель немало фиалок.) Разумеется, не все поэты непереводимы; одни из них в переводе, теряя многое, всё же сохраняют некоторые свои черты, другие теряют всё. Поэзия ораторская или философская, поэзия, изобилующая образами, более доступна для перевода, чем поэзия, построенная на сочетании слов, с их звучанием, со множеством ассоциаций, рождаемых тем или иным словом. Иностранцы, не владеющие русским языком, готовы поверить, что Пушкин и Лермонтов — великие поэты, но, читая переводы, они этого не чувствуют. Французы переводят стихи прозой. Представьте себе, что может дать четверостишие: «Я вспоминаю чудесную минуту, когда я в первый раз тебя увидал, это было мимолетной картиной, явлением гения чистой красоты». Из русских поэтов куда легче поддаются переводу столь не похожие один на другого Тютчев и Маяковский; сжатость глубокой мысли в стихах первого, пластичность образов и новизна ощущений второго доходят до читателя даже в прозаическом или полупрозаическом переводе.
Расин, Гюго, Бодлер, Арагон, эти большие и отнюдь не родственные друг другу поэты различных эпох, теряя порой половину, порой больше того в переводе, могут всё же дойти до эмоционального мира русского читателя, хотя очень редко переводы их можно назвать мастерскими. Отличие стихосложения, иной синтаксис, иное звучание слов, их прелесть, их сплетения, разумеется, исчезают, остаются взлет мысли, неожиданность образа, блеск эпитетов. Однако поэты, вся сила которых в сплаве слов, когда стихи почти свободны от того, что можно выразить прозой и чему нельзя найти адекватного на чужом языке, как Верлен, Элюар или Гийом Аполлинер, чрезвычайно трудны для перевода. Некоторые стихотворения Гийома Аполлинера напоминают народные песни, однако трубадур Гийом жил, по его словам, в эпоху, «когда кончились короли», и увидел в небе вместо пернатых ангелов бомбардировщики. Другие стихотворения Аполлинера написаны свободным стихом, без рифм, без ассонансов. Он искал гармонии дисгармонического — синкопы, обрывки будничного разговора, мифология, неологизмы, отчаяние, слезы наивного подростка, ирония — всё это сплетается, срастается. И разумеется, чрезвычайно трудно передать это на другом языке. Всё же я радуюсь, что у нас начали переводить Аполлинера, и, даже если переводчикам не удастся его показать, они что-то о нем расскажут.
* * *
Короткие сведения, доходившие до наших читателей об Аполлинере, носили весьма своеобразный характер. В «Большой Советской энциклопедии» сказано[248] коротко, но веско: «Формалистическая крикливая поэзия Аполлинера продолжала разрушение реалистического образа в стихе, начатое символистами… Ультралевые выходки доставили ему шумную известность. В политическом отношении его псевдоноваторская поэзия служила интересам французского империализма». Это было написано в 1950 году. Но много позднее, а именно в 1959 году, один искусствовед в газете «Советская культура»[249] сообщил читателям, что Аполлинер был арестован по обвинению в краже «Джоконды» и в тюрьме написал книгу о кубизме, чем способствовал расцвету «модернизма».
Теперь я перейду от справок к попытке познакомить читателя с биографией и творчеством Аполлинера.
Поэт родился в 1880 году. Он был внуком капитана российской армии Костровицкого, который после подавления польского восстания 1863 года уехал в Рим. Ангелика Костровицкая, воспитанница монастырского института, потеряв отца и освободившись от опеки монахинь, сошлась с камергером папы римского Франческо д’Аспремоном — и родила сына — Вильгельма-Альберта-Владимира-Александра-Аполлинария Костровицкого. Когда отец пятилетнего Вильгельма по настоянию своей родни решил порвать с Костровицкой, мать покинула Италию и поселилась в Монако. Несколько лет спустя Вильгельм поступил в католическую гимназию. В 1897 году он должен был сдать экзамены на аттестат зрелости — и провалился. Он увлекался литературой, писал стихи и рассказы, мало отличавшиеся от признаний многих подростков. В 1899 году Костровицкие переселились в Париж. Вильгельм нашел мизерную работу служащего, а также писал за других авантюрные романы. В 1901 году богатая и знатная немка наняла его как домашнего учителя французского языка для своей дочери. Год он прожил на Рейне, побывал в Баварии, в Вене, в Праге… Он влюбился в молодую англичанку, которая обучала дочь хозяйки английскому языку. Аполлинер вернулся в Париж и отправился в Лондон, где проживала любимая. Любовь не была взаимной. Перепуганная чувством Костровицкого, его признаниями и стихами, молодая англичанка выпроводила поэта. Так родилась поэма, доставившая Аполлинеру известность в среде молодых поэтов, — «Песнь нелюбимого».
В Париже он зарабатывал на хлеб в редакциях различных газетенок, служил в отделении банка. В 1904 году он встретился и подружился с Пикассо, написал предисловие к выставке его холстов «голубого периода». Потом он писал о малоизвестных в то время Матиссе, Браке, Дерене, Дюфи, Вламенке.
В различных журналах, преимущественно задорных и эфемерных, публиковались его стихи и фантастические новеллы. Он влюбился в молодую художницу Мари Лоренсен, хотел на ней жениться, однако мать Мари решительно запротестовала после нескольких газетных статеек, появившихся о непочтительном поэте, иностранце, очевидно замешанном в деле о похищении «Джоконды».
Остановлюсь немного на этой истории, для того чтобы наши искусствоведы и литературоведы впредь не возвращались к мифу, родившемуся в парижской префектуре полиции. Французские буржуа делили иностранцев на две категории: богатые англичане, приезжавшие на Ривьеру, или русские, которые проматывали в парижских ночных ресторанах многие десятины имений и которых французы называли «боярами», были желанными гостями; а иностранцы, жившие и работавшие во Франции, вызывали скорее неприязнь. Древнегреческое слово «метеки» (иностранцы) стало распространенным не среди эллинистов, а среди мелких лавочников, консьержей и раздосадованных конкуренцией служащих. Полиция видела в иммигрантах террористов или жуликов и, не задумываясь, арестовала Вильгельма Костровицкого.
Среди приятелей Аполлинера, человека скорее общительного, были самые различные люди. Один из них, бельгийский журналист Пьере, любил мистифицировать. Он унес из Лувра две древние статуэтки. Кражу не заметили. Но вскоре после этого исчезла «Джоконда». Аполлинер потребовал, чтобы Пьере вернул похищенные статуэтки, тот это сделал с помощью газеты «Пети-журналь». Газета, не называя виновного, расписала историю. Пьере, перепуганный, попросил у Аполлинера денег на билет — он решил уехать из Франции. Полиция допрашивала Аполлинера — где Пьере. В бульварной печати появились вздорные истории о «метеке», который якобы участвовал в похищении «Джоконды». Некоторые писатели, знавшие стихи Аполлинера, запротестовали, и поэт пробыл в тюрьме всего семь дней — дело было прекращено и воскресло только полвека спустя на столбцах «Советской культуры». Остается добавить, что книга [Аполинера] «Художники-кубисты» вышла в 1913 году и была сборником предисловий к каталогам различных художников.
В том же 1913 году вышел в свет первый сборник Аполлинера, который не только утвердил его репутацию большого поэта, но в значительной мере помог началу французской поэзии новой эпохи.
В начале 1914 года кто-то из художников в парижском кафе «Ротонда» подозвал меня к столику в темном углу: «Я тебя познакомлю с Аполлинером». Я тогда увлекался этим поэтом, пробовал перевести несколько его стихотворений и, не понимая того, ему подражал. Легко догадаться, как я волновался. Я ничего не мог вымолвить и даже не следил за беседой, а на Аполлинера я глядел, видимо, с таким восхищением, что он смеясь сказал: «Я не красивая девушка, а мужчина средних лет». Он не походил на завсегдатаев «Ротонды», ничего не было экзотичного в одежде или в поведении, говорил он громко, смеялся, напоминал не итальянца, а скорее добродушного фламандца. Была в нем восторженность, которую я потом увидел только у одного поэта — Незвала.
Летом 1914 года одна газета послала Аполлинера и художника Рувейра в Довилль, они должны были описать и показать будни морского курорта. Аполлинер в стихах описал неожиданное возвращение:
«…Я выехал из Довилля незадолго до полуночи в маленьком автомобиле Рувейра. Вместе с шофером нас было трое. Мы сказали прощай целой эпохе…»
Началась мировая война. Иностранец Аполлинер хотел пойти в армию добровольцем. Может быть, он стоял в очереди неподалеку от меня на Площади Инвалидов? Его забраковали — война только начиналась и вербовщики были взыскательными.
Немцы приближались к Парижу, и Аполлинер уехал в Ниццу. Там он встретил молодую женщину с весьма аристократической фамилией; звали ее Луизой, Аполлинер называл ее Лу. Он снова оказался в роли нелюбимого. Он решил уйти на фронт. На этот раз его зачислили в артиллерийский полк. Он писал письма в стихах Лу — о своей любви и войне. Потом он стал писать Мадлен, девушке, с которой познакомился в поезде.
Войну он сначала прославлял. Осенью 1915 года он попросил о переводе в пехоту и получил звание младшего лейтенанта. Его часть удерживала один из самых проклятых секторов фронта в Шампани (потом туда отправили русскую бригаду). Он увидел ужас окопной войны, но письма его продолжали сохранять бодрость. 14 марта 1916 года он написал Мадлен:
«Я тебе оставлю все, что у меня есть, пусть это будет моим завещанием».
Три дня спустя тяжелый снаряд разорвался возле окопа, и Аполлинер был тяжело ранен в голову — осколок пробил шлем. Его оперировали в полевом госпитале и отправили в Париж. Головные боли и паралич левой части тела потребовали трепанации черепа.
Здоровье было подорвано. Его не демобилизовали. Он исполнял работу в Париже. В начале 1918 года он переболел тяжелым воспалением легких. Неожиданно для своих друзей он женился на девушке, которую назвал в последнем своем стихотворении «рыжей красавицей». Осенью началась эпидемия «испанки» — злостной эпидемии гриппа. Аполлинер умер за два дня до окончания войны.
Таковы «анкетные» данные о жизни одного из крупнейших поэтов XX века.
* * *
На чем основаны утверждения, что Аполлинер «ультралевыми выходками» жаждал добиться «шумной известности», правда ли, что его «лженоваторская поэзия служила интересам французского империализма»?
Аполлинер родился в 1880 году, ровесник Дерена, он был на год старше Пикассо и Леже, на два — Брака и Джойса. В России в 1880 году родились Блок и Андрей Белый. Это было переходное поколение, оно успело сформироваться в XIX веке и мучительно перешагнуло в иной век, узнав мировую войну, русскую революцию, теорию относительности и многое другое. Аполлинер умер в 1918 году. Я писал, что XIX век засиделся на земле: он начался в 1789 году Французской революцией и кончился в тот летний день, когда Аполлинер сказал прости ушедшей эпохе.
Когда Аполлинер начал публиковать свои стихи, еще жили Ибсен, Чехов, Сезанн, Золя, Гоген, Римский-Корсаков; я поставил эти имена только для того, чтобы напомнить о времени. Во Франции еще говорили о деле Дрейфуса, о новом лекарстве «аспирин», который помогает при заболевании инфлуэнцией, о том, что братья Люмьер изобрели аппарат, который показывает на экране, как лошади скачут, а люди смеются. Право же, это было давно!
Я писал о кафе на углу бульваров[251] Монпарнас и Распай, где увидел Аполлинера:
«В „Ротонде“ собирались не адепты определенного направления, не пропагандисты очередного „изма“ <…> Мятеж художников и связанных с ними поэтов в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, был направлен не только против эстетических канонов, но и против общества, в котором мы жили. „Ротонда“ напоминала не вертеп, а сейсмическую станцию, где люди отмечают толчки, не ощутимые для других. В общем, французская полиция уж не так ошибалась, считая „Ротонду“ местом, опасным для общественного спокойствия».
Будучи школьником, Костровицкий увлекался анархическими идеями и писал в школьном журнале зажигательные статьи, он возмущался военщиной и юдофобством в годы процесса Дрейфуса. Случайно сохранилось стихотворение Аполлинера «Духоборы», написанное в 1897 году после обращения Толстого в защиту духоборов, отказавшихся нести военную службу.
Чем же Аполлинер служил интересам французского империализма, как то утверждал автор заметки в «Большой энциклопедии»?
Может быть, тем, что в 1914 году пошел сражаться и даже написал несколько десятков воинственных стихов. Я был во Франции в то время и помню смятение, овладевшее всеми. Анатоль Франс, которому было семьдесят лет, требовал, чтобы его отправили на фронт. Жан-Ришар Блок, ученик Ромена Роллана, писал своему учителю, что ничего не поделаешь — нужно защищать Францию от германского нашествия. В России двадцатилетний Маяковский, успевший побывать в подполье и посидеть в тюрьме, возле памятника генералу Скобелеву декламировал стихи «Война объявлена» и сочинял подписи для лубков: «Немец рыжий и шершавый разлетелся над Варшавой» или: «У союзников французов битых немцев целый кузов». Брюсов, который был на семь лет старше Аполлинера, писал стихи не менее воинственные, и ни его, ни Жан-Ришар Блока, ни Маяковского никто не обвиняет в том, что они помогали империализму — французскому или российскому.
Другие упреки Аполлинеру столь же мало обоснованы. Он не искал шумной известности, не читал свои стихи на митингах, не был эксцентричен ни в костюме, ни в словаре. Правда, в 1913 году он, по просьбе итальянских футуристов, написал «манифест» против искусства прошлого, столь же наивный, как «манифесты», под которыми стояли подписи Маяковского и Хлебникова. Аполлинер очень скоро отрекся от нападок на прошлое, говоря, что он только хотел отстоять право живых поэтов не быть имитаторами или эпигонами. Он перестал употреблять в стихах знаки препинания, говоря, что они ничего не дают для понимания текста и мешают усвоению ритма стиха. Я не поклонник такой «реформы» правописания, но многие французские поэты, в том числе Элюар и Арагон, не вернулись к знакам препинания. В течение нескольких лет Аполлинер порой писал стихи так, чтобы они образовывали фигуру — звезду, комету, птицу. Это было скорее затеей, чем идеей, и Аполлинер не толковал своих «каллиграмм» как новую поэтическую форму.
В истории французской литературы, изданной[252] Академией наук, имеется несколько страниц об Аполлинере, написанных со знанием его поэзии и с любовью. Однако почему-то Аполлинер занесен в главу «Кубизм» вместе с Андре Сальмоном и Максом Жакобом. Этих поэтов объединяет только личная дружба, и единственное, что объясняет приклеенный к ним ярлык, это их дружба с Пикассо и понимание живописи десятых годов нашего века.
При жизни Аполлинера были в моде различные «измы», и он сам в своем футуристическом «манифесте» перечисляет добрую дюжину, лично для себя он предпочитал «орфизм» (от мифического Орфея — музыканта). Сочетание Аполлинер — Сальмон — Жакоб не только натянуто, но и неоправданно. Андре Сальмон в течение нескольких лет увлекался поэзией, мало похожей на поэзию Аполлинера, писал также прозу, а потом написал несколько томов мемуаров о жизни поэтов и художников в первую четверть нашего века. Поскольку история французской литературы обходит молчанием ряд куда более значительных поэтов эпохи, включение Сальмона весьма спорно, и особенно его формальное объединение с Аполлинером. Макс Жакоб был прелестным поэтом, другом Аполлинера и Пикассо, но у Жакоба нет ничего поэтически общего с Аполлинером.
Я знаю, что литературоведы любят ярлычки, но и в такой любви лучше знать меру. Аполлинера литературовед причислил к кубизму за его любовь к неожиданным деталям в картине. Кубизм — живописное, а не поэтическое явление, и он был продолжением работы Сезанна над обобщением форм с устранением деталей. Позволю себе сослаться на мои старые суждения. В 1916 году, будучи молодым поэтом, я писал В. Я. Брюсову:
«Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее, „монументальное“, мне всегда хочется вскрыть вещь, показать, что в ней главное. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм…»
Я говорил о кубистической живописи, а не об Аполлинере. Что касается Аполлинера, то он писал о живописи Хуана Гриса, большого художника и последовательного кубиста:
«Искусство Хуана Гриса слишком строгое и слишком бедное выражение научного кубизма — глубоко мозговое искусство».
Старые «измы» нас теперь мало интересуют. Холсты Пикассо в музеях всего мира потрясают посетителей живописными открытиями и глубиной, а Делонне, о котором много писал Аполлинер, стал одной из деталей для работы искусствоведа. Научная поэзия, придуманная Рене Гилем и увлекшая Брюсова, — достояние историка, а поэзия Аполлинера, как поэзия Блока, продолжают волновать читателей как неумирающие произведения искусства.
Среди пунктов обвинительного заключения «Большой энциклопедии» имеется еще один, самый существенный: поэзия Аполлинера названа «лженоваторской». Мне кажется, что поэтические формы Аполлинера были различными — в одной и той же книге есть песни, напоминающие далекое прошлое, увлечение старыми немецкими романтиками, и есть ломка стиха и ритм современности, нечто общее с Уитменом. Не знаю, следует ли назвать стихи Аполлинера новаторскими или просто новыми, но уж никак нельзя приклеивать к прилагательному «новаторские» незаслуженное «лже». А вернее всего сказать, что поэзия Аполлинера была и осталась поэзией, в отличие от лженоваторства и от лжеклассицизма.
Мир человека в XX веке расширился и усложнился, личное начало переплетается с общим, воспоминания с предчувствиями, зигзаги истории с бедой или радостью отдельного человека. Аполлинер был первым поэтом, который это выразил, порой мудро, порой с наивностью ребенка.
Он был не только веселым человеком, но и поэтом утверждения жизни. Он порицал пристрастие к страданиям Бодлера, и вместе с тем его жизнь была заполнена горем «нелюбимого», всевозможными бедствиями — от мытарств юноши до «звездной головы» — ранения, полученного на фронте. Он видел связь вещей, больших и малых, — мыслей о своей любимой и деревьев, расщепленных снарядами, солдат, которые пилят доски для гробов, и американцев, которые зарабатывают доллары на военных поставках.
Любовь к жизни в его лирике связывалась с печалью разлуки, утечки часов, хода времени. Одно из наиболее известных стихотворений «Мост Мирабо» посвящено всему этому. Его рефрен: «Vienne la nuit sonne l’heure / Les jours s’en vont je demeure» («Пусть приходит ночь, бьют часы, дни уходят, я остаюсь»), непереводимый на другой язык, не может оставить в покое человека, прочитавшего оригинал, настолько он прост, точен, поэтичен и печален. Когда Аполлинера посадили в тюрьму, он писал: «Медленно проходят часы, как проходит похоронная процессия», и тотчас продолжал: «Ты будешь оплакивать час, когда ты плакал, — он пройдет слишком быстро, как проходят все часы».
Андре Бийи, один из близких друзей Аполлинера, говорит, что «новый дух», который поэт защищал в последние месяцы своей жизни, был основан
«…на любви к жизни и на доверии к человеку. Когда разразилась Октябрьская революция и Россия заключила сепаратный мир с Германией, он не разделял возмущения окружающих его. „Кто знает, — говорил он, — может быть, из всего этого родится нечто великое“. Я не знаю, будь он теперь среди нас, был бы он коммунистом, мне кажется, что он скорее был бы академиком, но бесспорно, что он нас продолжал бы изумлять».
Я не знаю, как и Андре Бийи, стал бы Аполлинер коммунистом, — такие догадки произвольны и бесцельны, но вряд ли он стал бы академиком. В XX веке во Французской академии было несколько поэтов — Сюлли Прюдом, Клодель, Фернан Грег, Поль Валери, Кокто. Ни один из них не сродни Аполлинеру. А ни Макс Жакоб, ни Элюар, ни Сен-Жон Перс, ни Деснос, ни Арагон не получили зеленого мундира и бутафорской шпаги — все они (каждый по-своему) стремились к подлинно современной поэзии и шли не по столбовой дороге, а по трудным горным тропинкам, как шел Гийом Аполлинер.
1965
Святое «нет»
Среди изысканных и гармоничных, подобных стриженым дубам туренских дорог, поэтов современной Франции Андре Спир кажется грубым чужеземцем, почти варваром. Напрасно было бы в его книгах искать утонченных и цветистых образов, которые золотом великолепного заката озаряют поэзию наших дней. Стихи Спира — суровые и торжественные — напоминают своей наготой стены походного шатра или древней молельни. Их ритм, порывистый и сухой, слишком буйный для салонов, слишком резкий для душ, убаюканных верленовской музыкой, подсказан горьким ветром пустынь. Не нужно знать «Еврейских поэм»[253], излишне вглядываться в паспорт поэта, чтобы опознать в современном писателе, символисте, потомка пророков Израиля.
Андре Спир написал книгу стихотворений на еврейские темы, он сионист и один из ярых бойцов за «национальное возрождение», но его иудейская сущность раскрывается тогда, когда он о ней не думает, в лирике. Глаза, исполненные древней тоски, красноречивее голубого значка в петличке. Семена векового кедра ветер разносит далеко окрест, и всходы их — в песках на голой скале, в холеном саду. На куполе старого храма, на выскобленной дорожке парка, негаданный, зацветает одуванчик и миру шлет свой легкий сев. Рассеянный Израиль не так ли предстает пред удивленным миром то мощным деревом, то малой былинкой; то в пучинах народных смут, то в Версале французской поэзии.
Спир-публицист хорошо знает, кто он и куда идет. Спир-поэт, как и всякий поэт, слеп священной слепотой. Кто-то высший подсказывает ему слова, которые язык порой еще не умеет вымолвить. Он начинает говорить о любви и радости, и кто-то властно обрывает сладкий лепет. В минуты счастья о чем еще тосковать, чего желать? Открываются внутренние глаза, и уютная комната полна бесплотными пришельцами. До уха доходят непостижимые уму, но внятные сердцу стенания. И вновь тоска, о которой он не ведал сам, не умещаясь в отдельной душе, исходит в унылых песнопениях. «Ты слышишь — это они поют», — говорит поэт испуганной возлюбленной. Кто поет? Не Спир, не счастливый за минуту до этого юноша, не друзья и не звонкие музы. Кто? Он не ведает, этот расцветший далеко от отчего дома кедр, — что в нем поют века и поколения Израиля. Иудейская тоска, как малярия, рассосалась, незаметная, по сердцам и убивает, когда ее не ждут.
Родина? О, конечно, он любит «прекрасную и нежную Францию», но сам боится этой легкой и усыпляющей любви. Ему страшно, что его прельстят навсегда слишком безмятежные черты самой ласковой мачехи.
Вежливость, ты и меня хочешь сделать пресным! Шутка, ты хочешь и мою душу сделать удобной! О скорбь, о гнев, о безумие, Чем я буду без вас? Придите, спасите меня От рассудка этой счастливой страны!Но вместо этой именуемой им не без иронии «прелестной» страны у него нет ничего. Ведь «скорбь» или «безумие» не родина, и с ними вечно жить нельзя. А так усталого путника манит и берег, и дом на нем, и в окне огонь лампады… Причаливает и падает на желанную землю, но земля боится его; она говорит пришельцу:
Погляди на эти пугливые дома, столпившиеся, как стадо, На согбенные плечи этих покорных людей. Можешь ли ты мне служить, как они? Хочешь ли ты думать о том, как проводить межи, Ставить изгороди и убивать дороги? Хочешь ли ты разделить свои мелкие заботы, Взять жадную жену, которая будет жить надеждой Раздвинуть шире крышу твоего дома? Хочешь ли ты сыновей, мечтающих об урожае соседа, Слуг, которых ты презираешь и которые тебя ненавидят, Гостей, приживалок и родных? Я люблю прикреплять людей, Но мне страшно упреков твоей бродячей души. Иди, блуждай, греби и пой! Погляди другие поля, другие сады и другие страны, Уходи скорее от той, что полюбишь, И блуждай, и блуждай… пока Одним вечером ты не умрешь в гостинице, Неоплаканный, даже для виду, Ни хозяйкой, ни доброй служанкой…О, здесь дело не в родине и не в чужбине… И Палестинская земля испугалась бы принять этого воистину Вечного Жида. Весь мир для него какая-то гостиница, где он, случайный проезжий, должен провести свой земной день. Отравленной душе мнится счастьем покой, свой кров, своя страна, пока она лишена этого. Но золото в руке теряет очарованье, становится не только жалким прахом, но тяжелым камнем, который мешает идти. А идти нужно без конца, идти, не зная ни цели, ни конца пути. Но не только в этом мире нет отчизны: даже смерть не несет отдохновения. Господь для Спира не живая любовь, не родимое лоно, но отвлеченная и беспокойная справедливость.
Какие же радости сулит нам земной путь? Природа — она томит лишь беспредельностью полей и недоступным далеким небом. Любовь — это ненасытная жажда, вечные муки истомившегося путника в безводной пустыне. Искусство — но и оно лишь великая ложь, ибо никогда самые нежные звуки и самые прекрасные линии не могли насытить души, чающей неземной Правды.
Что делать в этом мире? Я иду — всё глухо и тревожно. Я кричу — но уши внимающих мне Еще трусливей, еще грубей, еще презреннее, Чем руки нищих, от которых я убегаю. О Музей, о тихое чудовище, Открой твое молчание, твой сумрак Моим безнадежным шагам. И вы, картины, статуи, геммы, Дайте мир моей душе, Вы, счастливые, Никому не причиняющие зла. «Дитя, дитя, — они отвечают, — Смотри лучше, подойди ближе — Вот наша правда: Полотно, доски, винты, Масло и пыль, Старое железо и камни, Неподвижные, серые, мертвые…»Отрицание искусства у Спира подобно фанатизму многих религиозных сект. В тюрьме, вкруг эшафота сердце не хочет принять выхоленных цветников. И не для нежного примирения созданы его стихи. Их ритм — гул осеннего вихря, который подымает мертвые листы, крутит их и несет бог весть куда. Напрасно ухо ждет умиротворяющей рифмы или хотя бы далекого созвучья — оно услышит лишь диссонансы, поединок враждебных гласных. Спир не знает тайного родства звуков, и здесь ему доступны лишь одиночество и раздор.
Истинная поэзия всегда была, есть и будет — молитвой. Истомленный и тонущий в водах жизни человек чует целящую близость Божества и, в гармонических строфах прося — получает, жалуясь — утешается, благодарный — славит мир. Не высшая ли поэзия в скромных «Цветочках» св. Франциска Ассизского, прославляющего в гимнах брата Солнце, сестру Воду, великого Творца и малую тварь. Прозревший и в Боге воскресший человек всему миру говорит свое святое «да! принимаю и люблю». И поэзия всех племен и всех веков лишь бесчисленные вариации этого «да».
А человеческое страдание, а вечная несправедливость? Можно ли все принять и все оправдать? Коршуна, уносящего голубя, и мать, рыдающую над мертвым младенцем? Господь справедлив, Его славим, но разве не Он «Иакова возлюбив, Исава возненавидел»? И как забыть Иова, тщетно на гноище пытающего Бога?
Нет, живое сердце никогда не уснет на мягком ложе всеприемлющего «да», во имя Божье оно бросает слово тоски и гнева — тоже трижды святое «нет». Это «нет» вложено в уста караемого Израиля, и оно звучит в стихах одного из его сыновей — Андре Спира.
Отрицанием жить нельзя, но без него замер бы мир, без соли стал бы пресным. Собранная воедино тоска Израиля образовала бы мертвое море, и народ умер бы, не зная ни единого «да». Но страшная и высокая миссия иудейского племени в том, что оно несет, само распыляясь, растекаясь, умирая, — всем и всякому животворную тоску. Когда настанет согласие между «да» и «нет», когда придет Царствие Божие на земле? Многие, и иудеи, и христиане, верят, что лишь тогда, когда народ, облеченный высокой миссией, исполнит ее и сможет, впервые не лукавя, свои молитвы заключить в одно «да».
1919
Портреты русских поэтов
Анна Андреевна Ахматова
Я не знаю ни ее лица, ни даже имени. Только скорбная, похожая на надломленное деревцо, женщина Альтмана[254] перед моими глазами. Она очень устала, любит замшенные скамейки Царскосельского парка, у нее розовый зябкий какаду. Я не знаю ее, но я ее знаю лучше поэтов, с которыми прожил годы вместе. Я знаю ее привычки и капризы, ее комнату и друзей. У других я был в кабинете и в салоне, в опочивальне и в часовне. Она подпустила к сердцу. Я тоже грешен — у костра ее мученической любви грел я тихонько застывшие руки, трижды отрекшись от Бога. Со страхом глядел я на взлеты подбитой души, — птица с дробинкой, пролетит пять шагов и вновь упадет. Ах, как застыдился бы Леконт де Лиль[255], увидав обнаженную гусиную кожу души на ветру перед равнодушными прохожими! Впрочем, прохожие не совсем равнодушны, они покупают «Четки», и Ахматова горько жалуется на свою «бесславную славу».
Не письмо, не дневник, а любящее сердце в паноптикуме рядом с ассирийскими приспособлениями Брюсова и сологубовскими розгами из Нюренберга[256]. Что же делать, по законам бытия должны мы питаться не проточной водой, но теплой кровью, и не в первый раз клюет свою грудь жертвенный пеликан.
Бессильно повисли руки Ахматовой, и говорит она в себя, как человек, который уж не может требовать и не умеет просить. Какую битву проиграл полководец? Отчего после легкого «Вечера» и жарких «Четок» прилетела к ней суровая и снежная «Белая стая»? Для нее любовь была не праздником, не вином веселящим, но насущным хлебом.
«Есть в близости людей заветная черта», и напрасно пыталась перейти ее Ахматова. Любовь ее стала дерзанием, мученическим оброком. Молодые барышни, милые провинциальные поэтессы, усердно подражающие Ахматовой, не поняли, что значат эти складки у горько сжатого рта. Они пытались примерить черную шаль, спадающую с чуть сгорбленных плеч, не зная, что примеряют крест.
Для них роковая черта осталась далекой приятной линией горизонта, декоративными звездами, о которых мечтают только астрономы и авиаторы. А Ахматова честно и свято повторила жест Икара и младенца, пытающегося поймать птичку, Прометея и сумасшедшего, пробивающего головой стену своей камеры.
Часто ночью равнодушно гляжу я на полку с длинными рядами милых и волновавших меня прежде книг. За окном ночь, необычайная ночь, — жизни нет и нет конца. О чем читать? Разве не исполнилось сказанное, не иссякли пророчества и не упразднилось знание? Да, но «любовь не престанет вовек», и я повторяю грустные слова гостьи земли, нареченной «Анна». Ее стихи можно читать после всех, уже не читая, повторять в бреду.
Текут века, и что мне оникс или порфир древнего храма, что мне вся мудрость Экклезиаста. Но в глазах возлюбленной я вижу отблеск неотгоревшего огня бедной Суламиты. Выше Капитолия и Цицерона царят над миром любовники Помпеи, они одни не бежали от смерти, только они ее победили. Может быть, в тридцатом веке ученые будут спорить о значении сонета Вячеслава Иванова, но старый чудак, найдя в лавке полуистлевший томик, у огня, таящегося под пеплом, таким же жестом, как я, будет греть замерзшие руки — отлюбившее и жаждущее еще любить, вечно любить, сердце.
1919
Юргис Казимирович Балтрушайтис
Поэт стихи не пишет, но говорит, пусть беззвучно, но всё же шевелятся его губы. Руки — потом, руки — это почти наборщик. Есть уста поэтов, исступленные или лепечущие, мудрые или суеречивые. На пустынном лице Балтрушайтиса особенно значителен рот, горько сжатый рот, как будто невидимый перст, тяжелый и роковой, лежит на нем. Балтрушайтис так часто повторяет слово «немотствовать». Какая странная судьба — тот, кто должен говорить, влюблен в немоту! В пристойном салоне собрались поэты. Бальмонт рассказывает о пляске каких-то яванок или папуасок. Белый словами и руками прославляет дорнахское капище[257]. Какие-то прилежные ученики спорят о пэонах Дельвига. Футуристы резво ругаются. В черном, наглухо застегнутом сюртуке, Балтрушайтис молчит. Не просто молчит, но торжественно, непоколебимо, как будто противопоставляя убожеству и суете человеческих слов «благое молчание». Так же молчал он на сборищах юных символистов, бушевавших под сенью «Весов»[258] или на заседаниях «Тео»[259], слушая наивные поучения теоретиков Пролеткульта. Когда в России профессия сделалась необходимостью, Балтрушайтис стал не оратором, а дипломатом. Там, в кабинетах, творящих войну или мир, где белые места значат больше тривиальных строк, где паузы убедительнее заученных заверений, он смог проявить свое высокое искусство — молчать.
Но разве поэт должен спорить, рассказывать, обличать? Поэт «вещает». Немой Балтрушайтис, когда приходит урочный час, разрешается сжатыми, строгими строками. Великой суровостью дышит лик Балтрушайтиса. Это суровость северной природы. Редко, редко младенческая улыбка, как беглый луч скупого солнца, озаряет на миг его. Напрасно суетный читатель стал бы искать в его стихах красочных образов и цветистых слов. Стихи Балтрушайтиса — гравюра по дереву. В них только черные и белые пятна. В призрачном свете полярного дня нет красок, и только огромные формы, веская плоть земли давят душу. Никогда Балтрушайтис не украшает своего скудного рассказа пышными одеждами. В его кабинете пусто. Только стол рабочий и большое распятье. Стихи его похожи на голые стены древней молельни, где нет ни золотых риз икон, ни крытых пестрыми каменьями статуй, где человек глаз на глаз ведет извечный спор с грозным Вседержителем. Читает стихи Балтрушайтис размеренно и глухо, не выдавая волнения, не возвышая и не понижая голоса, будто путник, повествующий о долгих скитаниях в пустыне. Немногим близки и внятны его стихи. Ведь мы ждем от поэта видений новых и меняющихся и требуем, чтобы он нас дивил, как причудливый цветник или как танец негритянки. «Балтрушайтис… Но ведь это так скучно», — еще сегодня сказала мне барышня, которая любит заменять стихами Гумилева невозможные в наши дни путешествия. Да, Балтрушайтис очень скучен и очень однообразен, но в этом его мощь. Есть на свете не только цветники Ривьеры и гавоты Рамо[260], но еще скучные пески пустыни и скучное завывание ветра в нескончаемую осеннюю ночь. Прекрасны девственные леса, священное бездорожье, прекрасны тысячи тропинок, несхожих друг с другом, которые сквозят в зеленой чаще, уводя к неведомым прогалинам и таинственным озерам. Но так же прекрасна длинная прямая дорога, белая от пыли в июльский полдень, которую метят только скучные верстовые столбы. Балтрушайтис идет по ней, куда — не всё ли равно? Надо идти — он не считает дней и потерь, он идет, и не выше ли всех пилигримов тот крестоносец, который, не видя ни миражей пустыни, ни золотых крестов Иерусалима, мерцающих впереди, — ничего, гордо несет чрез пески и дни тайной страстью выжженный на груди крест.
1919
Константин Димитриевич Бальмонт
Помню ноябрьское туманное утро и длинные серые набережные Сены. Реял мелкий дождик, и тоскливо отсвечивали сизые стены похожих друг на друга домов. Прохожие хмурые, окунув лица в воротники, ежась бежали на работу. Но у витрины какой-то лавчонки они останавливались и долго стояли, будто завороженные каким-то чудесным видением. За мутным слезящимся стеклом в маленькой клетке сидел попугай. Стеклянными глазами он глядел вдаль и время от времени величественно хлопал крыльями. Казалось нелепым его слишком яркое оперение: изумрудный хвост, лазурный хохолок, малиновые крылья. Стояли на ветру, а потом каждый уносил с собой в контору или в парламент, в магазин или в университет смутное, неизъяснимое волнение. Быть может, напоминал он о зеленых рощах Явы, о кровавом солнце, падающем в пески пустынь, о сапфирной епитрахили тропической ночи.
Не таким ли попугаем являлся Бальмонт в унылые кануны нашей эпохи? Он мнился нелепым, бесцельным, в своей бесцельности трижды необходимым. Я видел — в давние дни — как в чопорном квартале Парижа Пасси прохожие останавливались, завидев Бальмонта, и долго глядели ему вслед. Не знаю, за кого принимали его любопытные рантье — за русского «prince», за испанского анархиста или просто за обманувшего бдительность сторожей сумасшедшего. Но их лица долго хранили след недоуменной тревоги, долго они не могли вернуться к прерванной мирной беседе о погоде или о политике в Марокко. А несколько лет спустя, в первую зиму революции, на улицах Москвы, покрытых корою льда, средь голодных угрюмых людей, осторожно, гуськом обходящих особенно скользкие места, я видел те же изумленные взоры и повернутые назад головы. Нужны были три года, пустынные и слепительные, когда крестный путь стал обычной проселочной дорогой (и наоборот), когда некий дикий Олимп сделался повседневной резиденцией любого обывателя, а олимпийцы либо переехали в музей, либо занялись пилкой дров, будучи при этом непостижимо сходны с простыми смертными, — нужны были эти безумные годы, чтобы затмить пожаром материков давнее окно, где еще горит и томится заморская птица.
Время, время! Не тебе ли служит до последнего посмертного ямба поэт? Не под твоими ли, воспетыми им, колесами он гибнет? Легко осыпаются поздние розы, мгновенен век мотылька, и только поэту суждено жить с плодами, со славою, с полным собранием сочинений, с неистребимыми воспоминаниями.
Воистину трагична судьба Бальмонта. Глядя на него, я — еще в который раз — возмущаюсь необъяснимыми причудами Верховного Режиссера. Что это — «божественный абсурд» или просто непростительная рассеянность? Выкинуть резким пинком на сцену Средневековья бедного Франсуа Вильона, который в точности знал все лабиринты двадцатого века, и забыть о чудесном трувере-певце «златовейных», «огнекрылых», «утонченных» и других прекрасных дам. Пропустить и салоны Дианы де Пуатье, и навсегда потерянную возможность быть зарисованным Веласкесом, и даже скромный пунш средь невских харит в каморке Языкова, чтобы бросить поэта испанцев, «опьяненных алой кровью», в век танков, конгрессов интернационала и прочей тяжеловесной декорации, для которой ни Ронсар, ни Гонгора, ни Языков даже наименований не нашли бы.
Любите же в Бальмонте великолепие анахронизма. Когда насаждаются республики, чтите в нем короля. На его медном лице зеленые глаза. Он не ступает, не ходит даже, его птичьи ноги как будто не хотят касаться земли. Его голос похож то на клекот, то на щебет, и русское ухо тревожат непривычные, носовые «н» в любимых рифмах «влюбленный, опьяненный, полусонный»…
Как образцовый король, Бальмонт величествен, нелеп и трогателен. Он порождает в сердцах преклонение, возмущение и жалость. В дни полуденного «Будем как Солнце» падали ниц, заслышав его пронзительный голос. Но вот вчерашние рабы бунтуют и свергают властелина. Бальмонта ненавидят за то, что поклонялись ему, за то, что учиться у него нечему, а подражать ему нельзя. И дальше, Бальмонт в «Песнях Мстителя» или в «Корниловских» стихах — политик, в «Жар-Птице» — филолог, Бальмонт — мистик, публицист, философ — бедный, бедный король!
Бальмонт объехал весь свет. Кажется, мировая поэзия не знала поэта, который столько времени провел на палубе парохода или у окна вагона. Но, переплыв все моря и пройдя все дороги, он ничего в мире не заметил, кроме своей души. Вот эта книга — Бальмонт в Египте, а эта — Бальмонт в Мексике. Бунтующие, вы хотите корить его за это? Преклонитесь лучше перед душой, которая так велика, что десятки лет ее исследует неутомимый путешественник, открывая всё новые пустыни и новые океаны.
Бальмонт знает около тридцати языков. Легко изучил он десятки говоров и наречий. Но заговорите с ним даже по-русски, невидящими глазами он посмотрит на вас, и душа, не рассеянная, нет, просто отсутствующая, ничего не ответит. Бальмонт понимает только один язык — бальмонтовский. В его перепевах Шелли и сказатель былин, девушка с островов Полинезии и Уитман говорят теми же словами.
Часто возмущаются — сколько у Бальмонта плохих стихов. Показывают на полку с пухлыми томами, — какой? 20-й? 30-й? Есть поэты, тщательно шлифующие каждый алмаз своей короны. Но Бальмонт с королевской расточительностью кидает полной пригоршней ценные каменья. Пусть среди них много стекляшек, но не горят ли верным светом «Горящие зданья» или «Будем как Солнце». Кто осудит этот великолепный жест, прекрасное мотовство?
Сейчас труднее всего понять и принять Бальмонта. Мы слишком далеки уж от него, чтобы признать его современность, и слишком близки, по-моему, чтобы постичь его «вечность». Вместе со многим другим, мы преодолеваем Бальмонта. Мы все хорошо помним, что писарь из Царицына декламирует «Хочу упиться роскошным телом». Но легко забываем, что талант отнюдь не уничтожает безвкусия и что иные строки Бальмонта, проступая сквозь туман годов, значатся в какой-нибудь хрестоматии XXI века.
Бальмонт страстно любил и любит Россию, любит, конечно, как это ему свойственно — своевольно, капризно, бурно. Заморский гость, навеки отравленный широтой ее степей, дыханием болот, молчанием снегов. О, какой роковой и мучительный роман! Россия в бреду, в тоске, темная и взыскующая не хочет открыть своего сердца нетерпеливому романтику. Тогда, как обманутый в ожиданиях влюбленный, он клянет, грозит, уверяет себя и всех, что излечился от страсти — «в это лето я Россию разлюбил», чтобы потом снова у двери шептать ее незабываемые имена.
Отсюда великое одиночество Бальмонта, после тысяч и тысяч дружеских рук, сжимавших его неудержимую и неудержанную. Грозная буря выкинула его на этот парижский остров, где он чувствует себя Робинзоном, не видя Пятницы, но лишь злостных пирующих людоедов.
Любить Бальмонта живой, простой, человеческой любовью, так, как мы любим Блока и Ахматову, нельзя. Как осенние цветы, он ярок и пестр, в яркости своей неуютен, страшен и не то слишком зноен, не то смертельно холоден. Но, рассказывая детям о наших великих и суровых годах, мы скажем им и о том, кто, сам того не ведая, поджег много былых зданий и рыжим, злым костром окровавил небо угрюмых Канунов.
1919
Александр Александрович Блок
Я никогда не видел Блока. Случайные рассказы о нем слились с образом смутным, но неотступным, созданным моей мечтой. Этот портрет — видение наивной девочки, которая над книгой думает, какие были у героя глаза, карие или голубые. Быть может, А. А. Блок совсем не похож на моего Блока. Но разве можно доказать, кто подлинный из двух? Я даже боялся бы увидеть того, кто живет в Петербурге, ибо роль девочки, познающей житейскую правду, — скверная роль.
Я вижу Блока не одержимым отроком, отравленным прикосновением неуловимых рук, который на улице оглядывается назад, вздрагивает при скрипе двери и долго глядит на конверт с незнакомым почерком, не в силах вскрыть таинственного письма. Я не различаю дней «Снежной маски», туманов и вуали, приподнятой уже, не «прекрасной», но дамы Елагина острова, и жалящей тоски. Предо мной встает Блок в его «Ночные часы». Пустой дом, хозяин замкнулся, крепко запер двери, чтобы больше не слышать суетных шагов. Большие слепые окна тупо глядят на белую ночь, на молочную, стеклянную реку. Блок один. Блок молчит. На спокойном, холодном лице — большие глаза, в которых ни ожидания, ни тоски, но только последняя усталость. Город спит. Зачем он бодрствует? Зачем внимает ровному дыханию полуночного мира? Не на страже, не плакальщица над гробом. Человек в пустыне, который не в силах поднять веки (а у Блока должны быть очень тяжелые веки) и который устал считать сыплющиеся между пальцами дни и года, мелкие остывшие песчинки.
По великому недоразумению Блока считают поэтом религиозным. За твердую землю, на которой можно дом уютный построить, принимают легкий покров юношеского сна, наброшенный на черную бездну небытия. Ужас «ничто» Блок познал сполна, «ничто» даже без хвоста датской собаки. Но какие-то чудесные лучи исходят из его пустующих нежилых глаз. Руки обладают таинственной силой — прикасаясь, раня, убивая — ласкать. Стихи не итог с нолями, не протокол вскрытия могилы, в которой нашли невоскресшего бога, но песни сладостные и грустные, с жестоким «нет», звучащим более примиряюще, чем тысячи «да».
Столько у него нежности, столько презираемой в наши дни благословенной жалости.
Величайшим явлением в российской словесности пребудет поэма Блока «Двенадцать». Не потому, что она преображает революцию, и не потому, что она лучше других его стихов. Нет, останется жест самоубийцы, благословляющего страшных безлюбых людей, жест отчаяния и жажды веры во что бы то ни стало. Легко было одним проклясть, другим благословить. Но как прекрасен этот мудрый римлянин, спустившийся в убогие катакомбы для того, чтобы гимнами Митры[261] или Диониса прославить сурового, чужого, почти презренного Бога! Нет, это не гимн победителям, как наивно решили «Скифы», не «кредо» славянофила, согласно Булгакову, не обличенья революции (переставить всё наоборот, — узнаете Волошина?) Это не доводы, не идеи, не молитвы, но исполненный предельной нежности вопль последнего поэта, в осеннюю ночь бросившегося под тяжелые копыта разведчиков иного века, быть может, иной планеты.
Хорошо, что Блок пишет плохие статьи и не умеет вести интеллигентных бесед. Великому поэту надлежит быть косноязычным. Аароны[262] это потом, это честные популяризаторы, строчащие комментарии к «Двенадцати» в двенадцати толстых журналах. Блок не умеет писать рецензий, ибо его рука привыкла рассекать огнемечущий камень скрижалей.
Легко объяснить достоинства красочного образа Державина или блистающего афоризмами Тютчева. Но расскажите, почему вас не перестанут волновать простые, почти убогие строки: «Я помню чудное мгновенье» или «Мои хладеющие руки тебя пытались удержать».
Когда читаешь Блока, порой дивишься: это или очень хорошо, или ничто. Простым сочетаньем простых слов ворожит он, истинный маг, которому не нужно ни арабских выкладок, ни пышных мантий, ни сонных трав.
У нас есть прекрасные поэты, и гордиться можем мы многими именами. На пышный бал мы пойдем с Бальмонтом, на ученый диспут — с Вячеславом Ивановым, на ведьмовский шабаш — с Сологубом. С Блоком мы никуда не пойдем, мы оставим его у себя дома, маленьким образком повесим над изголовьем. Ибо мы им не гордимся, не ценим его, но любим его стихи, читаем не при всех, а вечером, прикрыв двери, как письма возлюбленной; имя его произносим сладким шепотом. Пушкин был первой любовью России, после него она много любила, но Блока она познала в страшные роковые дни, в великой огневице, когда любить не могла, познала и полюбила.
1919
Валерий Яковлевич Брюсов
Сухаревка. Расползся, разбух, версты на три охватил город базар. Чем только не торгуют: ложечками для святых даров («возьмите, к солонке пригодится»), французскими новеллами, обсосанными, захватанными кусочками сахара. Бородатый мужик нараспев, будто дьячок, читает «Известия» — Манифест Коммунистического Интернационала. А рядом пробираются сквозь толпу слепцы и гнусавят: «Восплакался Адамий, раю мой, раю…»
Вот и дом Брюсова. На длинных полках книги, очень много книг, умных, пристойных, торжественных. На стенах картины, не какие-нибудь — с выставок. Хозяин сухой, деловитый, о чем ни заговорит, сейчас библиографию приведет. «Совсем европеец» — скажет наивный провинциал. Нет, Брюсов русский, и весь он точно вышел с этой Сухаревки, из заговоров, пришептываний великой сказочницы России, преображающей Кинешму в столицу мира, и пятнадцатый век — в тридцатый. Напрасно хвалится Европа экспрессами. У нас так медленно (какие-то сто верст в час) и хромые не ходят. Рядом с дощатым флигелем — небоскреб, после попивающего чаек à la Byzance[263] Распутина — радионоты Чичерина[264]. Европой Россия быть не желает и от Азии норовит в Америку.
Брюсов похож на просвещенного купца, на варвара, насаждающего культуру, который за все берется: вместо цинготных сел — Чикаго построю, из Пинеги фешенебельный курорт сделаю, а на верхушке Казбека открою отель «Эксельсиор». Задолго до наших дней он начал работать над электрификацией российской «изящной словесности». Что-то в нем не то от Петра Великого, не то от захолустного комиссара «Совхоза». Он пишет стихи — классические и вольные, парнасские и гражданские, «декадентские» и нравоучительные, сонеты, терцины, баллады, триолеты, секстины, ле и прочие, в стиле Некрасова или Малларме, Верхарна или Игоря Северянина. Пишет еще драмы, рассказы, повести, романы. Переводит с языков древних и новых. Выступает в роли философа, филолога, художественного критика, военного корреспондента. Его именем подписан не один десяток книг, а поместительные ящики его стола хранят залежи еще ненапечатанных рукописей. Он неутомим, и не о таких ли людях думал Блок, называя Русь «новой Америкой»?
Брюсов как-то сказал мне, что он работает над своими стихами каждый день в определенные часы, правильно и регулярно. Он гордится этим, как победой над темной стихией души Изобретатель машины, действующей безошибочно во всякие времена и при всякой температуре. Напрасно говорят, что случайны и темны пути, по которым пришел Брюсов к цельному и всемерному утверждению коммунизма. Как мог он не почувствовать столь близкого ему пафоса великой механизации хаотического доселе бытия?
Еще слова Брюсова: «Чтобы быть поэтом, надо отказаться от жизни». Великая гордыня в этом человеке: пчела, отрекшись от вешнего луга, хочет делать мед. Я не ропщу, если он горек, я преклоняюсь перед поэтом, ибо соты его всё же не пусты!
Нет ничего легче, чем критиковать книги Брюсова, обличая их художественную неподлинность. Действительно, стихи о страсти оставляют такое же впечатление, как рассказ об Асаргадоне, а Сицилия до удивительности похожа на Швецию. Но ведь Брюсову совершенно всё равно, о чем писать, для него поэзия — скачки с препятствиями. Помню кафе в Москве восемнадцатого года, переполненное спекулянтами, матросами и доморощенными «футуристами» (больше по части «свободного пола»), Брюсов должен импровизировать стихи на темы, предлагаемые вышеуказанными знатоками. Он не смущается ни звоном ложечек, ни тупым смехом публики, ни невежеством поданных записок. Строгий и величественный, он слагает терцины. Голос становится непомерно высоким, пронзительным. Голова откинута назад. Он похож в эту минуту на укротителя, подымающего свой бич на строптивые, будто львы, слова. Стихи о Клеопатре, о революции или о кофе со сливками, не всё ли равно. Прекрасные терцины. А барышня в Конотопе пусть верит и, веря, трогательно переживает все эти объятия и распятия Астарт[265] и Клеопатр.
Брюсов очень часто бывает безвкусным. Как-то неловко читать его «Думы» об Италии или военные стихи («Не с нами ли вольный француз?»). Но ведь вкус — это что-то старческое, налет столетий. В Италии каждый бродяга усмехнется и отметит все безвкусное, у нас же хороший вкус — это нечто заграничное — грассирование, журнал «Аполлон» и душевное малокровие. А Брюсов из тех людей, которые только начинают править миром.
Я не забуду его, уже седого, но по-прежнему сухого и неуступчивого, в канцелярии «Лито» (Литературного отдела Н. К. П.). На стенках висели сложные схемы организации российской поэзии — квадратики, исходящие из кругов и передающие свои токи мелким пирамидам. Стучали машинки, множа «исходящие», списки, отчеты, сметы и наконец-то систематизированные стихи. При всем своем модернизме Брюсов чувствует слабость к античной мифологии, латинским пословицам и всем изречениям до и после Рождества Христова, ставшим достоянием любого журналистика. Поэтому я думаю, что, изможденный, больной, он, окинув удовлетворенным оком эту невиданную поэтическую канцелярию, шептал про себя: «Ныне отпущаеши…»
Может быть, какая-нибудь стихийная катастрофа поглотит современную культуру. Но ныне пред нами путь человечества, железный путь. Россия желает опередить Европу на много веков. С трудом Брюсов выискал во Франции захудалого Рене Гиля[266], который в противовес песням бедного Лелиана[267] изобрел «научную поэзию». О, конечно, соловей прекрасно поет, но будущее, кажется, принадлежит граммофону. В здании Брюсова есть великая мощь, титаническое дерзание: он хочет создать не поэтическую поэзию. Были девственные леса и улыбчивые дикари, но приехал беспощадный колонизатор с томиком стихосложения. Птицы больше не поют, но, быть может, наши дети — с их новым слухом — будут наслаждаться однозвучным грохотом машин и размеренными гудками.
1920
Андрей Белый
Огромные широко разверстые глаза, бушующие костры на блеклом изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островками стоящих дыбом волос. Читает он — будто Сивилла вещающая, и, читая, руками машет, подчеркивая ритм не стихов, но своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но, когда он рядом, тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми. Ветер в комнате. Кто-то мне пояснил, что такое впечатление производят люди гениальные. Мой опыт в этой области невелик, и я склонен верить на слово. Андрей Белый гениален. Только странно, отчего минутами передо мной не храм, а лишь трагический балаган?
Есть поэты, подобные эоловой арфе, и есть поэты, ветру подобные: «что» и «как». Белый выше и значительнее своих книг. Он — блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов. На минуту ложной жизнью оживляет он белый неподвижный камень, и потом отходит от него. Его романы и стихи, симфония и философские трактаты — это не Белый, но только чужие изваяния, мертвый музей, таящий еще след его горячего дыхания. Пророк, не способный высечь на скрижалях письмена. Его губы невнятно шевелятся, повторяя имя неведомого Бога. Вместо учения — несколько случайных притчей, отдельные разбросанные каменья небывшего ожерелья.
Нас немного раздражает это летучее лицо, которое так быстро проносится мимо, что остается в памяти лишь светлая туманность. Белый — в блузе работника, строящего в Дорнахе теософский храм, и Белый с террористами, влюбленный в грядущую революцию. Белый — церковник, и Белый — эстет, описывающий парики маркизов. Белый, считающий с учениками пэоны Веневитинова, и Белый — в Пролеткульте, восторженно внимающий беспомощным стихам о фабричных гудках. Их много Белых и много наивных людей, крепко сжимая пустые руки, верят, что поймали ветер. Мы все так ждем пророков, так жаждем указующего жезла и ног, которые можно было бы лобызать! Почему же никто не пошел за Белым ни в Дорнах, ни в Пролеткульт, почему одинок он в своих круговселенских путешествиях? Почему одни не целуют края его одежд, а другие не побивают его каменьями? Почему даже это пламенное слово «гений», когда говорят о Белом, звучит как ярлык, заготовленный каким-нибудь журнальным критиком? Белый мог быть пророком: его мудрость горит, ибо она безумна, его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но «шестикрылый серафим», слетев к нему, не кончил работы. Он разверз очи поэта, он дал ему услышать нездешние ритмы, он подарил ему «жало мудрое змеи», но он не коснулся его сердца.
Какое странное противоречие: неистовая пламенная мысль, а в сердце вместо пылающего угля — лед. И, глядя на сверкающие кристаллы, на алмазные венцы горных вершин, жаждущие пророка почтительно, даже восторженно говорят: «гениально». Но ставят прочитанный томик на полку. Любовь и ненависть могут вести за собой людей, но не безумие чисел, не математика космоса. Виденья Белого полны великолепия и холода. Золото в лазури — не полдневное светило июня, но осенний закат в ясный ветреный день над вспененным морем. Холодный синий огонь, а в мраморной урне легчайший серебряный пепел. В его ритме ни биения сердца, ни голосов земли. Так звенят великолепные водопады высоко-высоко, там, где уже трудно дышать, где простой человеческий голос звучит, как рог Архистратига[268], где слезы, теплые, людские, мгновенно претворяются в прекрасные, блистающие, мертвые звезды. Впрочем, всё это лишь различие климатических зон.
Разве Белый виновен в том, что он родился не в долине? Конечно, мы тоже не виновны в нашей привязанности к приземистым лачугам. Остается благословить разнообразие природы и помечтать о скорейшем изобретении вселенских лифтов. Пока же мы радуемся, что кто-то, пусть без нас, пусть один, стоит наверху. Оттуда виднее, оттуда и только оттуда, где видны не губернии, но миры, где слышен ход не дней, но тысячелетий, могли быть брошены вниз прекрасные слова о России — «Мессии грядущего дня». В этом титаническом масштабе наше спасение, среди бурь, которые преображают мир, но также рвут одежду и бьют утварь. Оценим же в Белом не лоцмана, не желанный берег, но лишь голубя, который принес нам весть о земле неизвестной, но близкой и верной.
1919
Максимилиан Александрович Волошин
Желтые отлогие холмы, роняя лиловые тени, окаймляют пустынный берег Черного моря. Ни деревца, ни былинки; голый, суровый, напоенный горечью земли и соленым ветром край. Он напоминает окрестности Сиены, места, в которых Данте предчувствовал ад. Как странно, что здесь, среди этой благословенной наготы земли, вырос поэт золотых, тяжелых риз, ревниво скрывающих бедную, темную плоть. Поэт, соблазненный всеми облачениями и всеми масками жизни: порхающими святыми барокко и штейнеровскими идолослужениями, загадками Малларме[269] и каббалистическими формулами, замков не открывающими ключами Апокалипсиса и дендизмом Барбе д’Оревильи[270]. Поэт, чье елейное и чересчур торжественное имя — Максимилиан — почти маска. Маска ли? Грубой рукой не пытайтесь сорвать ее с только предполагаемого лица. Не казните доверчивого хитреца злой казнью сатира Марсия[271] или апостола Варфоломея[272]. Ведь и лицо может превратиться в маску, и маска может стать теплой плотью. Нет, лучше изучайте статьи, похожие на стихи, стихи, похожие на статьи, целую коллекцию причудливых и занятных масок.
Густые, золотые завитки волос, очень много волос, обступающих ясные, вежливые, опасно приветливые глаза. О, читающие в сердцах, напрасно вы заглядываете под пенсне, ибо глаза его не дневник, но только многотомный энциклопедический словарь.
Кто разберется в этих противоречивых данных? Лихач с Тверской-Ямской, надевший хитон эллина. Парижанин с Монпарнаса, в бархатных штанишках, обросший благообразной степенной бородой держателя чайной. Коктебель — единственное в России место, на Россию никак не похожее, — стихи, басом распеваемые, о протопопице. Элегии Анри де Ренье о чашах этрусских и иных, и котел с доброю кашей, крутой, ядреной, деловито поедаемой большой деревянной ложкой. Святая Русь, доктор Штейнер[273], патриарх, игривые фельетоны Поля Сан-Виктора, Россия, Европа, мир — из окон мастерской, где много книг, много времени, чтобы их читать, и пишущая машинка для гимнов блаженному юродству.
Пенсне Волошина, как и многому другому, доверять не следует. Его слабость — слишком зоркий и ясный глаз. Его стихи безупречно точные видения. Одинаково вырисованы и пейзаж Коктебеля, и Страшный суд. Он не умеет спотыкаться, натыкаться на фонари или на соседние звезды. Из всех масок самая пренебрегаемая им — маска слепца, будь то счастливый любовник, яростный революционер или Великий Инквизитор.
В первые месяцы войны, когда слепота перестала быть привилегией немногих и ненависть смежила очи народов, Волошин, единственный из всех русских поэтов, сберег ясновзорость и мудрость. Средь бурь революции он сохранил свою неподвижность, превратив Коктебель в какую-то метеорологическую станцию. Проклятьям Бальмонта и дифирамбам Брюсова он решительно предпочел экскурсии в область российской истории, сравнения, более или менее живописные, с 93-м годом, и если не жаркие, то зато обстоятельные молитвы за белых, за красных, за всех, своего Коктебеля лишенных. Соблюсти себя в иные эпохи почти чудо, и потом, можно ли от редкого зерна, хранящегося в ботаническом музее, требовать, чтобы оно погибло и проросло, как самое обыкновенное евангельское, человеческое, мужицкое.
Когда Волошин идет, он слегка подпрыгивает. Поэт Волошин прыгает всегда, его образы и мысли — упражнения на трапециях, смелые сальто-мортале. Это отнюдь не для рекламы, но исключительно из любви к искусству. Всё, что он говорит, кажется неестественным, невозможным, и, если бы Волошин повторял таблицу умножения, мы бы решили, что он расточает парадоксы. Грузный Волошин кажется бесплотным, отвлеченным человеком, у которого не может быть биографии. Ни бархатные штаны, ни стихи о любви не убеждают в реальности его существования. С ним легко разговаривать о майя или о надписях на солнечных часах, но можно ли только воображаемому человеку пожаловаться на зубную боль? Отсюда недоверие и профессиональная улыбка Волошина, привыкшего, чтобы его щупали — настоящий ли? Не только noli me tangere[274], но всяческие удобства при осмотре. Только нам не прощупать — на ризе риза; а что если под всеми ризами трепетное тело с его жесткими правами и под всеми приемами нашего Эредиа страстное косматое сердце?
Нет, не надо пробовать снять неснимаемую маску!
[1921]
Сергей Александрович Есенин
Прежде всего о хитрости и бесхитростности. Сколько лукавства таят ангельские лики и ограды скитов! Как наивен и простодушен Иван Карамазов перед смертоносным агнцем Алешей. У Есенина удивительно ясные, наивные глаза, великолепная ловушка для многих Ивановых-Разумников[276]. Как не попасться в эти слова почти из Даля, в святую простоту мужицкого пророка? Ему ведомы судьбы не только России — Вселенной. Как равному посвящает он стихи — «конфрэру»[277] пророку Исайе. Здесь и град Инония, и сам Есенин, вырывающий у Бога бороду, и неожиданное приглашение «Господи, отелись…». Если спросить его, что это, собственно, всё означает, он пространно расскажет о новгородской иконописи, о скифах, еще о чем-нибудь, а потом, глядя небесными глазками, вздохнет: «У нас в Рязанской…» Как же здесь устоять Иванову-Разумнику?
Виноват, главным образом, цилиндр. Есенин, обращаясь к старикам родителям, не без хвастовства говорит, что он, прежде шлепавший босиком по лужам, теперь щеголяет в цилиндре и лакированных башмаках. Правда, цилиндра я никогда не видал, хоть и верю, что это не образ «имажиниста», но реальность. Зато лакированные башмаки наблюдал воочию, так же, как пестрый галстук и модный пиджак. Всё это украшает светлого, хорошенького паренька, говорящего нараспев, рязанского Леля, Ивана-счастливца наших сказок. За сим следует неизбежное — то есть Шершеневич[278], чью ставку, «имажинизм», должен выручить талантливый, ох какой талантливый подпасок; диспуты, литературное озорство, словом, цилиндр, хотя бы и предполагаемый, растет и пожирает милую курчавую головку. Но да позволено будет портретисту, пренебрегая живописностью костюма, цилиндром, «имажинизмом» и хроникой московских скандалов, заняться лицом поэта. Сразу от скотоводства небесного переходим к земному, к быту трогательному и унылому, к хулиганству озорника на околице деревушки, к любви животной, простой, в простоте мудрой. Ах, как хорошо после Абиссинии или Версаля попасть прямо в Рязанскую!
Есенин гордо, но и горестно называет себя «последним поэтом деревни». Его стихи — проклятья «железному гостю», городу. Тщетно бедный дуралей-жеребенок хочет обогнать паровоз. Последняя схватка — и ясен конец. Об этой неравной борьбе и говорит Есенин, говорит, крепко ругаясь, горько плача, ибо он не зритель. Когда Верхарн хотел передать отчаяние деревни, пожираемой городом, у него получился хоть и патетический, но мертвый обзор событий. То, чего не сумел выявить умный литератор, питомец парижских кружков символистов, передано российским доморощенным поэтом, который недавно пас коров, а теперь создает модные школы. Где как не в России должна была раздаться эта смертная песня необъятных пашен и луговин?
Русская деревня, сказав старины, пропев песни свои, замолчала на века. Я не очень верю эпигонству фольклора в лице большого Кольцова и маленьких Суриковых. Она вновь заговорила в свои роковые, быть может, предсмертные дни. Ее выразитель — Сергей Есенин. Крестьяне теперь, сражаясь с городом, пользуются отнюдь не вилами, но самыми что ни на есть городскими пулеметами. Есенин так же живо приспособил все орудия современной поэтической техники. Но пафос его стихов далек от литературных салонов, он рожден теми миллионами, которые его стихов не прочтут, вообще чтением не занимаются, а, выпив самогонки, просто грозятся, ругаются и плачут.
Вот эти слезы, эта ругань, эти угрозы и мольбы в стихах Есенина. Деревня, захватившая всё и безмерно нищая, с пианино и без портков, взявшая в крепкий кулак свободу и не ведающая, что с ней, собственно, делать, деревня революции — откроется потомкам не по статьям газет, не по хронике летописца, а по лохматым книгам Есенина. Откроется и нечто большее, вне истории или этнографии — экстаз потери, жертвенная нищета, изуверские костры самосожжения — поэзия Сергея Есенина, поэта, пришедшего в этот мир чтобы «всё познать, ничего не взять».
1919
Вячеслав Иванович Иванов
В восемнадцатом году черной ночью, проходя по пустынным улицам Москвы, слушая выстрелы и плач ветра, любил я глядеть на одно высокое окно. Ревнивым светлым глазом смотрело оно в ночь, непогасимый маяк среди буревой мглы. Я знал, там, наверху, над грудой очень древних и очень мудрых книг бодрствует сторож маяка, один из немногих, тот, что не уходит. Сидит умный и ученый, в старомодном костюме, с золотыми очками. И еще я знал, что может он, встретившись с вражьей мыслью, забегать по кабинету, негодуя, или, попав на строку стиха, заплакать слезами умиленья от нестерпимой красоты, что не иссякло масло в его светильнике и ярче прежнего горит несытое сердце.
Вячеслав Иванов любит православный быт и степенный благообразный свет прихода. Но на сей счет обманываться не следует, и опасно задремать на пригретой осенним солнцем паперти. Близок жадный огонь, и, когда пламя лизнет деревянную ограду, Вячеслав Иванов выйдет не с ведром воды, но с гимном очищающему огню. Ибо сердце его смольный факел, который, чтобы разжечь, ткнули в сухую землю. Как пронес он его через века и страны, от зеленого луга и белого храма по подземельям Средневековья, по остуженным электрическими люстрами залам современности в маленькую комнату на Зубовском бульваре?
Кто определит возраст, происхождение, занятия этого таинственного человека? Дионисов жрец, которому пришелся слишком впору чопорный сюртук немецкого философа? Молоденький музыкант или лютеранский пастор? Старик с отрочески безусым лицом или седовласый юноша?
Да, конечно, Вячеслав Иванов, как горлица, чист, младенческой пасхальной белизной, но он и мудр, как змея, а я никогда не понимал, почему христианину пристойна эта змеиная мудрость. Жало, интимное общение с сатаной, сладкие слова и соблазненные за оградой рая — всё это более похоже на грех, чем на добродетель. Вячеслав Иванов — христианин, благость в его глазах и в стихах елей. Конечно, он кувыркался в священной оргии на полянах вдохновения, но ведь были же крещеные фавны. Надо оставить апостола Павла и костры Мадрида; разве не цвели вокруг белых стен Ассизи[279] золотые, солнечные цветы? Я постигаю, что в кабинете на Зубовском, тесном и маленьком, помещается капище Диониса и уютная церковка с луковками. Но я боюсь жала змеи, мудрости, которой не вмещает человеческое сердце. Вячеслав Иванов девствен и юн, но змеиная мудрость при жизни — ненужная роскошь, она уместна лишь на смертном ложе, между завещанием и последним хрипом. Когда в наши дни смерти и рождения этот мудрец сказал о врагах, похожих друг на друга, как двойники, его просто не услышали. А услыхав, усомнились бы: что это — голос из партера наблюдательного зрителя или крик юродивого? Ибо, как сказано, есть века, когда только безумие является мудростью.
Зеваки, случайно забредшие в храм поэзии, корили Вячеслава Иванова за то, что он служит свою литургию на древнем диалекте. Но мы знаем, как ужасно Евангелие на русском или французском языке, как жалок священник в пиджаке. Вся лепота и всё торжество богослужений в стихах Вячеслава Иванова — тяжелые, фиолетовые облачения, причудливый дым ладана и стоголосый перезвон колоколов, в сплаве которых щедрое золото.
Прекрасны все извороты речи: язык будней и язык литургий. Поплывем же на сей раз вверх, против течения, к истокам слова, от Маяковского к «размышлениям» и одам Ломоносова. Там, не замутнена пришлыми ручьями галлицизмов, ясна и светла вода, и еще дальше уйдем под землю, где таятся невспыхнувшие ключи корней непроросшего слова. Пренебрегая широкими вратами, туда ушел Вячеслав Иванов и принес несметные богатства, одарив нас словами необычайными и высокими, трижды заслужив тяжелый, как порфира, титул «Вячеслава Великолепного». Когда Вячеслав Иванов читает стихи, кажется, будто он импровизирует. Девственное волнение, слова, произносимые как бы впервые, не декламация, но признанье, преодолевшее стыдливость сердца и косность языка. Можно не понимать, но нельзя не верить. Он очень сложен, а у нас у всех руки Фомы[280]. Что если усомниться — хорошо ли усвоила змея христианские заповеди, мирно ли живет она с невинной горлицей? Но Вячеслав Иванов победил наши сомнения — не восторгом веры, не мудростью, нет — простой любовью. Какой великий конец! Поэт, среди огня и смерти не дорожит своими богатствами, нет, он скидывает ризы, и мы все видим, что не в торжественности, не в сложности его сила, а в том последнем, что скинуть или потерять нельзя. Новым светом горит занесенное снегом одинокое окно. Оно говорит не о празднествах Диониса, не о каменной розе, но о скорби снегов, об общем сиротстве людей, о любви нежной Агни, о милой человеческой, всем внятной могиле. Он пришел к нам жрецом поэтов, он уйдет от нас поэтом людей.
1920
Осип Эмилиевич Мандельштам
«Мандельштам» — как торжественно звучит орган в величественных нефах собора. «Мандельштам? ах, не смешите меня», и ручейками бегут веселые рассказы. Не то герой Рабле, не то современный бурсак, не то Франсуа Вильон, не то анекдот в вагоне. «Вы о ком?..» — «Конечно, о поэте „Камня“» — «А вы?» — «Я об Осипе Эмилиевиче». Некоторое недоразумение. Но разве обязательно сходство художника с его картинами? Разве не был Тютчев, «певец хаоса», аккуратным дипломатом и разве стыдливый Батюшков не превзошел в фривольности Парни? Что если никак, даже с натяжкой, нельзя доказать общность носа поэта и его пэонов?
Мандельштам очаровательно легкомыслен, так что не он отступает от мысли, но мысль бежит от него. А ведь «Камень» грешит многодумностью, давит грузом, я бы сказал, германского ума. Мандельштам суетлив, он не может говорить о чем-либо более трех минут, он сидит на кончике стула, всё время готовый убежать куда-то, как паровоз под парами. Но стихи его незыблемы, в них та красота, которой, по словам Бодлера, претит малейшее движение.
Вы помните: «пока не требует поэта…»? Мандельштам бродит по свету, ходит по редакциям, изучает кафе и рестораны. Если верить Пушкину, его душа «вкушает хладный сон». Потом, — это бывает очень редко, а посему и торжественно, — разрешается новым стихотворением. Взволнованный, как будто сам удивленный совершившимся, он читает его всем и всякому. Потом снова бегает и суетится.
Щуплый, маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы встают хохолком, он важно запевает баском свои торжественные оды, похожий на молоденького петушка, но, безусловно, того, что пел не на птичьем дворе, а у стен Акрополя. Легко понять то, чего, собственно говоря, и понимать не требуется, портрет, в котором всё цельно и гармонично. Но теперь попытайтесь разгадать язык контрастов.
Мы презираем, привыкли с детства презирать поэзию дифирамбов. Слава богу, Пушкин раз навсегда покончил с ложноклассическим стилем. Так нас учили в гимназии, а кто потом пересматривал каноны учителя словесности? Нас соблазняет уличная ругань или будуарный шепот, Маяковский и Ахматова. Но мне кажется, что явились бы величайшей революционной вентиляцией постановка трагедии Расина в зале парижской биржи или декламация пред поклонницей Игоря Северянина, нюхающей кокаин, «Размышлений» Ломоносова. Девятнадцатый век — позер и болтун — смертельно боялся показаться смешным, тщась быть героем. Он создал актеров без шпаги, без румян, даже без огней рампы. Ирония убивала пафос. Но у нас уже как-никак двадцатые годы двадцатого века, и возможно, что патетичность Мандельштама гораздо современнее остроумного снобизма Бурлюка[281]. Великолепен жест, которым он переносит в приемные редакций далеко не портативную бутафорию героических времен. Прекрасен в жужжании каблограмм, в треске практических сокращений державный язык оды.
Мандельштам слишком будничен, чтобы позволить себе роскошь говорить в поэзии обыкновенным языком. Он с нами живет понятный и доступный, но, как беременная женщина, смотрит не на мир, а в себя. Там, в поэтовой утробе, месяцами зреет благолепное и напыщенное слово, которое отделит его от прочих смертных и позволит с ним снова быть до конца. Этот инстинкт самосохранения породил самое изумительное, противоречивое, прекрасное зрелище. Поэты встретили русскую революцию буйными вскриками, кликушескими слезами, плачем, восторженным беснованием, проклятьями. Но Мандельштам — бедный Мандельштам, который никогда не пьет сырой воды и, проходя мимо участка комиссариата, переходит на другую сторону, — один понял пафос событий. Мужи голосили, а маленький хлопотун петербургских и других кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории, творимой после Баха и готики, прославил безумье современности: «Ну что ж! попробуем огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля!»
1920
Владимир Владимирович Маяковский
Теперешний облик Маяковского неубедителен, он даже может ввести в обман. Пристойный, деловитый гражданин, который весьма логично, но довольно безнадежно доказывает какому-то советскому чиновнику, что перевертывающие мир вверх дном не должны пугаться плаката, весь «футуризм» которого состоит в отсутствии на пиджаке пуговиц. Где прежний озорник в желтой кофте апаш, с подведенными глазами, обертывавший шею огромным кумачовым платком? Что это — мануфактурный кризис или нечто более существенное?
Конечно, весьма глупо, даже со стороны страстных почитателей грозы, негодовать на первые голубые пятна. Есть логика во всем: и в концессиях, и в образцовой тишине московских улиц, и в летающем аэроплане (всё же крылья имеются — следовательно, аэроплан, а не велосипед), и в остепенившемся Маяковском. Но чтобы тот же аэроплан уразуметь, надо поглядеть его, когда он летает. Маяковский пребывает в моем сознании бунтарем — немного святой Павел, разбивающий десяток-другой богов, немного задорный телеграфист, отправляющий по радио первое, обязательно первое, революционное воззвание Клемансо и Ллойд Джорджу[282], немного хороший, достаточно раздраженный бык в музее Севра.
Иных шокировала наглость Маяковского, не просто наглость, но воистину великолепная. Несколько крепких слов на эстраде, засунутые в жилетные карманы пальцы и ожидание безусловных аплодисментов. Маяковский не может пройти по улице незамеченным, ему необходимы повернутые назад головы. Только, на мой взгляд, ничего предосудительного в этом нет. Реклама как реклама, и кто ею не пользовался? Задолго до американских фирм коммивояжеры апостольского Рима рядились в костюмы, не уступающие желтой кофте, и третировали своих клиентов почище футуристов.
Реклама для Маяковского отнюдь не прихоть, но крайняя необходимость. Чтоб стихи его дошли до одного, они должны дойти до тысяч и тысяч. Это не тщеславие, а особенности поэтического организма. Можно ли корить отменно хороший автомобиль «Форд» за то, что он никак не помещается на полочке рядом с китайскими болванчиками? Когда стихи Ахматовой читаешь вслух, не то что в огромном зале, даже в тесной спаленке, — это почти оскорбление, их надобно не говорить, но шептать. А «камерный» Маяковский — это явная бессмыслица. Его стихи надо реветь, трубить, изрыгать на площадях. Поэтому тираж для Маяковского — вопрос существования. С величайшей настойчивостью, находчивостью, остроумием он расширяет тесную базу современной русской поэзии. Его стихи готовы стать частушками, поговорками, злободневными остротами, новым народным плачем и улюлюканьем.
Голос у Маяковского необычайной силы. Он умеет слова произносить так, что они падают, как камни, пущенные из пращи. Его речь монументальна. Его сила — в силе. Его образы — пусть порой невзыскательные — как-то физически больше обычных. Иногда Маяковский старается еще усилить это впечатление наивным приемом — арифметикой. Он очень любит говорить о тысячах тысяч и миллионах миллионов. Но наивности у Маяковского сколько угодно. Оглянитесь на эти неожиданно выскакивающие в стихах имена Галифе, Бяликов, Тальони, Гофманов, прочих — и вы вспомните беленького сенегальца перед витринами rue de la Paix.
Вместе с силой — здоровье. Как вам известно, в поэтическом обществе здоровье вещь предосудительная, и Маяковский долго скрывал его, пользуя для этого и лорнетку пудреного Бурлюка, и подлинное безумие Хлебникова. Наивные девушки верили и почитали Маяковского поэтом «изломанным, больным, страдающим». Но достаточно было и тогда взглянуть, как он играет на бильярде, послушать, как он орет на спекулянта-посетителя «кафе футуристов», прочесть «Облако в штанах» — это изумительное прославление плотской любви, «Мистерию-Буфф» — этот неистовый гимн взалкавшему чреву, чтобы удивиться, как мог вырасти на петербургской земле, гнилой и тряской, такой прямой, крепкий, ядреный дуб. После революции, когда безумие стало повседневностью, Маяковский разгримировался, оставил в покое «председателя земного шара» Хлебникова и показался в новом виде. Глаза толпы ослепили его рассудочность и страсть к логике. Но ведь его пророчества о конце мира всегда напоминали бюллетени метеорологической станции. Желтая кофта болталась, выдавая не плоть, но позвонки скелета, четкие математические формулы. Бунтарь? безумец? да! но еще — улучшенное издание Брюсова. А впрочем, не это ли современный бунт? Пожалуй, мир легче взорвать цифрами, нежели истошными воплями.
В вагоне, прислушиваясь к грохоту колес, можно подобрать под него различные строки различных размеров, но ритм от этого не станет менее однообразным. Приемами декламации, даже внешним видом — чуть ли не каждое слово с новой строки — тщится Маяковский скрыть однозвучность своего ритма. Он пробует рассеять ухо остроумными звукоподражаниями, акробатическими составными рифмами (ну чем не Брюсов?) и прочими фокусами, но всё же слышатся одни, конечно, перворазрядные барабаны.
Зато яркость видений Маяковского разительна. Это не сияющие холсты венецианцев, но грандиозные барельефы с грубыми, высеченными из косного камня телами варваров и героев. Да и сам он, долговязый, со взглядом охотника на мамонтов, с тяжелой вислой челюстью — варвар и герой нашей эпопеи. В дни величайших катастроф, сдвигов, перестановок мировой мебели он, и, быть может, только он не испугался, не растерялся, даже не мудрствовал. Увидев не «двенадцать», но, конечно, по меньшей мере, двенадцать миллионов, он оставил в покое Христа, собирание Руси, профессора Штейнера и прочие для многих «смягчающие вину обстоятельства». Он здоров, силен и молод, любит таблицу умножения и солнце (не «светило», но просто). Выйдя навстречу толпе, он гаркнул простое, понятное: «Хлебище дайте жрать ржаной!», «Дайте жить с живой женой!». Крик животного отчаянья и высокой надежды. Здесь кончается быт и начинается эпос.
1920
Борис Леонидович Пастернак
28 декабря 20-го года, в городе Москве, под вечер, в мою комнату вошел поэт. В сумерках я не мог ясно разглядеть его лица. Были очевидны лишь смуглая чернота и большие печальные глаза. Он был обмотан широким шарфом. Меня поразили застенчивость и вызов, обидчивость внешнего самолюбия и бесконечная стыдливость всех внутренних жестов. После долгих и мучительных вступлений он начал читать стихи об исхлестанных крыльях Демона. Тогда я понял, кто пришел ко мне. Да, 28 декабря, в 5 часов вечера, прочитав номер «Известий», я беседовал с М. Ю. Лермонтовым, и это отнюдь не теософские «petits faits»[283], а просто отчет об очередной встрече с Б. Л. Пастернаком, самым любимым из всех моих братьев по ремеслу.
Итак, портрет начинается с генеалогии. Это, конечно, не наследственность недуга, но живучесть определенного строя чувств, который, погребенный могильщиками — просто и историками словесности, вновь воскресает в моменты самые неожиданные. Станет ли кто-нибудь после Пастернака утверждать, что романтизм — это лишь литературная школа? Правда, очень легко соблазниться историческими параллелями, глагольствовать о порождении послереволюционного периода и прочее, но это приличествует лишь критикам из, слава богу, вымерших «толстых» журналов. Построенье мира иного, с необычайными сочетаньями обычных форм, с отчаяньем пропорций и сумасбродством масштабов, является вечной потребностью человека.
При всей традиционности подобных занятий Пастернак не архаичен, не ретроспективен, но жив, здоров, молод и современен. Ни одно из его стихотворений не могло быть написано до него. В нем восторг удивленья, нагроможденье новых чувств, сила первичности, словом, мир после потопа или после недели, проведенной в погребе, защищенном от снарядов. Для того чтобы передать эту новизну ощущений, он занялся не изобретением слов, но их расстановкой. Магия Пастернака в его синтаксисе. Одно из его стихотворений называется «Урал впервые», все его книги могут быть названы: «Мир впервые», являясь громадным восклицательным «о!», которое прекраснее и убедительнее всех дифирамбов.
Говорить с Пастернаком трудно. Его речь — сочетание косноязычия, отчаянных потуг вытянуть из нутра необходимое слово и бурного водопада неожиданных сравнений, сложных ассоциаций, откровенностей на явно чужом языке. Он был бы непонятен, если б весь этот хаос не озарялся бы единством и ясностью голоса. Так его стихи, порой иероглифические, доходят до антологической простоты, до детской наивной повести о весне. Конечно, Бунин понятнее, и легче добывать огонь с помощью шведских спичек, нежели из камня. Но сердца зажигаются искрами кремня, спичками же лишь папиросы.
Ритм Пастернака — ритм наших дней; он неистов и дик в своей быстроте. Кто мог думать, что эти добрые ямбы с тяжелыми крупами могут скакать поверх барьеров, как арабские скакуны?
Я даже не понимаю, как, пролетая с такой быстротой в экспрессах, можно успевать различать цветы полян, пофилософствовать, любить обстоятельно и нежно, как любили в «доброе старое время».
Поразительна эта, очевидно, естественная в романтических полушариях связь между титаническими восприятиями и микроскопическими предметами. Декорация для любви, классикам не уступающей, совсем классическая — масло луж, семечки, обои в каморке для скромных жильцов и не подстриженный парикмахером чуб самого Пастернака. Но все эти убогие детали превращаются им в действительно священные предметы новой мифологии.
Себя Пастернак, разумеется, в небожителя не претворил, и подвержен различным человеческим заболеваниям. К счастью для него и русской поэзии, под рукой быстрые и хорошие лекарства. Он честно переболел детской корью, которая в данном случае называлась «центрифугой»[284].
Он мог бы легко впасть в сентиментализм Ленау[285], но его спасает, как некогда Гейне, значительная доза иронии. Порой его музыкальность стиха сбивается на Игоря Северянина, но выручает ум, а может быть, и занятия философией в Марбургском университете. От оных занятий легко впасть в худосочие умствований, но здесь приходит на помощь лиричность чувств и т. д.
Я часто сомневаюсь в жизнеспособности лирики. Как ни прекрасны стихи Ахматовой, они написаны на последней странице закрывающейся книги. В Пастернаке же ничего нет от осени, заката и прочих милых, но неутешительных вещей. Он показал, что лирика существует и может впредь существовать вне вопроса социального антуража.
Может быть, люди покроют всю землю асфальтом, но все-таки где-нибудь в Исландии или в Патагонии останется трещина. Прорастет травка, и начнутся к этому чудесному явлению паломничества ученых и влюбленных. Может быть, и лирику отменят за ненужностью, но где-нибудь внук Пастернака и праправнук Лермонтова возьмет и изумится, раскроет рот, воскликнет мучительное для него, ясное и светлое для всех «о!».
1921
Федор Сологуб
Прежде, читая стихи Сологуба, я представлял его себе не то индусским факиром, не то порченой бабой, кликушей. Увидав впервые, как будто разочаровался. Это было в Париже, Сологуб читал лекцию. За столиком сидел почтенный пожилой господин, с аккуратно подстриженной бородкой, в пенсне. Не спеша, с толком, поучал он студенток-медичек и юных «бундистов»: есть Альдонса и Дульцинея. Всё было весьма обыкновенно, но к концу вечера случайно Сологуб взглянул на меня, и я увидел в глазах таинственную невеселую усмешку. Мне стало не по себе. О, не факиром показался он мне в ту минуту, но беспощадно взыскующим учителем гимназии. Не приготовишка ли я? Вдруг он скажет: «Эренбург Илья, а расскажите нам, чем отличается Альдонса от Дульцинеи». Я буду молчать, а он долго и радостно потирать руками, перед тем как поставить каллиграфически безукоризненную единицу. Помню другой вечер, зимой 20-го года в Москве. Какие-то очень рьяные и очень наивные марксисты возмущались Сологубом — как? в наш век коллективизма он смеет быть убогим, ничтожным индивидуалистом. Сологуб не спорит, нет, он со всем соглашается — «конечно, конечно». Но как же образцовому инспектору не поучить немного этих вечных второклассников? И, тихо улыбаясь, Сологуб читает в ответ маленькую лекцию о том, что коллектив состоит из единиц, а не из нулей. Вот если взять его, Федора Кузьмича, и еще четырех других Федоров Кузьмичей, получится пять; а если взять критиков — то вовсе ничего не получится, ибо 0 + 0 = 0. Отнюдь не дискуссия, просто урок арифметики. Только я что-то не верю Федору Кузьмичу. Я боюсь, что он знает больше простого учителя, только нас огорчить не хочет.
Я слушаю и жду крохотного postscriptum’a: «а между прочим, 1 + 1 вовсе не два, а только ноль, ноль и ноль…»
Читает стихи Сологуб раздельно, медленно, степенно, будто раскладывает слова по маленьким коробочкам. Читает одинаково колыбельные и громкие гимны, нежные причитания и сладострастные призывы к бичеванию. Вот сейчас только он прославлял «отца своего Дьявола», а теперь ласкает розовенького младенца, верно, скоро будет привязывать девье тело к кольцам, чтобы удобнее было его истязать. А слова — не все ли слова Божьи? — аккуратно размещаются по коробочкам, никого не обидит Федор Кузьмич.
Сологуб может статейку написать о плохом состоянии водного транспорта в России, например, честь честью. В каком-то стихотворении перед истязанием деловито он замечает — «нужно окна и двери запереть, чтобы глупые соседи не могли нас подсмотреть». На лице Сологуба всегда тщательно закрыты ставни, напрасно любопытные прохожие жаждут заглянуть, что там внутри. Есть особнячки такие — окна занавешаны, двери заперты — покой, благоденствие, только смутно чует сердце что-то недоброе в этой мирной тишине.
Слова Сологуба бесплотны, в его стихах почти нет образов, лишь краткие, условные определения, магические формулы. Он особенно часто употребляет слова отвлеченные. Но бесплотными словами любит говорить о земной плоти, о земле, которую никто не любит, кроме него, и о девичьих босых ногах в росе. Быть может, умиляет его их белизна на оскверненной земле, быть может, то, что они, только они касаются земли. А увидев пляску Айседоры[286], почтенный и важный господин не усмехался, но плакал сладчайшими слезами умиления.
Сологуб познал высшую тайну поэзии — музыку. Не бальмонтовскую музыкальность, но трепет ритма.
Вот почему порой по его лицу пробегает не усмешка, нет — улыбка восторга, будто он прислушивается к дальнему голосу. Он умеет шелестеть, как камыш, скулить, как пес, и плакать, как маленький чертенок, у которого прорезаются рожки. Если бы в деревне его позвали вместо знахаря к бодливой корове, я убежден, что он изгнал бы нечистую силу, ибо для этого нужно не изучение Агриппы Неттисгеймского[287], но высокий дар поэта.
Сологуб не знает страсти, но только сладострастие. Потому так медлительны его стихи. Они катятся строка за строкой, как ленивые волны южного моря в полдень, не спеша, растягивая наслаждение, целуясь томными рифмами.
Когда мы видим гастронома, знающего толк в яствах, который с удовольствием ест тухлые яйца, мы говорим не о безвкусии, а об извращенности. Про дикарей, пожирающих жуков и пауков, мы даже этого не скажем, а просто отстранимся — так они уж устроены.
Кто упрекнет Сологуба в недостаточно развитом вкусе, прочитав его патриотические стихи о взятии Берлина или узнав, что он предпочитает всем русским поэтам Игоря Северянина?
До Сологуба романтизм и пошлость были понятиями несовместимыми. Одно дело Гофман, другое Свидригайлов и мухи над телятиной. У Сологуба пошлость необычайна и таинственна, а тайна засижена мухами. Ведь не всё град небесный или подводный Китеж. Болото таит много чудесного, на нем ядовитые цветы, вкруг нечисть обосновалась, а вода плесенью пахнет, и вообще, просто болото. Все споры о Сологубе к тому и сводятся, что одни видят только бесенят и заманчивые незабудки, а другие только тину и водяных пауков. Но даже по твердой земле так трудно проводить границы и межи, а тем паче по владениям Сологуба, которые, как о них ни судить, медленно, но верно засасывают путника.
Действие Сологуба похоже на наркотики, будто не стихи читал, а выкурил трубку опиума. Все предметы вырастают до небывалых размеров, но теряют плоть и вес. Мир вещей претворяется в мир понятий, волны ритма заливают вселенную. В голубом водном тумане покой и тишина. А вот и сам Сологуб. Я не вижу ни пенсне, ни бородавки, но только очень приманчивые и очень пустые глаза. Он сидит в кресле, скрестив руки на животе, и кажется, что это не «маститый поэт», как величают его репортеры, но великий Будда, остановивший движение всего, от часов в жилетном кармане до застывших вкруг мертвой земли таких же мертвых и навек утомленных миров.
1921
Марина Ивановна Цветаева
Горделивая поступь, высокий лоб, короткие стриженные в скобку волосы, может, разудалый паренек, может, только барышня-недотрога. Читая стихи, напевает, последнее слово строки кончая скороговоркой. Хорошо поет паренек, буйные песни любит он — о Калужской, о Стеньке Разине, о разгуле родном. Барышня же предпочитает графиню де Ноай[288] и знамена Вандеи.
В одном стихотворении Марина Цветаева говорит о двух своих бабках — о родной, кормящей сынков-бурсаков, и о другой — о польской панне, белоручке. Две крови. Одна Марина. Только и делала она, что пела Стеньку-разбойника, а увидев в марте семнадцатого солдатиков, закрыла ставни и заплакала: «Ох, ты моя барская, моя царская тоска!» Идеи, кажется, пришли от панны: это трогательное романтическое староверство, гербы, величества, искренняя поза Андре Шенье[289], во что бы то ни стало.
Зато от бабки родной — душа, не слова, а голос. Сколько буйства, разгула, бесшабашности вложено в соболезнования о гибели «державы»!
Я давно разучился интересоваться тем, что именно говорят люди, меня увлекает лишь то, как они это скучное «что» произносят. Слушая стихи Марины Цветаевой, я различаю песни вольницы понизовой, а не окрик блюстительницы гармонии. Эти исступленные возгласы скорей дойдут до сумасшедших полуночников парижских клубов, нежели до брюзжащих маркизов кобленцкого маринада.
Гораздо легче понять Цветаеву, забыв о злободневном и всматриваясь в ее неуступчивый лоб, вслушиваясь в дерзкий гордый голос. Где-то признается она, что любит смеяться, когда смеяться нельзя. Прибавлю, любит делать еще многое, чего делать нельзя. Это «нельзя», запрет, канон, барьер являются живыми токами поэзии своеволия.
Вступив впервые в чинный сонм российских пиитов, или, точнее, в члены почтенного «общества свободной эстетики», она сразу разглядела, чего нельзя было делать — посягать на непогрешимость Валерия Брюсова, и тотчас же посягнула, ничуть не хуже, чем некогда Артюр Рембо на возмущенных парнасцев. Я убежден, что ей, по существу, неважно, против чего буйствовать, как Везувию, который с одинаковым удовольствием готов поглотить вотчину феодала и образцовую коммуну. Сейчас гербы под запретом, и она их прославляет с мятежным пафосом, с дерзостью, достойной всех великих еретиков, мечтателей, бунтарей.
Но есть в стихах Цветаевой, кроме вызова, кроме удали, непобедимая нежность и любовь. Не к человеку, не к Богу идут они, а к черной, душной от весенних паров земле, к темной России. Мать не выбирают и от нее не отказываются, как от неудобной квартиры. Марина Цветаева знает это, и даже на дыбе не предаст своей родной земли.
Обыкновенно Россию мы мыслим либо в схиме, либо с ножом в голенище. Православие или «ни в Бога, ни в черта». Цветаева — язычница, светлая и сладостная. Но она не эллинка, а самая подлинная русская, лобызающая не камни Эпира, но смуглую грудь Москвы. Даром ее крестили, даром учили. Жаркая плоть дышит под византийской ризой. Постами и поклонами не вытравили из древнего нутра неуемного смеха. Русь-двоеверка, беглая расстрига, с купальными игрищами, заговорила в этой барышне, которая всё еще умиляется перед хорошими манерами бальзамированного жантильома.
Впрочем, всё это забудется, и кровавая схватка веков, и ярость сдиравших погоны, и благоговение на эти золотые лоскуты молившихся. Прекрасные стихи Марины Цветаевой останутся, как останется жадность к жизни, воля к распаду, борьба одного против всех и любовь, возвеличенная близостью подходящей к воротам смерти.
1920
Поэзия Марины Цветаевой
В двадцать лет Марина Цветаева мечтала:
Моим стихам о юности и смерти, — Нечитанным стихам! — Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.Первая книга Цветаевой называлась «Вечерний альбом»; когда она вышла в свет, поэтессе было семнадцать лет и она ходила в гимназической форме. Вторая книга «Волшебный фонарь» была издана два года спустя. В этих книгах много детского. Только в самом начале жизни можно написать:
Ты дал мне детство лучше сказки И дай мне смерть — в семнадцать лет!Однако и в незрелых стихах чувствовался подлинный поэт. О первой книге «Вечерний альбом» писали Валерий Брюсов, Максимилиан Волошин, Мариэтта Шагинян.
После этого Марина Цветаева создала много прекрасных стихотворений и поэм, но число людей, знавших ее поэзию, не возрастало. Она умерла в 1941 году, будучи известной только немногим ревнителям поэзии.
Мы знаем поэтов, оцененных современниками и выдержавших испытание временем: Пушкина и Некрасова, Блока и Маяковского. Были другие поэты, стихи которых отвечали преходящим вкусам или настроениям их современников. Так увлекались Бенедиктовым, потом одни переписывали в альбомы Апухтина, другие проводили ночи над томиком Надсона, так сбегались на вечера Игоря Северянина. Теперь эти поэты могут заинтересовать только историка литературы. Были, наконец, поэты, нашедшие признание лишь после смерти. Вряд ли Тургенев, калеча стихотворение «О, как на склоне наших лет…», понимал всё значение поэзии Тютчева.
Судьба стихов Марины Цветаевой не подходит ни под одну из этих категорий. Вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что поэзия Цветаевой осталась малоизвестной, потому что была чересчур сложна по форме. Многие стихи Александра Блока, не говоря уже о Пастернаке, куда труднее для восприятия.
Стихи Цветаевой эмоциональны, она быстро уводит читателя в мир своих ритмов, образов, слов. Она любила музыку и умела ворожить словами, как слагатели древних заговоров. Одно слово неожиданно, но неоспоримо приводит другое:
Как живется вам, хлопочется, Ежится? Встается как? С пошлиной бессмертной пошлости Как справляетесь, бедняк?Приведу два отрывка из стихотворений, чтобы показать, насколько ясна поэзия Цветаевой. Из стихотворения, написанного в 1916 году:
Настанет день — печальный, говорят, — Отцарствуют, отплачут, отгорят, Остужены чужими пятаками, Мои глаза, подвижные, как пламя. По улицам оставленной Москвы Поеду я, и побредете вы, И не один дорогою отстанет, И первый ком о крышку гроба грянет, И наконец-то будет разрешен Себялюбивый, одинокий сон.Из стихотворения 1920 года:
Писала я на аспидной доске, И на листочках вееров поблеклых, И на речном и на морском песке, — Коньками по льду и кольцом на стеклах, — На собственной руке и на стволах Березовых, и — чтобы всем понятней — На облаках, и на морских валах, И на стенах чердачной голубятни, Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной. Под пальцами моими. И как потом, склонивши лоб на стол, Крест-накрест перечерчивала имя.Нет, нельзя объяснить «непонятностью» судьбу стихов Цветаевой. Современники попросту не знали этих стихов. Книги выходили в крохотных тиражах, так, например, сборник «Версты» был издан в Москве в 1921 году в количестве одной тысячи экземпляров. Потом Цветаева жила за границей, изредка печатала стихи в журналах или альманахах, которые мало кто читал. Многие ее произведения не изданы и поныне.
Конечно, Цветаева не стремилась к славе, она писала:
«Русский стремление к прижизненной славе считает презренным или смешным».
Но Цветаева сделала всё, чтобы способствовать своей безвестности. Одни скажут — от гордости, другие поправят — от той чрезмерной чувствительности, которая присуща поэтам. Вероятно, и от того и от другого, а пуще всего от своеобразности своих восприятий. Одиночество, вернее сказать, отторжение всю жизнь висело над ней как проклятье, но это проклятье она старалась выдать не только другим — самой себе за высшее благо. В любой среде она чувствовала себя изгнанником, изгоем. Вспоминая о расистской спеси, она писала: «Какой поэт из бывших и сущих не негр?» В «Поэме конца» она сравнивает жизнь с гетто. Ее мир ей казался островом, а для других она слишком часто была островитянкой.
Ее одиночество никак нельзя приписать тому культу «башни из слоновой кости», который был еще достаточно распространен в годы, когда Цветаева входила в русскую поэзию. Брюсов писал:
Быть может, всё в жизни лишь средство Для ярко-певучих стихов, И ты с беспечального детства Ищи сочетания слов.Эти советы возмущали Цветаеву, она отвечала: «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств?.. Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются…» Она хотела быть с людьми и не могла.
Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч, и зряч, Где по анафемам, как по насыпям, Страсти, где насморком Назван плач.Одиночество ее давило. Одиночество (а не эгоцентризм) помогло ей написать много прекрасных стихов о человеческом несчастье. И одиночество привело ее к самоубийству.
Были поэты, которых увлекал романтизм первой половины XIX века не как литературная школа, а как некоторая умонастроенность: они подражали скорее Чайльд Гарольду, чем Байрону, скорее Печорину, чем Лермонтову. Марина Цветаева никогда не старалась загримироваться под героев романтической эпохи: своим одиночеством, своими противоречиями, своими блужданиями она была им сродни. Различные строительные материалы, будь то дерево или мрамор, гранит или железобетон, связаны сменяющимися стилями архитектуры, а стили определяются временем. Цветаева родилась не в 1792 году, как Шелли, но ровно сто лет спустя…
В одном стихотворении Цветаева говорит о своих двух бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадьей, другая — высокомерной польской панной. Марина Цветаева совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, пиетет перед гармонией и любовь к душевному косноязычью, предельную гордость и предельную простоту. Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок. Она писала:
«Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием».
Это не программа, не утверждение какой-то философии пессимизма, а просто исповедь. Если уж говорить о мироощущении, то Марина Цветаева любила жизнь, утверждала ее, но прожить, как ей хотелось, не сумела. В Москве она писала про Лорелей, про Париж, про остров Святой Елены, а в Париже ей мерещились калужские березы и печальный огонь бузины. Ее восхищала вольница Степана Разина, но, встретившись с потомками своего любимого героя, она их не узнала. Всю свою жизнь она боролась с собой. Она написала пьесу о сердцееде Казанове, чтобы показаться если не другим, то себе спокойной, даже веселой. Но Казанова был случайным гостем на час. Она слишком хорошо знала другое:
О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?»Она писала о стрельцах, о царевне Софье, о русской Вандее. Было это от мятежного духа, а вовсе не от тоски по порядку. Она говорила сыну:
Перестаньте справлять поминки По эдему, в котором вас Не было…Но не было и Марины Цветаевой в мнимом эдеме. Прошлый мир никогда для нее не был потерянным раем. Она признавалась:
Я тоже любила смеяться, Когда смеяться нельзя.Она многое любила именно потому, что «нельзя». Она аплодировала не в тех местах, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес и плакала в пустом коридоре.
История всех ее влечений и увлечений — это длинный перечень разрывов. Подобно Блоку она любила Германию — за Гете, за музыку, за старые липы. Во время Первой мировой войны, наперекор всему, она писала:
Германия, мое безумье! Германия, моя любовь!А четверть века спустя, когда германские фашисты вошли в Прагу, слово «безумье» в устах Цветаевой приобрело иной смысл:
О, мания! О, мумия! Величия! Сгоришь, Германия! Безумие, Безумие Творишь.В 1922 году Марина Цветаева уехала за границу. Она жила в Берлине, в Праге, в Париже. В среде белой эмиграции она чувствовала себя одинокой и чужой. В 1939 году она вернулась в Москву. В 1941 году покончила жизнь самоубийством.
Два глубоких чувства она пронесла через всю свою сложную и трудную жизнь: любовь к России и завороженность искусством. Эти два чувства были в ней слиты.
Когда я думаю о русском характере ее поэзии, я меньше всего обращаюсь к ее сказкам или к тому, что она взяла от народной песни. Внешние приметы как бы говорят о другом: о знании и любви к самым различным сторонам — к древней Греции, к Германии, к Франции. В отрочестве Цветаева увлекалась «Орленком» и всей условной романтикой Ростана. Потом ее увлечения стали глубже: Гете, «Гамлет», «Федра». Она писала стихи по-французски и по-немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя иностранкой. Всё в ней было связано с родным пейзажем — от «жаркой рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными темами ее поэзии были: любовь, смерть, искусство, и эти темы она решала по-русски, верная не только традициям великих предшественников, но и душевному складу своего народа. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором говорил Тютчев. Любовь — это либо разлука, либо мучительный разрыв. Цветаева писала о пушкинской Татьяне: «У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая?» Она ненавидела заменителей любви:
Сколько их, сколько их ест из рук, Белых и сизых! Целые царства воркуют вокруг Уст твоих, Низость!О смерти она думала много, настойчиво, без страха, но и без примирения. Была в ней языческая мудрость, не эллинская, своя, русская:
…Паром в дыру ушла Пресловутая ересь вздорная, Именуемая душа. Христианская немочь бледная. Пар. Припарками обложить. Да ее никогда и не было. Было тело, хотело жить.Может быть, самыми прекрасными можно назвать стихи Цветаевой об искусстве. Она презирала стихотворцев-ремесленников, но твердо знала, что нет вдохновения без мастерства, и высоко ставила ремесло. Может быть, повторяя про себя стихи Каролины Павловой, она назвала одну из своих книг «Ремесло». Минутами ей казалось, что знанием законов сердца можно проверить всё, даже тайну чувств.
Ищи себе доверчивых подруг, Не выправивших чуда на число. Я знаю, что Венера — дело рук, Ремесленник, я знаю ремесло.Ее стихи, обращенные к письменному столу, — изумительная исповедь поэта:
Я знаю твои морщины, Изъяны, рубцы, зубцы — Малейшую из зазубрин. (Зубами — коль стих не шел.) Да, был человек возлюблен, И сей человек был — стол.Она работала упорно, яростно — от утра до ночи и от вечера до утра, работала с обостренной совестливостью, боясь отдаться случайному сочетанию слов и проверяя вдохновение недоверьем взыскательного художника.
В русскую поэзию она принесла много нового: настойчивый цикл образов, расходящийся от одного слова, как расходятся круги по воде от брошенного камня, необычайно острое ощущение притяжений и отталкиваний слов, поспешность ритма, который передает учащенное биение сердца, композицию стихотворений и поэм, похожую на спираль, — так, потрясенный человек, как бы обрывая мысль, снова к ней возвращается, но не к той самой, к смежной. Будучи часто не в ладах со своим веком, Марина Цветаева много сделала для того, чтобы художественно осмыслить и выразить чувства своих современников. Ее поэзия — поэзия открытий.
Когда я говорю, что темы России и искусства в творчестве Марины Цветаевой были тесно сплетены, я прежде всего думаю о том сложнейшем вопросе, над которым бились почти все русские писатели от Пушкина и Гоголя до наших современников, — о взаимоотношении между долгом и вдохновением, между жизнью и творчеством, между мыслью художника и его совестью. Я не вижу Бальзака, который в смятении сжигает свою рукопись, Диккенса, который уходит в ночь, обличив перед этим всё, чем он жил, Рильке, который перед смертью пишет «Двенадцать».
Вся душевная гордость и неуступчивость Марины Цветаевой сказалась в ее подходе к роли писателя. Она была взыскательна к другим и себе, зачастую несправедлива в своих оценках, но никогда не равнодушна. Иногда, желая переспорить эпоху, она закрывала двери и окна своего поэтического дома. Было бы, однако, неправильным увидеть в этом эстетизм, пренебрежение к жизни. В 1939 году, после того как фашисты испепелили Испанию и вторглись в Чехословакию, Цветаева впервые отшатнулась от радости бытия:
Отказываюсь быть В Бедламе нелюдей, Отказываюсь жить. С волками площадей Отказываюсь выть.Острова не оказалось, и жизнь Цветаевой трагически оборвалась.
В те годы, когда она еще противопоставляла поэзию бурям века, как бы противореча себе, она восхищалась Маяковским. Она спрашивала себя, что важнее — поэзия или творчество реальной жизни, и отвечала: «За исключением дармоедов, во всех их разновидностях — все важнее нас» (поэтов). Одновременно, вспоминая стихи Маяковского о поэте, наступившем на горло собственной песне, она называла служение поэта народу «подвигом» и говорила о смерти Маяковского: «Прожил как человек, и умер как поэт». О Марине Цветаевой можно сказать иначе: прожила как поэт, и умерла как человек.
«Вечерний альбом» вышел в тот же год, что и моя первая книга; помнится, Брюсов в одной статье писал о нас обоих. Все меньше становится людей моего поколения, которые знали Марину Ивановну Цветаеву в зените ее поэтического сияния. Сейчас еще не время рассказать об ее трудной жизни: она слишком близка к нам. Но мне хочется сказать, что Цветаева была человеком большой совести, жила чисто и благородно, почти всегда в нужде, пренебрегая внешними благами существования, вдохновенная и в буднях, страстная в привязанностях и в нелюбви, необычайно чувствительная. Можно ли упрекнуть ее за эту обостренную чувствительность? Сердечная броня для писателя то же, что слепота для живописца или глухота для композитора. Может быть, именно в сердечной обнаженности, в уязвимости объяснение трагических судеб многих и многих писателей…
У Марины Цветаевой была горделивая осанка, которая смягчалась беспомощными близорукими глазами и доброй, доверчивой улыбкой, очень высокий лоб, коротко стриженные волосы. Мне часто казалось, что, внимательно следя за нитью разговора, она в то же время к чему-то прислушивается; ее всегда окружало, как облако, звучание стихов.
Иннокентий Анненский, стихи которого Цветаева любила, писал:
Смычок всё понял, он затих. А в скрипке это всё держалось… И было мукою для них, Что людям музыкой казалось.Наконец-то выходит сборник стихов Марины Цветаевой. Муки поэта уходят вместе с ним. Поэзия остается.
1956
<Предисловие к публикации стихов Осипа Мандельштама>
Двадцатые годы нашего века были необычайной эпохой русской поэзии, их можно сравнить с теми десятилетиями, когда жили и писали Пушкин, Тютчев, Баратынский и другие поэты пушкинской плеяды. В двадцатые годы были написаны замечательные поэмы и стихотворения Маяковского, Есенина, Ахматовой, Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама: «Про это», «Сестра моя жизнь», «Тристия», «Поэма конца», «Анно домини», последние произведения Есенина.
Тридцатые годы некоторые литературоведы называют спадом поэзии. Мне кажется, что это неверно. Ушли Маяковский, Есенин, было менее ярким творчество Пастернака и Ахматовой, но прекрасны и предсмертные стихи Багрицкого, ранние произведения Заболоцкого. В поэзии Мандельштама стихи 1930–1937 годов, может быть, являются наиболее значительными.
Первые стихи Мандельштама помечены 1907 годом, тогда Осипу Эмильевичу было шестнадцать лет. Он принадлежал к петербургской группе поэтов, выступавших против символизма, против развоплощения поэзии и инфляции абстрагированных слов. Мандельштам искал крепкости, монументальности, обращался к классике и назвал свою первую книгу «Камнем». Это прекрасная книга, но в ней живой ключ мандельштамовской поэзии скован гранитом. Короткое стихотворение, написанное в начале Первой мировой войны, было началом освобождения:
Уничтожает пламень сухую жизнь мою, И ныне я не камень, а дерево пою. Оно легко и грубо, из одного куска И сердцевина дуба, и весла рыбака.В 1917-м Мандельштаму было двадцать шесть лет. Он знал силу слова, и реки итальянской, французской, немецкой поэзии, и Элладу, и тайны русских поэтов. Воспитанный на культе поэзии, тщедушный и мнительный, Осип Эмильевич, которого многие считали поэтом ложноклассическим, и даже салонным, в отличие от своих друзей понял масштаб происшедшего:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, Скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи, Как плугом океан деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля.Стихи второй книги «Tristia» показывают зрелость поэта, стих его свободнее. Однако зенит поэзии Мандельштама — тридцатые годы: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», «За гремучую доблесть грядущих веков», «Стихи о русской поэзии», «Андрей Белый» (цикл) и три «Воронежских тетради». Стих окончательно раскрепостился, ощущение современности обостряется, слово всесильно. С юношеских лет он ощущал связь русской культуры с Элладой и писал о том, что именно благодаря такой непосредственной преемственности «русский язык стал именно звучащей и горящей плотью».
Осип Эмильевич в молодости был легкомысленным, поскольку дело касалось того, что Пушкин определил как «заботы суетного света». Он любил подурачиться, писал шутливые стихи, был веселым собеседником. Я, кажется, не встречал поэта без того, что люди называют «чудачествами», и в моей книге воспоминаний я рассказал о некоторых чудачествах Мандельштама. Однако время отличалось многим, но только не легкостью. Судьба Осипа Эмильевича оказалась трудной. Заменив собственное имя, можно сказать, что на него сыпались все шишки. В 1919 году он оказался в Коктебеле, там разведчики Врангеля его арестовали, обвинив в том, что он якобы работал в ЧК города Николаева (где он никогда не был). Мандельштама хотели убить, спас его поэт М. А. Волошин. Мандельштаму удалось убежать из белого Крыма в Батуми. Там его называли «двойным агентом — Врангеля и большевиков». Его освободили по настоянию грузинских поэтов. Мы вместе с ним проделали полный дурных происшествий путь из Тбилиси в Москву. В Ленинграде, потом в Москве он бедствовал, жил хуже других, но продолжал писать чудесные, порой радостные стихи. В 1934 году его арестовали за стихотворение о Сталине. Его отправили в ссылку, он спускался по Каме и заболел острым нервным расстройством. Это было задолго до 1937 года, и защитникам поэзии удалось заменить ссылку в далекое холодное село поселением на три года в Воронеже.
В январе 1938 года А. А. Фадеев показал мне гранки «Нового мира» и сказал, что постарается вернуть Мандельштама читателям. А несколько месяцев спустя Мандельштама арестовали как ранее репрессированного и приговорили к пяти годам лагерей. Он умер в пересыльном лагере неподалеку от Владивостока, где содержали арестованных до начала навигации. Я видел людей, бывших в том лагере; они рассказывали, что Мандельштам был болен, чрезвычайно истощен, мечтал о ломте хлеба, о кусочке сахара, мерз и возле костра декламировал свои стихи и сонеты Петрарки по-итальянски. Он запомнился многим — до последнего часа оставался поэтом.
Цикл стихов Мандельштама был недавно напечатан в журнале «Москва»[290]; намечено издание всех его стихотворений в серии «Библиотека поэта»[291]. Я рад, что в журнале «Простор» печатаются его стихи — советским читателям наконец-то возвращают то, что было написано для них.
1965
О стихах Бориса Слуцкого
Ход океанских волн хорошо изучен. Много темнее пути поэзии, ее подъемы и спады, приливы и отливы.
Вспомним первое десятилетие после Октябрьской революции. Тогда раскрылись такие большие и не похожие друг на друга поэты, как Маяковский и Есенин, Пастернак и Марина Цветаева; по-новому зазвучали голоса Александра Блока, Ахматовой, Мандельштама; входили в поэзию Багрицкий, Тихонов, Сельвинский. Вспомним годы войны, короткий, но яркий порыв сложившихся поэтов, появление молодых и среди них такого непосредственного, душевно громкого, как Семен Гудзенко. Мне кажется, что теперь мы присутствуем при новом подъеме поэзии. Об этом говорят и произведения хорошо всем известных поэтов — Твардовского, Заболоцкого, Смелякова, и выход в свет книги Мартынова, и плеяда молодых, среди которых видное место занимает Борис Слуцкий.
Конечно, ничто не приходит сразу, и сегодняшние радости читателей подготовлены годами, которые для многих поэтов были годами испытаний. Мне приходилось слышать от некоторых читателей восхищенные и удивленные восклицания: «Молодые очень талантливы — посмотрите книгу Леонида Мартынова». Они не подозревали, что еще накануне войны нас потрясали поэмы этого замечательного поэта. Если стихов Мартынова долго не печатали, то это не относится к его поэтической биографии: он продолжал писать, и я был счастлив, когда он читал мне свои стихи. Появление его сборника после длительного перерыва совпало с празднованием пятидесятилетия поэта.
Борис Слуцкий не юноша, хотя он много моложе Мартынова. В 1945 году молодой офицер показал мне свои записи военных лет. Я с увлечением читал едкую и своеобразную прозу неизвестного мне дотоле Бориса Слуцкого. Меня поразили некоторые стихи, вставленные в текст как образцы анонимного солдатского творчества. Одно из них — стихи о Кельнской яме, где фашисты умерщвляли пленных, — я привел в моем романе «Буря»; только много позднее я узнал, что эти стихи написаны самим Слуцким.
В печати имя Слуцкого стало появляться недавно — с 1953 года. Его стихи привлекли к себе внимание читателей, и мне захотелось о них написать. Наши критики не отличаются торопливостью. Прежде они ждали присуждения премии; теперь косятся друг на друга — кто первый осмелится похвалить или обругать. Критические статьи или заметки, по-моему, должны опережать те поздравления в дерматиновых папках, которые подносят седовласым юбилярам. О различных критических статьях, о второразрядных пьесах, о романах были написаны сотни печатных листов, но мне не попадались статьи о Светлове, о Заболоцком, о Мартынове, о Смелякове, о поэтах, которыми мы вправе гордиться.
Что меня привлекает в стихах Слуцкого? Органичность, жизненность, связь с мыслями и чувствами народа. Он знает словарь, интонации своих современников. Он умеет осознать то, что другие только смутно предчувствуют. Он сложен и в то же время прост, непосредствен. Именно поэтому я принял его военные стихи за творчество неизвестного солдата. Он не боится ни прозаизмов, ни грубости, ни чередования пафоса и иронии, ни резких перебоев ритма — порой язык запинается. Вот отрывок из «Кельнской ямы», о которой я упомянул:
«Товарищ боец, остановись над нами. Над нами, над нами, над белыми костями. Нас было семьдесят тысяч пленных, Мы пали за Родину в Кёльнской яме. Когда в подлецы вербовать нас хотели, Когда нам о хлебе кричали с оврага, Когда патефоны о женщинах пели, Партийцы шептали: „Ни шагу, ни шагу…“ Читайте надпись над нашей могилой! Да будем достойны посмертной славы! А если кто больше терпеть не в силах, Партком разрешает самоубийство слабым. О вы, кто наши души живые Хотели купить за похлебку с кашей, Смотрите, как мясо с ладони выев, Кончают жизнь товарищи наши! Землю роем когтями-ногтями, Зверем воем в Кёльнской яме, Но всё остается — как было, как было! — Каша с вами, а души с нами».Неуклюжесть приведенных строк, которая потребовала большого мастерства, позволила поэтично передать то страшное, что было бы оскорбительным, кощунственным, изложенное в гладком стихе аккуратно литературными словами.
До войны Слуцкий вместе с покойным Кульчицким, на которого мы все возлагали большие надежды, с Лукониным и Наровчатовым учился в Московском литературном институте. Но поэтом его сделала война: война была его школой, и о чем бы он ни писал — будь то стихи о бане, о поэзии Мартынова, о доме отдыха или о московском вокзале — в каждом его слове память о военных годах. Все знают, что с войны многие возвращаются инвалидами, контуженными, неполноценными, но именно на войне люди духовно вырастают, внешняя грубость обычно прикрывает обостренную чувствительность: сердце не может стать бронированным. Слуцкий пишет:
Вниз головой по гулкой мостовой Вслед за собой война меня влачила И выучила лишь себе самой, А больше ничему не научила. Итак, в моих ушах расчленена Лишь надвое война и тишина — На эти две — вся гамма мировая. Полутонов я не воспринимаю. Мир многозвучный! Встань же предо мной Всей музыкой своей неимоверной! Заведомо неполно и неверно Пою тебя войной и тишиной.Разумеется, Слуцкий видит жизнь «неполной», но разве бывают поэты, воспринимающие всё и всех? Вряд ли. Как бы ни был мудр поэт, у него есть и потолок, и стены. Мир Слуцкого отнюдь не узок, и меньше всего можно назвать его поэзию камерной. Мне она представляется народной, но, конечно, нужно прежде всего договориться о значении этого слова. Народными чертами в поэзии иным кажутся внешние и порой поддельные приметы. Если в стихах гармошка, молодицы, старинный песенный склад и прилагательное после существительного — такие стихи причисляются к народным, хотя даже в глухой деревне можно теперь услышать радио и патефон и хотя тем языком, который мерещится тому или иному поэту, никто вокруг него не разговаривает. Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа — его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни:
А я не отвернулся от народа, С которым вместе голодал и стыл, Ругал похлебку, осуждал природу, Хвалил далекий, словно звезды, тыл. Когда годами делишь котелок И вытираешь, а не моешь ложку, — Не помнишь про обиды. Я бы мог: А вот не вспомню. Разве так, немножко.Он противопоставляет себя и отщепенцам, и льстецам:
Не льстить ему. Не ползать перед ним. Я — часть его. Он больше, а не выше.Конечно, стих Слуцкого помечен нашим временем — после Блока, после Маяковского, — но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова. Внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова.
Вот о военных связистках:
Я встречал их немало, девчонок! Я им волосы гладил, У хозяйственников ожесточенных Добывал им отрезы на платье. Не за это, а так отчего-то, Не за это, а просто случайно Мне девчонки шептали без счета Свои тихие, бедные тайны. Я слыхал их немало, секретов, Что слезами политы. Мне шептали про то и про это, Про большие обиды!О военных вдовах:
Она войну такую выиграла! Поставила колхозы на ноги! Но, как трава на солнце, выгорело То счастье, что не встанет наново. <…> Вот гармонисты гомон подняли, И на скрипучих досках клуба Танцуют эти вдовы. По двое. Что, глупо, скажете? Не глупо! Их пары птицами взвиваются, Сияют утреннею зорькою. И только сердце разрывается От этого веселья горького.О булочниках… О бане…
Там по рисунку каждой травмы Читаю каждый вторник я Без лести и обмана драмы Или романы без вранья.Особенность гражданской поэзии Слуцкого в том, что она глубоко лирична. У нас часто под видом гражданской поэзии печатаются рифмованные передовицы, фельетоны, авторы которых подражают интонациям Маяковского и располагают слова «лесенкой», или, наконец, псевдопоэтические оды. Слово «лирика» в литературном просторечье потеряло свой смысл: «лирикой» стали называть стихи о любви. Такой «лирики» у Слуцкого нет; я не знаю его любовных стихов; может быть, он их никому не показывает, а может быть, еще не написал. Однако все его стихи чрезвычайно лиричны, рождены душевным волнением, и о драмах своих соотечественников он говорит как о пережитом им лично. Пожалуй, единственное «любовное» стихотворение посвящено чужой страсти:
По телефону из Москвы в Тагил Кричала женщина с какой-то чудной силой: — Не забывай! Ты слышишь, милый, милый! Не забывай! Ты так меня любил! А мы — в кабинах, в зале ожиданья, В Москве, в Тагиле и по всей земле — Безмолвно, как влюбленные во мгле, Вдыхали эту радость и страданье.Политические темы Слуцкий передает с той же личной взволнованностью. Когда с Запада надвигались тучи, вспоминая освобожденного советскими солдатами итальянца, он писал:
Чернявый, маленький, хорошенький, Приятный, вежливый, старательный, Весь как воробушек взъерошенный, В любой работе очень тщательный: Колол дрова для поваров, Толкал машины — будь здоров! И плакал горькими слезами, Закапывая мертвецов. Ты помнишь их глаза, усталые, Пустые, как пустые комнаты? Тех глаз не забывай в Италии. Пожалуйста, их в Риме вспомни ты. <…> Пускай запомнят итальянцы, И чтоб французы не забыли, Как умирали новобранцы, Как ветеранов хоронили…Есть у Слуцкого суровое отношение к долгу поэта и к его работе. В одном из стихотворений он сравнивает стих с солдатом, который идет в атаку. Он хорошо понимает силу искусства, даже когда (как многие его предшественники) хочет скрыть умиление иронией:
Шел фильм, и билетерши плакали Семь раз подряд над ним одним, И парни девушек не лапали, Поскольку стыдно было им. Глазами грустными и грозными Они глядели на экран, А дети стать мечтали взрослыми, Чтоб их пустили на сеанс. Как много создано и сделано Под музыки дешевый гром Из смеси черного и белого С надеждой, правдой и добром. Свободу восславляли образы, Сюжет кричал, как человек. И пробуждались чувства добрые В жестокий век, двадцатый век.Может быть, иной критик, увидав слова «жестокий век», вздумает причислить Слуцкого к пессимистам? Такое за некоторыми критиками водится. Но ведь война не тема для «розовой библиотеки», показывать ее как парад бесстыдно, да и бесцельно — никто не поверит. Слуцкий знает цену победы, знает жертвы и беду народа. Но он мужественно смотрит вперед. Он гордится тем, что создано народом:
У Белорусского и Курского Смотреть Москву за пять рублей Их собирали на экскурсию — Командировочных людей… …Закутавшись в одежи средние, Глядят на бронзу и гранит, — То с горделивым удивлением Россия на себя глядит. Она копила, экономила, Она вприглядку чай пила, Чтоб выросли заводы новые, Громады стали и стекла.Встает естественно вопрос: почему не издают книги Бориса Слуцкого? Почему с такой осмотрительностью его печатают журналы? Не хочу быть голословным и приведу пример. Есть у Слуцкого стихотворение о военном транспорте, потопленном миной. Написал он его давно, а напечатано оно недавно в журнале «Пионер»[292] после того, как его отклонили некоторые чрезмерно осторожные редакции. Вот отрывок из него:
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что ж им было делать, бедным, если В лодках нету мест и на плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море в синем остров плыл гнедой. И сперва казалось — плавать просто, Океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил Вдруг заржали кони, возражая Тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, Все на дно покуда не пошли. Вот и всё. А всё-таки мне жаль их — Рыжих, не увидевших земли.Детям у нас везет. Повесть «Старик и море» Хемингуэя выпустил в свет Детгиз, а трагические стихи о потопленном транспорте опубликовал «Пионер». Всё это очень хорошо, но когда же перестанут обходить взрослых?..
Три года назад я закончил статью «О работе писателя» заверением, что мы находимся накануне расцвета нашей литературы. Некоторые тогда говорили, что я слишком строг к прошлому, хотя я и писал, что в предшествующие годы были созданы некоторые прекрасные книги. Другие считали мой оптимизм необоснованным. Достаточно заглянуть в толстые журналы, в альманахи, чтобы увидеть, как ожила наша поэзия. Было бы несправедливым сказать, что проза не оправдала надежд: проза требует больше времени. Литература всех народов начинается с поэзии, да и многие замечательные прозаики прошлого тоже начинали со стихов. Я убежден, что предстоит расцвет нашей прозы — расцвет поэзии тому порукой.
Говорят, что стихи особенно близки молодым. Вероятно, это так: в молодости чувства обостренные. Но признаюсь — стихи Слуцкого меня волнуют, хотя я и стар. Я нахожу в них мою землю, мой век, мои надежды и горечь — всё, что позволило мне вместе с другими идти вперед, хотя порой это было нелегко, идти и дойти до наших дней.
На чувствах мы никогда не экономили, и часто нам бывало обидно, когда мы читали пустые, холодные стихи, ничего и никого не выражавшие. Ведь стихи — это не сахар, это, скорее, соль, — без поэзии не обойтись. Хорошо, что настало время стихов.
1956
О поэзии Поля Элюара
Люди, которым пришлось побывать в годы войны на переднем крае, знают, как потрясает солдата, между двумя разрывами снарядов, в минуту глубокой тишины, пение полевой птицы. Поль Элюар жил и писал в очень шумное время. Люди слушали рев громкоговорителей, вой сирен, грохот бомб. Говорила история, и, казалось, только кардиологи различали биение человеческого сердца. Элюар не чуждался своей эпохи, не уходил в сторону, участвовал в боях Сопротивления, боролся за мир; многие из его стихов посвящены тем вопросам, которые знакомы каждому по шуму радиоволн — длинных или коротких. Если стихи Элюара всё же потрясали и потрясают современников, то потому, что это — тихие стихи, в них нет желания перекричать эпоху, в них неизменно слышится голос человека.
Первые стихи Элюара были напечатаны в годы тяжелой для Франции войны, которая казалась людям последней и которую теперь называют «Первой мировой».
В 1918 году он написал «Поэмы мира». Вот несколько строк:
«Все счастливые женщины увидели снова своих мужей. Они вернулись, как солнце, столько в них тепла, они смеются, они тихо говорят „здравствуй“, прежде чем обнять свою радость…»
И незадолго до смерти, в 1951 году он писал:
«Люди созданы, чтобы понять друг друга, чтобы любить друг друга, у них дети, которые станут отцами, у них дети, которым холодно на свете, которые заново откроют огонь, которые заново откроют человека».
Идея открытия огня, которая со времени Древней Греции вдохновляла поэтов, жила в Элюаре. Еще юношей на фронте он написал: «Меня покинула лазурь, и я развел огонь».
Я привожу стихи Элюара в прозаическом переводе. Я знаю, конечно, сколько при этом они теряют, но я боюсь, что они потеряют еще больше, если я попытаюсь перевести их стихами. Есть поэты, которые поддаются переводу: можно передать на другом языке не только мысль или образы, но порой и стихотворные приемы. Легко перевести строки Маяковского на любой язык мира:
Дней бык пег, Медленна лет арба.Здесь есть образы, мысль, прием — короткие, отрывистые слова.
Но вот строки Пушкина:
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты.Переведенные на другой язык, эти чудесные стихи станут пошлым романсом.
Много русских поэтов, от Брюсова до Пастернака, пытались перевести стихи Верлена:
«Сердце тихо плачет[293], как идет дождь над городом. Что это за тоска, которая заполняет мое сердце?»
Дело не только в том, что по-русски нет безличных форм глаголов «плакать» или «дождить», а Верлен писал: «Плачется в моем сердце, как дождится над городом»; дело и в том, что обаяние приведенных строк относится к найденному сочетанию обычных слов и его немыслимо воссоздать на другом языке. В прозаическом переводе читатель по меньшей мере узнает точный смысл строк Элюара и сможет себе представить, как эти скромные фразы звучат неотвязно, становясь поэзией.
Разумеется, и в оригинале человеку, нечувствительному к поэзии, стихи Элюара могут показаться прозой: он сделал всё, чтобы лишить свою поэзию внешних примет поэтичности. В его стихах нет ни стихотворных размеров, ни рифм, ни ассонансов. Они держатся на ритме и на загадочном сплетении слов. Имеются литераторы, которые научились бойко описывать, владеть различными стихотворными приемами, подбирать незатасканные рифмы, они успешно выдают свою прозу за поэзию. Элюар в стихах труден и вместе с тем по-детски прост, откровенен, как на исповеди. Он не поучает, не рассказывает, не описывает, он признается.
Есть поэты-живописцы, они как бы придают зрительную силу мечте; их стихи изобилуют образами. К ним во французской поэзии относится Гюго, парнасцы, Бодлер, Рембо, а из наших современников в известной мере Арагон. Среди русских поэтов нашего времени живописной выразительностью обладал Маяковский. Есть поэты другой душевной настроенности: они не показывают, они ворожат. Их стихи неотделимы от магического сочетания слов.
Элюар любил живопись, его самыми близкими друзьями были художники. Но если мы задумаемся над творчеством художников, с которыми был связан Элюар, то увидим, что они даже в живописи зачастую ищут решений, лежащих вне данного искусства. Говоря это, я думаю не только о Максе Эрнсте или Кирико (любовь к которым Элюара я никогда не разделял), но и о Пикассо. Элюар был связан с Пикассо многолетней дружбой, они создавали вместе книги — текст писал Элюар, Пикассо рисовал. У них было много общего. Пикассо никогда не стремится изобразить зримый мир, предметы для него иероглифы, он пишет маслом или карандашом свою книгу — мир таким, каким он его понимает. В поэзии Элюар менее всего был живописцем. Он редко прибегает к пластическим образам. Его определения порой чересчур сжаты, но всегда просты, даже, скажу, бесхитростны. Порой его стихи напоминают мне средневековую французскую поэзию — и повторением параллельных фраз, и непосредственностью сравнений. Вот несколько примеров:
«Это горячий закон людей: из грозди они делают вино, из угля они делают огонь, из поцелуев они делают человека. Это суровый закон людей: выстоять, несмотря на войны, на нищету, несмотря на угрозу смерти. Это нежный закон людей: превращать воду в свет, мечту в явь, врагов в братьев».
~~~
«Мы идем вдвоем и держимся за руки. Нам кажется, что мы повсюду дома — под ласковым деревом, под черным небом, под всеми крышами, у очага, на улице, пустой от знойного солнца, когда на нас смутно глядят прохожие, среди благоразумных и среди чудаков, среди взрослых и среди детей. В любви нет ничего таинственного. Мы всем понятны, и всем влюбленным кажется, что они у нас в гостях».
~~~
«Что вы хотите — дверь была закрыта. Что вы хотите — вы были взаперти. Что вы хотите — улица была оцеплена. Что вы хотите — город был побежден. Что вы хотите — город голодал. Что вы хотите — у нас не было оружия. Что вы хотите — настала ночь. Что вы хотите — мы друг друга любили».
Элюар осознавал значимость слова. В стихотворении о расстреле гитлеровцами Габриэля Пери он пишет:
«Есть слова, которые помогают жить, и это простые слова: слово „тепло“ и слово „доверие“, слово „правда“ и слово „свобода“, слово „ребенок“ и слово „милый“, и некоторые названия цветов и деревьев, слово „мужество“ и слово „открыть“, слово „брат“ и слово „товарищ“, и некоторые названия городов или деревень, и некоторые имена женщин или друзей. Прибавим к ним „Пери“».
Элюар чурался красноречия и, хоть часто писал на патетические темы, не выносил пафоса. Его стихотворение «Свобода», написанное в годы Сопротивления, повторяли миллионы французов. Элюар говорит, что он пишет имя свободы «на моих разрушенных убежищах, на моих рухнувших маяках, на стенах моей тоски». Этот перечень лиричен, и он смягчается будничным, простым:
«На моей собаке — ласковой и сластене, на ее настороженных ушах, на ее неуклюжей лапе — я пишу твое имя».
Он изумительно знал поэзию (он составил антологию старой французской поэзии, сборник Бодлера, увлекался английскими, испанскими поэтами), он мог говорить как знаток, как эрудит, и замечательно, что это не чувствуется в его поэзии: ни учености, ни стилизации, ни редких слов, ни экзотических интонаций.
В 1924 году в литературных кругах Парижа говорили о том, что молодой поэт, по имени Поль Элюар, скоропостижно скончался; одни добавляли, что покончил с собой, другие — что, очевидно, он стал жертвой преступников. На самом деле Элюар исчез и долго не подавал вестей. Переживая внутренний кризис, он отправился в далекое путешествие, побывал на Таити, а Панаме, в Новой Зеландии, в Индонезии, на Цейлоне. Напрасно искать в его стихах внешних признаков этого путешествия: ни тропических пейзажей, ни экзотических названий в поэзии его не появилось. Он с усмешкой как-то объяснил, что уехал далеко не ради «поэтической охоты». Мы хорошо знаем и во французской, и в русской поэзии поэтов, стремящихся к яркому необычному оперенью, для них «Целебес» или «Коломбо» — и средство оживить тусклую фразу, и новая рифма. Элюар знал обычные слова, но умел их необычно произносить, видя в этом силу поэзии.
Конечно, стихи Элюара порой трудны для чтения. Озадачивает читателя простота, а в некоторых стихотворениях чрезвычайный лаконизм. Страшась излишка слов, Элюар, особенно в конце двадцатых годов, доходил до такой сжатости, что некоторые строки, эмоционально трогая, представлялись загадочными.
(Как большинство своих современников во Франции, Элюар последовал примеру Гийома Аполлинера и отказался в стихах от знаков препинания, утверждая, что они разбивают ритм стиха и сужают его логически. Это, конечно, в свою очередь, затрудняет чтение его книг.)
Поэзия Элюара отличается наготой, прозрачностью. Образы, пафос, риторика воспринимаются куда легче. Лермонтов писал:
Есть речи — значенье Темно иль ничтожно! — Но им без волненья Внимать невозможно.Ничтожной поэзию Элюара назвать трудно, но можно иногда применить к ней эпитет «темная», а воспринимать ее без волнения воистину трудно.
О французском языке часто говорили, что он непригоден для поэзии. Это обвинение отчасти обоснованно: французский язык чрезвычайно ясен, логичен; он не терпит произвольного размещения слов в фразе; притом постоянное ударение на последнем слоге слова придает стиху известную монотонность. Бодлер первый «опоэтизировал» французский язык, заменяя часто обычную логику поэтической. Элюар пошел по его пути, и естественно, что поэты, которые пишут в манере Гюго, для неискушенного читателя куда понятнее.
Критики, любящие устанавливать так называемую «доходчивость», в двадцатых и тридцатых годах называли Элюара поэтом для сотни любителей. Это было верно, поскольку поэзия Элюара была в то время неизвестна широким кругам читателей. Настала Вторая мировая война. Миллионы французов переписывали стихи неизвестного им дотоле автора; с этими стихами заложники шли на казнь и партизаны в бой. «Поэт для сотни любителей» оказался понятным и понятым всеми.
Может быть, это объясняется тем, что поэзия Элюара изменилась, что он стал писать по-другому? Обыкновенно, когда пишут о поэтах, которые пришли к коммунизму, устанавливают дату перелома в их творчестве: до такого-то года автор писал о любви, и писал непонятно, с такого-то года прозрел и начал писать доступно для всех на гражданские темы. Такое разделение мне кажется несколько упрощенным. К Элюару оно вообще неприменимо: в его творчестве трудно найти перелом, есть прямая связь между его первыми стихами и предсмертными. Конечно, появлялись новые мысли, новые темы, новая надежда — их приносила жизнь. Но и в ранней молодости Элюар возмущался войной, несправедливостью, попранием человеческого достоинства, как и в последние годы не разлучался с темой любви.
Он написал свои первые стихи, когда был солдатом, первая его книга называется «Долг и беспокойство!». Он писал в ней: «Война зимой — нет ничего труднее…» Он возмущался теми, кто отдал смерти молоденького солдата Фернана Фонтэна[294]. Те же темы, те же чувства можно найти в его стихах четверть века спустя. В своей последней книге «Феникс» он писал о любимой женщине:
«Ты пришла, я был печален, я сказал „да“, только с тобой я сказал „да“ жизни».
Новые темы не вытесняли прежних, и Элюар никогда не отрекался от своих ранних книг. Есть у него стихотворение, для него необычное, если угодно, полемическое, оно написано в 1949 году и посвящено «моим требовательным друзьям» — под этими словами Элюар подразумевал тех любителей его поэзии, которые не захотели принять политических стихов поэта.
«Если я вам скажу, что на ветвях моей кровати свила гнездо птица, которая никогда не говорит „да“, вы мне поверите, вы поймете мою тревогу. Но если я пою мою улицу, пою мой край как улицу без края, вы больше мне не верите…»
Поэт упрекает в непоследовательности своих «друзей», он же никому и ничему не изменял. Он продолжал помнить и о птице, которая тревожила его сны. Два года спустя в книге «Феникс» эта птица вымолвила «да».
Поэтическая биография Элюара может озадачить критика, мыслящего готовыми категориями: Элюар в течение довольно долгого времени был вдохновителем французских сюрреалистов. Борьба против академических форм в литературе и мещанской морали началась давно: в эпоху так называемых «проклятых поэтов». К тому времени, когда в литературу пришел Элюар, цели, которые ставили Бодлер, Рембо, Тайяд, Аполлинер, не были достигнуты; но эпоха литературных школ, различных «измов» отмирала. Сюрреализм был, кажется, последней попыткой применить оружие прошлого века против противника, который, сохраняя прежнюю сущность, учел ход времени и заменил сентиментального Лоти циничным Мораном, а уютные кафе с красными бархатными диванами — американскими барами. Элюар понял после испанской трагедии необходимость иной борьбы и мужественно вел ее до своей смерти.
Сюрреализм был для него стремлением утвердить место поэзии в жизни, помочь смене реальности буржуазного общества иной, более справедливой и более достойной человека. Конечно, в литературной практике сюрреалистов было много и ребяческого, и вздорного: эпоха не раз над ними посмеивалась; попытка перенести в двадцатые годы нашего века проделки «проклятых поэтов», пугавших буржуа в 1880 году, придавала многим манифестам сюрреалистов пародийный характер. Но нужно оговорить, что никогда ни Элюар, ни другие сюрреалисты не пытались уйти в «башню из слоновой кости», куда их пытались загнать чересчур упрощенные литературоведы. Одним из любимых изречений сюрреалистов было: «Поэзия — творчество всех, а не одного». Они издавали журнал, который назывался «Сюрреализм на службе революции»[295]. Когда пришли годы испытаний, сюрреалисты оказались в двух враждующих лагерях: в одном Элюар и Арагон, в другом Бретон. Но, может быть, первые не порвали со своим прошлым, а его осмыслили и углубили? В годы сюрреализма Элюар написал много прекрасных стихов, на которых нет отпечатка литературной школы преходящих увлечений. Сюрреалисты в своих достаточно путаных декларациях говорили, что в человеке немало иррационального, — и это не следует отметать, ибо многое из иррационального не только реально, но и «сверхреально». Для Элюара это было не философской программой, а поэтической исповедью: ведь в своей поэзии, в отборе слов, в их сочетании, он руководствовался скорее поэтическим чутьем, нежели строгой логикой. Именно поэтому сюрреализм был в его биографии не случайным заблуждением, но и не путеводной звездой, а фазой развития, эпизодом. В 1936 году он писал: «Пришло время, когда все поэты должны и вправе заявить, что они глубоко вклинились в жизнь других людей, в общественную жизнь», и это не удивило никого — поэзия Элюара всегда была связана с жизнью общества, в котором жил поэт.
Со всей силой поэзия Элюара зазвучала как выразительница мыслей и чувств французского народа в годы фашистской оккупации и Сопротивления. Он не пытался писать понятнее, он жил со всеми, а борьба, мужество, страдания приподымали людей, делали их открытыми для восприятия высокой и, казалось бы, трудной поэзии. В 1942 году была издана книга Элюара «Поэзия и правда». Вскоре миллионы людей повторяли стихи: «Я родился, чтобы узнать тебя, чтобы назвать тебя, свобода!» Он примкнул к Сопротивлению, организовывал подпольные издания, выполнял любые поручения, ездил по Франции с листовками в карманах и с надвигающимися стихами в сердце. Одно время ему пришлось скрываться от гестапо в больнице для умалишенных в Сен-Альбане. Два месяца, окруженный несчастными больными, на снежной горе среди метелей и вражеских постов, он работал: он написал там много замечательных стихов — о борьбе, о надежде о счастье.
Кончилась война, но люди продолжали жить в тревоге: мира не было. Поль Элюар понял, что для него не может быть ни покоя, ни даже передышки. Он воевал за мир. Его можно было увидеть на конгрессах сторонников мира, на площадях Франции и Италии. Во время гражданской войны в Грецию он проехал вместе с Ивом Фаржем в те районы, где еще держалась армия освобождения. Как в 1936 году Испания, Греция 1949 года потрясла его душевной чистотой, горем, упорством.
Если сопоставить стихи Элюара, написанные на политические темы, с его лирикой, то мы не видим разрыва. Когда он говорил о «маки»[296], о горе Грамос[297], о сторонниках мира, его одушевляли те же думы и чувствования, которые продиктовали ему стихи о печали, о любви, о смерти. Чем был предопределен политический путь Элюара? Прежде всего неистребимой жаждой справедливости. Бодлер писал, что подлинная поэзия — «отрицание несправедливости». Бодлер жил в смутное время, и вся его жизнь отмечена глубокими противоречиями. Жизнь Элюара неотрывна от его поэзии. Он воистину страдал от несправедливости не только как гражданин, но и как поэт. Не менее справедливости он любил свободу, никогда не противопоставляя одну свою привязанность другой. Свободу он ощущал всем своим существом. Право же, к нему больше, чем к другим современникам, можно приложить слова Пушкина: «…В мой жестокий век восславил я свободу».
Доброта совсем не обязательное свойство поэзии, мы знаем немало замечательных поэтов, благородных, смелых, умных, но лишенных человеческой доброты. Элюар был добрым не только в жизни — в поэзии. В одной поэме о любви он писал:
«И потому, что мы любим друг друга, мы хотим освободить других от холода одиночества. Мы хотим, я говорю — я хочу, я говорю — ты хочешь, мы хотим, чтобы свет взошел над другими…»
Чужое счастье было для Элюара не только философическим положением, принципом морали, пунктом политической программы, но и глубокой личной потребностью.
Все встречавшие его знают, что редко можно найти такое единство между художником и его творчеством, как то было в поэзии и жизни Элюара. Он очень походил на свои стихи, и стихи его всегда были автобиографичны. Он был необычайно скромным, чурался славы: мягкий, участливый, он был окружен любовью общей. Он не был тем рассеянным, неземным поэтом, которого рисуют себе романтически настроенные подростки: Он участвовал в жизни, видел все ее мелочи, но никогда не терял из виду своей большой мечты.
Поль Элюар умер 18 ноября 1952 года; не будет преувеличением сказать, что Франция (да и поэзия мира) горько пережила потерю. На похоронах Элюара можно было увидеть и знатоков поэзии, и цвет творческой Франции, и множество обыкновенных людей, помнивших стихи Элюара военных лет — встречу мужества и искусства.
Порой приходится слышать о том, что поэзия отжила свой век, что ее существование теперь эфемерно, связано, скорее, с известными привычками, чем с душеным горением. Конечно, различные формы искусства рождаются, дряхлеют, отмирают, но рассуждения о смерти поэзии в наше время построены скорее на правдоподобности догадок, нежели на правдивости данных. Одним из оснований для таких утверждений являются различные попытки создания непоэтической поэзии. Во Франции, как и в других странах, пишут стихами то, что легко можно выразить в прозе. Это и неразумно, и бесполезно. Я имею в виду не темы, не чувства, не мысли: поэт живет в том же мире, что и прозаик. Но есть такие прозрения, такие ощущения гармонии или разлада, которые не выразишь ни в новелле, ни в статье. Темы Элюара обычны, но то, что он хочет выразить, относится к миру поэзии, и выражает он это средствами, доступными только поэту. Глубокая прозаичность многих псевдопоэтов породила и другое заблуждение — попытки уйти в сторону музыкального сочетания звуков, чередования слов вне их значения или даже переход на несуществующий язык. Можно сказать, что и такие попытки неразумны, — в слове — клубок многого: и логического смысла, и тех ассоциаций, которое оно вызывает, и, наконец, звучания. Абстрагировать звучание бесцельно: есть музыка, рождаемая звуком и воздействующая им. Элюар не только почитал слово во всей его полноте — он вернул ему то значение, которое оно готово было потерять, обесцененное потоком речей, деклараций, клятв или проклятий. Поэзия Поля Элюара — живое доказательство того, что поэзия живет, требует, ранит, лечит, приподымает.
1957
Комментарии
Библиографические данные об изданиях Ильи Эренбурга, на которые имеются ссылки в комментариях
Прижизненные издания
Стихи. Париж, 1910 (обозначено С-10).
Я живу. СПб., 1911.
Одуванчики. Париж, 1912.
Будни. Париж, 1913.
Детское. Париж, 1914.
Поэты Франции. 1870–1913. Переводы И. Эренбурга. Париж, 1914.
Стихи о канунах. М., 1916 (обозначено СоК).
Отрывки из Большого завещания, баллады, и разные стихотворения Франсуа Вийона в переводе И. Эренбурга. М., 1916.
Молитва о России. М., 1918.
В смертный час. Киев, 1919.
Огонь. Гомель, 1919.
Раздумия. Рига, 1921.
Кануны. Берлин, 1921.
Раздумия. Пг., 1922.
Зарубежные раздумья. М., 1922.
Опустошающая любовь. Берлин, 1922.
Звериное тепло. Берлин, 1923.
Верность. М., 1941.
Стихи о войне. М., 1943.
Свобода. Поэмы. М., 1943.
Дерево. М., 1946.
Стихи. 1938–1958. М., 1959 (обозначено Стихи-59).
Наиболее значимые посмертные издания
Стихотворения. Составитель Б. М. Сарнов, вступительная статья С. С. Наровчатова. — Л., 1977 (обозначено БП-77). Первое издание избранных стихов И. Эренбурга в «Библиотеке поэта».
Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Эренбурга. Составитель Л. Зонина, предисловие и редакция Б. Слуцкого. — М., 1969 (обозначено ТД). Наиболее полное издание переводов И. Эренбурга.
Стихотворения и поэмы. Издание подготовлено Б. Я. Фрезинским. — СПб., 2000 (обозначено НБП). Наиболее полное издание стихотворений И. Эренбурга, вышедшее в Большой серии «Новой Библиотеки поэта».
Люди, годы, жизнь: В 3 т. Подготовка текста и комментарии Б. Я. Фрезинского. — М., Текст, 2005 (обозначено ЛГЖ).
При ссылках в комментариях на мемуары Эренбурга имеется в виду это издание. Указываются лишь номер тома и страницы.
Собрание сочинений: В 9 т. — М., 1961–1967 (обозначено СС-9).
Собрание сочинений: В 8 т. — М., 1991–2000 (обозначено СС-8).
При ссылках на два последних Собрания сочинений И. Эренбурга указываются их обозначения, номер тома и страницы.
Переписка Ильи Эренбурга: В 3 т.:
Дай оглянуться. Письма 1908–1930. — М., Аграф, 2004 (обозначено П-1).
На цоколе историй. Письма 1931–1967. — М., Аграф, 2004 (обозначено П-2).
Почта Ильи Эренбурга. Я слышу всё… — 1916–1967. М., Аграф, 2006 (обозначено П-3).
Стихи 1910—1923
«Я ушел от ваших ярких, дерзких песен…» — в прижизненные сборники не входило; впервые: Северные цветы, СПб., 1910, № 8. В мемуарах (1)ЛГЖ Эренбург писал, что эти стихи «помогли мне вспомнить терзания далеких дней» (1, 78). Критик Л. Лазарев отмечал, что в этих стихах «очень наглядно соединились два определивших жизнь Эренбурга мотива — верности и отречения, без которых невозможно понять и пафос его поэзии, и природу его сатиры, и пламень публицистики, и повторявшиеся на протяжении всей его жизни упреки справа и слева в непоследовательной, недостаточно „ангажированной“ позиции».
«В одежде гордого сеньора…» — впервые: (2)С-10.
Брюгге — впервые: (2)С-10.
«Эти бледные сжатые губы…» — впервые: (2)С-10.
«Там, где темный пруд граничит с лугом…» — впервые: (2)С-10.
«Вы приняли меня в изысканной гостиной…» — впервые: (2)С-10.
Вандея — впервые: (2)С-10.
«Так устали согнутые руки…» — впервые: (2)С-10.
Флорентийские терцины — впервые: Я живу.
1. «Я подошел к вершинам Миниато…» В книге «Я живу» был напечатан также цикл из четырех стихотворений «Сандро Боттичелли».
«Как хорошо, когда нисходит плавно…» — впервые: Я живу.
Париж — впервые: Я живу.
«Печальны и убоги…» — впервые: Новая жизнь, СПб., 1911, № 3.
«Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме…» — впервые: Одуванчики.
«Как скучно в „одиночке“ вечер длинный…» — впервые: Одуванчики. Стихотворение автобиографично: находясь в заключении с 30 января по 24 июня 1908 г., Эренбург с 30 мая содержался в одиночной камере Бутырской тюрьмы.
«Как странно жить не дома…» — впервые: Одуванчики.
«Я люблю тебя за запах жесткий…» — впервые: Одуванчики.
Амстердам — впервые: Одуванчики.
«Не вспоминай с улыбкой милой…» — впервые: Одуванчики.
«Когда встают туманы злые…» — впервые: Одуванчики.
Парижу — впервые: Будни.
Письмо — впервые: Будни.
Вместо письма — впервые: Будни.
Воскресный вечер — впервые: Будни.
Верлен в старости — впервые: Будни.
О Москве — впервые: Будни.
На вокзале — впервые: Новая жизнь, 1912, № 9; вошло в «Будни».
Сологуб — впервые: Будни.
Плющиха — впервые: Русское богатство, 1913, № 4, вместе со следующим стихотворением под общим заголовком «Вздохи из чужбины», данным В. Г. Короленко.
Девичье поле — впервые: Русское богатство, 1913, № 4.
Осенью — впервые: Русское богатство, 1913, № 11. Напечатано по рекомендации В. Г. Короленко.
«День засыпает навеки…» — впервые: Современный мир, 1914, № 4.
Франсису Жамму — впервые: Детское.
России — впервые: (3)СоК.
Как умру — впервые: без названия и под общим заголовком «Стихи из книги „Noli me tangere“» — Вечера, Париж, 1914, № 1. Под названием «Как умру» — (3)СоК.
О соборе Реймса — впервые: (3)СоК.
«Люблю немецкий старый городок…» — впервые: (4)БП-77.
Гоголь — впервые: (3)СоК; один из автографов — под названием «Гоголь в Риме».
Над книгой Вийона — впервые: (3)СоК. Франсуа Вийон (1431–1463?) — французский поэт, был связан с воровскими шайками, сидел в тюрьмах; по обвинению в убийстве был приговорен к повешению, затем помилован и изгнан из Парижа.
Канун — впервые: (3)СоК.
«В кафе пустынном плакал газ…» — впервые: Арион, 1999, № 3. Публикация Б. Я. Фрезинского.
Натюрморт — впервые под названием «Nature mort»: (3)СоК.
В детской — впервые: (3)СоК.
В вагоне — впервые: (3)СоК.
В августе 1914 года — впервые под названием «На войну»: Новый журнал для всех, 1915, № 7; вошло в (3)СоК.
На войну — впервые: (3)СоК.
На закате — впервые: (3)СоК.
После смерти Шарля Пеги — впервые: (3)СоК.
Р. S. — впервые: (3)СоК.
Из цикла «Ручные тени»:
Вы жить обречены… — впервые: (4)БП-77.
Е<катерины> Ш<мидт> — впервые: (4)БП-77.
Т<ихона> С<орокина> — впервые: в комментариях к первому тому мемуаров «Люди, годы, жизнь» (М., 1990. С. 579).
Веры Инбер — впервые: (4)БП-77.
О. Цадкина — впервые: (4)БП-77.
Максимилиана Волошина — впервые: (4)БП-77. С поэтом и художником Максимилианом Александровичем Волошиным (1877–1932) Эренбург познакомился в Париже в сентябре 1911 г. Волошину посвящена глава (1)ЛГЖ (кн.1, гл.19); переписку Эренбурга и Волошина см. (9)П-1, (10)П-3.
Бальмонта — впервые: (4)БП-77. С русским поэтом Константином Дмитриевичем Бальмонтом (1867–1942) Эренбург познакомился в Париже; Бальмонту посвящена глава (1)ЛГЖ (кн.1, гл.15).
Модильяни — впервые: (3)СоК. Амедео Модильяни (1884–1920) — итальянский художник, работавший в Париже; Эренбург познакомился с ним в 1912 году. Модильяни посвящена глава (1)ЛГЖ (кн.1, гл.23).
Маревны — впервые: (4)БП-77.
Ропшина — впервые: в 1990 г. в комментариях к т. 1 мемуаров (1)ЛГЖ. В. Ропшин — литературный псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879–1925), знаменитого эсера-террориста и литератора. Эренбурга познакомил с Савинковым в Париже Волошин; Савинкову посвящена глава (1)ЛГЖ (кн. 1, гл. 29). Письма Эренбурга Савинкову — см. (9)Переписка, т. 1.
Своя — впервые: (4)БП-77.
В пивной — впервые: (3)СоК.
Ars — впервые: (3)СоК.
Другу — впервые: (3)СоК.
Где-то в Польше — впервые: (3)СоК.
Летним вечером — впервые: (3)СоК.
Прогулка — впервые: (3)СоК.
Прости меня… — впервые: (3)СоК. Рукопись цикла под названием «Шесть молитв» Эренбург подарил Б. В. Савинкову.
Пугачья кровь — впервые: Молитва о России. М. Волошин писал в 1919 году:
«„Пугачья кровь“ — это потрясающее пророчество о великой разрухе русской земли, и, конечно, сам автор не ожидал, что оно осуществится так быстро и в такой полноте…».
Молитва о России — впервые: Молитва о России.
Судный День — впервые: Мысль (М.), 15 января 1918.
В ноябре 1917 — впервые без названия: Труд, 24 декабря 1917. В (3)СоК — с названием.
У окна — впервые: Молитва о России.
В переулке — впервые: Молитва о России.
Моя молитва — впервые: Молитва о России.
«Нет, я не поэт, я или пророк…» — впервые под названием «О себе»: Весенний салон поэтов. М., 1918. Вошло в книгу «Огонь» (Гомель, 1919).
«Наши внуки будут удивляться…» — впервые: Однодневная газета «День пролетарской культуры» (Киев), 6 апреля 1919.
«Я не знаю грядущего мира…» — впервые: Огонь.
«Гудит и плещет стихия…» — впервые: Огонь.
«Вам всё понятно в мире…» — впервые: Огонь. Эренбург послал это стихотворение в Москву поэтессе Вере Меркурьевой 7 мая 1919 г.
«Не уйти нам от теплой плоти…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
Осел — впервые: Ковер-самолет (Киев), 1919, № 1. Одно из детских стихотворений, написанных в Киеве в 1919 году.
В раю — впервые: Автографические издания Лавки писателей, 1920. Переписал и картинки нарисовал Илья Эренбург в Москве 12 ноября 1920 года (РО ИМЛИ, ф. 146, оп.1. № 1).
«Ветер летит и стенает…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
«За то, что губы мои черны от жажды…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
«Мои стихи не исповедь певца…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
«Нарекли тебя люди Любовью…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму». Обращено к Любови Михайловне Козинцевой-Эренбург, художнице, второй жене Эренбурга.
«Далеко, на милой могиле…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму». Посвящено памяти матери Анны Борисовны Эренбург, скончавшейся в Полтаве 13 октября 1918 г.
«Я в мир пришел накануне…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
России — впервые без названия: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
«Бунтом не зовите годы высокой работы…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Ночи в Крыму».
«Москва! Москва! Безбытье необжитых будней…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Московские раздумия».
«Провижу грозный город-улей…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Московские раздумия».
Евгений — герой поэмы Пушкина «Медный всадник».
«Кому предам прозренья этой книги?..» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Московские раздумия».
«Весна снега ворочала…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Московские раздумия».
«Позади ты и всё же со мною…» — впервые: Раздумия. Рига. В цикле «Московские раздумия».
«Скрипки, сливки, книжки, дни, недели…» — впервые: Зарубежные раздумия.
«Я не трубач — труба. Дуй, Время!..» — впервые: Зарубежные раздумия.
«Пятно на карте — места хватит…» — впервые: Зарубежные раздумия.
«Разграбив житницы небес…» — впервые: Зарубежные раздумия.
«Будет день — и станет наше горе…» — впервые: Зарубежные раздумия.
«О, горе, горе убежавшим с каторги…» — впервые: Зарубежные раздумия. Стихотворение, очень понравившееся Марине Цветаевой, было переведено ею на французский.
«Тяжелы несжатые поля…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Тело нежное строгает стругом…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Ты Канадой запахла, Тверская…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Какой прибой растет в угрюмом сердце…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Стали сны единой достоверностью…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег…» — впервые: Опустошающая любовь.
«…И кто в сутулости отмеченной…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Что седина? Я знаю полдень смерти…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Когда замолкнет суесловье…» — впервые: Опустошающая любовь.
«Что любовь? Нежнейшая безделка…» — впервые: Звериное тепло. Миф об уходе и возвращении Прозерпины (в римской мифологии богиня плодородия и подземного царства) Эренбург не раз использовал в публицистике.
«Нежное железо — это скрепы…» — впервые: Звериное тепло.
«Не мы придумываем казни…» — впервые: Звериное тепло.
«Заезжий двор. Ты сердца не щади…» — впервые: Звериное тепло. «Свободен от постоя» — формула, освобождавшая владельца частного дома от временного вселения военных «на постой».
«„Аврора“ дулась, дулась и река…» — впервые: Звериное тепло.
«Остановка. Несколько примет…» — впервые: Звериное тепло. Обращено к Л. М. Козинцевой-Эренбург.
«Так умирать, чтоб бил озноб огни…» — впервые: Звериное тепло.
«Я так любил тебя — до грубых шуток…» — впервые: Поэты наших дней. Л., 1924. Включено, как и три последующих стихотворения, в рукопись не вышедшей книги «Не переводя дыхания».
«Жалко в жизни мне еще дождя…» — впервые: Альманах «Поэзия». М., 1984., № 40. Публикация Б. Я. Фрезинского.
«Там телеграф и рахитик-подсолнечник…» — впервые: Альманах «Поэзия». М., 1984, № 40.
«Хотеть его. Чем реже крови дробь…» — впервые: Альманах «Поэзия». М., 1984, № 40.
Стихи 1938—1948
«Сердце, это ли твой разгон?..» — впервые под названием «Лето 1936»: Знамя, 1939, № 7–8. Вошло в сб. «Верность».
«Парча румяных жадных богородиц…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8. Вошло в сб. «Верность».
Эскуриала грузные гроба — во дворце-монастыре XVI в. Эскуриал (49 километров от Мадрида) находится пантеон испанских королей.
Бой быков — впервые: Звезда, 1940, № 10.
«Тогда восстала горная порода…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
В Барселоне — впервые без названия: Знамя, 1939, № 7–8.
«Горят померанцы, и горы горят…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
У Брунете — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«„Разведка боем“ — два коротких слова…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8. Эренбург включил эти стихи в коллективный сборник «Мое лучшее стихотворение» (М., 1961).
«Батарею скрывали оливы…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«В кастильской нищенском селенье…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«Нет, не забыть тебя, Мадрид…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«В городе брошенных душ и обид…» — впервые под названием «У приемника»: Звезда, 1940, № 10.
У Эбро — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«Молча — короткий привал…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
Русский в Андалузии — впервые под названием «В Андалузии»: Знамя, 1939, № 7–8.
«Крепче железа и мудрости глубже…» — впервые: Звезда. 1940. № 10.
«Бомбы осколок. Расщеплены двери…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«Сбегают с гор, грозят и плачут…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
Гончар в Хаэне — впервые: Знамя, 1939, № 7–8. С. Наровчатов назвал это стихотворение «одним из кульминационных взлетов творчества И. Эренбурга» ((4)БП-77, с.22, 23).
В январе 1939 — впервые: Ленинградская правда, 22 июля 1939.
После… — впервые: Верность. М., 1941.
«Бои забудутся, и вечер щедрый…» — впервые: Ленинградская правда, 22 июля 1939.
«Есть перед боем час — всё выжидает…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«Не торопясь, внимательный биолог…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«О той надежде, что зову я вещей…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«На ладони — карта, с малолетства…» — впервые: Звезда. 1940. № 10.
«Я знаю: будет золотой и долгой…» — впервые: День поэзии. М., 1971. Публикация Б. А. Слуцкого.
«Ты тронул ветку, ветка зашумела…» — впервые под названием «Старому другу»: Знамя, 1940, № 9.
У приемника — впервые: Верность.
Монруж — впервые под названием «В парижском предместье»: Звезда, 1940, № 10.
«Ногти ночи цвета крови…» — впервые под названием «Рассвет в Париже»: Звезда, 1941, № 4.
«Жилье в горах, как всякое жилье…» — впервые под названием «В Савойе»: Верность.
«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе…» — впервые: Новый мир, 1941, № 5.
«Сочится зной сквозь крохотные ставни…» — впервые: Звезда, 1940, № 10.
«По тихим плитам крепостного плаца…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос…» — впервые: Верность.
«Верность — прямо дорога без петель…» — впервые: Знамя, 1940, № 9. Открывало книгу «Верность».
Дыхание — впервые: Верность.
«Самоубийцею в ущелье…» — впервые: Верность.
«Как восковые, отекли камельи…» — впервые под названием «Париж 1938»: Верность.
«Есть в хаосе самом высокий строй…» — впервые: Верность.
«Когда подымается солнце и птицы стрекочут…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«Всё простота: стекольные осколки…» — впервые: Знамя, 1939, № 7–8.
«Я должен вспомнить — это было…» — впервые под названием «Май 1939»: Знамя, 1939, № 7–8.
«Говорит Москва» — впервые: Верность.
«Птица полевая…» — впервые: (4)БП-77.
«Чем расставанье горше и труднее…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«Нет, не зеницу ока и не камень…» — впервые: Звезда, 1940, № 10.
«Ты вспомнил всё. Остыла пыль дороги…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
Париж, 1940
1. «Умереть и то казалось легче…» — впервые под названием «Армия отходит»: Звезда, 1940, № 10.
2. «Не для того писал Бальзак…» — впервые под названием «18 марта»: Звезда, 1940, № 10.
3. «Глаза погасли, и холод губ…» — впервые: 30 дней, 1940, № 9–10.
4. «Упали окон вековые веки…» — впервые: Новый мир, 1941, № 5.
5. «Номера домов, имена улиц…» — впервые под названием «Памятники Парижа»: Звезда, 1940, № 10.
6. «Уходят улицы, узлы, базары…» — впервые: Знамя, 1940, № 11–12.
7. «Над Парижем грусть, вечер долгий…» — впервые под названием «Rue Cherche Midi» («Улица „Ищу полдень“»): Знамя, 1940, № 9.
8. «Как дерево в большие холода…» — впервые: Звезда, 1941, № 4.
Возле Фонтебло — впервые под названием «Иль де Франс» (провинция Франции XV в. со столицей в Париже): Знамя, 1940, № 10.
«Где играли тихие дельфины…» — впервые: 30 дней, 1940, № 9–10.
Лондон — впервые без названия: Звезда, 1941, № 4.
«Бродят Рахили, Хаимы, Лии…» — впервые: Верность.
«Всё за беспамятство отдать готов…» — впервые: Верность.
«Рядила нас в путь обида…» — впервые: (4)БП-77.
«В лесу деревьев корни сплетены…» — впервые: Звезда, 1941, № 4.
«Белесая, как марля, мгла…» — впервые: Звезда, 1941, № 4.
«Как эти сосны и строенья…» — впервые: 30 дней, 1940, № 9–10.
«Был бомбой дом как бы шутя расколот…» — впервые под названием «После бомбардировки»: Звезда, 1940, № 10.
«Опять развалины, опять…» — впервые под названием «Опять»: Звезда, 1940, № 10.
«Пред зрелищем небес, пред мира ширью…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«Кончен бой. Над горем и над славой…» — впервые: Знамя, 1940, № 9.
«Рта и надбровья смутное строенье…» — впервые под названием «Родина»: Знамя, 1940, № 9.
«Потеют сварщики, дымятся домны…» — впервые: Арион, 1999, № 3. Публикация Б. Я. Фрезинского.
«Умрет садовник, что сажает семя…» — впервые: (4)БП-77.
«Не раз в те грозные, больные годы…» — впервые: Звезда, 1941, № 4.
Воздушная тревога — впервые под названием «Ночная тревога»: Знамя, 1940, № 11–12.
«Города горят. У тех обид…» — впервые под названием «Красное знамя»: Знамя, 1940, № 11–12.
«О чем молчат Моравии леса…» — впервые (вариант «О чем молчат арденские леса…»): Новый мир, 1941, № 5.
«Замерзшее окно как глаз слепца…» — впервые: (4)БП-77.
1941 — впервые под названьем «Русская земля»: Правда, 7 декабря 1942.
Убей! — впервые без названия: Знамя, 1943, № 1.
Ненависть — впервые: Знамя, 1943, № 1.
«Знакомые дома не те…» — впервые: Стихи о войне.
«Они накинулись, неистовы…» — впервые: Ленинский путь (газета 8-й армии Волховского фронта), 7 января 1943.
«Настанет день, скажи — неумолимо…» — впервые: Стихи о войне.
«Привели и застрелили у Днепра…» — впервые под названием «Киев»: Ленинский путь, 7 января 1943.
Моряки Тулона — впервые: Стихи о войне. В 1942 г. в Тулоне французские моряки потопили свой флот, чтобы он не достался немцам, которые, нарушив соглашение о перемирии 1940 г., оккупировали Тулон с согласия коллаборационистского правительства маршала Петэна.
«Так ждать, чтоб даже память вымерла…» — впервые: Стихи о войне.
«Он пригорюнится, притулится…» — впервые: Ленинский путь, 30 марта 1943.
«Когда закончен бой, присев на камень…» — впервые: Знамя, 1943, № 1.
«С ручной гранатой иль у пушки…» — впервые: Знамя, 1943, № 1.
«Бывала в доме, где лежал усопший…» — впервые: Ленинский путь, 7 января 1943.
«Я помню — был Париж. Краснели розы…» — впервые: Ленинский путь, 7 января 1943.
В Белоруссии — впервые: Новый мир, 1944, № 8–9.
«Было в слове „русский“ столько доброты…» — впервые: Литература и искусство (М.), 19 августа 1944.
«По рытвинам, средь мусора и пепла…» — впервые: Новый мир, 1963, № 2 в тексте 5-й книги «Люди, годы, жизнь», в рассказе о поездке в 1943 году по освобожденным от немцев районам:
«Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо, связанном с причитаниями колхозницы над коровой…» (1)(2, 385).
«Над пепелищем показались звезды…» — впервые: Новый мир, 1944, № 8–9.
«Был дом обжит, надышан мной…» — впервые: (4)БП-77.
«Скребет себя на пепле Иов…» — впервые: День поэзии. М., 1962.
Россия — впервые: Новый мир, 1971, № 1.
«Есть время камни собирать…» — впервые: Дерево.
«Запомни этот ров. Ты всё узнал…» — впервые: Литература и искусство, 19 августа 1944.
«Белеют мазанки. Хотели сжечь их…» — впервые: Новый мир, 1944, № 8–9.
«Был час один — душа ослабла…» — впервые: Звезда, 1945, № 7. Об этом сюжете Эренбург дважды писал в мемуарах: в первой и пятой книгах (1, 200 и 2, 384–385).
«Гляжу на снег, а в голове одно…» — впервые: Дерево.
Европа — впервые под названием «Посвящение»: Советский патриот (Париж), 2 августа 1946.
«Были липы, люди, купола…» — впервые: Новый мир, 1944, № 8–9.
«Было в жизни мало резеды…» — впервые: Красноармеец, 1945, № 3–4.
«Слов мы боимся, и все же прощай…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
Бабий Яр — впервые без названия: Новый мир, 1945, № 1.
В гетто — впервые: Дерево.
«За то, что зной полуденной Эсфири…» — впервые: Дерево.
«Ракеты салютов. Чем небо черней…» — впервые: Новый мир, 1945, № 1.
«Мир велик, а перед самой смертью…» — впервые: Звезда, 1945, № 7.
Статуя Афродиты — впервые: Звезда, 1945, № 7.
«Когда я был молод, была уж война…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
«Я смутно жил и неуверенно…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
«Ты говоришь, что я замолк…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
«Чужое горе — оно как овод…» — впервые: Новый мир, 1945, № 1. Стихотворение полемично по отношению к риторическим строкам К. Симонова: «Чужого горя не бывает».
«Мне было многое знакомо…» — впервые: Звезда, 1945, № 7.
«Была трава, как раб, распластана…» — впервые: Дерево; открывало книгу.
В феврале 1945 — весь цикл впервые: Дерево.
1. «Будет солнце в тот день, или дождь, или снег…» — впервые: Новый мир, 1945, № 1.
2. «День придет, и славок громкий хор…» — впервые: Новый мир, 1945, № 1.
3. «Мне снился мир, и я не мог понять…» — впервые под названием «В феврале 1945»: Звезда, 1945, № 7.
4. «Прошу не для себя, для тех…» — впервые: Новый мир, 1945, № 1.
«За что он погиб? Он тебе не ответит…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
Ленинград — впервые без названия: Новый мир, 1945, № 9.
В мае 1945 — Весь цикл впервые: Дерево.
1. «Когда она пришла в наш город…» — впервые под названием «Май 1945»: Звезда, 1945, № 7.
2. «О них когда-то горевал поэт…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
3. «Она была в линялой гимнастерке…» — впервые: Новый мир, 1945, № 9.
«Умру — вы вспомните газеты шорох…» — впервые: Дерево.
«Прости — одна есть рифма к слову „смерть“…» — впервые: (4)БП-77.
«Я не завидую ни долголетью дуба…» — впервые: (4)БП-77.
«В печальном парке где дрожит зола…» — впервые: Новый мир, 1971, № 1. Эпиграф из стихотворения И. Анненского «„Расе“. Статуя мира». Написано после посещения в 1945 г. Царского Села, где много лет жил и работал И. Анненский.
Французская песня — впервые без названия: Новый мир, 1947, № 8 (в тексте романа «Буря»). Навеяно песней французских партизан-маки.
«Во Францию два гренадера…» — впервые: Эренбург И. Сочинения в 5 т. Т. 4. М., 1953.
«К вечеру улегся ветер резкий…» — впервые: Эренбург И. Сочинения в 5 т. Т. 4. М., 1953.
Франция — впервые: Новый мир. 1971, № 1.
Село Лермонтово — впервые: Новый мир, 1965, № 2 в тексте 6-й книги мемуаров «Люди, годы, жизнь». Первоначальное название «Село Тарханы», как прежде называлось нынешнее село Лермонтове Пензенской области, бывшее имение бабушки Лермонтова, где Эренбург побывал в 1948 году.
У Ржева — впервые: Литературная Россия, 29 января 1971.
«Я в море вижу не свободу…» — впервые: (4)БП-77.
«Мне всё мерещится одна…» — впервые: Новый мир, 1971, № 1.
«У маленькой речушки на закате…» — впервые: Новый мир, 1971, № 1.
«Что за дурацкая игра?..» — впервые: Новый мир, 1971, № 1.
«Быть может…» — впервые: (4)БП-77.
Стихи 1957—1958
«Был тихий день обычной осени…» — впервые: Стихи, 1959. Первое стихотворение после десятилетнего перерыва.
«Ошибся — нужно повторить…» — впервые: Стихи, 1959. Впечатление, произведенное на слушателей авторским чтением этого стихотворения, описано в рассказе И. Грековой «За проходной».
«Есть надоедливая вдоволь повесть…» — впервые: Стихи, 1959. Написано в Нагасаки.
«Я не знаю, тигра мучают ли тигры…» — впервые: (5)НБП, 2000. Стихотворение не было разрешено к печати в книге «Стихи» (1959), хотя Эренбург и пытался успокоить и обдурить цензуру, использовав для названия стандартное клише 1940–1950 гг. «Охота на ведьм», традиционно относившееся к США.
«Есть в севере чрезмерность, человеку…» — впервые: Стихи, 1959. Стихотворение обращено к последней большой любви Эренбурга — Лизлотте Мэр (1917–1983), жившей в Стокгольме.
«Я смутно помню шумный перекресток…» — впервые: Стихи, 1959.
Дождь в Нагасаки — впервые: Литературная газета, 21 июля 1959. Навеяно поездкой И. Г. и Л. М. Эренбургов в Японию в апреле 1957 г.
Товарищам — впервые: Литературная газета, 21 июля 1959.
Спутник — впервые: Стихи, 1959. Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен в СССР 4 октября 1957 г., что вызвало потрясение во всем мире. Самая возможность реализации в СССР космической программы, основанной на индустриализации страны, представлялась тогда несомненно связанной с революцией 1917 года.
«Был пятый час среди январских сумерек…» — впервые: Стихи, 1959.
Верность — впервые: Стихи, 1959.
Самый верный — впервые: Стихи, 1959.
«Да разве могут дети юга…» — впервые под названием «Северная весна»: Литературная газета, 21 июля 1959. Положено на музыку С. Никитиным.
«Вчера казалась высохшей река…» — впервые: Стихи, 1959.
В Греции — впервые: Стихи, 1959. Первоначальное название «В Дельфах»; написано под впечатлением последней поездки Эренбурга в Грецию в 1957 году.
В зоопарке Лондона — впервые: Стихи, 1959.
«Про первую любовь писали много…» — впервые: Стихи, 1959. Тема поздней любви связана с чувством Эренбурга к Лизлотте Мэр.
Сердце солдата — впервые: Стихи, 1959.
Сосед — впервые: Стихи, 1959.
«Мы говорим, когда нам плохо…» — впервые: Стихи, 1959.
«Я слышу всё — и горестные шепоты…» — впервые: Стихи, 1959.
«Ты помнишь, жаловался Тютчев…» — впервые: День поэзии, М., 1962.
«В их мире замкнутом и спертом…» — впервые: (4)БП-77.
«Однажды черт меня сподобил…» — впервые: (4)БП-77.
Париж — Токио — впервые: Новый мир, 1971, № 1.
«Летают самолеты через полюс…» — впервые (5)НБП, 2000.
Стихи 1964—1966
Летом 1964 года Эренбург завершил работу над 6-й книгой мемуаров, а в конце 1966-го он начал работать над 7-й книгой. Вот в интервале работы над прозой и были написаны стихи этого раздела. Они не датированы (разве что про стихи, напечатанные в 1965-м, можно утверждать, что они написаны не позже этого года). Цикл «Старость» был составлен Эренбургом при публикации новых стихотворений в 9-м томе Собрания сочинений (1967).
Над рукописью — впервые: Знамя, 1965, № 11.
Люди, годы, жизнь — впервые без названия: (6)СС-9, т. 9.
Сонет — впервые: Простор (Алма-Ата), 1966. № 1.
Над стихами Вийона — впервые: (6)СС-9, т. 9.
Надежда — впервые: (6)СС-9. Т. 9.
Ветхая история — впервые под названием «В костеле»: (6)СС-9, т. 9. В стихотворении очевидны аллюзии на историю Октябрьской революции 1917 года.
Сем Тоб и король Педро Жестокий — впервые: (6)СС-9, т. 9.
В римском музее — впервые: Индустриальная Караганда, 12 ноября 1965 (публикация похищенной в «Просторе» рукописи опротестована Эренбургом как незаконная); Простор (Алма-Ата), 1966, № 1. Стихотворение навеяно смещением Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. в результате политического заговора.
«Когда зима, берясь за дело…» — впервые: Индустриальная Караганда, 12 ноября 1965; Простор (Алма-Ата), 1966, № 1. Навеяно мерами руководства, сместившего Н. С. Хрущева.
Последняя любовь — впервые: Простор (Алма-Ата), 1966, № 1.
Старость
1. «Все призрачно, и свет ее неярок…» — впервые: Знамя, 1965, № 11. Обращено к Л. Мэр.
2. «Молодому кажется, что в старости…» — впервые: Знамя, 1965, № 11.
3. «У человека много родин…» — впервые без первой строфы: (6)СС-9, т. 9.
4. «Устала и рука. Я перешел то поле…» — впервые: (6)СС-9, т. 9.
5. «Позабыть на одну минуту…» — впервые: (6)СС-9, т. 9.
6. «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я…» — впервые: (6)СС-9, т. 9. Одно из самых исповедальных и жестких стихотворений Эренбурга.
7. «Из-за деревьев и леса не видно…» — впервые: Знамя, 1965, № 11.
8. «Не время жизни эта осень…» — впервые: Знамя, 1965, № 11.
9. «Свет погас…» — впервые: (6)СС-9, т. 9.
10. «Мое уходит поколенье…» — впервые: (6)СС-9, т. 9.
«Морили прежде в розницу…» — впервые: Знамя, 1965, № 11.
В самолете — впервые: Знамя, 1965, № 11.
В Копенгагене — впервые: Индустриальная Караганда, 12 ноября 1965; Простор, 1966, № 1.
Коровы в Калькутте — впервые: Знамя, 1965, № 11.
В театре — впервые: (6)СС-9, т. 9. Навеяно обстоятельствами советской истории, в частности — смещением Н. С. Хрущева.
Стихи не в альбом — впервые: Октябрь, 1988, № 7. Публикация И. И. Эренбург. Посвящено Н. С. Хрущеву.
Зверинец — впервые: Октябрь, 1988, № 7. Это стихотворение в наиболее концентрированной, сатирической и аллегорической форме выражает отношение Эренбурга к абсурду советского режима, как сталинского («тигр» — Сталин, «бегемот» — Берия и т. д.), так и последующих периодов.
В Доме литераторов — впервые: Октябрь, 1988, № 7.
Очки Бабеля — впервые: Октябрь, 1988, № 7.
«Называли нас „интеллигентщиной“…» — впервые: Октябрь, 1988, № 7.
«Конечно, есть у вас загибы…» — впервые: Октябрь, 1988, № 7.
Переводы
Из французской поэзии
Народные песни
Все переводы французских народных песен в сопровождении статьи «Старая французская песня» впервые: Москва, 1957, № 3.
Пернетта — одна из самых старых французских песен, появилась в XV веке.
По дороге по Лоррэнской — Лоррэн (Lorraine) — Лотарингия.
Рено — первоначальная редакция этого перевода напечатана Эренбургом в петроградской газете «Биржевые ведомости» 16 июля 1916 г.
Возвращение моряка — первоначальной редакцией перевода этой бретонской песни Эренбург завершил большую статью «Моряки Франции», написанную в Марселе 7 декабря 1916 г. (Биржевые ведомости, 25 декабря 1916).
Господин Ля Палисс — Эренбург писал в связи с этим переводом:
«Героические песни порой превращались в шутливые. Капитан Ля Палис был убит в битве при Павии. Его солдаты сложили песню, прославляя отвагу своего капитана: „Он за час до смерти жил / Ля Палис отважный!“ Потомкам эти строки показались смешными; они сочинили другую песенку, которая обошла всю Францию. Никто не вспоминал о храбрости капитана. Ля Палис стал олицетворением ходячей морали, общих мест, трюизмов…».
Гора — эту песню Эренбург сравнивал с поэзией Тютчева, Бодлера, Блока, Элюара.
Франсуа Вийон
Впервые переводы Эренбурга из Франсуа Вийона (1431–1463?) были изданы в Москве в 1916 году.
«Франсуа Вийона я полюбил за то, что он возвысил человеческую слабость. Он еще дышал воздухом Средневековья: запахом чумных кладбищ и церковных лилий. Но анонимному аду прежних веков он противопоставлял свой собственный, и его ад мог потягаться с раем. Он был первым поэтом гуманизма, я еще застал сумерки этого длинного дня. Много времени я провел над переводами Вийона. Я работал в библиотеке Сан-Женевьевы (Сен-…?) или в кафе: дома было чересчур холодно. Баллады Вийона сливались с рыжими корешками книг или с глазами пьяниц, блестящими, как бисер, — трудно сказать, что больше шло к ним. Я переводил для того, чтобы не писать. У меня было слишком много чувств и слишком мало опыта, я понимал, что мои стихи монотонны. Я не хотел писать, всякий раз я сопротивлялся желанию, но стихи побеждали» (Книга для взрослых. — (7)СС-8. Т. 3. С. 533–534).
В 1956 г. Эренбург вернулся к Вийону: написал новый очерк о любимом поэте и заново перевел ряд его стихотворений.
Баллада поэтического состязания в Блуа
Баллада поэтического состязания в Блуа — история этого стихотворения приводится Эренбургом в его статье о Вийоне.
Из «Большого завещания» («Я знаю, что вельможа…»)
Из «Большого завещания» («Я знаю, что вельможа…») — перевод строф XXXIX–XLI «Testament».
Из жалоб прекрасной оружейницы
Из жалоб прекрасной оружейницы — перевод строф LIII–LVI из стихотворения «Les regrets de la Belle Heaumière».
Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения
Баллада прекрасной оружейницы девушкам легкого поведения — перевод стихотворения «Ballade de la Belle Heaumière aux filles de joie».
Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады
Баллада, в которой Вийон просит у всех пощады — перевод стихотворения «Ballade de merci».
Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою…»)
Из «Большого завещания» («Я душу смутную мою…») — перевод строф LXXXV–LXXXVI из «Testament».
Послание к друзьям
Послание к друзьям — перевод стихотворения «Épître à mes amis».
Баллада истин наизнанку
Баллада истин наизнанку — перевод стихотворения «Ballade de contre-vérités».
Спор между Вийоном и его душою
Спор между Вийоном и его душою — перевод стихотворения «Le débat du coeur et du corps de Villon».
Рондо
Рондо — перевод десяти заключительных строк стихотворения «Épitaphe et rondeau».
Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожидании виселицы
Эпитафия, написанная Вийоном для него и его товарищей в ожидании виселицы — перевод стихотворения «L’Epitaphe de Villon ou „ballade des pendus“».
Баллада примет
Баллада примет — перевод стихотворения «Ballade des menus propos».
Четверостишие, которое написал Вийон, приговоренный к повешению
Четверостишие, которое написал Вийон, приговоренный к повешению — перевод стихотворения «Quatrain».
Пьер де Ронсар
О Пьере де Ронсаре (1524–1585) Эренбург писал в 1956 году:
«Сорок лет назад я зачитывался Ронсаром и перевел тогда один из его сонетов, обращенных к Елене <…> Радость жизни, которую вернуло Франции Возрождение, была связана с мыслями о быстротечности всего, с легкой печалью, свойственной искусству Древней Греции. Однако по своему душевному складу Ронсар был поэтом полудня, лета, душевного веселья».
В романе «Падение Парижа» приводится строфа другого стихотворения Ронсара в переводе Эренбурга:
Признает даже смерть твои владенья, Любви не выдержит земля, Увидим вместе мы корабль забвенья И Елисейские поля… (7)(СС-8. Т.5. С. 285)«Старухой после медленного дня…» — перевод стихотворения «Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle…».
Жоашен Дю Белле
Жоашен (Иоахим) Дю Белле (1522–1560) — самый любимый Эренбургом поэт французского Возрождения. Вместе со своим другом Ронсаром Дю Белле возглавил новую школу французских поэтов, названную «Плеядой».
«Величье Ронсара как бы мешало рассмотреть тихого и чрезвычайно скромного Дю Белле. <…> Дю Белле был одним из первых французских поэтов, выразивших в стихах себя, а люблю я его потому, что в его стихах нахожу многое из того, что сам прочувствовал и о чем думал» (7)(СС-8. Т. 6. С. 102–103).
Первый перевод из Дю Белле Эренбург напечатал в «Биржевых ведомостях» еще 18 сентября 1916 г. Новые переводы сонетов Дю Белле выполнены им в 1957 году.
Поль Верлен
Поль Верлен (1844–1896) — французский поэт, которому Эренбург посвятил стихотворение «Верлен в старости». Рассказывая о Париже 1912 года, Эренбург написал:
«впервые я напал на томик Верлена; его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван: „Здесь всегда сидел господин Верлен…“»
(1, 81).Переводы из Верлена выполнены Эренбургом в 1914 году для антологии «Поэты Франции: 1871–1913. Переводы И. Эренбурга»; в предисловии к ней, говоря о том, что «<18>70—80-е годы являются для французской поэзии эпохой истинного возрождения», Эренбург первым назвал имя Верлена. Сказав, что переводить стихи французов для него «высокое наслаждение», Эренбург воскликнул:
«Думать, что, быть может, за неловкими и бедными строками читатель почует слезы Верлена, опьяненного иным миром, <…> — как это радостно!»
В антологии (Верлен, вслед за Малларме, открывал ее) было напечатано восемь стихотворений Верлена, которым Эренбург предпослал прочувствованный биографический очерк о «бедном Лелиане».
Сердце тихо плачет — перевод стихотворения «Il pleure dans mon coeur…».
Андре Спир
Проживший почти 100 лет французский поэт Андре Спир (1868–1966) был одним из первых поэтов и теоретиков верлибра. Он остается неизвестным в России, где переведены только три его стихотворения (переводы Эренбурга в его антологии «Поэты Франции»). Предваряя их публикацию кратким предисловием, Эренбург написал:
«Среди французских поэтов А. Спир занимает совершенно особенное место. Еврей по происхождению и по душе, вечно неудовлетворенный, блуждающий и мятежный, он кажется каким-то иностранцем, варваром, случайно вошедшим в светский салон».
См. также статью «Святое „нет“» в разделе «О поэзии и поэтах».
Франции — перевод стихотворения «А la France» из книги Спира «Poèmes juifs».
Гийом Аполлинер
Для антологии «Поэты Франции» Эренбург перевел три стихотворения французского поэта Гийома Аполлинера (1880–1918). Тогдашнее его отношение к поэзии Аполлинера было смешанным: «Пресыщенный всем, поэт напрасно старается развлечь себя грудой самых неожиданных и ярких образов, с безверьем и пустотой он глядит на всё окружающее, на жизнь, на людей и даже на Христа. Нам дороги эти, быть может, пустые (как и наши души) стихи, эти судорожные зевки усталой души» (Поэты Франции. С. 108). В «Книге для взрослых» Эренбург писал:
«Гийом Аполлинер нес в себе смуту и лирическое начало прошлого столетия; его жизнерадостность прерывалась внезапными паузами; он был последним из „проклятых поэтов“» (7)(СС-8. Т. 3. С. 495).
В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Эренбург рассказал, как в начале 1914 года познакомился с Аполлинером в «Ротонде»:
«Легко догадаться, как я волновался. Я ничего не мог выговорить и даже не следил за беседой, а на Аполлинера глядел, видимо, с таким восхищением, что он, смеясь, сказал: „Я не красивая девушка, а мужчина средних лет“… Стихи Аполлинера мне казались чересчур гармоничными…».
Но итог его раздумий вполне определенен:
«А к стихам Аполлинера я был несправедлив: он был не только большим поэтом, но и человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью древних европейских дорог» (1,149).
Аполлинеру Эренбург посвятил не только главу в мемуарах, но и статью («О Гийоме Аполлинере» — Москва, 1965, № 7), в которой написал, что рефрен стихотворения «Мост Мирабо», «непереводимый на другой язык, не может оставить в покое человека, прочитавшего оригинал, настолько он прост, точен, поэтичен и печален»; в мемуарах Эренбург всё же привел в своем переводе отрывок из этого стихотворения (2, 253).
Критика не отметила переводов Эренбурга из Аполлинера — их отметили молодые читатели. Леонид Мартынов вспоминал, как он «наткнулся на шершавую квадратную книгу», в которой прочел перевод «неведомого еще мне тогда Ильи Эренбурга из неведомого мне Аполлинера»:
«Эти строки, прочтенные темным слякотным вечером в годы германской войны, когда старшие толковали о смертях, поражениях и изменах, как-то меня утешили, пришлись мне по вкусу и в то же время напомнили мне чем-то Маяковского <…> И мне кажется, что это детское восприятие было точным» (Мартынов Л. Воздушные фрегаты. М., 1974. С. 22–23).
От лица следующего поколения русских поэтов, участников Отечественной войны, Борис Слуцкий написал:
«Антология „Поэты Франции“ нашла свое место на книжных полках нескольких поколений русских поэтов от Маяковского до Николая Майорова, Павла Когана и Михаила Кульчицкого. Двадцатилетний Илья Эренбург сделал то, что не довелось сделать несравненно более опытным в то время Валерию Брюсову и Федору Сологубу. В толпе двадцатилетних, как и он сам, французских поэтов Илья Эренбург отличил и перевел на русский язык именно тех, кто стал будущим французской поэзии, — Аполлинера, Сальмона, Вильдрака» (8)(ТД. С. 10).
«Много погибло прекрасных грёз…»
«Много погибло прекрасных грёз…» — стихотворение без названия из цикла «La chanson du mal aimé» (Песнь несчастного в любви) в книге «Alcools» (Алкоголи. 1913); следующие два стихотворения также из этой книги).
Крокусы
Крокусы — перевод стихотворения «Les colchiques» (Безвременник, т. е. шафран, луговая разновидность крокусов). Первая строфа печатается в новой редакции 1957 года.
«Я смело взглянул назад…»
«Я смело взглянул назад…» — перевод второго стихотворения без названия из цикла «Les fiançailles» (Обручение), посвященного Пикассо.
Робер Деснос
Стихи французского поэта Робера Десноса (1900–1945) Эренбург перевел для главы о нем в мемуарах (впервые — Новый мир, 1961, № 10, с. 137–138). Деснос начинал как ярый приверженец сюрреализма, но в 1930 году с сюрреализмом порвал, так что ссора Эренбурга в середине 1930-х с вождем сюрреалистов Бретоном не повлияла на его отношения с Десносом (они познакомились в 1927-м; друзьями не стали, но время от времени встречались). В мемуарах Эренбург процитировал своего друга Поля Элюара, полностью с ними согласившись:
«Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый из всех…»
(1, 540–541).Куплеты улицы Сен-Мартен
Куплеты улицы Сен-Мартен — из книги «Etat de veille» (Бодрствование, 1943); написаны в 1942-м в оккупированном гитлеровцами Париже, где 22 февраля 1944 г. Десноса арестовало гестапо. На парижской улице Сен-Мартен Деснос родился.
«Взгляни — у бездны на краю трава…»
«Взгляни — у бездны на краю трава…» — сонет из посмертной книги «Calixto, suivi de Contrée» (Каллисто, 1962); написан в концлагере.
«Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья…»
(1,545).Из поэзии Латинской Америки
Пабло Неруда
Пабло Неруда (1904–1973) — чилийский поэт и политический деятель, лауреат Нобелевской премии, друг Эренбурга. Их знакомство состоялось в Мадриде весной 1936 года. В 1938-м Эренбург перевел книгу стихов Неруды «Испания в сердце», и этот перевод был издан в Москве в 1939 году. В начале 1950-х Эренбург перевел главу книги Неруды «Всеобщая песнь» (М., 1954). Несколько книг Неруды вышли в СССР с предисловиями Эренбурга; Неруде посвящена глава в 6-й книге мемуаров Эренбурга. В свою очередь, Неруда не раз писал об Эренбурге (в 1942-м в Мексике, в воспоминаниях «Признаюсь: я жил», вышедших посмертно; русский перевод: М., 1978 и др.).
«Очарование поэзии Неруды в органической связи слов, образов, чувствований; они не нуждаются ни в корсете стихотворного размера, ни в бубенцах рифм», —
написал Эренбург в предисловии к книге Неруды «Плаванья и возвращения» (М., 1964).
Мадрид (1936) — перевод из книги «España en el corasón» (Испания в сердце).
Объяснение — перевод из книги «España en el corasón».
Мадрид (1937) — перевод из книги «España en el corasón». Печатается по изданию: (6)СС-9. Т. 6. М., 1965. С. 658–660.
Николас Гильен
Николас Гильен (1902–1989) — кубинский поэт. Эренбург познакомился с Гильеном во время гражданской войны в Испании. Его стихи он переводил в тяжелое для себя время — в начале 1949 года. В мемуарах Эренбург рассказывает, как встретился с Гильеном на Парижском конгрессе сторонников мира в мае 1949-го:
«После пресс-конференции я пошел с Гильеном в маленький ресторан на левом берегу Сены. В феврале я перевел десяток коротких стихотворений Гильена. <…> Мы говорили о сути поэзии — о непонятном притяжении и отталкивании слов…»
(3, 133).В 1952-м в Москве вышла книга стихов Гильена с предисловием Эренбурга. Переводы Эренбурга перепечатывались во всех сборниках стихов Гильена, выходивших в СССР. После смерти Эренбурга Гильен написал о нем воспоминания (см.: Гильен Н. Избранное. М., 1982. С. 447–449).
«В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали; слава для него — елка с блестящими звездами и хлопушками. <…> Его стихи очень музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов»
(3,212).Полковники из терракоты — впервые: Знамя, 1949, № 8. Перевод второго стихотворения «Coroneles de terracota…» поэмы «West-Indies Ltd» (1934).
Моя родина кажется сахарной — впервые: В борьбе за мир. М.-Л., 1949. С. 75. Перевод стихотворения без названия из книги «E son entero» (Все песни. 1947).
Когда я пришел на эту землю — из книги «El son entero» Печатается по изданию: И. Эренбург. (6)СС-9. Т. 6. М., 1965. С. 622–623.
Венесуэла — впервые: Знамя, 1949, № 8. Перевод стихотворения «Barvolento (Venezuela)» из сборника «El son entero» (1947).
О поэзии и поэтах
Данте — величие поэзии
Данте — величие поэзии — впервые под заголовком «О Данте»: Литературная газета, 30 октября 1965; затем: Курьер Юнеско, 1966, № 1 (напечатано без купюр). Статья представляет собой текст выступления Эренбурга 28 октября 1965 во Дворце Юнеско в Париже на торжественном вечере, посвященном 700-летию Данте.
Поэзия Франсуа Вийона
Поэзия Франсуа Вийона — впервые: Иностранная литература, 1957, № 1. Вошло в книгу Эренбурга «Французские тетради» (М., 1958). Стихи приводятся в переводе Эренбурга.
Старая французская песня
Старая французская песня — впервые под заголовком «Песни Франции»: Москва, 1957, № 3. Вошло в книгу Эренбурга «Французские тетради». Перевод песен Эренбурга.
Поэзия Иоахима дю Белле
Поэзия Иоахима дю Белле — впервые: Эренбург И. Французские тетради. М., 1958. Он родился в 1525 году — Ошибка: дю Белле родился в 1522 году.
Поль Верлен и Артюр Рембо
Поль Верлен и Артюр Рембо — впервые: Поэты Франции. 1871–1913. Переводы И. Эренбурга. Париж, 1914. Два очерка, предварявшие в этой антологии публикацию стихотворных переводов каждого из поэтов.
О Гийоме Аполлинере
О Гийоме Аполлинере — впервые: Москва, 1965, № 7. Аполлинеру посвящена 22-я глава в 1-й книге мемуаров Эренбурга.
Святое «нет»
Святое «нет» — впервые: Камена, Харьков, 1919, № 2 (перепечатана: Борис Фрезинский. Илья Эренбург в Киеве (1918–1919). // Минувшее, СПб., 1997, № 22). Стихи цитируются в переводе Эренбурга.
Портреты русских поэтов
Три портрета: Бальмонта, Блока и Маяковского впервые опубликованы в газете «Слово» (Тифлис) соответственно 17, 24 и 31 октября 1920 г. Остальные — в книге: Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Берлин, «Аргонавты». 1922. Выехав в марте 1921 г. за границу, Эренбург уже 1 апреля написал в Стокгольм историку литературы и издателю Е. А. Ляцкому, предложив издать пять подготовленных им в России книг и, в частности: «„Портреты русских поэтов“ (Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Вяч. Иванов, Сологуб, Кузмин, Маяковский, Ахматова, Есенин, Цветаева, Пастернак, Балтрушайтис, Мандельштам). Статьи <и> очерки поэтов-людей. 2–3 листа. Рукопись» (П-1, с. 105–106). Но предложение принято не было, и книга вышла в берлинском издательстве «Геликон» (вместо неизвестного портрета Кузмина в нее вошел портрет Волошина); издали ее в виде антологии: каждый «портрет» сопровождался несколькими стихотворениями «портретируемого», отобранными Эренбургом. К моменту написания портретов Эренбург не был знаком лично только с Ахматовой (они познакомились в 1924-м) и с Блоком — именно эти портреты отличает особая сердечность тона.
Анна Андреевна Ахматова
Анна Андреевна Ахматова (1889–1966). Эренбург предполагал посвятить Анне Ахматовой 32 главу в 7-й книге мемуаров «Люди, годы, жизнь», но успел написать лишь 20 глав. Подробнее см.: Б. Фрезинский. Эренбург и Ахматова: взаимоотношения, встречи, письма, автографы, суждения. // Вопросы литературы, 2002, № 2. С. 243–291.
Юргис Казимирович Балтрушайтис
Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–1944). О русском и литовском поэте-символисте Ю. Балтрушайтисе, с которым Эренбург познакомился в Москве в 1918 году, см. в 8 главе 2-й книги мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь». С 16 сентября 1920 г. Балтрушайтис был главой специальной миссии Литвы в Москве, а с 21 июня 1922 г. — послом Литвы в Москве (в начале 1939 года оставил этот пост, выйдя на пенсию).
Константин Димитриевич Бальмонт
Константин Димитриевич Бальмонт (1867–1942). Эренбург познакомился с Бальмонтом в Париже в 1911 году, ему посвящена 15 глава в кн. 1 «Люди, годы, жизнь».
Александр Александрович Блок
Александр Александрович Блок (1880–1921) — самый любимый и почитаемый Эренбургом поэт того времени. В свою очередь, Блок, которому Эренбург присылал из Парижа свои книги стихов, сказал издателю С. М. Алянскому, что из тех молодых поэтов, которых он знает, наиболее талантливым ему кажется Илья Эренбург (см. (10)П-3, с. 306).
Валерий Яковлевич Брюсов
Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924). Эренбург посвятил Брюсову 2 главу 2-й книги «Люди, годы, жизнь»; переписку Брюсова и Эренбурга см.: (9)П-1 и (10)П-3.
Андрей Белый
Андрей Белый (1880–1934). Эренбург посвятил А. Белому 4 главу кн. 3 «Люди, годы, жизнь».
Максимилиан Александрович Волошин
Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932). Волошину посвящена 19 глава кн. 1 «Люди, годы, жизнь». Переписку Эренбурга с Волошиным см. (9)П-1 и (10)П-3. В «портрете» читаются следы коктебельской ссоры Эренбурга с Волошиным в 1920 году и, вместе с тем, объективная оценка уникальной позиции Волошина в Гражданскую войну.
Сергей Александрович Есенин
Сергей Александрович Есенин (1895–1925). Есенину посвящена 23 глава кн. 2 «Люди, годы, жизнь».
Вячеслав Иванович Иванов
Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949). — Эренбург познакомился и подружился с Вяч. Ивановым и его ученицей В. Меркурьевой в 1918 году в Москве; он высоко ценил «Зимние сонеты» Вяч. Иванова.
Осип Эмилиевич Мандельштам
Осип Эмилиевич Мандельштам (1891–1938). Мандельштаму посвящена 14 глава кн. 2 «Люди, годы, жизнь»; см. также: Б. Фрезинский. Эренбург и Мандельштам (сюжет с долгим последействием: канва литературных и личных отношений и встреч; жёны, борьба за воскрешение поэзии Мандельштама в СССР) // Вопросы литературы, 2005, № 2, с. 275–318.
Владимир Владимирович Маяковский
Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930). Маяковскому посвящена 6 глава кн. 2 «Люди, годы, жизнь».
Борис Леонидович Пастернак
Борис Леонидович Пастернак (1890–1960). Пастернаку посвящена 5 глава кн. 2 «Люди, годы, жизнь».
Федор Сологуб
Федор Сологуб (1863–1927). Сологуб Федор Кузьмич (наст, фамилия Тетерников) — поэт и прозаик. С Федором Сологубом Эренбург познакомился в Париже в 1912 году.
Марина Ивановна Цветаева
Марина Ивановна Цветаева (1892–1941). Цветаевой посвящена 3 глава кн. 2 «Люди, годы, жизнь». Письма М. Цветаевой к Эренбургу см. (10)П-3.
Поэзия Марины Цветаевой
Поэзия Марины Цветаевой — впервые: Альманах «Литературная Москва». Сборник второй. М., 1956 (напечатано как вступительная статья к первой посмертной публикации стихов Цветаевой). В примечании к публикации редакция альманаха сообщала, что статья Эренбурга будет помещена в качестве предисловия к подготовленной Гослитиздатом к печати книге стихов Цветаевой. Однако книга была запрещена и вышла лишь в 1961 году без предисловия Эренбурга. Характерен спор Л. К. Чуковской с А. А. Ахматовой в 1957 году по поводу запрета книги Цветаевой: Ахматова полагала, что статья Эренбурга напугала власти и теперь Цветаеву не издадут; Чуковская считала, что «благодаря „Литературной Москве“ голос Марины Ивановны, столько десятилетий беззвучный в России, все-таки прозвучал» (Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. М., 1997. С. 256).
<Предисловие к публикации стихов Осипа Мандельштама>
<Предисловие к публикации стихов Осипа Мандельштама> — впервые без названия: Простор (Алма-Ата), 1965, № 4. 7 мая 1965 г. главный редактор «Простора», где перед тем из Москвы была запрещена публикация двух глав мемуаров Эренбурга, писал ему:
«Большое, большое спасибо Вам за проникновенные строки Ваши об Осипе Эмильевиче <…> И о стихах Мандельштама, и о Вашей вводной статье к ним мы тут до поры до времени помалкивали, и в Москве, видимо, об этом не ведали. Ну, а с местными надзирателями мы тут полюбовно поладили. Словом, стихи О. Э. в номере, и мы, и наши читатели тому бесконечно рады».
(см. (10)П-3).О стихах Бориса Слуцкого
О стихах Бориса Слуцкого — впервые (с редакционной правкой): Литературная газета, 28 июля 1956; по не правленным редакцией гранкам и с «Примечанием публикатора» — об их истории впервые: «Борис Слуцкий: воспоминания современников», СПб., 2005. Многие стихи Слуцкого приводились в этой статье впервые. С Б. А. Слуцким (1919–1986) последние годы Эренбурга связывали очень дружеские отношения.
О поэзии Поля Элюара
О поэзии Поля Элюара — впервые: в качестве предисловия к сборнику Поль Элюар. Стихи. М., 1958 — вошло в «Французские тетради» Эренбурга. В послевоенные годы с французским поэтом Полем Элюаром (1895–1952) Эренбурга связывали несомненно дружеские отношения.
Примечания
1
Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. Т. 1. М., Текст, 2005. С. 15–16,18–19; при дальнейших ссылках на это издание указываются лишь номер тома и страницы. — Здесь и далее примечания Б. Фрезинского, кроме отмеченных особо.
(обратно)2
1, 34. — здесь и далее см. примеч. 1.
(обратно)3
Комсомольская Летопись. М., 1927, № 5–6. С. 81.
(обратно)4
Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества. СПб., 1993. Т. 1. С. 26.
(обратно)5
Почта Ильи Эренбурга. Я слышу всё… 1916–1967. М., Аграф, 2006. С. 448.
(обратно)6
Литературная Россия. М., 1924, С. 376.
(обратно)7
И. Эренбург. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. М., 1991. С. 446. (Далее — СС-8.)
Здесь и далее см. обозначения, принятые в разделе «Библиографические данные об изданиях Ильи Эренбурга, на которые имеются ссылки…»
(обратно)8
1, 76.
(обратно)9
Подробнее см. об этом: Фрезинский Б. Всё это было в XX веке. Глобус-Пресс, 2006. С. 267–282.
(обратно)10
В книге Рубашкина А. «Илья Эренбург» (Л., 1990. С. 19) сказано, что еще в 1911 г. на афишах выступлений И. Эренбурга значилось: «Группа содействия РСДРП» — ошибка в том, что, как и многие, А. Рубашкин перепутал кузена писателя И. Л. Эренбурга, художника и социал-демократа, жившего тогда в Париже и читавшего лекции о современной живописи в фонд помощи РСДРП, с И. Г. Эренбургом, таких лекций не читавшим.
(обратно)11
СС-8. Т. 3. С. 532.
(обратно)12
Там же, с. 531.
(обратно)13
См., например, 1, 74–75.
(обратно)14
Лазарев Л. Защищая культуру. // СС-8. Т. 1. С. 12.
(обратно)15
1, 79.
(обратно)16
Брюсов и его корреспонденты. Лит. Наследство. Т. 85. Кн. 2. М., 1994 (дальше — БиК). С. 526.
(обратно)17
См. его предисловие к книге Ахматовой «Вечер» (1912).
(обратно)18
«Стихи И. Эренбурга» (1918).
(обратно)19
БиК. С. 526.
(обратно)20
Войтоловский Л. // Киевская мысль, 1 октября 1910.
(обратно)21
1, 80–81.
(обратно)22
Подлинники писем хранятся в фонде Б. И. Николаевского в Гуверовском институте, США; ксерокопии предоставлены Дж. Рубенстайном.
(обратно)23
БиК. С. 526.
(обратно)24
5 июня 1911 г.; БиК. С. 527.
(обратно)25
3 сентября 1911; БиК. С. 527.
(обратно)26
1, 81.
(обратно)27
Гиперборей, 1912, № 3.
(обратно)28
Русская мысль, 1911, № 2. С. 234.
(обратно)29
Утро России. 24 августа 1913.
(обратно)30
1, 81.
(обратно)31
Это отрывок из главы мемуаров «Люди, годы, жизнь» о Т. И. Сорокине (1,106), которую Эренбург по просьбе Е. О. Шмидт-Сорокиной не стал печатать; впервые опубликована в 1990 г.
(обратно)32
1, 85.
(обратно)33
Литературная Россия. М., 1924. С. 377.
(обратно)34
Там же.
(обратно)35
Речь, 31 октября 1916.
(обратно)36
Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 357–358.
(обратно)37
Илья Эренбург. Дай оглянуться… Письма 1908–1930. М., Аграф, 2004. С. 57.
(обратно)38
Там же. С. 62.
(обратно)39
Звезда, 1996, № 2. С. 170.
(обратно)40
БиК. С. 532.
(обратно)41
СС-8. Т. 3. С. 531.
(обратно)42
1, 150.
(обратно)43
Запись воспоминаний Б. А. Букиник (Киев, 1976, собрание автора).
(обратно)44
Илья Эренбург. Дай оглянуться… Письма 1908–1930. М., Аграф, 2004. С. 64.
(обратно)45
Там же. С. 65, 66.
(обратно)46
Русская мысль, 1911, № 2.
(обратно)47
Русские ведомости, 16 июля 1916.
(обратно)48
Литературная Россия. М., 1924. С. 377–378.
(обратно)49
Там же. С. 378.
(обратно)50
Камена. Харьков, 1919, № 2.
(обратно)51
СС-8. Т. 3. С. 539.
(обратно)52
1, 251.
(обратно)53
Илья Эренбург. Дай оглянуться… Письма 1908–1930. М., Аграф, 2004. С. 91.
(обратно)54
Литературная Россия. М., 1924. С. 378; подробнее см. Фрезинский Б. Илья Эренбург в Киеве (1918–1919). // Минувшее (СПб.), 1997, № 22. С. 248–335.
(обратно)55
Литературная Россия. М., 1924. С. 378.
(обратно)56
1, 320.
(обратно)57
Крымский альбом. 1998. Феодосия — Москва, 1998, С. 155.
(обратно)58
1, 321.
(обратно)59
Город. Пг., 1923. С. 101.
(обратно)60
Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 314.
(обратно)61
1, 461.
(обратно)62
Там же.
(обратно)63
См. об этом Фрезинский Б. Илья Эренбург и Николай Бухарин. // Вопросы литературы, 1999, № 1.
(обратно)64
СС-8. Т. 3. С. 542.
(обратно)65
Там же. С. 540.
(обратно)66
1, 610.
(обратно)67
18 мая 1934.
(обратно)68
СС-8. Т. 3. С. 542.
(обратно)69
Там же. С. 559.
(обратно)70
Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. М., 1995. С. 381.
(обратно)71
Илья Эренбург. На цоколе историй… Письма 1931–1967. М., Аграф, 2004. С. 277.
(обратно)72
Слуцкий Б. О других и о себе. М., 1991. С. 8.
(обратно)73
2, 241.
(обратно)74
Там же. С. 192.
(обратно)75
Октябрь, 1988, № 7. С. 160–163.
(обратно)76
РГАЛИ. Ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 3641.
(обратно)77
Маш. копия, собрание автора.
(обратно)78
Кедрина З. Герой справедливой войны. // Октябрь, 1941, № 4.
(обратно)79
2, 244.
(обратно)80
Судоплатов П. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 404.
(обратно)81
2, 264.
(обратно)82
Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1990. С. 390.
(обратно)83
2, 384.
(обратно)84
2, 383.
(обратно)85
Решин Л. Товарищ Эренбург упрощает. // «Новое время», 1994, № 8; Фрезинский Б. Почерк вождя. // Невское время, 14 апреля 1995.
(обратно)86
3, 276.
(обратно)87
Вопросы литературы, 1999. № 3. С. 292.
(обратно)88
Илья Эренбург. На цоколе историй… Письма 1931–1967. М., Аграф, 2004. С. 434.
(обратно)89
ababbcbc
(обратно)90
Литературная газета, 28 июля 1956.
(обратно)91
3, 415.
(обратно)92
3, 420.
(обратно)93
3, 416.
(обратно)94
Автор этих строк А. С. Кушнер. — Ред.
(обратно)95
Почта Ильи Эренбурга. Я слышу всё… 1916–1967. М., Аграф, 2006.С. 417.
(обратно)96
В статье процитирован вариант стихотворения, не опубликованный при жизни И. Г. Эренбурга. — Б. Ф.
(обратно)97
Октябрь, 1988, № 7. С. 163.
(обратно)98
Из письма А. С. Кушнера к автору статьи от 27 февраля 1998.
(обратно)99
Швабы — германское племя, жившее в Швабии (нынешний Швейцария и Бавария), распавшейся во второй половине XIII века.
(обратно)100
Брюгге — бельгийский город-музей, возник в VII–IX вв.
(обратно)101
Тюльери (Тюильри) — парк и дворец в Париже, резиденция французских королей.
(обратно)102
Король безропотно взошел — Людовик XVI, казненный в 1793 г.
(обратно)103
Вандея — департамент на западе Франции, главный очаг мятежа роялистов в 1793 г.
(обратно)104
Сан-Миниато — холм на левом берегу реки Арно в окрестностях Флоренции.
(обратно)105
В районе Остоженки, в Савеловском (ныне Потемкинский) переулке (д. 7, кв. 82) жила семья Эренбурга.
(обратно)106
Навьи чары — роман-трилогия Ф. Сологуба.
(обратно)107
Девичье поле — район Москвы, где расположен Новодевичий монастырь.
(обратно)108
Франсис Жамм (1868–1938) — французский поэт.
(обратно)109
Реймский собор — памятник французской готики XIII в. был варварски разрушен немецкой артиллерией в 1914 году.
(обратно)110
Пьяцца ди Спанья — площадь Испании в Риме (неподалеку находится дом, где жил Гоголь).
(обратно)111
Франсуа Вийон (1431–1463?) — французский поэт.
(обратно)112
На твоем завещании / Три повешенных. Имеется в виду гравюра на первом печатном издании произведений Вийона, включавшем его «Большое завещание»; воспроизведена на обложке сборника переводов Эренбурга из Вийона (М., 1916).
(обратно)113
Успение Богородицы 15 августа (по старому стилю).
(обратно)114
Шарль Пеги (1873–1914) — французский поэт, погиб в сражении на реке Марне в сентябре 1914 г.
(обратно)115
…малая птичка / будет клевать мою печень — намек на миф о Прометее.
(обратно)116
Екатерина Оттовна Шмидт (1889–1977) — первая жена Эренбурга, мать его дочери Ирины.
(обратно)117
Тихон Задонский — епископ Воронежский Тихон, причисленный в 1885 г. к лику святых, в 1781–1783 гг. жил в Задонском монастыре.
(обратно)118
Антуан Ватто (1684–1721) — французский живописец, мастер галантных бытовых сюжетов.
(обратно)119
Виллы Фраскати — расположены во Фраскати неподалеку от Рима.
(обратно)120
Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) — философ, экономист.
(обратно)121
Николай Александрович Бердяев (1874–1948) — философ.
(обратно)122
Тихон Иванович Сорокин (1879–1959) — литератор, искусствовед, друг Эренбурга, второй муж Е. О. Шмидт.
(обратно)123
Ленотра и смотра — рифмы из стихотворения Инбер «Раны Версаля».
(обратно)124
…не хмельную печаль, не чужое вино… — намек на образы первой книги Инбер «Печальное вино» (1914), которую Эренбург помогал выпустить, когда Инбер уехала лечиться.
(обратно)125
Вера Михайловна Инбер (1890–1972) — поэтесса, знакомая Эренбурга по Парижу.
(обратно)126
Как сросся ты со своей неуклюжей собакой — Эренбург вспоминал: «Скульптор Цадкин появлялся в рабочей спецовке, его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом» (9)(1,144).
(обратно)127
Осип Цадкин (1890–1967) — французский скульптор, выходец из России, парижский приятель Эренбурга.
(обратно)128
Маревна — Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская (1892–1984) — художница и мемуаристка, парижская подруга Эренбурга, Волошина, Савинкова, Диего Риверы и Цадкина.
(обратно)129
В. Ропшин — литературный псевдоним Бориса Викторовича Савинкова (1879–1925).
(обратно)130
Семьдесят пять — калибр пушки.
(обратно)131
Ars (лат.) — искусство.
(обратно)132
Тихон Сорокин — см. примеч. 122 к стихотворению «Т<ихона> С<орокина>» («Ручные тени»).
(обратно)133
«И презревши все прегрешения» — из молитвы об умерших.
(обратно)134
Озирис (Осирис) в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы.
(обратно)135
Так делили твои ризы воины. Согласно Евангелию, воины, распявшие Христа, разделили между собой его одежду.
(обратно)136
Тернии — терновый венок, надетый Христу перед казнью.
(обратно)137
Ты простил того… кто тебя целовал. Имеется в виду Иуда Искариот, один из двенадцати учеников Христа, предавший его в руки первосвященников за тридцать сребреников со словами: «Кого я поцелую, Тот и есть» (Мф. 26:48).
(обратно)138
Пугач — Емельян Иванович Пугачев (1742–1775), предводитель крестьянского восстания 1773–1775 гг.
(обратно)139
Болото — Болотная площадь в Москве (ныне площадь Репина), на которой в январе 1775 г. при большом стечении народа Пугачев был казнен четвертованием.
(обратно)140
Сань — город в Австро-Венгрии.
(обратно)141
Савл — имя апостола Павла в пору, когда он был еще рьяным гонителем христиан.
(обратно)142
Бедные куцые девушки. Имеется в виду женский батальон смерти, охранявший Зимний дворец.
(обратно)143
Плакал патриарх. Имеется в виду патриарх Московский и всея Руси Тихон (1865–1925), призывавший в годы Гражданской войны к прекращению кровопролития.
(обратно)144
Наполеоновы дни — дни занятия Москвы Наполеоном в 1812 году.
(обратно)145
Гороховая — улица в Петрограде, где располагалась ВЧК.
(обратно)146
Циммервальд — имеется в виду проходившая в 1915 году в Циммервальде (Швейцария) Международная социалистическая антивоенная конференция.
(обратно)147
Когда те делили уж клочья / Ее омраченных риз. Большевики, победившие в Москве, сравниваются с воинами, распявшими Христа.
(обратно)148
«Вставай! подымайся…» — начальные слова припева «Новой песни» П. Л. Лаврова («Отречемся от старого мира…», на мотив «Марсельезы»).
(обратно)149
Лишь когда запоет труба Архангела — то есть в день Страшного суда.
(обратно)150
И ослиные копыта прозвенят на площади — намек на пришествие Иисуса Христа, въехавшего в Иерусалим на осле (Мф. 21:7).
(обратно)151
А Иринка кормит Волчиху… — мысленное обращение к дочери Ирине, находившейся тогда с матерью Е. О. Шмидт и отчимом Т. И. Сорокиным на Северном Кавказе (ее судьба была Эренбургу неизвестна).
(обратно)152
И Господь уж привык в своей кассе / К бесконечным хвостам Карамазовых. Речь идет о намерении Ивана Карамазова вернуть «билет» Творцу.
(обратно)153
У Вердена лимонад в киосках. Имеется в виду превращение места кровопролитных боев 1914–1918 гг. в туристический центр.
(обратно)154
Сивиллы — легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами.
(обратно)155
Святого Эльма огоньки — свечение электрических разрядов вблизи высоких предметов: башен, мачт и т. д.
(обратно)156
Исав — старший из близнецов и наследник рода, продавший свое первородство младшему — Иакову — за чечевичную похлебку.
(обратно)157
Бест (перс.) — право убежища в помещении иностранных посольств.
(обратно)158
Суламита (Суламифь) — возлюбленная царя Соломона, который не мог добиться ее любви: она тосковала о своем возлюбленном — пастухе (Песнь Песней).
(обратно)159
Весталка — жрица Весты, римской богини домашнего очага, олицетворение девственности.
(обратно)160
Дикий шкипер — император Петр I.
(обратно)161
Фьезоле — городок в окрестностях Флоренции, где Эренбург впервые побывал летом 1909 г. вместе с Е. Г. Полонской.
(обратно)162
Вестминстерское сердце скрипнуло сердито. Речь идет о часах на здании английского парламента в Вестминстере.
(обратно)163
Тустеп — танец, модный в начале 1920-х гг.
(обратно)164
Леон Равашоль (1860–1892) — французский анархист.
(обратно)165
Пикардская земля — Пикардия, провинция на севере Франции.
(обратно)166
Оглушенный царь метался за смуглянкой. Возможно, имеется в виду царь Соломон, воспылавший любовью к Суламифи.
(обратно)167
Мессина — порт на острове Сицилия, разрушенный землетрясением в 1908 году.
(обратно)168
Агарь — египтянка, рабыня Сарры и наложница Авраама, родила Измаила, родоначальника бедуинского племени агарян.
(обратно)169
Филистимляне — древний народ смешанного семитско-египетского происхождения, населявший юго-западный берег Палестины и постоянно враждовавший с израильтянами; филистимлянского великана Голиафа победил, бросив в него камень из пращи, юноша Давид, ставший легендарным израильским царем.
(обратно)170
«Свободен от постоя» — формула, освобождавшая владельца частного дома от временного вселения военных «на постой».
(обратно)171
…Но есть ладони — много губ / Им заменяло гвозди — намек на распятие.
(обратно)172
Кремлевского ученого монгола — намек на Ленина.
(обратно)173
«Ундервуд» — марка пишущей машинки.
(обратно)174
Арагон — историческая область на северо-востоке Испании с центром в г. Сарагоса; район продолжительных боев в 1936–1938 гг.
(обратно)175
Рио-Тинто, Линарес — центры металлургической промышленности на юге Испании.
(обратно)176
Рамбла — главный бульвар Барселоны.
(обратно)177
Сьерра-Морена — горы на юге Испании.
(обратно)178
Брунете — городок в 28 километрах к западу от Мадрида; в июле 1937 г. республиканская армия предприняла там большое наступление на франкистов, и Эренбург ездил туда как корреспондент «Известий».
(обратно)179
Карабанчель — рабочий район Мадрида.
(обратно)180
В июле 1938 г. республиканская армия успешно форсировала в двух местах реку Эбро и сорвала наступление Франко на Валенсию. Это была последняя победа республиканцев в гражданской войне.
(обратно)181
Хаэн — город на юге Испании, центр одноименной провинции.
(обратно)182
Монруж — район в южной части Парижа.
(обратно)183
Дома кочуют. Имеется в виду генеральная реконструкция Москвы в 1930-х гг.
(обратно)184
Шарль Делеклюз (1809–1871) — член Парижской коммуны, погибший на баррикадах.
(обратно)185
А на соборе корчатся уродцы — химеры на соборе Парижской Богоматери.
(обратно)186
Фонтенбло — загородная резиденция французских королей с дворцовым ансамблем и парком.
(обратно)187
Валькирии — воинствующие девы, распоряжавшиеся судьбою битв.
(обратно)188
Есть упоение в бою — строка из пушкинского «Пира во время чумы».
(обратно)189
Скребет себя на пепле Иов — книгу о многострадальном Иове Эренбург упоминал не раз, например — в мемуарах, в главе о смерти Сталина (1)(3, 279).
(обратно)190
Глухов — город в Украине.
(обратно)191
Пракситель (ок. 390 г. — ок. 350 г. до н. э.) — древнегреческий скульптор.
(обратно)192
Безрукая — всемирно известная статуя Венеры Милосской, хранящаяся в Лувре.
(обратно)193
И плакал перед нею Глеб Успенский / А Гейне знал, что все слова не те — отзвук сюжета очерка Г. И. Успенского (1843–1902) «Выпрямила», в котором герой, со слов сторожа Лувра, рассказывает, как Генрих Гейне «сидел по целым часам и плакал» перед нею.
(обратно)194
Бабий Яр — овраг в Киеве, где гитлеровцы и их украинские помощники в сентябре 1941 г. расстреляли около 70 тысяч евреев, мирных жителей Киева. В 1947 г. это было описано Эренбургом в романе «Буря». Материалы о расстреле в Бабьем Яре были включены в подготовленную под редакцией Эренбурга и Гроссмана «Черную книгу», запрещенную в СССР, где не разрешалось указывать национальное происхождение жертв Бабьего Яра.
(обратно)195
Эсфирь — в Библии еврейская красавица, ставшая женой персидского царя Артаксеркса, героически спасшая свой народ от грозившего ему поголовного истребления.
(обратно)196
…четыре угла у земли — реминисценция из Шарля Пеги: «Блаженны погибшие в великих боях / За четыре угла родной земли…» (пер. И. Эренбурга).
(обратно)197
О них когда-то горевал поэт — имеется в виду вольный перевод Лермонтова из Гейне «Они любили друг друга так долго и нежно».
(обратно)198
«Во Францию два гренадера…» — начало стихотворения «Гренадеры» Г. Гейне (пер. М. Михайлова).
(обратно)199
Здесь нет ни топота, ни свиста — см. в стихотворении Лермонтова «Родина»: «Смотреть до полночи готов / На пляску с топотом и свистом…».
(обратно)200
«Люблю отчизну я, но странною любовью…» — первая строка стихотворения «Родина».
(обратно)201
Равенсбрук (Равенсбрюк) — женский концлагерь в гитлеровской Германии возле г. Фюрстенберг, где было уничтожено около 100 тысяч узниц.
(обратно)202
Фома Неверный — один из двенадцати апостолов; не поверил в воскресение Христа, пока не вложил персты в его раны (Ин. 20:27–28).
(обратно)203
Мысль изреченная есть ложь — цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium».
(обратно)204
Пять лет описывал… — имеется в виду работа над первыми шестью книгами мемуаров Эренбурга (конец 1959 — начало 1964).
(обратно)205
Мыслящий тростник — любимый Эренбургом образ из «Мыслей» Блеза Паскаля, символизирующий непрочность, зыбкость разума во Вселенной.
(обратно)206
Якопо Тинторетто (1518–1594) — итальянский художник; Эренбург с 1911 г. неизменно и особенно восхищался его холстами, экспонируемыми в школе Сан-Рокко в Венеции.
(обратно)207
От жажды умираю над ручьем — первая строка «Баллады поэтического состязания в Блуа» в переводе Эренбурга.
(обратно)208
Но те, кто в сушь, в обрез, в огрыз — ранние христиане.
(обратно)209
…Ни флота Христофорова — флот Христофора Колумба.
(обратно)210
Педро Первый (Жестокий; 1334–1369) — с 1350 г. король Кастилии и Леона, имевший репутацию «надменного Нерона»; убит братом.
(обратно)211
Сем Тоб — испанский поэт XIV в., автор сборника морально-дидактических пословиц.
(обратно)212
Так с Тютчевым на склоне лет / То необычное случилось — речь идет о «последней любви» Ф. И. Тютчева к Е. А. Денисьевой. Вместе с тем это стихотворение и автобиографично — в нем читается сюжет «последней любви» Эренбурга к Лизлотте Мэр.
(обратно)213
Уже скудела в жилах кровь… — неточная цитата из стихотворения Тютчева «Последняя любовь».
(обратно)214
Вознесенск — город в Московской области, вблизи которого в селе Бабкино А. П. Чехов (любимый русский писатель Эренбурга) жил в 1885 году.
(обратно)215
Мы видели в алмазах небеса — перефразированные слова Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня».
(обратно)216
…в королевстве Датском / По-прежнему не всё благополучно — перефразированная реплика Горацио из трагедии Шекспира «Гамлет».
(обратно)217
«тигр» — Сталин, аллегория.
(обратно)218
«бегемот» — Берия, аллегория.
(обратно)219
Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940, расстрелян) — писатель, которого Эренбург считал своим большим другом и очень любил.
(обратно)220
Капитан Ля Палис был убит в битве при Павии. Его солдаты сложили песню, прославляя отвагу своего капитана: «Он за час до смерти жил / Ля Палис отважный!»
(обратно)221
Парис — один из героев «Илиады» Гомера, сын царя Трои Приама; похитил жену спартанского царя прекрасную Елену, что послужило поводом к Троянской войне.
(обратно)222
…Ной, / Лозу нас научил сажать, / При сыновьях лежал хмельной — согласно Библии, патриарх Ной, спасшись от потопа, возделывал виноградники и изготовлял вина. Однажды его сыновья обнаружили отца спящим в опьянении обнаженным (Быт. 9:21–23).
(обратно)223
…А Лот <…> / Не мог понять, где дочь, где мать. Имеется в виду библейский сюжет о дочерях Лота, напоивших его вином и спавших с ним (Быт.19: 33–35).
(обратно)224
Жан Котар (? —1461) — каноник церквей Сент-Пьер и Сент-Этьен, в 1455 году числился прокурором церковного суда и за какую-то провинность наложил на Вийона штраф. Знаменитый своим пьянством, Котар скончался за год до написания «Завещания» Вийона, и эта баллада-молитва включена в него.
(обратно)225
…анжуйских голубых дорог. Анжу — историческая область на северо-западе Франции, родина поэта.
(обратно)226
Лире — деревушка, где родился Дю Белле.
(обратно)227
Король троянский — Приам.
(обратно)228
Тихо идет дождь над городом. А. Рембо (фр.)
(обратно)229
Лэ (фр.: lai) — здесь: средневековые песни на бретонские мелодии.
(обратно)230
Шателен (фр.: châtelain) — владелец замка.
(обратно)231
Мурены — большие рыбы (длиной до 1,5 м), водившиеся в Средиземном море, их укусы смертельно опасны; мясо мурен высоко ценилось римлянами.
(обратно)232
На парижской улице Сен-Мартен Деснос родился.
(обратно)233
…июль наслал на твое веселье — имеется в виду начавшийся 18 июля 1936 г. и поддержанный католической церковью военно-фашистский мятеж в Испании против республиканского правительства.
(обратно)234
Рауль Гонсалес-Туньон (1905–1974) — аргентинский поэт, участник гражданской войны в Испании.
(обратно)235
Рафаэль Альберти (1902–1999) — испанский поэт, участник гражданской войны в Испании.
(обратно)236
Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) — испанский поэт; убит в начале мятежа франкистами в Гранаде.
(обратно)237
Бомбовозы — тогдашнее название бомбардировщиков.
(обратно)238
Вторая зима — вторая зима Гражданской войны в Испании.
(обратно)239
Баткин написал эссе — см.: Баткин Л. М. Данте и его время. Поэт и политика. М., Наука, 1965.
(обратно)240
Неопубликованное эссе Осипа Мандельштама «Разговор о Данте» — в СССР было опубликовано в 1967 году, уже после смерти Эренбурга.
(обратно)241
Пушкин как-то в полемическом азарте… — в статье «О поэзии классической и романтической» (1825).
(обратно)242
«Вильон воспевал в площадных куплетах…» — из статьи «О ничтожестве литературы русской» (1834).
(обратно)243
Здесь и в ряде других случаев сохранено авторское написание имен. — Ред.
(обратно)244
Каролина Павлова назвала «святым ремеслом» — в стихотворении «Ты, уцелевший в сердце нищем…» (1854).
(обратно)245
Пьер Луис (1870–1925) — французский писатель, автор символистских и эротических книг.
(обратно)246
«Бедный Лелиан» — так звал себя Верлен.
(обратно)247
Поль Клодель (1868–1955) — французский писатель, драматург; академик.
(обратно)248
В Большой советской энциклопедии сказано — БСЭ, 2-е изд. Т. 2. М., 1950. С. 556; краткая заметка в семнадцать строк одного столбца, почти полностью процитированная из Эренбурга, заканчивается информацией об аресте Аполлинера по обвинению в краже «Джоконды», которое названо неосновательным.
(обратно)249
один искусствовед в газете «Советская культура» — кандидат искусствоведения И. С. Куликова в статье «Бессмыслица, возведенная в куб (Заметки об „эстетике“ кубизма)»: Советская культура, 4 июня 1959. 13 июня 1959 г. в «Литературной газете» был напечатан протест против этой публикации президента общества «СССР — Франция» И. Г. Эренбурга.
(обратно)251
Я писал о кафе на углу бульваров… — цитата из 21-й главы 1-й книги мемуаров (1, 147–148).
(обратно)252
В истории французской литературы, изданной… Имеется в виду издание: История французской литературы. Т. 3. М., 1959; в главе XV «Декадентские течения на рубеже XIX и XX веков» два раздела из трех («Поэзия» и «Кубизм») были написаны И. Н. Голенищевым-Кутузовым; значительная часть раздела «Кубизм» посвящена Аполлинеру.
(обратно)253
Не нужно знать «Еврейских поэм…» — Сборник стихов А. Спира «Poèmes juifs», Париж, 1919.
(обратно)254
…женщина Альтмана — имеется ввиду портрет Ахматовой работы Натана Альтмана (1914).
(обратно)255
Шарль Леконт де Лиль (1818–1894) — французский поэт.
(обратно)256
Сологубовские розги из Нюренберга — см. стихотворение Ф. Сологуба «Нюренбергский палач» (1907).
(обратно)257
…дорнахское капище — антропософский храм, возводимый в Дорнахе поклонниками Рудольфа Штейнера, среди которых были русские поэты М. Волошин и А. Белый.
(обратно)258
«Весы» — московский журнал, издававшийся под руководством Брюсова в 1904–1909 гг.
(обратно)259
Тео — Театральный отдел Наркомпроса, в котором с 1920 года служил Эренбург.
(обратно)260
…гавоты Рамо — Жан Филипп Рамо (1683–1764) — французский композитор и теоретик.
(обратно)261
Митра — в браминской и персидской религии бог света.
(обратно)262
Аарон — брат Моисея, давшего евреям законы и выведшего их из Египта, первый еврейский первосвященник и оратор, говоривший вместо брата (XV в. до н. э.), — ср. либретто оперы Шёнберга «Моше и Аарон».
(обратно)263
…à la Byzance (фр.) — по-византийски.
(обратно)264
…радионоты Чичерина — имеются ввиду дипломатические ноты тогдашнего наркома иностранных дел СССР Георгия Васильевича Чичерина.
(обратно)265
Астарта — финикийская богиня любви, первоначально богиня земного плодородия.
(обратно)266
Рене Гиль (1862–1925) — французский поэт.
(обратно)267
…бедного Лелиана — см. О Поэтах и поэзии. Поль Верлен.
(обратно)268
Архистратиг — военачальник, духовный чин архангела Михаила как предводителя небесных сил в борьбе с дьяволом.
(обратно)269
Малларме (1842–1898) — французский поэт, автор книги «Тайна в поэзии».
(обратно)270
Барбе д'Оревильи (1808–1898) — французский прозаик и публицист.
(обратно)271
…злой казнью сатира Марсия — по греческому мифу, сатир Марсий подобрал флейту, брошенную Афиной, научился играть на ней, достигнув высокого мастерства, и бросил вызов Аполлону, который его победил и содрал с него кожу.
(обратно)272
…апостол Варфоломей — один из двенадцати апостолов Христа, погиб мученической смертью в Армении.
(обратно)273
…доктор Штейнер — Рудольф Штейнер (1861–1925) — немецкий философ, антропософ.
(обратно)274
Noli те tangere (лат.) — не прикасайся ко мне (слова воскресшего Христа — Ин. 20:17); так называлась написанная в 1914 году и не вышедшая книга стихов Эренбурга.
(обратно)276
Разумник Иванович Иванов-Разумник (1878–1946) — литературный критик.
(обратно)277
…конфрэр — от фр. confrère — собрат, сотоварищ.
(обратно)278
Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942) — поэт-имажинист.
(обратно)279
…белых стен Ассизи — город в Италии, родина Франциска Ассизского.
(обратно)280
…руки Фомы — см. стихотворение «Фома Неверный» (1957).
(обратно)281
Давид Бурлюк (1882–1967) — поэт и художник, футурист.
(обратно)282
Жорж Клемансо и Дэвид Ллойд Джордж — премьер-министры Франции и Англии той поры.
(обратно)283
«petits faits» (фр.) — мелочи.
(обратно)284
«Центрифуга» — футуристическая группа (С. Бобров и др.), к которой примыкал Пастернак.
(обратно)285
Николаус Ленау (1802–1850) — австрийский поэт-романтик.
(обратно)286
Айседора Дункан (1877–1927) — американская танцовщица.
(обратно)287
Агриппа Нестсгеймский (фон Неттесгейм, 1486–1535) — немецкий гуманист, философ-мистик, сатирический писатель.
(обратно)288
…графиня Анна де Ноай (1876–1933) — французская поэтесса.
(обратно)289
Андре Шенье (1762–1794) — французский поэт, казнен якобинцами.
(обратно)290
…напечатан в журнале «Москва», 1964, № 8; в сопровождении воспоминаний Н. К. Чуковского о Мандельштаме.
(обратно)291
Намечено издание всех его стихотворений в серии «Библиотека поэта» — далеко не полное издание вышло впервые только в 1973 году.
(обратно)292
…напечатано оно недавно в журнале «Пионер», № 3, 1956. Стихотворение поместил зав. отделом литературы Б. М. Сарнов.
(обратно)293
Много русских поэтов… пытались перевести стихи Верлена «Сердце мое плачет» — перевод Эренбурга (1914) помещен в настоящем издании.
(обратно)294
Он возмущался теми, кто отдал смерти молоденького солдата Фернана Фонтэна — в стихотворении «Фернану Фонтэну. Призыва 1916 года, убит 20 июля 1915»
(обратно)295
Они издавали журнал… «Сюрреализм на службе революции» — этому журналу Эренбург посвятил издевательский памфлет «Сюрреалисты» (1933), в котором, в частности, писал, что среди сотрудников этого журнала «мы встречаем имена поэтов, которые еще несколько лет назад писали настоящие стихи, — Андре Бретона и Поля Элюара».
(обратно)296
«Маки» — французские партизаны времен Второй мировой войны.
(обратно)297
…гора Грамос — один из опорных пунктов греческих партизан в 1949 году.
(обратно)
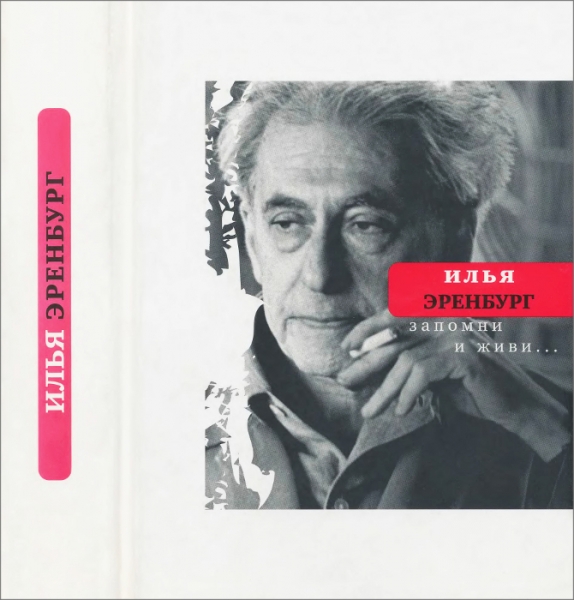
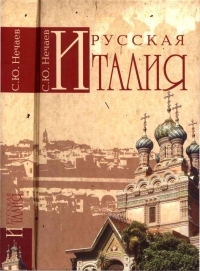


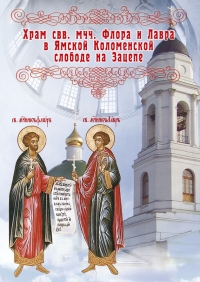
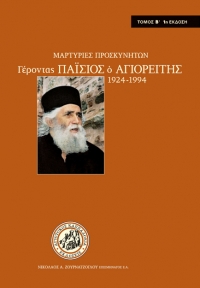
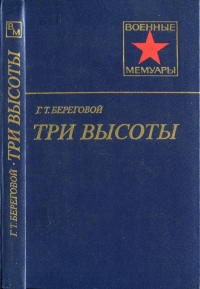
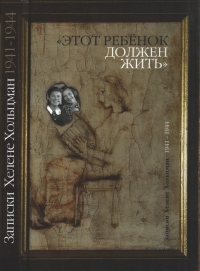
Комментарии к книге «Запомни и живи», Илья Григорьевич Эренбург
Всего 0 комментариев