Василий Кандинский О духовном в искусстве. Ступени. Текст художника. Точка и линия на плоскости Сборник
© Н. И. Дружкова, вступительная статья, перевод, 2018
© Оформление ООО «Издательство АСТ», 2018
* * *
Теория абстрактного искусства В. Кандинского
Василий Кандинский – один из классиков искусства XX века. Его творчество во многом определило пути развития европейского и отечественного искусства прошлого столетия. Являясь одним из лидеров европейского авангарда, он много сделал для распространения передовых, прогрессивных идей своего времени. Его книгу «О духовном в искусстве» называли Евангелием нового искусства.
В продолжение всей жизни практическая деятельность художника была неотделима от работы в области теории искусства: свои открытия в живописи он всегда стремился сформулировать и обосновать теоретически. Кандинскому удалось создать стройную систему живописных первоэлементов (точка, линия, плоскость), их эмоциональной выразительности и композиционного применения. Художника интересовали общие законы развития искусства, он сознательно работал над новой методологией его изучения.
Будучи широко образованным человеком, Кандинский обладал несомненным литературным даром. Он много рассуждал и писал об искусстве. Это обстоятельство дает возможность проследить сложение и эволюцию взглядов художника на искусство, проанализировать обоснование собственной художественной концепции, исходя из его собственных текстов по теории искусства.
Творческое развитие художника, как оно представляется ему самому, было непосредственно связано с определенной эволюцией взглядов на взаимоотношения искусства и природы, духовного и материального, искусства и науки, соотношения вопросов формы и содержания в произведении искусства. В конце 1913 года в Кельнской лекции Кандинский, как бы оглядываясь назад, выделяет три этапа своего творческого пути. «Период дилетантизма» – время пребывания и учебы на юридическом факультете Московского университета в России (до 1886 г.), «период после окончания школы» и «период осознанного применения живописных средств» – мюнхенское время (до 1914 г.), стадию его профессионального становления как художника. Первый из них он вспоминает как «смешанный эффект двух разных устремлений» – «неопределенного побуждения к творчеству» и «любви к природе». В автобиографических записках «Ступени» художник более подробно описывает эти стремления, побудившие его в результате предпринять решительный и ответственный шаг – отказавшись от научной карьеры, окончательно посвятить свою жизнь искусству:
«Уже в детские годы мне были знакомы мучительно-радостные часы внутреннего напряжения, часы внутренних сотрясений, неясного стремления, требующего повелительно чего-то еще неопределенного, днем сжимающего сердце и делающего дыхание поверхностным, наполняющего душу беспокойством, а ночью вводящего в мир фантастических снов, полных и ужаса и счастья. Помню, что рисование и позже живопись ставили меня вне времени и пространства и приводили к самозабвению» [1].
В этих словах можно усмотреть некую предопределенность судьбы. Но понимание своего предназначения как художника приходит позднее. И в этом смысле сильные впечатления, полученные им от наблюдения природы и потрясшие душу еще в детстве, давали тот непреходящий импульс, который питал его творчество в продолжение всей жизни:
«…молчаливое кольцо кремлевской стены, а над нею, все превышая собою, подобно торжествующему крику забывшего весь мир аллилуйя, белая, длинная, стройно-серьезная черта Ивана Великого. И на его длинной, в вечной тоске по небу напряженной, вытянутой шее – золотая глава купола, являющая собой, среди золотых, серебряных, пестрых звезд обступивших ее куполов, Солнце Москвы.
Написать этот час казалось мне в юности самым невозможным и самым высоким счастьем художника… Должны были пройти многие годы, прежде чем путем чувства и мысли я пришел к той простой разгадке, что цели (а потому и средства) природы и искусства существенно, органически и мирозаконно различны и одинаково велики, а, значит, и одинаково сильны.
Эта разгадка освободила меня и открыла мне новые миры. Все мертвое дрогнуло и затрепетало… – все открыло мне свой лик, свою внутреннюю сущность, тайную душу, которая чаще молчит, чем говорит. Так ожила для меня и каждая точка в покое и в движении (линия) и явила мне свою душу. Этого было достаточно, чтобы «понять» всем существом, всеми чувствами возможность и наличность искусства, называемого нынче в отличие от «предметного» – «абстрактным» [2].
Эта цитата обнаруживает очевидную последовательность творческого развития художника. Вначале было страстное желание передать «хор красок, врывавшихся в душу», затем приходит осмысление необходимости и правомерности принципа подражания природе и уже потом – постижение самоценности каждого в отдельности взятого элемента живописи (точка, линия), а через них рождается предположение о возможном существовании беспредметного искусства.
Последовательность, обозначенная художником, наиболее точно определяет и сущность движения, поскольку обнаруживает взаимосвязь трех наиболее важных для него вопросов: природа – материальное или реальный мир, окружающая действительность, из которой художник черпает материал для творчества, где находит повод для вдохновения; элементы изображения – выявление и последующий анализ главных выразительных средств живописи; абстрактное искусство как открытие своего способа видения и создание собственного живописного языка, на обоснование которого и была, прежде всего, направлена его теория искусства.
В книге «О духовном в искусстве» (1911), центральной своей работе по теории искусства, своеобразным творческом манифесте, Кандинский писал, что искусство стоит выше природы, и что эта мысль в принципе не является чем-то новым. Он продолжает развивать эту тему и в книге «Точка и линия на плоскости» (1926), более конкретно рассматривая ее применительно к своей теории первоэлементов, связывая с основополагающим для него понятием внутреннего и внешнего, что дает ему основание говорить о существовании общего для природы и искусства закона «мировой композиции»:
«Природные законы композиции не дают художнику возможности внешнего подражания, в чем он нередко видит главную цель, но открывают возможность противопоставления этих самых законов искусству. В этих столь важных для абстрактного искусства вопросах мы уже сегодня открываем закон сопоставления и противопоставления, что лежит в основе двух принципов – принципа параллели и принципа контраста, как это показано при сопоставлении линий. Таким образом, обособленные и живущие самостоятельно законы обоих империй – искусства и природы – приведут, в конце концов, к пониманию общего закона мировой композиции и разъяснят их участие в более высокой синтетической системе – внешнего и внутреннего» [3].
Кандинский и позднее затрагивает эту проблему. В интервью 1937 года на вопрос – верно ли то, что абстрактное искусство не имеет ничего общего с природой, он отвечает:
«Нет! И еще раз нет. Абстрактное искусство сбрасывает оболочку с природных явлений, но не пренебрегает их законами. Позвольте мне это громкое слово – космическими законами. Искусство только тогда может быть «высоким», когда оно находится в прямой связи с космическими законами и им подчиняется. Эти законы чувствуются неосознанно. Они не столько внешне питают природу, сколько внутренне. Необходимо их не только увидеть, но быть способным их пережить. И в этом случае, если художник имеет внешнее и внутреннее зрение на природу, она одаривает его вдохновением» [4].
В лекциях в Баухаузе Кандинский также неоднократно повторяет, что искусство только тогда может достигнуть своей цели, когда оно опирается на законы природы. Поскольку оно родится из жизни, оно и должно подчиняться этим законам. Одним из таких законов, как он считал, является ритм. Дыхание человека, животного, растения, всякое человеческое творение участвует в единой космической пульсации, что и позволяет «искусству одновременно говорить языком человека и космоса».
Анализируя элементы живописного изображения, Кандинский призывает и на природу взглянуть с точки зрения составляющих её основных элементов, их конструкции. Утверждение, что закон «мировой композиции» есть общий корень искусства и природы, обнаруживающий взаимосвязь внешнего и внутреннего, является свидетельством его привязанности к натуре, к предмету – он настаивал не на уходе от натуры, а на выявлении ее внутренней сути путем абстрагирования от всего внешнего и второстепенного. Этому, в частности, был посвящен учебный курс Кандинского по аналитическому рисунку, который он вел в Баухаузе, представляющий собой результат его собственного практического опыта на пути к абстракции, преобразованного в учебный предмет. Ясным в этой связи оказывается, почему саму тему взаимоотношения искусства и природы он избирает в качестве одной из основных тем для теоретических занятий со студентами, рассматривая на ее примере задачи, цели и смысл искусства в целом.
Из интервью 1937 года также следует, что в 30-е годы Кандинский уже иначе формулирует путь своего развития. Вначале было впечатление от красок и музыки, вследствие чего приходит понимание того, что музыка и цвет могут обладать равной силой звучания. Затем после первого посещения выставки французских импрессионистов приходит убеждение, в котором Кандинский утвердился в 1906 году, увидев в Париже ранние работы А. Матисса, что изображение предмета не так уж важно. К этому добавился новый взгляд на древнерусскую икону, от которой, по его словам, он «получил глаза» на абстрактное в живописи. И далее: «так я шел через «экспрессионизм» к абстрактной живописи – медленно, через бесконечное множество попыток, через отчаяние, надежду, открытия» [5].
В этой связи необходимо рассмотреть более подробно первый «дилетантский» период его творчества, поскольку с точки зрения развития он оказывается не менее важным, но менее изученным, чем последующий профессиональный мюнхенский период, которому посвящена большая часть литературы о Кандинском. Надо иметь в виду, что именно к раннему периоду относится становление его как личности, формируется своеобразный склад его характера, определенный способ мышления и мировосприятия, даже устанавливается некий уклад жизни, которому он остается верен в течение всей жизни. Так, для того чтобы лучше понять некоторые из теоретических установок художественной педагогики Кандинского, имеет смысл взглянуть на описанные им впечатления и переживания студенческой поры как бы в проекции.
«Лоэнгрен же показался мне полным осуществлением моей сказочной Москвы, скрипки, глубокие басы, и прежде всего духовые инструменты, воплощали свою силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной. Я не решался только сказать себе, что Вагнер музыкально написал «мой час». Но совершенно стало мне ясно, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна проявить такие же силы, как музыка. И невозможность устремиться к отысканию этих сил была мне мучительна» [6].
Эти впечатления от музыки Вагнера не изглаживаются из памяти Кандинского долгие годы. Позднее в России, работая в Государственной академии художественных наук, стремясь к научной точности своих исследований, он выстраивает целую систему ассоциативного соответствия цветов звучанию разных инструментов. В книге «Точка и линия на плоскости» эти сравнения находят свое продолжение. Он обращает внимание на то, как точки по-разному могут воспроизводиться разными инструментами, а линии способны дать музыке наибольший запас выразительных средств, и что относительно времени и пространства они могут действовать в музыке точно так же, как и в живописи. В конспектах своих лекций в Баухаузе цель композиции в живописи Кандинский определяет, как «выражение всеобщей звучности» с необходимым «существованием в ней доминирующего звучания».
«И вот сразу увидел я первый раз картину. Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это – стог сена. Эта неясность была мне неприятна: мне казалось, что художник не в праве писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезается в память и вдруг неожиданно встает перед глазами до мельчайших подробностей… Мне стало совершенно ясно – это не подозревавшаяся мною прежде, скрытая от меня дотоле, превзошедшая все мои мечты сила палитры. Живопись открывала сказочные силы и прелесть. Но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины. В общем же во мне образовалось впечатление, что частица Москвы-сказки все же уже живет на холсте» [7].
Можно предположить, что предчувствие возможного существования беспредметной живописи приходит к художнику еще до отъезда в Мюнхен. Но в Мюнхене, городе искусств, своеобразной колыбели теории «нового искусства», появление которого было подготовлено во многом благодаря работам К. Фидлера, А. Гильдебранта, В. Воррингера, Г. Вельфлина, живших и трудившихся в разное время в этом городе, Кандинскому удается найти подходящую аргументацию и форму реализации своих идей, придать теоретическую завершенность своему искусству. Именно это он проделывает в своей первой книге «О духовном в искусстве», подытоживая и обобщая таким образом живописные поиски и эксперименты тех лет. Позднее в Баухаузе он воспользуется своим методом абстрактного формообразования как одним из методов обучения современных художников.
«Склонность к «скрытому», к «запрятанному» помогла мне уйти от вредной стороны народного искусства, которое мне впервые удалось увидеть в его естественной среде и на собственной почве во время моей поездки в Вологодскую губернию… В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. С тех пор это чувство жило во мне бессознательно, хотя я и переживал его в московских церквах, а особенно в Успенском соборе и Василии Блаженном. По возвращении из этой поездки я стал определенно сознавать его при посещении русских живописных церквей, а позже и баварских и тирольских капелл» [8].
Эти переживания университетской поры представляются лучшим доказательством того, сколь важны и дороги ему были его «русские корни». Возможно, расписывая русским народным орнаментом лестницу в Мурнау, он добивался ностальгически похожего впечатления. А, с другой стороны, это желание «введения зрителя в картину, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся», и поиск выразительных средств для передачи этого зрительного впечатления проходят красной нитью через все творчество художника. Именно это стремление стало основой его рассуждения о дематериализации основной плоскости в книге «Точка и линия на плоскости». В качестве одного из примеров построения живописного пространства он использует этот образ и в своих теоретических и практических занятиях со студентами в курсе «Свободные живописные классы».
Следует затронуть еще один важный аспект творчества Кандинского, который особенно отчетливо проявляется в университетские годы. Именно в это время складывается своеобразное научное мировоззрение художника, вырабатывается навык научной теоретической работы и определяется научный метод его мышления – через анализ разнородного и огромного по своему охвату материала к обобщению и синтезу. В библиотеке в Мурнау сохранилось большое количество книг с его пометками на полях – поражает их количество и разнообразие, а также эрудиция и широта интересов художника, в том числе и научных. На некоторые из них Кандинский ссылается и в своей книге «О духовном в искусстве» [9].
Несомненно, что появлению этой книги предшествовала не только практическая, экспериментальная работа в живописи и не однажды увиденная выставка французских импрессионистов в Москве и полотен Матисса в Париже, но колоссальная по своему напряжению работа, связанная с поиском ответов на страстно занимавшие его вопросы. Он, как ученый-исследователь, шаг за шагом, тщательно отбирая необходимое, постепенно и неспешно выстраивает систему своих взглядов. И достоинством его теории абстрактного искусства как раз и становится ее последовательность и аргументированность. Определяющим, на наш взгляд, представляется тот факт, что Кандинский теоретически, последовательно и научно аргументированно доказывает закономерность появления абстрактного искусства («О духовном в искусстве») и, выстраивая стройную систему первоэлементов, отстаивает право на его существование («Точка и линия на плоскости»).
Из этого вытекает и один из главных методов его обучения, о котором он пишет в статье «Художественная педагогика» (1926). Он придерживался мнения, что искусству невозможно ни научить, ни научиться, но можно научить и научиться логически мыслить – аналитически-синтетически. Поэтому каждому художнику необходимо сформировать свое собственное мировоззрение, что в свою очередь, неотделимо от умения черпать свои знания, привлекая разные источники, или иначе из умения «соединять разъединенное». Не обладая этим качеством, художник оказывается беспомощным и поэтому, какими бы виртуозными приемами мастерства он не владел, его искусство будет бессмысленным, оно будет, по его же словам «скорлупою без ореха».
Характерно, что именно научное открытие в области физики о разложении атома оказывает, с одной стороны, определенное влияние на окончательное решение оставить занятия наукой и посвятить себя живописи, а с другой – вызывает ощущение, что «материя исчезла». Это его собственное открытие становится впоследствии тем краеугольным камнем, который лежит в основе главного для Кандинского вопроса о духовном и материальном.
«Одна из самых важных преград на моем пути сама рушилась, благодаря чисто научному событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. …Я бы не удивился, если бы камень поднялся в воздух и растворился в нем. Наука казалась мне уничтоженной: ее главнейшая основа была только заблуждением, ошибкой ученых, не строивших уверенной рукой камень за камнем при ясном свете божественное здание, а в потемках наудачу и наощупь искавших истину, в слепоте своей принимая один предмет за другой» [10].
Это разочарование коснулось, конечно, не всей науки, а, прежде всего, позитивистской и опирающейся на нее политической экономии. Любопытным оказывается сам выбор Кандинским юридического факультета, который был не случайным для того времени. Известный русский религиозный философ Н. Бердяев писал о смене общественных приоритетов в России второй половины XIX века:
«Так, в 40-е годы на успех в любви мог рассчитывать лишь идеалист и романтик, в 60-е – лишь материалист и мыслящий реалист, в 70-е годы – народник, жертвующий собой для блага и освобождения народа, в 90-е – марксист» [11].
Известно, что отец Кандинского Василий Сильвестрович Кандинский, поддерживающий его во всех начинаниях и имевший на него большое влияние, увлекался идеями национально-освободительного движения – в 1862 году он специально ездил в Лондон для встречи с Герценом [12]. Возможно, поэтому Кандинский вполне мог бы повторить вслед за С. Булгаковым, его дальним родственником, а впоследствии известным философом и богословом, закончившим одновременно с ним юридический факультет Московского университета, что он попал на чуждый ему юридический факультет в известном смысле затем, чтобы «спасти отечество от царской тирании», а для этого надо было «посвятить себя социальным наукам, как каторжник к тачке, привязав себя к политической экономии». В этом смысле выбор Кандинского вполне типичен для его окружения и времени.
Но эта университетская среда, к которой он принадлежал, в то же самое время являлась и той средой, в которой постепенно в 1880–1890 годы вызревали и консолидировались предпосылки будущего культурного ренессанса начала XX века. Из этой среды вышло большинство его главных представителей – Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, А. Белый, Вяч. Иванов и др. Бердяев дает следующую характеристику этому явлению:
«Многое из творческого подъема того времени вошло в дальнейшее развитие русской культуры и сейчас есть достояние всех русских культурных людей… В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на преобразования» [13].
Из этой же университетской среды выходит в начале 1920-х годов, являя собой как бы продолжение этого процесса и в то же самое время его завершение, и основной состав Государственной академии художественных наук, физико-психологическое отделение которой возглавил в 1921 году Кандинский, вернувшись из Германии. Он возвратился в знакомую ему московскую научную среду, но уже в ином качестве – одним из главных ее идеологов; активно включаясь в работу, он сам оказывается непосредственным участником этого культурного возрождения России.
Программы работы Института художественной культуры, а затем физико-психологического отделения ГАХН, являясь определенным сгустком, обобщением теории и философии искусства на данном этапе развития художника, легли в основу всей дальнейшей научной деятельности академии, главные задачи которой были направлены на создание новой современной синтетической науки об искусстве. И хотя его работа в академии была непродолжительной – в конце 1921 года он опять уезжает в Германию, – Кандинский оказался у самого начала деятельности ГАХН.
Работа в ГАХНе дала возможность Кандинскому реализовать научный потенциал, способствовала концентрации его теории и одновременно стала тем благотворным импульсом, даже определенным творческим зарядом, который он получил из русского окружения и который с этого момента определил направление его собственной научно-теоретической работы теперь уже в Баухаузе.
На наш взгляд, всю дальнейшую работу Кандинского можно рассматривать как продолжение и осуществление его научных программ ИНХУКа и ГАХНа, но приспособленных к новым условиям. Его не покидает желание создать новую науку об искусстве. Уже первые его статьи в Баухаузе дают возможность наблюдать эту преемственность или перекличку идей – он видит задачи и основу Баухауза как художественного института нового типа в научном и синтетическом подходе к главным принципам обучения, направленным на осмысление и овладение современными методами формообразования.
Своим занятиям со студентами Кандинский стремится придать тот же научный и синтетический характер: строит их согласно тем целям, которые он сформулировал для новой науки об искусстве – изучение и анализ действия первоэлементов изображения (точка, линия, плоскость), изучение действия цвета как самостоятельного элемента и в соотношении с формой, а затем – уяснение целесообразного и закономерного участия этих первоэлементов в конструкции и композиции законченного произведения. Он считал необходимым привлечение к процессу обучения и современных результатов исследований других наук. Художник самостоятельно пытается это осуществить, например, в своем семинаре по цветоведению.
В книге «Точка и линия на плоскости» для анализа первоэлементов Кандинский привлекает материал разных видов искусств, и это свое исследование рассматривает как «первый шаг на пути создания новой науки об искусстве». Его творческая формула «интуиция и расчет» – так он ее определяет, могла бы быть использована, как он полагал, в качестве рабочей установки при любых научных исследованиях в разных областях знания. Кандинский также считал, что именно интуиции не достает современной науке. И в этом он видел возможность «великого синтеза науки и искусства» в будущем. Но ведь уже он сам своим творчеством, будучи одновременно художником и ученым-теоретиком искусства, показывает убедительный пример подобного синтеза.
Следует отметить, что два московских периода имели принципиальное значение для всего творчества Кандинского. Не случайно, что в Германии, где собственно прошли годы его художественного ученичества, где были созданы первые его абстрактные произведения, написана и издана первая книга «О духовном в искусстве», почти сразу получившая международное признание, а со временем принесшая ему мировую славу одного из открывателей и теоретиков абстрактной живописи, в Германии, а затем и во Франции он всегда считал и называл себя русским художником. Возможно, ему в определенном смысле был приятен романтический ореол «русской души», сложившийся на Западе. Впрочем, он и был воспринят там именно как русский художник. Так, вначале буйство красок ранних работ объясняли византийскими влияниями, затем Кандинского обвинили в том, что он пропагандирует анархизм и вседозволенность русского писателя Ф. Достоевского, а в Баухаузе даже назвали «красным комиссаром», что, безусловно, не соответствовало действительности. Но это носило, скорее, внешний характер. Существовали и более глубинные причины.
Активная антиматериалистическая, антипозитивистская позиция художника, его вера в наступающую эпоху духовности в известном смысле оказываются созвучными тем идеям, которые лежали в основе русского культурного ренессанса начала XX века и, в частности русской религиозной философии [14].
«Наша душа только начинает пробуждаться после долгого материалистического периода, скрывает в себе зачатки отчаяния, неверия, бесцельности и беспричинности. Не прошел еще кошмар материалистических воззрений, сделавший из жизни вселенной злую бесцельную шутку» [15].
«Такая мысль едва ли может явиться в то время, когда позитивистская человеческая мысль была односторонне увлечена внешней закономерностью. Только новый, начинающий материализовываться дух наступившей эпохи духовности мог дать почву для такой внешней свободы, которая кажется безграничной позитивному уму, не способному чувствовать внутренний определенный закон и его ограничения» [16].
Вспомним, что Вл. Соловьев связывал кризис современной ему цивилизации с кризисом позитивизма, а одной из главных идей Л. Толстого была идея о духовном единстве всего человечества – «все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены одним духовным началом, которое дает жизнь всему» [17].
В этом смысле космополитизм Кандинского, его веру, что со временем «не будет границ между странами», можно соотнести с идеями Ф. Достоевского о всемирном предназначении русского человека: «… назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите…» «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей» [18].
Невозможно прямо утверждать о конкретном влиянии на Кандинского русской религиозной философии, хотя он безусловно был знаком с основными идеями философии Вл. Соловьева. Этому отчасти способствовало и личное знакомство с Вл. Соловьевым его научного руководителя по Московскому университету профессора А. И. Чупрова. Но Кандинского, безусловно, интересовал характер религиозных исканий в России того времени. Свидетельством тому является письмо художника к С. Булгакову с просьбой написать статью на эту тему для второго выпуска альманаха «Синий всадник», который должен был быть посвящен вопросам взаимосвязи искусства и науки. Но в то же самое время возможно определенно говорить о той общей духовной атмосфере, которая в равной степени питала как творческую мысль русских философов, так и творчество самого художника, а также о его приверженности русской культурной традиции в целом.
Своим студентам в Баухаузе Кандинский настоятельно рекомендовал читать Л. Толстого и Ф. Достоевского. Ему самому русская икона «открыла глаза» на абстрактное, а любовь и привязанность к Москве, образ Москвы на долгие годы стали главным камертоном его живописи:
«Эту внешнюю и внутреннюю Москву я считаю исходной точкой моих исканий. Она – мой живописный камертон. Мне кажется, что это всегда так было… я писал все ту же «натуру», но лишь форма моя совершенствовалась» [19].
В Германии, ставшей второй родиной Кандинского, немецкую культуру он также осваивал «по-русски». Этому отчасти способствовал тот факт, что его бабушка по материнской линии была немкой, и первые книжки, прочитанные ему в детстве, были немецкими. Поэтому и немецкий язык он вспоминал как язык своего детства. Это отчасти определило выбор Мюнхена в качестве города, где он решил профессионально заняться искусством.
«И полусознательное, но полное солнца обещание шевельнулось во мне. Оно воскресило мою оловянную буланку и привязало узелком Мюнхен к годам моего детства. Этой буланке я обязан чувством, которое я питал к Мюнхену: он стал моим вторым домом. Ребенком я много говорил по-немецки (мать моей матери была немка). И немецкие сказки моих детских лет ожили во мне… Ярко-желтые почтовые ящики пели на углах улиц свою громкую песню канареек. Я радовался надписи «Kunstmuhle», и мне казалось, что я живу в городе искусства, а значит, в городе сказки» [20].
Но выбор художника учиться именно в Германии имел и другие основания. Так, в начале XX века Россия и Германия во многом определяли исторические судьбы Европы. Общее кризисное состояние находит отражение и в общности духовных проблем. Возникает обоюдное стремление почерпнуть из другой культуры то, что недостает собственной. Художественную жизнь этого времени отличает развитие активных международных контактов, налаживание художественных связей. Следствием этого процесса является своеобразное взаимодействие культур между Россией и Германией.
«Немецкие Афины», «художественная мастерская Германии» – Мюнхен привлекал к себе многих художников. Сюда, как и в Париж, едут приобщиться к достижениям европейской культуры, посетить Старую и Новую Пинакотеку, Глиптотеку, музей живописи XIX века, международные выставки, устраивавшиеся в «Стеклянном дворце». Молодых художников влекло туда не только стремление получить художественное образование в знаменитой Мюнхенской академии художеств, известной своими художественными традициями, но и желание сделаться причастными к «развитию современных форм в живописи и изобразительном искусстве» [21].
На рубеже 1890-х годов в Мюнхене, в районе Швабинга, открывается множество частных художественных школ. В 1930 году в письме П. Вейсхайму Кандинский вспоминал:
«… в Швабинге, на улицах которого человек, будь то мужчина или женщина, без палитры или холста, или, по меньшей мере, без папки, сразу бросался в глаза, как «чужой в гнезде». Каждый рисовал… или декламировал, или музицировал, или танцевал. В каждом доме под крышей находились, по меньшей мере, два ателье, где иногда не столько работали, сколько дискутировали, дискуссировали, философствовали…
«Что такое Швабинг?» – спросили однажды берлинцев в Мюнхене. «Это – северная часть города» – ответил один. «Ничего подобного, – сказал другой, это состояние души». И это верно. Швабинг был духовным островом в большом мире, в Германии и, в первую очередь, в самом Мюнхене.
Здесь я жил долгие годы. Здесь я написал первую абстрактную картину. Здесь я был одержим мыслями о «чистой живописи, чистом искусстве». Я «аналитически» стремился обнаружить устанавливающиеся синтетические взаимосвязи, мечтал о наступающем «великом синтезе», чувствовал себя принужденным донести мои мысли не только окружающему меня острову, но и людям вне этого острова» [22].
Одновременно с Кандинским в Мюнхен приезжают И. Грабарь, М. Веревкина, А. Явленский, Д. Кардовский, в 1899 году М. Добужинский – образуется «русская колония», душою ее становится Веревкина. Это русское окружение способствовало тому, что Кандинский относительно легко и быстро входит в новую для него атмосферу мюнхенской жизни. А жизнь эта состояла из учебы, чтения книг по искусству, философии, музыке, анатомии, из регулярных посещений музеев, изучения новых работ по искусству.
Единая духовная среда, совместная учеба, общение, участие в выставках способствовали сближению и взаимопониманию художников. В определенной степени это было подготовлено и тем, что в 1890-е годы в среде русской интеллигенции увлекались философией Шопенгауэра и Ницше, романами Гофмана, музыкой Вагнера, живописью Беклина и Штука. Популяризация немецкого искусства в России была во многом связана с деятельностью «Мира искусства», его выставками и журналами.
В свою очередь, в Германии не без влияния Толстого и Достоевского можно наблюдать несомненный интерес к России. М. Мартенштейн в статье «Новейшая Германия в литературе и искусстве» так описывает это явление:
«Руссофильство, которое охватило нашу, новейшую Германию, наше молодое поколение, охотно поддалось освобождающей силе экстаза некоторых пророчески одаренных душ… Воспламеняются аскетическими идеалами, потребностью искупления» [23].
Кандинскому вспоминается живая картина общения русских и немецких художников:
«Постепенным освобождением духа – счастьем нашего времени – я объясняю тот глубокий интерес и все чаще замечательную веру в Россию, которые охватывают свободные к свободным восприятиям элементы в Германии. В последние перед войной годы ко мне все чаще стали приходить в Мюнхене эти прежде невиданные мною представители молодой, неофициальной Германии. Они проявляют не только интерес к сущности русской жизни, но и определенную веру в «спасение с востока». Мы ясно понимали друг друга и ясно чувствовали, что мы живем в одной и той же духовной сфере» [24].
Но была еще одна сторона во взаимодействии немецкой и русской культуры – это особый сложившийся интерес русской культуры к немецкой философской традиции, которой не чужд был и Кандинский. «Сумрачный германский гений» привлекал А. Пушкина. П. Чаадаев, блестяще знавший немецкую философию, подметил одну из ее особенностей: «В Германии вечно плавают по безбрежному океану «абстракции”; в нем немец чувствует себя более дома, более по себе, чем на суше» [25].
Бердяев считал, что германские идеализм и романтизм, Кант, Фихте, Гегель и особенно Шеллинг имели огромное значение для развития русской философской мысли. Философия славянофилов развивалась в значительной степени под воздействием Гегеля и Шеллинга, который всегда был в некотором смысле русским философом. Гете, понятый через Шеллинга, становится образцом поэта-философа. Под сильным влиянием Шеллинга находился и Вл. Соловьев. «В начале XX века после Шопенгауэра и Ницше опять обращаются к Шеллингу. Особое значение имела его поздняя философия мифологии и откровения, которая органично сливается с германской христианской теософией» [26].
В текстах Кандинского редко упоминается Гегель и Шеллинг, но на Канта и Гете он ссылался неоднократно, особенно в своих лекциях в Баухаузе. Шопенгауэра и Ницше он не раз вспоминает в своих статьях, а также в книге «О духовном в искусстве».
Оказавшись в Германии, Кандинский переживает сильное увлечение теософией. Эта наука о духе, как ее называл Штейнер, зародившаяся в начале XX века в Германии, не могла не привлечь его своей декларацией «духовной революции». Видимо, уже сама «русская почва» в определенной мере послужила восприятию им теософских идей. Достаточно будет упомянуть А. Белого, который непосредственно был связан со Р. Штейнером, или Вяч. Иванова с его мистически окрашенным символизмом.
В Германию Кандинский приезжает с сознанием того, что «материя исчезла». С теософией косвенным образом было связано все его мюнхенское окружение. В кружке Веревкиной читали и обсуждали труды Р. Штейнера, Е. Блаватской, К. Литбитера, Э. Шуре. «Новое объединение художников – Мюнхен», которое возглавил Кандинский, имело прямые контакты с Мюнхенским отделением теософского общества. Известна встреча А. Явленского со Штейнером, который с большим интересом отнесся к его искусству. В альманахе «Синий всадник» планировался материал, посвященный теософии; публикации помешало начало Первой Мировой войны.
По мнению С. Рингбома [27], пик интереса Кандинского к теософии приходится на 1904–1908 годы. Кандинский посещает лекции Штейнера, изучает теософскую литературу, вступает в теософское общество. В 1907 году он принимает участие в выставке теософского искусства.
Увлечение теософией приходится на момент его основных размышлений и поисков, осмысления своего места в искусстве. К тому же в 1908 году Кандинский переживает состояние нерешительности и неудовлетворенности тем, что он делает в живописи. Выйти из этого состояния ему, возможно, помогает теософия, в которой он находит определенный механизм абстракции, конкретный ход к решению своих художественных задач. Вместе с тем Г. Мюнтер, будучи его ученицей и в этот момент близко общавшаяся с Кандинским, всегда считала, что его теоретические взгляды были интересны сами по себе, с его стороны это был лишь живой интерес к оккультизму в целом, и теософские идеи он воспринял прежде всего как художник.
На наш взгляд, следуя одному из своих принципов и обладая способностью синтезировать в себе самые разнообразные знания и явления, к чему он призывал и своих студентов, Кандинский берет от теософии то, что считает целесообразным, то, что могло бы подтвердить его мысли, сформулировать взгляды и этим укрепить свою собственную позицию.
Рудольф Штейнер, возглавивший теософское общество в Германии, занимавшееся классической немецкой философией, естественными науками, подготовивший к публикации научные труды Гете, конечно, не мог не заинтересовать Кандинского. Штейнер вслед за Шюре считал, что новое спиритуальное воззрение приведет к единству науки и религии. В связи с этим Гете представлялся ему одним из родоначальников нового теософского движения, получившего название «антропософия».
Духовная наука, которую проповедовал Штейнер, располагала, по его мнению, определенной организацией духовного познания, что сводилось приблизительно к следующему. Душа изначально имеет естественное доверие к мышлению, которое лежит в основе всякого стремления человека к познанию. Умение предаваться жизни мысли несет в себе нечто успокоительное, мышление дает душе утешение. От этого ощущения недалеко до следующего шага, «когда душа говорит: не только я мыслю, но нечто мыслит во мне – становление мира высказывается во мне; моя душа являет только арену, на которой мысль изживает себя как мысль; мысля, я ощущаю себя единым с потоком мирового свершения» [28]. Штейнер считал, что, отдаваясь подобному настроению, возможно постепенно подготовить себя к достижению духовного познания, поскольку дело не в одном лишь познании того, что заключено в мысли, но в самом процессе переживания. В автобиографической книге «Ступени» Кандинский так описывает похожие переживания рождения формы:
«Все формы, когда бы то ни было мною употребленные, приходили ко мне «сами по себе”: они то становились перед глазами моими совершенно готовыми – мне оставалось их копировать, то они образовывались в счастливые часы уже в течение самой работы. Иногда они долго и упорно не давались, и мне приходилось терпеливо, а нередко и со страхом в душе дожидаться, пока они созреют во мне… Я думаю, этот душевный процесс оплодотворения, созревания плода, потуг и рождения вполне соответствуют физическому процессу зарождения и рождения человека. Быть может, так рождаются и миры» [29].
В своем искусстве Кандинский стремился почувствовать и воссоздать ту сущность, которая лежит в основе всего живого. Он считал, что искусство не отделено от жизни. Оно живет по тем же законам, что и любое живое существо. Художник способен вдохнуть жизнь в нетронутую еще плоскость холста. Отделяясь от художника, картина или произведение начинает жить самостоятельно, не зависимо от художника, участвуя во всеобщем космическом ритме. Оттого и элементы, из которых строится картина (точка, линия, плоскость) обладают у него той же живительной сущностью. Он стремится одухотворить их, наделить силой. Чистые, отвлеченные, абстрактные формы его искусства дают возможность языком живописи говорить о вечных духовных ценностях. И в этом смысле Кандинский был одержим идеей отыскать и зримо выразить универсальную космическую формулу бытия. Поэтому и произведение он воспринимает как рождение нового мира, поскольку оно должно создаваться по тем же законам мироздания. Оно должно нести в себе отблеск Божественной гармонии. В передаче этой гармонии он и видел смысл композиции – своеобразного мироустройства картины.
Теософия вполне могла подвести художника к подобному пониманию. Она укрепила его веру в себя, помогла раскрепоститься и заговорить на своем собственном языке. Теософская терминология органично входит в тексты его теоретических работ – душевные вибрации, живая сущность, внутреннее состояние души, внутреннее переживание, восхождение и т. д. Не случайно название его программной книги «О духовном в искусстве», как, впрочем, и автобиографического сочинения, которое в русской редакции получило название не «Взгляд назад» («Ruckblicke»), как в немецком, а «Ступени» (т. е. ступени восхождения).
В период Баухауза отношение Кандинского к теософии меняется, но интерес не пропадает. Известно, что и позднее он обращался к книгам А. Безант и В. Литбитера «Мыслеформы» и «Человек видимый и невидимый». Поэтому влияние теософии на Кандинского не следует недооценивать. Но вместе с тем неверно было бы всецело связывать творчество Кандинского только с реализацией теософских идей в искусстве. К тому же он сам, отмечая факт большого движения, вполне критично оценивал достижения теософии в книге «О духовном в искусстве»:
«Если даже теософы и склонны к созданию теории и несколько преждевременно радуются, что могут получить скорые ответы вместо того, чтобы стоять перед огромным вопросительным знаком, и если даже эта радость легко может настроить наблюдателя несколько скептически, все же остается факт большого духовного движения» [30].
Уже отмечалась способность Кандинского черпать свое вдохновение из разных источников. И, безусловно, находясь в Германии, он не мог пройти мимо той многочисленной, современной ему немецкоязычной литературы по философии, психологии, искусству, которая во многом послужила теоретической основой как искусства модерна, так и нового авангардистского искусства, в частности немецких экспрессионистов, с которыми он был непосредственно связан.
К. Фидлер, стоявший у истоков формального метода в искусствознании, одним из первых ввел понятие «внутренней необходимости» как самостоятельной эстетической категории. Он считал, что искусство не следует никаким иным законам, кроме законов внутренней природы. Исходя из философии Канта, он полагал, что искусству не дано, и оно не может проникнуть в «неизменную суть действительности», но оно способно стать «средством, которым человек завоевывает действительность» [31], «производством» действительности. И в этом смысле задача художника заключается не в том, чтобы выразить содержание своей эпохи, а в том, чтобы придать эпохе содержание.
Принцип внутренней необходимости стал определяющим в теории искусства Кандинского, но в отличие от Фидлера он приобрел у него несколько иной характер. В книге «О духовном в искусстве» он пишет:
«Внутренняя необходимость возникает по трем мистическим причинам. Она создается тремя мистическими необходимостями:
1) каждый художник как творец должен выразить то, что ему свойственно (индивидуальный элемент);
2) каждый художник как дитя своей эпохи должен выразить то, что присуще этой эпохе (элемент стиля во внутреннем значении, состоящий из языка эпохи и языка своей национальности, пока национальность существует как таковая);
3) каждый художник как служитель искусства должен давать то, что свойственно искусству вообще (элемент чисто и вечно художественного, который проходит через всех людей, через все национальности и через все времена; этот элемент можно видеть в художественном произведении каждого художника, каждого народа и каждой эпохи; как главный элемент искусства он не знает ни пространства, ни времени) [32].
Рассуждения Кандинского о соотношении природы и искусства так же оказываются созвучными теории «форм видения» Фидлера. Стремление найти и выразить свой собственный «индивидуальный элемент», соответствующий «языку эпохи» и являющийся выражением «чисто и вечно художественного» в искусстве, в конечном счете, приводит его к открытию новых форм видения – абстрактных форм. А желания выявить внутренние закономерности искусства, внутренние законы его развития выливаются в мечту о создании новой науки об искусстве.
Для Кандинского не могла остаться незамеченной книга друга и последователя Фидлера, скульптора и теоретика искусства А. Гильдебранта «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893), явление которой Г. Вельфлин сравнил с «действием освежающего дождя, упавшего на сухую почву» [33].
Следуя за Фидлером, Гильдебрант настаивал на том, что изобразительное искусство имеет дело «с предметом, который еще предстоит преобразить способом изображения, а не с предметом, самим по себе значительным и действующим поэтически или этически» [34]. Он предполагал, что смысл искусств не просто в познании, а в действии и в тех формах, в которых познание становится действием. Обсуждение художественной проблемы только тогда будет плодотворным, когда ход художественного процесса как результат определённой духовной деятельности будет прослежен не только теоретически, но и в его конечном, практическом, выполнении.
Рассуждения Гильдебранта, художника и теоретика, отличаются конкретностью и точностью. О чем бы он ни писал – о плоскостных или пространственных представлениях, о «приеме пересечения форм», о горизонтальных, вертикальных направлениях в картине, о ее левой и правой сторонах, об эффекте светлого и темного – все эти рассуждения воспринимаются как результат практической деятельности художника и как своеобразное практическое руководство.
И в этом смысле книгу Кандинского «Точка и линия на плоскости» вполне можно рассматривать как продолжение подобного рода литературы, основанной на выводах из собственной художественной практики. Более того, Кандинский буквально стремится написать «грамматику формы и цвета» – учебник для практического использования будущими художниками-студентами Баухауза.
Очевидно влияние Фидлера и Гильдебранта на Г. Вельфлина. «Если Фидлер дал философски-эстетическое обоснование формализма, Гильдебрант – его практически-художественное, то Вельфлин превратил его в научную доктрину, развернув ее на анализе классического искусства» [35]. Для Кандинского, прекрасно знавшего классическое искусство, концепция Вельфлина «история искусств без имен» была столь же органичной, как и теория «форм видения» Фидлера.
Вполне вероятно, что противопоставление «рисуночной» и «живописной» формы приходит в теорию искусства Кандинского именно от Вельфлина, как, впрочем, и понятие о плоскостном и глубинном, о замкнутой и открытой форме. А его озабоченность созданием науки об искусстве вполне может быть воспринята в русле главных настояний Вельфлина, направленных на изучение законов искусства, закономерностей появления той или иной формы, а также его стремлений создать самостоятельную, по возможности более объективную науку, опирающуюся на точный анализ.
Но если Вельфлин опирается на анализ форм классического искусства, то Кандинский идет дальше. С одной стороны, он пытается привлечь к анализу экспериментальный материал других искусств, не только изобразительных, например, психологии, физиологии и физики, как он делал это в ИНХУКе и ГАХНе, а с другой – рассматривает эти закономерности применительно к формам нового авангардистского искусства, чему были посвящены его теоретические занятия в Баухаузе. Анализируя образование живописных и рисуночных форм, Кандинский выстраивает формообразующие принципы и своего собственного абстрактного искусства.
Интерес к психологии у Кандинского возник еще в Мюнхене, но он не переставал следить за новыми научными исследованиями и открытиями в этой области и позднее. Его интересовали результаты исследований с целью привлечения этого материала как в качестве аргументации теории абстрактного искусства, так и с целью возможного сотрудничества на почве интеграции психологии и только зарождающейся науки об искусстве.
Так, в мюнхенское время художника увлекает теория «вчувствования» известного мюнхенского психолога Т. Липпса, которую он обсуждал с П. Клее. Заслугу Липпса Кандинский видит в том, что ему удалось применить механизм вчувствования, известный и до него, к анализу общей эволюции искусства, связать эту идею с понятием внешнего и внутреннего, материального и нематериального, что было актуально и для него самого. Кандинский считал, что лишь через вчувствование можно акцентировать внутреннее значение формы [36]. В статье «Содержание и форма» (1910), являющейся первым теоретическим текстом Кандинского, опубликованным в России, он писал:
«Произведение искусства состоит из двух элементов: внутреннего и внешнего. Внутренний элемент, взятый отдельно, есть эмоции души художника, которая… вызывает соответствующую душевную вибрацию другого человека, воспринимателя. В то время, когда душа связана с телом, она может воспринимать всякую вибрацию только через посредство чувств, которое и является мостом от нематериального к материальному (зритель). Эмоция – чувство – произведение – чувство – Эмоция» [37].
На теорию «вчувствования» Липпса опирался ученик А. Ригля В. Воррингер, с которым Кандинский, вероятно, был знаком лично – его материал планировалось поместить во втором выпуске альманаха «Синий всадник». Воррингер был одним из первых, кто выделил абстракцию как эстетическое данное, интерпретируя тем самым содержание абстрактной формы. Первоначально в диссертации, а затем и в книге «Абстракция и вчувствование» (1908) он противопоставил два этих понятия. Он утверждал, что вчувствование может являться ведущей силой тогда, когда общество стремится к органическому, когда оно стремится слиться с природой. Вчувствованием истолковывается классическая художественная воля, но она, в свою очередь, не способна интерпретировать многие другие формы в искусстве.
«Каковы же психологические предпосылки стремления к абстракции? Мы должны искать их в чувстве мира указанных народов, в их психологическом отношении к космосу. В то время как стремление к вчувствованию обусловлено счастливым пантеистическим отношением искренности между человеком и явлением внешнего мира, стремление к абстракции является следствием большого внутреннего конфликта между человеком и окружающем его внешнем миром и в религиозном отношении перекликается с сильной трансцендентной окраской всех представлений… Сильнейшем стремлением народов было стремление вырвать объект внешнего мира из природной взаимосвязи, из бесконечной игры существования, очистить его от всякой произвольности, сделать его необходимым и разумным, приблизить его к абсолютной ценности» [38].
Похожим желанием найти и выразить абсолютную ценность абстрактной формы одержим и Кандинский. Но абсолютная ценность абстрактной формы для него неотделима от абсолютной ценности содержания, которое обусловлено у него принципом внутренней необходимости.
«В искусстве форма определяется неизменно содержанием. И только та форма правильна, которая выражает, материализует соответственно содержание. Всякие побочные соображения, и среди них первое, а именно, соответствие формы так называемой «природе», т. е. природе внешней, несущественны и вредны, так как они отвлекают от единственной задачи формы, – воплощения его содержания. Форма есть материальное выражение абстрактного содержания… Прекрасно то произведение, форма которого вполне соответствует внутреннему содержанию. Таким образом, форма произведения определяется по существу его внутренней необходимостью» [39].
Насколько важной для Кандинского является проблема формы и содержания, свидетельствуют его публикации на эту тему: уже упоминавшаяся статья «Содержание и форма» к каталогу выставки Издебского, статья «К вопросу о форме» в альманахе «Синий всадник», значительное место этой проблеме отводится в книге «О духовном в искусстве». Одной из первых статей, опубликованных в Баухаузе, была статья «Основные элементы формы», а книга «Точка и линия на плоскости», ставшая как бы завершающим звеном его теории искусства, полностью посвящена анализу абстрактной формы на материале разбора свойств рисуночных и живописных форм и их взаимоотношения с живописными или цветовыми формами.
Так, теория искусства Кандинского складывалась постепенно в течение почти трех десятилетий. Составляющими этой теории стали проблемы соотношения искусства и природы или искусства и действительности, духовного и материального, внешнего и внутреннего, принцип внутренней необходимости или внутренней обусловленности формы, взаимодействия формы и содержания. В своей теории Кандинскому удалось синтезировать многие актуальные, животрепещущие вопросы своего времени, различные современные ему тенденции философии, психологии, искусства, соединить воедино две культурные традиции, русскую и немецкую. Формообразующий принцип абстрактного искусства как своеобразный результат его теоретических и практических поисков становится основой его художественно-научной и педагогической работы в Баухаузе.
Н. И. Дружкова, профессор, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения
О духовном в искусстве
Предисловие
В моем кратком предисловии я только хочу рассказать читателю об истории этой книги, излагающей эстетическую философию Кандинского – «О духовном в искусстве».
В течение нескольких лет Василий Васильевич записывал свои мысли и наблюдения. Эти записи – на немецком языке – и являются основой его книги. Закончена она была еще в 1910 году, но было очень трудно найти издателя, так как по своему содержанию книга была совершенно необычной для того времени.
Наконец, в 1911 году, мюнхенский издатель Пипер после некоторых колебаний взял на себя риск издания этой книги. В декабре того же года книга «О духовном в искусстве» вышла в свет. Успех был огромный, и в течение первого же года вышли три ее издания. Об этой книге тогда говорили, как о новом Евангелии в жизни искусства. В странах, где распространен немецкий язык, например, в Швейцарии, и даже в Голландии и скандинавских странах – книга «О духовном в искусстве» читалась всеми, кого интересовали вопросы искусства. Частично был уже сделан и русский перевод книги, но закончить его помешала война 1914 года.
В декабре 1911 года на заседании Всероссийского съезда художников Н. И. Кульбиным был сделан доклад «О духовном в искусстве» и прочитаны также некоторые главы из этой книги, в частности, та, в которой Кандинский говорит о разных возможных формах в абстрактном творчестве, – как, например, круге, квадрате, треугольнике. Все это, безусловно, оказало влияние на передовых русских художников, в том числе на К. Малевича.
Первый перевод этой книги с немецкого языка был сделан в Лондоне М. S. Sadler’ом в 1914 году. В 1924 году Ohara Kunioschi перевел ее на японский язык – и книга вышла в Токио. После большого перерыва, книга вышла в 1940 году в Риме, в переводе на итальянский язык G. A. Colonna di Cesaro. Все эти издания давно стали большой библиографической редкостью.
Начиная с 1946 года, «О духовном в искусстве» переводят во многих странах, что доказывает актуальность этой книги и большой к ней интерес. Вот список этих изданий:
1946: Нью-Йорк, издательство S. R. Guggenheim Museum.
1947: Нью-Йорк, издательство Wittenbom.
1949: Париж, издательство G. Dronin; переводчик – Pierre Volboudt; роскошное издание, тираж – 300 экз.
1951: Париж, издательство de Beaune; автор предисловия Charles Estienne; в течение этих лет вышло пять изданий этого перевода.
1952: Берн, издательство Benteli, на немецком языке; автор предисловия – Max Bill; за эти годы вышло семь изданий.
1956: Буэнос-Айрес, издательство Nuevo-Vision, на испанском языке.
1957: Токио, в переводе на японский язык, профессор Н. Nishida. За эти годы вышло восемь изданий.
1962: Утрехт, издательство Aula Boeken.
Готовится новый перевод на итальянский язык, но дата его выхода в свет еще точно не установлена.
Книга «О духовном в искусстве» всегда имела большое влияние на творчество художников и их подход к искусству, и это ее влияние все растет и растет.
Нина Кандинская
Сентябрь, 1966.
Предисловие к первому изданию
Мысли, которые я здесь развиваю, являются результатом наблюдения и душевных переживаний, постепенно накапливавшихся в течение последних пяти-шести лет. Я хотел написать на эту тему книгу большего объема, но для этого нужно было бы произвести множество экспериментов в области чувств. От этого плана мне на ближайшее время пришлось, однако, отказаться, так как я занят был другими, не менее важными работами. Быть может, я никогда не смогу осуществить его. Это более исчерпывающим образом и лучше меня сделает кто-нибудь другой, ибо это действительно необходимо. Мне приходится, таким образом, оставаться в пределах простой схемы и удовольствоваться указаниями на величину проблемы. Я буду счастлив, если эти указания не останутся без отклика.
Предисловие ко второму изданию
Этот небольшой труд был написан в 1910 году. До выхода в свет в январе 1912 года первого издания, я успел включить в него мои дальнейшие опыты. С тех пор прошло еще полгода, и мне сегодня открылся более свободный, более широкий горизонт. После зрелого размышления я отказался от дополнений, так как они только неравномерно уточнили бы некоторые части. Я решил собрать новый материал – результат опыта и тщательных наблюдений, накапливавшихся уже в течение нескольких лет; со временем они могли бы составить естественное продолжение этой книги в качестве отдельных частей, скажем, «Учения о гармонии в живописи». Таким образом построение этой книги во втором издании, которое должно было выйти в свет вскоре вслед за первым, осталось почти без изменений. Фрагментом дальнейшего развития (или дополнения) является моя статья «О вопросе формы» в «Синем Всаднике».
Кандинский
Мюнхен, апрель 1912 года.
I. Введение
Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств.
Так каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено. Стремление вдохнуть жизнь в художественные принципы прошлого может в лучшем случае вызвать художественные произведения, подобные мертворожденному ребенку. Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью. Так, например, усилия применить греческие принципы в пластическом искусстве могут создать лишь формы, сходные с греческими, но само произведение останется бездушным на все времена. Такое подражание похоже на подражание обезьян. С внешней стороны движения обезьяны совершенно сходны с человеческими. Обезьяна сидит и держит перед собой книгу, она перелистывает ее, делает задумчивое лицо, но внутренний смысл этих движений совершенно отсутствует.
Существует, однако, иного рода внешнее сходство художественных форм: его основой является настоятельная необходимость. Сходство внутренних стремлений всей духовно-моральной атмосферы, устремленность к целям, которые в основном и главном уже ставились, но впоследствии были забыты, то-есть сходство внутреннего настроения целого периода, может логически привести к пользованию формами, которые успешно служили тем же стремлениям периода прошлого. Частично этим объясняется возникновение нашей симпатии, нашего понимания, нашего внутреннего сродства с примитивами. Эти чистые художники так же, как и мы, стремились передавать в своих произведениях только внутренне-существенное, причем сам собою произошел отказ от внешней случайности.
Но, несмотря на всю значимость, эта важная внутренняя точка соприкосновения является все же только точкой. Наша душа, лишь недавно пробудившаяся от долгого периода материализма, таит в себе зародыш отчаяния – следствие неверия, бессмысленности и бесцельности. Еще не совсем миновал кошмар материалистических воззрений, сделавший из жизни вселенной злую бесцельную игру. Пробуждающаяся душа все еще живет под сильным впечатлением этого кошмара. Лишь слабый свет мерцает, как одинокая крошечная точка на огромном круге черноты. Этот слабый свет является лишь чаянием для души и увидеть его у души еще не хватает смелости; она сомневается, не есть ли этот свет сновидение, а круг черноты – действительность. Это сомнение, а также гнетущие муки – последствие философии материализма – сильно отличает нашу душу от души художников «примитивов». В нашей душе имеется трещина, и душа, если удается ее затронуть, звучит как надтреснутая драгоценная ваза, найденная в глубине земли. Вследствие этого переживаемое в настоящее время тяготение к примитиву может иметь лишь краткую длительность в его современной, в достаточной мере заимствованной форме.
Эти два сходства нового искусства с формами искусства прошлых периодов, как легко заметить, диаметрально противоположны. Первое сходство – внешнее и, как таковое, не имеет никакой будущности. Второе – есть сходство внутреннее и поэтому таит в себе зародыш будущего. Пройдя через период материалистического соблазна, которому душа как будто поддалась, но все же стряхивает его с себя, как злое искушение, она выходит возрожденной после борьбы и страданий. Более элементарные чувства – страх, радость, печаль и т. п. – которые, даже в этом периоде искушения, могли являться содержанием искусства, мало привлекательны для художника. Он будет пытаться пробуждать более тонкие, пока еще безымянные чувства. Сам он живет сложной, сравнительно утонченной жизнью и созданное им произведение безусловно пробудит в способном к тому зрителе более тонкие эмоции, которые не поддаются выражению в наших словах.
В настоящее время зритель, однако, редко способен к таким вибрациям. Он хочет найти в художественном произведении или чистое подражание природе, которое могло бы служить практическим целям (портрет в обычном смысле и т. п.), или подражание природе, содержащее известную интерпретацию: «импрессионистская» живопись, или же, наконец, облеченные в формы природы душевные состояния (то, что называют настроением)[40]. Все такие формы, если они действительно художественны, служат своему назначению и являются духовной пищей, даже и в первом случае. Особенно верно это для третьего случая, когда зритель в своей душе находит с ними созвучие. Разумеется, такая созвучность (также и отклик) не должны оставаться пустыми или поверхностными, а наоборот: «настроение» произведения может углубить и возвысить настроение зрителя. Такие произведения во всяком случае ограждают душу от вульгарности. Они поддерживают ее на определенной высоте, подобно тому, как настройка поддерживает на надлежащей высоте струны музыкального инструмента. Однако, утончение и распространение этого звучания во времени и пространстве все же остается односторонним, и возможное действие искусства этим не исчерпывается.
Большое, очень большое, меньшее или средней величины здание разделено на различные комнаты. Все стены комнат завешены маленькими, большими, средними полотнами. Часто несколькими тысячами полотен. На них, путем применения красок, изображены куски «природы», животные, освещенные или в тени, животные, пьющие воду, стоящие у воды, лежащие на траве; тут же распятие Христа, написанное неверующим в Него художником; цветы, человеческие фигуры – сидящие, стоящие, идущие, зачастую также нагие; много обнаженных женщин (часто данных в ракурсе сзади); яблоки и серебряные сосуды; портрет тайного советника Н.; вечернее солнце; дама в розовом; летящие утки; портрет баронессы X.; летящие гуси; дама в белом; телята в тени с ярко солнечными бликами; портрет его превосходительства У.; дама в зеленом. Все это тщательно напечатано в книге: имена художников, названия картин. Люди держат эти книги в руках и переходят от одного полотна к другому, перелистывают страницы, читают имена. Затем они уходят, оставаясь столь же бедными или столь же богатыми, и тотчас же погружаются в свои интересы, ничего общего не имеющие с искусством. Зачем они были там? В каждой картине таинственным образом заключена целая жизнь, целая жизнь со многими муками, сомнениями, часами вдохновения и света.
Куда направлена эта жизнь? К каким сферам взывает душа художника, если и она творила? Что она хочет возвестить? «Призвание художника – посылать свет в глубины человеческого сердца», говорит Шуман. «Художник – это человек, который может нарисовать и написать все», говорит Толстой.
Когда мы думаем о только-что описанной выставке, то нам приходится избрать второе из этих двух определений деятельности художника. На полотне с большим или меньшим уменьем, виртуозностью и блеском возникают предметы, которые находятся в более или менее элементарном или тонком «живописном» взаимоотношении. Гармонизация целого на полотне является путем, ведущим к созданию произведения искусства. Это произведение осматривается холодными глазами и равнодушной душой. Знатоки восхищаются «ремеслом» (как восхищаются канатным плясуном), наслаждаются «живописностью» (как наслаждаются паштетом).
Голодные души уходят голодными.
Толпа бродит по залам и находит, что полотна «милы» и «великолепны». Человек, который мог бы сказать что-то, ничего человеку не сказал, и тот, кто мог бы слышать, ничего не услышал.
Это состояние искусства называется l‘art pour l‘art.
Это уничтожение внутреннего звучания, звучания, являющегося жизнью красок, это сеяние в пустоту сил художника, есть «искусство для искусства».
За свою искусность, за дар изобретательности и дар восприятия художник ищет оплату в материальной форме. Его целью становится удовлетворение честолюбия и корыстолюбия. Вместо углубленной совместной работы художников возникает борьба за эти блага. Жалуются на чрезмерную конкуренцию и на перепроизводство. Ненависть, пристрастное отношение, кружковщина, ревность, интриги являются последствиями этого бесцельного материалистического искусства[41].
Зритель спокойно отворачивается от художника, видящего цель своей жизни не в бесцельном искусстве, а ставящего себе высшие цели.
Понимание выращивает зрителя до точки зрения художника. Ранее мы сказали, что искусство есть дитя своего времени. Такое искусство способно лишь художественно повторить то, чем уже ясно заполнена современная атмосфера. Это искусство, не таящее в себе возможностей для будущего, искусство, которое есть только дитя своего времени и которое никогда не станет матерью будущего – является искусством выхолощенным. Оно кратковременно; оно морально умирает в тот момент, когда изменяется создавшая его атмосфера.
Другое искусство, способное к дальнейшему развитию, также имеет корни в своей духовной эпохе, но оно является не только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждающей, пророческой силой, способной действовать глубоко и на большом протяжении.
Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь; это движение сложное, но определенное и переводимое в простое. Оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель.
Во мраке скрыты причины необходимости устремляться «в поте лица» вперед и ввысь – через страдания, зло и муки. После того, как пройдет один этап и с пути устранены некоторые преграды, какая-то неведомая злая рука бросает на дорогу новые глыбы, которые иной раз, казалось бы, совершенно засыпают дорогу, делая ее неузнаваемой.
Тогда неминуемо приходит один из нас – людей; он во всем подобен нам, но несет в себе таинственно заложенную в него силу «видения». Он видит и указывает. Иногда он хотел бы избавиться от этого высшего дара, который часто бывает для него тяжким крестом. Но он этого сделать не может. Сопровождаемый издевательством и ненавистью, всегда вперед и ввысь тянет он застрявшую в камнях повозку человечества.
Часто на земле уже давно ничего не осталось от его телесного Я, и тогда всеми средствами стараются передать это телесное в гигантского масштаба мраморе, железе, бронзе и камне. Как будто телесное имело какое-либо значение для таких божественных служителей и мучеников человечества, презиравших телесное и служивших одному только духовному. Как бы то ни было, эта тяга к возвеличению в мраморе служит доказательством, что большая часть человеческой массы достигла той точки зрения, на которой некогда стоял тот, кого теперь чествуют.
II. Движение
Большой остроконечный треугольник, разделенный на неравные части, самой острой и самой меньшей своей частью направленный вверх – это схематически верное изображение духовной жизни. Чем больше книзу, тем больше, шире, объемистее и выше становятся секции треугольника.
Весь треугольник медленно, едва заметно движется вперед и вверх, и там, где «сегодня» находился наивысший угол, «завтра»[42] будет следующая часть, т. е. то, что сегодня понятно одной лишь вершине, что для всего остального треугольника является непонятным вздором – завтра станет для второй секции полным смысла и чувства содержанием жизни.
На самой вершине верхней секции иногда находится только один человек. Его радостное видение равнозначуще неизмеримой внутренней печали. И те, кто к нему ближе всего, его не понимают. Они возмущенно называют его мошенником или кандидатом в сумасшедший дом. Так, поруганный современниками, одиноко стоял на вершине Бетховен[43].
Сколько понадобилось лет, прежде чем большая секция треугольника достигла вершины, где Бетховен когда-то стоял в одиночестве. И, несмотря на все памятники, – так ли уж много людей действительно поднялось на эту вершину?[44]
Во всех частях треугольника можно найти представителей искусства. Каждый из них, кто может поднять взор за пределы своей секции, для своего окружения является пророком и помогает движению упрямой повозки. Но, если он не обладает этим зорким глазом или пользуется им для низменных целей и поводов, или закрывает глаза, то он полностью понятен всем товарищам своей секции, и они чествуют его. Чем больше эта секция (то-есть чем ниже она одновременно находится), тем больше количество людей, которым понятна речь художника. Ясно, что каждая такая секция сознательно (или чаще несознательно) хочет соответствующего ему духовного хлеба. Этот хлеб ему дают его художники, а завтра этого хлеба будет добиваться уже следующая секция.
Разумеется, что схематическое изображение не исчерпывает всей картины духовной жизни. Оно, между прочим, не показывает теневой стороны, не показывает большого мертвого черного пятна. Слишком часто бывает, что указанный духовный хлеб становится пищей некоторых пребывающих уже в более высокой секции. Для такого едока этот хлеб становится ядом: в малой дозе он действует так, что душа из более высокой секции постепенно спускается в следующую низшую; употребляемый в большей дозе этот яд приводит к падению, сбрасывающему душу во все более и более низкие секции. Сенкевич в одном из своих романов сравнивает духовную жизнь с плаванием: кто не работает неустанно и не борется все время с погружением, неизбежно погибает. Тут дарование человека, его «талант» (в евангельском значении слова) может стать проклятием не только для художника – носителя этого таланта, но и для всех, кто вкушает этот ядовитый хлеб. Художник пользуется своей силой для потворства низменным потребностям; в якобы художественной форме он изображает нечистое содержание, он привлекает к себе слабые элементы, постоянно смешивает их с дурными, обманывает людей и помогает им обманывать себя, убеждая себя и других, что они жаждут духовно и удовлетворяют эту жажду из чистого источника. Такого рода произведения не помогают движению ввысь, они тормозят, оттесняют назад стремящихся вперед и распространяют вокруг себя заразу.
Периоды, когда искусство не имеет ни одного крупного представителя, когда отсутствует преображенный хлеб, являются периодами упадка в духовном мире. Души непрерывно падают из высших секций в низшие, и весь треугольник кажется стоящим неподвижно. Кажется, что он движется вниз и назад. Во время этих периодов немоты и слепоты люди придают особенное и исключительное значение внешним успехам, они заботятся лишь о материальных благах и как великое достижение приветствуют технический прогресс, который служит и может служить только телу. Чисто духовные силы в лучшем случае недооцениваются, а то и вообще остаются незамеченными.
Одиноких алчущих и имеющих способность видеть высмеивают или считают психически ненормальными. А голоса редких душ, которых невозможно удержать под покровом сна, которые испытывают смутную потребность духовной жизни, знания и прогресса, звучат жалобно и безнадежно в грубом материальном хоре. Постепенно духовная ночь спускается все глубже и глубже. Все серее и серее становится вокруг таких испуганных душ, и носители их, измученные и обессиленные сомнениями и страхом, часто предпочитают этому постепенному закату внезапное насильственное падение к черному.
В такие времена искусство ведет унизительное существование, оно используется исключительно для материальных целей. Оно ищет материал для своего содержания в грубо материальном, так как более возвышенное ему неизвестно. Оно считает своей единственной целью зеркально отражать предметы, и эти предметы остаются неизменно теми же самыми. «Что» в искусстве отпадает ео ipso. Остается только вопрос, «как» этот предмет передается художником. Этот вопрос становится «Credo» (Символом веры). Искусство обездушено.
Искусство продолжает идти по пути этого «Как». Оно специализируется, становится понятным только самим художникам, которые начинают жаловаться на равнодушие зрителя к их произведениям. Обычно художнику в такие времена незачем много говорить и его замечают уже при наличии незначительного «иначе». За это «иначе» известная кучка меценатов и знатоков искусства выделяют его (что затем, при случае, приносит большие материальные блага!), поэтому большая масса внешне одаренных ловких людей набрасывается на искусство, которым, по-видимому, так просто овладеть. В каждом «художественном центре» живут тысячи и тысячи таких художников, большинство которых ищут только новой манеры. Они без воодушевления, с холодным сердцем, спящей душой создают миллионы произведений искусства.
«Конкуренция» растет. Дикая погоня за успехом делает искания все более внешними. Маленькие группы, которые случайно пробились из этого хаоса художников и картин, окапываются на завоеванных местах. Оставшаяся публика смотрит, не понимая, теряет интерес к такому искусству и спокойно поворачивается к нему спиной.
Но, несмотря на все ослепление, несмотря на этот хаос и дикую погоню, духовный треугольник в действительности медленно, но верно, с непреодолимой силой движется вперед и ввысь.
Незримый Моисей нисходит с горы, видит пляску вокруг золотого тельца. Но с собой он все же несет людям новую мудрость.
Его неслышную для масс речь все-таки прежде всех других слышит художник. Он сначала бессознательно и незаметно для самого себя следует зову. Уже в самом вопросе «Как» скрыто зерно исцеления. Если это «Как» в общем и целом и остается бесплодным, то в самом «иначе», которое мы и сегодня еще называем «индивидуальностью», все же имеется возможность видеть в предмете не одно только исключительно материальное, но также и нечто менее телесное, чем предмет реалистического периода, который пытались воспроизводить как таковой и «таким, как он есть», «без фантазирования»[45].
Если это «Как» включает и душевные эмоции художника и если оно способно выявлять его более тонкие переживания, то искусство уже на пороге того пути, где безошибочно сможет найти утраченное «Что», которое будет духовным хлебом наступающего теперь духовного пробуждения. Это «Что» уже больше не будет материальным, предметным «Что» миновавшего периода, оно будет художественным содержанием, душой искусства, без которой ее тело («Как») никогда не будет жить полной здоровой жизнью, так же, как не может жить отдельный человек или народ.
Это «Что» является содержанием, которое может вместить в себя только искусство; и только искусство способно ясно выразить это содержание средствами, которые только ему, искусству, присущи.
III. Поворот к духовному
Духовный треугольник медленно движется вперед и ввысь. В наше время одна из нижних наибольших секций достигает ступени первых лозунгов материалистического «Credo». В религиозном отношении обитатели этой секции носят различные имена. Они называются иудеями, католиками, протестантами и т. д. В действительности же они атеисты, что открыто признают некоторые из наиболее смелых или наиболее ограниченных из них. «Небеса» опустели. «Бог умер». Политически эти обитатели являются приверженцами народного представительства или республиканцами. Боязнь, отвращение и ненависть, которую они вчера чувствовали к этим политическим воззрениям, они сегодня переносят на анархию, которая им неизвестна; им знакомо только ее название, и оно вызывает в них ужас. Экономически эти люди являются социалистами. Они оттачивают меч справедливости, чтобы нанести смертельный удар гидре капитализма и отрубить этому злу голову.
Обитатели большой секции треугольника никогда самостоятельно не решали вопросов; их всегда тащили в повозке человечества жертвующие собою ближние, стоящие духовно выше их. Поэтому им ничего неизвестно о том, что значит тащить повозку, – они наблюдали это всегда с большого расстояния. Поэтому они думают, что тащить ее очень легко. Они верят в безупречные рецепты и в безошибочно действующие средства.
Следующая, более низкая, секция вслепую подтягивается упомянутой выше секцией на эту высоту. Но она все еще крепко держится на старом месте, сопротивляется, опасается попасть в неизвестное, чтобы не оказаться обманутой.
Более высокие секции не только слепо атеистичны в отношении религии, но могут обосновать свое безбожие чужими словами, – например, недостойной ученого фразой Вихрова: «Я вскрыл много трупов и никогда при этом не обнаружил души». Политически они чаще бывают республиканцами; им знакомы различные парламентские обычаи; они читают политические передовицы в газетах. Экономически они являются социалистами различных нюансов и могут подкреплять свои «убеждения» многими цитатами (начиная от «Эммы» Швейцера, к «Железному Закону» Лассаля, до «Капитала» Маркса и еще многих других).
В этих более высоких секциях имеются и другие рубрики, которых не было в только что описанных; это наука и искусство, а также литература и музыка.
В научном отношении эти люди – позитивисты. Они признают только то, что может быть взвешено и измерено. Остальное они считают той же вредной чепухой, какой они вчера считали «доказанные» сегодня теории.
В искусстве – они натуралисты. Они признают и ценят личность, индивидуальность и темперамент художника, но только до известной границы, проведенной другими, и в эту границу поэтому они твердо верят.
Несмотря на, по-видимому, большой порядок и на непогрешимые принципы, в этих высших секциях все же можно найти скрытый страх, смятение, шаткость и неуверенность, как это бывает в головах пассажиров большого прочного океанского парохода, когда в открытом море, при скрывшейся в тумане суше, собираются черные тучи и угрюмый ветер громоздит черные водяные горы. Причиной тому является их образование. Они знают, что почитаемый сегодня ученый, государственный деятель, художник еще вчера был осмеян – как недостойный серьезного взгляда карьерист, мошенник, халтурщик.
И, чем выше в этом духовном треугольнике, тем очевиднее этот страх, эта неуверенность проступает наружу своими острыми углами. Во-первых, встречаются глаза, которые могут самостоятельно видеть, встречаются головы, способные к сопоставлениям. Такие одаренные люди спрашивают себя: раз позавчерашняя мудрость была низвергнута вчерашней, а вчерашняя – сегодняшней, то, может быть, и современная мудрость будет сметена завтрашней. И наиболее смелые из них отвечают: «Все это вполне возможно!».
Во-вторых, находятся глаза, способные видеть то, что «еще не объяснено» современной наукой. Такие люди задают себе вопрос: «Придет ли современная наука на пути, по которому она уже так долго движется, к решению этих загадок? И, если она придет к их решению, можно ли будет положиться на ее ответы?».
В этих секциях находятся и профессиональные ученые, помнящие, как встречались академиями новые факты, ныне твердо установленные и признанные теми же академиями. Тут же находятся искусствоведы, которые пишут глубокомысленные книги, полные признания того искусства, которое вчера еще считалось бессмысленным. Этими книгами они устраняют препятствия, которые искусство давно уже преодолело, и устанавливают новые, которые на этот раз должны будут твердо и на все времена стоять на этом новом месте. Занимаясь этим, они не замечают, что строят преграды не впереди, а позади искусства. Когда они завтра заметят это, то напишут новые книги и быстро переставят свои преграды подальше. Это останется неизменным до тех пор, пока не будет понято, что внешний принцип искусства может быть действительным только для прошлого, но никогда для будущего. Теоретического обоснования этого принципа для дальнейшего пути, лежащего в области нематериального, быть не может. Не может кристаллизоваться в материи то, чего еще материально не существует. Дух, ведущий в царство завтрашнего дня, может быть познан только чувством. Путь туда пролагает талант художника. Теория – это светоч, который освещает кристаллизовавшиеся формы вчерашнего и позавчерашнего. (Дальнейшее об этом см. гл. VII, Теория.)
Поднимаясь еще выше, мы столкнемся с еще большим смятением, как в большом городе, прочно возведенном по всем архитектонически-математическим правилам, внезапно потрясенном чудовищной силой. Человечество действительно живет в таком духовном городе, где внезапно проявляются силы, с которыми не считались духовные архитекторы и математики. Тут, как карточный домик, рухнула часть толстой стены; там лежит в развалинах огромная, достигавшая небес, башня, построенная из многих сквозных, как кружево, но «бессмертных» духовных устоев. Старое забытое кладбище сотрясается, открываются древние забытые могилы, и из них поднимаются позабытые духи. Столь искусно смастеренное солнце обнаруживает пятна и темнеет, и где замена для борьбы с мраком?
В этом городе живут также и глухие люди, которых оглушила чуждая мудрость, и которые не слышали как рухнул город; они также не видят, ибо чужая мудрость ослепила их; они говорят: «Наше солнце становится все светлее и мы скоро увидим, как исчезнут последние пятна». Но и у этих людей отверзнутся очи и слух.
А еще выше никакого страха уже не существует. Там происходит работа, смело расшатывающая заложенные людьми устои. Здесь мы также находим профессиональных ученых, которые снова и снова исследуют материю; они не знают страха ни перед каким вопросом и, в конце концов, ставят под сомнение саму материю, на которой еще вчера все покоилось, и на которую опиралась вся вселенная. Теория электронов (т. е. движущегося электричества), которые должны всецело заменить материю, находит сейчас отважных конструкторов, которые то здесь, то там переступают границы осторожности и погибают при завоевании новой научной твердыни: так погибают воины при штурме упорной крепости, забывая о себе и принося себя в жертву. Но «нет крепости, которую невозможно было бы взять».
С другой же стороны, множатся или чаще становятся известными факты, которые вчерашняя наука приветствовала привычным словом «надувательство». Даже газеты, эти большей частью послушные слуги успеха и плебса, торгующие и встречающие покупателя словами «чего изволите?», вынуждены в некоторых случаях умерять или даже совсем отказываться от иронического тона при сообщениях о «чудесах». Различные ученые, среди которых имеются и материалисты чистейшей воды, посвящают свои силы научному исследованию загадочных фактов, которые невозможно дольше ни отрицать, ни замалчивать[46].
С другой стороны, множится число людей, которые не возлагают никаких надежд на методы материалистической науки в вопросах, касающихся всего того, что не есть материя, или всего того, что недоступно органам чувств. И, подобно искусству, которое ищет помощи у примитивов, эти люди обращаются к полузабытым временам с их полузабытыми методами, чтобы там найти помощь. Эти методы, однако, еще живы у народов, на которых мы, с высоты наших знаний, привыкли смотреть с жалостью и презрением.
К числу таких народов относятся, напр., индусы, которые время от времени преподносят ученым нашей культуры загадочные факты, факты, на которые или не обращали внимания или от которых, как от назойливых мух, пытались отмахнуться поверхностными словами и объяснениями[47]. Е. П. Блаватская, пожалуй, первая, после долголетнего пребывания в Индии, установила крепкую связь между этими «дикарями» и нашей культурой. Этим было положено начало одного из величайших духовных движений, которое объединяет сегодня большое число людей в «Теософском Обществе». Общество это состоит из лож, которые путем внутреннего познания пытаются подойти к проблемам духа. Их методы являются полной противоположностью позитивным методам; в своей исходной точке они взяты из существовавшего уже раньше, но получили теперь новую, сравнительно точную форму[48].
Теория, составляющая основу этого теософского движения, была дана Блаватской в форме катехизиса, где ученик получает точные ответы теософа на свои вопросы[49]. По словам Блаватской, теософия равнозначуща вечной истине (стр. 248). «Новый посланец истины найдет человечество подготовленным Теософским Обществом для своей миссии; он найдет формы выражения, в которые сможет облечь новые истины; организацию, которая в известном отношении ожидает его прибытия, чтобы тогда убрать с его пути материальные препятствия и трудности» (стр. 250). Блаватская считает, что «в двадцать первом веке земля будет раем по сравнению с тем, какова она в настоящее время» – этими словами она заканчивает свою книгу. Во всяком случае, если даже теософы и склонны к созданию теории и несколько преждевременно радуются, что могут получать скорые ответы вместо того, чтобы стоять перед огромным вопросительным знаком, и если даже эта радость легко может настроить наблюдателя несколько скептически, все же остается факт большого духовного движения. В духовной атмосфере это движение является сильным фактором и в этой форме оно, как звук избавления, дойдет до многих отчаявшихся сердец, окутанных мраком ночи, оно будет для них рукой, указующей и подающей помощь.
Когда потрясены религия, наука и нравственность (последняя сильной рукой Ницше) и внешние устои угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя.
Литература, музыка и искусство являются первыми, наиболее восприимчивыми сферами, где этот поворот к духовному становится заметным в реальной форме. Эти сферы немедленно отражают мрачную картину современности, они предугадывают то Великое, которое, как крошечная точка, замечается немногими и для масс не существует.
Они отражают великий мрак, который еще едва проступает. Они сами облекаются во мрак и темноту. С другой же стороны, они отворачиваются от опустошающего душу содержания современной жизни и обращаются к сюжетам и окружению, дающим свободный исход нематериальным устремлениям жаждущей души.
В области литературы одним из таких явлений является писатель Метерлинк. Он вводит нас в мир, который называют фантастическим или, вернее, сверхчувственным. Его Princesse Maleine, Sept Princesses, Les Aveugles и т. д. не являются людьми прошедших времен, каких мы встречаем среди стилизованных героев Шекспира. Это просто души, ищущие в тумане, где им угрожает удушье. Над ними нависает невидимая мрачная сила. Духовный мрак, неуверенность неведения и страх перед ними – таков мир его героев. Таким образом Метерлинк является, быть может, одним из первых пророков, одним из первых ясновидцев искусства, возвещающих описанный выше упадок. Омрачнение духовной атмосферы, разрушающая и в то же время ведущая рука, отчаяние и страх перед ней, утерянный путь, отсутствие руководителя, отчетливо отражаются в его сочинениях[50].
Эту атмосферу он создает, пользуясь чисто художественными средствами, причем материальные условия – мрачные замки, лунные ночи, болота, ветер, совы и т. д., – играют преимущественно символическую роль и применяются больше для передачи внутреннего звучания[51].
Главным средством Метерлинка является пользование словом.
Слово есть внутреннее звучание. Это внутреннее звучание частично, а может быть и главным образом, исходит от предмета, для которого слово служит названием. Когда, однако, самого предмета не видишь, а только слышишь его название, то в голове слышащего возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, который тотчас вызывает в «сердце» вибрацию. Так зеленое, желтое, красное дерево на лугу есть только материальный случай, случайно материализовавшаяся форма дерева, которую мы чувствуем в себе, когда слышим слово «дерево». Искусное применение слова (в согласии с поэтическим чувством), – внутренне необходимое повторение его два, три, несколько раз подряд, может привести не только к возрастанию внутреннего звучания, но выявить и другие неизвестные духовные свойства этого слова. В конце концов, при частом повторении слова (любимая детская игра, которая позже забывается) оно утрачивает внешний смысл. Даже ставший абстрактным смысл указанного предмета так же забывается и остается лишь звучание слова. Это «чистое» звучание мы слышим, может быть, бессознательно – и в созвучии с реальным или позднее ставшим абстрактным предметом. В последнем случае, однако, это чистое звучание выступает на передний план и непосредственно воздействует на душу. Душа приходит в состояние беспредметной вибрации, которая еще более сложна, я бы сказал, более «сверхчувственна», чем душевная вибрация, вызванная колоколом, звенящей струной, упавшей доской и т. д. Здесь открываются большие возможности для литературы будущего. В эмбриональной форме эта мощь слова применяется, например, уже в Serres Chaudes. Поэтому у Метерлинка слово, на первый взгляд казалось бы нейтральное, звучит зловеще. Обыкновенное простое слово, например, «волосы», при верно прочувствованном применении, может вызывать атмосферу безнадежности, отчаяния. И Метерлинк пользуется этим средством. Он показывает путь, где вскоре становится ясным, что гром, молния, луна за мчащимися тучами являются внешними материальными средствами, которые на сцене еще больше, чем в природе, похожи на детское пугало. Действительно внутренние средства не так легко утрачивают свою силу и влияние[52]. И слово, которое имеет таким образом два значения, первое – прямое, и второе – внутреннее, является чистым материалом поэзии и литературы, материалом, применять который может только это искусство и посредством которого оно говорит душе.
Нечто подобное вносил в музыку Р. Вагнер. Его знаменитый лейтмотив также представляет собою стремление характеризовать героя не путем театральных аксессуаров, грима и световых эффектов, а путем точного мотива, то-есть чисто музыкальными средствами. Этот мотив является чем то вроде музыкально выраженной духовной атмосферы, предшествующей герою, атмосферы, которую он таким образом духовно излучает на расстоянии[53].
Наиболее современные музыканты, как, например, Дебюсси, передают духовные импрессии, которые они нередко перенимают от природы и в чисто музыкальной форме претворяют в духовные картины. Именно Дебюсси часто сравнивается с художниками-импрессионистами; о нем утверждают, что он, как и они, пользуется крупными индивидуальными мазками, вдохновляясь в своих произведениях явлениями природы. Правильность этого утверждения является лишь примером того, как в наши дни различные виды искусства учатся друг от друга и как часто их цели бывают похожи. Однако, было бы слишком смело утверждать, что значение Дебюсси исчерпывающим образом представлено в этом определении. Несмотря на точки соприкосновения с импрессионистами, стремление музыканта к внутреннему содержанию настолько сильно, что в его вещах можно сразу же почувствовать его душу со всеми ее мучительными страданиями, волнениями и нервным напряжением современной жизни. А с другой стороны, Дебюсси в «импрессионистских» картинках никогда не применяет чисто материальной ноты, характерной для программной музыки, а ограничивается использованием внутренней ценности явления.
Сильное влияние на Дебюсси оказала русская музыка – Мусоргский. Не удивительно, что имеется известное сродство Дебюсси с молодыми русскими композиторами, к числу которых, в первую очередь, следует причислить Скрябина. В звучании их композиций имеется родственная нота. Одна и та же ошибка часто неприятно задевает слушателя. Иногда оба композитора совершенно внезапно вырываются из области «новых уродств» и следуют очарованию более или менее общепринятой «красивости». Часто слушатель чувствует себя по настоящему оскорбленным, когда его, как теннисный мяч, перебрасывают через сетку, разделяющую две партии противников – партию внешней «красивости» и партию внутренне прекрасного. Эта внутренняя красота есть красота, которую, отказываясь от привычной красивости, изображают в силу повелительной внутренней необходимости. Человеку, не привыкшему к этому, эта внутренняя красота, конечно, кажется уродством, ибо человек вообще склонен к внешнему и не охотно признает внутреннюю необходимость, – особенно в наше время! Этот полный отказ от привычно-красивого есть путь, которым в наши дни идет венский композитор Арнольд Шенберг. Он пока еще в одиночестве и лишь немногие энтузиасты признают его. Он считает, что все средства святы, если ведут к цели самопроявления. Этот «делатель рекламы», «обманщик» и «халтурщик» говорит в своем учении о гармонии: «…возможно всякое созвучие, любое прогрессивное движение. Но я уже теперь чувствую, что и здесь имеются известные условия, от которых зависит, применяю ли я тот или иной диссонанс»[54].
Здесь Шенберг ясно чувствует, что величайшая свобода, являющаяся вольным и необходимым дыханием искусства, не может быть абсолютной. Каждой эпохе дана своя мера этой свободы. И даже наигениальнейшая сила не в состоянии перескочить через границы этой свободы. Но эта мера во всяком случае должна быть исчерпана и в каждом случае и исчерпывается. Пусть упрямая повозка сопротивляется как хочет! Исчерпать эту свободу стремится и Шенберг и на пути к внутренне необходимому он уже открыл золотые россыпи новой красоты. Музыка Шенберга вводит нас в новое царство, где музыкальные переживания являются уже не акустическими, а чисто психическими. Здесь начинается «музыка будущего».
После реалистических идеалов в живопись, сменяя их, входят импрессионистские стремления. В своей догматической форме и чисто натуралистических целях они завершаются теорией неоимпрессионизма, одновременно приближающегося к области абстрактного. Теорией неоимпрессионистов – которую они считают универсально признанным методом – является не передача на полотне случайного отрезка жизни, а выявление всей природы во всем ее блеске и великолепии[55].
К этому же приблизительно времени относятся три явления совершенно другого рода: Россетти и его ученик Берн-Джонс с рядом их последователей, Беклин и пошедший от него Штук с их последователями, и Сегантини, за которым также тянутся недостойные формальные подражатели.
Я остановился именно на этих трех для того, чтобы охарактеризовать искания в нематериальных областях. Россетти обратился к прерафаэлитам и пытался влить новую жизнь в их абстрактные формы. Беклин ушел в область мифов и сказок, но в противоположность Россетти, облекал свои абстрактные образы в сильно развитые материально-телесные формы. Сегантини в этом ряду – внешне наиболее материальный. Он брал совершенно готовые природные формы, которые нередко отрабатывал до последних мелочей (напр., горные цепи, камни, животных и т. д.), и всегда умел, несмотря на видимо материальную форму, создать абстрактные образы. Возможно, благодаря этому он внутренне наименее материальный из них. Эти художники являются искателями внутреннего содержания во внешних формах.
Иным путем, более свойственным чисто живописным средствам, подходил к похожей задаче искатель нового закона формы – Сезанн. Он умел из чайной чашки создать одушевленное существо или, вернее сказать, увидеть существо этой чашки. Он поднимает «nature-morte» до той высоты, где внешне-«мертвые» вещи становятся внутренне живыми. Он трактует эти вещи так же, как человека, ибо обладает даром всюду видеть внутреннюю жизнь. Он дает им красочное выражение, которое является внутренней живописной нотой, и отливает их в форму, поднимающуюся до абстрактно-звучащих, излучающих гармонию, часто математических формул. Изображается не человек, не яблоко, не дерево. Все это используется Сезанном для создания внутренне живописно звучащей вещи, называемой картиной. Так же называет свои произведения один из величайших новейших французских художников – Анри Матисс. Он пишет «картины» и в этих «картинах» стремится передать «божественное»[56]. Чтобы достигнуть этого, он берет в качестве исходной точки какой-нибудь предмет (человека или что-либо иное) и пользуется исключительно живописными средствами – краской и формой. Руководимый чисто индивидуальными свойствами, одаренный как француз особенно и прежде всего колористически, Матисс приписывает краске преобладающее значение и наибольший вес. Подобно Дебюсси, он в течение долгого времени не всегда мог освободиться от привычной «красивости»; импрессионизм у него в крови. Так, среди картин Матисса, полных внутренней жизненности и возникающих в силу внутренней необходимости, мы встречаем и другие картины, возникающие в результате внешнего импульса, внешней привлекательности (как часто вспоминается тогда Манэ!), которые обладают главным образом и исключительно внешней жизнью. Здесь специфически французская, утонченная, гурманская, чисто мелодически звучащая красота живописи поднимается на заоблачную прохладную высоту.
Соблазну такой красоты никогда не поддается другой великий парижанин, испанец Пабло Пикассо. Всегда одержимый потребностью самовыявления, часто бурно увлекающийся Пикассо бросается от одного внешнего средства к другому. Когда между этими средствами возникает пропасть, Пикассо делает прыжок и, к ужасу неисчислимой толпы своих последователей, – он уже на другой стороне. Они-то думали, что вот уже догнали его, а теперь им снова предстоят тяжкие испытания спуска и подъема. Так возникло последнее «французское» движение кубизма, о котором подробно будет сказано во второй части. Пикассо стремится достичь конструктивности, применяя числовые отношения. В своих последних вещах (1911 г.) он логическим путем приходит к уничтожению материального, причем не путем его растворения, а путем чего-то вроде дробления отдельных частей и конструктивного разбрасывания этих частей по картине. Но при этом он, как ни странно, хочет сохранить видимость материального. Пикассо не останавливается ни перед какими средствами и, когда краски мешают ему в проблеме чисто рисуночной формы, он бросает их за борт и пишет картину коричневым и белым. Эти проблемы являются также его главной силой. Матисс – краска, Пикассо – форма, – два великих указателя на великую цель.
IV. Пирамида
Итак, постепенно у различных видов искусства зарождается стремление наилучшим образом выразить то, что каждое из них имеет сказать, и притом средствами, всецело ему присущими.
Несмотря на обособленность каждого из них, или же благодаря этой обособленности, они, как таковые, никогда еще не стояли ближе друг к другу, чем в эти последние часы духовного поворота.
Во всем сказанном заложены зародыши стремления к нереалистическому, к абстрактному и к внутренней природе. Сознательно или бессознательно художники следуют словам Сократа: «Познай самого себя!». Сознательно или бессознательно они начинают обращаться главным образом к своему материалу; они проверяют его, кладут на духовные весы внутреннюю ценность его элементов, необходимых для создания их искусства.
Из этого стремления, само собой, как естественное следствие, вытекает, что каждый вид искусства сравнивает свои элементы с элементами другого. Наиболее плодотворные уроки можно в данном случае извлечь из музыки. Музыка уже в течение нескольких столетий, за немногими исключениями и отклонениями, является тем искусством, которое пользуется своими средствами не для изображения явлений природы, а для выражения душевной жизни музыканта и для создания своеобразной жизни музыкальных тонов.
Художник, не видящий цели даже в художественном подражании явлениям природы, является творцом, который хочет и должен выразить свой внутренний мир. Он с завистью видит, как естественно и легко это достигается музыкой, которая в наши дни является наименее материальным из всех искусств. Понятно, что он обращается к ней и пытается найти те же средства в собственном искусстве. Отсюда ведут начало современные искания в области ритма и математической, абстрактной конструкции; отсюда же понятно и то, что теперь так ценится, повторение красочного тона, и того, каким образом цвету придается элемент движения и т. д.
Такое сопоставление средств различнейших видов искусства, это перенимание одного от другого может быть успешным только в том случае, если оно будет не внешним, а принципиальным. Это значит, что одно искусство должно учиться у другого, как пользоваться своими средствами; оно должно учиться для того, чтобы затем по тому же принципу применять свои собственные средства, то-есть применять их в соответствии с принципом, свойственным лишь ему одному. Учась этому, художник не должен забывать, что каждому средству свойственно свое особое применение и что это применение должно быть найдено.
В применении формы музыка может достигнуть результатов, которых невозможно добиться в живописи. Но с другой стороны, в отношении некоторых свойств, музыка отстает от живописи. Так, например, музыка имеет в своем распоряжении время, элемент длительности. Зато живопись, не располагая указанным преимуществом, способна в одно мгновение довести до сознания зрителя все содержание произведения, на что музыка, в свою очередь, не способна[57]. Музыке, которая внешне с природой совершенно не связана, незачем заимствовать для своего языка какие бы то ни было внешние формы[58]. Живопись в наше время еще почти всецело зависит от форм, заимствованных у природы. Ее сегодняшняя задача состоит в исследовании и познании своих собственных сил и средств – что давно уже делает музыка – и в стремлении применить эти средства и силы чисто живописным образом для цели своего творчества.
Так углубление в себя отграничивает один вид искусства от другого, но так же сравнение вновь соединяет их во внутреннем стремлении. Так мы видим, что каждое искусство располагает свойственными ему силами, которые не могут быть заменены силами другого. В конечном итоге мы приходим к объединению сил различных видов искусства. Из этого объединения со временем и возникает искусство, которое мы можем уже теперь предчувствовать – подлинное монументальное искусство.
И каждый, углубляющийся в скрытые внутренние сокровища своего искусства – завидный сотрудник в деле созидания духовной пирамиды, которая дорастет до небес.
V. Действие цвета
Скольжение нашего взора по покрытой красками палитре приводит к двум главным результатам:
1) осуществляется чисто физическое воздействие цвета, когда глаз очарован его красотой и другими его свойствами. Зритель испытывает чувство удовлетворения, радости, подобно гастроному с лакомым куском во рту. Или же глаз испытывает раздражение, какое мы ощущаем от острого блюда. Эти ощущения затем угасают или утихают, как бывает, когда коснешься пальцем куска льда. Во всяком случае все эти ощущения физические и как таковые они непродолжительны. Они также поверхностны и не оставляют после себя никакого длительного впечатления, если душа закрыта. Как при прикосновении ко льду можно испытать только ощущение физического холода, и это ощущение забывается при согревании пальца, так забывается и физическое действие цвета, когда от него отвернешься. Но как физическое ощущение ледяного холода, если оно проникает глубже, вызывает более глубокие чувства и может вызвать целую цепь психических переживаний, так же и поверхностное впечатление от цвета может развиться в переживание.
Только привычные предметы действуют на средне-впечатлительного человека совершенно поверхностно. Но, если мы видим их впервые, то они сразу производят на нас глубокое впечатление: так переживает мир ребенок, для которого каждый предмет является новым. Он видит свет, который привлекает его, хочет схватить его, обжигает пальцы и начинает бояться огня и уважать его. Затем он узнает, что свет, кроме враждебной стороны, имеет и дружескую, что свет прогоняет темноту, удлиняет день, что он может греть, варить и являться веселым зрелищем. После того, как собран этот опыт, знакомство со светом завершено и познания о нем накоплены в мозгу. Острый, интенсивный интерес исчезает, и свойство огня быть зрелищем вступает в борьбу с полным к нему равнодушием. И так, постепенно, мир лишается своих чар. Мы знаем, что деревья дают тень, что лошади могут быстро бегать, а автомобили движутся еще быстрее, что собаки кусаются, что до луны далеко, что человек в зеркале – не настоящий.
И лишь при более высоком развитии человека всегда расширяется круг свойств, несущих в себе различные вещи и сущности. При таком более высоком развитии существа и предметы получают внутреннюю ценность и, в конце концов, начинают внутренне звучать. Так же обстоит дело и с цветом. При низкой душевной восприимчивости, он может вызвать лишь поверхностное действие, которое исчезает вскоре после того, как прекратилось раздражение. Но и в этом состоянии это простейшее воздействие может иметь различный характер. Глаз больше и сильнее привлекается светлыми красками, а еще сильнее и больше более светлыми и теплыми тонами: киноварь притягивает и манит нас, как огонь, на который человек всегда готов жадно смотреть. От яркого лимонно-желтого глазу через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы. Глаз становится беспокойным, не выдерживает долго вида этого цвета и ищет углубления и покоя в синем или зеленом. При более высоком развитии это элементарное действие переходит в более глубокое впечатление, сильно действующее на душу.
2) Тогда налицо второй главный результат наблюдения – психическое воздействие цвета. В этом случае обнаруживается психическая сила краски, она вызывает душевную вибрацию. Так первоначальная элементарная физическая сила становится путем, на котором цвет доходит до души. Является ли это второе воздействие действительно прямым, как можно было бы предположить из сказанного, или же достигается путем ассоциаций, это остается, возможно, под вопросом. Так как душа в общем крепко связана с телом, то возможно, что душевное сильное переживание путем ассоциации вызывает другое, ей соответствующее. Например, красный цвет может вызвать душевную вибрацию, подобную той, какую вызывает огонь, так как красный цвет есть в то же время цвет огня. Теплый красный цвет действует возбуждающим образом; такой цвет может усилиться до болезненной мучительной степени, может быть, также и вследствие его сходства с текущей кровью. Красный цвет в этом случае пробуждает воспоминание о другом физическом факторе, который безусловно болезненным образом действует на душу.
Если бы дело обстояло так, то мы легко могли бы в ассоциациях найти объяснение и другим психическим воздействиям цвета, воздействиям не только на орган зрения, но и на другие органы чувств. Можно было бы, например, предположить, что светло-желтый цвет путем ассоциации с лимоном вызывает впечатление чего-то кислого.
Но подобными объяснениями едва ли можно удовлетвориться. Именно там, где вопрос касается вкуса цвета, можно привести различные примеры, где это объяснение не может быть принято. Один дрезденский врач рассказывает об одном из своих пациентов, которого он характеризует как «духовно необычайно высоко стоящего» человека, что тот неизменно и безошибочно ощущал «синим» вкус одного соуса, т. е. ощущал его как синий цвет[59].
Можно было бы, пожалуй, принять похожее, но все же иное, объяснение, что как раз у высокоразвитого человека пути к душе настолько прямы и впечатления приходят так быстро, что воздействие, идущее через вкус, тотчас же достигает души и вызывает созвучие соответствующих путей, ведущих из души к другим телесным органам, – в нашем случае к глазу. Это было бы как эхо или отзвук музыкальных инструментов, когда они без прикосновения к ним созвучат с другим инструментом, испытавшим непосредственное прикосновение. Такие сильно сенситивные люди подобны хорошей наигранной скрипке, которая вибрирует всеми своими частями и фибрами при каждом касании смычка.
Если принять это объяснение, то зрение, разумеется, должно быть связано не только со вкусом, но и со всеми остальными органами чувств. Так именно и обстоит дело. Некоторые цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время как другие могут восприниматься как что-то гладкое, бархатистое, так что их хочется погладить (темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак). Само различие между холодными и теплыми тонами красок основано на этом восприятии.
Имеются такие краски, кажущиеся мягкими (краплак), и другие, которые всегда кажутся жесткими (зеленый кобальт, зелено-синяя окись), так что свежевыжатая из тюбика краска может быть принята за высохшую.
Выражение, что краски «благоухают» – общеизвестно.
Наконец, понятие слышания красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками сопрано[60].
Это объяснение всего путем ассоциации в некоторых, особенно важных для нас, случаях оказывается все же недостаточным. Слышавший о хромотерапии знает, что цветной свет совершенно особенным образом влияет на тело человека. Неоднократно делались попытки использовать и применять силу цвета при различных нервных заболеваниях, причем снова замечено было, что красный цвет живительно, возбуждающе действовал на сердце и что, напротив того, синий цвет может привести к временному параличу. Если подобного рода влияние можно наблюдать и на животных и даже на растениях – что практически и происходит, то объяснение путем ассоциации отпадает совершенно. Во всяком случае, эти факты доказывают, что краски таят в себе мало исследованную, но огромную силу, которая может влиять на все тело, на весь физический организм человека.
Но если в данном случае объяснение путем ассоциации представляется нам недостаточным, то мы не можем удовлетвориться им и для объяснения влияния цвета на психику. Вообще цвет является средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль.
Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу.
Таким образом ясно, что гармония красок может основываться только на принципе целесообразного затрагивания человеческой души.
Эту основу следует назвать принципом внутренней необходимости.
VI. Язык форм и красок
Тот, у кого нет музыки в душе, Кого не тронут сладкие созвучья, Способен на грабеж, измену, хитрость; Темны, как ночь, души его движенья И чувства все угрюмы, как Эреб: Не верь такому: – слушай эту песню. Шекспир (пер. Т. Щепкиной-Куперник)Музыкальный тон имеет непосредственный доступ к душе. Он тотчас находит в ней отклик, ибо у человека «музыка в душе».
«Всякому известно, что желтый, оранжевый и красный цвета вызывают и представляют идею радости и изобилия» (Делакруа)[61].
Эти две цитаты указывают на глубокое сродство всех видов искусства вообще и особенно музыки и живописи. На этом, бросающемся в глаза, сродстве непосредственно основывается мысль Гете, что живопись должна получить свой генерал-бас. Это пророческое выражение Гете является предчувствием положения, в котором в наше время находится живопись. Положение это является исходной точкой пути, на котором живопись с помощью своих сил вырастает до искусства в абстрактном смысле и на котором она, в конце концов, достигает чисто-художественной композиции.
Для этой композиции в ее распоряжении имеются два средства:
1. Краска.
2. Форма.
Только форма может существовать самостоятельно, как изображение предмета (реального и нереального) или как чисто абстрактное ограничение пространства плоскости.
Но цвет не может. Цвет не допускает безграничного распространения. Безграничное красное можно только мыслить или духовно созерцать. Когда мы слышим слово «красное», то это красное в нашем представлении не имеет границы. Последнюю приходится, когда нужно, насильственно добавлять мысленно. Красный цвет, который мы не видим материально, а представляем себе абстрактно, вызывает, с другой стороны, более или менее точное или неточное внутреннее представление, это представление имеет чисто внутреннее физическое звучание[62]. То, что звучит в слове «красное», не имеет самостоятельно никакого особо выраженного перехода к понятию теплого или холодного. Последнее приходится добавлять мысленно, как и более тонкие нюансы красного тона. По этой причине я называю такое духовное видение неточным. Но оно в то же время и точно, так как остается только внутреннее звучание без случайных, ведущих к деталям, склонностей к теплому или холодному и т. д. Это внутреннее звучание похоже на звук трубы или инструмента, который мы представляем себе при слове «труба» и пр., причем подробности отсутствуют. Мы мыслим именно этот звук без различий, обуславливаемых звучанием на открытом воздухе, в закрытом помещении, или зависящих от того, одна ли это труба или их несколько, и играет ли на трубе охотник, солдат или виртуоз.
Когда мы хотим, однако, передать этот красный звук в материальной форме (как в живописи), то мы должны:
1) выбрать определенный тон из бесконечного ряда различных оттенков красного, то есть, так сказать, охарактеризовать его субъективно и 2) отграничить его на плоскости, отграничить от других цветов, которые обязательно присутствуют, которых ни в коем случае нельзя избежать и благодаря которым (путем отграничения и соседства) изменяется субъективная характеристика (получает объективную оболочку); здесь заметным становится объективный призвук.
Это неизбежное взаимоотношение формы и краски приводит нас к наблюдению воздействия формы на краску. Сама форма, даже если она совершенно абстрактна и подобна геометрической, имеет свое внутреннее звучание, является духовным существом с качествами, которые идентичны с этой формой. Подобным существом является треугольник (без дальнейшего уточнения – является ли он остроконечным, плоским, равносторонним): он есть подобное существо с присущим лишь ему одному духовным ароматом. В связи с другими формами этот аромат дифференцируется, приобретает призвучные нюансы, но по существу остается неизменным, как аромат розы, который никак нельзя принять за аромат фиалки. Так же обстоит дело и с квадратом, кругом и всеми возможными другими формами[63]. Итак, это такой же случай, как описанный выше случай с красным цветом; субъективная субстанция в объективной оболочке.
Здесь становится ясным взаимоотношение формы и краски. Треугольник, закрашенный желтым, круг – синим, квадрат – зеленым, снова треугольник, но зеленый, желтый круг, синий квадрат и т. д. Все это совершенно различные и совершенно различно действующие существа.
При этом легко заметить, что одна форма подчеркивает значение какого-нибудь цвета, другая же форма притупляет его. Во всяком случае, резкая краска в остроконечной форме усиливается в своих свойствах (напр., желтый цвет в треугольнике). Цвета, склонные к углублению, усиливают свое воздействие при круглых формах (напр., синий цвет в круге).
С другой стороны, разумеется, ясно, что несоответствие между формой и цветом не должно рассматриваться как что-то «негармоничное», напротив того, это несоответствие открывает новую возможность, а также и гармонию.
Так как количество красок и форм бесконечно, то бесконечно и число комбинаций и в то же время действия. Этот материал неистощим.
Во всяком случае форма в более узком смысле есть не что иное, как отграничение одной плоскости от другой. Такова ее внешняя характеристика. А так как во всем внешнем обязательно скрыто и внутреннее (обнаруживающееся сильнее или слабее), то каждая форма имеет внутреннее содержание[64]. Итак, форма есть выражение внутреннего содержания. Такова ее внутренняя характеристика. Здесь следует вспомнить недавно приведенный пример с фортепиано, пример, где вместо «цвета» мы ставим «форму»; художник – это рука, которая путем того или иного клавиша (= формы) должным образом приводит человеческую душу в состояние вибрации. Ясно, что гармония форм должна основываться только на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе.
Мы назвали здесь этот принцип принципом внутренней необходимости.
Указанные две стороны формы являются в то же время двумя ее целями. Поэтому внешнее отграничение исчерпывающе целесообразно только тогда, когда оно наиболее выразительно выявляет внутреннее содержание формы[65]. Внешняя сторона, т. е. отграничение, для которого форма в данном случае является средством, может быть очень различной.
Но, несмотря на все разнообразие, которое может принимать форма, она все же никогда не может переступить через две внешние границы, а именно: 1) или форма как отграничение имеет целью путем этого отграничения выделить материальный предмет из плоскости, т. е. нанести этот материальный предмет на плоскость, или же 2) форма остается абстрактной, т. е. она не обозначает никакого реального предмета, а является совершенно абстрактным существом. Подобными, чисто абстрактными существами – которые, как таковые, имеют свою жизнь, свое влияние и свое действие – являются квадрат, круг, треугольник, ромб, трапеция и бесчисленные другие формы, которые становятся все более сложными и не имеют математических обозначений. Все эти формы являются равноправными гражданами в царстве абстрактного.
Между этими двумя границами имеется бесчисленное количество форм, в которых налицо оба элемента и где перевешивает или материальное, или абстрактное.
В настоящее время эти формы являются сокровищем, из которого художник заимствует отдельные элементы своих произведений.
В наши дни художник не может обойтись одними чисто абстрактными формами. Для него эти формы слишком неточны. Ограничиться только неточным значит лишить себя многих возможностей, значит исключить чисто человеческое и сделать бедными свои средства выражения.
С другой стороны, в искусстве нет и совершенно материальных форм. Невозможно точно передать материальную форму: художник поневоле подчиняется своему глазу, своей руке, которые в данном случае более художественны, чем его душа, не желающая выйти за пределы фотографических целей. Сознательный художник, однако, не может удовольствоваться протоколированием физического предмета; он непременно будет стремиться придать передаваемому предмету выражение – то, что раньше считалось идеализацией, позже называлось стилизацией, а завтра будет называться как-нибудь иначе[66].
Эта невозможность и бесполезность (в искусстве) бесцельно копировать предмет, это стремление извлечь из предмета выразительное, являются исходными пунктами, от которых начинается дальнейший путь художника – «от литературной» окраски предмета к чисто художественным (или живописным) целям. Этот путь ведет к элементу композиции.
Чисто художественная композиция ставит перед собой две задачи по отношению к форме:
1. Композицию всей картины.
2. Создание отдельных форм, стоящих в различных комбинациях друг к другу, но которые подчиняются композиции целого. Так несколько предметов (реальных, а при случае и абстрактных) в картине подчиняются одной большой форме и изменяются так, чтобы они подошли к этой форме, образовали эту форму. Здесь отдельная форма может оставаться индивидуально мало звучащей, она в первую очередь служит для образования большой композиционнной формы и должна рассматриваться, главным образом, как элемент последней[67]. Эта отдельная форма построена именно так, а не иначе: не потому, что ее собственное внутреннее звучание, независимо от большой композиции, непременно этого требует, а главным образом, потому, что она предназначена служить строительным материалом для этой большой композиции.
Проследим здесь первую задачу – композицию всей картины, как ее конечную цель[68].
В искусстве таким образом постепенно все больше выступает на передний план элемент абстрактного, который еще вчера робко и еле заметно скрывался за чисто материалистическими стремлениями. Это возрастание и, наконец, преобладание абстрактного естественно. Это естественно, так как чем больше органическая форма оттесняется назад, тем больше само собою выступает на передний план и выигрывает в звучании абстрактное.
Остающееся органическое имеет, однако, как мы сказали, свое собственное внутреннее звучание, которое или тождественно с внутренним звучанием второй составной части той же самой формы (абстрактного в ней), – это простая комбинация обоих элементов, или же может быть другой природы, – это сложная и, возможно, необходимая дисгармоничная комбинация. Но, во всяком случае, в избранной форме органическое продолжает звучать, даже если это органическое совсем оттеснено на задний план. Поэтому большое значение имеет выбор реального предмета. В двузвучии (духовном аккорде) обеих составных частей формы органическое может или поддерживать абстрактное (путем созвучия или отзвука) или мешать ему. Предмет может иметь лишь случайное звучание, которое, будучи заменено другим, не изменяет существенно основного звучания.
Ромбовидная композиция строится, например, из нескольких человеческих фигур. Мы проверяем ее своим чувством и задаем себе вопрос: безусловно ли необходимы для композиции человеческие фигуры или же мы могли бы заменить их другими органическими формами, причем так, чтобы основное внутреннее звучание композиции не страдало от этого?
И если это так, то в этом случае мы имеем звучание предмета, когда не только оно не способствует звучанию абстрактного, но прямо вредит ему: безразличное звучание предмета ослабляет звучание абстрактного. Это действительно так не только логически, но и художественно. Значит в данном случае следовало бы или найти другой предмет, который больше соответствовал бы внутреннему звучанию абстрактного (соответствовал бы как созвучие или отзвук); или же вся форма должна вообще оставаться чисто абстрактной. Здесь мы снова можем вспомнить пример с фортепиано. На место «цвета» и «формы» следует поставит «предмет». Всякий предмет – безразлично, был бы он создан непосредственно «природой» или возник с помощью человеческой руки – является существом с собственной жизнью и неизбежно вытекающим отсюда воздействием. Человек непрерывно подвержен этому психическому воздействию. Многие результаты его останутся в «подсознании» (но они от этого не теряют своих творческих сил и остаются живыми). Многие поднимаются на поверхность сознания. От многих человек может освободиться, закрыв свою душу их воздействию. «Природа», т. е. постоянно меняющееся внешнее окружение человека, непрерывно приводит струны фортепиано (душа) в состояние вибрации, пользуясь клавишами (предметами) Эти воздействия, часто кажущиеся нам хаотическими, состоят из трех элементов: воздействия цвета предмета, его формы и независимого от цвета и формы воздействия самого предмета.
Но вот на место природы становится художник, который располагает теми же тремя элементами. Без дальнейшего мы приходим к заключению, что и здесь решающее значение имеет целесообразность. Таким образом ясно, что выбор предмета – дополнительно звучащий элемент в гармонии форм – должен основываться только на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе. Таким образом и выбор предмета исходит из принципа внутренней необходимости.
Чем свободнее абстрактный элемент формы, тем чище и притом примитивнее его звучание. Итак, в композиции, где телесное более или менее излишне, можно также более или менее пренебречь этим телесным и заменить его чисто абстрактным или полностью переведенными в абстрактное телесными формами. В каждом случае такого перевода или такого внесения в композицию чисто абстрактной формы единственным судьей, руководителем и мерилом должно быть чувство.
И, разумеется, чем больше художник пользуется этими абстрагированными или абстрактными формами, тем свободнее он будет чувствовать себя в их царстве и тем глубже он будет входить в эту область. Также и зритель, которого ведет художник, приобретает все большее знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им.
Тут мы стоим перед вопросом: не следует ли нам вообще отказаться от предметного, рассеять по ветру запасы его, лежащие в кладовых, и выявлять только чисто абстрактное? Таков встающий перед нами вопрос, который путем обсуждения совместного звучания обоих элементов формы (предметной и абстрактной) сразу же наталкивает нас на ответ. Как каждое произнесенное слово (дерево, небо, человек) пробуждает внутреннюю вибрацию, так и каждый образно изображенный предмет. Лишить себя этой возможности вызывать вибрацию означало бы уменьшить арсенал наших средств выражения. Во всяком случае сегодня это так. Но указанный вопрос, кроме этого сегодняшнего ответа, получает и другой ответ, который в искусстве остается вечным на все вопросы, начинающиеся с «должен ли я?». В искусстве нет этого «должен», – оно навеки свободно. От этого «должен» искусство бежит, как день от ночи. При рассмотрении второй композиционной задачи: создания отдельных составных форм, предназначенных для постройки всей композиции, следует еще отметить, что та же форма при одинаковых условиях звучит всегда одинаково. Но только условия всегда различны, а из этого вытекают два следствия:
1) идеальное звучание изменяется от сопоставления с другими формами;
2) оно изменяется также в том же самом окружении (поскольку возможно удержать его), если сдвинуть эту форму с ее направления[69].
Из этих следствий само собою вытекает еще одно. Нет ничего абсолютного. А именно, композиция формы, основываясь на этой относительности, зависит 1) от изменчивости при подборе форм и 2) от изменчивости каждой отдельной формы, вплоть до малейшей детали. Каждая форма чувствительна, как облачко дыма: незаметнейший, незначительнейший сдвиг каждой из его частей существенно изменяет его. И это доходит до того, что может быть легче достичь того же звучания, применяя различные формы, чем снова выразить его, повторяя ту же самую форму. Действительно точно повторить звучание невозможно. До тех пор, пока мы особенно восприимчивы к композиции в целом, этот факт более важен теоретически. Но когда человек, применяя более абстрактные и совершенно абстрактные формы (которые не будут получать интерпретации со стороны телесного), разовьет свою восприимчивость, и она станет более тонкой и сильной, – то этот факт будет приобретать все большее практическое значение. Так, трудности искусства с одной стороны будут возрастать, но одновременно с этим будет количественно и качественно возрастать и богатство форм и средства выразительности. При этом сам собою отпадет и вопрос намеренно «неправильного изображения»; он будет заменен другим, гораздо более художественным: насколько завуалировано или обнажено внутреннее звучание формы. Это изменение во взглядах опять же приведет к дальнейшему и еще большему обогащению средств выражения, так как завуалирование обладает огромной силой в искусстве. Комбинированное завуалированного и обнаженного даст новые возможности лейтмотивам композиции форм.
Без такого развития в этой области, композиция форм оставалась бы невозможной. Подобная работа над композицией всегда будет казаться беспочвенным произволом каждому, до кого не доходит внутреннее звучание формы (телесной и особенно абстрактной). Именно такое, по-видимому, непоследовательное смещение отдельных форм на плоскости картины представляется в данном случае бессодержательной игрой с формами. Здесь мы находим тот же масштаб и тот же принцип, который мы уже повсюду устанавливали, как единственный чисто художественный, свободный от всего несущественного: это – принцип внутренней необходимости.
Если, например, черты лица или различные части тела из художественных соображений смещены или неверно изображены то мы имеем здесь, кроме чисто живописного, также и анатомический вопрос: этот вопрос мешает художественному замыслу и навязывает ему расчет второстепенного значения. В нашем случае, однако, все второстепенное само собой отпадает и остается лишь существенное – художественная цель. Как раз эта, по-видимому, произвольная, но на самом деле строго определяемая возможность сдвигать формы является одним из источников бесконечного ряда чисто художественных творений.
Перечислим элементы, дающие возможность для создания чисто рисуночного «контрапункта» и которые приведут к этому контрапункту. Таковыми являются: гибкость отдельной формы, ее, так сказать, внутренне-органическое изменение, ее направление в картине (движение); перевес телесного или абстрактного в этой отдельной форме, с одной стороны, а с другой стороны, размещение форм, образующих большие формы, в группы форм; подбор отдельных форм в группировки форм, которые создают большую форму всей картины; далее, принципы созвучия или отзвука всех упомянутых частей, т. е. встреча отдельных форм; торможение одной формы другою формой; также сдвиги, соединение и разрывы отдельных форм; одинаковая трактовка группировок форм; комбинирование завуалированного с обнаженным; комбинирование на одной плоскости ритмического и аритмического момента; комбинирование абстрактных форм, как чисто геометрических (простых, сложных), так и геометрически неопределимых; комбинирование отграничений одной формы от другой (отграничений более сильных, менее сильных) и т. д. Это и есть элементы, дающие возможность образовать чисто-рисуночный контрапункт, и они приведут к этому контрапункту. И это становится контрапунктом искусства черно-белого до тех пор, пока исключена краска.
И цвет, который сам является материалом для контрапункта, который сам таит в себе безграничные возможности, приведет, в соединении с рисунком, к великому контрапункту живописи, который ей даст возможность прийти к композиции; и тогда живопись, как поистине чистое искусство, будет служить божественному. И на эту головокружительную высоту ее возведет все тот же непогрешимый руководитель – принцип внутренней необходимости!
Внутренняя необходимость возникает по трем мистическим причинам. Она создается тремя мистическими необходимостями:
1) каждый художник, как творец, должен выразить то, что ему свойственно (индивидуальный элемент),
2) каждый художник, как дитя своей эпохи, должен выразить то, что присуще этой эпохе (элемент стиля во внутреннем значении, состоящий из языка эпохи и языка своей национальности, пока национальность существует, как таковая),
3) каждый художник, как служитель искусства, должен давать то, что свойственно искусству вообще (элемент чисто и вечно художественного, который проходит через всех людей, через все национальности и через все времена; этот элемент можно видеть в художественном произведении каждого художника, каждого народа и каждой эпохи; как главный элемент искусства он не знает ни пространства, ни времени).
Достаточно лишь духовным взором проникнуть в эти первые два элемента и нам откроется третий элемент. Тогда станет ясно, что колонна из индейского храма со своей «грубой» резьбой живет столь же полной жизнью души, как чрезвычайно «современное» живое произведение.
Много говорилось, и еще и теперь говорится об элементе индивидуальности в искусстве; то здесь, то там слышатся, и все чаще будут слышаться слова о грядущем стиле. Хотя эти вопросы и имеют большое значение, они постепенно утрачивают свою остроту и значение при рассмотрении на протяжении столетий, а позже тысячелетий; они, в конце концов, становятся безразличными и умирают.
Вечно живым остается только третий элемент, элемент чисто и вечно художественного. Он не теряет с течением времени своей силы; его сила постепенно возрастает. Египетская пластика сегодня волнует нас несомненно сильнее, чем могла волновать своих современников; она слишком сильно была с ними связана печатью времени и личности, и в силу этого ее воздействие было тогда приглушенным. Теперь мы слышим в ней неприкрытое звучание вечности – искусства. С другой стороны, чем больше «сегодняшнее» произведение искусства имеет от первых двух элементов, тем легче, разумеется, оно найдет доступ к душе современника. И далее, чем больше наличие третьего элемента в современном произведении искусства, тем сильнее он заглушает первые два и этим самым делает трудным доступ к душе современников. Поэтому иной раз должны миновать столетия, прежде чем звучание третьего элемента достигнет души человека.
Таким образом перевес этого третьего элемента в художественном произведении является признаком его величия и величия художника.
Эти три мистические необходимости являются тремя непременными элементами художественного произведения; они тесно связаны между собою, т. е. взаимно проникают друг друга, что во все времена является выражением целостности произведения. Тем не менее, первые два элемента имеют в себе свойства времени и пространства, что для чисто и вечно художественного, которое стоит вне времени и пространства, образует что-то вроде непроницаемой оболочки. Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в выделении чисто и вечно художественного от элементов личности и стиля времени. Таким образом, эти два элемента являются не только участвующими, но и тормозящими силами.
Стиль личности и времени образует в каждой эпохе многие точные формы, которые, несмотря на, по-видимому, большие различия, настолько сильно органически сродни между собою, что их можно считать одной формой, ее внутреннее звучание является в конечном итоге одним главным звучанием.
Эти два элемента имеют субъективный характер. Вся эпоха хочет отразить себя, художественно выразить свою жизнь. Также и художник хочет выразить себя и избирает только формы, душевно родственные ему. Постепенно, однако, образуется стиль эпохи, т. е. в некотором роде внешняя субъективная форма. По сравнению с этим, чисто и вечно художественное является объективным элементом, который становится понятным с помощью субъективного.
Неизбежное желание самовыражения объективного есть сила, которую мы здесь называем внутренней необходимостью; сегодня она нуждается в одной общей форме субъективного, а завтра – в другой. Она является постоянным неутомимым рычагом, пружиной, которая непрерывно гонит нас «вперед». Дух идет дальше и потому то, что сегодня является внутренними законами гармонии, будет завтра законами внешними, которые при дальнейшем применении будут жить только благодаря этой, ставшей внешней, необходимости. Ясно, что внутренняя духовная сила искусства пользуется сегодняшней формой лишь как ступенью для достижения дальнейших.
Короче говоря, действие внутренней необходимости, а значит и развитие искусства, является прогрессивным выражением вечно объективного во временно-субъективном, а с другой стороны, это есть подавление субъективного объективным.
Сегодня признанная форма является, например, достижением вчерашней внутренней необходимости, оставшейся некоторым образом на внешней ступени освобождения, свободы. Эта сегодняшняя свобода закреплена была путем борьбы и многим, как всегда, кажется «последним словом». Канон этой ограниченной свободы гласит: художник может пользоваться для своего выражения всякой формой до тех пор, пока он стоит на почве форм, заимствованных от природы. Однако, как и все предшествующее, это требование носит лишь временный характер. Оно является сегодняшним внешним выражением, т. е. сегодняшней внешней необходимостью. С точки зрения внутренней необходимости не следует устанавливать подобных ограничений; художник может стать всецело на сегодняшнюю внутреннюю основу, с которой снято сегодняшнее внешнее ограничение и благодаря этому сегодняшняя внутренняя основа может быть сформулирована следующим образом: художник может пользоваться для выражения любой формой.
Итак, наконец, выяснилось (и это чрезвычайно важно во все времена и особенно – «сегодня»!), что искание личного, искание стиля (и между прочим, и национального элемента) не только – при всем желании – недостижимо, но и не имеет того большого значения, которое сегодня этому приписывают. И мы видим, что общее родство произведений не только не ослабляется на протяжении тысячелетий, а все более и более усиливается; оно заключается не вне, не во внешнем, а в корне всех основ – в мистическом содержании искусства. И мы видим, что приверженность к «школе», погоня за «направлением», требование в произведении «принципов» и определенных, свойственных времени средств выражения, может только завести в тупики, и привести к непониманию, затемнению и онемению. Художник должен быть слепым по отношению к «признанной» или «непризнанной» форме и глухим к указаниям и желаниям времени.
Его отверстый глаз должен быть направлен на внутреннюю жизнь и ухо его всегда должно быть обращено к голосу внутренней необходимости. Тогда он будет прибегать ко всякому дозволенному и с той же легкостью ко всякому недозволенному средству.
Таков единственный путь, приводящий к выражению мистически необходимого.
Все средства святы, если они внутренне необходимы.
Все средства греховны, если они не исходят из источника внутренней необходимости.
Но с другой стороны, если и сегодня на этом пути можно до бесконечности развивать теории, то для дальнейших деталей теория во всяком случае преждевременна. В искусстве теория никогда не предшествует практике, а наоборот. Тут все, особенно же в начале пути, может быть достигнуто художественно верное. Если чисто теоретически и возможно достигнуть общей конструкции, то это преимущество, являющееся истинной душой произведения (а значит также и относительной его сущностью), все же никогда не может быть создано теоретическим путем; его нельзя найти, если чувство не вдохнуло его внезапно в творение. Так как искусство влияет на чувство, то оно может и действовать только посредством чувства. Вернейшие пропорции, тончайшие измерения и гири никогда не дадут верного результата путем головного вычисления и дедуктивного взвешивания. Такие пропорции не могут быть вычислены, таких весов не найти[70]. Пропорции и весы находятся не вне художника, а в нем, они есть то, что можно назвать чувством меры, художественным тактом – это качества прирожденные художнику; воодушевлением они могут быть повышены до гениального откровения. В этом духе следует понимать также и возможность в живописи генерал-баса, который пророчески предсказал Гете. В настоящее время можно лишь предчувствовать подобную грамматику живописи и, когда, наконец, для нее настанет время, то построена она будет не столько на основе физических законов (как это уже пытались и даже и теперь пытаются делать: «кубизм»), сколько на законах внутренней необходимости, которые можно спокойно назвать законами души.
Итак, мы видим, что в основе как каждой малой, так и в основе величайшей проблемы живописи будет лежать внутреннее. Путь, на котором мы находимся уже в настоящее время и который является величайшим счастьем нашего времени, есть путь, на котором мы избавимся от внешнего[71].
Вместо этой внешней главной основы принята будет противоположная ей, – главная основа внутренней необходимости. Но как тело укрепляется и развивается путем упражнений, так и дух. Как запущенное тело слабеет и, в конце концов, становится немощным, так и дух. Прирожденное художнику чувство является тем евангельским талантом, который нельзя зарывать. Художник, который не использует своих даров, подобен ленивому рабу.
По этой причине для художника не только безвредно, но совершенно необходимо знать исходную точку этих упражнений.
Этой исходной точкой является взвешивание внутреннего значения материала на объективных весах, т. е. исследование – в настоящем случае цвета, который в общем и целом должен во всяком случае действовать на каждого человека.
Нам незачем заниматься здесь глубокими и тонкими сложностями цвета, мы ограничимся изложением свойств простых красок.
Сначала следует сконцентрироваться на изолированной краске; надо дать отдельной краске подействовать на себя. При этом следует учитывать возможно простую схему. Весь вопрос следует свести к наиболее простой форме.
В глаза тотчас бросается наличие двух больших разделов:
1. Теплые и холодные тона красок.
2. Светлые или темные их тона.
Таким образом тотчас возникают четыре главных звучания каждой краски; или она: I) теплая и при этом 1) светлая или 2) темная, или же она: II) холодная и 1) светлая или 2) темная.
Теплота или холод краски есть вообще склонность к желтому или к синему. Это различие происходит, так сказать, в той же самой плоскости, причем краска сохраняет свое основное звучание, но это основное звучание становится или более материальным или менее материальным. Это есть движение в горизонтальном направлении, причем при теплой краске движение на этой горизонтальной плоскости направлено к зрителю, стремится к нему, а при холодной краске – удаляется от него.
Краски, вызывающие это горизонтальное движение другой краски, сами также характеризуются этим движением, но имеют еще и другое движение, внутреннее действие которого сильно отделяет их друг от друга; благодаря этому они в смысле внутренней ценности составляют первый большой контраст. Итак, склонность краски к холодному или теплому имеет неизмеримую внутреннюю важность и значение.
Вторым большим контрастом является различие между белым и черным – красками, которые образуют другую пару четырех главных звучаний, – склонность краски к светлому или к темному. Эти последние также движутся или к зрителю, или от него, но не в динамической, а в статически застывшей форме. (См. таблицу 1.)
Второго рода движение: желтого и синего, усиливающее первый большой контраст, есть их эксцентрическое или концентрическое движение[72]. Если нарисовать два круга одинаковой величины и закрасить один желтым, а другой синим цветом, то уже при непродолжительном сосредоточивании на этих кругах можно заметить, что желтый круг излучает, приобретает движение от центра и почти видимо приближается к человеку, тогда как синий круг приобретает концентрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою раковину) и удаляется от человека. Первый круг как бы пронзает глаза, в то время как во второй круг глаз как бы погружается.
Таблица I
Это действие усиливается, если добавить контраст светлого и темного: действие желтого цвета возрастает при посветлении (проще сказать – при примешивании белой краски); действие синего увеличивается при утемнении краски (подмешивании черной). Этот факт приобретает еще большее значение, если отметить, что желтый цвет настолько тяготеет к светлому (белому), что вообще не может быть очень темного желтого цвета. Таким образом ясно видно глубокое физическое сродство желтого с белым, а также синего с черным, так как синее может получить такую глубину, что будет граничить с черным. Кроме этого физического сходства имеется и моральное, которое по внутренней ценности сильно разделяет эти две пары (желтое и белое, с одной стороны, и синее и черное, с другой стороны) и делает очень родственными между собою два члена каждой пары (о чем будет сказано позже при обсуждении белого и черного цвета).
Если попытаться желтый цвет сделать более холодным, то этот типично теплый цвет приобретает зеленоватый оттенок, и оба движения – горизонтальное и эксцентрическое – сразу же замедляются. Желтый цвет при этом получит несколько болезненный и сверхчувственный характер, как человек, полный устремленности и энергии, которому внешние обстоятельства препятствуют их проявить. Синий цвет, как движение совершенно противоположного порядка, тормозит действие желтого, а при дальнейшем прибавлении синего цвета к желтому оба эти противоположные движения, в конце концов, взаимно уничтожаются и возникает полная неподвижность и покой. Возникает зеленый цвет.
То же происходит и с белым цветом, если замутить его черным. Он утрачивает свое постоянство и, в конце концов, возникает серый цвет, в отношении моральной ценности, очень близко стоящий к зеленому.
В зеленом скрыты желтый и синий цвета, подобно парализованным силам, которые могут вновь стать активными. В зеленом имеется возможность жизни, которой совершенно нет в сером. Ее нет потому, что серый цвет состоит из красок, не имеющих чисто активной (движущейся) силы. Они состоят, с одной стороны, из неподвижного сопротивления, а с другой стороны, из неспособной к сопротивлению неподвижности (подобно бесконечно крепкой, идущей в бесконечность стене и бесконечной бездонной дыре).
Так как обе краски, создающие зеленый цвет, активны и обладают собственным движением, то уже чисто теоретически можно по характеру этих движений установить духовное действие красок; к тому же самому результату приходишь, действуя опытным путем и давая краскам воздействовать на себя. И действительно, первое движение желтого цвета – устремление к человеку; оно может быть поднято до степени назойливости (при усилении интенсивности желтого цвета); а также и второе движение, – перепрыгивание через границы, рассеивание силы в окружающее, – подобны свойствам каждой физической силы, которая бессознательно для себя бросается на предмет и бесцельно растекается во все стороны. С другой стороны, желтый цвет, если его рассматривать непосредственно (в какой-нибудь геометрической форме), беспокоит человека, колет, будоражит его и обнаруживает характер заключающегося в цвете насилия, которое, в конце концов, действует нахально и назойливо на душу[73]. Это свойство желтого цвета, его большая склонность к более светлым тонам, может быть доведено до невыносимой для глаза и души силы и высоты. Звучание при этом повышении похоже на все громче становящийся звук высокой трубы или доведенный до верхних нот тон фанфары[74]. Желтый цвет – типично земной цвет. Желтый цвет не может быть доведен до большой глубины. При охлаждении синим он получает, как было указано выше, болезненный оттенок. При сравнении с душевным состоянием человека его можно рассматривать, как красочное изображение сумасшествия, не меланхолии или ипохондрии, а припадка бешенства, слепого безумия, буйного помешательства. Больной нападает на людей, разбивает все вокруг, расточает на все стороны свои физические силы, беспорядочно и безудержно расходует их, пока полностью не исчерпывает их. Это похоже и на безумное расточение последних сил лета в яркой осенней листве, от которой взят успокаивающий синий цвет, поднимающийся к небу. Возникают краски бешеной силы, в которых совершенно отсутствует дар углубленности.
Последний мы находим в синем цвете сначала теоретически в его физических движениях: 1) от человека и 2) к собственному центру. То же, когда мы даем синему цвету действовать на душу (в любой геометрической форме). Склонность синего к углублению настолько велика, что она делается интенсивной именно в более темных тонах и внутренне проявляется характернее. Чем темнее синий цвет, тем более он зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по непорочному и, в конце концов, – сверхчувственному. Это цвет неба, как мы представляем его себе при звучании слова «небо».
Синий – типично небесный цвет[75]. При сильном его углублении развивается элемент покоя[76]. Погружаясь в черное, он приобретает призвук нечеловеческой печали[77]. Он становится бесконечной углубленностью в состояние сосредоточенности, для которого конца нет и не может быть. Переходя в светлое, к которому синий цвет тоже имеет меньше склонности, он приобретает более безразличный характер и, как высокое голубое небо, делается для человека далеким и безразличным. Чем светлее он становится, тем он более беззвучен, пока не перейдет к состоянию безмолвного покоя – не станет белым. Голубой цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий – на виолончель и, делаясь все темнее, на чудесные звуки контрабаса; в глубокой, торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами органа.
Желтый цвет легко становится острым; он не способен к большому потемнению. Синий цвет с трудом становится острым; он не способен к сильному подъему.
Идеальное равновесие при смешивании этих двух, во всем диаметрально различных красок, дает зеленый цвет. Горизонтальные движения взаимно уничтожаются. Так же взаимно уничтожаются движения от центра и к центру. Возникает состояние покоя. Таков логический вывод, к которому легко можно прийти теоретическим путем. Непосредственное воздействие на глаз и, наконец, через глаз на душу дает тот же результат. Этот факт давно знаком не только врачам (особенно глазным), но знаком и вообще. Абсолютный зеленый цвет является наиболее спокойным цветом из всех могущих вообще существовать; он никуда не движется и не имеет призвуков радости, печали или страсти; он ничего не требует, он никуда не зовет. Это постоянное отсутствие движения является свойством, особенно благотворно действующим на души усталых людей, но после некоторого периода отдыха, легко может стать скучным. Картины, написанные в гармонии зеленых тонов, подтверждают это утверждение.
Подобно тому, как картина, написанная в желтых тонах, всегда излучает духовное тепло, или как написанная в синих оставляет впечатление охлаждения (т. е. активного действия, так как человек, как элемент вселенной, создан для постоянного, быть может, вечного движения), так зеленый цвет действует, вызывая лишь скуку (пассивное действие). Пассивность есть наиболее характерное свойство абсолютного зеленого цвета, причем это свойство как бы нарушено, в некотором роде, ожирением и самодовольством. Поэтому в царстве красок абсолютно зеленый цвет играет роль, подобную роли буржуазии в человеческом мире – это неподвижный, самодовольный, ограниченный во всех направлениях элемент. Зеленый цвет похож на толстую, очень здоровую, неподвижно лежащую корову, которая способна только жевать жвачку и смотреть на мир глупыми, тупыми глазами[78]. Зеленый цвет есть основная летняя краска, когда природа преодолела весну – время бури и натиска – и погрузилась в самодовольный покой. (См. таблицу II.)
Если вывести абсолютно-зеленое из состояния равновесия, то оно поднимется до желтого, станет живым, юношески-радостным. От примеси желтого оно вновь становится активной силой. В тонах более глубоких (при перевесе синего цвета) зеленое приобретает совершенно другое звучание – оно становится серьезным и, так сказать, задумчивым. Таким образом здесь возникает уже элемент активности, но совершенно иного характера, чем при согревании зеленого.
Таблица II
При переходе в светлое или темное зеленый цвет сохраняет свой первоначальный характер равнодушия и покоя, причем при светлых тонах сильнее звучит первое, а при темных тонах – второе, что вполне естественно, так как эти изменения достигаются путем примеси белого и черного. Я мог бы лучше всего сравнить абсолютно-зеленый цвет со спокойными, протяжными, средними тонами скрипки.
Последние две краски – белая и черная – в общем уже достаточно охарактеризованы. При более детальной характеристике белый цвет, часто считающийся не-цветом (особенно благодаря импрессионистам, которые не видят «белого в природе»)[79], представляется как бы символом вселенной, из которой все краски, как материальные свойства и субстанции, исчезли. Этот мир так высоко над нами, что оттуда до нас не доносятся никакие звуки. Оттуда исходит великое безмолвие, которое, представленное материально, кажется нам непереступаемой, неразрушимой, уходящей в бесконечность, холодной стеной. Поэтому белый цвет действует на нашу психику, как великое безмолвие, которое для нас абсолютно. Внутренне оно звучит, как не-звучание, что довольно точно соответствует некоторым паузам в музыке, паузам, которые лишь временно прерывают развитие музыкальной фразы или содержания, и не являются окончательным заключением развития. Это безмолвие не мертво, оно полно возможностей. Белый цвет звучит, как молчание, которое может быть внезапно понято. Белое – это Ничто, которое юно, или, еще точнее – это Ничто доначальное, до рождения сущее. Так, быть может, звучала земля в былые времена ледникового периода.
Черный цвет внутренне звучит, как Ничто без возможностей, как мертвое Ничто после угасания солнца, как вечное безмолвие без будущности и надежды. Представленное музыкально, черное является полной заключительной паузой, после которой идет продолжение подобно началу нового мира, так как, благодаря этой паузе, завершенное закончено на все времена – круг замкнулся. Черный цвет есть нечто угасшее, вроде выгоревшего костра, нечто неподвижное, как труп, ко всему происходящему безучастный и ничего не приемлющий. Это как бы безмолвие тела после смерти, после прекращения жизни. С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже меньше всего звучащая, звучит поэтому и сильнее и точнее. Не так обстоит с белым цветом, на фоне которого почти все краски утрачивают чистоту звучания, а некоторые совершенно растекаются, оставляя после себя слабое, обессиленное звучание[80].
Не напрасно чистая радость и незапятнанная чистота облекаются в белые одежды, а величайшая и глубочайшая скорбь – в черные; черный цвет является символом смерти. Равновесие этих двух красок, возникающее путем механического смешивания, образует серый цвет. Естественно, что возникшая таким образом краска не может дать никакого внешнего звучания и никакого движения. Серый цвет беззвучен и неподвижен, но эта неподвижность имеет иной характер, чем покой зеленого цвета, расположенного между двумя активными цветами и являющегося их производным. Серый цвет есть поэтому безнадежная неподвижность. Чем темнее серый цвет, тем больше перевес удушающей безнадежности. При усветлении в краску входит нечто вроде воздуха, возможность дыхания, и это создает известный элемент скрытой надежды. Подобный серый цвет получается путем оптического смешения зеленого с красным; он возникает в результате духовного смешения самодовольной пассивности с сильным и деятельным внутренним пылом[81]. Красный цвет, как мы его себе представляем – безграничный характерно теплый цвет; внутренне он действует, как очень живая, подвижная беспокойная краска, которая, однако, не имеет легкомысленного характера разбрасывающегося на все стороны желтого цвета, и, несмотря на всю энергию и интенсивность, производит определенное впечатление почти целеустремленной необъятной мощи. В этом кипении и горении – главным образом, внутри себя и очень мало во вне – наличествует так называемая мужская зрелость. (См. таблицу II.)
Но этот идеальный красный цвет может подвергаться в реальной действительности большим изменениям, отклонениям и различениям. В материальной форме красный цвет очень богат и разнообразен. Представьте себе только все тона от светлейших до самых темных: красный сатурн, киноварно-красный, английская красная, краплак! Этот цвет в достаточной мере обладает возможностью сохранять свой основной тон и в то же время производить впечатление характерно теплой или холодной краски[82].
Светлый теплый красный цвет (сатурн) имеет известное сходство со средне-желтым цветом (у него и в пигментации довольно много желтого) и вызывает ощущение силы, энергии, устремленности, решительности, радости, триумфа (шумного) и т. д. Музыкально он напоминает звучание фанфар с призвуком тубы, – это упорный, навязчивый, сильный тон. Красный цвет в среднем состоянии, как киноварь, приобретает постоянство острого чувства; он подобен равномерно пылающей страсти; это уверенная в себе сила, которую не легко заглушить, но которую можно погасить синим, как раскаленное железо остужается водою. Этот красный цвет вообще не переносит ничего холодного и теряет при охлаждении в звучании и содержании. Или, лучше сказать, это насильственное трагическое охлаждение вызывает тон, который художниками, особенно нашего времени, избегается и отвергается, как «грязь». Но это заслуженно, так как грязь в материальной форме, как материальное представление, как материальное существо, обладает, подобно всякому другому существу, своим внутренним звучанием. Поэтому в современной живописи избегание грязи так же несправедливо и односторонне, как вчерашний страх перед «чистой» краской. Не следует никогда забывать, что все средства чисты, если возникают из внутренней необходимости. В этом случае внешнее грязное – внутренне чисто. В ином случае внешне чистое будет внутренне грязным. По сравнению с желтым цветом, сатурн и киноварь по характеру сходны, но только устремленность к человеку значительно меньше. Этот красный цвет горит, но больше внутри себя: он почти совершенно лишен несколько безумного характера желтого цвета. Поэтому этот цвет пользуется, может быть, большей любовью, чем желтый. Им охотно и часто пользуются в примитивном народном орнаменте, а также и в национальных костюмах; в последнем случае он особенно красиво выглядит на вольном воздухе, как дополнительный к зеленому. Характер этого красного, главным образом, материальный и очень активный (если его взять отдельно) и так же, как желтый, не склонен к углублению. Этот красный цвет приобретает более глубокое звучание только при проникновении в более высокую среду. Утемнение черным – опасно, так как мертвая чернота гасит горение и сводит его на минимум. Но в этом случае возникает тупой, жесткий, мало склонный к движению, коричневый цвет, в котором красный цвет звучит, как еле слышное кипение. Тем не менее, из этого внешне тихого звучания возникает внутренне мощное звучание. При правильном применении коричневой краски рождается неописуемая внутренняя красота: сдержка. Красная киноварь звучит, как туба; тут можно провести параллель и с сильными ударами барабана.
Как всякая холодная краска, так и холодная красная (как, например, краплак) несет в себе очень большую возможность углубления, особенно при помощи лазури. Значительно меняется и характер: растет впечатление глубокого накала, но активный элемент постепенно совершенно исчезает. Но, с другой стороны, этот активный элемент не вполне отсутствует, как, например, в глубоком зеленом цвете; он оставляет после себя предчувствие, ожидание нового энергичного воспламенения, напоминая что-то ушедшее в самое себя, но остающееся настороже и таящее или таившее в себе скрытую способность к дикому прыжку. В этом также и большое различие между ним и утемнением синего, ибо в красном, даже и в этом состоянии, все еще чувствуется некоторый элемент телесности. Этот цвет напоминает средние и низкие звуки виолончели, несущие элемент страстности. Когда холодный красный цвет светел, он приобретает еще больше телесности, но телесности чистой, и звучит, как чистая юношеская радость, как свежий, юный, совершенно чистый образ девушки. Этот образ можно легко передать музыкально чистым, ясным пением звуков скрипки[83]. Этот цвет, становящийся интенсивным лишь путем примеси белой краски – излюбленный цвет платьев молодых девушек.
Теплый красный цвет, усиленный родственным желтым, дает оранжевый. Путем этой примеси, внутреннее движение красного цвета начинает становиться движением излучения, излияния в окружающее. Но красный цвет, играющий большую роль в оранжевом, сохраняет для этой краски оттенок серьезности. Он похож на человека, убежденного в своих силах, и вызывает поэтому ощущение исключительного здоровья. Этот цвет звучит, как средней величины церковный колокол, призывающий к молитве «Angelus», или же как сильный голос альта, как альтовая скрипка, поющая ларго.
Как оранжевый цвет возникает путем приближения красного цвета к человеку, так фиолетовый, имеющий в себе склонность удаляться от человека, возникает в результате вытеснения красного синим. Но это красное, лежащее в основе, должно быть холодным, так как тепло красного не допускает смешения с холодом синего (никаким способом), – это верно и в области духовного.
Итак, фиолетовый цвет является охлажденным красным, как в физическом, так и в психическом смысле. Он имеет поэтому характер чего-то болезненного, погасшего (угольные шлаки!), имеет в себе что-то печальное. Не напрасно этот цвет считается подходящим для платьев старух. Китайцы применяют этот цвет непосредственно для траурных одеяний. Его звучание сходно со звуками английского рожка, свирели и в своей глубине – низким тонам деревянных духовых инструментов (напр., фагота)[84].
Оба последних цвета, возникающие путем суммирования красного с желтым и синим, являются цветами малоустойчивого равновесия. При смешении красок наблюдается их склонность утрачивать равновесие. Получаешь впечатление канатоходца, который должен быть настороже и все время балансировать на обе стороны. Где начинается оранжевый цвет и кончается желтый или красный? Где границы, строго отделяющие фиолетовый цвет от красного или синего[85]? Оба только что охарактеризованных цвета (оранжевый и фиолетовый) составляют четвертый и последний контраст в царстве красок, простых примитивных цветных тонов, причем в физическом смысле они находятся по отношению друг к другу в том же положении, как цвета третьего контраста (красный и зеленый), т. е. являются дополнительными цветами. (См. таблицу II.)
Как большой круг, как змея, кусающая свой хвост, – символ бесконечности и вечности, – стоят перед нами эти шесть цветов, составляющие три больших пары контрастов. Направо и налево от них находятся две великих возможности безмолвия: безмолвие смерти и безмолвие рождения. (См. таблицу III.)
Ясно, что все приведенные обозначения этих простых красок являются лишь весьма временными и элементарными. Такими же являются и чувства, которые мы упоминаем в связи с красками – радость, печаль и т. д. Эти чувства также являются лишь материальными состояниями души. Гораздо более тонкую природу имеют тона красок, а также и музыки; они вызывают гораздо более тонкие вибрации, не поддающиеся словесным обозначениям. Весьма вероятно, что со временем каждый тон сможет найти выражение и в материальном слове, однако, всегда останется еще нечто, что невозможно полностью исчерпать словом и что не является излишней прибавкой к тону, а именно наиболее в нем существенное. Поэтому слова являются и будут являться лишь намеками, довольно внешними признаками красок. В этой невозможности заменить словом или другими средствами то, что составляет суть цвета, таится возможность монументального искусства. Тут в числе очень богатых и разнообразных комбинаций необходимо найти одну, которая основывается именно на этом, только что установленном факте. А именно: то же внутреннее звучание может быть достигнуто здесь в то же мгновение различными видами искусства, причем каждое искусство, кроме этого общего звучания, выявит добавочно еще нечто существенное, присущее именно ему. Благодаря этому общее внутреннее звучание будет обогащено и усилено, чего невозможно достигнуть одним искусством.
Таблица III
Контрасты, как кольцо между двумя полюсами – жизнь простых цветов между рождением и смертью. (Римские цифры обозначают пары контрастов.)[86]
Каждому ясно, какие при этом возможны дисгармонии, равноценные этой гармонии по силе и глубине, а также бесконечные комбинации, то с перевесом одного искусства, то с перевесом контрастов различных видов искусства на основе тихого звучания других видов и т. д.
Часто приходится слышать мнение, что возможность замены одного искусства другим (напр., словом, следовательно, литературой) опровергла бы необходимость различия в искусствах. Однако, это не так. Как было сказано, точно повторить то же самое звучание невозможно посредством различных искусств. А если бы это было возможно, то все же повторение того же самого звучания имело бы, по крайней мере внешне, иную окраску. Но если бы дело обстояло и не так, если бы повторение того же самого звучания различными искусствами совершенно точно давало бы каждый раз то же самое звучание (внешне и внутренне), то и тогда подобное повторение не было бы излишним. Уже потому, что различные люди имеют дарования в области различных искусств (активные или пассивные, т. е. как передающие или воспринимающие звучания). А если бы и это было не так, то и тогда благодаря этому повторение не утратило бы своего значения. Повторение тех же звуков, нагромождение их, сгущает духовную атмосферу, необходимую для созревания чувств (также и тончайшей субстанции), так же как для созревания различных фруктов необходима сгущенная атмосфера оранжереи, которая является непременным условием для созревания. Некоторым примером этого является человек, на которого повторение действий, мыслей и чувств, в конце концов, производит огромное впечатление, хотя он и мало способен интенсивно воспринимать отдельные действия и т. д., подобно тому, как достаточно плотная ткань не впитывает первых капель дождя[87].
Не следует, однако, представлять себе духовную атмосферу на этом почти осязаемом примере. Она духовно подобна воздуху, который может быть чистым или же наполненным различными чуждыми частицами. Элементами, образующими духовную атмосферу, являются не только поступки, которые каждый может наблюдать, и мысли и чувства, могущие иметь внешнее выражение, но и также совершенно скрытые действия, о которых «никто ничего не знает», невысказанные мысли, не получившие внешнего выражения чувства (т. е. происходящие внутри человека). Самоубийства, убийства, насилия, недостойные низкие мысли, ненависть, враждебность, эгоизм, зависть, «патриотизм», пристрастность – все это духовные образы, создающие атмосферу духовные сущности[88]. И наоборот, самопожертвование, помощь, высокие чистые мысли, любовь, альтруизм, радование счастью другого, гуманность, справедливость – такие же сущности, убивающие, как солнце убивает микробы, преждеупомянутые сущности и восстанавливающие чистоту атмосферы[89].
Иным, более сложным, является повторение, в котором различные элементы участвуют в различной форме. В нашем случае – различные искусства (то есть, в реализации и суммировании – монументальное искусство). Эта форма повторения еще мощнее, так как различные человеческие натуры различным образом реагируют на отдельные средства воздействия: для одних наиболее доступна музыкальная форма (она действует на всех вообще – исключения чрезвычайно редки), для других – живописная, для третьих – литературная и т. д. Кроме того, силы, таящиеся в различных искусствах, в сущности различны, так что они повышают достигнутый результат и в том же самом человеке, хотя каждое искусство и действует изолированно и самостоятельно.
Это трудно поддающееся определению действие отдельной изолированной краски является основой, на которой производится гармонизация различных ценностей. Целые картины (в прикладном искусстве – целые обстановки) выдерживаются в одном общем тоне, который избирается на основе художественного чувства. Проникновение цветного тона, соединение двух соседних красок путем примешивания одной к другой является базой, на которой нередко строится гармония цветов. Из только что сказанного о действии красок, из того факта, что мы живем во время, полное вопросов, предчувствий, толкований и, вследствие этого, полное противоречий (достаточно подумать о секциях треугольника), можно легко вывести заключение, что гармонизация на основе отдельной краски меньше всего подходяща именно для нашего времени. Произведения Моцарта воспринимаются нами, возможно, с завистью, с элегической симпатией. Они для нас – желанный перерыв среди бурь нашей внутренней жизни; они – утешение и надежда. Но мы слушаем его музыку, как звуки из иного, ушедшего и, по существу, чуждого нам времени. Борьба тонов, утраченное равновесие, рушащиеся «принципы», внезапный барабанный бой, великие вопросы, видимо бесцельные стремления, видимо беспорядочный натиск и тоска, разбитые оковы и цепи, соединяющие воедино противоположности и противоречия – такова наша гармония.
Основанная на этой гармонии композиция является аккордом красочных и рисуночных форм, которые самостоятельно существуют как таковые, которые вызываются внутренней необходимостью и составляют в возникшей этим путем общей жизни целое, называемое картиной.
Важны лишь эти отдельные части. Все остальные (также и сохранение предметного элемента) имеют второстепенное значение. Это остальное является лишь призвуком.
Логически отсюда вытекает и сопоставление друг с другом двух цветных тонов. На том же принципе антилогики рядом ставятся в настоящее время краски, долгое время считавшиеся дисгармоничными. Так обстоит дело, например, с соседством красного и синего, этих никак не связанных между собою физически красок; как раз вследствие их большого духовного контраста их выбирают сегодня, как одну из сильнейшим образом действующих, лучше всего подходящих гармоний. Наша гармония основана главным образом на принципе контраста, этого во все времена величайшего принципа в искусстве. Но наш контраст есть контраст внутренний, который стоит обособленно и исключает всякую помощь других гармонизирующих принципов. Сегодня они излишни и только мешают!
Интересно установить, что именно это соединение красного и синего было настолько излюбленно в примитивах (картины старых немцев, итальянцев и т. д.), что до сих пор мы находим его в пережитках той эпохи, например, в народных формах церковной скульптуры[90]. Очень часто в этих произведениях живописи и цветной скульптуры видишь Богоматерь в красном хитоне с наброшенным на плечи синим плащом; по-видимому, художники хотели указать на небесную благодать, ниспосланную на земного человека и облекающую человечество небесным покровом. Из определения нашей гармонии логически вытекает, что именно «сегодня» внутренняя необходимость нуждается в бесконечно большом арсенале возможностей выражения.
«Допустимые» и «недопустимые» сопоставления, столкновение различных красок, заглушение одной краски другою, многих красок – одною, звучание одной краски из другой, уточнение красочного пятна, растворение односторонних и многосторонних красок, ограничение текущего красочного пятна гранью рисунка, переливание этого пятна через эту границу, слияние, четкое отграничение и т. д., и т. д. – открывают ряд чисто-художественных (= цветовых) возможностей, теряющихся в недостижимых далях.
Отходом от предметного и одним из первых шагов в царство абстрактного было исключение третьего измерения как из рисунка, так и из живописи, т. е. стремление сохранить «картину», как живопись на одной плоскости. Отвергнуто было моделирование. Этим путем реальный предмет получил сдвиг к абстрактному, и это означало известный прогресс. Но этот прогресс немедленно повлек за собою «прикрепление» возможностей к реальной плоскости полотна, вследствие чего живопись получила новый совершенно материальный призвук. Это «прикрепление» было одновременно ограничением возможностей.
Стремление освободиться от этого материального и от этого ограничения, в связи со стремлением к композиционному, должно было, естественно, привести к отказу от одной плоскости. Делались попытки поместить картину на идеальную плоскость, которая, благодаря этому, должна была образоваться раньше материальной плоскости полотна[91]. Так из композиции с плоскими треугольниками возникла композиция из треугольников, ставших пластическими, треугольников в трех измерениях, т. е. из пирамид (так называемый «кубизм»). Однако и здесь очень скоро возникло инерционное движение, которое концентрировалось именно на этой форме и снова привело к оскудению возможностей. Таков неизбежный результат внешнего применения принципа, возникшего из внутренней необходимости. Именно в этом чрезвычайно важном случае не следует забывать, что имеются и другие средства сохранить материальную плоскость, построить идеальную плоскость и зафиксировать ее не только как поверхность плоскую, но и использовать ее, как пространство трех измерений. Уже тонкость или толщина линии, далее расположение формы на плоскости, пересечение одной формы другой в достаточной мере служат примерами для рисуночного «растяжения» пространства.
Сходные возможности имеет и краска, которая, если ее применять надлежащим образом, может выступать или отступать, стремиться вперед или назад, и делать картину парящим в воздухе существом, – что равнозначуще живописному растяжению пространства.
Соединение этих двух «растяжений» пространства в созвучии или в диссонансе является одним из богатейших и сильнейших элементов как рисуночной, так и живописной композиции.
VII. Теория
Из характеристики нашей сегодняшней гармонии само собой следует, что в наше время менее, чем когда-либо, возможно выработать совершенно законченную теорию[92], создать сконструированный генерал-бас живописи. Такие попытки привели бы на практике к такому же результату, как, например, уже упомянутые ложечки Леонардо да Винчи. Однако, было бы все же стишком опрометчиво утверждать, что для живописи никогда не будет иметься твердых правил, никогда не будет принципов, напоминающих генерал-бас, или же, что они всегда привели бы к одному лишь академизму. Музыке также присуща своя грамматика, на протяжении больших периодов времени, однако, как и все живущее, изменяющаяся, но и одновременно всегда успешно применявшаяся, как пособие, как своего рода словарь.
Иным в настоящее время является положение нашей живописи; ее эмансипация от прямой зависимости от природы находится еще в самом начале. Если краска и форма до настоящего времени применялись в качестве внутренних движущих принципов, то это делалось главным образом бессознательно. Подчинение композиции геометрической форме уже применялось в древнем искусстве (например, у древних персов). Созидание же на чисто духовной основе является длительной работой, которая сначала начинается в достаточной мере вслепую и наудачу. При этом необходимо, чтобы художник, кроме глаза, воспитывал и свою душу, чтобы и она приобрела способность тончайшим образом взвешивать цвет, действуя в качестве определяющей силы, не только при восприятии внешних впечатлений (иногда, правда, и внутренних), но и при создании произведений искусства.
Если бы мы уже сегодня стали совершенно уничтожать нашу связь с природой, стали бы насильственным путем добиваться освобождения и довольствовались бы, в конце концов, исключительно комбинацией чистой краски и независимой формы, то мы создали бы произведения, которые имели бы вид геометрической орнаментики, которые, упрощенно выражаясь, были бы похожи на галстук или ковер.
Вопреки утверждению чистых эстетов или также натуралистов, цель которых главным образом «красивость», красота краски и формы не является достаточной целью для искусства. Именно вследствие элементарного состояния нашей живописи, мы очень мало способны иметь сегодня внутренние переживания от вполне эмансипированной композиции красок и форм. Нервная вибрация, разумеется, ощущалась бы (как, например, от произведений прикладного искусства), но эта вибрация останется, главным образом, в нервной сфере, так как она вызовет слишком слабые психические вибрации, слишком слабые душевные потрясения. Но если мы примем во внимание, что поворот к духовному начинает идти бурным темпом и что даже «наиболее прочная» основа человеческой духовной жизни, т. е. позитивная наука захвачена этим процессом и стоит на пороге растворения материи, то можно утверждать, что лишь немногие «часы» отделяют нас от этой чистой композиции. Конечно, и орнаментика не является совершенно безжизненным существом. Она обладает своей внутренней жизнью, которая нам или не понятна (древняя орнаментка), или же является алогической сумятицей – миром, в котором, так сказать, нет разницы между взрослыми людьми и эмбрионами и в котором они играют одинаковые общественные роли; миром, где существа с оторванными частями тела поставлены на одну доску с самостоятельно живущими носами, пальцами и пупками. Это – комбинаторика калейдоскопа[93], инициатором которой является не дух, а материальная случайность. Но, несмотря на эту непонятность или вообще неспособность стать понятной, орнаментика на нас все же действует, хотя и случайно и не планомерно[94]: восточный орнамент является внутренне совершенно иным, чем шведский, негритянский, древнегреческий и т. д.
Не без основания, например, общепринято называть узоры тканей веселыми, серьезными, печальными, оживленными и т. д., т. е. теми же прилагательными, которыми всегда пользуются музыканты (allegro, serioso, grave, vivace и т. д.), для того чтобы определить исполнение музыкального отрывка. Весьма возможно, что орнамент когда-то возник из природы (ведь и современные работники прикладного искусства ищут свои мотивы в полях и лесах). Но, если бы мы даже и предположили, что не использовался никакой иной источник, кроме внешней природы, то, с другой стороны, в хорошем орнаменте природные формы и краски все же трактовались не чисто внешним образом, а скорее, как символы, которые, в конце концов, применялись почти иероглифически. И именно поэтому они постепенно стали непонятными, и мы не можем больше расшифровать их внутреннюю ценность. Китайский дракон, например, который сохранил в своей орнаментальной форме еще очень много точно телесного, настолько слабо действует на нас, что мы спокойно можем переносить его в столовой или в спальне и воспринимаем его не сильнее, чем столовую дорожку, вышитую маргаритками.
Быть может, к концу нашего, возникающего в настоящее время, периода снова разовьется новая орнаментика, но она вряд ли будет состоять из геометрических форм. Однако попытка в настоящее время создать такого рода орнаментику насильственно была бы похожа на попытку насильственно пальцами раскрыть цветок из едва лишь намечающегося бутона.
В наше время мы еще крепко связаны с внешней природой и вынуждены черпать из нее все наши формы. Весь вопрос теперь состоит в том, – как нам поступать, – это значит, насколько мы свободны видоизменять эти формы и с какими красками мы вправе их соединять?
Эта свобода может простираться настолько, насколько простирается чувство художника. Это показывает, как бесконечно важно это чувство культивировать.
Некоторые примеры дадут достаточно исчерпывающий ответ на вторую часть вопроса.
Рассматриваемый изолированно теплый красный цвет существенно изменит свою внутреннюю ценность, если не будет больше изолированным и не останется абстрактным звуком, а, связанный с природной формой, будет рассматриваться как элемент какого-либо существа. Это соединение красного с различными природными формами вызовет также различные внутренние воздействия, которые, однако, будут звучать родственно, вследствие постоянного, обычно изолированного, воздействия красного цвета. Окрасим в этот красный цвет небо, цветок, платье, лицо, коня, дерево. Красное небо вызовет у нас ассоциацию с закатом солнца, с пожаром и тому подобным. При этом возникает «естественное» впечатление (в данном случае торжественное, угрожающее). Тут многое, разумеется, зависит от трактовки других предметов, которые мы комбинируем с красным небом. Если поставить их в причинную связь, а также соединить с возможными для них красками, то природное звучание неба будет еще сильнее. Если же другие предметы будут очень удалены от природы, то они смогут, вследствие этого, ослабить «естественное» впечатление от неба, а в известных случаях даже его уничтожить. Довольно похожим окажется соединение красного цвета с человеческим лицом. Здесь красный цвет может действовать как выражение душевного волнения или же будет приписан особому освещению, причем это действие может быть уничтожено только путем сильного абстрагирования других частей картины.
Красный цвет платья – случай, напротив, уже совершенно иной, так как платье может быть любого цвета. Тут красный цвет будет лучше всего действовать как «живописная» необходимость, так как красный цвет может применяться здесь один, без прямой связи с материальными целями. Однако, все же возникает взаимное влияние этого красного платья на фигуру, одетую в это красное, и обратно – фигуры на платье. Если, например, общая нота картины печальная и эта нота особенно сконцентрирована на фигуре, одетой в красное (положением фигуры в общей композиции, ее собственным движением, чертами лица, постановкой головы, цветом лица и т. д.), то этот красный цвет платья своим внутренним диссонансом особенно сильно подчеркивает печаль картины и этой главной фигуры. Другой цвет, сам имеющий печальное воздействие, неминуемо ослабил бы впечатление вследствие уменьшения драматического элемента[95]. Итак, мы снова имеем здесь уже упомянутый принцип контраста. Здесь драматический элемент возникает в результате включения красного в общую печальную композицию, так как красное, будучи совершенно изолированным (значит, не волнует ничем зеркальную поверхность души), не может при обычных состояниях действовать печальным образом[96].
Иначе будет обстоять, когда тот же красный цвет будет применен к дереву. Основной красный тон сохраняется, как и во всех упомянутых случаях. Но к нему присоединится психическая ценность осени (ибо само слово «осень» является психической единицей, как бывает и со всяким реальным, абстрактным, бестелесным или телесным понятием). Цвет целиком соединяется с предметом и образует изолированно действующий элемент, без драматического призвука, о котором я упомянул в связи с применением красного цвета в платье.
Совершенно иным случаем, наконец, является красная лошадь. Уже само звучание этих слов переносит нас в другую атмосферу. Естественная невозможность существования красной лошади необходимо требует столь же неестественной среды, в которую поставлена эта лошадь. В противном случае общее действие будет производить или впечатление курьеза (т. е. действие будет только поверхностным и совершенно нехудожественным), или же создаст впечатление неумело сочиненной сказки[97] (т. е. обоснованного курьеза с нехудожественным действием). Обыкновенный натуралистический ландшафт, моделированные, анатомически выписанные фигуры в связи с такой лошадью создали бы такую дисгармонию, за которой никакое чувство не могло бы следовать, и соединить это воедино не было бы никакой возможности. Как следует понимать это «единое» и каким оно может быть, указывает определение сегодняшней гармонии. Отсюда можно вывести заключение, что возможно разделить на отдельные части всю картину, погрузить ее в противоречия и провести ее через всякие виды внешних плоскостей, построить ее на всевозможных внешних плоскостях, причем, однако, внутренняя плоскость всегда останется той же самой. Элементы конструкции картины следует именно теперь искать не в этом внешнем, а только во внутренней необходимости.
Да и зритель слишком привык искать в подобных случаях «смысла», т. е. внешней связи между частями картины. Тот же период материализма воспитал во всей жизни, а значит и в искусстве, зрителя, который не может воспринять картины просто (особенно «знаток искусства») и ищет в картине все что угодно (подражание природе, природу, отраженную в темпераменте художника, т. е. его темперамент, непосредственное настроение, «живопись», анатомию, перспективу, внешнее настроение и т. д., и т. д.); не ищет он только восприятия внутренней жизни картины, не пытается дать картине непосредственно воздействовать на себя. Его духовный взгляд, ослепленный внешними средствами, не ищет того, что живет при помощи этих средств. Когда мы ведем интересный разговор с человеком, то мы стремимся углубиться в его душу, понять его внутренний облик, узнать его мысли и чувства, но мы не думаем о том, что он пользуется словами, состоящими из букв, что последние являются ничем иным, как целесообразными звуками, что последние для возникновения нуждаются во втягивании воздуха в легкие (анатомическая часть), в выталкивании воздуха из легких и в особом положении языка, губ и т. д., чтобы произвести вибрацию воздуха (физическая часть), которая дальше через барабанную перепонку и т. д. достигает нашего сознания (психологическая часть), вызывает нервную реакцию (физиологическая часть) и т. д. до бесконечности. Мы знаем, что все эти детали для разговора весьма второстепенны и нам приходится пользоваться ими чисто случайно, лишь как необходимыми в данный момент внешними средствами, – существенное же в разговоре состоит в сообщении идей и чувств. Так же следовало бы относиться к художественному произведению и этим путем получить доступ к прямому абстрактному действию произведения. Тогда со временем разовьется возможность говорить путем чисто художественных средств, тогда будет излишним заимствовать для внутренней речи формы из внешнего мира, которые в настоящее время дают нам возможность, применяя форму и краску, уменьшать или повышать их внутреннюю ценность. Контраст (как красное платье при печальной композиции) может быть безгранично сильным, но должен оставаться на одной и той же моральной плоскости.
Но даже когда имеется эта плоскость, то этим самым в нашем примере еще не полностью разрешена проблема красок. «Неестественные» предметы и подходящие к ним краски легко могут получить литературное звучание, при котором композиция действует как сказка. Такой результат переносит зрителя в атмосферу, которую он спокойно воспринимает, так как она имеет характер сказочности; тогда он 1) ищет сюжета и 2) остается невосприимчивым или маловосприимчивым к чистому действию красок. Во всяком случае, при этом больше невозможно непосредственное, чистое внутреннее действие цвета: внешнее легко получает перевес над внутренним. Человек, как правило, не любит погружаться в большие глубины, он охотно остается на поверхности, так как последняя требует меньшего напряжения. Хотя и «нет ничего более глубокого, чем то, что поверхностно», но эта глубина есть глубина болота. С другой стороны, существует ли искусство, к которому относятся легче, чем к «пластическому»? Во всяком случае, как только зритель чувствует себя в области сказки, он немедленно становится невосприимчивым к сильным душевным вибрациям. И в результате цель произведения сводится к нулю. Поэтому должна быть найдена форма, которая, во-первых, исключила бы сказочную атмосферу[98] и, во-вторых, ни в какой мере не задерживала бы чистого воздействия краски. Для этого форма, движение, краска и заимствованные у природы предметы (реальные и нереальные) не должны вызывать никакого внешнего или связанного с внешним повествовательного действия. И чем внешне немотивированнее будет, например, движение, тем чище, глубже и внутреннее его действие.
Очень простое движение, цель которого неизвестна, действует уже само по себе, как значительное, таинственное, торжественное. И это остается таким, пока мы не знаем внешней практической цели движения. Оно действует тогда, как чистое звучание. Простая совместная работа (например, подготовка к подъему большой тяжести) действует, если неизвестна цель, столь значительно, таинственно, драматично и захватывающе, что невольно останавливаешься, как перед видением, как перед жизнью в иной плоскости до тех пор, пока внезапно не исчезнет очарование и не придет, как удар, практическое объяснение и не откроет загадочности и причины события. Простое, внешне немотивированное движение таит неисчерпаемое, полное возможностей сокровище. Такие случаи особенно легко встречаются, когда идешь, погруженный в абстрактные мысли. Такие мысли вырывают человека из повседневной, практической, целесообразной суеты. Вследствие этого становится возможным наблюдение таких простых движений вне практического круга. Но стоит лишь вспомнить, что на наших улицах ничего загадочного происходить не может, как в тот же момент пропадает интерес к движению: практический смысл движения угашает его абстрактный смысл. На этом принципе следовало бы построить и будет построен «новый танец», так как он будет единственным средством использовать все значение, весь внутренний смысл движения во времени и в пространстве. Происхождение танца, по-видимому, чисто сексуального характера. Во всяком случае, мы еще и теперь видим, как этот первоначальный элемент танца открыто проявляется в народной пляске. Возникшая позднее необходимость применить танец, как элемент богослужения (как средство для инспирации), остается, так сказать, в сфере искусного использования движения. Постепенно оба эти практические применения получили художественную окраску, которая развивалась на протяжении столетий и закончилась языком балетных движений. Этот язык сегодня понятен лишь немногим и все больше утрачивает ясность. Кроме того, он имеет слишком наивную природу для будущего: ведь он служил только для выражения материальных чувств (любви, страха и т. д.) и должен быть заменен другим, который мог бы вызывать более тонкие душевные вибрации. Поэтому современные реформаторы танца обратили свои взоры на формы прошлого, где они еще и сейчас ищут помощи. Так возникла связь, которую Айседора Дункан установила между танцем греческим и будущим. По той же причине художники искали помощи в художественных произведениях-примитивах. Разумеется, и в танце (так же, как и в живописи) это является лишь переходной стадией. Мы стоим перед необходимостью создания нового танца, танца будущего. Тот же самый закон безусловного использования внутреннего смысла движения в качестве главного элемента танца будет действовать и здесь, и он приведет к цели. И тут общепринятая «красивость» движения должна будет и будет выброшена за борт, а «естественный» процесс (рассказно-литературный элемент) будет объявлен ненужным и, наконец, мешающим. Так же, как в музыке или в живописи не существует «безобразного звучания» и внешнего «диссонанса», т. е. так же, как в этих двух искусствах всякий звук и созвучие прекрасны (целесообразны), если вытекают из внутренней необходимости, так в скором времени и в танце будут чувствовать внутреннюю ценность каждого движения, и внутренняя красота заменит внешнюю. От «некрасивых» движений, которые теперь внезапно и немедленно становятся прекрасными, тотчас исходит небывалая мощь и живая сила. С этого мгновения начинается танец будущего.
Этот танец будущего, который таким образом становится на высоту современной музыки и живописи в качестве третьего момента, и получит сейчас же способность осуществить сценическую композицию, которая будет первым произведением монументального искусства. Сценическая композиция сначала будет состоять из следующих трех элементов:
1) Из музыкального движения,
2) Из живописного движения,
3) Из движения художественного танца.
После сказанного выше о чисто живописной композиции каждому станет понятно, как я понимаю троякое действие внутреннего движения (= сценическая композиция).
Так же, как два главных элемента живописи (рисуночная и живописная форма) ведут каждый свою самостоятельную жизнь и говорят при помощи собственных и им одним присущих средств; так же, как из комбинирования этих элементов и всех их свойств и возможностей возникает в живописи композиция, – точно так же возможной станет сценическая композиция при содействии и противодействии указанных трех движений.
Упомянутая выше попытка Скрябина: усилить действие музыкального тона действием соответствующего цветного тона, является, разумеется, лишь очень элементарной попыткой, лишь одной из возможностей. Кроме созвучия двух или, наконец, трех элементов сценической композиции, может быть использовано еще и следующее: противоположное звучание, чередующееся действие отдельных звучаний, использование полной самостоятельности (конечно, внешней) каждого из отдельных элементов и т. д. Именно это последнее средство уже применял Арнольд Шенберг в своих квартетах. И тут мы видим, как сильно повышается сила и значение внутреннего созвучия, когда внешнее созвучие применяется в этом духе. Представьте себе только преисполненный счастьем новый мир трех мощных элементов, которые будут служить одной творческой цели. Мне приходится здесь отказаться от дальнейшего развития этой значительной темы. Пусть читатель и в данном случае соответствующим образом применит принцип живописи, и перед его духовным взором сама собою встанет счастливая мечта о сцене будущего. На запутанных путях этого нового царства, бесконечной сетью расстилающихся перед пионером, через вековые черные леса, через неизмеримые ущелья, ледяные высоты и головокружительные пропасти, его непогрешимой рукой будет направлять тот же самый руководитель – принцип внутренней необходимости.
Из рассмотренных выше примеров применения краски, из необходимости и значения применения «естественных» форм в соединении с цветом, как звучанием, вытекает: 1) где лежит путь к живописи и 2) как во всеобщем принципе вступить на этот путь. Путь этот лежит меж двух областей (сегодня являющихся и двумя опасностями): направо – целиком абстрактное, совершенно эмансипированное применение цвета в «геометрической» форме (опасность орнаментики); налево – более реальное, но слишком ослабленное внешними формами пользование цвета в «телесной» форме (фантастика). И в то же время уже имеется возможность (и, может быть, только сегодня) дойти до правой границы и переступить ее; точно также и до левой границы и за ее пределы. По ту сторону этих границ (здесь я оставляю путь схематизирования) – направо лежит чистая абстракция (т. е. абстракция более совершенная, чем абстракция геометрической формы) и налево – чистый реализм (т. е. более высокая фантастика – фантастика простейшей материи). А между ними безграничная свобода, глубина, широта, богатство возможностей; за ними же лежит область чистейшей абстракции и чистейшего реализма. Благодаря сегодняшнему моменту, в настоящее время все предоставлено для пользования художника. Сегодня – день свободы, которая мыслима только на заре великой эпохи[99]. Но эта свобода в то же время и одна из величайших не-свобод, так как все эти возможности – внутри и по ту сторону границ – вырастают из одного и того же корня: из категорического зова внутренней необходимости.
То, что искусство стоит выше природы, не является каким-либо новым открытием[100]. Новые принципы также не падают с неба, а находятся в связи с прошлым и с будущим.
Нам важно лишь знать, в каком положении этот принцип находится сегодня и где мы при его посредстве окажемся завтра. Все снова и снова следует подчеркивать, что этот принцип никогда не должен применяться насильственно. Но если художник настроит свою душу по этому камертону, то его произведения сами собою будут звучать в этом тоне. И именно сегодняшний прогресс «эмансипации» вырастает из почвы внутренней необходимости, которая, как я уже указывал, является духовной силой объективного в искусстве. Сегодня объективное в искусстве стремится себя проявить особенно напряженно. И чтобы объективное выявилось полнее, отношение к временным формам становится менее скрупулезным. Природные формы устанавливают границы, которые часто препятствуют этому выявлению. Эти границы устраняются и заменяются объективным элементом формы – конструкцией в целях композиции. Этим объясняется уже явное сегодня стремление открыть конструктивные формы эпохи. Так, например, кубизм, как одна из переходных форм, показывает, насколько часто природные формы приходится насильственно подчинять конструктивным целям, и какие ненужные препятствия в таких случаях такими формами создаются.
Сегодня, в общем, применяется обнаженная конструкция, что является, по-видимому, единственной возможностью для выражения объективного в форме. Если мы, однако, подумаем о том, какое определение было дано в настоящей книге сегодняшней гармонии, то мы поймем дух времени и в области конструкции: не как ясно очерченную, зачастую бросающуюся в глаза конструкцию (геометрическую), которая как будто наиболее богата возможностями или наиболее выразительна, а скрытую, которая незаметно выходит из картины и, следовательно, предназначена не столько для глаза, сколько для души.
Эта скрытая конструкция может состоять, казалось бы, из случайно брошенных на полотно форм, которые также, казалось бы, никак друг с другом не связаны: внешнее отсутствие этой связи означает здесь ее внутреннее наличие.
Внешне разделенное является здесь внутренне слитным. И это остается одинаковым для обоих элементов, как для рисуночной, так и для живописной формы.
Именно в этом будущность учения о гармонии в живописи. «Как-то» относящиеся друг к другу формы имеют в конечном итоге большое и точное отношение друг к другу. И, наконец, это отношение может быть выражено в математической форме, только здесь приходится оперировать больше с нерегулярными, чем с регулярными числами.
Последним абстрактным выражением в каждом искусстве является число.
Само собой разумеется, что этот объективный элемент, с другой стороны, непременно требует рассудка и сознания (объективное знание – генерал-бас живописи), как силу необходимую для сотрудничества. И это объективное даст возможность сегодняшнему произведению и завтра вместо «я было» – сказать «я есмь».
VIII. Произведение искусства и художник
Истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом «из художника». Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно является существом. Итак, оно не есть безразлично и случайно возникшее явление, пребывающее безразлично в духовной жизни: оно, как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными, активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы, о которой мы говорили. Исключительно с этой внутренней точки зрения следует решать и вопрос: хорошо ли данное произведение или плохо. Если оно «плохо» по форме или слишком слабо, то значит плоха или слишком слаба данная форма и поэтому не может вызывать каких бы то ни было чистых звучащих душевных вибраций[101]. В действительности же не та картина «хорошо написана», которая верна в своих ценностях (неизбежные valeurs французов) или которая почти научным образом разделена на «холодное» и «теплое», а та картина хорошо написана, которая живет внутренне полной жизнью. Также и «хорошим рисунком» является только такой, в котором ничего не может быть изменено без того, чтобы не разрушилась эта внутренняя жизнь совершенно независимо от того, противоречит ли этот рисунок анатомии, ботанике или другой науке. Здесь вопрос заключается не в том, не нарушается ли, не повреждена ли внешняя (а значит, всегда лишь случайная) форма, а только в том, нуждается ли художник в этой форме, как она существует вовне, или нет. Также и краски следует применять не потому, что они существуют или не существуют в этом звучании в природе, а потому, что именно в этом звучании они необходимы в картине. Короче говоря, художник не только вправе, но обязан обращаться с формами так, как это необходимо для его целей. И необходимым является не анатомия или что-либо подобное, не принципиальное пренебрежение этими науками, а только полная неограниченная свобода художника в выборе своих средств[102]. Необходимость эта есть право на неограниченную свободу, которая тотчас же становится преступлением, если она не основывается на этой необходимости. Для искусства это право является внутренним моральным планом, о котором мы говорили. Во всей жизни (а значит, и в искусстве) важна безупречная цель! И в частности, бессмысленное следование научным фактам никогда не бывает столь вредно, как бессмысленное пренебрежение ими. В первом случае возникает подражание природе (материальное), которое может применяться для различных специальных целей[103]. Во втором случае это художественный обман, который, подобно греху, влечет за собой длинную цепь дурных последствий. Первый случай оставляет моральную атмосферу пустой; он приводит к ее окаменению. Второй случай отравляет и зачумляет ее.
Живопись есть искусство, и искусство в целом не есть бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души – движению треугольника. Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном; и этот хлеб насущный может в данном случае быть предоставлен душе лишь этим и никаким другим способом.
Если искусство уходит от этой задачи, остается пустое место, ибо нет силы, могущей заменить искусство[104]. И всегда, во времена, когда душа живет жизнью более интенсивной, оживает и искусство, так как душа и искусство связаны друг с другом взаимодействием и взаимосовершенствованием. А в периоды, когда душа из-за материалистических воззрений, неверия и вытекающих отсюда чисто практических стремлений одурманивается и становится запущенной, возникает взгляд, что «чистое» искусство дается людям не для особых целей, а бесцельно, что искусство существует только для искусства (L’art pour L’art)[105]. Тут связь между искусством и душой наполовину анестезирована. Это, однако, чревато последствиями, так как вскоре художник и зритель (которые сообщаются между собой с помощью душевного языка) больше не понимают друг друга, и зритель поворачивается к художнику спиной или смотрит на него как на фокусника, внешняя ловкость и изобретательность которого вызывают восхищение.
Художник должен прежде всего попытаться изменить положение, признав свой долг по отношению к искусству, а значит и к самому себе; считая себя не господином положения, а служителем высшим целям, обязательства которого точны, велики и святы. Он должен воспитывать себя и научиться углубляться, должен прежде всего культивировать душу и развивать ее, чтобы его талант стал облачением чего-то, а не был бы потерянной перчаткой с незнакомой руки – пустым и бессмысленным подобием руки.
Художник должен иметь что сказать, так как его задача – не владение формой, а приспособление этой формы к содержанию[106].
Художник в жизни – не счастливчик: он не имеет права жить без обязанностей, труд его тяжек, и этот труд зачастую становится его крестом. Он должен понимать, что все его поступки, чувства, мысли рождают тончайший, неосязаемый, но прочный материал, из которого вырастают его творения, и что он поэтому свободен не в жизни, а только в искусстве.
Отсюда естественно вытекает, что художник несет троякую ответственность, по сравнению с не-художником: 1) он должен продуктивно использовать данный ему талант, 2) поступки, мысли и чувства его, как и любого другого человека, образуют духовную атмосферу, очищая или заражая окружающую среду, и 3) поступки, мысли и чувства являются материалом для его творений, которые, в свою очередь, воздействуют на духовную атмосферу. Художник – «царь» (как его называет Сар Пеладан) не только потому, что велика его власть, а потому, что велики и его обязанности.
Раз художник является жрецом «прекрасного», то это прекрасное следует искать при помощи того же принципа внутренней ценности, который мы всюду находили. Это «прекрасное» можно мерить только масштабом внутреннего величия и необходимости, которые до сих пор всюду и всегда верно служили нам.
Прекрасно то, что возникает из внутренней душевной необходимости. Прекрасно то, что прекрасно внутренне[107].
Метерлинк (который является одним из передовых поборников, одним из первых душевных композиторов сегодняшнего искусства, из которого возникнет искусство завтрашнее) говорит: «Нет на земле ничего, что сильнее жаждало бы прекрасного и легче бы в прекрасное преображалось, чем душа. Поэтому-то лишь немногие души на земле противостоят господству отдающейся прекрасному души»[108].
И это качество души есть то масло, с помощью которого возможно медленное, едва заметное, временами внешне задерживающееся, но неизменное, непрерывное движение духовного треугольника вперед и ввысь.
Заключительное слово
Приложенные восемь репродукций являются примерами конструктивных стремлений в живописи.[109]
По форме эти стремления распадаются на две главные группы:
1. Композиция простая, подчиненная ясно находимой простой форме. Такую композицию я называю мелодической.
2. Композиция сложная, состоящая из нескольких форм, подчиненных далее явной или скрытой главной форме.
Внешне эту главную форму бывает очень трудно найти, почему и внутренняя основа получает особенно сильное звучание. Такую сложную композицию я называю симфонической.
Между этими двумя главными имеются разные переходные формы, которым обязательно присущ мелодический принцип. Весь процесс эволюции благодаря этому поразительно похож на тот же процесс в музыке. Отклонения от этих обоих процессов – результат влияния другого действующего закона, однако до настоящего времени всегда подчинявшегося, в конце концов, первому закону развития Таким образом эти отклонения не имеют решающего значения.
Если в мелодической композиции удалить предметный элемент и этим обнажить лежащую в основе художественную форму, то обнаружатся примитивные геометрические формы или расположение простых линий, которые служат одному общему движению. Это общее движение повторяется в отдельных частях и иногда варьируется отдельными линиями или формами. Эти отдельные линии или формы служат в этом последнем случае различным целям. Они образуют, например, род заключения, которому я даю музыкальное обозначение «fermata»[110].
Все эти конструктивные формы обладают простым внутренним звучанием, которое имеет и каждая мелодия. Я называю их поэтому мелодическими. Эти мелодические композиции, пробужденные к новой жизни Сезанном, а позже Ходлером, в наше время получили обозначение ритмических. Это было стержнем возрождения композиционных целей. С первого взгляда ясно, что ограничение понятия «ритмические» одними лишь этими случаями является слишком узким. Как в музыке каждая конструкция обладает своим собственным ритмом, как и в совершенно «случайном» распределении вещей в природе каждый раз наличествует ритм, так и в живописи. Только в природе этот ритм нам иногда неясен, так как цели его (в некоторых и как раз важных случаях) нам неясны. Этот неясный подбор называют поэтому аритмическим. Таким образом это деление на ритмическое и аритмическое совершенно относительно и условно (так же, как и деление на гармоническое и дисгармоническое, которого в сущности не существует)[111].
Примером более сложной «ритмической» композиции с ярко выраженной тенденцией симфонического принципа являются многие картины, гравюры по дереву, миниатюры и пр. прошедших художественных эпох. Достаточно лишь припомнить старых немецких мастеров, персов, японцев, русских иконописцев, и особенно лубочные картинки и т. д., и т. д.[112]
Почти во всех этих произведениях симфоническая композиция еще очень сильно связана с мелодической. Это означает, что при удалении предметного элемента и обнажении тем самым композиционного становится видимой композиция, построенная на чувстве покоя, спокойного повторения и довольно равномерного распределения[113]. Невольно вспоминаются старинные хоровые композиции, Моцарт и, наконец, Бетховен. Все эти произведения имеют большее или меньшее сродство с возвышенной, полной покоя и достоинства архитектурой готического собора: равновесие и равномерное распределение отдельных частей являются камертоном и духовной основой подобных конструкций. Подобные произведения принадлежат к переходным формам.
В качестве примера новых симфонических композиций, в которых мелодический элемент находит применение лишь иногда и как одна из подчиненных частей, но получает при этом новую форму, я прилагаю репродукции трех моих картин.
Эти репродукции служат примером трех различных источников возникновения:
1. Прямое впечатление от «внешней природы», получающее выражение в рисуночно-живописной форме. Я называю эти картины «импрессиями»;
2. Главным образом бессознательно, большей частью внезапно возникшие выражения процессов внутреннего характера, т. е. впечатления от «внутренней природы». Этот вид я называю «импровизациями»,
3. Выражения, создающиеся весьма сходным образом, но исключительно медленно складывающиеся во мне; они долго и почти педантически изучаются и вырабатываются мною по первым наброскам. Картины этого рода я называю «композициями». Здесь преобладающую роль играет разум, сознание, намеренность, целесообразность. Но решающее значение придается всегда не расчету, а чувству. Терпеливый читатель этой книги увидит, какие бессознательные или сознательные конструкции всех трех видов лежат в основе моих картин.
В заключение мне хочется сказать, что, по-моему, мы все более приближаемся к эре сознательного, разумного композиционного принципа; что художник скоро будет гордиться тем, что сможет объяснить свои произведения, анализируя их конструкцию (в противоположность чистым импрессионистам, которые гордились тем, что ничего не могли объяснить); что мы уже сейчас стоим на пороге эры целесообразного творчества; и что этот дух живописи находится в органической прямой связи с уже начавшейся эрой нового духовного царства, так как этот дух есть душа эпохи великой духовности.
Ступени. Текст художника
Первые цвета, впечатлившиеся во мне, были светло-сочно-зеленое, белое, красное кармина, черное и желтое охры. Впечатления эти начались с трех лет моей жизни. Эти цвета я видел на разных предметах, стоящих перед моими глазами далеко не так ярко, как сами эти цвета.
Срезали с тонких прутиков спиралями кору так, что в первой полосе снималась только верхняя кожица, во второй и нижняя. Так получались трехцветные лошадки: полоска коричневая (душная, которую я не очень любил и охотно заменил бы другим цветом), полоска зеленая (которую я особенно любил и которая, даже и увядши, сохраняла нечто обворожительное) и полоска белая, т. е. сама обнаженная и похожая на слоновую кость палочка (в сыром виде необыкновенно пахучая – лизнуть хочется, а лизнешь – горько, – но быстро в увядании сухая и печальная, что мне с самого начала омрачало радость этого белого).
Мне помнится, что незадолго до отъезда моих родителей в Италию (куда ехал трехлетним мальчиком и я) родители моей матери переехали на новую квартиру. И помнится, квартира эта была еще совершенно пустая, т. е. ни мебели в ней не было, ни людей. В комнате средней величины висели только совершенно одни часы на стене. Я стоял тоже совершенно один перед ними и наслаждался белым циферблатом и написанной на нем розой пунцово-красной глубины.
Вся Италия окрашивается двумя черными впечатлениями. Я еду с матерью в черной карете через мост (под ним вода кажется грязно-желтой): меня везут во Флоренции в детский сад. И опять черное: ступени в черную воду, а на воде страшная черная длинная лодка с черным ящиком посередине: мы садимся ночью в гондолу.
Большое, неизгладимое влияние имела на все мое развитие старшая сестра моей матери, Елизавета Ивановна Тихеева, просветленную душу которой никогда не забудут соприкасавшиеся с нею в ее глубоко альтруистической жизни. Ей я обязан зарождением моей любви к музыке, сказке, позже к русской литературе и к глубокой сущности русского народа. Одним из ярких детских, связанных с участием Елизаветы Ивановны, воспоминаний была оловянная буланая лошадка из игрушечных скачек – на теле у нее была охра, а грива и хвост были светло-желтые. По приезде моем в Мюнхен, куда я отправился тридцати лет, поставив крест на всей длинной работе прежних лет, учиться живописи, я в первые же дни встретил на улицах совершенно такую же буланую лошадь. Она появляется неуклонно каждый год, как только начнут поливать улицы. Зимой она таинственно исчезает, а весной появляется точно такой, какой она была год назад, не постарев ни на волос: она бессмертна.
И полусознательное, но полное солнца обещание шевельнулось во мне. Она воскресила мою оловянную буланку и привязала узелком Мюнхен к годам моего детства. Этой буланке я обязан чувством, которое я питал к Мюнхену: он стал моим вторым домом. Ребенком я много говорил по-немецки (мать моей матери была немка). И немецкие сказки моих детских лет ожили во мне. Исчезнувшие теперь высокие, узкие крыши на Promenadeplatz, на теперешнем Lenbachplatz, старый Schwabing и в особенности Au, совершенно случайно открытая мною на одной из прогулок по окраинам города, превратили эти сказки в действительность. Синяя «конка» сновала по улицам, как воплощенный дух сказок, как синий воздух, наполнявший грудь легким радостным дыханием. Ярко-желтые почтовые ящики пели на углах улиц свою громкую песню канареек. Я радовался надписи «Kunstmühle», и мне казалось, что я живу в городе искусства, а значит, и в городе сказки. Из этих впечатлений вылились позже написанные мною картины из средневековья. Следуя доброму совету, я съездил в Rothenburg o [b der] T [auber]. Неизгладимо останутся в памяти бесконечные пересадки из курьерского поезда в пассажирский, из пассажирского в крошечный поездок местной ветки с заросшими травою рельсами, с тоненьким голоском длинношейного паровичка, с визгом и погромыхиванием сонных колес и со старым крестьянином (в бархатном жилете с большими филигранными серебряными пуговицами), который почему-то упорно стремился поговорить со мной о Париже и которого я понимал с грехом пополам. Это была необыкновенная поездка – будто во сне. Мне казалось, что какая-то чудесная сила, вопреки всем законам природы, опускает меня все ниже, столетье за столетьем в глубины прошедшего. Я выхожу с маленького (какого-то «ненастоящего») вокзала и иду лугом в старые ворота. Ворота, еще ворота, рвы, узкие дома, через узкие улицы вытягивающие друг к другу головы и углубленно смотрящие друг другу в глаза, огромные ворота трактира, отворяющиеся прямо в громадную мрачную столовую, на самой середине которой тяжелая, широкая, мрачная дубовая лестница ведет к номерам, узкий мой номер и застывшее море ярко-красных покатых черепитчатых крыш, открывшееся мне из окна. Все время было ненастно. На мою палитру садились высокие круглые капли дождя. Трясясь и покачиваясь, они вдруг протягивали друг другу руки, бежали друг к другу, неожиданно и сразу сливались в тоненькие, хитрые веревочки, бегавшие проказливо и торопливо между красками или вдруг прыгавшие мне за рукав. Не знаю, куда девались все эти этюды. Только раз за всю неделю на какие-нибудь полчаса выглянуло солнце. И ото всей этой поездки осталась всего одна картина, написанная мною – уже по возвращении в Мюнхен – по впечатлению. Это – «Старый город». Он солнечен, а крыши я написал ярко-красные – насколько сил хватило.
В сущности, и в этой картине я охотился за тем часом, который был и будет самым чудесным часом московского дня. Солнце уже низко и достигло той своей высшей силы, к которой оно стремилось весь день, которой оно весь день ожидало. Не долго продолжается эта картина: еще несколько минут, и солнечный свет становится красноватым от напряжения, все краснее, сначала холодного красного тона, а потом все теплее. Солнце плавит всю Москву в один кусок, звучащий как туба, сильной рукой потрясающий всю душу. Нет, не это красное единство – лучший московский час. Он только последний аккорд симфонии, развивающей в каждом тоне высшую жизнь, заставляющей звучать всю Москву подобно fortissimo огромного оркестра. Розовые, лиловые, белые, синие, голубые, фисташковые, пламенно-красные дома, церкви – всякая из них как отдельная песнь – бешено-зеленая трава, низко гудящие деревья, или на тысячу ладов поющий снег, или allegretto голых веток и сучьев, красное, жесткое, непоколебимое, молчаливое кольцо кремлевской стены, а над нею, все превышая собою, подобная торжествующему крику забывшего весь мир аллилуйя, белая, длинная, стройно-серьезная черта Ивана Великого. И на его длинной, в вечной тоске по небу напряженной, вытянутой шее – золотая глава купола, являющая собою, среди других золотых, серебряных, пестрых звезд обступивших ее куполов, Солнце Москвы.
Написать этот час казалось мне в юности самым невозможным и самым высоким счастьем художника.
Эти впечатления повторялись каждый солнечный день. Они были радостью, потрясавшей до дна мою душу.
И одновременно они были и мучением, так как и искусство вообще, и в частности мои собственные силы представлялись мне такими бесконечно слабыми в сравнении с природой. Должны были пройти многие годы, прежде чем путем чувства и мысли я пришел к той простой разгадке, что цели (а потому и средства) природы и искусства существенно, органически и мирозаконно различны – и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны. Эта разгадка, руководящая нынче моими работами, такая простая и естественно-прекрасная, избавила меня от ненужных мук ненужных стремлений, владевших мною, вопреки их недостижимости. Она вычеркнула эти муки, и радость природы и искусства поднялись во мне на неомрачимые высоты. С той поры мне дана была возможность беспрепятственно упиваться обоими этими мировыми элементами. К наслаждению присоединилось чувство благодарности.
Эта разгадка освободила меня и открыла мне новые миры. Все «мертвое» дрогнуло и затрепетало. Не только воспетые леса, звезды, луна, цветы, но и лежащий в пепельнице застывший окурок, выглядывающая из уличной лужи терпеливая, кроткая белая пуговица, покорный кусочек коры, влекомый через густую траву муравьем в могучих его челюстях для неизвестных, но важных целей, листок стенного календаря, к которому протягивается уверенная рука, чтобы насильственно вырвать его из теплого соседства остающихся в календаре листков, – все явило мне свой лик, свою внутреннюю сущность, тайную душу, которая чаще молчит, чем говорит. Так ожила для меня и каждая точка в покое и в движении (линия) и явила мне свою душу. Этого было достаточно, чтобы «понять» всем существом, всеми чувствами возможность и наличность искусства, называемого нынче, в отличие от «предметного», – «абстрактным».
Но тогда, в давно ушедшие времена моего студенчества, когда я мог отдавать живописи лишь свободные часы, я все же, вопреки видимой недостижимости, пытался перевести на холст «хор красок» (так выражался я про себя), врывавшийся мне в душу из природы. Я делал отчаянные усилия выразить всю силу этого звучания, но безуспешно.
В то же время в непрерывном напряжении держали мою душу и другие, чисто человеческие, потрясения, так что не было у меня спокойного часа. Это было время создания общестуденческой организации, целью которой было объединение студенчества не только одного университета, но и всех русских, а в конечной цели и западноевропейских университетов. Борьба студентов с коварным и откровенным уставом 1885 года продолжалась непрерывно. «Беспорядки», насилия над старыми московскими традициями свободы, уничтожение уже созданных организаций властями, замена их новыми, подземный грохот политических движений, развитие инициативы[114] в студенчестве непрерывно приносили новые переживания и делали душу впечатлительной, чувствительной, способной к вибрации.
К моему счастию, политика не захватывала меня всецело. Другие и различные занятия давали мне случай упражнять необходимую способность углубления в ту тонко-материальную сферу, которая зовется сферой «отвлеченного». Кроме выбранной мною специальности (политической экономии, где я работал под руководством высоко одаренного ученого и одного из редчайших людей, каких я встречал в жизни, проф. А. И. Чупрова), меня то последовательно, а то и одновременно захватывало: римское право (привлекавшее меня тонкой своей сознательной, шлифованной «конструкцией», но в конце концов не удовлетворившее мою славянскую душу своей слишком схематически холодной, слишком разумной и негибкой логикой), уголовное право (задевшее меня особенно и, быть может, слишком исключительно в то время теорией Ломброзо), история русского права и обычное право (которое вызвало во мне чувства удивления и любви, как противоположение римскому праву, как свободное и счастливое разрешение сущности применения закона[115]), соприкасающаяся с этой наукой этнография (обещавшая мне открыть тайники души народной).
Все эти науки я любил и теперь думаю с благодарностью о тех часах внутреннего подъема, а может быть, и вдохновения, которые я тогда пережил. Но часы эти бледнели при первом соприкосновении с искусством, которое только одно выводило меня за пределы времени и пространства. Никогда не дарили меня научные занятия такими переживаниями, внутренними подъемами, творческими мгновениями.
Но силы мои представлялись мне чересчур слабыми для того, чтобы признать себя вправе пренебречь другими обязанностями и начать жизнь художника, казавшуюся мне в то время безгранично счастливой. Русская же жизнь была тогда особенно мрачна, мои работы ценились, и я решился сделаться ученым. В избранной же мною политической экономии я любил кроме рабочего вопроса только чисто отвлеченное мышление. Практическая сторона учения о деньгах, о банковых системах отталкивала меня непреоборимо. Но приходилось считаться и с этой стороной.
К тому же времени относятся два события, наложившие печать на всю мою жизнь. Это были: французская импрессионистская выставка в Москве – и особенно «Стог сена» Клода Моне – и постановка Вагнера в Большом театре – Лоэнгрин.
До того я был знаком только с реалистической живописью, и то почти исключительно русской, еще мальчиком глубоко впечатлялся «Не ждали», а юношей несколько раз ходил долго и внимательно изучать руку Франца Листа на репинском портрете, много раз копировал на память Христа Поленова, поражался «Веслом» Левитана и его ярко писанным отраженным в реке монастырем и т. п. И вот сразу видел я в первый раз картину. Мне казалось, что без каталога не догадаться, что это – стог сена. Эта неясность была мне неприятна: мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей. Во всем этом я не мог разобраться, а тем более был не в силах сделать из пережитого таких, на мой теперешний взгляд, простых выводов. Но что мне стало совершенно ясно – это не подозревавшаяся мною прежде, скрытая от меня дотоле, превзошедшая все мои смелые мечты сила палитры. Живопись открывала сказочные силы и прелесть. Но глубоко под сознанием был одновременно дискредитирован предмет как необходимый элемент картины. В общем же во мне образовалось впечатление, что частица моей Москвы-сказки все же уже живет на холсте[116].
Лоэнгрин[117] же показался мне полным осуществлением моей сказочной Москвы. Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты воплощали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мысленно я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Бешеные, почти безумные линии рисовались передо мной. Я не решался только сказать себе, что Вагнер музыкально написал «мой час». Но совершенно стало мне ясно, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем это мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна проявить такие же силы, как музыка. И невозможность самому устремиться к отысканию этих сил была мучительна.
У меня часто не было сил вопреки всему подчинять свою волю долгу. И я поддался слишком сильному искушению.
Одна из самых важных преград на моем пути сама рушилась благодаря чисто научному событию. Это было разложение атома. Оно отозвалось во мне подобно внезапному разрушению всего мира. Внезапно рухнули толстые своды. Все стало неверным, шатким и мягким. Я бы не удивился, если бы камень поднялся на воздух и растворился в нем. Наука казалась мне уничтоженной: ее главнейшая основа была только заблуждением, ошибкой ученых, не строивших уверенной рукой камень за камнем при ясном свете божественное здание, а в потемках, наудачу и наощупь искавших истину, в слепоте своей принимая один предмет за другой.
Уже в детские годы мне были знакомы мучительно-радостные часы внутреннего напряжения, часы внутренних сотрясений, неясного стремления, требующего повелительно чего-то еще неопределенного, днем сжимающего сердце и делающего дыхание поверхностным, наполняющего душу беспокойством, а ночью вводящего в мир фантастических снов, полных и ужаса, и счастья. Помню, что рисование и несколько позже живопись вырывали меня из условий действительности, т. е. ставили меня вне времени и пространства и приводили к самозабвению. Мой отец[118] рано заметил мою любовь к живописи и еще в мое гимназическое время пригласил учителя рисования. Ясно помню, как мил мне был самый материал, какими привлекательными, красивыми и живыми казались мне краски, кисти, карандаши, моя первая овальная фарфоровая палитра, позже завернутые в серебряную бумажку угольки. И даже самый запах скипидара был такой обворожительный, серьезный и строгий, запах, возбуждающий во мне и теперь какое-то особое, звучное состояние, главным элементом которого является чувство ответственности. Многие уроки, вынесенные мною из сделанных ошибок, живы во мне и нынче. Еще совсем маленьким мальчиком я раскрашивал акварелью буланку в яблоках: все уже было готово, кроме копыт. Помогавшая мне и в этом занятии тетя, которой надо было отлучиться из дому, советовала мне не трогать этих копыт без нее, а дождаться ее возвращения. Я остался один со своим неоконченным рисунком и страдал от невозможности положить последние – и такие простые – пятна на бумагу. Мне думалось, что ничего не стоит хорошенько начернить копыта. Я набрал, сколько сумел, черной краски на кисть. Один миг – и я увидел четыре черных, чуждых бумаге, отвратительных пятна на ногах лошади. Позже мне так понятен был страх импрессионистов перед черным, а еще позже мне пришлось серьезно бороться со своим внутренним страхом прежде, чем я решался положить на холст чистую черную краску. Такого рода несчастья ребенка бросают длинную, длинную тень через многие годы на последующую жизнь. И недавно еще я употреблял чистую черную краску со значительно другим чувством, чем чистые белила.
Дальнейшими, особенно сильными впечатлениями моего студенческого времени, также определенно сказавшимися в течение многих лет, были: Рембрандт в петербургском Эрмитаже и поездка моя в Вологодскую губернию, куда я был командирован Московским обществом естествознания, антропологии и этнографии. Моя задача была двоякого рода: изучение у русского населения обычного уголовного права (изыскание в области примитивного права) и собирание остатков языческой религии у медленно вымирающих зырян, живущих преимущественно охотой и рыбной ловлей.
Рембрандт меня поразил. Основное разделение темного и светлого на две большие части, растворение тонов второго порядка в этих больших частях, слияние этих тонов в эти части, действующие двузвучием на любом расстоянии (и напомнившие мне сейчас же вагнеровские трубы) открыли передо мной совершенно новые возможности, сверхчеловеческую силу краски самой по себе, а также – с особою ясностью – повышение этой силы при помощи сопоставления, т. е. по принципу противоположения. Было ясно, что каждая большая плоскость сама по себе не является сверхъестественной, что каждая из них сейчас же обнаруживает свое происхождение от палитры, но что эта самая плоскость через посредство другой, ей противоположной, плоскости получает, несомненно, сверхъестественную силу, так что происхождение ее от палитры на первый взгляд представляется невероятным. Но мне не было свойственно спокойно вводить замеченный прием в собственные работы. К чужим картинам я бессознательно становился так, как теперь становлюсь к природе: они вызывали во мне почтительную радость, но оставались мне все же чужими по своей индивидуальной ценности. С другой же стороны, я чувствовал довольно сознательно, что деление это у Рембрандта дает свойство его картинам, мною еще ни у кого не виданное. Получалось впечатление, что его картины длительны, а это объяснялось необходимостью продолжительно исчерпывать сначала одну часть, а потом другую. Со временем я понял, что это деление присваивает живописи элемент, ей будто бы недоступный – время[119].
В писанных мною лет двенадцать-пятнадцать тому назад в Мюнхене картинах я пытался использовать этот элемент. Я написал всего три-четыре таких картины, причем мне хотелось ввести в каждую их составную часть «бесконечный» ряд от первого впечатления скрытых красочных тонов. Эти тона должны были быть первоначально (и особенно в темных частях) совершенно запрятанными[120] и открываться углубившемуся, внимательному зрителю лишь со временем – вначале неясно и будто бы крадучись, а потом получать все большую и большую, все растущую, «жуткую» силу звучания. К великому моему изумлению, я заметил, что пишу в принципе Рембрандта. Горькое разочарование, болезненные сомнения в собственных силах, сомнения в особенности найти свои средства выражения охватили меня. Вскоре мне представились также дешевыми способы подобного воплощения моих в ту пору любимых элементов скрытого времени, жутко таинственного.
В ту пору я работал особенно много, часто до глубокой ночи, пока не овладевала мною усталость до физической тошноты. Дни, когда мне не удавалось работать (как бы редки они ни были), казались мне потерянными, легкомысленно и безумно растраченными. При мало-мальски сносной погоде я ежедневно писал этюды в старом Schwabing’e, тогда еще не слившемся вполне с городом. В дни разочарования в работе в мастерской и в композиционных попытках я писал особенно упорно пейзажи, волновавшие меня, как неприятель перед сражением, в конце концов бравший надо мной верх: редко удовлетворяли меня мои этюды даже частично, хотя я иногда и пытался выжать из них здоровый сок в форме картин. Все же блуждание с этюдником в руках, с чувством охотника в сердце казалось мне менее ответственным, нежели картинные мои попытки, уже и тогда носившие характер – частью сознательно, частью бессознательно – поисков в области композиции. Самое слово композиция вызывало во мне внутреннюю вибрацию. Впоследствии я поставил себе целью моей жизни написать «Композицию». В неясных мечтах неуловимыми обрывками рисовалось передо мною подчас что-то неопределенное, временами пугавшее меня своей смелостью. Иногда мне снились стройные картины, оставлявшие по себе при пробуждении только неясный след несущественных подробностей. Раз в жару тифа я видел с большой ясностью целую картину, которая, однако, как-то рассыпалась во мне, когда я выздоровел. Через несколько лет, в разные промежутки я написал «Приезд купцов», потом «Пеструю жизнь» и, наконец, через много лет в «Композиции 2» мне удалось выразить самое существенное этого бредового видения, что я сознал, однако, лишь недавно. С самого начала уже одно слово «Композиция» звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением. И до сих пор я испытываю боль, когда вижу, как легкомысленно зачастую с ним обращаются. При писании этюдов я давал себе полную волю, подчиняясь даже «капризам» внутреннего голоса. Шпахтелем я наносил на холст штрихи и шлепки, мало думая о домах и деревьях и поднимая звучность отдельных красок, насколько сил хватало. Во мне звучал предвечерний московский час, а перед моими глазами развертывалась могучая, красочная, в тенях глубоко грохочущая скала мюнхенского цветового мира. Потом, особенно по возвращении домой, глубокое разочарование. Краски мои казались мне слабыми, плоскими, весь этюд неудачным усилием передать силу природы. Как странно было мне слышать, что я утрирую природные краски, что эта утрировка делает мои вещи непонятными и что единственным моим спасением было бы научиться «преломлению тонов». Это было время увлечения рисунком Каррьера и живописью Уистлэра. Я часто сомневался в своем «понимании» искусства, старался даже насильственно убедить себя, заставить себя полюбить этих художников. Но туманность, болезненность и какое-то сладковатое бессилие этого искусства снова меня сталкивали, и я снова уходил к своим мечтам звучности, полноты «хора красок», а со временем и композиционной сложности. Мюнхенская критика (частью и особенно при моих дебютах относившаяся ко мне благосклонно[121]) объясняла мое «красочное богатство» «византийскими влияниями». Русская же критика (почти без исключения осыпавшая меня непарламентскими выражениями) находила либо что я преподношу России западноевропейские (и там уже давно устарелые) ценности в разбавленном виде, либо что я погибаю под вредным мюнхенским влиянием. Тогда я впервые увидел, с каким легкомыслием, незнанием и беззастенчивостью оперирует большинство критиков. Это обстоятельство служит объяснением тому хладнокровию, с которым выслушивают самые злостные о себе отзывы умные художники.
Склонность к «скрытому», к «запрятанному» помогла мне уйти от вредной стороны народного искусства, которое мне впервые удалось увидеть в его естественной среде и на собственной его почве во время моей поездки в Вологодскую губернию. Охваченный чувством, что еду на какую-то другую планету, проехал я сначала по железной дороге до Вологды, потом несколько дней по спокойной, самоуглубленной Сухоне на пароходе до Усть-Сысольска, дальнейший же путь пришлось совершить в тарантасе через бесконечные леса, между пестрых холмов, через болота, пески и отшибающим с непривычки внутренности «волоком». То, что я ехал совсем один, давало мне неизмеримую возможность беспрепятственно углубляться в окружающее и в самого себя. Днем было часто жгуче-жарко, а почти беззакатными ночами так холодно, что даже тулуп, валенки и зырянская шапка, которые я получил на дорогу через посредство Н. А. Иваницкого[122], подчас оказывались не вполне достаточными, и я с теплым сердцем вспоминаю, как ямщики иногда вновь покрывали меня съехавшим с меня во сне пледом. Я въезжал в деревни, где население с желто-серыми лицами и волосами ходило с головы до ног в желто-серых же одеждах или белолицое, румяное с черными волосами было одето так пестро и ярко, что казалось подвижными двуногими картинами. Никогда не изгладятся из памяти большие двухэтажные резные избы с блестящим самоваром в окне. Этот самовар был здесь не предметом «роскоши», а первой необходимостью: в некоторых местностях население питалось почти исключительно чаем (иван-чаем), не считая ясного, или яшного (овсяного), хлеба, не поддающегося охотно ни зубам, ни желудку – все население ходило там со вздутыми животами. В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лубки: символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня. Красный угол, весь завешанный писанными и печатными образами, а перед ними красно-теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающая, про себя живущая, таинственно-шепчущая скромная и гордая звезда. Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. С тех пор это чувство жило во мне бессознательно, хотя я и переживал его в московских церквах, особенно в Успенском соборе и Василии Блаженном. По возвращении из этой поездки я стал определенно сознавать его при посещении русских живописных церквей, а позже и баварских и тирольских капелл. Разумеется, внутренно эти переживания окрашивались совершенно друг от друга различно, так как и вызывающие их источники так различно друг от друга окрашены. Церковь! Русская церковь! Капелла! Католическая капелла!
Я часто зарисовывал эти орнаменты, никогда не расплывавшиеся в мелочах и писанные с такой силой, что самый предмет в них растворялся. Так же как и некоторые другие, и это впечатление дошло до моего сознания гораздо позже.
Вероятно, именно путем таких впечатлений во мне воплощались мои дальнейшие желания, цели в искусстве. Несколько лет занимало меня искание средств для введения зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся.
Иногда мне это удавалось: я видел это по лицу некоторых зрителей. Из бессознательно-нарочитого воздействия живописи на расписанный предмет, который получает таким путем способность к саморастворению, постепенно все больше вырабатывалась моя способность не замечать предмета в картине, его, так сказать, прозевывать. Гораздо позже, уже в Мюнхене, я был однажды очарован в собственной моей мастерской неожиданным зрелищем. Сумерки надвигались. Я возвращался домой с этюда, еще углубленный в свою работу и в мечты о том, как следовало бы работать, как вдруг увидел перед собой неописуемо-прекрасную, пропитанную внутренним горением картину. Сначала я поразился, но сейчас же скорым шагом приблизился к этой загадочной картине, совершенно непонятной по внешнему содержанию и состоявшей исключительно из красочных пятен. И ключ к загадке был найден: это была моя собственная картина, прислоненная к стене и стоявшая на боку. Попытка на другой день при дневном свете вызвать то же впечатление удалась только наполовину: хотя картина стояла так же на боку, но я сейчас же различал на ней предметы, не хватало также и тонкой лессировки сумерек. В общем мне стало в этот день бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам.
Страшная глубина, ответственная полнота самых разнообразных вопросов встала передо мной. И самый главный: в чем должен найти замену отринутый предмет? Опасность орнаментности была мне ясна, мертвая обманная жизнь стилизованных форм была мне противна.
Часто я закрывал глаза на эти вопросы. Иногда мне казалось, что эти вопросы толкают меня на ложный, опасный путь. И лишь через много лет упорной работы, многочисленных осторожных подходов, все новых бессознательных, полусознательных и все более ясных и желанных переживаний, при все развивавшейся способности внутренне переживать художественные формы в их все более и более чистой, отвлеченной форме, пришел я к тем художественным формам, над которыми я теперь работаю и которые, как я надеюсь, получат еще гораздо более совершенный вид.
Очень много потребовалось времени, прежде чем я нашел верный ответ на вопрос: чем должен быть заменен предмет? Часто, оглядываясь на свое прошлое, я с отчаянием вижу длинный ряд лет, потребовавшихся на это решение. Тут я знаю только одно утешение: никогда я не был в силах применять формы, возникавшие во мне путем логического размышления, не путем чувства. Я не умел выдумывать форм, и видеть чисто головные формы мне мучительно.
Все формы, когда бы то ни было мною употребленные, приходили ко мне «сами собою»: они то становились перед глазами моими совершенно готовыми – мне оставалось их копировать, то они образовывались в счастливые часы уже в течение самой работы. Иногда они долго и упорно не давались, и мне приходилось терпеливо, а нередко и со страхом в душе дожидаться, пока они созреют во мне. Эти внутренние созревания не поддаются наблюдению: они таинственны и зависят от скрытых причин. Только как бы на поверхности души чувствуется неясное внутреннее брожение, особое напряжение внутренних сил, все яснее предсказывающее наступление счастливого часа, который длится то мгновение, то целые дни. Я думаю, что этот душевный процесс оплодотворения, созревания плода, потуг и рождения вполне соответствует физическому процессу зарождения и рождения человека. Быть может, так же рождаются и миры.
Но как по силе напряжения, так и по его качеству эти «подъемы» весьма разнообразны. Лишь опыт может научить их свойствам и способам их использования. Мне пришлось тренироваться в умении держать себя на вожжах, не давать себе безудержного хода, править этими силами. С годами я понял, что работа с лихорадочно бьющимся сердцем, с давлением в груди (а отсюда и с болью в ребрах), с напряжением всего тела не дает безукоризненных результатов: за таким подъемом, во время которого чувство самоконтроля и самокритики минутами даже вовсе исчезает, следует неминуемо скорое падение. Такое утрированное состояние может продолжаться в лучшем случае несколько часов, его может хватить на небольшую работу (оно отлично эксплуатируется для эскизов или тех небольших вещей, которые я называю «импровизациями»), но его ни в коем случае не достаточно для больших работ, требующих подъема ровного, напряжения упорного и не ослабевающего в течение целых дней. Лошадь несет всадника со стремительностью и силой. Но всадник правит лошадью. Талант возносит художника на высокие высоты со стремительностью и силой. Но художник правит талантом. Быть может, с другой стороны – только частично и случайно – художник в состоянии вызывать в себе искусственно эти подъемы. Но ему дано квалифицировать род наступающего помимо его воли подъема, опыт многих лет дает возможность как задержать в себе такие моменты, так временно совершенно подавить их с тем, чтобы они почти наверное наступили позже. Но полная точность, разумеется, невозможна и здесь. Все-таки относящиеся к этой области опыт и знание являются одним из элементов «сознательности», «расчета» в работе, которые могут быть обозначены и другими именами. Несомненно, что художник должен знать свое дарование до тонкости и, как хороший купец, не давать залеживаться ни крупинке своих сил. Каждую их частицу он шлифует и оттачивает до той последней возможности, которая определена ему судьбою[123].
Эта выработка, шлифовка дарования требует значительной способности к концентрации, ведущей, с другой стороны, к ущербу других способностей. Это мне пришлось испытать и на себе. Я никогда не обладал так называемой хорошей памятью: с самого детства не было у меня способности запоминать цифры, имена, даже стихи. Таблица умножения была истинным мучением не только для меня, но и для моего приходившего в отчаяние учителя. Я и до сих пор не победил этой непобедимой трудности и навсегда отказался от этого знания. Но в то время, когда еще было можно заставлять меня набираться ненужных мне знаний, моим единственным спасением была память зрения. Насколько хватало моих технических знаний, я мог вследствие этой памяти еще в ранней юности записывать дома красками картины, особенно поразившие меня на выставке. Позже пейзажи, писанные по воспоминанию, удавались мне иногда больше, нежели писанные прямо с натуры. Так написал «Старый город», а потом целый ряд немецких, голландских, арабских темперных рисунков.
Несколько лет тому назад совершенно неожиданно я заметил, что эта способность пошла на убыль. Вскоре я понял, что нужные для постоянного наблюдения силы направились – вследствие повысившейся способности к сосредоточению – на другой путь, ставший для меня гораздо более важным, необходимым. Способность углубления во внутреннюю жизнь искусства (а стало быть, и моей души) настолько увеличилась в силе, что я проходил подчас мимо внешних явлений, не замечая их, что прежде было совершенно невозможно.
Насколько я могу судить, сам эту способность к углублению я не навязал себе извне – она жила во мне и до того органической, хотя и эмбриональной жизнью. А тут просто пришла ее пора, и она стала развиваться, требуя и моей помощи упражнениями.
Лет тринадцати или четырнадцати на накопленные деньги я наконец купил себе небольшой полированный ящик с масляными красками. И до сегодня меня не покинуло впечатление, точнее говоря, переживание, рождаемое из тюбика выходящей краской. Стоит надавить пальцами – и торжественно, звучно, задумчиво, мечтательно, самоуглубленно, глубоко серьезно, с кипучей шаловливостью, со вздохом облегчения, со сдержанным звучанием печали, с надменной силой и упорством, с настойчивым самообладанием, с колеблющейся ненадежностью равновесия выходят друг за другом эти странные существа, называемые красками, – живые сами в себе, самостоятельные, одаренные всеми необходимыми свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни и каждый миг готовые подчиниться новым сочетаниям, смешаться друг с другом и создавать нескончаемое число новых миров. Некоторые из них, уже утомленные, ослабевшие, отвердевшие, лежат тут же, подобно мертвым силам и живым воспоминаниям о былых, судьбою не допущенных, возможностях. Как в борьбе или сражении, выходят из тюбиков свежие, призванные заменить собою старые ушедшие силы. Посреди палитры особый мир остатков уже пошедших в дело красок, блуждающих на холстах, в необходимых воплощениях, вдали от первоначального своего источника. Это – мир, возникший из остатков уже написанных картин, а также определенный и созданный случайностями, загадочной игрой чуждых художнику сил. Этим случайностям я обязан многим: они научили меня вещам, которых не услышать ни от какого учителя или мастера. Нередкими часами я рассматривал их с удивлением и любовью. Временами мне чудилось, что кисть, непреклонной волей вырывающая краски из этих живых красочных существ, порождала собою музыкальное звучание. Мне слышалось иногда шипение смешиваемых красок. Это было похоже на то, что можно было, наверное, испытывать в таинственной лаборатории полного тайны алхимика.
Как-то мне довелось услышать, что один известный художник (не помню, кто именно) выразился так: «Когда пишешь, то на один взгляд на холст должно приходиться полвзгляда на палитру и десять взглядов на натуру». Это было красиво сказано, но мне скоро стало ясно, что для меня эта пропорция должна быть другой: десять взглядов на холст, один на палитру, полвзгляда на натуру. Именно так выучился я борьбе с холстом, понял его враждебное упорство в отношении к моей мечте и наловчился насильственно его этой мечте подчинять. Постепенно я выучился не видеть этого белого, упорного, упрямого тона холста (или лишь на мгновение заметить его для контроля), а видеть вместо него те тона, которым суждено его заменить, – так в постепенности и медленности выучивался я то тому, то другому.
Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовется произведением[124]. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, – оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание.
Так сделались внутренними событиями душевной жизни эти впечатления от красок на палитре, а также и тех, которые еще живут в тюбиках, подобные могущественным внутренне и скромным на вид людям, внезапно в нужде открывающим эти до того скрытые силы и пускающим их в ход. Эти переживания сделались со временем точкой исхода мыслей и идей, дошедших до моего сознания уже, по крайней мере, лет пятнадцать тому назад. Я записывал случайные переживания и лишь позже заметил, что все они стояли в органической связи между собою. Мне становилось все яснее, я все с большей силой чувствовал, что центр тяжести искусства лежит не в области «формального», но исключительно во внутреннем стремлении (содержании), повелительно подчиняющем себе формальное. Мне нелегко было отказаться от привычного взгляда на первенствующее значение стиля, эпохи, формальной теории и душою признать, что качество произведения искусства зависит не от степени выраженного в нем формального духа времени, не от соответствия его признанному безошибочным в известный период учению о форме, а совершенно безотносительно от степени силы внутреннего желания (= содержания) художника и от высоты выбранных им и именно ему нужных форм. Мне стало ясно, что, между прочим, и самый «дух времени» в вопросах формальных создается именно и исключительно этими полнозвучными художниками-«личностями», которые подчиняют своей убедительностью не только современников, обладающих менее интенсивным содержанием или только внешним дарованием (без внутреннего содержания), но и поколения веками позже живущих художников. Еще один шаг – потребовавший, однако, так много времени, что мне совестно об этом думать, – и я пришел к выводу, что весь основной смысл вопроса об искусстве разрешается только на базисе внутренней необходимости, обладающей жуткой силой вмиг перевернуть вверх дном все известные теоретические законы и границы. И только в последние года я научился, наконец, с любовью и радостью наслаждаться «враждебным» моему личному искусству «реалистическим» искусством и безразлично и холодно проходить мимо «совершенных по форме» произведений, как будто родственных мне по духу. Но теперь я знаю, что «совершенство» это только видимое, быстротечное и что не может быть совершенной формы без совершенного содержания: дух определяет материю, а не наоборот. Обвороженный по неопытности глаз скоро остывает, а временно обманутая душа скоро отворачивается. Предложенное мною мерило обладает той слабой стороной, что оно – «бездоказательно» (особенно в глазах тех, кто лишен сам не только активного, творческого, но и пассивного содержания, т. е. в глазах обреченных оставаться на поверхности формы, неспособных углубляться в неизмеримость содержания). Но великое Помело Истории, сметающее сор внешности с духа внутреннего, явится и тут последним, неумытным судьей[125].
Так постепенно мир искусства отделялся во мне от мира природы, пока, наконец, оба мира не приобрели полную независимость друг от друга.
Тут мне вспоминается один эпизод из моего прошлого, бывший источником моих мучений. Когда, будто вторично рожденный, я приехал из Москвы в Мюнхен, чувствуя вынужденный труд за спиной своей и видя перед лицом своим труд радости, то вскоре уже натолкнулся на ограничение своей свободы, сделавшее меня хоть только временно и с новым обликом, но все же опять-таки рабом – работа с моделью.
Я увидел себя в знаменитой в ту пору, битком набитой школе живописи Антона Ашбе[126]. Две, три «модели» позировали для головы и для нагого тела. Ученики и ученицы из разных стран теснились около этих дурнопахнущих, безучастных, лишенных выразительности, а часто и характера, получающих в час от 50 до 70 пфеннигов, явлений природы, покрывали осторожно, с тихим шипящим звуком штрихами и пятнами бумагу и холст и стремились возможно точно воспроизвести анатомически, конструктивно и характерно этих им чуждых людей. Они старались пересечением линий отметить расположение мускулов, особыми штрихами и плоскостями передать лепку ноздри, губы, построить всю голову «в принципе шара» и не задумывались, как мне казалось, ни минуты над искусством. Игра линий нагого тела иногда очень меня интересовала. Подчас она меня отталкивала. Некоторые позы некоторых тел развивали противное мне выражение линий, и мне приходилось копировать его, насилуя себя. Я жил в почти непрерывной борьбе с собою. Только выйдя опять на улицу, вздыхал я снова свободно и нередко поддавался искушению «удрать» из школы, чтобы побродить с этюдником и по-своему отдаться природе на окраинах города, в его садах или на берегах Изара. Иногда я оставался дома и пытался на память, либо по этюду, либо просто отдаваясь своим фантазиям, иногда порядочно-таки уклонявшимся от «натуры», написать что-нибудь по своему вкусу.
Хотя и не без колебания, но все же я счел себя обязанным заняться анатомией, для чего, между прочим, добросовестно прослушал даже целых два курса. Во второй раз мне посчастливилось записаться на полные жизни и темперамента лекции профессора Мюнхенского университета Moillet, которые он читал специально для художников[127]. Я записывал лекции, срисовывал препараты, нюхал трупный воздух. И всегда, но как-то только полусознательно, пробуждалось во мне странное чувство, когда приходилось слышать о прямом отношении анатомии к искусству. Мне казалось это странным, почти обидным.
Но скоро стало мне ясно, что каждая «голова», как бы ни показалась она вначале «безобразна», являет собой совершенную красоту. Без ограничений и оговорок обнаруживающийся в каждой такой голове естественный закон конструкции придает ей эту красоту. Часто, стоя перед такой «безобразной» головой, я повторял про себя: «Как умно». Именно нечто бесконечно умное говорит из каждой подробности: например, каждая ноздря пробуждает во мне то же чувство признательного удивления, как и полет дикой утки, связь листа с веткой, плавающая лягушка, клюв пеликана. То же чувство красиво-умного сейчас же проснулось во мне и во время лекции Moillet.
Впоследствии я понял, что по этой же причине все целесообразно безобразное и в произведении искусства – прекрасно.
Тогда же я чувствовал только смутно, что передо мной открывается тайна особого мира. Но не в моих силах было связать этот мир с миром искусства. Посещая старую Пинакотеку, я видел, что ни один из великих мастеров не исчерпал всей глубины красоты и разумности природной лепки: природа оставалась непобедимой. Временами мне чудился ее смех. Но гораздо чаще она представлялась мне отвлеченно «божественной»: она творила свое дело, шла своими путями к своим целям, исчезающим в далеких туманах, она жила в своем царстве, бывшем, как это ни странно, вне меня. В каком же отношении стоит к ней искусство?
Несколько товарищей увидели у меня как-то мои внешкольные работы и поставили на мне печать «колориста». Не без ехидства прозвали меня некоторые из них «пейзажистом». И то и другое не было мне приятно, тем более что я сознавал их правоту. Действительно, в области краски я был гораздо больше «дома», нежели в рисунке. Один из очень мне симпатичных товарищей сказал мне в утешение, что колористам часто не дается рисунок. Но это не уменьшало моего страха перед грозящим мне бедствием, и я не знал, какими средствами от него найти спасение.
Тогда Franz Stuck был «первым немецким рисовальщиком», и я отправился к нему, запасшись только школьными моими работами. Он нашел многое плохо нарисованным и посоветовал мне поработать еще год над рисунком, а именно в академии. Я был смущен: мне казалось, что, не выучившись в два года рисунку, я уже никогда ему не научусь. К тому же я провалился на академическом экзамене. Но это обстоятельство меня, впрочем, более рассердило, чем обескуражило: одобрены профессорским советом[128] были такие рисунки, которые я с полным правом мог назвать бездарными, глупыми и лишенными всяких знаний. После годичной работы дома я во второй раз отправился к Stuck’y – на этот раз только с эскизами картин, написать которые у меня не хватило уменья, и с несколькими пейзажными этюдами. Он принял меня в свой «живописный» класс и на вопрос о моем рисунке ответил, что он очень выразителен. Но при первой же моей академической работе он самым решительным образом запротестовал против моих «крайностей» в краске и советовал мне проработать некоторое время и для изучения формы только черной и белой краской. Меня приятно поразило, с какой любовью он говорил об искусстве, об игре форм и об их переливании друг в друга, и я почувствовал к нему полную симпатию. Так как я заметил, что он не обладает большой красочной восприимчивостью, то и решил учиться у него только рисуночной форме и вполне отдался ему в руки. Об этом годе работы у него, как ни приходилось мне временами сердиться (живописно тут делались иногда самые невозможные вещи), я вспоминаю в результате с благодарностью. Stuck говорил обычно очень мало и не всегда ясно. Иногда после корректуры мне приходилось долго думать о сказанном им, а в заключение я почти всегда находил, что это сказанное было хорошо. Моей главной в то время заботе, неспособности закончить картину, он помог одним-единственным замечанием. Он сказал, что я работаю слишком нервно, срывая весь интерес в первые же мгновения, чем неминуемо его порчу в дальнейшей, уже сухой, части работы: «Я просыпаюсь с мыслью: сегодня я вправе сделать вот то-то». Это «вправе» открыло мне тайну серьезной работы. И вскоре я на дому закончил свою первую картину.
Но еще долгие годы я самому себе казался обезьяной, запутавшейся в сети: органические законы построения сплетались вокруг моих намерений и только после больших усилий и попыток мне удалось опрокинуть эту «стену на пути к искусству». Так я вступил, наконец, в мир искусства, природы, науки, политических форм, морали и т. д., чувствуя определенно, что каждый из этих миров самостоятелен, управляется самостоятельными, ему свойственными законами, причем отдельные эти самостоятельные миры образуют совокупно в окончательном их соединении новый, большой мир, воспринимаемый нами только смутным чувством, предчувствием.
Сегодня – день одного из откровений этого мира. Связь между отдельными мирами осветилась как бы молнией. Ужасая и осчастливливая, миры эти выступили неожиданно из потемок. Никогда не были они так тесно связаны между собою и никогда не были они так резко отграничены друг от друга. Эта молния рождена омрачившимся духовным небом, которое висело над нами черное, удушающее и мертвое. Отсюда начало великой эпохи Духовного.
Только со временем и в постепенности уяснилось мне, что «истина» как вообще, так и в искусстве в частности, не есть какой-то X, т. е. не есть вечно не полно познаваемое, но все же недвижно стоящая величина, но что эта величина способна к движению и находится в постоянном медленном движении. Мне она вдруг представилась похожей на медленно двигающуюся улитку, по видимости будто бы едва сползающую с прежнего места и оставляющую за собой клейкую полосу, к которой прилипают близорукие души. И здесь я заметил это важное обстоятельство сначала в искусстве, и лишь позже я увидел, что и в этом случае тот же закон управляет и другими областями жизни. Это движение истины чрезвычайно сложно: ложное становится истинным, истинное ложным, некоторые части отпадают, как скорлупа спадает с ореха, время шлифует эту скорлупу, почему эта скорлупа принимается некоторыми за орех, почему эту скорлупу одаряют жизнью ореха, и, пока дерутся из-за этой скорлупы, орех катится дальше, новая истина падает как с неба и кажется в своей бесконечной высоте такой точной, крепкой и твердой, что некоторые влезают по ней, как по деревянному шесту, неограниченно веря, что на этот раз они достигнут самого неба… пока она не сломится и вместе с тем все лезшие по ней верующие не посыпятся с нее, как лягушки в болото, в безнадежную муть. Человек часто подобен жучку, которого за спинку держишь в пальцах: в немой тоске двигает он своими лапками, хватается за каждую подставленную ему соломинку и верит непрерывно, что в этой соломинке его спасение. Во время моего «неверия» я спрашивал себя: кто держит меня за спину? чья рука подставляет мне соломинку и снова ее отдергивает? или я лежу на спине в пыли равнодушной земли и сам хватаюсь за соломинки, «сами собою» выросшие вокруг меня? Как часто чувствовал я все же эту руку у моей спины, а потом еще и другую, ложившуюся на мои глаза и погружавшую меня таким образом в черную ночь в тот час, когда светит солнце.
Развитие искусства, подобно развитию нематериального знания, не состоит из новых открытий, вычеркивающих старые истины и провозглашающих их заблуждениями (как это, по видимости, происходит в науке). Его развитие состоит во внезапных вспышках, подобных молнии, из взрывов, подобных «букету» фейерверка, разрывающемуся высоко в небе и рассыпающему вокруг себя разноцветные звезды. Эти вспышки в ослепительном свете вырывают из мрака новые перспективы, новые истины, являющиеся, однако, в основе своей не чем иным, как органическим развитием, органическим ростом прежних истин, которые не уничтожаются этими новыми истинами, а продолжают свою необходимую и творческую жизнь, как это неотъемлемо свойственно каждой истине и каждой мудрости. Оттого, что вырос новый сук, ствол не может стать ненужным: им обусловливается жизнь этого сука.
Это есть разветвление исконного ствола, с которого «все началось». А разветвление, дальнейший рост и дальнейшее усложнение, представляющееся часто так безнадежно запутанным и запутывающее часто пути человека – не что иное, как необходимые ступени к могучей кроне: части и условия, в конце концов образующие зеленое дерево.
Таков же ход и нравственной эволюции, имеющей своим первоисточником религиозные определения и директивы. Библейские законы морали, выраженные в простых, как бы элементарно-геометрических формулах, – не убивай, не прелюбодействуй – получают в следующем (христианском) периоде как бы более гнутые, волнистые границы: их примитивная геометричность уступает место менее точному внешне, свободному контуру. Недозволенным признается не только чисто материальный проступок, но и действие внутреннее, еще не вышедшее из пределов нематериальности.
Итак, простая, точная и негибкая мысль не только не отвергается, но используется как необходимая ступень для дальнейших в ней коренящихся мыслей. И эти дальнейшие, более мягкие, менее точные и менее материальные мысли подобны более гибким новым ветвям, протыкающим в воздухе новые отверстия.
Христианство в своей оценке кладет на весы не внешнее, жесткое действие, но внутреннее, гибкое. Тут лежит корень дальнейшей переоценки ценностей, непрерывно, а стало быть, и в этот час медленно творящей дальнейшее, а в то же время и корень той внутренней одухотворенности, которую мы постепенно постигаем и в области искусства. В наше время в сильно революционной форме. На этом пути я дошел до того вывода, что беспредметная живопись не есть вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь необычайно и первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви[129], без которых образование кроны зеленого дерева было бы немыслимо.
В более или менее ясной форме я усвоил это обстоятельство уже давно, и утверждения, что я хочу опрокинуть здание старого искусства, всегда действуют на меня неприятно. Сам я никогда не чувствовал в своих вещах уничтожения уже существующих форм искусства: я видел в них ясно только внутренне логический, внешне органический неизбежный дальнейший рост искусства. Былое чувство свободы постепенно опять достигло моего сознания, и так рушились одно за другим побочные, не относящиеся к сущности искусства требования, которые я ему раньше ставил. Они падают к вящей пользе одного-единственного требования: требования внутренней жизни в произведении. К удивлению своему, я тут заметил, что это требование выросло на базисе, подобном базису нравственной оценки[130].
Выключение предметности из живописи ставит, естественно, очень большие требования способности внутренне переживать чисто художественную форму. От зрителя требуется, стало быть, особое развитие в этом направлении, являющееся неизбежным. Так создаются условия, образующие новую атмосферу. А в ней, в свою очередь, много, много позже создается чистое искусство, представляющееся нам нынче с неописуемой прелестью в ускользающих от нас мечтах.
Со временем я понял, что моя, постепенно все больше развивающаяся, терпимость к чужому искусству не только не может быть мне вредной, но моим личным стремлениям исключительно благоприятна.
А потому я отчасти ограничиваю, отчасти расширяю обычное выражение «художник должен быть односторонним» и говорю: «Художник должен быть односторонним в своем произведении». Способность переживать чужие произведения (что, конечно, и совершается и должно совершаться на свой лад) делает душу более восприимчивой, способной к вибрированию, отчего она и делается богаче, шире, утонченнее и все больше приспособляется к достижению своих целей. Переживание чужих произведений подобно в широком смысле переживанию природы. А слеп и глух не может быть художник. Напротив, еще с более радостным сердцем, с еще более уверенным пылом переходит он к собственной работе, видя, что и другие возможности (а они бесчисленны) верно (или более или менее верно) используются в искусстве. Что касается меня лично, то мне люба каждая форма, с необходимостью созданная духом. И ненавистна каждая форма, ему чуждая.
Думается, что будущая философия, помимо сущности вещей, займется с особой внимательностью их духом. Тогда еще более сгустится атмосфера, необходимая человеку для способности его воспринимать дух вещей, переживать этот дух, хотя бы и бессознательно, так же как переживается еще и нынче бессознательно внешнее вещей, что и объясняет собою наслаждение предметным искусством. Эта атмосфера являет собою необходимое условие для переживания человеком сначала духовной сущности в материальных вещах, а позже духовной сущности и в отвлеченных вещах. И путем этой новой способности, которая будет стоять в знаке «Духа», родится наслаждение абстрактным – абсолютным искусством.
Моя книга «О духовном в искусстве», а также и «Der Blaue Reiter» преследуют преимущественно цель пробуждения этой в будущем безусловно необходимой, обусловливающей бесконечные переживания способности восприятия духовной сущности в материальных и абстрактных вещах. Желание вызвать к жизни эту радостную способность в людях, ею еще не обладающих, и было главным мотивом появления обоих изданий[131].
Обе эти книги часто понимались, да и теперь еще понимаются неправильно, т. е. как «программы» их авторов – художников, заблудившихся в теоретической, рассудочной работе и в ней погибающих. Но наименее всего пытался я обращаться к рассудку, к мозговой работе. Эта задача была бы сегодня преждевременной: она еще только становится перед художником ближайшей, важной и неизбежной целью (= шагом). Укрепившемуся, пустившему могучие корни духу не может стать, да и не станет опасным ничто, а следовательно, и возбуждающее страх участие рассудочной работы в искусстве, даже ее преобладание над интуитивной частью и, в конце концов, быть может, и с вовсе выключенным «вдохновением». Мы знаем только закон сегодняшний, тех немногих тысячелетий, из которых вырос постепенно (с видимыми отклонениями) генезис творчества. Мы знаем свойства только нашего «таланта» с его неизбежным элементом бессознательного и с определенной окраской этого бессознательного. Но отдаленное от нас туманами «бесконечности» произведение, быть может, будет создаваться хотя бы вычислением, причем точное вычисление, быть может, будет открываться только «таланту», как, например, в астрономии. И если это будет даже только так, то и тогда характер бессознательного будет окрашен иначе, чем в известные нам эпохи.
После нашего уже упомянутого итальянского путешествия и после короткого пребывания в Москве, когда мне было лет пять, родители мои вместе с Е. И. Тихеевой, которой я обязан так многим, должны были переехать по болезни отца на юг, в тогда еще очень мало устроенную Одессу. Там я позже учился в гимназии, непрерывно чувствуя себя как бы временным гостем в этом нашей семье чуждом городе, уже самый язык которого нас удивлял и был нам не всегда понятен. Стремление вернуться в Москву нас никогда не оставляло. С тринадцати лет каждое лето ездил я с отцом, а восемнадцати переселился в Москву с чувством возвращения на родину. Мой отец родом из Нерчинска, куда, как рассказывают в нашей семье, предки его были сосланы по политическим причинам из Западной Сибири. Образование свое он получил в Москве и полюбил ее не менее, чем свою родину. Его глубоко человеческая душа сумела понять «московский дух», что с такой живостью выражается в каждой мелочи: для меня истинное удовольствие слушать, как он перечисляет, например, с особой любовью старинные, ароматные названия «сорока сороков» московских церквей. В нем бьется, несомненно, живая жилка художника. Он очень любит живопись и в юности занимался рисованием, о чем всегда вспоминает любовно. Мне, ребенку, он часто рисовал. Я и сейчас хорошо помню его деликатную, нежную и выразительную линию, которая так похожа на его изящную фигуру и удивительно красивые руки. Одним из его любимейших удовольствий всегда было посещение выставок, где он долго и внимательно смотрит на картины. Непонятное ему он не осуждает, а стремится понять, спрашивая всех, у кого надеется найти ответ. Моя мать – москвичка, соединяющая в себе все свойства, составляющие в моих глазах всю сущность самой Москвы: выдающаяся внешняя, глубоко серьезная и строгая красота, родовитая простота, неисчерпаемая энергия, оригинально сплетенное из нервности и величественного спокойствия и самообладания соединение традиционности и истинной свободы.
Москва: двойственность, сложность, высшая степень подвижности, столкновение и путаница отдельных элементов внешности, в последнем следствии представляющей собою беспримерно своеобразно единый облик, те же свойства во внутренней жизни, спутывающие чуждого наблюдателя (отсюда и многообразные, противоречивые отзывы иностранцев о Москве), но все же в последнем следствии – жизни, такой же своеобразно-единой. Эту внешнюю и внутреннюю Москву я считаю исходной точкой моих исканий. Она – мой живописный камертон. Мне кажется, что это всегда так и было и что благодаря – с течением времени приобретенным – внешним формальным средствам я писал все ту же «натуру», но лишь форма моя совершенствовалась в своей большей существенности и в большей выразительности. Скачки в сторону, которые случались со мною на этом все же прямом пути, в общем результате не были для меня вредны, а различные мертвые моменты, в которые чувствовал я себя обессиленным, которые я считал иногда концом моей работы, бывали зачастую лишь разбегом и набиранием внутренних сил, новой ступенью, обусловливавшей дальнейший шаг.
Мюнхен, июнь-октябрь 1913
Москва, сентябрь 1918
Точка и линия на плоскости (к анализу живописных элементов)
Предисловие
Возможно, будет небезынтересно заметить, что мысли, развитые в этой небольшой книге, являются органичным продолжением моей книги «О духовном в искусстве». Я должен двигаться в раз найденном направлении.
В начале мировой войны я провел три месяца в Гольдахе, на озере Бодензее, и почти все время использовал исключительно для систематизации моих теоретических, часто еще неточных мыслей и практического опыта. Так возник довольно большой теоретический материал.
Этот материал почти десять лет оставался нетронутым, и вот недавно я получил возможность продолжить занятия, результатом чего и явилась эта книга.
Намеренно узко поставленные вопросы зарождающейся науки об искусстве переходят в последовательном развитии границы живописи и, в конечном счете, искусства в целом. Здесь я только пытаюсь поставить некоторые указатели пути – аналитический метод с учетом синтеза.
Кандинский
Веймар 1923, Дессау 1926
Предисловие ко второму изданию
После 1914 года кажется, что темп времени все более убыстряется. Внутренние напряжения ускоряют этот темп во всех известных нам областях. Один год равен минимум десяти годам «спокойной», «нормальной» жизни.
Так, год со времени выхода в свет первого издания этой книги может быть приравнен к десяти. Дальнейший прогресс аналитической и связанной с нею синтетической установки в теории и практике не только живописи, но и других искусств, и одновременно в «позитивных» и «духовных» науках подтверждают правильность принципа, который был использован в этой книге как основополагающий.
Дальнейшее развитие этой книги могло бы произойти пока только благодаря увеличению числа отдельных особых случаев или примеров, что привело бы к ее значительному расширению, чего мы должны избежать здесь из практических соображений.
Поэтому я решил второе издание оставить без изменений.
Кандинский
Дессау
январь 1928
Введение
Внешнее и внутреннее
Каждое явление можно ощутить в двух видах. Эти два вида не произвольны, они связаны с самими явлениями, вытекают из их природы, точнее из двух свойств:
Внутреннего и внешнего.
Наблюдать улицу можно через оконное стекло, при этом ее шум становится более приглушенным, движения призрачными, и она сама является нам благодаря прозрачному, но твердому стеклу в качестве пульсирующей сущности «потустороннего мира».
И вот открывается дверь: человек вырывается из замкнутого пространства, погружается в эту сущность, становится благодаря ей более активным и ощущает пульсацию этой сущности всеми своими чувствами. В определенной последовательности меняющиеся тональные градации и темпы звучания, окутывающие человека, стремительно возрастают и, внезапно ослабев, падают. Движения таким же образом могут окутывать человека – игра горизонтальных, вертикальных штрихов и линий, которые при движении отклоняются в разные направления, скапливающихся и расходящихся в разные стороны цветовых пятен, звучащих то высоко, то низко.
Художественное произведение отражается на поверхности сознания. Находясь по ту сторону сознания, оно бесследно исчезает с его поверхности после прекращающегося возбуждения. Здесь также возникает некое прозрачное, но твердое стекло, которое делает невозможным прямую, внутреннюю связь. Здесь также существует возможность войти в произведение, обретя в нем активность, и пережить его пульсацию всем своим существом.
Анализ
Несмотря на всю научную ценность, которая зависит от точной проверки отдельных художественных элементов, анализ художественных элементов есть мост к внутренней пульсации произведения.
Господствующее до сегодняшнего дня мнение, что искусство роковым образом «разложилось» и что это разложение неминуемо должно привести искусство к гибели, происходит от невежественной недооценки раскрывшихся элементов и их первичной силы.
Живопись и другие искусства
В области аналитических исследований живопись среди других искусств, как это ни странно, занимает особое место. Например, архитектура, которая естественно связана с практическими целями, изначально должна была располагать точными научными знаниями. Музыка, которая не имеет практических целей (несмотря на марш и танец) и которая только одна до сегодняшнего дня была пригодна для абстрактного произведения, с давних пор имеет свою теорию, свою, быть может несколько одностороннюю, науку, находящуюся в постоянном развитии. Оба этих противоположных друг другу искусства имеют свою научную основу, и это никого не шокирует.
Если другие искусства в этом отношении в чем-то отстали, то степень этих различий можно свести к степени развития каждого из этих искусств.
Теория
В особенности живописи, которая в течение последних десятилетий совершила невероятно гигантский скачок, однако лишь недавно стала свободной от своего «практического» смысла и от некоторых своих прежних способностей быть использованной, взошла на новую ступень, требующую обязательно точной, чисто научной проверки целесообразности ее живописных средств. В этом направлении без такой проверки не достичь последующих ступеней ни художнику, ни «публике».
В прежние времена
С полной уверенностью можно предположить, что живопись в этом отношении не всегда была так беспомощна, как сегодня, что определенные теоретические знания существовали не только в области чисто технических вопросов, что, например, определенное учение о композиции могло быть представлено (как пособие) начинающему и что некоторые знания об элементах, их сущности и их применении для художника были общеизвестной вещью[132].
За исключением чисто технических рецептов (грунт, связующее вещество и т. д.), которые в большом количестве были найдены 20 лет назад и которые, особенно в Германии, сыграли определенную роль в развитии производства красок, почти ничего из этих прежних достижений, возможно, высокоразвитой науки об искусстве не было перенесено в наше время. Странный факт, импрессионисты в борьбе против «академизма» уничтожили последние остатки теории живописи, но одновременно, несмотря на их утверждение, что природа могла бы быть единственной теорией для искусства, сами, не осознавая того, заложили первый камень новой науки об искусстве[133].
История искусства
Одной из важнейших задач зарождающейся сейчас науки об искусстве мог бы быть подробный анализ всей истории искусства разных времен и народов с точки зрения теории элементов, конструкций и композиций, с одной стороны, а с другой – установления, во-первых, роста в области трех вопросов – путь, темп, необходимость обогащения художественных средств, во-вторых, скачкообразного развития, которое в истории искусства совершается по определенной линии развития, возможно волнообразной. Первая часть этой задачи – анализ – граничит с задачами «позитивных наук». Вторая часть – вид развития – граничит с задачами философии. Здесь образуется узловой пункт закономерности человеческого развития в целом.
«Разложение»
Попутно заметим, что раскрытия этих забытых знаний искусства прежних эпох можно достичь только при большом усилии и что страх перед «разложением» искусства должен быть полностью отброшен. Ибо если «мертвые теории» так глубоко кроются в живых произведениях, что их можно высветить лишь с большим трудом, то их «вредные воздействия» есть не что иное, как страх перед незнанием.
Две цели
Исследования, которые должны стать основанием новой науки – науки об искусстве, имеют две цели и берут свое начало в двух необходимостях:
1. необходимости науки в целом, которая свободно вырастает из сверх– или нецелесообразного стремления к знаниям: «чистая» наука, и
2. необходимости равновесия созидающих сил, которые заключены в двух схематических частях – интуиции и расчете: «практическая» наука.
Так как мы сегодня находимся в самом начале этих исследований, так как порой они представляются нам исчезающим в густом тумане лабиринтом, имеющим много входов и выходов, и так как мы абсолютно не в состоянии обозреть их дальнейшее развитие, они (эти исследования) должны быть проведены очень систематично и сведены к одной ясной схеме.
Элементы
Первым вопросом, который нельзя обойти, естественно, является вопрос о художественных элементах, которые служат строительным материалом произведения и которые, следовательно, должны быть в каждом искусстве различны.
В первую очередь, здесь надо отличать основные элементы, т. е. элементы, без которых произведение вообще не может быть создано в отдельном от прочих виде искусства.
Все другие элементы должны быть обозначены как второстепенные.
В обоих случаях необходима их органичная классификация.
В этом сочинении речь пойдет о двух основных элементах, которые служат началом каждого произведения живописи, без которых это начало невозможно и которые одновременно являются исчерпывающим материалом для самостоятельного вида живописи – графики.
Итак, здесь нужно начать с первоэлемента – с Точки.
Путь исследования
Идеалом всякого исследования следует считать:
1. педантичное расследование каждого отдельно взятого явления – изолированно,
2. противоположное влияние явлений друг на друга – сопоставление,
3. общие выводы, которые должны быть извлечены из обеих предыдущих частей.
Цель моего сочинения распространяется только на две первые части. Для третьей материала недостаточно, и ни в коем случае не следует спешить.
Исследование должно проходить очень точно, педантично точно. Шаг за шагом надо пройти этот «скучный путь», не упуская из виду ни малейшего изменения в характере, свойствах и в действии отдельных элементов. Только этим путем микроскопического анализа наука об искусстве придет к всеобъемлющему синтезу, который, в конце концов, распространится далеко за пределы искусства в область «единства» «человеческого» и «божественного».
Это, в конце концов, вполне обозримая цель, правда еще отдаленная от сегодняшнего дня.
Задача этого сочинения
Что касается моей конкретной задачи, то дело не только в недостаточности моих сил для соблюдения начальной точности, но и места; цель этой небольшой книги ограничена намерением только в общем и чисто принципиально указать на основные элементы графики, а именно:
1. «абстрактно», т. е. изолировано от реальной области материальных форм материальной плоскости, и
2. на материальную плоскость, имея в виду воздействие основных свойств этой плоскости.
Но и это здесь может быть решено только в рамках довольно беглого исследования, лишь как попытка найти естественный метод искусствоведческого исследования и проверить его на практике.
Точка
Геометрическая точка
Геометрическая точка – невидимое существо. Ее надо определить как нематериальное существо, в материальном смысле она равна нулю.
Но в этом нуле скрыты разнообразные «человеческие» свойства. В нашем представлении этот нуль, геометрическая точка, связан с высшей степенью краткости, т. е. самой большой сдержанностью, к тому же говорящей.
Таким образом, геометрическая точка в нашем представлении – высшая и единственная связь молчания и слова.
Поэтому геометрическая точка находит свою материальную форму прежде всего в письменности – она принадлежит языку и означает молчание.
Письмо
В разговорной речи точка – символ остановки, несуществования (негативный элемент), и в то же время она служит мостом от одного существования к другому (позитивный элемент). В письме это является ее внутренним смыслом.
Внешне она лишь знак целевого применения, который несет в себе элемент «практической целесообразности», что нам понятно с детства. Внешний знак становится привычным и скрывает внутренний звук символа.
Внешнее возводит стену внутреннему.
Таким образом, точка принадлежит к узкому кругу привычных явлений с их традиционным звучанием, которое безмолвно.
Молчание
Звук молчания, обычно связанного с точкой, так громок, что полностью заглушает другие свойства точки.
Все традиционно привычные явления становятся безмолвными в результате однозначности их языка. Мы больше не слышим их голоса и окружены молчанием. Мы смертельно повержены «практической целесообразностью».
Толчок
Иногда необычное внешнее потрясение способно вырвать нас из мертвого состояния и вернуть к полным жизни ощущениям. Но нередко и сильнейшая встряска не может превратить мертвое состояние в живое. Приходящие извне потрясения (болезнь, несчастье, горе, война, революция) с силой вырывают на неопределенное время из круга традиционных привычек, что мы, как правило, ощущаем только как большую или меньшую степень «несправедливости». При этом над всеми чувствами преобладает желание как можно быстрее вернуться в прежнее состояние традиционных привычек.
Изнутри
Потрясения, приходящие изнутри, другого рода – они вызваны самим человеком и имеют определенную основу в нем самом. Она выражается не в наблюдении «улицы» через «оконное стекло», крепкое, твердое, но легко разбиваемое, а в способности самому идти по улице. «Видящие глаза» и «слышащие уши» приводят незначительные потрясения к большим переживаниям. Со всех сторон льются голоса, и мир звучит.
Как ученый, углубившийся в новые, неизвестные страны, мы делаем открытия в «повседневности», и обычно безмолвная среда начинает говорить на все более понятном языке. Таким образом, мертвые знаки становятся живыми символами и мертвое оживает.
Разумеется, новая наука об искусстве может возникнуть только тогда, когда знаки станут символами, а «открытые глаза» и «слышащие уши» сделают возможным путь от молчания к разговору. Тот, кто этого не может, пусть лучше оставит разговоры о «теоретическом» и «практическом» искусстве, его усилия в области искусства никогда не приведут к созданию такого моста, а наоборот, только еще больше увеличат сегодняшнюю пропасть между человеком и искусством. Именно такие люди стараются сегодня поставить точку после слова «искусство».
Извлечение
При постепенном извлечении точки из узкого круга привычного действия ее до сих пор молчащие внутренние свойства приобретают все нарастающий звук.
Эти свойства – внутренние напряжения – один за другим выходят из глубины ее сущности и излучают свою энергию. И их воздействия и влияния на человека все легче и легче преодолевают препятствия. Короче – мертвая точка становится живым существом.
Из многочисленных возможных случаев мы выберем два наиболее типичных:
Первый случай
1. Точка из практически целесообразного состояния перемещается в нецелесообразное и потому – в алогичное.
Сегодня я иду в кино.
Сегодня я иду. В кино
Сегодня я. Иду в кино
Ясно, что во втором предложении еще можно перемещение точки воспринимать как целесообразное подчеркивание цели, силу намерения, как звук тромбона.
В третьем предложении чистая форма алогична по отношению к смыслу происходящего, но это можно объяснить как опечатку – внутренняя ценность точки блеснет на мгновение и тут же исчезнет.
Второй случай
2. В этом случае точка перемещается из своего практически целесообразного состояния таким образом, что оказывается вне непрерывной строки текста.
Тогда точка должна иметь вокруг себя больше свободного пространства, чтобы ее звук получил резонанс. И все-таки этот звук еще остается тихим, сдержанным и заглушается окружающим его текстом.
Дальнейшее освобождение
При увеличении свободного пространства и величины самой точки звук текста уменьшается, а звук точки выигрывает в ясности и силе (рис. 1).
Рис. 1
Так вне практически-целесообразной связи возникает двузвучие – текст-точка. Это балансирование двух миров, которое никогда не найдет компромисса. Это бессмысленное, революционное состояние – текст колеблется, сотрясаемый инородным телом, не имея возможности обрести с ним какую-либо связь.
Самостоятельное существо
Но, тем не менее, точка вырвана из своего привычного состояния и берет разбег для прыжка из одного мира в другой, где она освобождается от подчинения, от практически-целесообразного и начинает жить как самостоятельное существо, где ее подчинение превращается во внутренне-целесообразное. Это и есть мир живописи.
Через соприкосновение
Точка – результат первого соприкосновения инструмента с материальной поверхностью, основной плоскостью. Бумага, дерево, холст, штукатурка, металл и т. д. могут образовывать эту материальную основу плоскости. Инструментами же могут быть карандаш, штихель, перо, игла и т. д. При этом первом соприкосновении материальная поверхность оплодотворяется.
Определение
Внешнее обозначение точки в живописи неточно. Материализованная, невидимая геометрическая точка должна для этого получить определенный размер, занимающий некоторую поверхность на основной плоскости. Кроме того, точка должна иметь определенные границы, контуры, отделяющие ее от окружающей среды.
Это само собой разумеется и кажется вначале очень простым. Но даже в этом простом случае мы сразу наталкиваемся на неточности, указывающие на абсолютно эмбриональное состояние сегодняшней теории искусства.
Размеры и формы точки меняются, вследствие чего меняется и относительный звук абстрактной точки.
Размер
Внешне точку можно определить как наименьшую элементарную форму, что не совсем точно. Трудно установить точные границы обозначения «мельчайшей формы» – точка может расти, становиться плоскостью и незаметно занимать собой всю основную плоскость. Где же тогда граница между точкой и плоскостью? Здесь надо иметь в виду два обстоятельства:
1. соотношение размера точки с основной плоскостью и
2. соотношение размеров прочих форм на этой плоскости.
То, что все же может считаться точкой на еще пустой основной плоскости, то должно быть обозначено как плоскость, если, например, на основную плоскость добавлена очень тонкая линия (рис. 2).
Рис. 2
Соотношение величин в первом и втором случае определяет понятие точки, что сегодня можно лишь почувствовать – точного же числового выражения не существует.
На границе
Так сегодня мы в состоянии лишь эмоционально определить и оценить приближение точки к ее внешнему размеру. Это приближение к внешней границе точки, даже определенное преодоление этой границы, достижение того момента, когда точка исчезает как таковая и на ее месте эмбрионально начинает жить плоскость, является средством к цели.
Целью же в данном случае является сокрытие абсолютного звука, растворение акцента, неточность звучания формы, нестабильность, позитивное (а в некоторых случаях также негативное) движение, мерцание, напряжение, неестественность абстрагирования, риск внутренних пересечений (когда внутренне звучание точки и плоскости наталкиваются друг на друга, пересекаются и возвращаются обратно), двойному звучанию в одной форме, т. е. образованию двойного звучания с помощью одной формы.
Абстрактная форма
Это многообразие и сложность выражения «мельчайшей» формы возникает в результате незначительных изменений ее размера – является и для объективного наблюдателя убедительным примером силы и глубины выражения абстрактной формы. При дальнейшем развитии этих средств выражения, с одной стороны, и восприимчивости зрителя – с другой, точные определения размера точки становятся неизбежными, и со временем их можно будет измерить. Числовое выражение станет необходимым.
Числовое выражение и формула
Препятствием может оказаться лишь то, что числовое выражение останется за пределами чувственного ощущения. Формула числового выражения подобна клею. Она похожа на смерть мухи, попавшей на клей, жертвами такой смерти становятся лишь легкомысленные. Она – как мягкое кресло, которое обнимает людей своими теплыми руками. С другой же стороны, стремление освободиться от захвата есть предпосылка для дальнейшего прыжка к новым ценностям и, в конце концов, к новым формулам. Одни формулы умирают, их место занимают другие.
Форма
Вторым неоспоримым фактом является внешняя граница точки, которая определяет ее внешнюю форму.
Абстрактно задуманная или представленная точка предельно мала и идеально округла. Она, собственно говоря, является самым малым кругом. Но так же, как и размер, границы точки относительны. Реальные формы точки бесконечно разнообразны: округлая форма точки может получить совсем маленькие зазубрины и склонность переходить в другие геометрические и даже свободные формы. Она может стать заостренной, тяготеть к форме треугольника. А из потребности относительной неподвижности переходит к форме квадрата. При зубчатом крае зубцы эти могут быть мелкими или широкими и способны вступать в различные отношения друг с другом. Здесь невозможно установить каких-либо ограничений, поэтому царство точки безгранично (рис. 3).
Рис. 3. Примеры разных форм точки
Основное звучание
Итак, размер и форма, соответствующие основному звучанию точки, изменчивы. Эту изменчивость следует понимать никак не иначе, как относительную внутреннюю окраску, которая всегда звучит в унисон.
Абсолютное
Но надо всегда подчеркивать, что чисто звучащих, так сказать, одноцветно излучающихся элементов в действительности не существует, что даже элементы, обозначенные как «основные, или первоэлементы», имеют не примитивную, а сложную природу. Все понятия, которые звучат и обозначены как «примитивные», являются только относительными понятиями, поэтому наш «научный» язык также относителен. Абсолютного мы не знаем.
Внутреннее понятие
В начале этой главы при обсуждении практически-целесообразной ценности точки в письме точка была определена как по-разному длящееся молчание.
Внутреннее обозначение точки сводится к непременному утверждению, которое органично связано с абсолютной сдержанностью.
Точка – это внутренне самая сжатая форма.
Она обращена внутрь себя. Этого свойства она никогда не теряет в полном объеме – даже в случаях своей внешне угловатой формы.
Напряжение
Напряжение точки даже в случае ее эксцентрических тенденций в конечном счете всегда сконцентрированно. Концентричность и эксцентричность звучат в ней тогда одновременно.
Точка – маленький мир, со всех сторон более или менее отделенный и почти вырванный из своего окружения. Слияние точки со средой минимально и в случаях наивысшей закругленности кажется несуществующим. С другой стороны, точка прочно держится на своем месте, не проявляя ни малейшей склонности к движению в каком бы то ни было направлении: ни горизонтальном, ни вертикальном. Продвижения вперед или назад также не происходит.
Плоскость
Только концентрическое напряжение точки выявляет ее внутреннее родство с кругом – другие ее свойства указывают в большей степени на квадрат[134].
Определение
Точка впивается в глубь основной плоскости и утверждается там навечно. Таким образом, она есть наименьшее внутренне постоянное утверждение, возникновение которого кратко, твердо и быстро.
Поэтому точка и является во внешнем и внутреннем смысле первоэлементом живописи, и в особенности графики[135].
«Элемент» и элемент
Понятие «элемент» можно рассматривать с внутренней и внешней точки зрения.
Внешне элементом является каждая отдельная графическая или живописная форма. Внутренне же элементом является не сама эта форма, а ее живое внутреннее напряжение.
И на самом деле не внешние формы материализуют содержание живописного произведения, но живые силы этой формы – ее напряжения[136].
Если бы эти напряжения вдруг магическим образом исчезли или умерли, то и живое произведение сразу бы стало мертвым. А с другой стороны, тогда каждое случайное соединение отдельных форм могло бы стать произведением. Но содержание произведения находит свое выражение в композиции, т. е. во внутренне организованной сумме необходимых в этом случае напряжений.
Это кажущееся простым утверждение имеет важное принципиальное значение: его признание или непризнание разделяет не только современных художников, но и всех современных людей на две противоположные группы:
1. на тех, кто кроме материального признает еще и нематериальное, или духовное, и
2. на тех, кто не хочет признавать ничего, кроме материального.
Для второй категории людей искусства может не быть вообще, поэтому эти люди отрицают сегодня само слово «искусство» и ищут ему замену.
С моей точки зрения, элемент от «элемента» можно отличить в том случае, если под «элементом» понимается форма в отрыве от напряжения, а под элементом – живое напряжение этой формы. Тогда элементы в буквальном смысле абстрактны и сама форма «абстрактна». Но если бы действительно можно было работать только с абстрактными элементами, то внешняя форма современной живописи существенно изменилась бы, что, однако, не означало бы ненужности живописи вообще: и абстрактные живописные элементы сохранили бы свою окраску, так же как музыкальные сохраняют свою и т. д.
Время
Отсутствие стремления к движению на и от плоскости сводит время восприятия точки к минимуму и почти полностью исключает в точке элемент времени, что в особых случаях в композиции делает точку неизбежной. Здесь ее можно сравнить с короткими ударами в литавры или в треугольник (в музыке) или с быстрыми ударами клюва дятла по дереву (в природе).
Точка в живописи
Еще сегодня употребление точки и линии в живописи порицается некоторыми теоретиками искусства, которые наряду со многими старыми стенами хотели бы сберечь и ту, которая, казалось бы, еще недавно надежно отделяла друг от друга две области искусства: живопись и графику. В любом случае это деление не имеет никакого внутреннего основания[137].
Время в живописи
Проблема времени в живописи заслуживает особого разговора, она очень сложна. Несколько лет тому назад началось разрушение и этой стены[138]. Эта стена до сих пор делила между собой две области искусства: живопись и музыку.
Деление, кажущееся нам ясным и обоснованным, на:
живопись – пространство (плоскость)
и музыку – время
при более близком рассмотрении (до сегодняшнего дня оно было достаточно беглым) стало сомнительным – и, насколько мне известно, в первую очередь для художников[139]. Это в общем сохраняющееся до сегодняшнего дня привычное пренебрежение к элементу времени в живописи отчетливо показывает поверхностность господствующей теории, которая уходит от научной основы.
Здесь не место излагать этот вопрос подробно – но некоторые моменты, которые ясно обнаруживают элемент времени в живописи, необходимо подчеркнуть.
Точка – наименьшая временная форма.
Количество элементов в произведении
Чисто теоретически точка, которая является
1. целым комплексом (размер и форма) и
2. четко очерченным единством,
должна быть в определенных случаях при сопоставлении с основной плоскостью достаточным средством выражения. Схематически произведение, в конце концов, может состоять из одной точки. И это не безосновательное утверждение.
Когда сегодня теоретик (а нередко он в то же самое время и «практикующий» художник) при систематизации элементов искусства невольно с особым вниманием выделяет и проверяет основные элементы, то, кроме вопроса о применении этих элементов, ему также оказывается важным вопрос о необходимом количестве этих элементов в том же самом, пусть даже только схематически задуманном, произведении.
Этот вопрос относится к до сих пор малоизученной, но обширной области теории композиции. Но здесь надо так же последовательно и схематически идти вперед – а начинать надо с самого начала. В этом сочинении, кроме короткого анализа двух первичных элементов формы, объясняется их связь с общим научным планом работы и указывается направление развития науки об искусстве. Пояснения здесь являются только указателем пути.
В этом смысле мы и будем рассматривать возникший вопрос о том, может ли произведение состоять из одной точки.
Здесь существуют различные случаи и возможности.
Самый простой и редкий случай – точка находится в центре основной плоскости, имеющей форму квадрата (рис. 4).
Рис. 4
Прообраз
Оттеснение воздействия основной плоскости достигает здесь максимальной силы и представляет собой единичный случай[140]. Двузвучие – точка, плоскость – принимает характер однозвучия: звук плоскости здесь можно не учитывать. Проще говоря, это последний случай следующих друг за другом отказов от много– и двузвучий. При появлении более сложных элементов происходит обратное влияние композиции на отдельный проэлемент. Таким образом, этот случай представляет собой прообраз живописной выразительности.
Понятие композиции
Мое определение понятия «композиция» таково: композиция – это внутренне-целесообразное подчинение
1. отдельных элементов и
2. построений (конструкций)
конкретной живописной цели.
Однозвучие как композиция
Итак, когда однозвучие исчерпывающе воплощает заданную живописную цель, тогда оно может быть приравнено композиции. Однозвучие здесь является композицией[141].
Основание
Внешне различия в композициях = живописных целях соответствуют исключительно числовым различиям. Это количественные различия. Причем в случае, когда мы имеем дело с «прообразом живописной композиции», качественный элемент полностью отсутствует. Так, если оценка произведения получает решающее качественное основание, тогда композиции необходимо по меньшей мере двузвучие. Этот случай относится к тем примерам, которые особенно ясно подчеркивают разницу между внешними и внутренними мерами и средствами. В действительности же совершенно чистого двузвучия не бывает. Здесь мы лишь утверждаем это. Доказательства будут приведены в других местах. Во всяком случае, композиция всегда возникает на качественной основе благодаря применению многозвучий.
Ацентрическое построение
В момент перемещения точки из центра основной плоскости (ацентрическое построение) становится слышным двузвучие:
1. абсолютный звук точки,
2. звук данного места основной плоскости.
Этот второй звук, который при центрическом построении был заглушен до молчания, становится опять внятным и преобразует абсолютный звук точки в относительный.
Количественное увеличение
Двойное движение этой точки на основной плоскости, разумеется, дает еще более сложный результат. Повторение есть мощное средство к усилению внутреннего потрясения и одновременно к возникновению примитивного ритма, который является средством достижения простейшей гармонии в любом искусстве. Помимо этого здесь мы имеем дело с двумя двузвучиями: каждое место основной плоскости становится индивидуально, приобретая свой собственный, лишь ему принадлежащий голос и внутреннюю окраску. Так, кажущиеся малозначительными факты дают неожиданно сложные последствия. Состав данного примера включает:
Кроме того, так как точка здесь является сложным единством (ее размер + ее форма), то легко можно себе представить, какой взрыв звуков произойдет от все большего скопления точек на плоскости, а также разовьется в случае их идентичности, и как распространится последующее развитие этого взрыва, если в дальнейшем точки окажутся брошенными на плоскость различными и все более нарастающими несоответствиями размера и формы.
Природа
В другом несмешанном царстве – в природе – часто происходит скопление точек, и это всегда целенаправленно и органично необходимо. Эти природные формы в действительности являются маленькими пространственными телами и находятся в таком же соотношении к абстрактной (геометрической) точке, как и живописные. Однако можно весь «мир» рассматривать как одну замкнутую в себе космическую композицию, которая, в свою очередь, состоит из бесконечных, самостоятельных, также замкнутых в себе и все уменьшающихся композиций, в большей или меньшей степени состоящих из тех же точек, и при этом точка, в свою очередь, возвращается к своей первоначальной геометрической сущности. Это комплексы геометрических точек, которые в различных закономерных сочетаниях парят в геометрической бесконечности. Самые маленькие, замкнутые в себе, чисто центробежные формы мы видим невооруженным глазом как малосвязанные между собой точки. Так выглядит семя. Раскрыв красивый, гладко отполированный, похожий на слоновую кость маковый шар (в конце концов, он является самой большой шарообразной точкой), мы обнаруживаем в этом теплом ядре композиционно планомерно выстроенное множество холодных серо-голубых точек, которые содержат в себе еще покоящуюся силу прорастания; то же происходит и с живописной точкой.
В природе такие формы иногда возникают в процессе расчленения и распада вышеназванного комплекса, можно сказать, как возвращение к прообразу, к первичному геометрическому состоянию. Если пустыня есть море песка, которое состоит исключительно из точек, тогда непреодолимо мятежная способность этих «мертвых» точек к передвижению не случайно действует пугающе.
В природе точка, так же как и в живописи, является обращенным внутрь себя, полным возможностей существом (рис. 5 и 6).
Рис. 5. Скопление звезд в созвездии Геркулес (Newcomb-Engelmann›s «Popul. Astronomie». Leipzig, 1921. S. 294)
Точка и линия на плоскости
Рис. 6. Образование нитритов. Увеличение в 1000 раз («Kultur der Gegenwart». Т. III, Abtlg. IV, 3. S. 71)
Другие искусства
Точки встречаются во всех искусствах, и их внутренняя сила, вероятно, все более будет осознаваться художниками. Нельзя недооценивать внутреннего значения точки.
Скульптура. Архитектура
В скульптуре и архитектуре точка является результатом пересечения нескольких плоскостей, она, с одной стороны, – вершина пространственного угла, а с другой – опорная точка образования этих плоскостей. Плоскости ею управляются и из нее развиваются. В готических зданиях точки акцентируются резкими обострениями и нередко подчеркнуты пластически, в китайских это достигается благодаря кривой, ведущей к точке, – становятся внятными короткие, точные упоры, как переход пространственной формы к растворению в окружающем здание воздушном пространстве. Именно в такого вида постройках предполагается сознательное применение точки. Так как она планомерно распределяет и композиционно восходит к самой вершине устремленных вверх масс. Вершина = точка (рис. 7 и 8).
Рис. 7. Ling-ying-si, внешний портал. («China» v. Bernd Melchers, 2 Bd. Folkwang Vlg., Hagen i. W., 1922)
Рис. 8. «Пагода Красоты Дракона» в Шанхае (1411)
Танец
Уже в классическом балете есть «пуанты», терминологически происходящие от слова «острие». Быстрый бег на кончиках пальцев оставляет после себя точки на полу. Артист балета использует точку при прыжке таким образом, что головой обозначает точкой верх, а становясь на ступню и соприкасаясь с полом – низ. Прыжок в высоту в новом танце можно в некоторых случаях противопоставить «классическому» балетному прыжку – прежний изображает непосредственно вертикаль, а «современный», напротив, иногда образует пятиугольную плоскость с пятью вершинами – голова, две руки, два мыска, причем десять пальцев образуют десять маленьких точек (рис. 9). Застывшую, короткую неподвижность также можно воспринимать как точку. Так, активное и пассивное пунктирование связано с музыкальной формой точек.
Рис. 9. Прыжок танцовщицы Палукки
Рис. 10. Графическая схема к фотографии (рис. 9)
Музыка
Кроме уже упомянутых ударов в литавры и треугольник точки в музыке могут по-разному производиться различными инструментами (особенно это касается ударных инструментов), например, рояль осуществляет законченные композиции исключительно благодаря сопоставлению и последовательности звуковых точек[142].
Рис. 11. V симфония Бетховена (первые такты)
То же самое, переведенное в точки
То же самое, переведенное в точки
То же самое, переведенное в точки
Рис. 11. Тема 2, переведенная в точки[143]
Графика
В специальной области живописи, в графике, точка развивает свои самостоятельные силы с особой ясностью. Материальный инструмент предоставляет этим силам много различных возможностей, что увеличивает разнообразие форм и размеров, а также превращает точки в бесчисленные, по-разному звучащие существа.
Техники
Но здесь многообразие и разнообразие также легко систематизируются, если за основу порядка брать специфические свойства графических техник.
Типичными графическими техниками являются:
1. офорт и в особенности сухая игла,
2. ксилография и
3. литография.
Непосредственно по отношению к точке и ее возникновению эти три техники графики различаются с особой ясностью.
Офорт
В офорте мельчайшая черная точка естественно достигается с непринужденной легкостью. Напротив, большая белая точка является результатом огромного напряжения и различных ухищрений.
Ксилография
В ксилографии положение вещей полностью меняется: мельчайшая белая точка требует лишь прикосновения, большая же черная точка – напряжения и внимания.
Литография
В литографии в обоих случаях способы равнозначны и напряжение отсутствует.
Три техники также отличаются друг от друга и возможностями корректуры: в офорте корректура, строго говоря, невозможна, в ксилографии – условна, в литографии – безгранична.
Атмосфера
В результате при сравнении трех техник должно становиться ясным, что технику литографии, безусловно, должны были открыть позже других. В самом деле – легкости нельзя достигнуть без усилия. А с другой стороны, легкость возникновения и легкость корректуры являются качествами, которые особенно соответствуют сегодняшнему дню. Этот сегодняшний день лишь трамплин в «завтра», и в качестве такового он может быть воспринят с внутренним спокойствием.
Каждое естественное различие не может и не должно оставаться поверхностным – оно должно идти из глубины и указывать на внутренний смысл вещей. Технические возможности расширяются так же целесообразно и целеустремленно, как и всякая возможность в «материальной» (сосна, лев, звезда, блоха) и «духовной» (произведение искусства, моральный принцип, научный метод, религиозная идея) жизни.
Корень
Если отдельные виды растений зрительно так отличаются друг от друга, что их внутреннее родство остается скрытым, если на первый взгляд эти явления внешне кажутся беспорядочными, то на основании внутренней необходимости они могут быть сведены к одному корню.
Ложные пути
Эти пути знакомят нас с ценностью различий, которые хотя в основе своей всегда целесообразны и обоснованны, но при легкомысленном отношении могут жестоко отомстить возникновением противоестественного уродства.
Этот простой факт можно отчетливо наблюдать в графике: неправильное понимание основных различий вышеупомянутых технических принципов здесь часто приводило к созданию бесполезных и поэтому отталкивающих произведений. Их возникновение обязано неспособности распознать внутреннюю сущность вещей во внешнем – очерствевшая душа, как пустая ореховая скорлупа, утратила свою способность погружения и больше не может проникнуть в глубинный смысл вещей, где под внешней оболочкой становится слышно биение пульса.
В XIX веке специалисты по графике нередко гордились своей способностью выдать рисунок пером за ксилографию или офорт за литографию. Но произведения такого рода могут быть обозначены только как testimonia penpertatis. Как бы искусно вы ни подражали своей игрой на скрипке крику петуха, скрипу двери, лаю собаки, это никогда не будет оценено как успех в области искусства.
Целесообразность
Материал и инструменты трех графических техник естественно идут рука об руку с необходимостью реализовать три различных характера точки.
Материал
Везде в качестве материала может быть использована бумага. В корне различно только поведение специфических инструментов в каждом отдельном случае. По этой причине возникли существующие и по сей день три метода графики.
Инструмент и возникновение точки
Офорт
Среди различных видов офортов особым предпочтением пользуется сухая игла, так как она, с одной стороны, особенно хорошо гармонирует с суматошной атмосферой, а с другой – обладает характерно резкой точностью. При этом основная плоскость может оставаться абсолютно белой, и в этой белизне расположены глубоко и остро уложенные внутрь точки и штрихи. Игла работает с определенностью и большой решительностью, врезаясь в пластину со сладострастием. Точка появляется лишь негативно благодаря короткому, точному штриху по поверхности пластины.
Металлическая, острая, холодная игла.
Гладкая, медная, теплая пластина.
Краска толстым слоем наносится на всю поверхность пластины и стирается таким образом, что маленькая точка просто и естественно остается лежать в недрах светлости.
Давление пресса очень сильное. Бумага вдавливается в пластину, проникает в мельчайшие углубления и выхватывает краску. Это страстный процесс, который ведет к полному слиянию цвета с бумагой. Так возникает маленькая черная точка – живописный первоэлемент.
Ксилография
Металлический, холодный инструмент в виде рубанка.
Древесная (к примеру, самшит), теплая, пластина.
Точка образуется таким образом, что инструмент не касается ее, он окружает точку как крепость рвом, очень осторожно, чтобы ни в коем случае ее не задеть. Для того чтобы точка появилась, все ее окружение должно быть насильственно вырвано или опущено.
Краска наносится на поверхность так, чтобы она закрывала точку и оставляла окружение. Уже на клише ясно виден будущий оттиск.
Давление пресса мягкое, бумага не должна проникать в углубления, она должна оставаться на поверхности. Маленькая точка не в бумаге, а на ней. Это вцарапывание в плоскость передает внутреннюю силу точки.
Литография
Каменная желтоватая пластина.
Инструмент: перо, мел, кисточка, любой более или менее острый предмет с плоскостным соприкосновением различных размеров, наконец мелкие капли дождя (метод распыления). Величайшее разнообразие, величайшая гибкость.
Краска располагается на пластине легко и непрочно. Ее связь с пластиной очень слаба, она может быть легко устранена с помощью петель – пластина сразу же возвращается в свое прежнее состояние непорочности.
Точка моментально оказывается на пластине – молниеносно, без какого-либо напряжения, без какой-либо потери времени – лишь одно короткое, поверхностное соприкосновение.
Давление пресса мимолетно. Бумага равнодушно касается всей поверхности пластины и отражает лишь оплодотворенные места.
Точка так легко сидит на бумаге, что было бы не удивительно, если бы она вдруг слетела с нее.
Итак, точка располагается следующим образом:
в гравюре – в бумаге,
в ксилографии – в и на бумаге,
в литографии – на бумаге.
Так различаются между собой три вида графики, и так они связаны друг с другом.
Таким образом, точка, которая всегда остается самой собой, получает различный вид и поэтому различное выражение.
Фактура
Эти последние наблюдения касаются специального вопроса – вопроса фактуры[144].
Под «фактурой» мы понимаем внешний вид связи элементов друг с другом и с основной плоскостью. Схематически этот вид зависит от трех факторов:
1. от вида основной плоскости, которая может быть гладкой, шероховатой, ровной, пластичной и т. д.;
2. от вида инструментов, при этом используемые обычно кисти могут быть заменены на любые другие инструменты, и
3. от способа наложения краски – слабого, плотного, игольчатого, пылеобразного и т. д. – в зависимости от консистенции краски – поэтому разнообразие связующих и красочных средств и т. д.
Разнообразие возможностей фактуры можно наблюдать даже на очень ограниченной территории, занимаемой точкой (рис. 12 и 13). Здесь, несмотря на плотно сжатые границы мельчайшего элемента, важным оказывается способ создания точки, так как в зависимости от этого ее звук окрашивается каждый раз по-разному.
Таким образом, надо учитывать:
1. характер точки относительно создающего ее инструмента и вида принимающей ее плоскости (в данном случае – вида пластины),
2. характер точки, исходя из соединения с окончательно принимаемой ее плоскостью (в данном случае – с плоскостью бумаги),
3. характер точки в зависимости от качества окончательно принимаемой ее плоскости (в данном случае – бумаги, которая тоже может быть гладкой, зернистой, полосатой, шероховатой и т. д.).
Рис. 12. Центральный комплекс свободных точек
Рис. 13. Одна большая точка, состоящая из множества маленьких (техника распыления)
Если же необходимо скопление точек, то три вышеупомянутых случая еще более усложняются благодаря способам возникновения скапливаемых точек, которые наносятся как прямо от руки, так и более или менее механическим путем (всевозможные способы распыления).
Само собой разумеется, что все эти возможности играют еще большую роль в живописи – разница здесь состоит в своеобразии живописных средств, которые дают бесконечно большие возможности фактуре, чем узкая область графики.
Но и в этой узкой области вопросы фактуры не утрачивают своего значения. Фактура – это средство к цели, и она должна быть как таковая правильно воспринята и использована. Другими словами: фактура не должна действовать как самоцель, она обязана, так же как любой другой элемент (средство), служить композиции (цели). В ином случае появляется внутренняя дисгармония, при которой средство заглушает цель. Внешнее перерастает внутреннее, и это оборачивается манерностью.
Абстрактное искусство
В этом случае видно различие между «предметным» и абстрактным искусством. В «предметном» искусстве звук элемента завуалирован, приглушен, а в абстрактном искусстве он получает полное незавуалированное звучание, что непосредственно можно наблюдать на примере маленькой точки.
В области «предметной» графики существуют гравюры, состоящие исключительно из точек (примером может служить известная «Голова Христа»), при этом точки имитируют линию. Здесь очевидно неправомерное применение точки, которую предметность заглушает и ослабляет в ее звучании, она обречена на жалкое полусуществование[145].
В абстрактном искусстве необходим целенаправленный и композиционно точный метод. Доказательства здесь излишни.
Внутренняя сила
Все, что здесь очень обобщенно было сказано про точку, относится к анализу замкнутой в себе, бездействующей точки. Изменения ее размера влекут за собой изменения всего ее относительного существа. В этом случае она вырастает из себя самой, из собственного центра, но это приводит лишь к относительному усилению ее концентрического напряжения.
Внешняя сила
Существует еще одна сила, которая возникает не в точке, а вне ее. Эта сила устремляется на вцарапанную в поверхность точку, вырывает и двигает ее в определенном направлении по плоскости. При этом немедленно уничтожается концентрическое напряжение точки, сама она лишается жизни, но из нее возникает новое существо, которое ведет новую самостоятельную жизнь и подчиняется своим законам. Это – линия.
Линия
Геометрическая линия – невидимое существо. Она – след движущейся точки, ее производная, возникающая из движения в результате уничтожения высшего, замкнутого в себе спокойствия точки. Здесь совершается прыжок из статического состояния в динамическое.
Линия, следовательно, полная противоположность живописного первоэлемента – точки. Ее буквально можно обозначить как вторичный элемент.
Возникновение
Приходящие извне силы, превращающие точку в линию, могут быть очень различны. Разнообразие линий зависит от числа этих сил и от их комбинаций.
В конце концов, все линейные формы можно свести к двум случаям применения этих сил:
1. применение одной силы и
2. применение двух сил:
а) одноразовое или многоразовое попеременное действие обеих сил,
б) одновременное действие обеих сил.
Прямая
IA. Если одна действующая извне сила двигает точку в каком-либо из направлений, то образуется первый тип линий. Причем, если принятое направление остается неизменным, то линия своим напряжением устремляется прямо в бесконечность.
Это – прямая, напряжение которой представляет собой самую малую форму бесконечной возможности движения.
Почти всюду ранее употребляемое понятие «движение» я заменю «напряжением». Привычное понятие неточно и поэтому направляет по неправильному пути, что может привести в дальнейшем к терминологической путанице. «Напряжение» – это внутренняя сила, живущая в элементе, которая обозначает лишь часть создающегося «движения». Вторая часть – «направление», и оно определяется движением. Элементы живописи – это реальные результаты движения, выраженные в виде:
1. напряжения и
2. направления.
Это разъединение создает основу различия одного элемента от другого. Возьмем точку и линию. Точка несет в себе только напряжение и не может иметь направления, тогда как линия имеет и напряжение, и направление. Если, например, прямую характеризовало бы только напряжение, то невозможно было бы отличить горизонтали от вертикали. То же самое в полной мере применимо и к анализу цвета, так как некоторые цвета различаются только направлением напряжений[146].
Среди прямых линий мы различаем три типичных вида, все прочие прямые будут лишь их разновидностями.
1. Самая простая форма прямой – горизонталь. В человеческом представлении она соответствует линии или плоскости, на которой человек стоит или по которой он движется. Итак, горизонталь – это холодный несущий базис, плоскость которого может быть продолжена в любом из направлений. Холодность и плоскостность являются основным звучанием этой линии. Она может быть обозначена как самая малая форма бесконечной холодной возможности движения (die knappste Form der unendlichen kalten Bewegungsmöglichkeit).
2. Этой линии в полной мере внешне и внутренне противостоит идущая к ней под прямым углом вертикаль, в которой плоскостность заменяется высотой, а значит холод – теплом. Таким образом, вертикаль является самой малой формой бесконечной теплой возможности движения (die knappste Form der unendlichen warmen Bewegungsmöglichkeit).
Рис. 14. Основные типы геометрической прямой
Рис. 15. Схема основных типов прямых линий
3. Третьим типичным видом прямой линии является диагональ, которая, будучи проведена под одинаковым углом к двум предыдущим прямым, обладает свойствами их обеих, что и определяет ее внутреннее звучание: равномерное объединение холода и тепла. Итак, она является самой малой формой бесконечной холодно-теплой возможности движения (die knappste Form der unendlichen kaltwarmen Bewegungsmöglichkeit) (рис. 14 и 15).
Температура
Эти три вида линий – самые чистые формы прямых, отличающихся друг от друга температурой:
Все остальные прямые в большей или меньшей степени являются отклонениями от диагонали, в большей или меньшей степени склонны к холоду или теплу, что и определяет их внутреннее звучание (рис. 16).
Так, при пересечении этих линий в одной точке возникает звезда из прямых линий.
Рис. 16. Схема отклонений в температуре
Образование плоскостей
Эта звезда может становиться все плотнее и плотнее, так что место пересечения создающих ее прямых образует более плотную середину, в которой возникает и кажется растущей точка. Она является осью, вокруг которой линии могут двигаться и, в конце концов, перетекать друг в друга – так рождается новая форма: плоскость с четкой конфигурацией круга (рис. 17 и 18).
Рис. 17. Уплотнение
Рис. 18. Круг как результат уплотнения
Здесь следует лишь мимоходом заметить, что в этом случае мы имеем дело с особым свойством линии – с силой образования ею плоскостей. Внешне эта сила выражается в виде своеобразной лопаты, которая производит плоскость движением своей острой части по земле. Но линия может образовывать и другой вид плоскости, о чем я буду говорить позднее.
Разница между диагоналями и прочими диагональными линиями, которые по праву можно было бы назвать свободными прямыми, проявляется в различии их температур, из-за которого свободные прямые никогда не смогут достичь равновесия между теплом и холодом.
При этом свободные прямые могут располагаться на данной плоскости или в общем центре (рис. 19), или вне центра (рис. 20), в связи с чем они делятся на два класса:
Рис. 19. Центральные свободные прямые
Рис. 20. Ацентральные свободные прямые
4. Свободные прямые (находящиеся вне равновесия):
а) центральные и
б) ацентральные.
Цвета: желтый и синий
Ацентральные свободные прямые обладают особой способностью, которая создает возможность возникновения определенных параллелей с «пестрыми цветами» и которая отличает их от черного и белого. Особенно желтый и синий цвета несут в себе различные напряжения – напряжения выступать вперед и уходить назад. Чисто схематические прямые (горизонталь, вертикаль, диагональ, и в особенности первая и вторая) развивают свои напряжения на плоскости, не проявляя тенденции удаляться от нее.
У свободных, и особенно у ацентральных, прямых мы замечаем ослабленную связь с плоскостью: они в меньшей степени сливаются с нею, а иногда кажется, будто бы они пронзают ее. Так как эти линии утратили элемент покоя, то они оказываются наиболее удаленными от впивающейся в плоскость точки.
На ограниченной плоскости локальная взаимосвязь возможна лишь тогда, когда линия свободно располагается на ней, другими словами, когда линия не касается внешних границ плоскости, о чем более подробно пойдет речь в главе «Основная плоскость».
В любом случае существует определенное родство напряжений ацентральных свободных прямых и «пестрых» цветов. Естественная взаимосвязь «рисуночных» и «живописных» элементов, которую мы сегодня до известных пределов можем уловить, имеет неоценимо большое значение для будущего учения о композиции. Только этим путем могут быть проведены планомерные, точные эксперименты в области конструкций, и коварный туман, в котором мы сегодня обречены блуждать при лабораторной работе, станет, безусловно, более прозрачным и менее удушливым.
Черное и белое
Если схематические прямые – в первую очередь горизонталь и вертикаль – проверить на цветовые свойства, то логично напрашивается сравнение с черным и белым. Так же как эти два цвета (которые коротко называли «нецветами», а сегодня не очень удачно называют «непестрыми» цветами) являются молчащими цветами, так и обе вышеназванные прямые являются молчащими линиями. И здесь, и там звучание доведено до минимума: молчание или едва слышный шепот и покой. Как черное и белое расположены вне цветового круга[147], так и горизонтали и вертикали занимают особое место среди линий, в центральном положении они неповторимы и поэтому одиноки. Если мы черное и белое рассмотрим с точки зрения температуры, то скорее белое, а не черное является теплым, а абсолютно черное внутренне будет непременно холодным. Не случайно горизонтальная цветовая шкала проходит от белого цвета к черному (рис. 21).
Рис. 21
Постепенное естественное скольжение сверху вниз (рис. 22).
Рис. 22. Графическое изображение снижения
Помимо этого в черном и белом следует различать элементы высоты и глубины, что делает возможным их сравнение с вертикалью и горизонталью.
«Сегодня» человек полностью занят внешним, внутреннее для него мертво. Это последняя степень падения, последний шаг в тупик – раньше это называли «пропастью», сегодня же мы ограничиваемся умеренным выражением «тупик». «Современный» человек ищет внутреннего покоя, потому что он оглушен извне и верит, что найдет этот покой во внутреннем молчании, отсюда в нашем случае возникает исключительная предрасположенность к вертикально-горизонтальному. Дальнейшим логичным следствием этого была бы и исключительная тенденция к черно-белому, к которой живопись тяготела уже не раз. Но исключительное соединение горизонтально-вертикального с черно-белым еще предстоит. В то время, когда все погружено во внутреннее молчание, лишь внешние шумы сотрясают мир[148].
Это сходство, которое нельзя понимать как полное совпадение, но лишь как внутреннюю параллель, может быть выражено в следующей таблице:
[149]
Красный цвет
То, что диагональ красного цвета, здесь следует рассматривать как утверждение, более подробные доказательства этого могли бы далеко увести нас от темы этой книги. Необходимо лишь кратко сказать о следующем: красный цвет[150] отличается от желтого и синего своим свойством прочно лежать на плоскости, а от черного и белого интенсивным внутренним кипением и напряженностью. Диагональ указывает в качестве различия свободных прямых на прочное соединение их с плоскостью, а в качестве различия горизонталей от вертикалей – на их огромное внутреннее напряжение.
Первоначальное звучание
Точка, покоящаяся в центре квадратной плоскости, была определена ранее как однозвучие точки с плоскостью, а само изображение в целом было обозначено как прообраз живописной выразительности. Дальнейшее усложнение этого случая привело бы к образованию горизонтали и вертикали, проходящих через центр квадратной плоскости. Обе эти прямые, как уже было сказано, являются самостоятельными, одиноко живущими существами, потому что они не знают повторений. Они развивают сильное звучание, которое невозможно заглушить в полной мере, и представляют собой тем самым первоначальное звучание прямой линии.
Итак, эта конструкция – прообраз линейной выразительности или линейной композиции (рис. 23).
Она состоит из квадрата, поделенного еще на четыре квадрата, что создает простейшую форму деления схематической плоскости.
Рис. 23
Сумма напряжений состоит из 6 элементов холодного спокойствия и 6 элементов теплого спокойствия = 12. Следующий шаг от схематического изображения точки к схематическому изображению линии осуществляется в результате удивительно большого увеличения употребляемых средств выражения: от однозвучия сделан гигантский прыжок к двенадцатизвучию. Это двенадцатизвучие состоит, в свою очередь, из 4 звуков плоскости + 2 звуков линии = 6. Таким образом, удваивается число звуков.
Этот пример, который собственно относится к учению о композиции, был приведен с намерением разъяснить взаимодействие простых элементов при их элементарном сопоставлении. Здесь «элементарное» в качестве растяжимого понятия обнаруживает всю «относительность» своей сущности, показывая, как непросто разграничивать сложное и применять исключительно элементарное. Но все же эти эксперименты и наблюдения дают единственное средство, на основании которого возможно добраться до сущности живописи, служащей композиционным целям. Этот метод использует «позитивная» наука. При этом, несмотря на преувеличенную односторонность, она навела прежде всего внешний порядок, а сегодня даже приближается с помощью тщательного анализа к первичным элементам. В таком виде она в итоге предоставила в распоряжение философии богатый упорядоченный материал, что рано или поздно непременно приведет к синтетическим результатам. Наука об искусстве должна пойти по тому же пути, при этом с самого начала необходимо соединить внешнее с внутренним.
Лирическое и драматическое
При постепенном переходе от горизонтального к свободному ацентральному холодная лирика также постепенно превращается в более теплую, до тех пор, пока она, наконец, не приобретет определенный драматический оттенок. Но, несмотря на это, лирическое все же оказывается преобладающим, так как вся область прямых является лирической, что объясняется воздействием отдельной внешней силы. Драматическое несет в себе, кроме звука передвижения (упоминавшегося в случае с ацентральной линией), еще и звук столкновения, для чего необходимы как минимум две силы.
Воздействие этих двух сил в области образования линий происходит в двух видах:
Ясно, что второй процесс более темпераментный и, таким образом, более «горячий», и особенно потому, что его можно считать результатом многих чередующихся сил.
Соответственно, степень драматизации усиливается до тех пор, пока, в конце концов, не возникнут чисто драматические линии.
Таким образом, царство линий заключает в себе полное выражение звуков: от холодно лирических в начале до горячо драматических в конце.
Линейный перевод
Само собой разумеется, что каждое явление внешнего и внутреннего мира может быть выражено линиями в виде перевода[151].
Результаты, соответствующие двум видам перевода:
Ломаные линии
IB. Ломаные линии.
Так как ломаные линии состоят из прямых, то они относятся к графе 1 и будут помещены во второй раздел этой графы – В.
Ломаные линии возникают под воздействием двух сил следующим образом (рис. 24).
Рис. 24
а) с острым углом – 45°;
б) с прямым углом – 90°4
в) с тупым углом – 135°.
Углы
IB 1. Ломаные линии простейших форм состоят из двух частей и являются результатом действия двух сил, которые прекращают это действие после одного-единственного толчка. Этот простой процесс ведет к важному отличию прямых линий от ломаных: ломаные в гораздо большей степени соприкасаются с плоскостью, они сами уже несут в себе нечто плоскостное. Плоскость находится в состоянии возникновения, ломаные линии же становятся мостом к этому. Различие между бесчисленными ломаными зависит исключительно от величины углов. На этом основании они могут быть схематически представлены в трех видах:
Остальные являются нетипичными острыми или тупыми углами, в разной степени отклоненными от этих типичных углов. Так, к трем первым ломаным линиям можно присоединить четвертую – несхематическую ломаную линию:
г) со свободным углом.
Исходя из этого эту ломаную линию надо назвать свободной ломаной линией.
Прямой угол одинок в своей величине и меняет лишь свое направление. Может быть только 4 прямых соприкасающихся угла – они либо соприкасаются вершинами, образуя крест, либо через соприкосновение расходящихся сторон создают прямоугольные плоскости – как правило, квадраты.
Горизонтально-вертикальный крест состоит из холода и тепла – это не что иное как центральное местоположение горизонтальных и вертикальных линий. Отсюда в зависимости от направления происходит холодно-теплая или тепло-холодная температура прямых углов, о чем подробнее будет говориться в главе «Основная плоскость».
Длина
Еще одно различие между простыми ломаными линиями зависит от степени длины отдельных ломаных частей – обстоятельство, меняющее основной звук этих форм.
Абсолютный звук
Абсолютный звук данных форм зависит от трех условий и меняется следующим образом:
1. звук прямых с учетом уже упоминавшихся изменений (рис. 25)
Рис. 25. Некоторые угловые линии
2. звук тяготения к более или менее острому напряжению (рис. 26)
Рис. 26
3. звук тяготения к большему или меньшему завоеванию плоскости (рис. 27).
Рис. 27
Трезвучие
Эти три звука могут образовать чистое трезвучие. Они также могут быть использованы как поодиночке, так и в паре, что зависит от общей конструкции: невозможно полностью разъединить все три звука, но при этом каждый из них до такой степени может заглушать остальные, что их будет едва слышно.
Самый объективный из трех типичных углов – прямой, он является самым холодным и делит квадратную плоскость на 4 части без остатка.
Самый напряженный и самый теплый – острый угол. Он разделяет плоскость на 8 частей без остатка.
Расширение прямого угла ведет к ослаблению направленного вперед напряжения, в связи с чем стремление к завоеванию плоскости соответственно усиливается. Этой жадности препятствует то, что тупой угол не в состоянии разделить всю плоскость без остатка: он вписывается в нее только два раза и оставляет часть в 90° незахваченной.
Три звука
Тем самым три различных звука соответствуют трем этим формам:
1. холодность и господство,
2. острота и наивысшая активность, и
3. беспомощность, слабость и пассивность.
Три этих звука и, следовательно, угла дают замечательную графическую метафору художественного творчества:
1. острота и наивысшая активность внутреннего замысла (видение),
2. сдержанность и владение мастерством исполнения (осуществление),
3. чувство неудовлетворенности и ощущение собственного бессилия после окончания работы (названное среди художников «похмельем»).
Ломаная линия и цвет
Выше уже говорилось о 4 прямых углах, образующих квадрат. Взаимосвязи с живописными элементами здесь могут быть разобраны лишь кратко, но тем не менее можно провести параллель между ломаными линиями и цветами. Холодная теплота квадрата и его очевидная плоскостная природа указывают на красный цвет, который представляет переходную ступень между желтым и синим и несет в себе холодно-теплые свойства[152]. Не случайно так часто в последнее время встречается красный квадрат. Итак, параллель между красным цветом и прямым углом небезосновательна.
В ломаных линиях вида d нужно обратить внимание на специальный угол, расположенный между прямым и острым, – угол в 60° (прямой угол –30 и острый +15). Если два таких угла соединить друг с другом открытыми сторонами, то получится равносторонний треугольник с тремя острыми активными углами, которые указывают на желтый цвет[153]. Так, острый угол внутренне окрашен в желтый цвет.
Тупой угол проигрывает в степени агрессивности, остроты и теплоты, что несколько роднит его с безугольной линией, которая, как показано ниже, образует третью первичную схематическую плоскостную форму – крут. Пассивность же тупого угла, почти отсутствующее напряжение вперед придает ему легкую синюю окраску.
На этом основании могут быть пояснены дальнейшие взаимосвязи: чем острее угол, тем больше он приближается к острому теплу, и наоборот, тепло убывает по мере приближения его к прямому красному углу, он все более отклоняется к холоду до тех пор, пока не образует тупой угол (150°), типично синий угол, который является предчувствием кривой. Конечная цель этого процесса – образование круга.
Этот процесс может быть выражен графически:
Рис. 28. Система типичных углов цветов
Рис. 29. Величина углов
Получается:
Следующий скачок в 30° осуществляет переход ломаных линий в прямые:
Так как типичные углы в своем дальнейшем развитии могут принять вид плоскости, то последующие отношения между линией, плоскостью и цветом становятся совершенно очевидными. Схематическое пояснение линейно-плоскостно-цветовых взаимосвязей может быть изображено таким образом:
Плоскость и цвет
Рис. 30
Рис. 31
Рис. 32
Если эти и представленные выше параллели верны, то в результате этого сравнения можно сделать вывод: звуки и свойства составляющих формируют в отдельных случаях такую сумму свойств, которая ими не перекрывается. Похожие факты известны и в других науках, например в химии: разложенная на составляющие сумма не всегда получается при обратном составлении[154]. Возможно, в подобных случаях мы имеем дело с неизвестным законом, неясное лицо которого вызывает замешательство.
А именно:
Линия и цвет
Так, сумма создала бы недостающий член составляющих, необходимый для равенства. Таким способом из суммы получались бы ее составляющие – линии из плоскости, и наоборот. Художественная практика придерживается этого так называемого правила, благодаря которому черно-белая живопись, состоящая из линий и точек, при введении плоскости (или плоскостей) получает бросающееся в глаза равновесие: легкий вес требует в противовес более тяжелого. Возможно, даже в еще большей степени эту необходимость можно наблюдать в полихромной живописи, что известно каждому художнику.[155]
Метод
При подобного рода рассмотрении моя цель выходит за пределы создания более или менее точных правил. Для меня столь же важно вызвать дискуссию о теоретических методах. Методы анализа искусства до сих пор остаются довольно произвольными и нередко носят субъективный характер. Будущее потребует более точного и объективного пути, благодаря которому будет возможна коллективная работа в области науки об искусстве. Склонности и способности остаются здесь, как и везде, различными: каждый может выполнить лишь ту работу, которая ему по силам, поэтому особое значение будет придаваться более важным направлениям этой работы.
Международные институты искусств
Тут и там возникала идея планомерно работающих институтов искусств, идея, которая, возможно, скоро будет воплощена в разных странах. Без преувеличения можно утверждать, что наука об искусстве, поставленная на широкую основу, должна иметь интернациональный характер: это интересно, но, разумеется, недостаточно – создать лишь европейскую теорию искусства. В этом отношении важны не столько географические или другие внешние условия (во всяком случае не только они одни), сколько различия во внутреннем содержании нации и, в первую очередь, в области искусства. Убедительный пример тому – черный траур у нас и белый траур у китайцев[156].
Большей противоположности в ощущении цвета быть не может – мы употребляем «черное и белое» так же часто, как обозначение «земля и небо». На этом основании мы все же можем определить глубинное и не сразу узнаваемое родство обоих цветов – оба являются молчанием, причем на нашем примере особенно остро выступает различие внутреннего содержания между китайцами и европейцами. Мы, христиане, после тысячелетий христианства воспринимаем смерть как окончательное молчание или, по моему определению, как «бесконечную дыру», а китайцы, язычники, истолковывают молчание как преддверие нового языка или, по моему определению, как «рождение»[157].
«Национальное» – это вопрос, который сегодня или недооценивается, или рассматривается лишь с внешней, поверхностно-научной точки зрения, поэтому его негативные стороны сильно выступают на передний план и полностью закрывают все другие. А эта другая сторона как раз и является внутренне главной. С этой последней точки зрения, сумма наций образовала бы не диссонанс, а созвучие. Возможно, в этом, к сожалению, кажущемся безнадежным случае искусство – на этот раз научным путем – неосознанно или непроизвольно действовало бы гармонизирующе. Введением к этому и могло стать осуществление идеи организации международных институтов искусств.
Сложная ломаная линия
IB 2. Простейшие формы ломаной линии могут быть осложнены вследствие того, что к двум первоначальным образующим их линиям присоединятся несколько других. В этом случае точка получает не два, а несколько ударов, которые ради простоты производятся не многими, а лишь двумя чередующимися силами. Схематически тип этих многоугольных линий создается многими отрезками одинаковой длины, расположенными друг к другу под прямым углом. Исходя из этого, в двух направлениях модифицируется и бесчисленный ряд многоугольных линий:
1. благодаря комбинациям острого, прямого, тупого и свободного углов, и
2. благодаря звеньям различной длины.
Таким образом, многоугольные линии могут состоять из множества различных частей – от простейших до все более сложных.
Сумма тупых углов, которые имеют равные звенья, сумма тупых углов, имеющих неравные звенья, сумма тупых углов, сливающихся с острыми углами и имеющих равные или неравные звенья, сумма тупых углов, сливающихся с прямыми и острыми и т. д. (рис. 33).
Рис. 33. Свободная многоугольная линия
Кривая линия
Эти линии называют также зигзагообразными, а при равных долях они образуют движущуюся прямую. Так, при острой форме они указывают высоту и, таким образом, вертикаль, а при тупоугольной форме имеют склонность к горизонтали, но при подобном образовании всегда сохраняют бесконечную возможность движения прямой.
Если, особенно при образовании тупого угла, сила последовательно прибывает, а угол увеличивается, то такая форма получает стремление к плоскости, и, в первую очередь, к кругу. Родство тупоугольных линий, кривых и круга не только является при этом внешним, но обусловлено и внутренней природой: пассивность тупого угла, его покорное отношение к окружению приводят его к величайшим углублениям, находящим завершение в наивысшем самоуглублении круга.
II. Если две силы одновременно оказывают свое воздействие на точку, и притом так, что сила одной и той же массы непрерывно и постоянно превосходит в давлении другую, то тогда возникает кривая линия в своем основном виде
1. простейшей кривой.
Она собственно является прямой, которая благодаря постоянному давлению со стороны сбилась со своего пути – чем больше было это давление, тем дальше шло отклонение от прямой и тем сильнее стал процесс напряжения вовне и, в конце концов, стремление к самозавершению.
Внутренне она отличается от прямой количеством и видом напряжений: прямая имеет два явных примитивных напряжения, которые в кривой не играют существенной роли – главное напряжение кривой заключено в дугу (третье напряжение, противопоставленное двум другим и их заглушающее).
В то время как прокалывание углом отсутствует, здесь скапливается сила, которая, хотя и является менее агрессивной, проявляет большую выдержку. В форме угла заключено что-то легкомысленно юное, в форме дуги – нечто зрелое и по праву энергично самоуверенное.
Рис. 34. Напряжения прямых и кривых линий
Противоположность линий
При этой зрелости и гибкой полноте звучания кривых линий мы видим – и к этому побуждают не ломаные, а кривые линии – что именно в них нужно искать противоположность прямым линиям: само возникновение кривых и вытекающий из этого возникновения характер, т. е. полное отсутствие прямых, приводят к выводу:
прямая и кривая линии образуют изначально противоположную линейную пару (рис. 35).
Ломаная линия должна быть рассмотрена как переход: рождение – молодость – зрелость.
Рис. 35
Плоскость
В то время как прямая линия является отрицанием плоскости, кривая несет в себе ядро плоскости. Если обе силы при неизменяющихся условиях катят точку все дальше, то возникающая кривая рано или поздно снова достигнет своей исходной точки. Начало и конец сливаются друг с другом и в тот же самый момент бесследно исчезают. Таким образом, возникает самая нестабильная и одновременно самая стабильная плоскость – круг (рис. 36).
Рис. 36. Возникновение круга
Рис. 37. Возникновение спирали[158]
Противоположность по отношению к плоскости
Прямая линия наряду с другими своими свойствами в конце концов несет в себе и глубоко спрятанное желание произвести на свет плоскость: превратиться в компактное, более замкнутое в себе существо. Прямая линия в состоянии сделать это, ей, в отличие от кривой линии, создающей плоскость с помощью двух сил, для образования плоскости потребуется три толчка. Отличие от предыдущего случая заключается в том, что на этой новой плоскости начало и конец не смогут исчезнуть бесследно, но окажутся зафиксированными в трех местах. С одной стороны, полное отсутствие прямых и угловых линий, а с другой – три прямых линии и три угла. Это – отличительные черты двух первичных противоположных друг другу плоскостей. Так эти две плоскости противостоят друг другу как изначально противоположная плоскостная пара (рис. 38).
Рис. 38. Изначально противоположная плоскостная пара
Три пары элементов
Здесь мы логическим путем приходим к утверждению взаимосвязи трех практически сливающихся, а теоретически разделяемых элементов живописи: линии – плоскости – цвета.
Три изначально противоположные пары элементов.
Другие искусства
Эта абстрактная закономерность, принадлежащая одному искусству и постоянно находящая в нем более или менее осознанное применение, которое приходится сравнивать с закономерностями в природе, в обоих случаях – как в искусстве, так и в природе – дает внутреннему миру человека совершенно особое удовлетворение. Эта абстрактная закономерность в сущности свойственна и другим искусствам. В скульптуре и архитектуре[159] элементы пространства, в музыке элементы звука, в танце движение, в поэзии слово[160], требуют и похожего высвобождения и похожего сопоставления своих внешних и внутренних свойств, которые я называю звуками.
Составленные здесь таблицы должны быть в предложенном мною смысле подвергнуты более точной проверке, возможно, что эти отдельные таблицы приведут в конечном итоге к созданию единой синтетической таблицы.
Продиктованное чувством утверждение, которое в интуитивных переживаниях первоначально достаточно крепко пускает корни, делает первые шаги на этом заманчивом пути. Краха, к которому могла бы легко привести эмоция сама по себе, можно избежать только с помощью точной аналитической работы. Правильный метод[161] удержит нас от ложного пути.
Словарь
Успехи, вызванные систематической работой, вдохнут жизнь в словарь элементов, который в дальнейшем мог бы привести к созданию «грамматики» и в конце концов вывести нас к учению о композиции, которое перешагивает границы отдельных искусств и занимается «искусством» в целом[162].
Словарь живого языка – это не окаменелость, так как он непрерывно меняется: слова исчезают, умирают, возникают, заново рождаются на свет, переносятся через границы из «чужбины» домой. Однако грамматика в искусстве даже сегодня почему-то кажется слишком опасной.
Плоскости
Чем больше переменные силы участвуют в создании точки, чем различнее направления и длина отдельных звеньев ломаных линий, тем более сложными окажутся образуемые плоскости. Вариации бесконечны (рис. 39).
Рис. 39
Рисунок 39 приводится здесь для пояснения разницы между ломаными и кривыми линиями. Неисчерпаемые вариации плоскостей, которые обязаны своим возникновением кривым линиям, никогда не потеряют даже очень отдаленного родства с кругом, чье напряжение они в себе несут (рис. 40).
Рис. 40
Некоторые возможные вариации кривых линий будут еще упомянуты.
Волнообразная линия
II 2. Сложная кривая, или волнообразная линия может состоять:
1. из геометрических частей круга, или
2. из свободных частей, или
3. из различных комбинаций тех и других.
Эти три вида обеспечивают все формы кривых линий. Некоторые примеры должны подтвердить эти правила.
Геометрическая волнообразная кривая линия: Равный по величине радиус – равномерное чередование позитивного и негативного давления. Горизонтальное движение с усилением и ослаблением напряжений (рис. 41).
Свободно-волнообразная кривая линия:
Рис. 41
Сдвиг верхней части с тем же самым горизонтальным расширением:
1. геометричность утрачивается,
2. неравномерное чередование позитивного и негативного давления, причем первое получает большее преимущество над вторым (рис. 42).
Рис. 42
Свободно-волнообразная кривая линия: Сдвиг увеличивается. Особенно темпераментная борьба между двумя силами. Значительное повышение позитивного давления (рис. 43).
Рис. 43
Свободно-волнообразная кривая линия: Вариации последней:
1. кульминационный пункт сдвинут влево – уклонение от энергичного натиска негативного давления,
2. акцентирование высоты благодаря утолщению линии – энергии (рис. 44).
Рис. 44
Свободно-волнообразная кривая линия: После первого подъема влево – немедленное решительное широкое напряжение сверху справа. Кругообразное ослабление напряжения слева. Четыре волны энергично подчиняют направление слева вниз и справа вверх[163] (рис. 45).
Рис. 45
Геометрическая волнообразная кривая линия:
Верхней геометрической волнообразной линии (рис. 41) противостоит правильный подъем с умеренным отклонением справа налево. Внезапное ослабление волн приводит к повышению напряжения в вертикалях. Радиус снизу вверх – 4, 4, 4, 2, 1 (рис. 46).
Рис. 46
В приведенных примерах двойственность обстоятельств приводит к следующим результатам:
Последствия
1. к комбинации активных и пассивных давлений,
2. к участию звука направлений.
К этим двум факторам звучания может присоединиться
3. сама энергия линии.
Энергия
Эта энергия линий является постепенным или спонтанным возрастанием или убыванием силы. Простой пример делает подробные объяснения излишними:
Рис. 47. Геометрическая кривая линия в состоянии подъема
Рис. 48. Та же самая линия с постепенным уменьшением энергии, благодаря чему усиливается напряжение подъема
Рис. 49. Спонтанная энергия свободной кривой линии
Линия и плоскость
Утолщение линии, особенно короткой прямой, происходит в связи с постепенным увеличением размера точки, но даже здесь вопрос «когда линия как таковая умирает и в какой момент рождается плоскость?» остается без точного ответа. Как можно ответить на вопрос «когда кончается река и начинается море»?
Границы неотчетливы и подвижны. Здесь, так же как в случае с точкой, все зависит от пропорций – абсолютное является резонансом относительного в своем неотчетливо-смягченном звучании. На практике нахождение на границы (An-die-Grenze-Gehen) выразить намного проще, чем объяснить чисто теоретически[164]. Это нахождение на границы располагает возможностью сильной экспрессии и является мощным выразительным средством (в конечном счете – элементом) композиции.
Это средство в случае резкой сухости главных элементов композиции создает некую вибрацию этих элементов, вносит определенное ослабление в жесткую атмосферу целого. Но его безмерное использование может привести к почти отталкивающему гурманству. В любом случае, здесь мы полностью зависим от чувства.
Общепринятое деление на линию и плоскость пока невозможно, это – факт, который, если он не определяется природой данного искусства[165], связан, быть может, с еще мало продвинутым в своем развитии и на сегодняшний день эмбриональным состоянием живописи.
Внешние границы
Особым фактором звучания линии являются ее внешние края отчасти созданные с помощью уже упоминавшегося давления. В этих случаях оба края линии могут быть расценены как две внешне самостоятельные линии, что имеет скорее теоретическое, чем практическое значение.
Вопрос внешнего вида линии напоминает нам аналогичный вопрос внешнего вида точки.
Гладкий, зубчатый, раздробленный, округлый – свойства, вызывающие в нашем представлении определенные ощущения, поэтому внешние границы линии должны быть с практической точки зрения оценены по достоинству. Возможности комбинаций в передаче ощущения, вызываемого линиями, более разнообразны, чем у точки, например: гладкие края зубчатой линии, зубчатые края гладких, раздробленных линий, зубчатые, раздробленные края округлых линий и т. д. Все эти свойства применяются и в трех типах линий – прямой, ломаной, кривой – и, исходя из этого, каждая из них может быть трактована по-разному.
Комбинированные линии
III. Третий, и последний, вид линий является результатом комбинации двух первых, и поэтому линия этого вида должны быть названа комбинированной. Свойства отдельных звеньев этих линий определяют и их особый характер:
1. они имеют геометрически-комбинированный характер, если составляющие их части являются исключительно геометрическими;
2. они имеют смешанно-комбинированный характер, если к геометрическим частям присоединяются свободные, и
3. они имеют свободно-комбинированный характер, если состоят только из частей свободных линий.
Сила
Независимо от разницы характеров, которые определяются внутренними напряжениями, независимо от процесса возникновения, первоисточник каждой линии остается неизменным, им является сила.
Композиция
Воздействие силы на данный материал своим напряжением придает жизнь этому материалу. Напряжения со своей стороны дают возможность выразиться внутреннему миру элемента. Элемент является реальным результатом работы силы над материалом. Линия – это самый ясный и простой случай выражения формы, которая действует каждый раз четко закономерно и поэтому допускает и требует четко закономерного применения. Таким образом, композиция – это не что иное, как четко закономерная организация живых сил, которые заключены в элементах в виде напряжений.
Число
В конце концов, каждая сила может быть выражена числом, что называется числовым выражением. Сегодня в искусстве этот принцип остается в большей степени лишь теоретическим утверждением, которое все же желательно не упускать из виду: на сегодняшний день у нас еще нет возможности измерения, в действительности же такая возможность, несмотря на утопичность этого, когда-нибудь, рано или поздно, может быть найдена. С этого момента каждая композиция сможет получить свое числовое выражение, хотя это утверждение действительно пока только по отношению к своему «чертежу» и к своим большим комплексам. В дальнейшем, а это дело терпения, будет достигнуто расчленение больших комплексов на все более мелкие, второстепенные. Только после овладения числовым выражением станет возможным появление точного учения о композиции, у начала которого мы сейчас находимся. Простейшие соотношения, связанные с их числовым выражением, применялись уже несколько тысяч лет тому назад в архитектуре, музыке, отчасти в поэзии (например, в храме Соломона), в то время как сложные соотношения не находили числового выражения. Очень заманчиво оперировать простейшими числовыми соотношениями, что по праву соответствует сегодняшним тенденциям в искусстве. Но после того, как эта ступень преодолена, усложнение числовых выражений покажется таким же заманчивым (или, может быть, еще более заманчивым) и найдет свое применение[166].
Интерес к числовому выражению проявляется в двух направлениях – теоретическом и практическом. В первом большую роль играет закономерность, во втором – целесообразность. Закон здесь будет подчинен цели, благодаря которой произведение достигнет своего высшего качества – естественности.
Линейные комплексы
До сих пор отдельные линии классифицировались и проверялись по их качествам. Различные виды применения некоторых линий, вид их противоположного действия, подчинение отдельных линий линейным группам или линейным комплексам – все это относится к вопросу о композиции и выходит за пределы моих нынешних намерений. Тем не менее необходимы все же некоторые характерные примеры, на основе которых можно объяснить природу отдельных линий. Здесь показаны некоторые сопоставления, но не в полной мере, а исключительно в качестве указания путей к более сложным образованиям.
Некоторые простые примеры ритма:
Рис. 50. Повторение прямых линий переменной тяжести
Рис. 51. Повторение ломаных линий
Рис. 52. Встречное повторение ломаных линий, образование плоскости
Рис. 53. Повторение кривых линий
Рис. 54. Встречное повторение кривых линий, повторное образование плоскостей
Рис. 55. Центрально-ритмическое повторение прямых линий
Рис. 56. Центрально-ритмическое повторение кривых линий
Рис. 57. Повторение выделенной кривой линии линией, ее сопровождающей
Рис. 58. Противоположное повторение кривых линий
Повторение
Простейший случай – это точное повторение прямой линии с одинаковыми интервалами – примитивный ритм (рис. 59)
Рис. 59
или с возрастающими интервалами (рис. 60)
Рис. 60
или с нерегулярными интервалами (рис. 61).
Рис. 61
Первый вид повторений представляет собой повторение, которое ставит своей целью, в первую очередь, количественное усиление, как, например, это делается в музыке, где звучание одной скрипки усиливается звучанием многих других.
Во втором виде повторений наряду с количественным усилением начинает действовать сопровождающее звучание качественного, что встречается в музыке как повторение тех же самых тактов после долгого перерыва или при повторениях в «piano», что качественно преобразовывает музыкальную фразу[167].
Самым сложным является третий вид повторений, где применяется более сложный ритм (рис. 62).
При наличии ломаных, и особенно кривых, линий возможны значительно более сложные комбинации.
В обоих случаях (рис. 63 и рис. 64) мы имеем как количественное, так и качественное повышение, которое все же несет в себе нечто мягкое и бархатистое, что, в свою очередь, определяет преобладание лирического звучания над драматическим. В противоположном случае такой вид передвижения недостаточен: противопоставление не может развить полного звучания.
Рис. 62. Противоположное сопоставление кривой и ломаной линий. Свойства обеих линий усиливают общее звучание
Рис. 63. Кривые линии, сопровождающие друг друга
Рис. 64. Расходящиеся врозь друг от друга кривые линии
Такие, собственно говоря, достаточно автономные комплексы могут быть, конечно, в дальнейшем подчинены большим, при этом даже эти большие комплексы составят лишь часть целой композиции приблизительно так, как наша солнечная система остается лишь точкой в космическом целом.
Композиция
Общегармоническое в композиции может состоять из нескольких в высшей степени противоположных комплексов. Эти противоположности могут иметь даже дисгармонический характер, но несмотря на это при верном применении их действие на общую гармонию будет не негативно, а позитивно, и произведение возвысится до гармоничного совершенства.
Время
Элемент времени вообще-то гораздо больше различим в линии, чем в точке – длина является обозначением времени. С другой стороны, движение прямой линии при обозначении времени отличается от движения кривой, даже когда их длина одинакова, и чем подвижнее кривая, тем продолжительнее она по времени. Итак, возможности использования времени в линии очень разнообразны. Использование элемента времени в горизонтальной и вертикальной линиях даже при их равной длине имеет разную внутреннюю окраску, и фактически возможно вести речь о разной длине этих линий, что, по крайней мере, было бы объяснимо с психологической точки зрения. Следовательно, нельзя недооценивать значения временного элемента в чисто линейной композиции, и в учении о композиции он должен быть подвергнут тщательной проверке.
Другие искусства
Линия, так же как и точка, помимо живописи, используется и в других искусствах. Ее сущность находит большую или меньшую аналогию в средствах других искусств.
Музыка
Известно, что из себя представляет линия в музыке (см. рис. 11)[168]. Большинство музыкальных инструментов имеют линейный характер. Высота звучания различных инструментов соответствует ширине линии: очень тонкая линия у скрипки, флейты, флейты-пикколо и более толстая – у альта, кларнета, и еще более широкой добиваются низкие инструменты, до самых низких звуков контрабаса и тубы.
Линия в музыке создается не только своей шириной, но и цветом в зависимости от разнообразной окраски звучания различных инструментов.
Орган является столь же типичным линейным инструментом, как рояль – инструментом точечным.
Можно утверждать, что линия дает музыке наибольший запас выразительных средств. Относительно времени и пространства здесь она действует точно так же, как и в живописи[169]. Как время и пространство соотносятся между собой в обоих искусствах, являются самостоятельным вопросом, который, возможно, отпугивал своей сложностью, и поэтому понятия время – пространство, пространство – время стали слишком обособленными друг от друга.
Степень силы от Pianissimo до Fortissimo находит аналогию в прибавляющейся или убавляющейся резкости линии, иначе говоря, в степени ее яркости. Давление руки на смычок полностью соответствует давлению руки на карандаш.
Особенно интересно и показательно, что сегодня обычное музыкально-графическое изображение – нота – является не чем другим, как различной комбинацией точки и линии. Причем на долготу звучания указывает исключительно цвет точки (правда, лишь белый или черный, что ограничивает средства выражения) и число штилей (линий). Высота звука также выражена линейно – для этого используются пять горизонтальных линий, образующих нотный стан. Поучительны исчерпывающая краткость средств перевода и их простота, способствующая восприятию опытным глазом (косвенно – ухом) музыкальных явлений на понятном языке. Оба эти свойства очень заманчивы для других искусств, становится ясно, что живопись или танец находятся в поиске собственных «нот». Но здесь есть только один путь – аналитическое деление на основные элементы, чтобы, наконец, достигнуть собственного графического выражения[170].
Танец
В танце все тело, а в новом танце и каждый палец чертит линии с особой выразительностью. «Современный» танцор двигается по сцене, придерживаясь точных линий, которые композиционно являются существенным элементом его танца (Сахаров). Помимо этого, все тело танцора до кончиков пальцев каждый момент остается непрерывной линейной композицией (Палукка). Использование линий – это, пожалуй, новое достижение, но, разумеется, не изобретение современного танца: за исключением классического балета, все народы на каждой ступени своего «развития» в танце работают с линией.
Скульптура. Архитектура
Что касается роли и значения линии в скульптуре и архитектуре, то здесь не нужно искать особых доказательств – построение в пространстве является в то же самое время и линейным построением.
Чрезвычайно важной задачей искусствоведческого исследования стал бы анализ истории существования линии в архитектуре, по крайней мере на основе типичных произведений различных народов и эпох, и связанный с ним чисто графический перевод этих произведений. Философским основанием в этой работе было бы установление соотношений между графическими формулами и духовной атмосферой данного времени. Заключительной главой на сегодняшний день явилось бы логически необходимое разграничение горизонтально-вертикального и завоевания окружающего воздушного пространства с помощью выступающих вверх частей здания. Современный, надежный строительный материал и строительная техника предоставляют большие и надежные возможности для этого. Этот строительный принцип, исходя из моей терминологии, должен быть обозначен как холодно-теплый или тепло-холодный в зависимости от ударения, поставленного над горизонталью или над вертикалью. По этому принципу за короткое время были созданы некоторые значительные произведения. В различных странах они продолжают возникать и теперь (в Германии, Франции, Голландии, России, Америке и т. д.).
Поэзия
Ритмическая форма стихотворения находит свое выражение в прямой и кривой линиях, при этом графически точно обозначено закономерное чередование – стихотворный размер. Кроме этого ритмического измерения длины, являющегося точным, стихотворение при исполнении развивает определенную музыкально-мелодическую линию, которая отражает возрастание и падение, напряжение и расслабление переменной малоустойчивой формы. Эта линия в основе своей закономерна, так как связана с литературным содержанием стихотворения – напряжение и расслабление говорят здесь о природе содержания. Изменение закономерной линии зависит (и с большой свободой) от исполнения в той же мере, как в музыке изменения силы звучания (forte и piano) зависят от исполнителя. Эта неточность музыкально-мелодической линии в «литературном» стихотворении не столь опасна. Но она может быть роковой в абстрактном стихотворении, так как здесь линия представляет собой показатель высоты и является существенным и определяющим элементом. Для такого вида поэзии должна быть найдена своя нотная система, которая так же точно будет указывать высоту линии, как это происходит в нотной системе музыки. Вопрос возможности и границ абстрактной поэзии очень сложен. Здесь нужно упомянуть, что абстрактное искусство должно учитывать более точную форму, чем предметное, и что вопрос формы в первом случае является существенным, а во втором случае иногда становится второстепенным. Это самое различие я пояснял по отношению к точке. Как уже говорилось, точка – это молчание.
Техника
В смежной области искусства – в инженерном искусстве и в близко связанной с ней технике – линия приобретает все большее значение (рис. 65 и 66).
Рис. 65. Схема парусного рыболовного судна. Линейная конструкция для передвижения (корабельный корпус и такелаж)
Рис. 66. Модель моторного такелажного корабля
Рис. 67. В физике график кривой переменного тока (von Felix Auerbach, Verlag Teubner)
Рис. 68. Радиобашня, вид снизу (фотография Л. Мохоли-Надь)
Рис. 69. Лес из столбов
Насколько я знаю, Эйфелева башня в Париже – первая и самая значительная попытка построить из линий особенно высокое здание, в котором линии вытесняют плоскость[171].
Соединение и винты в этой линейной конструкции являются точками. Это – линейно-точечная конструкция, но не на плоскости, а в пространстве (рис. 68)[172].
Конструктивизм
«Конструктивистские» произведения последних лет по большей части и особенно в их начальной форме являются «чистыми», или абстрактными, конструкциями в пространстве, не предполагающими практически-целевого применения, что отличает эти произведения от инженерного искусства и заставляет нас отнести их все же к области «чистого» искусства. В этих произведениях активное использование и сильное выделение линии точечными узлами особенно бросается в глаза (рис. 70).
Рис. 70. Экспозиция выставки конструктивистов в Москве 1921 г.
Природа
Примеров существования линии в природе чрезвычайно много. Эта тема, достойная специального исследования, могла бы быть под силу только синтетически мыслящему исследователю природы. Для художника было бы особенно важно увидеть, как самостоятельное царство природы использует основные элементы: какие элементы подлежат рассмотрению, какими свойствами они обладают и каким образом формируют строение. Природные законы композиции не дают художнику возможности внешнего подражания, в чем он нередко видит главную цель, но открывают возможность противопоставления этих самых законов законам искусства. В этих столь важных для абстрактного искусства вопросах мы уже сегодня открываем закон сопоставления и противопоставления, что лежит в основе двух принципов – принципа параллели и принципа контраста, как это показано при сопоставлении линий. Таким образом, обособленные и живущие самостоятельно законы обеих великих империй – искусства и природы – приведут, в конце концов, к пониманию общего закона мировой композиции и разъяснят их самостоятельное участие в более высокой синтетической системе – внешнего + внутреннего.
Сегодня эта позиция оказалась достигнутой лишь в абстрактном искусстве, которое осознало свои права и обязанности и больше не опирается на внешнюю оболочку природных явлений. Нельзя возражать, что эта внешняя оболочка в «предметном» искусстве подчинена внутренним целям, но остается невозможным вложить весь без остатка внутренний мир одной империи во внешний мир другой.
Рис. 71. «Трихиты» – волосообразные кристаллы. «Модель кристалла» (Dr. О. Lehmann. Die neue Weltd. Flüssigen Kristalle. Leipzig, 1911. S. 54/69)
Линия в природе существует в бесконечных проявлениях: в минеральном, растительном, животном мире. Структура кристалла (рис. 71) – чисто линейное образование (к примеру, в плоскостной форме кристалла льда).
Рис. 72. Схема расположения листьев (последовательность прикрепления листьев к ветке) «Основная спираль» («Kultur der Gegenwart», Т. III. Abtlg. IV, 2)
Рис. 73. Движения вибрирующих плавучих растений семейства «жгутиковых» («Kultur der Gegenwart», Т. III. Abtlg. IV, 3, S. 165)
Растение в итоге своего развития от семени до корня (вниз)[173], до завязывающегося стебля (вверх) проходит путь от точки к линии (рис. 73), и это в дальнейшем приводит к образованию сложнейших линейных комплексов, самостоятельных линейных конструкций, например, как у прожилок листа или как у эксцентрической конструкции хвойного дерева (рис. 74).
Рис. 74. Цветение клематиса (фотография Катт Бот, Баухауз)
Структура линий веток образуется всегда на основе одного и того же принципа, обнаруживая при этом самые различные органические формирования (например, уже смотря по этим видам – ель, смоковница, финиковая пальма или запутанные комплексы лиан и различные другие змееобразные растения). Некоторые комплексы ясного, точного, геометрического вида живо напоминают геометрические конструкции, как, например, удивительное строение паутины, которая создается в животном мире. Другие конструкции, напротив, имеют «свободный» характер, образуются из свободных линий.
Геометрические и гибкие строения
При этом в гибком строении не выявлена точно-геометрическая конструкция. Хотя, конечно, прочное и точное не исключается, но перерабатывается другим образом (рис. 76). Так же и в абстрактной живописи имеются оба вида конструкций[174].
Рис. 75. Линейное образование молнии
Рис. 76. Гибкая структура соединительной ткани крысы. («Kultur der Gegenwart», Т. III. Abtlg IV. S. 75)
Это родство, можно сказать «идентичность», тяжеловесный пример отношений между законами природы и искусства. Из подобных случаев не нужно делать неправильных выводов: различие между искусством и природой – не в основных законах, а в материале, который подчинен этим законам. В обоих случаях основные свойства различных материалов нельзя оставить без внимания: известный сегодня проэлемент природы – клетка – находится в постоянном, реальном движении, а проэлемент живописи – точка – напротив, не знает движения, находясь в покое.
Тематические построения
Скелеты различных животных в своем развитии до наивысшей известной сегодня формы – скелета человека – представляют собой различные линейные конструкции. Их вариации в полной мере «красивы» и каждый раз поражают своим разнообразием. Самое удивительное при этом – тот факт, что эти скачки от жирафа к кроту, от человека к рыбе, от слона к мыши являются не чем иным, как вариациями одной и той же темы, и что бесконечные возможности исходят исключительно из одного принципа – концентрического строения. Созидающая сила придерживается здесь определенных законов природы, исключающих эксцентричность. Такого рода законы природы не являются определяющими для искусства, и путь эксцентричности для него остается в полной мере свободным и открытым.
Искусство и природа
Палец руки растет точно так же, как должна расти ветка сука – из центра по принципу всеобщего развития (рис. 77). В живописи линия может быть расположена «свободно», без внешнего подчинения общему, без внешней связи с центром – подчинение здесь внутреннее. И этот простой факт нельзя недооценивать при анализе отношений между искусством и природой[175].
Рис. 77. Схема конечности позвоночного животного. Окончание центральной конструкции
Основное различие – это цель или, точнее говоря, средство к цели, а цель должна, в конце концов, быть как в искусстве, так и в природе той же самой по отношению к человеку. В любом случае ни там, ни здесь не целесообразно хранить скорлупу от ореха.
Что касается средства, то искусство и природа по отношению к человеку движутся по разным дорогам, далеко удаленным друг от друга, даже в том случае, если они и стремятся к одному пункту. В этом различии должна царить полная ясность.
Каждый вид линии ищет подходящие ей внешние средства выражения, способные по мере надобности осуществить нужную форму – и притом так, чтобы на общеэкономической основе минимальное усилие приводило бы к максимальному результату.
Графика
Свойства материала «графики», обсуждавшиеся в разделе о точке, в той же мере относятся и к линии, которая является первым естественным следствием точки: легкое воспроизведение линии в офорте (особенно в цинкографическом клише) при глубокой ее укладке, тщательная, сложная работа над ней в ксилографии, легкое расположение ее на плоскости в литографии.
Интересно сделать некоторые наблюдения по отношению к этим трем графическим техникам и степени их популярности. Их последовательность такова:
1. в ксилографии – легкое достижение плоскости,
2. в офорте – точки, линии,
3. литографии – точки, линии, плоскости.
Приблизительно так же распределяется художественный интерес к этим элементам и соответствующим методам.
Ксилография
1. После продолжительного по времени интереса к живописи кистью (Pinselmalerei) и связанной с этим недооценки, а во многих случаях явным пренебрежением к средствам печатной графики, внезапно пробудилось уважение к забытой (в частности, немецкой) ксилографии. Первоначально ксилография как низший вид искусства использовалась между делом, до тех пор пока не получила широкого распространения и, в конце концов, не создала особый тип немецкого художника-графика. Если не принимать во внимание других причин, то этот факт внутренне связан с проблемой плоскости, которая к тому времени стала чрезвычайно актуальной, это – время плоскости в искусстве или искусство плоскости. Плоскость, бывшая одним из главных выразительных средств живописи того времени, вскоре завоевала и скульптуру, сделала ее плоскостной. Сегодня ясно, что образовавшийся около 30 лет назад этап в развитии живописи, и почти в то же самое время в скульптуре, дал непроизвольный импульс началу этого процесса в архитектуре. Отсюда уже упоминавшееся «внезапное» пробуждение строительного искусства[176].
Линия в живописи
Само собой разумеется, что живопись должна была вновь обратиться к своему главному средству – линии. Это произошло (и все еще происходит) в виде обычного развития выразительных средств, спокойно происходящей эволюции, которая сначала была воспринята как революция, а многими теоретиками искусства и продолжает восприниматься так еще и сегодня, особенно это касается применения абстрактной линии в живописи. Теоретики, если они вообще признают абстрактное искусство, считают применение линии в графике благоприятным, а применение линии в живописи противоречащим ее природе и потому непозволительным. Этот случай характерен как очевидный пример путаницы обозначений: то, что так легко отделяется друг от друга и должно быть разделено, смешивается друг с другом (искусство, природа), и наоборот, что неотделимо друг от друга (в этом случае живопись и графика) – старательно разделяется. Линия расценивается здесь как элемент графики, поэтому не может быть применена в живописи. При этом принципиального различия между «графикой» и «живописью» этими теоретиками искусства до сих пор не найдено и поэтому не может быть установлено.
Офорт
2. Чтобы произвести плотно лежащую в материале и особенно тонкую линию, было необходимо помимо других используемых техник применить точнейший офорт. Так он оказался извлеченным из запасного ящика. А начавшиеся поиски элементарных форм должны были обязательно привести к появлению тончайшей линии, которая с абстрактной точки зрения обладала бы абсолютным звучанием.
С другой стороны, следствием той же самой тенденции к первичности является необоснованное использование лишь половины общей формы и исключение другой половины[177]. Особенно в офорте, имеющем трудности в применении цвета, эти ограничения чисто «рисовальной» формой кажутся наиболее естественными, поэтому офорт и является специфически черно-белой техникой.
Литография
3. Литография как последняя по времени открытия графическая техника олицетворяет на практике наивысшую гибкость и эластичность.
Особая быстрота воспроизведения, связанная с почти несокрушимой прочностью пластины, в полной мере соответствует «духу нашего времени». Точка, линия, плоскость, получение черно-белой полихромии – все это достигается с предельнейшей экономией. Податливость в обработке литографского камня, т. е. легкое наложение краски любыми инструментами и почти неограниченные возможности совершенствования – особенно в исправлении ошибочных мест, что невозможно ни в ксилографии, ни в офорте и благодаря чему подобная легкость исполнения, без точно разработанного заранее плана (например, при эксперименте), в высшей степени соответствует сегодняшней не только внешней, но и внутренней необходимости. Одной из задач этого сочинения является задача путем упорного поиска начальных элементов наконец найти и определить особые свойства точки. Литография и здесь предоставляет для этого свой богатый материал[178].
Точка – покой, линия – внутренне движимое напряжение, возникающее в результате движения. Оба эти элемента своим скрещиванием и сопоставлением образуют собственный «язык», который нельзя понять с помощью слов. Исключение всего того, что затемняет и заглушает звучание этого языка, дает наивысшую сдержанность и точность его живописному выражению и предоставляет чистую форму живому содержанию.
Основная плоскость
Понятие
Под понятием «основная плоскость» подразумевается материальная плоскость, призванная вместить содержание произведения.
Здесь она будет обозначена сокращением ОП.
Схематическая ОП ограничена двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, в результате чего она в пределах своего окружения выступает как самостоятельное существо.
Линейные пары
После того как была дана характеристика вертикалям и горизонталям, должно само по себе стать ясным основное звучание ОП: два элемента холодного спокойствия и два элемента теплого спокойствия являются двойными звуками покоя, которые и определяют объективно спокойное звучание ОП.
Преобладание одной из пар, т. е. преобладание ширины или высоты ОП, обусловливает и преобладание объективного звучания холода или тепла. Таким образом, отдельные элементы с самого начала вводятся в более теплую или более холодную атмосферу. Это состояние, несмотря на появление в дальнейшем большего числа противоположных элементов, невозможно устранить – факт, который не следует забывать. Само собой разумеется, что этот факт предоставляет огромные возможности в распоряжение композиции. Например, скопление активных, устремленных вверх напряжений на холодной ОП (горизонтального формата) будет всегда в большей или меньшей степени «драматизировать» эти напряжения, так как препятствия в данном случае имеют особую силу. Такие переходящие возможные границы препятствия могут даже приводить к неприятным, а иногда невыносимым ощущениям.
Квадрат
Самой объективной формой схематической ОП является квадрат – обе пары пограничных линий обладают одинаковой силой звучания. Тепло и холод относительно уравновешены.
Сочетание самой объективной ОП и одного-единственного элемента, также несущего в себе наивысшую объективность, в результате имеет холод, равносильный смерти, и может служить ее символом. Не случайно именно наше время предоставляет такие примеры.
Но «полностью» объективное сочетание «полностью» объективного элемента с «полностью» объективной ОП может быть воспринято лишь относительно. Абсолютная объективность недостижима.
Природа ОП
И это зависит не только от природы отдельных элементов, но и от природы ОП как таковой, что имеет неизмеримо важное значение и должно быть воспринято в качестве независимого от сил художника факта.
Но, с другой стороны, этот же факт является источником великих возможностей композиции – средством к цели.
А в основе этого лежат следующие простые свойства.
Звуки
Каждая схематическая ОП, которая производится с помощью двух горизонтальных и двух вертикальных линий, соответственно имеет четыре стороны. И каждая из этих четырех сторон развивает один только ей свойственный звук, выходящий за пределы теплого и холодного покоя. Таким образом, каждый раз к звуку теплого или холодного покоя присоединяется второй звук, неизменно и органично связанный с положением линий = границ.
Обе горизонтальные линии располагаются сверху и снизу.
Обе вертикальные линии располагаются справа и слева.
Верх и низ
То, что каждое существо находится и непременно должно оставаться в постоянной связи с верхом и низом, переносится и на ОП, которая сама как таковая является живым существом. Отчасти это может быть объяснено ассоциацией или переносом собственных наблюдений на ОП. Но надо полагать, что этот факт имеет более глубокие корни – живую сущность. Для человека, не имеющего отношения к искусству, это утверждение может звучать странно. Но каждый художник непременно, иногда даже неосознанно ощущает «дыхание» еще нетронутой ОП и более или менее сознательно чувствует ответственность перед этим существом, понимает, что легкомысленно жестокое обращение с ним несет в себе что-то от убийства. Художник «оплодотворяет» это существо и знает, как послушно и «осчастливленно» ОП принимает правильные элементы в правильном порядке. Этот хотя примитивный, но все же живой организм превращается благодаря правильному обращению в живой организм, который уже не является примитивным, а обнаруживает все качества развитого организма.
Верх
Верх вызывает ощущение большей расслабленности, чувство легкости, освобождения и, наконец, свободы. Из этих трех родственных друг другу свойств каждое дает одно, всегда по-своему окрашенное, созвучие.
«Расслабленность» отрицает плотность. Чем ближе к верхней границе ОП, тем более разрозненными кажутся отдельные мельчайшие плоскости.
«Легкость» еще больше усиливает это внутреннее качество – отдельные мельчайшие плоскости не только все дальше отдаляются друг от друга, но и сами теряют в весе, а из-за этого – еще больше и в способности «нести». Из-за этого каждая более тяжелая форма выигрывает в весе, находясь на этой верхней части ОП. Нота тяжести приобретает более сильное звучание.
«Свобода» производит впечатление легчайшего «движения»[179], здесь легко может быть инсценировано напряжение. Препятствие сокращено до минимума.
Низ
«Низ» действует прямо противоположно: сгущение, тяжесть, стесненность.
Чем ближе к нижним границам ОП, тем плотнее атмосфера; отдельные мельчайшие плоскости располагаются все ближе друг к другу, благодаря чему несут самые тяжелые и большие формы со все более возрастающей легкостью. Эти формы утрачивают вес, и нота тяжести ослабевает. «Подъем» затрудняется – формы кажутся с силой вырванными, почти слышен шорох трения. Стремление вверх и тормозящееся «падение» вниз. Свобода «движения» все более ограничивается. Торможение достигает максимума.
Эти свойства верхней и нижней горизонталей, вместе образующие наиболее контрастное двузвучие, могут быть усилены и с целью «драматизации», т. е. естественным путем через определенное скопление тяжелых форм снизу и легких сверху. Вследствие этого значительно повышается давление или напряжение по обоим направлениям.
И наоборот, эти свойства могут быть частично выравнены или, во всяком случае, ослаблены – само собой разумеется, благодаря применению противоположных средств: утяжеленным формам сверху, более легким снизу. В случае, если задано направление напряжений, напряжения могут быть направлены сверху вниз или снизу вверх. Таким образом, происходит относительное уравновешивание.
Схематически это может быть изображено следующим образом:
1. Случай – «драматизация»
2. Случай – «уравновешивание»
Вероятно, со временем действительно найдется возможность более или менее точного измерения. Во всяком случае, тогда использованная мною грубо упрощенная формула могла бы быть исправлена таким образом, чтобы относительное в «уравновешивании» стало очевидным. Но средства измерения, которыми мы располагаем, еще крайне примитивны. Сегодня с трудом можно себе представить, какое точное числовое выражение может иметь, например, вес едва заметной точки. Хотя бы уже потому, что понятие «вес» не соответствует материальному весу, а скорее является выражением внутренней силы или, как в нашем случае, внутреннего напряжения.
Правое и левое
Положение обеих вертикальных пограничных линий бывает правым и левым. Это – напряжения, внутреннее звучание которых определяет покой и которые связаны в нашем представлении с подъемом вверх.
Так, к двум различно окрашенным элементам холодного покоя присоединяются два элемента теплого покоя, которые уже в принципе не могут быть идентичны.
И здесь тотчас на первый план встает вопрос: какую сторону ОП нужно считать левой, а какую правой? Собственно говоря, правая сторона должна быть расположена напротив нашей левой стороны и наоборот – так, как это происходит у любого другого живого существа. Если бы это было на самом деле так, то мы легко могли бы перенести наши человеческие свойства на ОП и благодаря этому были бы в состоянии определить обе ее обсуждаемые стороны. У большинства людей правая сторона является наиболее развитой и поэтому наиболее свободной, а левая – более стесненной и скованной. Со сторонами ОП все происходит как раз наоборот.
Левое
Левая сторона ОП вызывает ощущение расслабленности, чувство легкости, освобождения и, наконец, свободы. Так, здесь полностью повторяется характеристика «верха». Главное различие заключается лишь в степени этих качеств. «Расслабленность» верха, безусловно, обнаруживает высшую степень ослабления. Слева элемент плотности больше, но разница с «низом» все же очень значительна. Легкость «левого» отличается от легкости «низа», причем по сравнению с «низом» вес «левого» намного меньше. Схоже выглядит и освобождение – «свобода» «слева» более скованна, чем «сверху».
Особенно важно, что степень этих трех качеств даже и «слева» изменяется именно так, что они поднимаются с середины по направлению к верху, а по направлению к низу звук их замирает. Можно сказать, что здесь «левое» заражается от «верха» и «низа», и это имеет особое значение для обоих углов, образующихся «слева», с одной стороны, с «верхом», а с другой стороны, с «низом».
На основании подобных фактов может быть легко проведена дальнейшая параллель с человеком – возрастающее освобождение снизу вверх, а точнее – по правой стороне.
Итак, можно предположить, что эта параллель в действительности – параллель между живыми существами двух видов и что ОП надо понимать и фактически с нею надо обращаться как с подобным существом. Но так как во время работы ОП полностью связана с художником и еще неотделима от него, то по отношению к нему она должна быть воспринята как вид отражения, при котором левая сторона является правой. И поэтому я буду придерживаться здесь принятого обозначения, т. е. буду обращаться с ОП не как с частью готового произведения, а только как с основой, на которой оно должно быть построено[180].
Правое
Как «левое» внутренне родственно «верху», так «правое» в какой-то мере является продолжением «низа» – продолжением с тем же самым ослаблением. Уплотнение, тяжесть, стесненность убывают, но несмотря на это напряжения наталкиваются на сопротивление, которое сильнее, плотнее и жестче сопротивления «левого».
Но, как и у «левого», это сопротивление делится на две части – с середины оно усиливается к низу и ослабляется по направлению к верху. Здесь устанавливается то же самое влияние на образующиеся углы, как это отмечалось и у «левого» – на верхний и нижний правые углы.
«Литературная» аналогия
С этими двумя сторонами ОП связано еще одно особое ощущение, которое можно объяснить уже упоминавшимися свойствами. У этого ощущения есть литературный оттенок, который позволяет увидеть глубоко идущие родственные связи между различными искусствами и который снова предчувствует глубоко лежащий общий корень всех искусств и, в конце концов, всех духовных областей. Это ощущение является результатом двух единственно возможных способов передвижения человека, которых, несмотря на разные комбинации, фактически только два.
Даль
Свободное, идущее изнутри движение «влево» является движением вдаль. Сюда человек уединяется от привычного окружения, освобождается от обременяющих его форм повседневности, тормозящих его движение в почти застывшей атмосфере, и вдыхает все больше и больше воздуха. Он пускается в «авантюру». Формы, направляющие свои напряжения влево, имеют поэтому что-то «авантюрное», а «движение» этих форм все больше выигрывает в интенсивности и быстроте.
Дом
Скованное движение «вправо», идущее внутрь, – движение домой. Это движение связано с определенной усталостью, его целью является достижение покоя. Чем ближе к правой стороне ОП, тем слабее и замедленнее движение. Таким образом, напряжения вправо направленных форм становятся все менее значительными, а возможность движения – все более ограниченной.
Если искать подходящее «литературное» выражение для «верха и низа», то мы ассоциативно сразу же придем к отношению между землей и небом.
В этом смысле четыре границы ОП могут быть представлены следующим образом:
Не следует эти отношения понимать буквально и думать, что они способны определить идею композиции. Их цель – аналитически представить внутренние напряжения ОП и эти напряжения довести до сознания, что, насколько мне известно, в столь ясной форме до сегодняшнего дня еще не было проделано, хотя и очевидно, что эти проблемы должны стать важной составной частью учения о композиции. Лишь мимоходом здесь следует отметить, что эти органические качества ОП в дальнейшем переносятся на пространство, причем пространство, обозначенное перед человеком, и пространство, обозначенное вокруг человека, несмотря на внутреннее родство обоих, обнаруживают все-таки некоторые различия. Но это отдельный разговор.
В любом случае при приближении к каждой из четырех пограничных сторон ОП ощущаются определенные силы сопротивления, которые окончательно разрушают единство ОП с окружающим ее миром. Поэтому приближенная к границе форма находится в сфере особого влияния, что имеет решающее значение для композиции. Силы сопротивления границ различаются лишь степенью сопротивления, что графически может быть изображено, например, следующим образом (рис. 77а).
Или это может быть переведено силами сопротивления в напряжения и графически выражено в смещении углов.
Рис. 77а. Силы сопротивления четырех сторон квадрата
Относительность
В начале этой главы квадрат был назван «самой объективной» формой ОП. Но дальнейший анализ ясно показал, что и в этом случае объективность может быть понята лишь относительно, что даже и здесь «абсолютное» недостижимо. Другими словами: полный «покой» является принадлежностью только точки, и до тех пор, пока она изолирована, так как тепло и покой воспринимаются через цвет. Изолированная горизонталь или вертикаль располагают так называемым окрашенным покоем. Таким образом, и квадрат нельзя обозначить как форму, не имеющую цвета[181].
Рис. 78. Внешнее выражение квадрата, 4 угла, каждый из которых в 90°
Рис. 79. Внутреннее выражение квадрата, например, с углами 60°, 80°, 90°, 130°
Покой
Среди плоскостных форм чаще всего круг имеет склонность к обесцвеченному покою, потому что он является результатом двух постоянных равномерно действующих сил и не испытывает насилия углов. Точка в центре круга – это полнейший покой уже больше не изолированной точки.
Как уже упоминалось, ОП принципиально может предоставить лишь две типичных возможности соотношения с элементами:
1. элементы более или менее материально связаны с ОП, что особенно усиливает ее звучание, или
2. они так слабо связаны с ОП, что она совсем не созвучна им, можно даже сказать, что она почти исчезает, а элементы «парят» в пространстве, не имеющем точных границ (главным образом, в глубине).
Разбор этих двух случаев касается учения о конструкции и композиции. В особенности второй случай – «уничтожение ОП» – можно ясно объяснить лишь в связи с внутренними свойствами отдельных элементов: движение элементов форм в глубину (от зрителя) и движение вперед (к зрителю) растягивают ОП, как гармошку, в обоих направлениях. Этой силой в большой степени обладают элементы цвета[182].
Форматы
Если через квадратную ОП провести диагональ, то эта диагональ будет проходить к горизонтали под углом в 45°. При переходе квадратной ОП в другие четырехугольные плоскости этот угол будет увеличиваться или уменьшаться. Диагональ приобретет возрастающую склонность к вертикали или горизонтали. Поэтому ее можно истолковать как определенный показатель напряжения (рис. 80).
Таким образом, возникают так называемые вертикальные и горизонтальные форматы, которые в предметной живописи чаще всего носят чисто натуралистический характер и никак не затрагиваются внутренним напряжением. Уже в школах живописи с вертикальным форматом знакомят как с форматом, более пригодным для изображения головы, а с горизонтальным – для изображения пейзажа[183]. Особенно эти названия прижились в Париже, а затем уже, видимо, были перенесены в Германию.
Рис. 80. Диагональная ось
Абстрактное искусство
Сразу ясно, что малейшее отклонение диагоналей или показателя напряжения от вертикали или горизонтали в композиционном и особенно абстрактном искусстве является решающим. Все напряжения отдельных форм на ОП получают каждый раз иное направление и, естественно, иную окраску. Так, при неправильном выборе плоскости формата благоприятный порядок может превратиться в отталкивающий беспорядок.
Построение
Естественно, под «порядком» я понимаю не только математическое «гармоническое построение», в котором все элементы расположены в строго определенном направлении, но и построение по принципу противоположности. Например, элементы, устремленные вверх, могут быть «драматизированы» с помощью вытянутого формата, когда они вводятся в препятствующую их движению среду. И это может быть указателем пути в учении о композиции.
Дальнейшее напряжение
Точка пересечения обеих диагоналей определяет центр ОП. Проведенная через этот центр горизонталь и последующая вертикаль делят ОП на четыре первичные части, каждая из которых имеет свое специфическое лицо. Все они соприкасаются своими вершинами в «равнодушном» центре, от которого по направлению диагоналей исходят напряжения (рис. 81).
Цифры 1, 2, 3, 4 – силы сопротивления границ, а, b, c, d – обозначения четырех первоначальных частей.
Рис. 81. Идущие из центра напряжения
Противоположности
Эта схема осуществляет следующую последовательность:
часть а – напряжение по направлению 1, 2 = ослабленному сочетанию,
часть d – напряжение по направлению 3, 4 = наибольшему сопротивлению.
Таким образом, части a и d расположены в отношении друг друга по принципу наибольшей противоположности.
Часть b – напряжение по направлению 1, 3 = умеренному сопротивлению верха,
часть c – напряжение по направлению 2, 4 = умеренному сопротивлению низа.
Таким образом, части b и с расположены по отношению друг к другу по принципу умеренной противоположности, и их родство легко бросается в глаза.
При комбинации сил сопротивления границ плоскости получается схема тяжести (рис. 82).
Сопоставление обоих фактов отвечает на вопрос, какая из диагоналей – bc или ad – должна быть названа «самой гармоничной», а какая «дисгармоничной» (рис. 83)[184].
Рис. 82. Распределение тяжести
Рис. 83. «Гармоничная» диагональ
Рис. 84. «Дисгармоничная» диагональ
Тяжесть
Треугольник abc лежит на нижнем треугольнике cbd гораздо легче, чем треугольник abd, который оказывает определенное давление и грузно тяготеет над нижним треугольником acd. Это давление сконцентрировано на точке d, по-видимому, из-за этого диагональ приобретает стремление к отклонению от точки «а» вверх, а затем и смещается из центра. По сравнению со спокойным напряжением cb напряжение da имеет более сложную природу – к чисто диагональному направлению присоединяется отклонение вверх. Так, обе диагонали могут быть обозначены и по-другому:
cd – «лирическое» напряжение,
da – «драматическое» напряжение.
Содержание
Эти обозначения, разумеется, нужно понимать только как стрелки, указывающие направления к внутреннему содержанию. Это есть мосты от внешнего к внутреннему[185].
Во всяком случае, еще раз можно повторить – каждое место ОП индивидуально с лишь ему присущим голосом и внутренней окраской.
Метод
Применяемый здесь анализ ОП является примером принципиального научного метода, который должен внести свой вклад в создание молодой науки об искусстве. (Это его теоретическая ценность.) Следующие простые примеры указывают путь к практическому применению.
Применение
Простая заостренная форма, которая представляет переход от линии к плоскости и поэтому объединяет в себе свойства линии и плоскости, помещается в уже названных ранее направлениях на «самую объективную» ОП. Что же из этого следует?
Противоположности
Возникли две противоположные пары:
Первая пара – (I) является примером высшей противоположности, так как форма слева направлена в сторону ослабленного сопротивления, а форма справа – в сторону самого сильного сопротивления.
Вторая пара – (II) является примером умеренной противоположности, так как обе формы направлены в сторону мягкого сопротивления и напряжения форм мало чем отличаются друг от друга.
Внешние параллели
В обоих случаях формы находятся в параллельном отношении к ОП, что здесь представляет собой внешнюю параллельность, поскольку взяты внешние границы ОП, а не внутренние напряжения.
Элементарное сопоставление с внутренним напряжением требует диагонального направления, в результате чего вновь возникают две противоположные пары:
Рис. 85. A I. Вертикальное положение – «теплое спокойствие»
Рис. 86. A II. Горизонтальное положение – «холодное спокойствие»
Рис. 87. B I. Диагональное положение – «дисгармоничное»
Рис. 88. B II. Диагональное положение – «гармоничное»
Противоположности
Эти две противоположные пары также отличаются между собой, как перед этим отличались обе противоположные пары под буквой А.
Форма слева направлена к самому ослабленному углу, а форма справа – к самому твердому углу, поэтому они и представляют собой наивысшую противоположность. – верх
Ясно и то, почему обе нижние формы образуют умеренную противоположность. – низ
Внутренние параллели
На этом родство пар под буквой А и буквой В прекращается.
Последними в этом ряду являются примеры внутренней параллельности, так как формы в данном случае идут в одном направлении с внутренними напряжениями ОП[186].
Композиция. Конструкция
Эти четыре пары дают, таким образом, восемь возможностей для различных, лежащих на поверхности или скрытых в глубину основ, композиционных конструкций – основ, на которые в дальнейшем могут наслаиваться другие главные направления форм, либо остающиеся в центральном положении, либо удаляющиеся из центра в разных направлениях. Само собой разумеется, что первая основа может отходить от центра, центра вообще можно избежать – число конструктивных возможностей беспредельно. Внутренняя атмосфера времени, нации и, наконец, не совсем независимое от первых двух, внутреннее содержание личности определяют основное звучание композиционных «склонностей». Этот вопрос выходит за рамки этого специального сочинения, здесь следует лишь упомянуть, что за последние десятилетия, например, можно было наблюдать волну концентрического, а затем вновь волну эксцентрического, которая вначале поднялась, а потом спала. Причиной этому были различные обстоятельства, отчасти связанные с явлениями времени, но также часто находившиеся в причинной зависимости от идущих из глубины необходимостей. Особенно в живописи происходили изменения «настроений», порой из желания от нее отказаться, а порой из стремления ее утвердить.
История искусства
«Современная» история искусства должна подробнее заняться этой темой, которая выходит за границы чисто живописных вопросов и может быть истолкована во взаимосвязи с историей культуры. Сегодня обнаружилось многое, что до недавнего времени было скрыто в таинственную глубину.
Искусство и время
В основе взаимосвязи истории искусства и «истории культуры» (к чему относится и глава об отсутствии культуры), условно говоря, лежит триединство:
1. время побеждает искусство —
a) или время обладает большой силой и концентрированным содержанием, и искусство столь же сильно сконцентрировано и свободно идет той же дорогой, что и время, или
b) время обладает большой силой, но распадается содержательно, и искусство, лишенное силы, подвергается распаду;
2. искусство по разным обстоятельствам противопоставляется времени и проявляет противоречащие ему возможности;
3. искусство пересекает границы, в которые оно могло бы быть зажато временем, и несет в себе содержание будущего.
Примеры
Мимоходом можно отметить, что наши сегодняшние направления, которые ссылаются на конструктивные начала, легко совпадают с этими принципами. Отточенная американская «эксцентрика» сценического искусства является наглядным примером второго принципа. Сегодняшняя реакция против «чистого искусства» (например, против «искусства на мольберте») и связанные с этим основательные разногласия относятся к пункту b) первого принципа. Абстрактное искусство освобождается от давления сегодняшней атмосферы и поэтому попадает под третий принцип.
Таким образом, можно объяснить явления, которым, казалось бы, нет определения или которые в отдельных случаях представлялись полностью бессмысленными: исключительное применение горизонталей и вертикалей остается для нас необъяснимым, а дадаизм кажется бессмысленным. Удивительным оказывается и то, что оба эти явления возникли почти в один и тот же день, но несмотря на это находятся в остром противоречии друг с другом. Пренебрежение всеми конструктивными основами, кроме горизонталей и вертикалей, ведет «чистое» искусство к гибели, от этого может спастись только лишь «практически-целесообразное»: внутренне разобщенное, но внешне сильно действующее время склоняет искусство к своим целям и отрицает его самостоятельность – пункт b) первого принципа.
Вопрос формы и культура
Эти немногочисленные примеры, взятые из нашего времени, приведены здесь для того, чтобы осветить органичные, часто неизбежные взаимосвязи специфического вопроса формы в искусстве с культурными или лишенными культуры формами[187]. Они, кроме того, преследуют цель указать на то, что усилия руководить искусством, исходя из географических, экономических, политических и прочих чисто «позитивных» условий, не могут быть исчерпывающими и что при этих методах невозможно избежать односторонности. Только взаимодействие вопросов формы обеих упомянутых областей на основе духовного содержания может указать здесь точную установку, при которой «позитивные» условия играют подчиненную роль, – они сами по себе по сути дела не являются определением, а их можно рассматривать лишь как средство к цели.
Не все можно увидеть или потрогать, или, лучше сказать, под видимым и материальным находится невидимое и нематериальное. Сегодня мы стоим на пороге времени, к которому ведет одна – лишь одна – постепенно идущая все больше в глубину ступень. Во всяком случае, сегодня мы можем только догадываться, в какую сторону поставить ногу, чтобы нащупать следующую ступень. И это является спасением.
Несмотря на, казалось бы, непреодолимые противоречия, современный человек не довольствуется больше внешним. Его взгляд оттачивается, его слух обостряется, и его желание за внешним увидеть и услышать внутреннее растет. Только поэтому мы в состоянии ощутить внутреннюю пульсацию такого молчаливого и скромного существа, каким является ОП.
Относительное звучание
Эта пульсация ОП превращается, как уже было показано, в дву– и многозвучие, если на ОП помещается один простейший элемент.
Левое. Правое
Свободная кривая линия, состоящая из двух волн, идущих в одну сторону, и трех, идущих в другую, имеет, благодаря верхнему утолщению, упрямое «лицо» и завершается направленной вниз, постепенно слабеющей волной. Эта линия устремляется снизу, приобретает усиливающийся волнообразный характер и поднимается до максимального «упрямства». Что произойдет в результате этого упрямства, если она будет идти то влево, то вправо?
Рис. 89. Упрямство со снисхождением. Ослабленные изгибы. Сопротивление слева является слабым. Плоская масса утолщается вправо
Рис. 90. Упрямство в скованном напряжении. Затвердевающие изгибы. Сопротивление справа сильно заторможено. Расслабленный «воздух» слева
Верх. Низ
Для исследования действий «верха» и «низа» годится прием перевертывания – становления с ног на голову (Aufden-Kopf-Stellen) – по отношению к двум предыдущим рисункам, что читатель может проделать и самостоятельно. «Содержание» линии меняется столь значительно, что ее невозможно больше узнать: упрямство бесследно исчезает, его заменяет утомительное напряжение. Концентрации больше не существует, все находится в процессе становления. При повороте налево этот процесс все больше усиливается, а при повороте вправо ощущается утомленность[188].
Плоскость на плоскости
Здесь я выхожу за границы моей задачи и помещаю на ОП не линию, а плоскость, которая является не чем другим, как внутренним смыслом напряжения ОП (см. выше).
Нормально передвинутый на ОП квадрат.
Рис. 91. Внутренняя параллель лирического звучания. Совместное продвижение с внутренним «дисгармоничным напряжением»
Рис. 92. Внутренняя параллель драматического звучания. Противоположность к внутреннему «гармоническому» напряжению
Отношение к границе
В отношениях формы к границам ОП особую и очень важную роль играет удаленность формы от ее границ. Простая прямая линия неизменной длины может быть расположена на ОП двумя способами (рис. 93 и 94).
В первом случае она свободно лежит на плоскости. Ее приближение к границе придает ей выражение явно усиливающегося напряжения, направленного направо вверх, в результате чего напряжение нижнего конца ослабевает (рис. 93).
Рис. 93
Во втором случае она примыкает к границе и тут же лишается своего напряжения вверх, при этом напряжение вниз усиливается и вызывает ощущение какой-то болезненности, почти что отчаяния (рис. 94)[189].
Рис. 94
Другими словами: при приближении к границе ОП напряжение формы усиливается до тех пор, пока в момент соприкосновения с границей оно внезапно не исчезает. А также: чем дальше форма находится от границы ОП, тем меньше ее напряжение по отношению к границе.
Или: близко лежащие к границе ОП формы усиливают «драматический» характер звучания конструкции, и, напротив, далеко лежащие от границы и группирующиеся вокруг центра формы придают конструкции более «лирическое» звучание. Это, конечно, условные правила, которые наряду с другими средствами в полной мере могут быть использованы, и, исходя из которых, возможно окончательно заглушить едва слышное звучание. В большей или меньшей степени они постоянно оказывают воздействие, что подчеркивает их теоретическую ценность.
Лирическое. Драматическое
Некоторые примеры должны в простой форме объяснить типичные случаи этих правил:
Рис. 95. Молчаливая лирика четырех элементарных линий – застывшее выражение
Рис. 96. Драматизация этих же элементов – сложное пульсирующее выражение
Использование эксцентрики:
Рис. 97. Диагональ, проходящая по центру. Ацентральные горизонтальные и вертикальные линии. Максимальное напряжение диагонали. Уравновешенное напряжение горизонтальной и вертикальной линий
Рис. 98. Ацентральное положение всех линий. Диагональная линия усиливается в результате ее повторения. Сдерживание драматических звуков по направлению к точке касания вверх
Ацентральное построение в данном случае служило намерению усилить драматическое звучание.
Увеличение количества звуков
Если, например, в только что приведенных примерах прямые линии заменить на простые кривые, то сумма звуков увеличилась бы втрое, поскольку каждая простая кривая линия состоит, как уже говорилось в главе «Линия», из двух напряжений, в результате которых появляется третье. Если впоследствии на смену простой кривой пришла бы волнообразная линия, то каждая волна представляла бы простую кривую с ее тремя напряжениями, и в соответствии с этим сумма напряжений продолжала бы увеличиваться. К тому же отношения каждой волны к границам ОП усложнили бы эту сумму более громкими или более тихими звуками[190].
Закономерность
Поведение плоскостей по отношению к ОП является темой для другого разговора. Но приведенные здесь закономерности и правила в полной мере распространяются и на эту специальную тему, давая направление, в котором она должна разрабатываться.
Последующие формы ОП
До настоящего момента здесь рассматривалась лишь квадратная ОП. Последующие прямоугольные формы – это результат преобладания или преимущества горизонтальной или вертикальной пограничных пар. В первом случае будет преобладать холодный покой, во втором – теплый, что, разумеется, и определяет с самого начала основной звук ОП. Устремленное вверх и вытянутое в длину – антиподы. Объективность квадрата исчезает, ее заменяет одностороннее напряжение ОП в целом, которое так или иначе будет влиять на все элементы ОП.
Надо еще отметить, что эти оба вида имеют более сложную природу, чем квадрат. В горизонтальном формате, к примеру, верхняя граница длиннее, чем боковые границы, и, таким образом, для элементов создается больше возможности для «свободы», что, впрочем, скоро вновь заглушается сокращением длины сторон. В вертикальном формате все происходит наоборот. Можно сказать, что границы в подобных случаях гораздо больше зависимы друг от друга, чем в квадрате. Это создает впечатление, будто бы здесь подыгрывает само окружение ОП, оказывая давление снаружи. Так, в вертикальном формате облегчается движение вверх, поскольку в этом направлении давление окружения снаружи почти совсем отсутствует и концентрируется главным образом на сторонах.
Различные углы
Последующие вариации ОП осуществляются благодаря применению разных комбинаций тупых и острых углов. Новые варианты возникают в случае, когда ОП образуется таким образом, что, например, она противостоит элементам правого верхнего угла как ведущая или вновь как препятствующая (рис. 99).
Наряду с этим существуют и многоугольные плоскости, которые в конце концов должны быть подчинены одной основной форме и поэтому являются лишь более сложными случаями данной основной формы, что не требует дальнейшего обсуждения (рис. 100).
Рис. 99. Стимулирующая и сдерживающая (обозначена пунктиром) ОП
Рис. 100. Сложная многоугольная ОП
Форма круга
Величина углов может все больше и больше увеличиваться, а углы – становиться все более тупыми, до тех пор пока они в конце концов полностью не исчезнут и плоскость не станет кругом.
Это очень простой и одновременно очень сложный случай, который я уже подробно обсуждал. Здесь же лишь надо отметить, что как простота, так и сложность проистекают из-за отсутствия угла. Круг прост, так как давление его границ по сравнению с прямоугольными формами уравнено – различия не столь существенны. Он сложен, поскольку верх незаметно перетекает налево и направо, а левое и правое – вниз. Лишь четыре точки сохраняют звук четырех сторон квадрата, что соответствует и нашему эмоциональному восприятию.
Эти точки – 1, 2, 3, 4 – так же противостоят друг другу, как в четырехугольных формах: 1–4 и 2–3 (рис. 101).
Рис. 101
Отрезок 1–2 – это постепенно прогрессирующее ограничение максимальной свободы по направлению сверху влево, которое на протяжении отрезка 2–4 переходит к твердости и т. д., до полного завершения круга. Уже описанное состояние напряженности четырех отрезков круга так же действует, как напряжения сторон квадрата. Таким образом, круг в основе содержит то же самое напряжение, что и квадрат.
Три основные плоскости – треугольник, квадрат, круг – это естественные производные планомерно движущейся точки. Если через центр круга провести две диагонали, которые своими вершинами будут связаны с горизонтальными и вертикальными линиями, то возникнет, по утверждению A. C. Пушкина, основа арабских и римских цифр (рис. 102).
Итак, здесь встречаются:
1. корни двух систем чисел, и
2. корни первичных форм искусства.
Рис. 102. Треугольник и квадрат, вписанные в круг, как первоисточник арабских и римских чисел (A. C. Пушкин. Сочинения, Петербург, издательство Анненкова, 1855, T. V. С. 16)
Если действительно существует подобное, из глубины идущее родство, то тем самым мы получаем определенное подтверждение нашему предчувствию одного и того же корня явлений, которые внешне выглядят абсолютно различными и полностью друг от друга отъединенными. Сегодня особенно важно отыскать эти общие корни. Такая необходимость не рождается на свет без внутреннего на то основания, но требуется много настойчивых попыток, чтобы наконец удовлетворить эту потребность. Эти необходимости имеют интуитивную природу. Поэтому интуитивно выбирается и путь к их удовлетворению. Для дальнейшего развития предполагается гармоничное соединение интуиции и расчета – одного из двух уже будет недостаточно.
Овальная форма. Свободные формы
Через равномерно сплющенный круг, в результате которого получается овал, мы идем дальше к свободным основным плоскостям, не имеющим углов и выходящим за пределы геометрических форм таким же образом, как это происходило и в случаях с угловыми формами. Основные принципы здесь остаются без изменений и будут различимы даже в самых сложных формах.
Все, что в общих чертах было сказано об основной плоскости, должно быть воспринято в качестве исходной схемы, в качестве подхода к пониманию смысла внутренних напряжений, имеющих внешнее воздействие.
Фактура
ОП – материальна, является результатом чисто материального производства и зависит от способа этого производства. Как уже говорилось, при ее изготовлении могут применяться различные по своей фактуре материалы с гладкой, шероховатой, зернистой, игольчатой, блестящей, матовой и, наконец, пластической поверхностью, оказывающие внутреннее воздействие на ОП:
1. изолируя ее, и
2. особенно акцентируя ее связь с элементами внутреннего воздействия ОП.
Само собой разумеется, что свойства поверхности зависят исключительно от свойств материала (холста и его видов, штукатурки и способов ее обработки, бумаги, камня, стекла и т. д.), связанных с ним инструментов и способов их применения. Фактура, о которой здесь невозможно говорить более подробно, как и любое другое средство, является определенной, но достаточно эластичной и гибкой возможностью, которая схематически может выглядеть двояко:
1. фактура идет параллельным путем вместе с элементами и поддерживает их, главным образом, внешне, или
2. она применяется по принципу противоположности, т. е. находится с элементами во внутреннем противоречии и содействует им внутренне.
Кроме материала и инструмента, для изготовления материальной ОП в равной степени необходимо учитывать материал и инструменты по изготовлению материальной формы элементов, что более подробно необходимо обсуждать в учении о композиции.
Указания на такого рода возможности здесь чрезвычайно важны, так как все уже упоминавшиеся способы изготовления со всеми их внутренними последствиями могут служить не только построению материальной плоскости, но и ее оптическому уничтожению.
Дематериализированная плоскость
Устойчивое (материальное) расположение элементов на твердой, более или менее жесткой и видимой ОП, с одной стороны, и находящееся в противоречии с этим «парение» материально невесомых элементов в каком-то неопределенном (нематериальном) пространстве, с другой стороны, – в корне противоположные явления, антиподы.
Общематериалистическая точка зрения, которая, разумеется, распространяется также и на явления искусства, имела в качестве естественно-органичного следствия исключительное уважение материальной плоскости со всеми вытекающими из этого последствиями. Этой односторонности искусство обязано постоянным интересом к ремеслу, к техническим знаниям и особенно к основательной проверке «материала» в целом. В особенности интересно, что эти подробные знания, как уже говорилось, необходимы не только для материального изготовления ОП, но и для ее дематериализации в соединении с элементами, т. е. на пути от внешнего к внутреннему.
Зритель
В любом случае следует особо подчеркнуть, что «ощущение парения» зависит не только от уже упоминавшихся условий, но и от внутренней установки зрителя, который способен видеть одно из двух или оба явления одновременно: если глаз недостаточно развит (что обусловлено психологически) для восприятия глубины, то он будет не в состоянии освободиться от материальной плоскости для восприятия недифференцируемого пространства. Правильно тренированный глаз должен быть способен частично видеть необходимую для произведения плоскость как таковую, а частично, если она принимает форму пространства, ее не замечать. Даже простое сочетание линий, в конце концов, можно рассматривать двояко – или как одно целое с ОП, или как свободно расположенное в пространстве. Впивающаяся в плоскость точка также в состоянии освободиться от нее и «парить» в пространстве[191].
Точно так же, как описанные внутренние напряжения ОП остаются и в сложных формах ОП, так и напряжения переносятся с дематериализованной плоскости в не-дифференцируемое пространство. Закон не теряет своей силы. Если исходный пункт ясен, а выбранное направление правильно, то невозможно не попасть в цель.
Цель теории
Целью теоретического исследования является:
1. найти живое,
2. сделать внятным его пульсирование, и
3. установить закономерности в живом.
Таким образом соберутся живые факты – как в качестве отдельных явлений, так и в их взаимосвязи. Сделать выводы из этого материала – задача философии и в высшем смысле синтетическая работа.
Эта работа ведет к внутренним откровениям, которые могут послужить любой эпохе.
Таблицы
Табл. 1. Точка. Умеренное напряжение к центру
Табл. 2. Точка. Прогрессирующее растворение (обозначенная диагональ d-a)
Табл. 3. Точка. 9 точек в восхождении (выделяющаяся своим весом диагональ d-a)
Табл. 4. Точка. Схема горизонтально-вертикально-диагональных точек для свободного линейного построения
Табл. 5. Точка. Черная и белая точки в качестве элементарно-цветовой ценности
Табл. 6. Линия. То же самое в форме линий
Табл. 7. Линия. С точкой у границы плоскости
Табл. 8. Линия. Тяжесть, акцентированная черно-белым
Табл. 9. Линия. Тонкие линии сопротивляются тяжелой точке
Табл. 10. Линия. Рисуночное построение части «Композиции 4» (1911)
Табл. 11. Линия. Линейное построение «Композиции 4» – вертикально-диагональное восхождение
Табл. 12. Линия. Эксцентрическое построение, где эксцентричность акцентирована формирующими плоскостями
Табл. 13. Линия. Две кривые по отношению к одной прямой
Табл. 14. Линия. Горизонтальный формат благоприятствует общему напряжению слабо напряженных единичных форм
Табл. 15. Линия. Свободная кривая по отношению к точке – созвучие геометрических кривых
Табл. 16. Линия. Свободная волнообразная с давлением – горизонтальное положение
Табл. 17. Линия. Та же самая волнообразная в сопровождении геометрических линий
Табл. 18. Линия. Простой и единый комплекс нескольких свободных линий
Табл. 19. Линия. Тот же самый комплекс, усложненный спиралью
Табл. 20. Линия. Диагональные и встречные напряжения с точкой, приводящей внешнюю конструкцию к внутреннему пульсированию
Табл. 21. Линия. Двойное звучание – холодное напряжение прямых, теплое напряжение кривых линий. Контрасты: жесткое-гибкое, уступающее-стойкое
Табл. 22. Линия. Цветовая вибрация в схематическом достигнута благодаря минимальному использованию цвета (черный)
Табл. 23. Линия. Внутренняя связь комплекса из прямых с кривой линией (слева направо) в картине «Черный треугольник» (1925)
Табл. 24. Линия. Горизонтально-вертикальное построение с противоположной диагональю и напряжениями точек – схема к картине «Интимное сообщение» (1925)
Табл. 25. Линия. Линейное построение в картине «Малая мечта в красном» (1925)
Приложение. Статьи по педагогике искусства
Курс и семинар по цветоведению
[192]
Цвет, как и любое другое явление, должен изучаться с разных точек зрения, в различных направлениях и соответствующими методами. Чисто научно эти направления делятся на три области: физику и химию, физиологию, психологию[193].
Если эти области применить конкретно по отношению к человеку или подойти к ним с точки зрения человека, то первая истолковывает характер цвета, вторая – средства внешних приемов, а третья – результат внутреннего действия.
Таким образом, ясно, что для художника три эти области одинаково важны и необходимы. Здесь он должен действовать синтетически и соответствующе применять данные методы в своих целях.
Но помимо этого теоретически художник может исследовать цвет в двух направлениях, причем точка зрения и специфика художника должны дополнить и обогатить три упомянутые области.
Этими двумя направлениями являются:
1. Исследование цвета – характер цвета, его свойства, сила и действие – без учета практического применения – что можно назвать «бесцельной наукой», и
2. Исследование цвета в направлении, продиктованном его практической необходимостью – цели в узком смысле – и планомерное изучение цвета, что становится особо важной задачей.
Для художника оба направления прочно связаны между собой и второе немыслимо без первого.
Метод этой работы должен быть аналитическим и синтетическим. Оба метода прочно связаны между собой, и второй немыслим без первого.
С помощью этих методов ставятся три главные вопроса, которые органично связаны с тремя последующими главными вопросами и охватывают собой все отдельные вопросы двух направлений:
1. Исследование цвета как такового, его характера и его свойств:
Здесь надо начинать с наиболее абстрактных цветов (цвета по представлению) и через цвет, как он существует в природе, начиная со светового спектра, переходить к краске в форме пигментов.
2. Целенаправленное соотношение цветов в едином построении – конструкция цвета – и
3. Подчинение цвета – как отдельного элемента – и целенаправленного сопоставления – как конструкции – художественному содержанию произведения – композиция цвета.
Итак, три эти вопроса соответствуют трем вопросам, которые происходят из вопроса формы в узком смысле – в реальности цвет не может существовать без формы:
1. Органичное соотношение изолированного цвета с соответствующей ему первичной формой – живописные элементы.
2. Целенаправленное построение цвета и формы – конструкция полной формы и
3. Подчиненная соотнесенность обоих элементов, исходя из композиции произведения в целом.
Так как в Баухаузе изучение цвета связано с целями различных мастерских, то из решения главных вопросов должно вытекать и решение отдельных специальных вопросов. При этом следует учитывать следующие обстоятельства:
1. Требования плоскостных и пространственных форм.
2. Свойства данных материалов.
3. Практическое назначение данного предмета и конкретную задачу.
Здесь необходимо найти закономерные связи.
Отдельное использование цвета достигается раздельным изучением: органичной прочности краски, ее жизненной силы и долговечности, возможности сочетания через связующие средства, соответствующие конкретному случаю, который, в свою очередь, зависит от техники и вида наложения краски, соответствующих данной цели и данному материалу, от сочетания цветовых пигментов с другими цветными материалами, такими как штукатурка, дерево, стекло, металл и т. д.
Эта работа должна быть проведена по возможности более точными средствами, специальными измерениями. Они должны быть связаны с точными опытами (экспериментальным действием), которые от возможно более простых форм планомерно переходят ко все более сложным. Эти опыты также должны использовать аналитический и синтетический методы: целенаправленное разложение данных форм и планомерно-целесообразное построение.
Вся эта искусствоведческая работа происходит через:
1. Установочные лекции мастера.
2. Доклады учеников как результат самостоятельного решения специального задания.
3. Совместная работа мастера и учеников над планомерно расположенным материалом: общие наблюдения, выводы, постановка отдельных задач, проверка решений и развитие дальнейшего хода работы (семинар).
Особое значение придается архитектурным требованиям: внутренняя, внешняя архитектура, которая в этом отношении должна восприниматься как синтетическая основа.
Значение теоретического обучения в живописи
[194]
При обучении живописи могут быть использованы различные методы, но все их можно поделить на две основных группы:
1. живопись трактуется как самоцель, т. е. студента обучают как живописца: для этого в школе он получает необходимые знания – в общем и целом это достигается путем обучения – и нет необходимости переходить границ живописи, или
2. живопись трактуется как организующая сила, т. е. студента направляют за пределы живописи, но через ее закономерность к синтетическому произведению.
Эта вторая точка зрения составляет основу обучения живописи в Баухаузе. И здесь также могут быть использованы различные методы. Что касается именно моего направления, то оно определяется главной, и конечной, целью, вытекающей из следующего:
1. анализа живописных элементов в их внешнем и внутреннем значении,
2. соотношения этих элементов с такими же элементами других искусств и природы,
3. построения живописных элементов в тематической форме (решения планомерных тематических задач) и в произведении,
4. соотношения этих построений с построениями в других искусствах и природе,
5. из закономерности и целесообразности.
Я должен ограничиться здесь этим общим указанием направления, так как газета неподходящее место для подробностей. Но и эта короткая схема показывает, к чему я стремлюсь. Фактически до настоящего времени в вопросах искусства отсутствует планомерное аналитическое мышление, а аналитически мыслить означает мыслить логически. Здесь нет возможности подробно говорить о художественных школах, которые имеют целью живопись как таковую, т. е. где она является самоцелью, хотя я постепенно пришел к убеждению, что такого рода школы, избравшие ранний путь очень узкого научного добавления в виде анатомии, перспективы и истории искусства, в дальнейшем все менее применимы: сегодня и «чистое» искусство нуждается в таком точном последовательно научном обосновании. Односторонний акцент на элементах интуиции и связанная с этим «бесцельность» искусства зачастую неуместны для молодых художников (и если бы только для них) и приводят к отвлекающим от искусства последствиям. Как примера из настоящего времени достаточно даже было бы примера «новой вещественности», пытающейся поставить перед искусством политические задачи – путаница достигла здесь своей высшей степени.
Молодой и особенно начинающий художник должен быть с самого начала приучен к объективному, что называется научному мышлению. Он должен понимать, что свой путь он найдет в стороне от «измов», которые как правило не стремятся к сути, а принимают за основные положения быстро преходящие детали. Способность быть объективным к чужим работам не исключает односторонности своих собственных работ, и это естественно и вполне здраво: в собственных произведениях художник может быть (скорее должен быть) односторонним, так как объективность в этих случаях может привести к внутренней неопределенности. В своих работах он должен быть не только односторонним, но и фанатичным, так как многие годы огромного напряжения способствуют развитию фанатизма.
Через углубление в элементы, которые являются строительным материалом искусства, студент получает помимо способности логически мыслить, необходимое внутреннее чувство средств выражения искусства. Это простое утверждение нельзя недооценивать: средство определяется через цель, следовательно цель понимается через средство. Внутреннее углубленное назначение средств и одновременно осознанная и неосознанная их связь преследуют цели, чуждые искусству и поэтому действующие неестественно и отталкивающе. Таким образом здесь средство фактически служит цели.
Чувство родственности элементов одного искусства впоследствии усиливается при изучении отношений этих элементов к таким же элементам других искусств.
Отношение элементов искусства вообще к элементам природы в дальнейшем выводит весь вопрос в целом на еще более широкую философскую основу, что понятно и без дальнейших пояснений.
Так идет путь от синтетического в искусстве к общесинтетическому. Когда сегодня на самом деле никто не знает, что собственно скрывается или должно быть скрыто под понятием «образование» или «быть образованным», то с полным правом можно утверждать, что не большее или меньшее накопление специальных (так называемых «профессиональных») знаний играет здесь главную роль или является главной составляющей, а воспитанная способность чувствовать и в конце концов понимать в органичной связанности кажущуюся разобщенной картину отдельных явлений. С другой же стороны отсутствие этой способности, несмотря на имеющуюся «энциклопедичность специальных знаний» можно считать признаком необразованного человека.
И, наконец, школа, которая не в состоянии дать студентам планомерного познания всеобщей основы, не имеет права и не может называться школой, тем более если она хочет считаться высшей школой.
Несмотря на в принципе бесспорную ценность «образования», такое образование, полученное в школе, в подлинном смысле стало бы сильным средством против крайней специализации, которую мы получили от прошлого века и с которой нужно вести борьбу не только по общефилософским, но и по чисто практическим причинам. На практике крайняя специализация – это толстая стена, отделяющая нас от синтетического творчества. Надеюсь, мне не придется доказывать общеизвестные сегодня факты: например, закономерности живописного построения. И все же принципиального одобрения студентами этих фактов недостаточно – они должны запасть в самую их душу, и столь глубоко, чтобы сами по себе проникли бы до самых кончиков пальцев. Скромная или могущественная «мечта» художника не имеет значения до тех пор, пока кончики пальцев не будут в состоянии с предельной точностью следовать «диктату» этой мечты. В этом смысле теоретическое обучение должно быть связано с практическими (тематическими) упражнениями: на что годится великолепная поваренная книга без продуктов и кастрюль? И: только повторный ожог собственных кончиков пальцев продвигает начинающего вперед. Закономерность в природе полна жизни, потому что она объединяет в себе статическое и динамическое, и в этом отношении равноценна закономерности искусства. Итак, познание закономерностей природы, будучи важным для каждого человека, тем более необходимо и для художника. Этот простой факт, к сожалению, остается чужд высшей художественной школе.
Следующая схема должна передать сжатый смысл этой короткой статьи:
Ясно, что эти педагогические принципы могут служить не только живописи, но и другим искусствам. Также ясно, что в Баухаузе именно живопись является подходящим средством воспитания:
1. краски и их использование также найдут место во всех мастерских, где описанный метод служит чисто практическим целям, и
2. живопись – это искусство, которое уже несколько десятилетий идет впереди во всех художественных движениях и оплодотворяет другие искусства, в особенности архитектуру.
Художественная педагогика
[195]
Еще и сегодня обучение искусству по большей части рассматривается как особая область, которая с вопросами «всеобщего» образования почти совсем не имеет точек соприкосновения.
С другой же стороны, понятие «всеобщего» образования абсолютно запутано. Правомерно утверждать, что в наше время не может быть всеобщего образования без «и».
Напротив, имеется бесконечное множество «специальных образований», никак не связанных ни с всеобщим образованием, ни друг с другом.
Так, сегодняшнее обучение искусству имеет целью специальное образование, ограниченное в самом себе, так же как специальное образование для медиков, юристов, инженеров, математиков и т. д.
Это положение вещей противоречит взгляду, что обучения искусству как такового вообще быть не может, потому что искусству невозможно ни научить, ни научиться: искусство – это дело чистой интуиции, которая не вырабатывается принудительным путем или путем обучения.
Значительное наследство XIX века – крайняя специализация и следующее за этим разъединение обременяет все основные области нашей жизни, заводит все дальше в тупик и вопросы художественного обучения.
Удивительно, как мало сделано выводов из событий последнего десятилетия и как редко рассудок замечает смысл великого «сдвига».
Этот внутренний смысл или внутреннее напряжение дальнейшего «развития» должны лечь в основу любого обучения; деление постепенно заменяется соединением. «Или – или» должно освободить место «и».
Более не может быть возможным специального образования без общечеловеческой основы.
То, что отсутствует сегодня в любом обучении почти без исключения, – внутреннее «мировоззрение» или «философское» обоснование смысла человеческой деятельности. Странным образом даже сегодня из молодых людей воспитывают специалистов устаревшим, внутренне мертвым способом, специалистов, которые могли бы быть нужны во внешней жизни, но которые редко представляют собой чисто человеческую ценность.
Обучение сводится, как правило, к более или менее принудительному накоплению отдельных знаний, которыми молодежь должна овладеть и без которых она не может начать свой «предмет». Естественно, что при этом способность соединения, или, другими словами, способность синтетического наблюдения и мышления, оказывается так мало выявленной, что она по большей части гибнет.
Главной целью любого обучения должно являться развитие возможностей мышления одновременно в двух направлениях:
1. аналитическом и
2. синтетическом.
Итак, мы должны использовать наследство прошлого столетия (анализ – разъединение) и одновременно через установку на синтез дополнить и углубить, чтобы молодежь получила способность найти и обосновать живую, органичную связь областей, кажущихся далеко друг от друга расположенными (синтез=соединение).
Тогда молодежь оставила бы ставшую неподвижной атмосферу «или – или» и последовала бы в гибкую живую атмосферу «и» – анализ как средство к синтезу.
Из этого легко сделать вывод, что
1. главная основа любого образования или любого обучения всегда остается поэтому одной и той же,
2. так, художественное обучение ничем не отличается от обучения любой другой специальности и
3. в первую очередь важно не чему учить, а как.
Пункт 3 не должен восприниматься парадоксально.
Возникшее во времена разъединения суеверие, что существуют различные способы мышления, а следовательно, и творческого труда, отвергается с точки зрения «и»: способ мышления и процесс творческого труда мало чем отличаются между собой в различных областях человеческой деятельности – будь то искусство, наука, техника и т. д.
В значительной степени потребность предоставления специальных знаний (обучение) удовлетворяется с накоплением этих знаний – в первую же очередь нужно найти способность развить и культивировать аналитически-синтетические возможности мышления.
Не требует дальнейшего доказательства, что идеальное обучение любому «предмету» должно состоять из двух частей, неразрывно связанных между собой:
1. приобщения к аналитически-синтетическому наблюдению, мышлению и действию, и
2. систематического сообщения специальных знаний и овладения ими.
Это, само собой разумеется, относится и к художественному обучению.
Искусству фактически невозможно выучиться, точно так же как и творческой работе, как в науке и технике нельзя ни научить, ни научиться изобретательству.
Великие эпохи искусства всегда имели свои «учения» или «теории», которые были так же сами собой разумеющиеся в своей необходимости, как в науке был и есть случай. Эти учения не могли заменить элемента интуиции, потому что знание само по себе бесплодно. Достаточно удовлетвориться задачей обрести материал и метод. Плодотворна интуиция, которая этот материал и метод использует как средство к цели. Однако цель не может быть достигнута без средства и в этом смысле интуиция была бы так же бесплодна.
Никакого «или – или», но «и».
Художник работает, как и любой другой человек, на основе своих знаний, с помощью своего мышления и интуиции.
В этом случае художник ничем не отличается от любого творческого человека.
Его работа закономерна и целесообразна.
Основные даты жизни и творчества В. Кандинского
1866 – 4 декабря родился в Москве. Отец родом из Восточной Сибири, мать – москвичка (наполовину балтийская немка). Семейная хроника упоминает знатных монгольских предков со стороны отца. Родители расстались, когда Кандинский был еще ребенком.
1869 – Путешествие с родителями в Италию (Венеция, Рим, Флоренция)
1871 – Переезд семьи в Одессу.
1874 – Обучение музыке (фортепиано, позже виолончель).
1876 – Поступление в гимназию. Начинает учить немецкий. Каникулы на Кавказе и в Крыму. С 1879 проводит каждое лето в Москве.
1880 – Покупка первого набора масляных красок.
1886 – Возвращение в Москву. Начало учебы на юридическом факультете Московского университета.
1889 – Экспедиция на север России, в Вологодскую губернию по заданию общества естествознания, этнографии и антропологии». При этом Кандинский проявляет интерес к крестьянскому прикладному искусству и к правовым отношениям в крестьянской среде. В петербургском Эрмитаже открывает для себя Рембрандта. Путешествие в Париж (посещение Всемирной выставки).
1892 – Окончание юридического факультета. Женитьба на Анне Шемякиной. Второе путешествие в Париж.
1892 – Становится доцентом юридического факультета Московского университета.
1895 – Открывает для себя живопись Клода Моне на проходящей в Москве выставке французских импрессионистов. Принимает на себя художественное руководство типографией.
1896 – Отказывается от приглашения в Дерптский университет. Принимает решение стать художником. Переселяется из Москвы в Мюнхен.
1897 – Посещает школу А. Ашбе. Встреча с А. Явленским и М. Веревкиной.
1900 – Поступление в живописный класс Ф. Штука в Мюнхенской академии художеств одновременно с П. Клее. Первые картины.
1901 – Основание художественной группы «Фаланга». Выставляет с этой группой свои картины.
1902 – Президент «Фаланга». Открытие живописной школы «Фаланга». Преподавание в непринужденной атмосфере (педагогические экскурсии). Знакомство с Габриэлой Мюнтер. Первые ксилографии.
1903 – Закрытие живописной школы «Фаланга». Поездки в Венецию, Одессу, Москву.
1904 – Распад группы «Фаланга». Поездки в Голландию и в Одессу. Начиная с декабря, проводит четыре месяца в Тунисе. Кроме того, принимает активное участие в выставках, прежде всего в парижском Осеннем Салоне (до 1910 г. – каждый год). Много пишет темперой. Издает в Москве «Стихи без слов» – альбом с двенадцатью ксилографиями.
1905 – Поездка в Одессу. Член «Осеннего Салона» и «Салона Независимых».
1906 – Занимается ксилографией. С июня провел год в Севре под Парижем.
1907 – Лето – в Швейцарии, осень и зима – в Берлине.
1908 – Возвращение в Мюнхен (на шесть лет). Посещение Южного Тироля. Первое пребывание в Мурнау. Начало дружбы с А. Явленским и М. Веревкиной (выход в свет книга В. Воррингера «Абстракция и вчувствование»).
1909 – Приобретение дома в Мурнау. Мурнауские пейзажи. Основание «Нового объединения художников, Мюнхен» (NKVM), председателем которого он становится. Первые Импровизации.
1910 – Встреча с Францем Марком. Пишет книгу «О духовном в искусстве». Поездка в Россию. Мюнхенский корреспондент русского журнала «Аполлон». Первая абстрактная акварель.
1911 – Начало дружбы с П. Клее, Ж. Арпом, А. Макке, А. Шенбергом. Переписка с Р. Делоне, которого он приглашает выставляться вместе с мюнхенскими друзьями. Выход из NKVM. С Ф. Марком основывает художественное объединение «Синий всадник». Первая выставка «Синего всадника» в декабре в Мюнхене в галерее Танхойзер. Чтение выдержек из книги «О духовном в искусстве» на Всероссийском съезде художников в Петербурге. «О духовном в искусстве» выходит первым изданием на немецком языке (декабрь 1911, датировано 1912; три следующих издания выходят одно за другим).
1912 – Вторая выставка «Синего всадника» в Мюнхене. Первая выставка «Синего всадника» переезжает в Берлин, в галерею Штурм. Издание альманаха «Синий всадник». В сентябре первая большая коллективная выставка в берлинской галерее Штурм (руководимой Х. Вальденом, наряду с одноименным журналом и издательством). Выставка в Швейцарии, поездка в Москву. В манифесте «Пощечина общественному вкусу» в Москве опубликованы без его согласия четыре его стихотворения.
1913 – Бурные дискуссии в печати между друзьями и противниками Кандинского. Издание «Ступеней» в Берлине и «Звуков» с 55 черно-белыми и цветными ксилографиями в Мюнхене. Участие в Первом немецком «Осеннем Салоне», в выставках в берлинской галерее «Штурм» и в знаменитом «Армори Шоу» в Нью-Йорке.
1914 – Последняя выставка «Синего всадника» в галерее «Штурм». В связи с началом войны Кандинский вынужден покинуть Германию. Пребывание в Швейцарии, затем возвращается через Одессу в Москву.
1915 – Декабрь – март 1916 года проводит в Стокгольме, затем возвращается в Москву, где переживает события революции и остается до 1921 года. Не пишет картин.
1916 – В конце года расстается с Г. Мюнтер. Чтение стихов из «Звуков» в кабаре Вольтер в Цюрихе.
1917 – В феврале женится на Нине Андриевской.
1918 – Член Отдела изобразительных искусств Наркомпроса и профессор Вхутемаса в Москве. Проект чайного сервиза для Государственного фарфорового завода в Петрограде. Перевод «Ступеней» на русский язык. Выставка в галерее «Штурм» в Берлине.
1919 – Соучредитель «Музея живописной культуры» в Москве. Активное участие в организации 22 провинциальных музеев. Выставки в Москве и Петрограде. (Основание Баухауза в Веймаре.)
1920 – Профессор Московского университета. Официальная выставка Кандинского в Москве. Выставка в Нью-Йорке.
1921 – Член учредительного комитета Академии художественных наук (ГАХН), позже вице-президент. Доклад об основных элементах живописи. В декабре едет в Берлин.
1922 – Профессор Баухауза в Веймаре (позже заместитель директора). Заведует мастерской настенной живописи. Участие в большой выставке русского искусства в Берлине. Выход в свет в Берлине «Малых миров» (12 графических листов: гравюры на дереве, офорты, литографии). Эскизы росписи фойе выставки «Независимых» в Берлине (верное оригиналу исполнение осуществлено лишь полвека спустя в Центре Жоржа Помпиду в Париже).
1923 – Принимает участие в подготовке и издании книги «Государственный Баухауз. Веймар 1919–1923».
1924 – Основание группы «Синяя четверка» (Кандинский, Клее, Фейнингер, Явленский).
1925 – Переезд Баухауза (и Кандинского) в Дессау.
Продуктивная фаза: отныне каждый год возникает столько же картин, сколько в целом за семь московских лет.
1926 – Шестидесятилетний юбилей, многочисленные чествования. В Мюнхене опубликована книга «Точка и линия на плоскости».
1927 – Поездки в Австрию и Швейцарию. Многочисленные выставки в Германии и за границей.
1928 – Германское гражданство. Постановка «Картинок с выставки» М. Мусоргского в театре Дессау. (Выполняет эскизы костюмов и декораций).
1929 – Встреча с Дж. Энсором в Бельгии и с М. Дюшаном в Дессау. Первая выставка в Париже.
1930 – Выставки в Париже (Галери де Франс). Летний отпуск на Адриатике. Посещение Равенны (осмотр мозаик).
1931 – Поездка на Ближний Восток. Стенной декор «Музыкального зала» на «Немецкой строительной выставке» в Берлине.
1932 – Переезд Баухауза в Берлин. Поездка в Югославию.
1933 – В марте закрытие Баухауза. Переезд в Париж (поселяется в Нейи-сюр-Сен).
1934 – Встречи с П. Мондрианом, Х. Миро, А. Бретоном, М. Эрнстом. Дружба с Арпом. Выставки (Кайе д’ар, Галерея Жанны Буше).
1935 – Лето на Лазурном берегу.
1936 – Публикует воспоминания о Франце Марке в Кайе д’ар.
1937 – Поездка к П. Клее в Швейцарию. Национал-социалисты объявляют произведения Кандинского дегенеративным искусством, конфискация и продажа 57 работ из немецких музеев. Участие в международной выставке в музее Же-де-Пом в Париже.
1930 – Получение французского гражданства.
1940 – Два месяца в Котре (Пиренеи), затем возвращение в оккупированный Париж.
1944 – Болезнь в марте; до июня продолжает работать. Смерть 13 декабря (через четыре года после Клее и через три года после Явленского и Делоне).
1966 – Юбилейная выставка по случаю 100-летия со дня рождения Кандинского в Национальном музее современного искусства (Центр Жоржа Помпиду) в Париже. Позже выставка показана в Нью-Йорке, Роттердаме и Базеле. Выставка графических работ в Городской галерее Ленбаххауз (Мюнхен).
1972 – Ретроспективная выставка в Париже.
1976 – Ретроспективная выставка в «Доме искусства» в Мюнхене.
1977 – Дар Нины Кандинской Национальному музею современного искусства (Центр Жоржа Помпиду) в Париже 15 картин и 10 акварелей.
1979 – Выставка в Центре Жоржа Помпиду в Париже, где экспонируются 32 картины Кандинского из советских собраний, впервые показанные за пределами СССР.
1989 – Первая персональная ретроспективная выставка в России в Государственной Третьяковской галерее (куратор Н. Б. Автономова).
2001 – Первое на русском языке издание теоретических трудов В. Кандинского под редакцией Н. Б. Автономовой, Д. В. Сарабьянова и В. С. Турчина.
2016 – Ряд выставок в Европе, России и Америке, приуроченных к 150-летию художника.
Иллюстрации
Шлюз. 1901. Картон, масло. Мюнхен. Городская галерея Ленбаххауз
Синий всадник. 1903. Картон, масло. 55 × 65 см. Цюрих. Частное собрание
Русская красавица. 1905. Картон, темпера. 41.5 × 28.8 см. Мюнхен. Городская галерея Ленбаххауз
Двое на лошади. 1906. Холст, масло. 55 × 50,5 см. Мюнхен. Городская галерея Ленбаххауз
Песня Волги. 1906. Картон, темпера. 49 × 66 см. Париж. Национальный музей современного искусства. Центр искусства имени Жоржа Помпиду
Пестрая жизнь. 1907. Холст, темпера. 130 × 162,5 см. Мюнхен. Городская галерея Ленбаххауз
Осень в Баварии. 1908. Париж, Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду
Мурнау с радугой. 1909. Картон, масло. 33.0 × 43.0 см. Мюнхен. Городская галерея Ленбаххауз
Горный пейзаж с церковью.1910. Картон, масло. Мюнхен, Германия. Городская галерея в Ленбаххаузе
Грюнгассе в Мурнау. 1909. Картон, масло. 33.0 × 44.6 см. Мюнхен, Германия. Городская галерея в Ленбаххаузе
Первая абстрактная акварель. 1910. Бумага, карандаш, акварель, тушь. 188 × 196 см. Париж. Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду
Импровизация 9. 1910. Холст, масло. 110 × 110 см. Штутгарт. Государственная галерея
Композиция IV. 1911. Холст, масло. 159,5 × 250,5 см. Дюссельдорф. Художественное собрание земли Северный Рейн–Вестфалия
Импрессия I (Концерт). 1911. Холст, масло. 77,5 × 100 см. Мюнхен. Городская галерея Ленбаххауз
Лирическое. 1911. Холст, масло. Роттердам. Музей Бойманса-ван Бенингена
Страшный суд. 1912. Частное собрание
Пейзаж с дождем. 1913. Холст, масло. 70.2 × 78.1 см. Нью-Йорк, Музей Соломона Р. Гуггенхайма
Светлая картина. 1913. Париж. Холст, масло. 77.8 × 100.2 см. Национальный музей современного искусства. Центр искусства имени Жоржа Помпиду
Мечтательная импровизация. 1913. Холст, масло. 130.7 × 130.7 см. Мюнхен, Германия. Городская галерея в Ленбаххаузе
Картина с белой границей. 1913. Холст, масло. 140.3 × 200.3 см. Нью-Йорк, Музей Соломона Р. Гуггенхайма
Маленькие радости. 1913. Холст, масло. 109,8 × 119,7 см. Нью-Йорк. Музей Соломона Р. Гуггенхайма
Красный овал. 1920. Холст, масло. 71.5 × 71.5 см. Нью-Йорк, Музей Соломона Р. Гуггенхайма
Несколько кругов. 1926. Холст, масло. 140,3 × 140,7 см. Нью-Йорк. Музей Соломона Р. Гуггенхайма
В синем. 1925. Холст, масло. 80.0 × 110.0 см. Дюссельдорф. Германия. Художественные собрания земли Северный Рейн-Вестфалия
Акцент на розовое. 1926. Холст, масло. Париж, Национальный музей современного искусства, Центр искусства имени Жоржа Помпиду
Композиция VIII. 1923. Холст, масло. 140 × 201 см. Нью-Йорк. Музей Соломона Р. Гуггенхайма
Желтое, красное, синие. 1925. Холст, масло. 127 × 200 см. Париж, Национальный музей современного искусства, Центр искусства имени Жоржа Помпиду
Композиция IX. 1936. Холст, масло. 113,5 × 195 см. Париж. Национальный музей современного искусства, Центр искусства имени Жоржа Помпиду
Композиция Х. 1939. Холст, масло. 130 × 195 см. Дюссельдорф. Художественное собрание земли Северный Рейн–Вестфалия
Сдержанный порыв. 1944. Картон, масло. 42 × 58 см. Париж. Национальный музей современного искусства. Центр искусства имени Жоржа Помпиду
Последняя акварель. 1944. Акварель, бумага. 26.0 × 35.0 см. Частное собрание
Примечания
1
Кандинский В. Ступени. Текст художника. М., 1918. С. 20–21.
(обратно)2
Там же. С. 12–15.
(обратно)3
Kandinsky W. Punkt und Linie zu Flache. München, 1926. S. 97.
(обратно)4
Kandinsky W. Essays über Kunst und Künstler. Stuttgart, 1955. S. 213.
(обратно)5
Ibid. S. 213.
(обратно)6
Кандинский В. Ступени. С.19.
(обратно)7
Там же. С. 19.
(обратно)8
Там же. С. 28.
(обратно)9
См. подробнее: Ringbom S. The Sounding Cosmos. Abo. Finland, 1970. S. 50–56.
(обратно)10
Кандинский В. Ступени. С. 20.
(обратно)11
Бердяев Н. Самопознание. М., 1990. С. 129.
(обратно)12
См.: Бараев В. Древо: декабристы и семейство Кандинских. М., 1991. С. 246.
(обратно)13
Бердяев Н. Указ. соч. С. 129.
(обратно)14
См. подробнее: Сарабьянов Д. В. Василий Кандинский в русском контексте // Вопросы искусствознания (1/97). М., 1997. С. 353–396.
(обратно)15
Кандинский В. О духовном в искусстве \\ Василий Кандинский. Избранные труды по теории искусства в 2-х тт. Т. 1. М., 2008. С.106.
(обратно)16
Кандинский В. О сценической композиции // Изобразительное искусство. 1919. № 1, Пг. С.42.
(обратно)17
Толстой Л. Н. Путь жизни. М., 1993.Ч. II. С. 33.
(обратно)18
Достоевский Ф. М. Пушкин // Избранные произведения. М., 1990. С. 546.
(обратно)19
Кандинский В. Ступени. С.56.
(обратно)20
Там же. С. 10.
(обратно)21
См. подробнее: P. Jelavich. München als Kulturzentrum: Politik und Kunste// Kandinsky und München. Begegnungen und Wanndlungen. München, 1982. S.17–26.
(обратно)22
Ibid. S. 17.
(обратно)23
Мартинштейн М. Новейшая Германия в литературе и искусстве // Экспрессионизм: Сб. ст. СПб.; М., 1923. С. 50.
(обратно)24
Кандинский В. Ступени. С. 50.
(обратно)25
Чаадаев П. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. С. 497.
(обратно)26
Бердяев Н. О русской философии. В 2 кн. Кн. 2. Свердловск, 1991. С. 223.
(обратно)27
Этой проблеме посвящено исследование С. Рингбома, который сам, являясь теософом, с этой точки зрения тщательно изучил все тексты и рукописи Кандинского. См. также его статью: S. Ringbom. Kandinsky und das Okkulte // Kandinsky und München. Begegnungen und Wandlungen. München. 1982. S. 83–105; См. также Боулт. Дж. Э. Василий Кандинский и теософия // Многогранный мир Кандинского. М., Наука, 1998. С. 30–41.
(обратно)28
Штейнер Р. Порог духовного мира. М., 1991. С. 5.
(обратно)29
Кандинский В. Ступени. С.29–30.
(обратно)30
Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 182.
(обратно)31
Fidler К. Schriften über Kunst. Bd. 1. München, 1991. S. 109.
(обратно)32
Кандинский В. О духовном в искусстве. С.202–203.
(обратно)33
Гильдебрант А Проблема формы в изобразительном искусстве / Пер. В. Фаворского. М., 1991. С. 7.
(обратно)34
Там же. С. 18.
(обратно)35
Недошивин Г. А. Вельфлин Г. // История европейского искусствознания. 2-я половина XIX в. Кн. 1. М., 1969. С. 49.
(обратно)36
См.: Overy P. Kandinsky. Die Sprache der Augen. Köln, 1970. S. 78.
(обратно)37
В. Кандинский. Содержание и форма // Василий Кандинский. Избранные труды по теории искусства в 2-х тт. Т. 1. С.90.
(обратно)38
Воррингер В. Абстракция и вчувствование // Современная книга по эстетике: Антология. М., 1957. С. 469–470.
(обратно)39
Кандинский В. Содержание и форма. С.91.
(обратно)40
К сожалению и это слово, которое должно обозначать творческие стремления живой души художника, было исковеркано и, в конце концов, стало предметом насмешек. Существовало ли когда-либо великое слово, которое толпа не попыталась бы тотчас же осквернить?
(обратно)41
Немногие отдельные исключении не уничтожают этой безотрадной и роковой картины. Да и исключения составляют главным образом художники, символом веры которых является l’art pour l’art. Они, таким образом, служат более высокому идеалу, что в целом является бесцельным расточением сил. Внешняя красота – это элемент, создающий духовную атмосферу: он имеет, однако, кроме положительной стороны (так как прекрасное = благое), также один недостаток. Этот недостаток состоит в неполно использованном таланте (таланте в евангельском значении слова).
(обратно)42
Эти «сегодня» и «завтра» внутренне соответствуют библейским «дням» творения.
(обратно)43
Вебер, композитор «Волшебного Стрелка», говорил о Седьмой симфонии Бетховена: «экстравагантность этого гения дошла теперь до крайности; Бетховен теперь совершенно созрел для сумасшедшего дома». Когда аббат Штадлер впервые услышал ее, он сказал соседу (во время биения ноты «е» в захватывающем моменте в начале первой части): «Все еще это “e”! Этому бесталанному парню ничего не приходит в голову!» («Бетховен» Августа Геллериха, см. стр. 1 в серии «Музыка», издававшейся Р. Штраусом).
(обратно)44
Не являются ли некоторые памятники печальным ответом на этот вопрос?
(обратно)45
Здесь часто говорится о материальном и о нематериальном и о промежуточных состояниях, которые называют «более или менее» материальными. Все ли материя? Все ли дух? Не может ли различие, которое мы делаем между материей и духом, быть только градациями или только материи, или только духа? Мысль, которую позитивная наука считает продуктом «духовного», есть также материя, но воспринимается она не грубыми, а более тонкими органами. То, к чему не может прикоснуться наша телесная рука, – дух ли это? В этом кратком очерке мы не можем говорить об этом более пространно. Достаточно, если мы не будем проводить слишком четких границ.
(обратно)46
Цельнер, Вагнер, Бутлеров в Петербурге, Крукс в Лондоне и т. д., позднее Ш. Рише, К. Фламмарион (парижская «Matin» приблизительно 2 года тому назад напечатала высказывания последнего под заголовком «Je le constate, mais je n’explique pas»). Наконец, Ц. Ломброзо, основоположник антропологического метода в области преступности, участвует в серьезных сеансах с Евзалией Палладино и признает спиритические феномены. Кроме того, еще некоторые ученые на свою ответственность занимались изучением этого предмета. Постепенно основываются и целые научные объединения и общества, ставящие себе те же цели (напр., Societe des Etudes Psychiques в Париже, которое организовало по Франции турнэ с докладами в совершенно объективной форме для ознакомления публики с достигнутыми результатами).
(обратно)47
Очень часто в подобных случаях пользуются словом «гипнотизм», от которого в его первоначальной форме месмеризма пренебрежительно отворачивались разные академии.
(обратно)48
См., напр., «Theosophie» («Духоведение» в русском издании) доктора Штейнера и его статьи о пути знания в «Lucifer-Gnosis». В наше время следует отметить, что при написании настоящей книги Кандинский еще не делал различия между антропософски ориентированной духовной наукой Рудольфа Штейнера и идущей с востока теософией Е. П. Блаватской… (Примечание редактора немецкого издания Макса Билля, 18 августа 1962 года).
(обратно)49
Е. П. Блаватская «Ключ к теософии», изд. Макса Альтмана, Лейпциг, 1907 г. Английское издание вышло впервые в Лондоне в 1889 году.
(обратно)50
К числу этих ясновидцев упадка принадлежит в первую очередь Альфред Кубин. Непреодолимая сила втягивает нас в зловещую атмосферу суровой пустоты. Эта сила исходит как от рисунков Кубина, так и от его романа «Die andere Seite» (Другая сторона).
(обратно)51
Когда в Петербурге под личным руководством Метерлинка ставили некоторые из его драм, то во время одной из репетиций он велел повесить просто кусок холста взамен недостающей башни. Ему было неважно, будет ли изготовлено тщательное подражание – кулиса. Он поступал, как всегда поступают в своих играх дети, величайшие фантасты всех времен, когда они в палке видят коня или в своем воображении создают из клочков бумаги целые полки кавалерии, причем складка в клочке бумаги внезапно делает из кавалериста коня (Kugelgen, «Erinnerungen eines alten Mannes»). Эта черта – пробуждать фантазию зрителя – играет большую роль в современном театре. В этом направлении особенно много работы сделано и многое достигнуто в русском театре. Это нужный переход от материального к духовному в театре будущего.
(обратно)52
Это становится очевидным при сравнении сочинений Метерлинка с сочинениями По. И это опять же является примером прогресса художественных средств от материального к абстрактному.
(обратно)53
Многие опыты показали, что подобная духовная атмосфера свойственна не только герою, но каждому человеку. Сенситивные люди не могут, например, оставаться в комнате, где до того находился человек, духовно им отвратительный, даже если они ничего не знали об его пребывании.
(обратно)54
«Die Musik», X, 2, стр. 104. Выдержки из «Harmonielehre» (Учение о гармонии), издание «Universal Edition».
(обратно)55
См., напр., В. Signac, «De Delacroix au Neo-impressionisme».
(обратно)56
См. его статью в «Kunst und Kunstler», 1909 г., выпуск VIII.
(обратно)57
Эти различия, как и все на свете, относительны. В известном смысле, музыка может избежать длительности во времени, а живопись – применить ее. Как сказано, все эти утверждения имеют лишь относительную ценность.
(обратно)58
Примером того, к каким жалким результатам приводят попытки пользоваться музыкальными средствами для воспроизведения внешних форм, является узко понятная программная музыка. Такие эксперименты производились еще не так давно. Подражание кваканью лягушек, шумам курятника, точения ножей – вполне уместны на эстраде варьетэ и, как занимательная шутка, могут вызывать веселый смех. В серьезной музыке подобные излишества служат наглядным примером неудач «представлять природу». Природа говорит на своем языке, который с непреодолимой силой действует на нас. Подражать этому языку нельзя. Музыкальное изображение звуков курятника с целью этим путем создать настроение природы и передать это настроение слушателю показывает очевидную невозможность и ненужность такой задачи. Такое настроение может быть создано любым видом искусства, но не внешним подражанием природе, а только путем художественной передачи внутренней ценности этого настроения.
(обратно)59
Доктор медицины Фрейденберг, «Spaltung der Personlichkeit» (Расщепление личности) «Lebersinnliche Welt», 1908, № 2, стр. 64–65. Тут же говорится и о слышании цвета (стр. 65), причем автор отмечает, что сравнительные таблицы не устанавливают наличие общего закона. Ср. Л. Сабанеев в еженедельнике «Музыка», Москва, 1911 г., № 29; в этой статье со всею определенностью указывается, что закон скоро будет найден.
(обратно)60
В этой области уже произведена большая теоретическая, а также и практическая работа. Делаются усилия найти возможности построить и для живописи свой контрапункт, исходя из факта многосторонней схожести физических вибраций воздуха и света. А с другой стороны, производились успешные практические попытки учить мало музыкальных детей какой-нибудь мелодии с помощью красок (пользуясь, напр., цветком). В этой области уже ряд лет работает г-жа А. Захарьина-Унковская, разработавшая особый точный метод «списывать музыку с красок природы, писать звуки природы в цветах, видеть звуки в цветах и музыкально слышать краски». Этот метод уже ряд лет применяется в школе изобретательницы и признан целесообразным Петербургской Консерваторией. С другой стороны, Скрябин эмпирическим путем составил параллельную таблицу музыкальных и цветных тонов, и эта таблица очень похожа на более физическую таблицу г-жи Унковской. Скрябин убедительно применил свой принцип в «Прометее». (См. таблицу в еженедельнике «Музыка», Москва, 1911 г., № 9.)
(обратно)61
P. Signac, цитиров. выше. См. также интересную статью К. Шеффлера «Notizen uber die Farben» (Заметки о цвете) в журнале «Dekorative Kunst», февраль, 1901.
(обратно)62
Очень похоже на то, к чему мы приходим в примере с деревом, приводимом дальше, с той разницей, однако, что там материальный элемент представления занимает большее место.
(обратно)63
Значительную роль при этом играет и направление, в котором, к примеру, находится треугольник, а именно – движение. Это чрезвычайно важно для живописи.
(обратно)64
Если форма оставляет нас равнодушными и, как это называется, «ничего не говорит», то этого не следует понимать буквально. Не существует формы, как и нет вообще ничего на свете, что бы ничего не выражало. Но значение это часто не доходит до нашей души – и именно тогда, когда связанное само по себе безразлично или, точнее говоря, применено не там, где следует.
(обратно)65
Обозначение «выразительно» следует понимать правильным образом: иной раз форма выразительна тогда, когда она приглушена. Форма иной раз выявляет нужное наиболее выразительно именно тогда, когда не доходит до последней грани, а является только намеком, всего лишь указуя путь к внешнему выражению.
(обратно)66
В основе «идеализации» лежало стремление сделать органическую форму более красивой, сделать ее идеальной, причем легко возникла схематизация и притуплялось индивидуальное внутреннее звучание. «Стилизация», выросшая главным образом на импрессионистской почве, не ставила своей главной целью «сделать более красивой» органическую форму, а стремилась путем упущения побочных деталей придать ей большую характерность. Поэтому возникавшее в этом случае звучание носило совершенно индивидуальный характер, но с перевесом в сторону внешней выразительности. Будущая трактовка и видоизменение органической формы будет иметь целью выявление внутреннего звучания. В этом случае органическая форма не является больше прямым объектом, а есть элемент божественного языка, который пользуется человеческим, ибо направляется человеком к человеку.
(обратно)67
Разумеется, большая композиция может состоять из меньших законченных в себе композиций, которые могут быть друг другу даже внешне враждебны, но, тем не менее, служить большой композиции (и в этом случае как раз своей взаимной враждебностью). Эти меньшие композиции состоят из отдельных форм (также и различной внутренней окраски).
(обратно)68
Яркий пример этого – «Купальщицы» Сезанна – композиция в форме треугольника. (Мистический треугольник!). Такое построение в геометрической форме является старым принципом, который в последнее время был оставлен, так как выродился в жесткие академические формулы, которые не имели больше никакого внутреннего смысла, не имели больше души. Применение Сезанном этого принципа придало последнему новую душу, причем особенно сильно подчеркнута была чисто живописно-композиционная сторона. В этом важном случае треугольник является не вспомогательным средством для гармонизации группы, а ярко выраженной художественной целью. Здесь геометрическая форма является одновременно композиционным средством живописи: центр тяжести находится в чисто художественном стремлении с сильным призвуком абстрактного. Поэтому Сезанн с полным правом изменяет человеческие пропорции: не только вся фигура должна стремиться к вершине треугольника, но и отдельные части тела все сильнее стремятся снизу вверх, гонимые в высоту как бы внутренней бурей. Они становятся все более легкими и явно вытягиваются.
(обратно)69
Это называется движением: напр., треугольник, просто направленный вверх, звучит спокойнее, неподвижнее, устойчивее, чем если тот же треугольник поставлен косо на плоскости.
(обратно)70
Великий многогранный мастер Леонардо да Винчи изобрел систему или шкалу ложечек для того, чтобы ими брать различные краски. Этим способом предполагалось достигнуть механический гармонизации. Один из его учеников долго мучился, применяя это вспомогательное приспособление. Придя в отчаяние от неудач, он обратился к другим ученикам с вопросом: как этими ложечками пользуется сам мастер? На этот вопрос те ответили ему: «Мастер ими никогда не пользуется»(Мережковский: Леонардо да Винчи).
(обратно)71
Понятие «внешнее» не следует здесь смешивать с понятием «материя». Первым понятием я пользуюсь только для «внешней необходимости», которая никогда не может вывести за границы общепризнанного и только традиционно «красивого». «Внутренняя необходимость» не знает этих границ и часто создает вещи, которые мы привыкли называть «некрасивыми». Таким образом, «некрасивое» является лишь привычным понятием, которое, являясь внешним результатом раньше действовавшей и уже реализовавшейся внутренней необходимости, еще долго влачит призрачное существование. Некрасивым в эти прошедшие времена считалось все, что тогда не имело связи с внутренней необходимостью. А то, что тогда стояло с ней в связи, получило уже определение «красивого». И это по праву, – все, что вызвано внутренней необходимостью, тем самым уже прекрасно, и раньше и позже неизбежно будет признано таковым.
(обратно)72
Все эти утверждения являются результатами эмпирически-душевных ощущений и не основаны на позитивной науке.
(обратно)73
Так, например, действует на человека желтый баварский почтовый ящик, пока он еще не утратил своей первоначальной окраски. Интересно, что лимон желтого цвета (острая кислота) и канарейка желтая (пронзительное пение). Здесь проявляется особенная интенсивность тона.
(обратно)74
Соответствие цветовых и музыкальных тонов, разумеется, только относительное. Как скрипка может развивать очень различные тона, которые могут соответствовать различным краскам, так, например, обстоит и с желтым цветом, который может быть выражен в различных тонах разными инструментами. При указанных здесь параллелизмах следует представлять себе, главным образом, среднезвучащий чистый тон краски, а в музыке средний тон, без видоизменения последнего вибрированием, глушителем и т. д.
(обратно)75
…les nymbes… sont dores pour l’empereur et les prophetes (значит для человека) et bleu de ciel pour les personnes symboliques (т. е. для существ, живущих только духовно). (N. Kondakoff. Histoire de l’art Byzantin, consic. princip. dans les miniatures, Paris, 1886–1891, Vol. II.)
(обратно)76
He так, как зеленый цвет, который, как мы позже увидим, есть цвет земного самоудовлетворенного покоя: – синий цвет – есть цвет торжественный, сверхземной углубленности. Это следует понимать буквально: на пути к этому «сверх» лежит «земное», которого нельзя избежать. Все мучения, вопросы, противоречия земного должны быть пережиты. Никто еще их не избежал. И тут имеется внутренняя необходимость, прикровенная внешним. Познание этой необходимости есть источник «покоя». Но так как этот покой больше всего удален от нас, то мы и в царстве цвета с трудом приближаемся внутренне к преобладанию «синего».
(обратно)77
Иначе, чем фиолетовый цвет, как о том будет сказано ниже.
(обратно)78
Подобным же образом действует и идеальное хваленое равновесие. Как хорошо об этом сказал Христос: «Ты ни холоден, ни горяч…».
(обратно)79
Ван Гог в своих письмах ставит вопрос, может ли он написать белую стену чисто белой. Этот вопрос, не представляющий никаких трудностей для ненатуралиста, которому краска необходима для внутреннего звучания, кажется импрессионистически-натуралистическому художнику дерзким покушением на природу. Этот вопрос представляется такому художнику настолько же революционным, как, в свое время, революционным и безумным казался переход коричневых теней в синие (излюбленный пример «зеленого неба и синей травы»). Как в упомянутом случае мы узнаем переход от академизма и реализма к импрессионизму и натурализму, так в вопросе Ван Гога заметны начатки «претворения природы», то есть тяготения к тому, чтобы представлять природу не как внешнее явление, а главным образом выразить элемент внутренней импрессии, недавно получившей наименование экспрессии.
(обратно)80
Киноварь, например, звучит на белом фоне тускло и грязно, на черном она приобретает яркую, чистую, ошеломляющую силу. Светло-желтый цвет на белом слабеет, расплываясь; на черном действует так сильно, что он просто освобождается от фона, парит в воздухе и кидается в глаза.
(обратно)81
Серое есть неподвижность и покой. Это чувствовал уже Делакруа, который хотел дать впечатление покоя путем смешения зеленого с красным (Signac).
(обратно)82
Конечно, каждая краска может быть теплой или холодной, но ни одна другая не дает такого сильного контраста, как красная. В ней – полнота внутренних возможностей.
(обратно)83
Чистые, радостные, часто следующие друг за другом звуки колокольчиков (а также и конских бубенцов) называются по-русски «малиновым звоном». Цвет малинового варенья близок к описанному выше холодному красному цвету.
(обратно)84
В среде художников на вопрос о самочувствии отвечают иногда шутя: «совершенно фиолетовое», что не означает ничего отрадного.
(обратно)85
Фиолетовый цвет имеет также склонность переходить в лиловый. Но где кончается один и начинается другой?
(обратно)86
I желтый (Gelb) – синий (Blau); II – белый (Weiss) – черный (Schwarz); III косный (Rot) – зеленый (Grun); IV – оранжевый (Orange) – фиолетовый (Violett) (Примеч. ред.)
(обратно)87
На этом внешнем повторении основано действие рекламы.
(обратно)88
Бывают периоды самоубийств, враждебных воинственных чувств и т. п. Войны, революции (последние в меньшей степени, чем войны) являются продуктами такой атмосферы, которую они еще больше отравляют. Какою мерою мерите, такою и вам отмерится.
(обратно)89
Истории известны и такие времена. Существовало ли более великое время, чем эра христианства, которое и слабейших вовлекло в духовную борьбу. И во время войн и революций действуют факторы, относящиеся к этому виду; они также очищают зачумленность воздуха.
(обратно)90
Еще вчера одним из первых стал пользоваться этим сочетанием в своих ранних картинах Франк Брангвин, пытавшийся при этом многословно оправдывать использование такого сочетания.
(обратно)91
См., напр., статью Le Fauconnier в каталоге второй выставки Нового Объединения Художников, Мюнхен, 1910–1911 гг.
(обратно)92
Подобные попытки производились. Очень содействует этому параллелизм с музыкой, например, «Tendences Nouvelles», номер 35, Анри Ровель: «Les lois d’harmonie de la peinture et de la musique sont les memes» (стр. 721).
(обратно)93
Этот особый мир живет, конечно, своей точно определенной жизнью, но это – жизнь иной сферы.
(обратно)94
Только что описанный мир есть все же мир, безусловно обладающий своим неотъемлемым внутренним звучанием, которое в основном, в принципе, необходимо и таит в себе возможности.
(обратно)95
Здесь уместно снова особенно сильно подчеркнуть, что все такие случаи, примеры и т. д. следует рассматривать лишь как схематические ценности. Все является общепринятым и может быть так же легко изменено сильным действием композиции и также легко одним единственным штрихом. Возможности бесконечно велики.
(обратно)96
Всегда следует подчеркивать, что такие выражения, как «печальный», «радостный» и т. д., являются упрощенными выражениями и могут служить только указателем пути к тонким, бестелесным душевным вибрациям.
(обратно)97
Если сказка не «переведена» в целом, то последует результат, подобный сказкам на экране кинематографа.
(обратно)98
Эта борьба со сказочной атмосферой равнозначуща борьбе с природой. Как легко и как часто совершенно против воли композитора цвета «природа» сама собою вторгается в его произведения! Легче писать природу, чем бороться с нею!
(обратно)99
По этому вопросу см. мою статью «О вопросе формы» в «Синем Всаднике» (издательство Р. Пипер и Ко. 1912 г.). Я доказываю здесь, исходя из произведений Анри Руссо, что в современном периоде грядущий реализм не только равноценен абстракции, но и идентичен с ней.
(обратно)100
Этот принцип был давно выражен, особенно, в литературе. Так, Гете, например, говорит: «Художник своим свободным духом стоит выше природы и может трактовать ее в соответствии со своими высшими целями… он является одновременно и ее господином и ее рабом. Он ее раб, поскольку он, для того чтобы быть понятым, должен действовать земными средствами (NB!). Но он ее господин, поскольку он подчиняет эти земные средства своим высшим замыслам и заставляет их служить этим замыслам. Художник хочет говорить миру путем законченного целого; однако это целое он найдет не в природе, – оно есть плод его собственного духа или, если хотите, овевания оплодотворенным божественным дыханием» (Karl Hainemann, Goethe, 1899 г., стр. 684). В наше время О. Уайльд: «Искусство начинается там, где прекращается природа». (De Profundis). Мы часто встречаем такие мысли и в живописи. Делакруа сказал, например, что природа является для художника лишь словарем. А также: «Реализм следовало бы определить, как антипод искусства». («Journal»).
(обратно)101
Так называемые «аморальные» произведения или вообще неспособны вызывать душевной вибрации (тогда они, согласно нашему определению, нехудожественны), или же они тоже вызывают душевную вибрацию, обладая формой в каком-то отношении верной. Тогда они «хороши». Если же они, помимо этой душевной вибрации, вызывают также чисто физические вибрации низшего рода (как их в наше время называют), то отсюда ни в коем случае не следовало бы делать заключение, что презрения заслуживает произведение, а не лица, низменными вибрациями на это произведение реагирующие.
(обратно)102
Эта неограниченная свобода должна основываться на внутренней необходимости (называемой честностью). И это принцип не только искусства, это принцип жизни. Этот принцип – величайший меч – оружие подлинного сверхчеловека против мещанства.
(обратно)103
Ясно, что, если художник живет живой жизнью души, то его подражание природе не станет мертвенным ее воспроизведением. И в такой форме душа может говорить и быть услышанной. Можно, например, противопоставить ландшафты Каналетто и пользующиеся печальной известностью головы Деннера (в Старой Пинакотеке Мюнхена).
(обратно)104
Это пустое место легко заполнить и ядом, и заразой.
(обратно)105
Этот взгляд – один из немногих идеалистических факторов такого времени. Он – неосознанный протест против материализма, желающего сделать все практически целесообразным. И это снова доказывает силу и неистощимость искусства и мощь человеческой души, которая жива и вечна, которую можно одурманить, но не убить.
(обратно)106
Ведь ясно, что речь здесь идет о воспитании души, а отнюдь не о том, чтобы насильственно внедрять в каждое произведение нарочитое содержание или это вымышленное содержание насильственно облекать в художественную форму! Так как это был бы мертвый головной труд. Уже выше было сказано, что рождение подлинного произведения искусства есть тайна. Если жива душа художника, ей не нужны костыли головных рассуждений и теорий. Она сама найдет что сказать; сам художник при этом может в ту минуту и не сознавать, что именно. Ему подскажет внутренний голос души, какова нужная ему форма и где ее почерпнуть (из внешнего ли, или внутреннего «естества»). Всякий художник, руководствующийся так называемым чувством, знает, как внезапно и неожиданно для самого себя ему может опротиветь вымышленная им форма и как «сама собою» первую, отвергнутую заменит другая, верная. Беклин говорит, что подлинное произведение искусства – великая импровизация, то есть, что рассуждения, построение, предварительная композиция должны быть всего лишь подготовительными ступенями, ведущими к цели. И даже цель эта может возникнуть перед ним неожиданно для него самого. Так следует понимать и применение грядущего контрапункта.
(обратно)107
Под этим прекрасным, само собою разумеется, не следует понимать внешнюю или даже внутреннюю общепринятую нравственность, а все то, что даже и в совсем неосязаемой форме совершенствует и обогащает душу. Поэтому, например, в живописи внутренне прекрасен каждый цвет, ибо каждый цвет вызывает душевную вибрацию, и каждая вибрация обогащает душу. И поэтому, наконец, внутренне прекрасным может быть все то, что внешне «уродливо». Так это в искусстве, так оно и в жизни. И поэтому во внутреннем результате, т. е. в воздействии на душу других, нет ничего «уродливого».
(обратно)108
О внутренней красоте. (Издательство К. Robert Langewiesche, Дюссельдорф и Лейпциг, стр. 187).
(обратно)109
В нашем издании 8 репродукций немецкого издания заменены репродукциями произведений В. В. Кандинского, демонстрирующими различные этапы эволюции его творческого метода.
(обратно)110
См., например, мозаику в Равенне, которая в главной группе образует треугольник. К этому треугольнику все менее заметно склоняются остальные фигуры. Простертая рука и занавес на двери образуют фермату.
(обратно)111
Примером такой ясно различимой мелодической конструкции с открытым ритмом можно считать «Купальщиц» Сезанна.
(обратно)112
Многие картины Ходлера являются мелодическими композициями с симфоническим оттенком.
(обратно)113
Большую роль здесь играет традиция. И в особенности в искусстве, ставшем народным. Такие произведения возникают главным образом в период культурно-художественного расцвета (или при переходе в следующий). Законченный полный расцвет излучает атмосферу внутреннего покоя. В период зарождения слишком много борющихся, сталкивающихся, тормозящих элементов, и спокойствие не может быть явно преобладающей нотой. В основе своей естественно, что каждое серьезное произведение все же спокойно. Только современникам нелегко найти это последнее спокойствие (возвышенность). Каждое серьезное произведение внутренне звучит, как спокойно и величаво сказанные слова: «Я здесь». Любовь и ненависть к произведению улетучиваются, исчезают. Звучание этих слов вечно.
(обратно)114
Инициатива или самодеятельность – одна из ценных сторон (к сожалению, слишком мало культивируемая) жизни, втиснутой в твердые формы. Всякий (личный или корпоративный) поступок богат последствиями, так как он потрясает крепость жизненных форм, безотносительно – приносит ли он «практические результаты» или нет. Он творит атмосферу критики привычных явлений, своей тупой привычностью все больше делающих душу негибкой и неподвижной. Отсюда и тупость масс, на которую более свободные души непрерывно горько жалуются. Специально художественные корпорации должны были бы снабжаться возможно гибкими, непрочными формами, более склонными поддаваться новым потребностям, чем руководствоваться «прецедентами», как это было доселе. Всякая организация должна пониматься только как переход к большей свободе, лишь как еще неизбежная связь, но все еще снабженная той гибкостью, которая исключает торможение крупных шагов дальнейшего развития. Я не знаю ни одного товарищества или художественного общества, которое в самое короткое время не стало бы организацией против искусства, вместо того чтобы быть организацией для искусства.
(обратно)115
С сердечной признательностью вспоминаю я полную истинной теплоты и горячности помощь проф. А. Н. Филиппова (тогда еще приват-доцента), от которого я впервые услышал о полном человечности принципе «глядя по человеку», положенном русским народом в основу квалификации преступных деяний и проводившемся в жизнь волостными судами. Этот принцип кладет в основу приговора не внешнюю наличность действия, а качество внутреннего его источника – души подсудимого. Какая близость к основе искусства!
(обратно)116
«Проблема света и воздуха» импрессионистов не особенно меня занимала. Мне всегда казалось, что умные разговоры на эту тему имеют мало общего с искусством. Позже мне представлялась гораздо более значительной теория неоимпрессионистов, в конце концов оперировавшая вопросом воздействия краски и отказавшаяся от обсуждения воздуха. Все же я чувствовал сначала глухо, а потом и сознательно, что всякая теория, основанная на почве внешних средств (а таковы преимущественно теории вообще), является лишь единичным случаем, наряду с которым одновременно может существовать и много других. Еще позже я понял, что внешнее, не рожденное внутренним, мертворожденно.
(обратно)117
Лишь позже почувствовал я всю сладкую сентиментальность и поверхностную чувственность этой самой слабой оперы Вагнера. Другие же его оперы (как «Тристан», «Кольцо») еще долгие годы силою своею и самобытной выразительностью держали в плену мое чувство критики. Я нашел объективное для нее выражение в своей статье «О сценической композиции», напечатанной впервые по-немецки в 1913 г. (в «Der Blaue Reiter», изд. Р. Пипера, Мюнхен).
(обратно)118
Мой отец в течение всей моей жизни с необыкновенным терпением относился ко всем моим прихотям и перескакиваниям с одного поприща на другое. Он стремился с самого начала развивать во мне самостоятельность: когда мне не минуло еще и десяти лет, он привлек самого меня, насколько это было возможно, к выбору между классической гимназией и реальным училищем. Многие долгие годы он – несмотря на свои скорее скромные средства – чрезвычайно щедро поддерживал меня материально. При моих переходах с одного пути на другой он говорил со мной как старший друг, и в самых важных обстоятельствах не употреблял ни тени насилия надо мной. Принципом его воспитания было полное доверие и дружеское ко мне отношение. Он знает, как полон я благодарности к нему.
(обратно)119
Простой род употребления времени.
(обратно)120
К этому времени относится моя привычка записывать отдельные являвшиеся мне мысли. Так – как бы сама собою – для меня почти незаметно образовалась книга «О духовном в искусстве». Заметки накапливались в течение по крайней мере десяти лет. Одной из первых заметок о красочной красоте была следующая: «Живописная прелесть должна с особою силой привлекать зрителя, но одновременно она призвана скрывать глубоко запрятанное содержание». Под этим разумелось живописное содержание, но не в чистой его форме (как понимаю я его теперь), а чувство или чувства художника, живописно им выражаемые. В ту пору еще живо было во мне заблуждение, что зритель идет с открытой душой навстречу картине и ищет в ней родственной ему речи. Такие зрители и на самом деле существуют (что вовсе не заблуждение), но они редки, как крупинки золота в песке. Существуют даже такие зрители, которые отдаются произведениям и черпают из произведений, независимо от того, родственен ли им по духу язык их или нет.
(обратно)121
И теперь признают многие критики дарование за моими старыми картинами, что и служит в большинстве случаев отличным доказательством их слабости. В позднейших, и, в частности, последних, они усматривают заблуждение, тупик, падение моей живописи, а часто и обман, что и служит в большинстве случаев отличным доказательством все увеличивающейся силы этих картин. Опытность и годы развивают безразличие к этого рода оценкам. Там и здесь прорывающиеся хвалебные гимны моей живописи (которым суждено звучать все громче) уже лишены силы волновать меня, как это было во время моих дебютов: художественная критика газет и даже журналов никогда не создавала «общественного мнения», а всегда создавалась им. А именно это-то мнение достигает ушей художника значительно раньше газетных столбцов. Но, думается мне, и само это мнение с твердостью и определенностью угадывается самим художником задолго до его образования. В какую бы сторону ни ошибались вначале (а иногда в течение многих, многих лет) и это мнение, и создаваемая им критическая оценка, художник в общем всегда знает в пору своей зрелости цену своему искусству. И ужасна должна быть художнику не внешняя его недооценка, а внешняя его переоценка.
(обратно)122
Благородный отшельник города Кадникова, секретарь земской управы, не встречающий интереса в России и печатаемый в Германии ботаник и зоолог, автор серьезных этнографических изысканий и… организатор земской эксплуатации роговых кустарных изделий, выхваченных им из беспощадных рук скупщиков. Впоследствии Н. А. было предложено интересное и выгодное положение в Москве, но он в последнюю минуту отказался: у него не было духу покинуть свое скромное внешне и такое значительное внутренне дело. Во время этой поездки мне не раз случалось встречать одиноких и действительно самоотверженных делателей будущей России, счастливой уже и этой стороной в пестрой ее сложности. Среди них не последнее место занимали сельские священники.
(обратно)123
Часто обсуждаемая нервность, наследие 19-го века, породившая целый ряд небольших, хотя и прекрасных произведений во всех областях искусства и не давшая почти ни одного большого и внутренне и внешне, надо думать, уже на исходе. Мне кажется, что время новой внутренней определенности, духовного «знания», становится все ближе, а оно-то только и может дать художникам всех искусств то необходимое длительное напряжение в равновесии, ту уверенность, ту силу над самим собою, которые являются необходимой, лучшей, неизбежной почвой для произведений большой внутренней сложности и глубины.
(обратно)124
В противоположность немецкому, французскому, английскому короткому слову это длинное русское слово как бы отпечатлело в себе всю историю произведения – длинную и сложную, таинственную и с призвуками «божественной» предопределенности.
(обратно)125
В наших современниках еще так силен принцип l’art pour l’art в его поверхностном смысле, душа их еще так засорена этим «как» в искусстве, что они способны верить ходовому теперь утверждению: природа есть только предлог для выражения художественного, сама по себе она не существенна в искусстве. Именно только привычка поверхностного переживания формы могла до такой степени заглушить душу, что она может не слышать звучания какого-нибудь, хотя бы и второстепенного, элемента в произведении. Мне кажется, что благодаря уже наступившему внутреннему – душевному перевороту нашей совершенно особенной эпохи скоро это поистине «безбожное» отношение к искусству если и не изменится во всем своем объеме, т. е. в массе художников и «публики», то все же перейдет на более и в этой массе здоровую почву. У многих же проснется их живая и лишь временно приглушенная душа. Развитие душевной восприимчивости и смелости в собственных переживаниях – главнейшие, неизбежные к тому условия. Этому сложному вопросу я посвятил жестко-определенную статью «О форме в искусстве» в «Der Blaue Reiter».
(обратно)126
Антон Ашбе, славянин по происхождению, был даровитым художником и человеком редких душевных качеств.
Многие из его бесчисленных учеников учились у него безвозмездно. На просьбу поработать у него даром он неизменно отвечал: «Работайте, только как можно больше!» Его личная жизнь была, вероятно, очень несчастна. Можно было слышать, но не видеть его смеющимся: губы его в смехе только немножко раздвигались, глаза оставались печальными. Не знаю, известна ли кому-нибудь тайна его жизни. А смерть его была так же одинока, как и жизнь: он умер совершенно один в своей мастерской. Несмотря на его очень крупный заработок, после него осталось всего несколько тысяч марок. Вся мера его щедрости открылась только по его смерти.
(обратно)127
А не для художниц: женщины не допускались на эти лекции, так же как и в академию, что так осталось и до сегодня. Даже в частных школах всегда бывал женоненавистнический элемент. Так и у нас после «собачьей революции» (раньше ученики приходили в мастерскую с собаками, что по постановлению самих же учеников было позже запрещено) было немало охотников произвести «бабью революцию» – «выкинуть баб вон». Но сторонников этой «революции» оказалось недостаточно, и милая эта мечта осталась в области несбывшихся желаний.
(обратно)128
В низший, «рисовальный», класс академии ученики принимаются после официального экзамена всем советом профессоров этих низших классов. В высший, «живописный», профессор принимает по своему личному усмотрению и, придя к убеждению, что ошибся в талантливости ученика, также самостоятельно вычеркивает его из списков, что, впрочем, делал, кажется, только Stuck, почему его очень боялись.
(обратно)129
Я разумею под этими двумя главными ветвями два различных рода деятельности в искусстве. Род виртуозный (известный уже давно музыке как специальное дарование и которому в области литературы соответствует сценическое искусство актера) выражается в более или менее индивидуальном восприятии и в художественной, творческой интерпретации «природы» (яркий пример – портрет). Под природой здесь следует понимать и уже существующие, другой рукой созданные произведения: вырастающее отсюда виртуозное произведение относится к роду написанных «с натуры» картин. Желание создавать такие виртуозные произведения до сих пор в общем либо подавлялось в себе художниками, либо отрицалось в возникших этим путем произведениях – о чем только можно пожалеть. Большие художники не боялись этого желания. К этому же роду относятся и так называемые копии: художник стремится подойти к чужому произведению так же близко, как это делает добросовестный в точности дирижер с чужой композицией.
Другой род есть род композиционный, при котором произведение возникает преимущественно или целиком «из художника», что известно в музыке уже в течение столетий. В этом смысле живопись догнала музыку, и оба эти искусства исполняются все растущей тенденцией создавать «абсолютные» произведения, т. е. неограниченно «объективные», вырастающие подобно произведениям природы, «сами собою», чисто закономерным путем и как самостоятельные существа. Эти произведения стоят ближе к живущему in abstracto искусству, и, быть может, только одни они призваны воплотить в неразгаданное время это живущее in abstracto искусство.
(обратно)130
Я заметил, что этот взгляд на искусство вырастает в то же время из чисто русской души, в примитивных уже формах своего народного права являющейся антиподом западноевропейскому юридическому принципу, источником которого было языческое римское право. При решительной логике внутренняя квалификация может быть объяснена следующим образом: данный поступок данного человека не есть преступление, несмотря на то что он в общем и относительно других людей должен быть рассматриваем как преступление. Следовательно, в этом случае преступление не есть преступление. И далее: абсолютного преступления нет (какая противоположность «nulle poena sine lege»). Еще дальше: не поступок (реальное), но его корень (абстрактное) созидает зло (и добро). И наконец: каждый поступок морально безразличен. Он стоит на рубеже. Воля дает ему толчок – он падает направо или налево. Внешняя шаткость и внутренняя точность в этом отношении высоко развиты у русского народа, и едва ли я ошибаюсь, предполагая у русских особо сильную способность в этом направлении. А потому и не удивительно, что народы, воспитавшиеся на – во многих отношениях ценных – принципах формального, внешне необыкновенно точного римского духа (напоминаю опять jus strictum раннего периода), либо глядят на русскую жизнь, пожимая плечами, либо отворачиваются от нее с презрительным осуждением. В особенности поверхностные наблюдатели видят в этой чужому глазу странной жизни только мягкость и внешнюю шаткость, принимаемые за «беспринципность», причем от них ускользает скрытая в глубине внутренняя точность. Следствием отсюда является та снисходительность свободомыслящих русских к другим народам, в которой им самим эти народы отказывают. Та снисходительность, которая так часто переходит у русских в восторженность. Постепенным освобождением духа – счастьем нашего времени – я объясняю тот глубокий интерес и все чаще замечаемую «веру» в Россию, которые все больше охватывают способные к свободным восприятиям элементы в Германии. В последние перед войной годы ко мне все чаще стали приходить в Мюнхене эти прежде не виданные мною представители молодой, неофициальной Германии. Они проявляли не только живой внутренний интерес к сущности русской жизни, но и определенную веру в «спасение с востока». Мы ясно понимали друг друга и ярко чувствовали, что мы живем в одной и той же духовной сфере. И все же меня часто поражала интенсивность их мечты «когда-нибудь увидеть Москву». И было как-то особенно странно и радостно видеть среди посетителей совершенно такого же внутреннего склада швейцарцев, голландцев и англичан. Уже во время войны, в бытность мою в Швеции, мне посчастливилось встретить и шведов опять-таки того же духа. Как медленно и неуклонно стираются горы, так же медленно и неуклонно стираются границы между народами. И «человечество» уже не будет пустым звуком.
(обратно)131
«Духовное» года два пролежало в моем столе. Все попытки осуществить «Синего всадника» кончились неудачей. Franz Marc, с которым я в ту пору общей ко мне вражды познакомился, нашел издателя для первой книги. Осуществлению второй он помог также и своим умным и талантливым сотрудничеством.
(обратно)132
Например композиционной построение трех основных плоскостей как основы конструкции в произведении. В остаточном виде эти принципы еще недавно (а может быть, и до сих пор) использовались в художественных академиях.
(обратно)133
О чем тут же появилась книга Синьяка «от Делакруа к неоимпрессионизму». [М., 1913.] (по-немецки: Charlottenburg, 1910).
(обратно)134
О взаимодействии элементов цвета и формы см. мою статью «Основные элементы формы» в «Staatlichen Bauhaus’ 1919–1923, Bauhaus-Verlag, Weimar – München, S. 26 u. Farbtafel V.
(обратно)135
Существует геометрическое определение точки через О = «origo», что значит «начало», или происхождение. В данном случае геометрическая и живописная точки зрения совпадают. Точку можно обозначить также как символ «первоэлемента» («Das Zeichenbuch» von R. Koch, II. Auflage, Verlag W. Gerstung, Offenbach a. M., 1926).
(обратно)136
Сравни: Heinrich Jacoby – Jenseits von «musikalisch» und «unmusikalisch», Stuttgart, Verlag F. Enke, 1925. Различие между «материей» и энергией звука (с. 48).
(обратно)137
Причина этого деления чисто внешняя. Но если бы потребовалось более точное определение, то было бы логично делить живопись на ручную и печатную, что по праву указывало бы на техническое происхождение произведения. Понятие «графика» перестало бы быть неясным – нередко графикой считается и акварель, что может служить наилучшим доказательством полного беспорядка в привычных понятиях. Написанная от руки акварель является произведением живописи или, при более точном обозначении, ручной живописью. Та же самая акварель, репродуцированная литографически точно, является произведением живописи или, при более точном обозначении, – печатной живописью. В качестве существенного различия можно было бы добавить определение «черно-белая» или «цветная» живопись.
(обратно)138
Например, впервые такие попытки были предприняты в Москве в 1920 году во «Всероссийской академии художественных наук».
(обратно)139
При моем окончательном переходе к абстрактному искусству мне, бесспорно, стал понятен элемент времени в живописи, и с тех пор я применяю его на практике.
(обратно)140
Это утверждение может быть понятным в полной мере только при пояснениях в главе об основной плоскости.
(обратно)141
С этим вопросом связан «современный» специальный вопрос: может ли быть создано произведение чисто механическим путем? В случаях простейших числовых заданий он должен получить утвердительный ответ.
(обратно)142
Тот факт, что точка и на некоторых музыкантов оказывает более или менее осознанное, но все же пленяющее воздействие, которое отчетливо можно увидеть во внутреннем характере точки, становится ясно на примере «навязчивых идей» Брукнера. Под поверхностью этих идей скрывалось понятное для некоторых содержание: «Любование точками в росписях и на дверных таблицах, возможно, было основано на внутреннем принуждении. Но это любование все-таки не являлось заблуждением, заставляющим Брукнера упереться в точки. Если принять во внимание склад характера Брукнера и в особенности то, как он искал знания, тогда оказывается, что в основе его увлечения точкой, этим проэлементом всего пространства, лежит психологический смысл. В принципе он во всем искал последней внутренней точки, в них ему открывалась бесконечная величина и в них был возврат к первому элементу». «Brückner» Dr. Ernst Kurth, В. I, S.110, Anm., Max Hesses-Verlag, Berlin.
(обратно)143
В этих переводах весьма ценную помощь мне оказал господин генеральный директор Франц фон Хеслин, которому я хочу выразить свою сердечную благодарность.
(обратно)144
Здесь не место излагать этот вопрос подробно.
(обратно)145
Разложение плоскости на точки – это, конечно, совсем другой случай, возникающий по техническим причинам, как, например, в цинкографии, где деление растра на точки неизбежно, но точка не играет здесь самостоятельной роли и намеренно оттеснена настолько, насколько это позволяет техника.
(обратно)146
См. характеристики желтого и синего цветов в моей книге «Über das Geistige in der Kunst», R. Piper-Verlag, München, 3 Auflage, 1912, S.73, 76, 77 und Tabelle I и II. Особенно важно осторожное употребление этого термина при анализе «рисуночной формы», потому что именно направление играет здесь определяющую роль. Нужно, к сожалению, констатировать, что живопись в меньшей степени располагает точной терминологией, и это необычайно затрудняет научную работу, а иногда делает ее практически невозможной. Здесь нужно начинать с самого начала, и предварительным условием этого является создание словаря терминов. Попытка, предпринятая в Москве в 1919 году, не привела к конкретным результатам. Может быть, тогда это было еще преждевременно.
(обратно)147
См. «О духовном в искусстве», где я называю черный цвет символом смерти, а белый – символом рождения. То же самое может быть с полным правом сказано о горизонтали и вертикали – плоско и высоко. Первая – лежание, вторая – стояние, хождение, передвижение и, наконец, возвышение. Несущее-растущее. Пассивное – активное. Соответственно: женское – мужское.
(обратно)148
Подобная ситуация должна породить сильную реакцию, однако нельзя искать спасения в прошлом, как это сегодня отчасти происходит. Мы все чаще в последнее десятилетие наблюдаем бегство в прошлое – греческая «классика», итальянское кватроченто, поздний Рим, «примитивное» искусство (включая «диких»), сейчас в Германии старые «немецкие мастера», в России иконы и т. д. Во Франции мы видим лишь незначительный поворот головы из «сегодня» во «вчера», в противоположность немцам и русским, которые спускаются в самую глубь. Будущее кажется современному человеку пустым.
(обратно)149
Между красным, серым и зеленым в различной связи могут быть проведены параллели: красный и зеленый – переход от желтого к синему, серый – переход от серого к белому и т. д. Это относится к теории цвета. Пояснения см. в «О духовном в искусстве».
(обратно)150
См. «О духовном в искусстве».
(обратно)151
Кроме интуитивного перевода, необходимы планомерно проводимые в этом направлении лабораторные эксперименты. При этом было бы желательно каждое подвергнутое переводу явление вначале проверить на содержание в них лирического и драматического, а затем в соответствующей области линейного найти подходящую форму для данного случая. Кроме того, анализ уже имеющихся «переведенных произведений» смог бы пролить резкий свет на этот вопрос. В музыке подобные переводы представлены в большом количестве: музыкальные «картины» явлений природы, музыкальная форма произведений других искусств и т. д. Русский композитор A. A. Шеншин проделал в этом направлении чрезвычайно ценные опыты на примере пьес Листа «Années de pélérinage», сочиненных, в свою очередь, по мотивам «Pensieroso» Микеланджело и «Sposalizio» Рафаэля.
(обратно)152
См. «О духовном», с. 83, таблицы II и V, и статью «Основные элементы формы», ст. в сб. «Государственный Баухауз 1919–1923», 1923.
(обратно)153
См. там же.
(обратно)154
В химии для подобных случаев применяется не знак равенства, а знак что указывает на взаимосвязь. Моей задачей является толкование «органической» взаимосвязи элементов живописи. В случае невозможности в полной мере обоснованно доказать идентичность я хочу с помощью установления этого знака указать на внутреннюю связь. В таких случаях можно не бояться возможных ошибок: истинное нередко достигается путем заблуждений.
(обратно)155
Происхождение круга будет показано при анализе кривой линии – наступление и уступающее утверждение.
Круг – это каждый раз особый случай среди первичных форм, он не может быть образован прямыми линиями.
(обратно)156
Если исследование проведено точно и планомерно, то различия по отношению не только к нации, но и расе, которые требуют внимательного рассмотрения, могут быть установлены без особого труда. Но в деталях, приобретающих нередко неожиданно важное значение, иногда невозможно устранить непреодолимые препятствия – влияния, действующие именно в деталях часто в самом начале культуры, приводят в отдельных случаях к внешним подделкам и, таким образом, затемняют дальнейшее развитие. С другой стороны, при планомерной работе мало учитываются чисто внешние явления и могут в таком виде теоретической работы остаться без внимания, что, конечно, было бы невозможно при исключительно «позитивистской» установке. В этих «простых случаях» односторонняя точка зрения привела бы к односторонним заключениям. Было бы неразумно полагать, что народ как бы случайно был перемещен в то географическое положение, которое определяет его дальнейшее развитие. А также недостаточно было бы утверждать, что, в конце концов, исходящие от самого народа политические и экономические условия направляют и формируют его созидательную силу. Целью же созидательной силы является внутреннее, поэтому это внутреннее не может выявляться только из одного внешнего.
(обратно)157
См. «О духовном в искусстве».
(обратно)158
Спираль является регулярно отклоняющимся кругом (рис. 37), где действующая изнутри сила соразмерной массы превосходит равномерным образом внешнюю силу. Таким образом, спираль – это равномерно отклоняющийся круг. Но для живописи помимо этого отличия необходимо проследить еще более существенное: спираль – линия, в то время как круг является плоскостью. Это отличие, столь важное для живописи, отсутствует в геометрии: в геометрии, помимо круга, эллипс, лемнискату и сходные плоскостные формы считают (закругленными) линиями. Употребляемое здесь обозначение «кривая» снова не соответствует более точной геометрической терминологии, которая, с ее точки зрения, на основе формул должна провести необходимую классификацию элементов – парабола, гипербола и т. д., не учитывающихся в живописи.
(обратно)159
Тождественность основных элементов скульптуры и архитектуры отчасти объясняет торжествующее сегодня поглощение скульптуры архитектурой.
(обратно)160
Употребляемые здесь названия основных элементов разных искусств нужно рассматривать как временные. Общепринятые понятия также туманны.
(обратно)161
Это ясный пример необходимости одновременного применения интуиции и расчета.
(обратно)162
См. пояснения в книге «О духовном в искусстве» и в моей статье «О сценической композиции» в альманахе «Синий всадник», Мюнхен, 1912.
(обратно)163
О звучании «справа», «слева» и его напряжениях см. дальше, в главе «Основная плоскость».
Действие справа и слева можно проверить, держа книгу перед зеркалом, а сверху и снизу – с помощью ее перевертывания.
«Зеркальная картинка» и «становление с ног на голову» являются еще довольно скрытыми фактами, имеющими важное значение для учения о композиции.
(обратно)164
Некоторые таблицы большого формата в конце этой книги иллюстрируют эти примеры наглядно.
(обратно)165
Средство нахождения на границы («An-die-Grenze-Gehen») выходит далеко за пределы вопроса «линия – плоскость» и касается всех без исключения элементов живописи и их применения. Например, использование этого средства во многом расширяет выразительные возможности цвета, им также оперирует основная плоскость. Вместе с другими средствами выражения оно относится к правилам и законам композиции.
(обратно)166
См. «Über das Geistige», S. 113
(обратно)167
Повторение аккордов другими равноценными по высоте звучания инструментами надо рассматривать как полихромно-качественное повторение.
(обратно)168
Линия органично вырастает из точки.
(обратно)169
В физике при измерении высоты звука применяется специальный аппарат, который механически проецирует на плоскость колебание звука и дает таким образом музыкальному звуку точное графическое изображение. Подобное применяется и по отношению к цвету. Во многих важных случаях наука об искусстве уже сегодня может таким образом воспользоваться графическим переводом как материалом для создания синтетического метода.
(обратно)170
Отношения живописных средств выражения к средствам выражения других искусств и, наконец, к явлениям других «миров» здесь могут быть рассмотрены лишь поверхностно. В частности, «переводы» и их возможности – вообще перенос различных явлений в соответствующие линейные («графические») и цветные («живописные») формы – требует подробного изучения – линейного и цветового выражения. В принципе нельзя сомневаться, что каждое явление всякого мира допускает такое выражение – выражение его внутренней сущности – будь то гроза, И. С. Бах, страх, космическое событие, Рафаэль, зубная боль, явление «высшего» или «низшего» порядка, переживание возвышенное или обычное. Единственной опасностью было бы остановиться на внешней форме и пренебречь содержанием.
(обратно)171
Особенный и очень важный случай в технике – применение линии в качестве графического числового выражения. Автоматическая линейная запись (применяется также при метеорологических исследованиях) является точным графическим изображением возрастающей или убывающей силы. Этот график дает возможность свести до минимума употребление цифр – линия частично заменяет цифру. А возникшие таким образом таблицы наглядны и доступны даже неспециалисту (рис. 67).
Этот же самый метод, фиксирующий развитие линейного возрастания или ежесекундное состояние, много лет применяется в статистике, где таблицы (диаграммы) чертятся от руки и являются результатом кропотливой, педантично проведенной работы. Этот метод применяется также и в других науках (например, в астрономии «кривая цвета»).
(обратно)172
Поучительный пример представляет специальная техническая конструкция – мачта, установленная для линии дальней электропередачи (рис. 69). Складывается впечатление, что это «технический лес», очень похожий на «настоящий лес» с его распластанными пальмами или елями. Для того чтобы графически изобразить подобную мачту, в конце концов, достаточно использования двух основных первоэлементов – линии и точки.
(обратно)173
Прикрепление листьев к ветке происходит самым точным способом и может быть выражено в математической формуле – числовом выражении – в науке этот способ схематизирован в виде спирали (рис. 72). Сравни с геометрической спиралью на рис. 37.
(обратно)174
Тому, что в последние годы художникам особенно важной в живописи показалась точно-геометрическая конструкция, имеются две причины: 1, обязательное и естественное применение абстрактного цвета во «внезапно» проснувшейся архитектуре, где цвет вообще-то играет второстепенную роль и к чему «чистая» живопись неосознанно готовилась в «вертикали – горизонтали»; 2, естественно возникающая, захватывающая живопись необходимость вернуться к элементарному, и это элементарное искать не только в самом элементарном, но и в конструкции. Помимо искусства это стремление можно заметить как в общем образе жизни «нового» человека, так и – в большей или меньшей степени – во всех других областях как свидетельство того перехода от первоначального к более сложному, который непременно рано или поздно произойдет. Ставшее автономным абстрактное искусство и здесь подчиняется «закону природы» и вынуждено продвигаться вперед так, как когда-то сама природа, которая скромно начинала с протоплазмы и клеток, чтобы затем постепенно шагать вперед к более сложным организмам. Абстрактное искусство также создает сегодня первичные или более или менее первичные организмы искусства, их дальнейшее развитие сегодняшний художник может предугадать лишь в общих чертах, которые его привлекают, возбуждают, но также и успокаивают, когда он смотрит на перспективы будущего. Здесь можно, к примеру, заметить, что для тех, кто сомневается в будущем абстрактного искусства, оно находится на стадии развития, сравнимой со стадией развития амфибий, которые достаточно далеко удалены от развитых позвоночных животных и представляют собой не конечный результат создания, а скорее «начало».
(обратно)175
В узких границах этого текста подобные важные вопросы могут быть затронуты лишь мимоходом: они относятся к учению о композиции. Здесь нужно лишь подчеркнуть, что элементы в разных созидающих областях одни и те же, а их различие проявляется только в конструкции. Приведенные примеры должны быть рассмотрены здесь лишь как таковые.
(обратно)176
Пример плодотворного влияния живописи на другие искусства. Разработка этой темы могла бы привести к потрясающим открытиям в истории всех искусств.
(обратно)177
Например, исключение цвета или ослабление его звучания до минимума в некоторых произведениях кубизма.
(обратно)178
Надо заметить, что три способа графики связаны с социальными формами и имеют социальное значение. Офорт – несомненно аристократического происхождения: он может представить лишь несколько хороших оттисков, которые к тому же получаются каждый раз по-разному: каждый оттиск уникален. Ксилография – более изобильна и более равноценна, но непригодна для подробной передачи цвета. Литография, напротив, в состоянии дать почти неограниченное количество оттисков, сделанных за минимальный срок и чисто механическим путем, она близка в передаче цвета к написанной рукой картине и в любом случае способна ее заменить. Все это позволяет говорить о демократическом характере литографии.
(обратно)179
Такие понятия, как «движение», «подъем», «падение» и т. д., взяты из материального мира. На живописной ОП они воспринимаются как живущие в элементах напряжения, преобразующиеся благодаря напряжениям ОП.
(обратно)180
Видимо, эти представления позже переносятся на уже законченное произведение, и вероятно, не только у самого художника, но и у объективного зрителя, к которому в какой-то мере может быть причислен и художник, например в случае, когда он занимает позицию объективного зрителя по отношению к произведениям других художников. Возможно, эти представления объясняются тем, что лежащее от меня справа есть «правое», так как в действительности невозможно отнестись к произведению с полной объективностью и совсем исключить субъективное.
(обратно)181
Не случайно столь явное родство квадрата с красным цветом: квадрат красный цвет.
(обратно)182
См. «Über das Geistige».
(обратно)183
Изображение обнаженной натуры, естественно, требует более вытянутого вверх формата.
(обратно)184
Сравни с рис. 79 – ось, отклоняющаяся к верхнему углу вправо.
(обратно)185
Важной задачей было бы исследование различных произведений с четко диагональным построением относительно вида их диагоналей и внутренней связи с живописным содержанием этих произведений. Например, я по-разному использовал диагональное построение, что мною было осознано значительно позже. Так, на основании вышеуказанной формулы «Композиция I» (1910) может быть определена как построение cb и da с решительным выделением диагонали cb, являющейся позвоночником изображения.
(обратно)186
В позиции I формы идут по направлению нормального напряжения квадрата, а в позиции II – по направлению гармоничной диагонали.
(обратно)187
«Наше время» состоит из двух прямо противоположных частей – тупика и порога, с сильным преобладанием первого. Преобладание темы тупика исключает обозначение «культура» – время всегда бескультурно, при этом некоторые ростки будущей культуры могут обнаруживаться то там, то здесь – тема порога. Эта тематическая дисгармония является «знаком» «сегодняшнего дня», который мы постоянно наблюдаем.
(обратно)188
При такого рода экспериментах целесообразно больше доверять первому впечатлению, поскольку способность чувственного восприятия быстро утрачивается и дает полную свободу воображению.
(обратно)189
Это усиленное напряжение и прикрепление к верхней границе дают возможность линии в случае 2 казаться длиннее, чем в случае 1.
(обратно)190
Дополнительные композиционные таблицы наглядно поясняют подобные случаи.
(обратно)191
Ясно, что преобразование материальной плоскости и связанный с этим общий характер сопоставляющихся с нею элементов в некотором отношении должны иметь очень важные последствия. Среди них одним из самых важных является изменение в ощущении времени: пространство ассоциируется с глубиной, а также с уходящими в глубину элементами. Не случайно я обозначил пространство, возникающее при дематериализации, как пространство «недифференцируемое» – его глубина в конечном счете иллюзорна и поэтому неизмерима. Время в таких случаях не имеет числового выражения и содействует этому процессу лишь относительно. С другой стороны, иллюзорная глубина с живописной точки зрения является реальной и вследствие этого потребует определенного, правда, времени, чтобы следовать за уходящими в глубину элементами формы. Таким образом, преобразование материальной ОП в недифференцируемое пространство увеличивает возможность измерения времени.
(обратно)192
Впервые: Die Grundelemente der Form. Farbkurs und Seminar // Staatliches Bauhaus Weimar. 1919–1923. Weimar; München, 1923.
(обратно)193
Специальный вопрос особой важности представляют собой социальные взаимосвязи, которые, однако, как таковые выходят за пределы вопроса о цвете и поэтому заслуживают специального изучения.
(обратно)194
Впервые: Der Wert des theoretischen Unterrichts in der malerei // Bauhaus (Dessau). 1926. № 1. S. 4.
(обратно)195
Впервые: Kunstpädagogik // Bauhaus (Dessau). 1928. № 2–3. S. 8, 10–11.
(обратно)
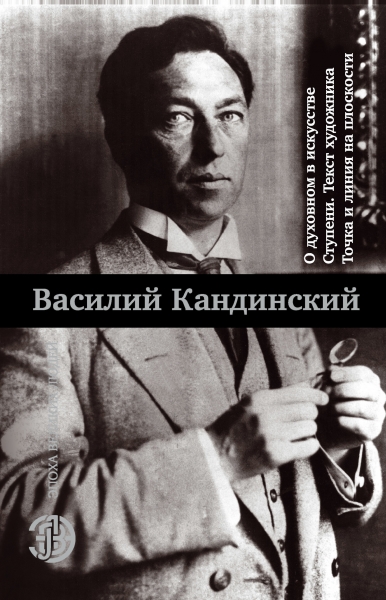




Комментарии к книге «О духовном в искусстве. Ступени. Текст художника. Точка и линия на плоскости», Василий Васильевич Кандинский
Всего 0 комментариев