А. В. Кулагин Шпаликов
МОСКВА — КИЕВ — МОСКВА
Во внешности Геннадия Шпаликова было что-то восточное: широкие скулы, суженный разрез глаз, смугловатый цвет кожи, тёмные волосы. И неспроста: его фамильные корни идут из башкирской земли.
Отец будущего кинодраматурга и поэта, Фёдор Григорьевич Шкаликов (именно так писалась изначально его фамилия), родился в 1908 году в селе Зирган. Ныне оно входит в состав Мелеузовского района. Село большое, известное с пугачёвских времён: «казачий царь» как раз в этих краях и лиховодил, а находящийся недалеко от Зиргана город Салават и название своё получил по имени пугачёвского сподвижника Салавата Юлаева; советская власть борцов с царизмом всячески превозносила. Правда, город появится позже, в конце 1940-х годов. В семье Шкаликовых было трое братьев: Фёдор, Алексей и Павел. Сын Алексея Владимир станет тоже известным в своём деле человеком — крупным учёным, доктором биологических наук, профессором, заведующим кафедрой в столичной Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Двоюродные братья Гена и Володя, будучи уже москвичами, поддерживали родственную связь, общались. А Шкаликовы в Зиргане живут и по сей день.
Окончив Зирганскую школу, способный к учёбе Фёдор отправляется пешком в башкирскую столицу — Уфу. Денег на дорогу не было, да и не на чем было ехать по тамошней глуши, а идти пришлось более полутораста километров! Юноша поступает на рабфак: была в начале советской эпохи такая ускоренная форма образования для выходцев из простых семей. После рабфака он едет в Москву, становится студентом текстильного института. Проучившись там два года, переводится в Военно-инженерную академию им. Куйбышева (в 1920–1930-е годы вошло в обычай называть города, заводы, институты именами здравствующих советских вождей — Сталина, Калинина, Куйбышева…). Во время учёбы в академии, оформляя паспорт, он заменил в неблагозвучной фамилии букву «к» на «п». Так появилась фамилия Шпаликов. Учился Фёдор успешно, и после получения диплома его оставили в Москве, тем более что и личная жизнь его устроилась именно в столице. Фёдор Шпаликов женился на юной московской красавице Людмиле Перевёрткиной, уроженке воронежской земли, дочери смотрителя железнодорожных складов Никифора Перевёрткина, убитого в Гражданскую войну белогвардейцами на станции Таловая, в полутораста километрах от Воронежа, по семейной легенде, за то, что помогал эвакуировать мирных жителей. Жена его, Генина бабушка Дарья Сергеевна, осталась с восемью детьми; Людмила была младшей дочерью. Теперь девушка жила в Москве. Перебраться в столицу помог, по-видимому, брат — Семён Никифорович Перевёрткин, фронтовик, Герой Советского Союза, крупный военный. Дядя Сеня, как звал его племянник, командовал на войне дивизией, затем стрелковым корпусом, участвовавшим в штурме Берлина. Высокие посты — в Министерстве обороны, затем в Министерстве внутренних дел — он занимал и после войны, дослужился до звания генерал-полковника.
Разница в возрасте между Фёдором и Людмилой составляла десять лет, и муж то и дело ревновал жену — не потому, что для этого был повод, а в силу своего характера. Был он склонен и к спиртному, так что жизнь молодой семьи вряд ли была безоблачной. Но была в отце и склонность к прекрасному, и может быть, поэтическое видение мира перешло к Гене от него. «Моему отцу, — читаем в одной из шпаликовских дневниковых заметок, — нравилось рисовать снег на закате, весной. Вернее, он писал, красками, на холсте, и всё время: снег, закат, желтизну неба, розовый снег по берегам освобождённой ото льда реки, и её тёмную воду, ещё более тёмную между снежных берегов…» Едва ли он записывает это по памяти, скорее, по семейным рассказам: слишком уж мал был Гена Шпаликов, чтобы хорошо запомнить отца, которого он потеряет очень рано (об этом речь впереди). Сын не станет живописцем, хотя иногда будет рисовать для себя. Зато он станет поэтом, и «освобождённая ото льда река» не раз появится в его стихах.
Между тем супругов ждала дальняя дорога. 25 июля 1936 года Совет народных комиссаров (тогдашний аналог нынешнего правительства) принял постановление о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в карельском посёлке Сеге́жа. Посёлок расположен в северной части территории республики, на железной дороге Ленинград — Мурманск (с 1943 года Сегежа, благодаря комбинату заметно укрупнившаяся, стала официально именоваться городом). Карелия — лесной край, с обильными запасами живой древесины, и где же как не здесь создавать такое производство. Фёдор Григорьевич получил назначение в Сегежу. Поехала с ним и Людмила Никифоровна, устроившаяся работать воспитательницей детского сада. Там, в Сегеже, и появился на свет их первенец, Геннадий. Произошло это 6 сентября 1937 года.
Название Сегежа в переводе с карельского означает «чистый, свежий». Вероятно, тот, кто впервые это слово здесь произнёс, имел в виду воду Выгозера, на берегу которого Сегежа стоит и в которое впадает речка, тоже называемая Сегежа. Карельская природа необычна: сосновые леса, многочисленные озёра, валуны — остатки древнего ледника. Но Гена Шпаликов ни посёлка, ни озера, ни речки не запомнил и не мог запомнить: уж очень недолго он пожил на своей малой родине, сознательного возраста не достиг. Сталинская власть любила экстенсивные темпы: «догнать и перегнать…». Стране была нужна бумажная тара, и как можно быстрее. Комбинат для её производства был построен за неполных три года. В 1939-м, когда необходимость в инженерах-строителях в Сегеже отпала, семья уехала обратно в Москву.
Шпаликовы поселились на северо-западе столицы, в Покровском-Стрешневе, недалеко от Тушинского аэродрома, где «вождь и учитель, лучший друг советских пионеров и физкультурников», любил лицезреть воздушные парады. Местность получила название по сохранившейся дворянской усадьбе Стрешневых. В 1930-е годы о дворянском прошлом этих мест не очень-то вспоминали. Не такую уж и далёкую по времени дореволюционную эпоху с её «сословными пережитками» быстро оттеснили приметы другой жизни. Район был наскоро застроен неказистыми типовыми домами в три-четыре этажа, выкрашенными в жёлтый цвет, то с зелёными заборами, то с палисадниками и столиками для игры в домино, одновременно служившими, естественно, и для других целей. Вместо домино на них порой появлялись бутылочка и нехитрая закусочка. На протянутых между врытыми в землю столбами верёвках сушилось постиранное бельё, в которое порой попадал грязный мяч тут же игравших в футбол мальчишек. Уныло-однообразный пейзаж, типичная окраина, как будто и не Москва вовсе. О большом городе напоминал разве что трамвай — 23-й номер, на котором можно было доехать в центр, до Тверского бульвара. В Покровском-Стрешневе Шпаликовы, семья которых пополнилась в декабре 1938 года дочкой Леной, жили до и после войны. Но между «до» и «после» была сама война.
Отец работал в это время в своей альма-матер — в Академии им. Куйбышева. Будучи уже опытным военным инженером и организатором, он занимался эвакуацией различных предприятий. Сведения о том, где была в военные годы его семья, разноречивы. Сам Гена позже напишет в автобиографии: «Осенью 1941 года… нас эвакуировали в г. Фрунзе, вернее — жили мы в деревне Аларче, это недалеко от города». Правильное название села — Нижняя Ала-Арча. Фрунзе же — советское название города Бишкек, столицы Киргизии — в ту пору одной из республик СССР. В самом деле, академия была эвакуирована во Фрунзе, здесь противоречия нет. Но двоюродная сестра Геннадия Зинаида Алексеевна Шкаликова вспоминает, что семья Фёдора Григорьевича находилась во время войны в Зиргане, у его родных, и даже приводит эпизод, когда непоседливый Гена, которому всё в селе было в диковинку, упал в погреб — слава богу, без серьёзных последствий. Могло быть так, что длившаяся два с лишним года эвакуация (семья вернулась в Москву в конце 1943 года) вобрала в себя жизнь и в Зиргане, и во Фрунзе. Допустим, отец сначала устроился в киргизской столице сам, а потом вызвал туда семью, переждавшую это время в Башкирии.
Со Шпаликовыми эвакуировалась и бабушка Даша. 23-летняя Людмила с двумя детьми на руках сама нуждалась в поддержке, и бабушка, многое повидавшая на своём веку, мужественно взяла на себя роль главы семьи. В тесноте и неуюте вагона, а затем и теплушки, с постоянной необходимостью думать о питании и о воде, опасаясь бомбёжек, которые несколько раз случались в пути, — они ехали через Куйбышев (советское название Самары), ставший в те месяцы как бы эвакуационной столицей страны, на восток.
В памяти Гены сохранились кое-какие воспоминания об эвакуации. Жили трудно, еды было мало. Киргизия — фруктовый край, но одними фруктами сыт не будешь. Мясо в семье полагалось только кормильцу — отцу, очень сильно похудевшему в ту пору. Гена однажды потихоньку умыкнул с кухни две котлеты, но не для себя: ребята с улицы обещали сделать ему рогатку за этот «гонорар». Обманули, не сделали, а за котлеты ему влетело: родители выгнали из дома в холодный вечер в одной рубашке, он страшно замёрз, через полчаса был прощён и впущен домой. Запомнилось ещё, как провинился соседский мальчишка по имени Славка. Отец с матерью поручили ему коптить свинью — он прокоптил так, что остались одни кости. Боясь, что дома его побьют, спрятался у Шпаликовых…
Почему-то — то ли от скуки, то ли от любопытства — Гену тянуло в школу. Учиться ему было пока рано, но он приходил в класс и сидел, слушал учительницу Дарью Сергеевну — тем более что она оказалась полной тёзкой бабушки. Его не прогоняли, оставляли в классе — как ему казалось, для смеха: вот, мол, ребёнок, уже к знаниям тянется, в то время как ребятам постарше, наоборот, полениться бы да пропустить урок. А ему нравилось не только вникать в объяснение учительницы, но и петь вместе с «одноклассниками», и даже плясать. Здесь, в киргизском селе, услышал он впервые протяжную ямщицкую песню «Степь да степь кругом, путь далёк лежит…», и так и осталась в его душе эта ассоциация: степь да степь, Киргизия и бородатый ямщик, почему-то похожий на школьного сторожа.
Между тем положение на фронте уже переломилось в нашу пользу. В августе 1943-го советские войска взяли Орёл. По этому поводу был устроен первый за время войны праздничный салют. Взятие Орла Гене запомнилось: как раз накануне он играл с ребятами в войну… семечками. Белые тыквенные семечки («наши») сражались с тёмными арбузными («фрицы») и должны были «взять Орёл» (ребята каждый день слушали сводки Совинформбюро и были в курсе событий). И взяли.
Пора было возвращаться в Москву. Привыкший к Ала-Арче мальчик в поезде грустил, а когда семья после долгой дороги добралась наконец до места, вошла в свою квартиру в Покровском-Стрешневе и увидела, что в их отсутствие там кто-то крепко «похозяйничал», — стало совсем неуютно. В разорённой квартире надо было заново обживаться, а пока, в первый вечер, их приютили соседи по подъезду, покормили ужином. Непривычной и странной казалась после киргизской деревни забытая (а для Гены — не то что забытая, а считай что и вовсе незнакомая) московская жизнь.
Но главное испытание военного лихолетья для семьи Шпаликовых было впереди. Отец, несколько раз подававший заявление о переводе его на фронт (как же: все воюют, а он «отсиживается» в тылу…), наконец добился этого и уехал в действующую армию. Советские войска уже гнали врагов по Европе; часть, в которой служил инженер-подполковник Фёдор Шпаликов, находилась в Польше. И там, в Польше, под городом Познань, оборвалась 29 января 1945 года, за несколько месяцев до окончания войны, его жизнь. Страшное слово «похоронка» прозвучало и в семье Шпаликовых. В первый класс 153-й школы Ленинградского района Москвы Гена пошёл 1 сентября того же года уже сиротой, безотцовщиной — как и многие, многие мальчишки и девчонки, первоклассники первой послевоенной осени. Впрочем, девчонок в этой школе не было: обучение в ту пору было раздельным (мальчики и девочки учились в разных школах; такой порядок был введён во время войны, в 1943 году, и действовал до 1954-го), и школьная компания оказалась сугубо «мужской».
В первый школьный день ему было без пяти дней (буквально) восемь лет. Подготовлен к школе он был хорошо. Подтверждение тому — написанные в первом классе (!) и сохранившиеся стихи с «авторской датировкой». 10 января 1946 года, отучившись всего полгода, он сочиняет стихотворные строчки — записывая их, правда, не в столбик, а в строку, под впечатлением от знаменитой плещеевской «Осени» («Осень наступила. Высохли цветы…») и не везде выдерживая размер и рифму, но будем ли мы строги к маленькому поэту? Важен сам факт появления этих стихов, ещё и записанных почти без ошибок. Восьмилетний Гена, для своего возраста, уже в ладах со словом: «Осень наступила. Лес весь пожелтел. Ветер листья гонит. Зайчик побелел. Все цветы засохли. Птички улетели. Речка вся покрылась тонким льдом. Вот уже морозы к нам идут, вот уже метели под окном поют». Спустя полгода с небольшим Гена поехал в пионерский лагерь, и стихи сочинялись и там как отклик на загородное пионерское житьё-бытьё: «Мы приехали в наш лагерь. С песней громкою вошли, умывались, раздевались, а потом уж спать легли…» Здесь уже и метр выдержан. Запомним эти строчки (над которыми тоже стоит дата: «18 августа 1946 г.») — настанет момент, когда они неожиданно отзовутся в стихах взрослого Шпаликова.
В 153-й школе Гена проучился два года. В 1947 году десятилетний мальчик стал воспитанником Киевского суворовского военного училища. Людмиле Никифоровне посоветовал отправить туда сына её брат, Семён Никифорович. Киев был выбран потому, что там жила вдова брата Семёна и Людмилы, Виктора Никифоровича, погибшего на фронте. Она вторично вышла замуж, но с родственниками первого мужа поддерживала добрые отношения. Мальчик должен был продолжать семейную традицию — стать военным. Мама и сама с трудом представляла себе какое-то другое будущее для сына, хотя потом всю жизнь переживала, что пошла на такой шаг. В Суворовском ему предстояло получать среднее образование, и само собой разумелось, что после этого он поступит уже в настоящее, «взрослое» военное училище. Начиналась, можно сказать, самостоятельная жизнь. Началось раннее взросление, хотя взрослели дети войны и без того быстро.
Гена не был тепличным ребёнком. Но расставание с семьёй в таком возрасте на долгий срок — конечно, большая душевная травма. Может быть, не меньшая, чем гибель отца, от которого мальчик за время войны всё-таки успел отвыкнуть, да и помнил не очень хорошо. Но по пути на место учёбы Гена держится молодцом, понимает, что человеку уже почти военному сентиментальничать незачем. «Мама, в дороге было хорошо, — пишет он прямо в вагоне киевского поезда, только вчера расставшись с родными и оказавшись в соседстве с другим мальчиком, которого тоже везут в училище. — Утром я напился чаю и покушал. Мама, тов. капитан (который нас сопровождает), заслуженный мастер спорта, чемпион СССР по борьбе. Он нам много рассказывал. Я не плакал, Серёжа тоже». И ниже, в этом же письме, ещё раз, выдавая сбивчивостью фразы неуют вдруг нахлынувшего детского душевного одиночества: «Мама, но по тебе я скучаю, но не плачу». Этим «но не плачу» сказано многое. Хотелось бы, хотелось бы расплакаться, а всё же держится… Наверное, плакал вечером на перроне и теперь то ли стесняется этого перед «тов. капитаном», то ли «по-взрослому» успокаивает мать: в дороге было хорошо, покушал, не плакал… Не в этой ли ранней разлуке с близкими таится источник будущей шпаликовской неприкаянности, бездомности, бессемейности, независимо от наличия в паспорте штампа о прописке и о браке? И ведь он не просто уехал надолго: в отрыве от семьи ему предстояло вырасти, стать юношей, взрослым человеком. Конечно, он будет видеться с родными, приезжать на каникулы, какое-то время будет даже жить под одной крышей с Людмилой Никифоровной, но это будет уже в другой, взрослой или почти взрослой жизни, а сейчас детская жизнь в родительском доме для него закончилась.
Гена Шпаликов оказался в Киеве в тот момент, когда и само училище справляло новоселье. К этому времени оно четыре года размещалось в Харькове, и как раз теперь, в 1947-м, решено было перевести его в Киев. Здание, в котором оно расположилось, было выстроено в канун Октябрьской революции, в 1915 году, для существовавшего тогда Второго инженерного училища. Находится оно в нагорной части Киева, в Печерском районе. В шпаликовские времена к зданию примыкал фруктовый сад.
Из переписки Шпаликова с родными мы узнаём фамилии офицеров, под началом которых он учился и воспитывался: Ворончук, Дубина, Войнилович, Родин. У него появляются друзья: Валя Дьяченко, Слава Иванов. Особенно тесно Гена сошёлся с Валерой Куделиным, тоже москвичом. Они учились в четвёртой роте, в одном взводе — под началом Сергея Федотовича Дубины. Отец Валеры тоже погиб на фронте. Но Генин друг лишился ещё и матери: она умерла в самом конце войны. Так что выбора между училищем и семьёй у него и не было. Забегая вперёд скажем, что Валерий Николаевич Куделин, поддерживавший дружбу со Шпаликовым и после окончания училища, — человек замечательной биографии. Он отлично учился, окончил Суворовское училище с золотой медалью, затем продолжил военное образование в Киевском офицерском училище и в Военной академии им. Дзержинского в Москве, служил в ракетных войсках. Ушёл в отставку в звании подполковника, связей с армией не порывал, работал на оборонных предприятиях, а ещё был большим патриотом своей первой военной школы — председателем Товарищества выпускников Киевского суворовского училища в Москве и Московской области.
Наверное, два мальчика дополняли друг друга своими характерами — уж очень непохожи они были. Или так кажется спустя много лет, когда знаешь, как сложатся судьба одного и судьба другого. Валера и в училище был, и на службе остался (а на службе иначе и невозможно) человеком собранным, внутренне и внешне дисциплинированным. Гена стал поэтом — а это требовало других качеств, и они со временем проступили в нём, обозначив его чуждость всякой регламентации, «поэтический беспорядок» его «анархической» натуры. Но тогда, в училище, это не бросалось в глаза. Гена казался обычным суворовцем, и глядя на него, можно было подумать, что из него вырастет хороший, серьёзный военный. Кто-то из ребят его роты то ли надерзил командирам, то ли не явился вовремя из увольнения, и это сказалось на всей роте. Руководство училища сообщило о конфликте в те города, откуда приехали ребята, и сотрудница военкомата пришла домой к Гениной маме. Ответ девятилетнего сына на материнский упрёк в письме вроде бы и по-детски наивный, но уже и по-взрослому недвусмысленный: «Не верь этому, это провокация. Она распускает ложные сплетни». «Я жив, здоров, учусь хорошо» — эта фраза повторяется в его письмах как рефрен. Тройки бывали, но их немного. В основном — четыре и пять. В ноябре 1948 года в письме маме Гена перечисляет оценки, выставленные «к 31 годовщине» — то есть к годовщине Октябрьской революции, которая была в Советском Союзе важнейшим государственным праздником: арифметика — 3, русский устный — 5, письменный — 4, английский устный — 5, письменный — 4, астрономия — 5. И виновато добавляет: «Мамочка, прости меня за арифметику, я к концу четверти её поправлю». Точные науки, математика и физика, «до невозможности адовые предметы», вообще даются ему тяжелее, чем гуманитарные. Языки и литература — ближе.
Хорошо выглядел Гена и в спортзале: ловкий, натренированный, смелый. Уже в первый год учёбы, в мае, участвовал в первенстве училища по плаванию и в своей возрастной категории занял первое место в заплыве на 50 метров. Играл в футбол. Любил ходить по крышам — занятие откровенно рискованное. Мог прыгнуть в воду с десятиметровой вышки. В одном из писем маме просил прислать ему маленький мячик — «для игр в свободное время». Научился кататься на коньках (в Москве ещё не умел). В училище преподавали, как в прежние, «дворянские», времена, и танцы, фехтование. И всё это у него получалось.
Жизнь суворовца идёт своим чередом: занятия по предметам военным и общеобразовательным, исторический кружок, в который он записался, самоподготовка. Бывают увольнения в город — обычно Гена идёт в кино, в кинотеатр имени Чапаева на Большой Житомирской улице. «Смотрел „Смелые люди“, цветное», — сообщает он маме. В другой раз пишет о том, что посмотрел «Александра Матросова» и «Александра Невского». Советские фильмы, идейно правильные (хотя второй из них поставлен гениальным режиссёром Сергеем Эйзенштейном), воспевающие героизм и патриотизм. Гене они нравятся. Кто бы мог подумать тогда, что этому малолетнему зрителю, стриженому мальчишке в «суворовском» мундирчике, суждено изменить облик и стиль советского кинематографа… Изредка — посещение павильона «Пирожные», детская радость. «Знаешь, как там классно, — „отчитывается“ он перед мамой за потраченные деньги. — Такие мраморные столики. Там прохладно». Посещение городских достопримечательностей: побывал, например, в Киево-Печерской лавре, «видел место, где похоронен Юрий Долгорукий и Кочубей» (Кочубей — украинский исторический деятель начала XVIII века, герой пушкинской «Полтавы»). Встреча с гостями из Китая, пока ещё не рассорившегося с Советским Союзом. Трещина возникнет после XX съезда КПСС в 1956 году, где Хрущёв выступит с критикой «культа личности» Сталина; китайский вождь, «великий кормчий» товарищ Мао Цзэдун за «учителя» обидится, и конфликт между двумя «социалистическими» государствами затянется на полтора десятилетия как минимум. А пока: «Меня и ещё нескольких ребят одели в мундиры. И мы торжественно вручали китайцам цветы». Один из членов делегации подарил Гене значок с портретом Мао Цзэдуна, а у Гены никакого сувенира для него не было, и он достал из кармана и вручил гостю… десятикопеечную монету с советским гербом. Китаец обрадовался и всё повторял: «Сталин! Мао!» Эпизод забавный, а тогда казался серьёзным. Дружба навек…
Но чем взрослее становился суворовец Шпаликов, тем ощутимее была шедшая в нём внутренняя работа. Геннадия постоянно тянуло к тетради — не к той, в которой он записывал учебные задания и конспектировал, как все, труды Маркса и Ленина, а к той, куда заносил свои стихи и заметки. Он писал. Было видно, что детские стихотворные строчки про осень и про пионерлагерь возникли в своё время не случайно, что есть у мальчика склонность к слову, которая впоследствии перерастёт в потребность и призвание.
Наблюдать, как это происходит, — очень любопытно. В «суворовском» архиве Шпаликова, который после его ухода из жизни хранился у мамы, Людмилы Никифоровны, затем перешёл к ближайшему другу Шпаликова Юлию Файту (этот человек в нашем повествовании появится ещё не раз) и, наконец, был передан последним в Музей кино, — сохранились различные произведения, наброски, записи будущего писателя. Вот, например, «одноактная драма в четыре картины с прологом» под названием «Сергей Оленин», посвящённая «с любовью и признательностью» Игорю Соколову; так мы узнаём имя ещё одного Гениного друга «суворовских» лет. Она то ли не завершена автором, то ли окончание её не сохранилось — но неоконченный вид имеет даже беловик, хотя текст для него переписан старательно и красиво. Литературность «одноактной драмы» налицо: «Сергей Оленин» — это звучит почти как «Евгений Онегин» или «Евгений Арбенин», и не случайно: герой Шпаликова, тоже суворовец, поначалу впрямь похож на романтически страдающих героев русской литературы: «Снова один, а кругом веселье, / Пляшут, танцуют и все поют…» Но похож он не только на них. В прологе после строчки, обыгрывающей знаменитое выражение из тургеневского стихотворения в прозе о русском языке, следуют стихи, очень похожие и отношением к герою, и интонацией, на… «Василия Тёркина»: «В дни страданий и сомнений / Он незримо был со мной, / Старый друг — Сергей Оленин, / Мой товарищ и герой». Так что же — банальное подражание литературным образцам?
Не думаем так. Потому что, при всей литературности этого текста, в нём есть нечто такое, что откровенно выдаёт в Геннадии Шпаликове уже тогда, на переходе от отрочества к юности, самостоятельность. Или, по крайней мере, приближение к этой самостоятельности. Во-первых, стиль — Оленин попадает на гауптвахту и рассказывает о своих злоключениях:
Сволочь патруль! Ведь заметил, заметил И в хулиганстве почти уличил. Я этих пьяных зачем-то встретил, Морду кому-то случайно разбил.Так разговаривает не Онегин и не Арбенин — это речь парня послевоенного времени, когда большие и малые города кишели серьёзными уголовниками и мелкой шпаной, где без конца происходили «разборки» и стычки между дворовыми компаниями. Юный Шпаликов не просто слышит такую речь — её тогда все слышали. Он ею пользуется в своих стихах, и это само по себе уже признак литературной неформальности. Во-вторых, оценим степень критического взгляда на жизнь. Обращаясь к лейтенанту, пришедшему к герою «на губу» для выяснения обстоятельств происшествия и заодно для воспитательной беседы, Оленин «устало» (такова авторская ремарка) произносит: «Вас, лейтенант, я винить не хочу, / Пешка вы здесь и последний нуль». Каково! Попробовал бы какой-нибудь суворовец — да хотя бы и сам Гена — обратиться так к лейтенанту: «Вас, лейтенант…» (вместо полагающегося по уставу «товарищ лейтенант»). О содержании этого «обращения» уж не говорим. В нём, а не в уставных фразах видна внутренняя свобода шпаликовского героя — и самого Шпаликова. За год до его выпуска в училище прошла «чистка» — так называлось тогда сокращение кадрового состава, затеянное не ради экономии средств, а ради «идейной чистоты рядов». Были уволены 25 преподавателей и офицеров-воспитателей. Может быть, в этот момент воспитанник Шпаликов — и не он один — почувствовал первое дыхание наступавшей «оттепели». Видно, уволены были эти люди за дело, ибо Гена в письме не скрывает радости, здесь же упоминает ещё двоих, которых «оставили, а стоило бы выгнать». Отношение к педагогам у него уже вполне сознательное, он прекрасно видит, кто чего стоит.
Гена в училище много читал. Из переписки с матерью мы узнаём, что именно: «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена, «Таинственный остров» Жюля Верна, «Мою жизнь» знаменитого полярника Руаля Амундсена… Традиционное приключенческое чтение подростка. Одно время, подобно многим своим сверстникам, увлёкся книгами об авиации: лётчики были «культовыми» героями Советской страны. Зная, что дядя участвовал в финской войне, взял в библиотеке книгу Николая Митрофанова «В снегах Финляндии» и написал маме: «…там пишут про дядю Сеню. Я очень этим горжусь».
Но это всё — круг интересов в начальные годы обучения. Между тем Шпаликов взрослел, и его притягивала «взрослая» литература. На старших курсах оценил и полюбил Чехова. С лёгкой руки Гены в обиход друзей-суворовцев вошла и часто звучала (с иронией) фраза из рассказа «Попрыгунья»: «Дай, я пожму твою честную руку!» В эту же пору начал складываться поэтический вкус Шпаликова. Главной фигурой для него стал Маяковский — что и не удивительно для человека шпаликовского поколения. Эти юноши росли под стихи Маяковского. В 1935 году, спустя пять лет после самоубийства поэта, его возлюбленная Лиля Брик обратилась с письмом о необходимости издавать и изучать наследие поэта к самому Сталину. Тот в своей резолюции на письме назвал Маяковского «лучшим, талантливым поэтом советской эпохи». Подобострастные журналисты тут же «подредактировали» вождя, и «талантливый» Маяковский превратился в «талантливейшего»; кашу маслом не испортишь! И вот после этого Маяковского стали насаждать, по остроумному выражению Пастернака, «как картошку при Екатерине». В школьной программе по литературе XX века он был поэтом номер один: изучались не только многие его стихотворения, но и поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Возникал перекос: «пролетарский поэт» заслонял собой в глазах советских школьников и своих великих современников — представленного куда более скромно Блока, не говоря уже об Ахматовой, Цветаевой или Есенине, которых в программе вовсе не было. Но Маяковский в самом деле был не просто большим — он был великим поэтом: он, может быть, полнее других мастеров стиха выразил дух XX века. А ещё у Маяковского не отнять его невольной просветительской миссии: многие школьники предвоенных и послевоенных лет, склонные к поэзии, пробовавшие свои силы в сочинительстве, приобщались к стиховому слову именно через его поэзию, сильно на них повлиявшую.
Гена Шпаликов не стал исключением. Он — вполне в духе своего учителя — по-юношески категоричен в оценке и его наследия, и литературы вообще. «…Слишком увлекаться, — записывает он в дневнике в последнюю свою „суворовскую“ весну, — дребеденью 18–19 веков (исключая, конечно, классиков) не стоит. Знать — надо, но не больше. Теряется чувство времени, нашего времени. Лучшими книгами для молодёжи считаю Горького, всего с 1-го по 30-й том; и Маяковского. Вот их необходимо знать от корки до корки». Хорошо ещё, что хотя бы для классиков место в таком «нигилистическом» раскладе остаётся: поэтический кумир Шпаликова в этом возрасте призывал вовсе сбросить их «с парохода современности».
Стихи Маяковского Гена поначалу брал в библиотеке училища. На последнем году учёбы мама прислала ему сборник поэта. А он, зная о постановке в столичном Театре сатиры «Бани» Маяковского, мечтает посмотреть этот спектакль, когда окажется в Москве. Что касается Горького, то позже, уже по окончании Суворовского училища, Гена купит в московском букинистическом магазине этот тридцатитомник. Он как раз получит гонорар за опубликованные в газете стихи (об этом — ниже), недостающие деньги попросит у родных — и вот перечитывай себе любимого писателя от корки до корки.
Шпаликов — активный участник самодеятельности, читает со сцены свои стихи. В апреле 1955 года он участвует в вечере памяти Маяковского. «Читал сам и Вовка читал моё („Бессмертье“)». Чувствуется, что в училище Геннадий — литературный авторитет: другие суворовцы читают со сцены его, Шпаликова, стихи — прямо как стихи классика. Не знаем, что декламировал на этом вечере сам Шпаликов и что представляло собой стихотворение «Бессмертье», но на сохранившихся стихах юного поэта отпечаток влияния Маяковского очень заметен. Одно стихотворение так прямо и названо — «Читая Маяковского»:
Читаю — завидую, читаю — горжусь. Хорошая зависть эта. Вскормила земля великая Русь Себе по плечу поэта. Кажется, встанет он: Держи лапу, Сегодня занят. «Завтра жду», — И громко Вселенной: «Сними шляпу, Я иду!»Стихи откровенно «маяковские» — и тонической ритмикой, и «рубленой» интонацией, и знаменитой «лесенкой», и узнаваемыми реминисценциями из произведений советского классика. Начало ассоциируется со «Стихами о советском паспорте», которые заучивали наизусть все школьники Советской страны: «Читайте, / завидуйте, / я — / гражданин / Советского Союза». Второе же четверостишие вызывает в читательской памяти концовку ранней поэмы Маяковского «Облако в штанах» и даже содержит слегка изменённую цитату из неё: «Эй, вы! / Небо! / Снимите шляпу! / Я иду! / Глухо. / Вселенная спит, / положив на лапу / с клешнями звёзд огромное ухо». Сам лирический герой Шпаликова напоминает героя Маяковского своей склонностью к эпатажу и гиперболизированными возможностями: обыгран его высокий рост и способность (или даже право?) вести разговор ни много ни мало с «небом» и целой Вселенной.
Литературные интересы юного суворовца не ограничивались писанием «для себя» и выступлениями со сцены перед товарищами. Гена редактирует ротную стенную газету, становится военкором окружной многотиражки «Ленинское знамя», для которой пишет заметки о жизни училища. В училище выходит рукописный литературный журнал «Юность» — и Гена состоит в его редколлегии.
Юность — ещё и время первой любви, или хотя бы влюблённости. На старших курсах училища пришло сердечное волнение и к Гене Шпаликову. Мы не знаем имени той девушки, которой посвящены стихи, написанные 28 апреля 1955 года — тоже не без влияния любимого «Владим Владимыча», всё того же «Облака в штанах»: «Такое может случиться со сна, / Простительно каждому, / и понятно — / Хорошее утро, / вообще — весна, / На стенах солнца яркие / пятна. / Небо за стёклами, / синь высоты, / Луж сияющие окружения. / И, конечно, / являешься ты, / Далёкая / во всех отношениях. <…>/ Думаю: / сейчас хлестнёт / по щекам, / Что-нибудь резкое скажет. / А ты — / видно стала попроще-ка, / И улыбаешься даже» (у Маяковского: «Вошла ты, / резкая, как „нате!“…»). Юный поэт попробовал даже поэкспериментировать в стиле учителя с рифмой, придумав составную «по щекам — попроще-ка», но, кажется, не очень удачно: частица «ка» по смыслу едва ли здесь нужна. Личная тема может проявить себя у юного поэта в стихах и совсем другого толка, предвосхищающих шутливую, ироническую манеру, которая будет очень характерна для него в будущих, «взрослых», стихах, которые мы ещё не раз процитируем. А пока — миниатюра того же 1955 года, звучащая как пародия на классика, даже на двух классиков одновременно — Пушкина и Лермонтова:
В коммунальное помещение, Где засохли в банках цветы, Ты пришла, как чудное видение И как гений чистой красоты. Потом ушла… К чему рыданье! К чему похвал ненужный хор! Осталось прежнее страданье И холостяцкий коридор.Впрочем, это не пародия, а перепев; таким термином в литературоведении принято называть поэтический текст, в котором вышучивается стиль какого-нибудь известного произведения, но без цели осмеять это произведение. Смех в таком случае направлен не на хрестоматийный текст, а на явление жизни (здесь — по-видимому, незадавшееся свидание), насмешке над которым классические стихи и «служат».
Возможно, в обоих стихотворениях Шпаликова подразумевается одна и та же девушка, на свидание с которой он отправился спустя три дня, 1 мая 1955 года, после парада, в котором суворовцы, естественно, участвовали. В душе влюблённого юноши царили смятение и неуверенность: «Нужно сегодня ехать к ней. Какая она? Изменилась, а? Вообще — навряд ли. Неизменно вежлива и не больше. Объясняться в том, чего уже нет — дико, я не буду. Вдруг взять и расцеловать — глуповато, в общем. Лучше всего — многословие и внешняя безалаберность, беспечность». Дальше Гена признаётся, что «писал эти строчки полупьяный». Накануне в Киев на праздник приехали мама и «дядя Саша»; так Гена называл своего отчима Александра Ефимовича Семёнова, появившегося в доме в 1953 году. Отчим — тоже военный. Втроём они семейно посидели в кафе, отметили Первомай и парад. Но лёгкие винные пары смелости и определённости влюблённому юноше не прибавляли. У любовных переживаний есть и другой оттенок. «Валерка, — записывает однажды Шпаликов о Куделине, — приехал в училище грустный — за него девочка взяла билет в трамвае. По сей причине он был готов выскочить на полном ходу. Конечно, страшно плохо, когда в кармане ни копейки. В этом отношении я прекрасно понимаю его». Запись отдаёт наивностью, но в ней ощущается уже и мужское честолюбие. Но ничего, станем лейтенантами — будем получать нормальную зарплату. С Куделиным они иногда откровенничают о личном, но, конечно, — до известного предела. Всё-таки это вопросы интимные…
Кстати, о трамваях. Однажды два суворовца, Моторин и Галенко, оскандалились: отказались платить за проезд и были высажены. Дело получило огласку, до нарушителей «добралась» стенгазета, для которой Гена вместе со своим однокашником Захаровым написали фельетон под названием «Трамвайные отношения». Правда, произошло это раньше, когда ребятам было лет по пятнадцать, ну а теперь им — по семнадцать-восемнадцать. Скандалить в трамвае уже несолидно. Тем более при девушках.
После окончания Суворовского училища Шпаликова ожидало поступление в училище, где готовят офицеров. Кажется, перед выпуском он уже чувствует, что военная служба всё-таки не для него. 4 апреля в дневнике появляется выразительная запись: «Если бы предложили назвать характернейшую картину жизни в СКУ за восемь лет, то я представляю себе сплошную ленту, по которой год за годом движется батальон суворовцев. Безучастные лица, злые глаза. Со временем меняются привычки, вкусы, ребята взрослеют, но глаза остаются всё теми же — злыми, недоверчивыми». Настрой здесь отнюдь не военный. «Сплошная лента» военного построения, нивелированные «злостью» и «недоверием» лица. Туда ли он попал, куда ему надо было попасть? Но о том, чтобы взять и переломить судьбу, речи нет. Армейские ряды просто так не покинешь. Ему самому и в голову не приходит, что это возможно. Путь кажется предначертанным, хотя — не без вариантов. В одном из писем домой он просит отчима «узнать, есть ли где-нибудь в Москве или в другом городе институт (или академия) военных журналистов». И осторожно оговаривается: «Это не только меня интересует, а я по поручению ребят». Но ясно, что интересует это прежде всего его самого: хорошо бы совместить военную профессию, если уж она неизбежна, с тем, что более всего тебе по душе — с писанием.
Лето 1955 года. На эту пору пришлись два важных события биографии Гены Шпаликова. Событие первое: 26 июня в украинской республиканской молодёжной газете «Сталинское племя» печатаются два его стихотворения — «Переулок юности» и «Над аллеей клёны заснули». Стихи вроде бы обычные, ничего особенного, никаких намёков на шедевр:
Звон трамвая голосист и гулок, Парк расцвечен заревом огней, Снова я пришёл на переулок — Переулок юности моей. Над асфальтом наклонились вязы, Тенью скрыв дорожку мостовой. Помню, как к девчонке сероглазой Торопился я под выходной.Но и в этих строчках, для семнадцатилетнего юноши как-то не по возрасту «ностальгических», всё же что-то есть. Лучше сказать — чего-то нет. Нет советского пафоса, нет ничего про комсомол, социализм и мир во всём мире. Юноша пишет о юности и о любви. Это само по себе уже что-то обещает. Кстати, спустя четыре с небольшим месяца, 1 ноября, в той же газете появятся ещё два его стихотворения — хотя самого Гены к этому времени в Киеве уже не будет. Стихи лежали в редакции с лета, и Гена, уже уехав из Киева, в письмах просил друзей зайти в редакцию, узнать о судьбе стихов. Событие второе: Шпаликов, в том же тёплом июне неожиданно простудившись и попав перед самым выпуском в санчасть, заканчивает учёбу в Суворовском училище и возвращается в Москву. В двадцатых числах июля он уже дома. Семья сняла дачу в Серебряном Бору, и Гена, не задержавшись в московской квартире, сразу поехал за город. «Утром купаюсь, — сообщает он в письме однокашнику-суворовцу Александру Червонному, — благо, что речка рядом, на велосипеде кружок дам…» Но отдых недолог. Теперь ему и ещё нескольким бывшим суворовцам предстоит продолжить военное обучение в Московском пехотном училище им. Верховного Совета РСФСР. Училище было создано по ленинскому декрету всего через месяц с небольшим после установления советской власти — в декабре 1917 года. Его курсанты, которых стали называть «кремлёвскими» (а само училище, в народном обиходе, — «Кремлёвкой»), несли охрану Московского Кремля, а после смерти Ленина в 1924 году — ещё и его Мавзолея на Красной площади. Но и воевали, конечно — и в Гражданской войне, и в Великой Отечественной. К тому времени, когда в училище был принят Шпаликов, курс обучения был трёхгодичным; высшего образования училище тогда ещё не давало — такое право оно получит лишь через несколько лет. Размещалось оно за юго-восточной окраиной Москвы, в посёлке Кузьминки; со временем эта местность вошла в черту города и уже давно не воспринимается как окраина.
К казарменной жизни Гена был приучен, хотя нагрузки теперь были уже посерьёзнее. «Два дня, — пишет он в первый месяц московской учёбы, — уже занимаемся строевой, по два часа с оружием. С непривычки ломит руки, и в кирзовых сапожищах поднимать ноги на 50 см крайне неудобно. После строевой — хозяйственные работы. За дни после воскресения я сменил 3 специальности, был землекопом, маляром (красил бараки) и, наконец, самое „приятное“ — грузил уголь». К тому же надвигался праздник 7 Ноября — очередная годовщина революции. Предстояло участие в параде. Курсантов вывозили в грузовиках на Центральный аэродром: они въезжали в центр города по Рязанскому проспекту, делали полукруг по Садовому кольцу и выруливали на Ленинградский проспект. И там без конца маршировали, маршировали, маршировали. Правда, был в этом и свой плюс: по дороге можно видеть Москву. По тротуарам шли симпатичные девушки — в училище их не увидишь. Да и в город, в увольнение, курсанты почти не попадали: начальник училища генерал Линёв почему-то то и дело объявлял карантин, хотя вроде и не было никаких эпидемий. Поэтому все увольнения отменялись. «Ему так спокойнее», — ехидничали между собой ребята.
«Суворовский» опыт и военное происхождение курсанта Шпаликова были замечены командирами: уже в октябре — то есть в начале первого учебного года — он был произведён в младшие сержанты и получил должность командира отделения. Вообще «кадеты», как называли себя здесь бывшие суворовцы, выделялись среди других ребят, и это понятно. Однако повторим ещё раз: чем взрослее становится Шпаликов — а ему теперь уже восемнадцать, — тем ощутимее был внутренний разлад между военной службой и интересами молодого человека. Лучшее доказательство этого — его продолжающиеся, несмотря ни на что, литературные занятия. Не чужд литературе и его новый друг Женя Андрющенко, тоже сержант, сосед по казарме: у них даже общая тумбочка.
Стихов Гена в московском училище пишет немного. Правда, сочинил сатирическую песенку об училище на мотив популярной в те годы «Песенки фронтовых корреспондентов» композитора Матвея Блантера и поэта Константина Симонова («От Москвы до Бреста / Нет такого места,/Где бы ни скитались мы в пыли…»). У Шпаликова текст был такой: «Так или иначе, — /Лишь бы обозначить. / Это — главный в армии закон. / И сумеем, братцы, / Без потерь добраться / Мы в конце до золотых погон… / Проживём три года / Мы курсантским взводом, / Мыслями и знаньями легки, / Зная основательно, / Что всегда сознательны / Те, кто выше, или — дураки». Как видим, отношение к армии у этого юноши уже весьма и весьма критическое. Ещё летом Гена задумал и начал писать книгу под названием «Глазами суворовца». В октябрьском письме Валентину Дьяченко он делится этим замыслом: «Хочу показать, как в условиях общего закрытого воспитания вырастали разные люди, люди, годные к армии и непригодные, славные ребята и подлецы. Как у некоторых хватило сил, чтобы сразу порвать с армией, и как другие, мучась и думая, приходили постепенно к тому же… Плохого и стыдного в этом нет ничего. Конечно, покажу и настоящих будущих офицеров, которые могут всячески поносить службу в армии, ныть о строгости дисциплины, но любят это дело…» И в декабрьском письме Вале же добавляет: «Всё уже написанное читается весело, много смешных и всяких эпизодов. Страшно мучит, что нет времени и настроения продолжить II часть. Но думаю, что к концу 56 года кончу, но это в случае ухода отсюда». Значит, уход обдумывается уже всерьёз, и в семье об этом, судя по содержанию письма, уже знают и готовы к такому его шагу. На самого Шпаликова — да и на других ребят — сильно подействовало самоубийство курсанта Пузанова, застрелившегося в карауле. Его нашёл Андрющенко, когда пришли менять караул. Пузанов лежал окровавленный и разутый: он снял сапог и большим пальцем ноги нажал на курок винтовки, дуло которой приставил к груди… Причины самоубийства ни Гена, ни Женя не знали, и поэтому случившееся сильно тревожило, заставляло постоянно думать и говорить об этом. Хотя главное было ясно: человек не выдержал армейской жизни.
Жаль, что в сохранившихся бумагах Шпаликова никаких следов книги «Глазами суворовца» нет. Но есть другой показательный для его «переломного» настроения той поры литературный документ — рассказ «Патруль 31 декабря». Судя по архиву писателя, этот рассказ возник из черновика повести «Старший лейтенант», которая в полном своём виде до нас не дошла: в автографе нет первых двух листов и окончания.
Рассказ навеян впечатлениями от «Кремлёвки». Неважно, что действие происходит в последний день 1953 года, то есть за целых полтора года до выпуска из Суворовского. Во-первых, художественная проза — не документ, нельзя требовать от неё буквальной точности, а во-вторых, по разным приметам — в том числе и по упоминанию Люберец, находящихся на том же направлении от Москвы, где расположены Кузьминки, — нетрудно понять, что автор имеет в виду именно этот период своей биографии.
Сам сюжет рассказа — не очень-то и военный. В нём показана непарадная — хотя по-своему и романтичная — сторона курсантской жизни. Трое курсантов назначены «патрулировать вокруг казарм и на всей территории пехотного училища». Понятное дело, эта обязанность тяготит их, и, прихватив с собой выпивку и скромную закуску, они забираются в курсантскую столовую, чтобы отметить — втихаря, и всё-таки под крышей, а не на морозе — Новый год. В новогоднюю ночь, как известно, происходят всякие чудеса — и вот раздаётся стук в окно. Ребят явно заметили с улицы, но опасения их были напрасны: на пороге столовой появляется не командир, а «прелестная незнакомая девушка», которую они, «приглядевшись, узнали». Это была официантка из офицерской столовой, где встречали Новый год офицеры. «Кто-то из холостых офицеров» — а точнее, старший лейтенант по имени Коля — начал к ней «приставать», она бросила ту компанию и зачем-то пришла сюда. Курсанты начинают, в меру своих возможностей, оказывать ей знаки внимания, утешать, один даже отправляется на станцию за дополнительной выпивкой, и тут судьба преподносит им первый, может быть, жизненный урок такого рода. За окном столовой появляется тот самый Коля. Обращая мало внимания на нештатное пребывание в столовой курсантского «патруля», он читает девушке есенинские стихи (к совсем ещё недавно полузапрещённому «кулацкому поэту» Есенину юный Шпаликов тоже неравнодушен), и она, уже забыв про свою обиду, «в конце концов… расплакалась». Ребятам остаётся только смотреть из окна, «как они целовались, стоя по колено в снегу; старший лейтенант, будучи значительно выше ростом, за локти приподнял девушку, целуя, легко и долго держал на весу, — и туфелька скользнула в снег». Обидчиво-отходчивое женское сердце. Волшебная сила искусства. Лирично и поучительно.
Из житейских новинок «кремлёвской» поры — телевизор. Он пока только-только входит в повседневную жизнь, далеко не в каждой квартире его можно увидеть. В училище он есть, и ребята по вечерам, когда наступает так называемое личное время, рассаживаются в красном уголке (этакий мини-клуб) и смотрят на экран. В одно из воскресений смотрели финал Кубка СССР по футболу. Играли ЦДСА (позже переименованный в ЦСКА) и московское «Динамо». В письме в Киев, Вале Дьяченко, Гена подробно описывает этот матч: ведь в Суворовском телевизора нет. Но в «Кремлёвском» училище Геннадий Шпаликов проучился недолго. Судьба иногда сама решает за нас, словно догадываясь, что преподнести нам — для нашего же блага. Как говорится, что бог ни делает — всё к лучшему.
В январе 56-го курсанты выехали на учения. Учения были масштабными — с участием танков. Сначала был марш-бросок, затем имитация атаки, и наконец — заключительный «бой», в четыре часа утра, в темноте, в пургу. Шпаликов и другие курсанты на лыжах шли впереди, за ними — танки. В темноте Гена не разглядел что к чему и в траншее упал на колено, которое у него и до того болело. Сразу — резкая боль и невозможность двигаться дальше. Так и застрял в траншее, а за спиной — танк, водитель которого, кажется, и не заметил того, что произошло впереди, и ехал прямо на Шпаликова! Было так больно и холодно, что мелькнувшее поначалу инстинктивное чувство страха через мгновение сменилось тупым равнодушием: раздавит так раздавит, наплевать. В трёх метрах от Гены танк остановился. Танкисты могли и не заметить его в белом маскировочном халате, но у него были лыжные палки и карабин, они выделялись на снегу. На этом же танке его довезли до леса, оставили там и велели ждать, пока заберут «обороняющиеся». Сидя на снегу под сосной, он потерял сознание. Так прошли четыре часа. Наконец санитарная машина подобрала его и отвезла сначала в училище, а затем в Хлебниковский военный госпиталь под Москвой, где он пролежал весь остаток зимы. У Гены был повреждён мениск. Врачи, наложив гипс, предложили оперировать колено, но он отказался. Когда гипс сняли, ходил по госпиталю с палочкой. Нога слушалась плохо, от резких движений было предписано воздержаться, но он был этому даже рад. Теперь уж точно военная карьера для него закончена. Описав в письме Вале Дьяченко все эти перипетии, он добавляет: «Отделался я легко. Только макушка поседела… И я неделю не мог ни с кем разговаривать. Страшно похудел, осунулся и пр.».
Затем была медицинская комиссия, и курсанта Шпаликова признали негодным для дальнейшего обучения, а при выписке велели ещё какое-то время для надёжности походить на костылях. Военные врачи, конечно, думать не думали, какую судьбоносную для него бумагу они в этот момент подписывают. Это был поворотный момент. Не то чтобы жизнь начиналась с нуля: военный опыт Шпаликову ещё пригодится, но не Шпаликову-офицеру, а Шпаликову-художнику. Короче говоря, упал он на учениях на самом деле — «удачно и вовремя».
Я жил как жил, Спешил, смешил, Я даже в армии служил И тем нисколько не горжусь, Что в лейтенанты не гожусь. Не получился лейтенант, Не вышел. Я — не получился, Но, говорят, во мне талант Иного качества открылся: Я сочиняю — я пишу.Конечно, поначалу тянуло к ребятам из московского училища. Иногда они виделись. Был случай, когда курсанты его роты ехали привычным маршрутом маршировать на Центральном аэродроме и на Садовом кольце увидели Гену, опирающегося на палочку, прихрамывающего. Закричали ему во всю свою молодую глотку — он услышал и помахал. Как будто специально вышел на знакомое место в надежде: а вдруг проедут? И ведь проехали! Вспоминал в дневнике и суворовцев: «Очень хочется видеть всех ребят, пожить вместе, как год назад, как жили в СКУ. Чудесно жили!» Это, конечно, ностальгия, питаемая нынешней неопределённостью. «Чудесная жизнь» в казарме ему не подходит. «Снова в армию? Просто страшно подумать, что так может получиться. Нет, не может».
Неопределённость, между тем, была не только личная. Она была и куда более значительная. Пока Гена лечился в Хлебникове и ждал решения своей участи — решалась участь всей страны. И так замечательно совпал поворот в биографии Шпаликова с поворотом в её (страны) биографии. В феврале прошёл XX съезд КПСС, на котором Хрущёв, напомним ещё раз, выступил с критикой уже почти три года как умершего Сталина. Прозвучали слова «культ личности». До этого момента усомниться в правоте деяний вождя, сгноившего в лагерях миллионы людей, было невозможно. Для привыкшего безоговорочно верить во власть советского человека такая перемена была непростым психологическим испытанием. «Сейчас — сплошная путаница, — делится Гена сам с собой на страницах дневника 17 марта. — Особенно в настоящем политическом положении страны. Это паршиво, но я начинаю сомневаться, что мы и на деле „самые передовые и лучшие“, а не в газетах. Со Сталиным — естественно. Честолюбие, раздутое в таких грандиозных формах и не совсем отвечающее фактам, должно было лопнуть. Пока толком знаю мало и с выводами желательно повременить». Желание повременить с выводами вполне мудро, но этот юноша, половину своей короткой пока жизни проходивший с военными погонами, уже многое понимает. Здесь, может быть, — начало ощущения того разлада между словом и делом, который, всё углубляясь и углубляясь, составит суть позднесоветской эпохи и на который откликнется своими стихами, романами, фильмами, спектаклями поколение «детей XX съезда». Поколение Геннадия Шпаликова.
А живёт Гена теперь на улице Горького (угол Васильевской), дом 43, квартира 110. Пройдёт время — на доме появится памятная доска; нынешний его адрес: 1-я Тверская-Ямская, 13. До этого были два переезда-обмена (нужно было съехаться с отчимом, «дядей Сашей»): из Покровского-Стрешнева — на Хорошёвское шоссе, оттуда — на Кутузовский проспект. В квартиру на Горького въехали как раз в 1956 году.
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВГИК
В сталинские годы фильмов в стране снималось мало. Дело было, наверное, не столько в том, что вождь, любивший просматривать новые фильмы на своей «ближней» даче в Кунцеве (на таких дачах в «дотелевизионную» эру — да и в телевизионную тоже — устраивались персональные просмотры: приезжал киномеханик и крутил на проекторе плёнку для высокопоставленного хозяина и его семьи), просто и не успел бы просмотреть много. И не только в том, что полуразрушенная послевоенная страна не могла позволить себе развитую киноиндустрию. Просто при тяжеловесной советской идеологии, при тотальной монополии государства на всё, в том числе на умы и души людей (не говоря уже о кинотехнике и киноплёнке), и не могло быть иначе. Каждый фильм был, что называется, на виду и должен был нести в себе «правильное» советское содержание — воспитывать «убеждённых строителей коммунизма, носителей высоких моральных качеств советского человека». Только допусти увеличение числа кинокартин — и сразу станет труднее за этой «правильностью» следить. Нарушится единообразие советского менталитета, этими картинами во многом и формировавшегося. Ведь население огромной страны — от Прибалтики до Дальнего Востока — смотрело одни и те же фильмы.
Но в 1953 году сталинская эпоха закончилась. Начавшееся постепенное обновление общества вело к обновлению и кинематографа. Середина пятидесятых — время появления новых литературных журналов («Юность», «Иностранная литература»), новых театров («Современник»). Стало расти и число снимаемых в стране фильмов. Количество неизбежно должно было перейти в качество: кино, которого стало больше, обещало разнообразие тем, имён, почерков. Становилось ясно, что у кино — большое будущее. Со временем заговорят даже о том, что оно может вытеснить театр и книгу. Киноискусство привлекало демократичностью, зрелищностью, новыми возможностями самовыражения, небывалой широтой аудитории. В кино потянулась молодёжь — потянулась не только в залы кинотеатров, но и в само кино. Хотелось создавать его — ставить, снимать, играть.
Кино привлекало Шпаликова. Ещё будучи курсантом «Кремлёвки», он попал — впервые — в Дом кино на творческую встречу с киноартистами. Встреча удивила его своим неформальным характером: начавшаяся «оттепель» ощущалась и в этом. Актёры сидели не на сцене в президиуме, а прямо среди публики, и шла непринуждённая беседа. Гена подсел к Людмиле Касаткиной: фильм «Укротительница тигров», где она снялась в главной роли, был тогда «хитом» кинопроката. Он спросил актрису, как встречали этот фильм во Франции (тоже примета нового времени — показ советского фильма на Западе!), и в ответ на её встречный вопрос, понравилась ли ему самому эта картина, чистосердечно признался, что смотрел её… восемь раз. Ещё одно «впервые»: 7 декабря 1955 года в письме Шпаликова Вале Дьяченко упоминается ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии, и говорится о профессии сценариста.
Правда, выбор судьбы делается не без колебаний. «В киноинститут, — пишет он в дневнике, — тянет и не тянет. Я всё-таки другого склада человек, немного не киношного. В Горьковский было бы лучше…» Горьковский — это Литературный институт им. А. М. Горького. Ещё в госпитале он просит в письме Валю Дьяченко зайти в редакцию «Сталинского племени», куда в декабре отправил ещё несколько стихотворений: для поступления нужны публикации. Не знаем, ходил ли Валентин в редакцию, но стихов Шпаликова газета больше не публиковала — может быть, потому, что теперь он к Киеву, к Украине формального отношения не имел. Для советской прессы — республиканской ли, областной, районной — «местный фактор» всегда имел значение. Позже, уже став студентом ВГИКа, Гена будет иногда приходить в Литературный институт на семинар ко Льву Кассилю. Тогда это было как-то свободно: ни охраны, ни пропусков, приходи, сиди, слушай…
Юноша чувствует, что его главное призвание — писать. Он уже сейчас, в 18 лет, постоянно пишет — стихи, рассказы, дневник, наконец. Среди написанного летом 1956-го — любопытный текст под названием «О музыке», выдающий хорошую осведомлённость в этом виде искусства, хотя автор признаётся, что знает музыку только по радио и кино. Он делится своими детскими и юношескими музыкальными впечатлениями, рассуждает о произведениях Глинки («яркие мелодии отрывков из опер») и Чайковского (Первый концерт которого «кажется наполненным изумительной силой веры в светлое человеческое счастье»), Штрауса и Легара («Мне очень нравились вальсы»), Рахманинова («Колокола» — «первая симфоническая вещь, которая серьёзно понравилась») и Калинникова (его первая симфония — «самая русская из всех наших симфонических произведений»).
С другой стороны, попав в Большой театр на оперный спектакль (это позднейшая дневниковая запись, май 1958 года, Шпаликов уже студент), он испытывает раздражение — может быть, потому, что опоздал и «первое действие искал уборную и осматривал белоколонные помещения». Но вот молодой зритель в зале, на своём месте: «Я сижу в первой ложе, мне видны зал и шесть ярусов цвета фальшивого золота. Весь театр — это жёлтые ярусы, жёлтые стены, и красный бархат кресел, и красные гардины. Получается почти отвратительно». Большой есть Большой, он традиционно всегда такой, какой есть, раздражаться этим бессмысленно. Но дело, думается, не в Большом театре: просто будущий «оттепельный» кинодраматург, творец поэтичных, «воздушных» сценариев уже сейчас отворачивается от «бархата» и «позолоты», которые были фоном официоза сталинского времени. Такое же чувство вызывало у творческих молодых людей того поколения тяжеловесное оформление станций метро «Площадь Революции» или «Добрынинская». Хотелось чего-то более лёгкого и свободного — современного. Отсюда и раздражённая тональность «театральной» записи. И всё-таки музыку он любит и в Большой театр приходит не однажды.
Чувствуется, что для автора всех этих записей важно — зафиксировать свои впечатления, то есть опять же — писать. Профессия сценариста, которую он выбрал, — это тоже литература. Литература кино. 2 июня Гена отнёс в приёмную комиссию документы, 5 июля был допущен к вступительным экзаменам, а 20 августа был принят на сценарное отделение.
ВГИК эпохи «оттепели» — отдельная большая тема. В середине 1950-х туда пришла учиться целая плеяда молодых людей, имена которых вскоре прозвучат на всю страну. К лету 1956-го, когда Шпаликов подал документы в этот вуз и написал в приёмной комиссии автобиографию (теперь это ценнейший документ), там уже отучились два года на режиссёрском факультете Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Александр Митта, Александр Гордон, Юлий Файт. Это всё ученики Михаила Ромма, ещё не снявшего тогда «Обыкновенный фашизм», но только что выпустившего на экраны «Убийство на улице Данте» с дебютными киноролями Михаила Козакова, Валентина Гафта и Иннокентия Смоктуновского. «Великолепнейший фильм. Ромм — молодчина», — записывает в своём июньском дневнике абитуриент Шпаликов. Конечно, о грядущих успехах молодых роммовских учеников тогда тоже можно было только гадать. Думал ли кто-нибудь из тогдашних вгиковцев, что, например, Тарковский станет фигурой мировой величины? Его, слегка пижонистого и романтически смотрящего на жизнь как бы свысока, даже слегка недолюбливали. Между тем проницательный Гена Шпаликов оценил его уже тогда: они вдвоём задумали сочинить совместный сценарий, но дальше названия — «С февралём в голове» — дело не двинулось. А уж из XXI века отчётливо видно: по коридорам институтского здания в 3-м Сельскохозяйственном проезде (теперь это улица Вильгельма Пика), неподалёку от станции метро «Ботанический сад», ходили будущие звёзды. Хотя в это здание въехали не сразу: когда шпаликовский курс поступал, оно ещё только достраивалось, и занимались поначалу в одном из флигелей Киностудии им. Горького, неподалёку, в этом же районе.
Шпаликов не только не затерялся среди одарённых товарищей по учёбе, но быстро стал институтской знаменитостью. Мелькая в коридоре третьего этажа, где располагался его факультет, в своём чёрном вельветовом пиджаке, отглаженной рубашке и при галстуке, а на автобусной остановке возле ВГИКа — в синем прорезиненном плаще и модной в ту пору кепке «лондонке» с гуттаперчевым козырком, — он выделялся и внешне. К тому же не каждый вгиковец мог похвастаться военной выправкой. В первое время у него даже сохранялась армейская привычка в разговоре держать руки по швам. Хотя дело было, конечно, не в костюме и не в военной выправке, а в особом складе личности этого человека, делавшем его центром компании и источавшем дух творчества.
На шпаликовском курсе учились интересные люди. Однокурсником Гены был, например, Рустем Губайдулин, впоследствии один из создателей комедийной телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев», выходившей в эфир во второй половине 1960-х и все 1970-е годы. Училась талантливая болгарка Лиля Горанова, автор сценария мультфильма «Кошка, нарисованная мелом», прожившая недолго и рано умершая от диабета. Вьетнамец By Тхы Хиен был настоящим диссидентом (хотя это слово тогда ещё не было в ходу), выступившим во вьетнамском землячестве с критикой тогдашнего лидера страны Хо Ши Мина. За это его выслали из Советского Союза и отправили во Вьетнаме за колючую проволоку, где он провёл восемь лет. Когда политическая ситуация во Вьетнаме переменилась, он был выпущен, стал печататься под псевдонимом, а затем уехал во Францию, где превосходно выучил французский язык и даже перевёл на вьетнамский стихи Малларме.
Если говорить о других факультетах, то в один год со Шпаликовым во ВГИК поступили, например, кинорежиссёр Эмиль Лотяну из Молдавии, оператор ленинградец Дмитрий Долинин, актриса Тамара Сёмина. В Калуге, откуда она и приехала в Москву, её обучал в школе рабочей молодёжи русскому языку и литературе… Булат Шалвович Окуджава, который в нашем повествовании ещё появится. Мир тесен.
В студенческие годы сложился круг самых близких друзей Шпаликова, которые и всю последующую жизнь будут рядом с ним. Все — из творческих семей. На сценарном отделении, курсом моложе, учился Павел Финн — сын писателя и кинодраматурга Константина Финна, в будущем автор или соавтор сценариев к фильмам «Миссия в Кабуле», «Всадник без головы», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Леди Макбет Мценского уезда», «Закат» и др. Александр Княжинский был внуком одного из первых отечественных кинооператоров — Григория Гибера. Неудивительно, что Саша выбрал профессию оператора. Он жил в районе зоопарка, возле Тишинского рынка, и Гена обыграл созвучие названия рынка и фамилии друга в шуточных стихах: «Тишинский рынок, ах, Княжинский рынок, / Надменные чистильщики ботинок…». Юлий Файт — сын актёра Андрея Файта, благодаря своей «заграничной» внешности четыре десятилетия игравшего в кино в основном всевозможных злодеев (заграница же, как внушалось советским людям, наводнена врагами советской власти); спустя много лет, уже в новом веке, Юлий Андреевич составит и выпустит книгу воспоминаний своего отца. На даче Файтов на Николиной Горе Гена уже в студенческие годы не раз гостил, а бывало, что и оставался на несколько дней. Николина Гора — дачный посёлок работников науки и искусства (РАНИС — так называли этот дачный кооператив с 1920-х годов, когда он был образован). И с оператором Сашей, и с режиссёром Юликом Гене как сценаристу ещё доведётся сотрудничать. В один из первых дней учёбы рядом с Геной за одним столом оказался юноша с киноведческого отделения — Наум Клейман, будущий видный теоретик и историк кино с международной известностью, специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, директор Музея кино и даже немного пушкинист. В детстве Наум хлебнул лиха — в послевоенные годы он был депортирован с семьёй из Кишинёва в Сибирь, и возвращены из спецпоселения они были только-только, год назад, в 1955-м. При поступлении во ВГИК Наум преодолел негласную антисемитскую квоту: не больше одного еврея на курсе.
Лекции не всегда были интересны. Слушать обязательный в ту пору во всех вузах и для всех специальностей «марксизм-ленинизм» в исполнении преподавателя Пудова, догматика, о котором шутили, что эволюция ВГИКа — от Пудовкина (знаменитый кинорежиссёр, профессор) до Пудова, — было скучно. На такие занятия будущих сценаристов и киноведов, составлявших единый сценарно-киноведческий факультет, соединяли в одной аудитории. Студенты быстро освоились и научились «заводить» Пудова неудобными вопросами, ответов на которые у него не было, но на лекциях приходилось сидеть тихо и терпеть. А хотелось чем-то себя занять, и Гена предложил Науму: давай переписываться. И вот шпаликовская тетрадка, вместо того чтобы заполняться конспектами лекций, стала ходить от одного к другому с разными взаимными заметками, вопросами-ответами и забавными рисунками. Были в студенческом окружении Гены Шпаликова и другие яркие личности, повод упомянуть которых у нас ещё будет. Так началась студенческая жизнь, в которой неформальное общение было не менее — а порой, может быть, и более — важным, чем обучение. При всей важности последнего.
И как оказалось значимо и для Шпаликова, и для всего тогдашнего ВГИКа, и для всего этого поколения, что годы их учёбы совпали с событиями, не побоимся этого слова, эпохальными, определившими ход жизни и историю страны на несколько десятилетий вперёд.
Первокурсники шпаликовского набора не проучились ещё и двух месяцев, когда вспыхнуло венгерское восстание. Венгрия — как и Польша, Чехословакия и другие восточноевропейские страны — входила в так называемый социалистический лагерь, образовавшийся после раздела Европы на сферы влияния по итогам Второй мировой войны. Эти страны оказались под влиянием Советского Союза. Москва навязала им свой социализм — политико-экономический режим, при котором государство, как мы уже сказали, владеет монополией на все сферы жизни, а свободного рынка нет. Идеологическими догмами подавляется и свобода мысли. Естественно, не всем в соцлагере это нравилось. Первая вспышка произошла именно в Венгрии, в конце октября 1956 года, и к 9 ноября была подавлена советскими войсками. В советских газетах и на радио (телевидение только начинало развиваться) венгерские события называли «контрреволюционным мятежом», а в мире они были восприняты как агрессия и нарушение всех международных норм. Когда в конце года в Советский Союз прибыл на гастроли знаменитый французский певец Ив Монтан (в сущности, первый человек, пробивший «железный занавес», отделявший советскую жизнь от Запада), многие в Европе были этим недовольны, полагая, что СССР нужно было бойкотировать. Как бойкотировали его несколько государств, отказавшихся участвовать в летних Олимпийских играх в Мельбурне в знак протеста против участия в них Советского Союза.
Спустя почти четверть века Владимир Высоцкий, осенью 1956-го тоже первокурсник, но другого творческого вуза — Школы-студии МХАТ, напишет беспощадные по отношению к себе и своему поколению строки: «И я не отличался от невежд, / А если отличался — очень мало, — / Занозы не оставил Будапешт, / А Прага сердце мне не разорвала». «Прага» — это аналогичные чехословацкие события 1968 года. Но оставил всё же Будапешт «занозу», оставил, если появились со временем такие строки — не в «перестроечное» время, когда на эту тему стали повсеместно говорить и писать, а в глухое позднебрежневское безвременье. А что же Шпаликов?
Наум Клейман вспоминает, как его сосед по аудитории как раз в те осенние дни вдруг исчез и какое-то время на занятия совсем не ходил. Прошло 7 ноября, с военным парадом на Красной площади, но почему-то без привычной демонстрации после парада. Чувствовалось: власть напряжена и даёт понять, что праздник на этот раз тревожный. И тут Шпаликов появился. Заметив в глазах приятеля вопросительное выражение, он поразил его признанием: я был там. Там — то есть в Венгрии. Клейман не сомневался, что Гена сочиняет, но тот сочинял так правдоподобно, что не поверить было трудно. «У меня дядя генерал, он взял меня». То, что дядя — генерал, было правдой, друзья Шпаликова знали об этом. Семён Никифорович занимал в эту пору очень высокий пост — был первым заместителем министра внутренних дел СССР. И всё же — зачем Гена это сочинял?
Ситуация была непростой. С одной стороны, Шпаликов совсем недавно был военным человеком, суворовцем и «кремлёвцем», и понимал, что не сложись судьба так, как она сложилась, он, принявший присягу, мог бы теперь оказаться в Венгрии в составе советских войск, а значит — участвовать в подавлении восстания. При всём своём стихийном вольнодумстве, с возрастом нараставшем, он был всё-таки советским человеком, особенно — в 19 лет. Но с другой стороны — он не мог не чувствовать ненормальность венгерского противостояния. Пока шла лекция, Гена написал для Наума рассказ о том, как он «был в Венгрии», — историю о двух парнях, ровесниках, даже внешне похожих друг на друга, но воюющих по разные стороны баррикад (баррикады в Венгрии действительно были), венгерском мятежнике и советском солдате. Один вооружён бутылкой с зажигательной смесью, а другой сидит в танке. Они видят друг друга, и вся логика ситуации подталкивает каждого из них к тому, чтобы убить противника; вопрос в том, у кого раньше сдадут нервы. И ни тот ни другой этого не делают…
Кажется, у этой вымышленной истории есть литературный источник. Судя по дневнику и стихам, студент Шпаликов заинтересованно относится к «Войне и миру». Летом 1957 года он побывал на Бородинском поле и смотрел на него глазами толстовского героя: «Спуск после Можайска точно такой, каким видел его Пьер Безухов… Я раньше никогда не был в Бородино, а оказалось, что всё уже знаю и помню. Спуск за Можайском — просто страшно. Это, как фокус. Тут уже литература ни при чём». А вот поэтическая версия этого впечатления — стихотворение «Можайск»: «Здесь, остриженный, безусый, / В тарантасе плакал глухо/Очень милый, очень грустный / Пьер Безухов». Конечно, определения «очень милый, очень грустный» к толстовскому Пьеру — особенно в бородинских сценах — не очень подходят, да и не плакал он в тарантасе. Поэт здесь ироничен. Но в описании Бородинского сражения в романе-эпопее есть эпизод, который, возможно, и вспоминался Шпаликову, когда он сочинял свой рассказ про двух парней, советского и венгерского. Пьер Безухов сталкивается на поле битвы с французским офицером: «Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и они оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. „Я ли взят в плен, или он взят в плен мною?“ — думал каждый из них… Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору…» У Толстого эта батальная и в то же время совершенно «невоенная» сцена — знак бессмысленности и бесчеловечности войны. То, что люди должны убивать друг друга, — противоестественно. Мысль эта, казалось бы, очевидна. Но в сознании советского человека, живущего в государстве, где ему чуть ли не с пелёнок внушали, что мы окружены мечтающими уничтожить нас врагами и что игнорировать это значит впасть в недопустимый пацифизм, — она была заретуширована милитаристской пропагандой. И то, что в устном рассказе восемнадцатилетнего Гены Шпаликова, вчерашнего курсанта, два врага ведут себя «по-толстовски», — это уже много. Это уже — знак внутренней свободы. Или хотя бы шаг к ней.
Между тем венгерские события имели во ВГИКе недобрый и нешуточный резонанс. 30 ноября в институте прошло партийное собрание, на котором много говорилось о «нездоровых настроениях» среди студенчества. Студент Владимир Кривцов — несмотря на юный возраст, уже член КПСС (вступить в партию, правящую и единственную в Советской стране, было очень непросто, для этого нужно было быть «надёжным», то есть благонадёжным, человеком), выступил фактически с доносом на своего однокурсника Владимира Злотверова. Тот якобы ведёт «антисоветские разговоры» и «отвергает изучение трудов Ленина». Мыслящий и независимый Злотверов, вызванный после этого к только что назначенному новому директору института Грошеву (привычное ныне слово «ректор» тогда ещё не вошло в обиход), подыгрывать начальству и «каяться» не стал. 11 декабря он был отчислен. На следующий же день он и ещё один первокурсник сценарного отделения, комсорг курса и поэт Али Кафаров были арестованы. Им вменялись в вину антисоветские настроения и даже намерение изменить государственный строй, хотя реальная их «вина» заключалась лишь в рассказывании политических анекдотов и в задавании преподавателям слишком смелых вопросов. В институте возник стихийный митинг: студенты собрались возле кабинета директора и требовали объяснить причины ареста своих товарищей и ознакомить их с материалами следствия. Кривцову объявили бойкот, перестали здороваться с ним и на столах в аудиториях писали: «Кривцов стукач», — что не помешало ему выступить потом в суде в качестве свидетеля «антисоветской» деятельности Злотверова и Кафарова и заявлять, что он делает это «из идейных и патриотических побуждений». Ребят арестовали прямо в кабинете директора, куда они были вызваны с лекции. В это время шёл обыск в общежитии, где был изъят дневник Кафарова, в котором было к чему придраться. В день ареста, уже вечером, Шпаликов приехал туда с Клейманом (Наум, как иногородний, жил в общежитии) и видел комнату, в которой всё было перевёрнуто вверх дном. Это потрясло его.
В итоге на студентов, конечно, надавили и бунт пресекли: слишком неравны были силы. Противостоять всемогущим партийцам и кагэбэшникам было невозможно. Но два дня институт бурлил, занятий фактически не было, студенты митинговали. Из ЦК комсомола приезжал Лен Карпинский, имевший репутацию более-менее либерального человека. Обещал разобраться и вернуть ребят. Не вернул: они попали в лагеря, затем Кафаров уехал в родной Азербайджан и больше во ВГИКе не появлялся, а Злотверов в лагере погиб…
Эта история показывает, что «оттепельное» юношество уже не хотело быть послушным стадом и что ВГИК оказался одним из первых очагов вольномыслия в стране, только-только начавшей оттаивать после сталинских холодов.
Венгерские события «заморозили» одну замечательную студенческую задумку, к которой Шпаликов имел самое прямое отношение.
Когда он начинал учиться на первом курсе, в институте существовала стенгазета «ВГИКовец», совершенно свободная и бесцензурная; вспоминая то время, Наум Клейман называет её «прообразом Интернета». На стене висел огромный ватманский лист, и студенты сами приклеивали свои заметки, рецензии, стихи… Занимались этой газетой киноведы предыдущего набора: будущий главный редактор журнала «Советский экран» Виктор Дёмин, будущий председатель Госкино Армен Медведев, а ещё кинокритик Татьяна Хлоплянкина, учившаяся на сценарном, но ещё годом раньше. На «венгерской» волне «ВГИКовца» запретили; в институте начала выпускаться подконтрольная начальству многотиражка «Путь к экрану».
Но мысль о своём издании — печатном ли, стенном — не давала студентам покоя. Ребята собрались выпустить журнал с произведениями первокурсников всех факультетов — этакое «взаимознакомство» будущих сценаристов, киноведов, режиссёров, операторов, актёров и кинохудожников. Журнал так и должен был называться — «Первокурсник». Через год он превращался бы во «Второкурсника», а «Первокурсник» переходил бы к студентам следующего набора. Гена написал предисловие к журналу, назвав его «Давайте знакомиться!» и изложив кредо задуманного издания: «Журнал нужен как связывающее звено. Мы хотим, чтобы режиссёры и операторы не бродили в поисках сюжетов. Мы хотим, чтобы сценаристы писали не только в собственный ящик. Мы хотим знать друг друга, и никакими административными путями добиться этого сближения невозможно». В редакционном портфеле, которым служила у ребят оранжевая папка, уже накапливались материалы: стихи Шпаликова, рецензии Клеймана, фотографии Дмитрия Долинина с операторского факультета, рисунки будущего театрального художника Николая Двигубского, родившегося во Франции в семье русских эмигрантов, в 1956-м вернувшихся в СССР, двоюродного брата прославившейся фильмом «Колдунья» киноактрисы Марины Влади. Увы: после «холодной осени пятьдесят шестого» об издании этого журнала (первый номер которого был уже собран и распечатан на пишущей машинке в несколько заходов в общем количестве 25 экземпляров; машинка брала максимум четыре-пять копий) не могло быть и речи.
На сознание молодёжи эпохи «оттепели» сильнейшее влияние оказал Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, проходивший в Москве летом 1957 года. Для начавшей оттаивать советской жизни послесталинского времени это было вообще событие исключительное. Молодые люди впервые увидели своих сверстников из разных стран; до этого общение с иностранцами было практически нереально, а если вдруг и произошло бы, то непременно повлекло бы за собой неприятности. И вдруг — «дети разных народов» (строчка из широко звучавшего в ту пору «Гимна демократической молодёжи» композитора Новикова и поэта-песенника Ошанина: «Дети разных народов, мы мечтою о мире живём…») съехались в Москву, и оказалось, что это никакие не монстры, а такие же молодые парни и девушки. С ними можно разговаривать и дружить, и не только: спустя девять месяцев, весной 1958 года, на свет стали появляться так называемые «дети фестиваля», в основном темнокожие…
Парад открытия фестиваля начинался возле ВГИКа: в находившейся по соседству недавно построенной гостинице «Турист» жили приехавшие на фестиваль иностранцы. Сами вгиковцы во время фестиваля были задействованы в качестве экскурсоводов и переводчиков. Среди ребят было немало таких, которые хорошо знали языки — в основном немецкий, который перед войной, во время и после войны изучали почти во всех школах (язык главного врага надо знать: а вдруг придётся идти в немецкий тыл в разведку!). Гену в те дни можно было увидеть на разных фестивальных площадках — то в МГУ на Ленинских горах, то в Сокольниках. Его фестивальные — лучше сказать, постфестивальные — впечатления остались в импрессионистичных заметках на нескольких листах бумаги, появившихся уже после самого события, осенью. Они напоминают заготовки для очерка — возможно, для учебного отчёта или для стенгазеты:
«Площадь Маяковского. Уходит огнями вниз Садовое кольцо.
Эта пустая эстрада никому не нужна. Раньше на ней висело яркое панно, — теперь его сняли, потому что всё кончилось… Вспомните, улыбнитесь. Это было три месяца назад. Это было на тех же улицах. Фестиваль шёл по Москве…
Дождь на фестивале. Это нечестно с его стороны. Он понимал это и всегда быстро кончался.
Пусть кончаются все дожди».
Затем — новое потрясение: Неделя итальянского и Неделя французского кино в Москве (и в Ленинграде). Сначала в 1957-м, а затем ещё в 1959 году. В ту пору советские зрители впервые увидели «Дорогу» Федерико Феллини с Джульеттой Мазиной, «Пайзу» Роберто Росселлини, «Два гроша надежды» Ренато Кастеллани, «Самую красивую» Лукино Висконти, «Запрещённые игры» Рене Клемана… О том, как отозвался европейский кинематограф в художественных вкусах и в творческой судьбе Шпаликова, мы ещё поговорим отдельно и не раз, но пока скажем одно: житель Советской страны — особенно молодой житель, и особенно тот, кто имел отношение к кино — открывал для себя в этих фильмах другую жизнь и другую культуру. Эти фильмы были очень не похожи на то, что снималось в Советском Союзе в 1930–1950-е годы — ни на «Чапаева», ни на «Подвиг разведчика», ни на «Верных друзей» (нарочно называем популярнейшие ленты). Советское кино, которое ещё Ленин назвал «важнейшим» из всех искусств (это определение тогда можно было прочесть в фойе едва ли не любого кинотеатра) и которое всё-таки довлело в учебном процессе института, было очень политизировано. Оно провозглашало коммунистическую идею и советскую мораль, независимо от жанра — была ли это военно-историческая картина или весёлая комедия. В литературе и искусстве это называлось тогда «социалистическим реализмом». По сравнению с советским кино европейское поражало своим интересом не к идеологии, а к личности (что, впрочем, не означало отказа от социальной темы, а, напротив, только заостряло её, очищало от идеологической шелухи), а ещё чувством стиля. Отличалось это киноискусство и от трофейных (читай: контрафактных, или ворованных) фильмов, несмотря на то что те тоже были привезены из Европы (после победы над Германией). Трофейные фильмы были в основном развлекательными — вроде киномюзикла «Девушка моей мечты» или серии приключенческих картин о Тарзане. Народ охотно смотрел их, но пищи для ума в них было немного. Неудивительно, что едва ли не все вгиковцы эпохи «оттепели» прошли через увлечение итальянским и французским кино. Оно стало для них и откровением, и кинематографической школой.
Появлялись и советские фильмы, воспринимавшиеся как новое слово в нашем киноискусстве. 13 октября 1957 года Гена записал в дневнике, что посмотрел ленту Михаила Калатозова «Летят журавли», снятую по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Действие фильма разворачивалось в годы войны, но это был фильм не столько о самой войне (батальные эпизоды в нём сведены до минимума), сколько о том, какой след она оставляет в человеческой судьбе, в жизни героев, перед каким нравственным выбором ставит их. О любви, наконец. Идеология, столь назойливая во многих фильмах того времени, в этой картине не ощущалась. Художественное решение было великолепным: чёрно-белая графичность изображения на экране, эмоциональная, «калейдоскопическая» динамика сцен, безупречная композиция кадра. При всём трагизме сюжета — поэтичность, даже, может быть, лёгкость кинематографического почерка. Здесь велика заслуга не только режиссёра, но и оператора — Сергея Урусевского (с которым Шпаликова творческая судьба ещё сведёт). Ничего похожего в советском кино ещё не было. От картины невозможно оторваться, она и спустя несколько десятилетий смотрится на одном дыхании. Зритель оценил новое звучание военной темы: молодые герои Татьяны Самойловой и Алексея Баталова стали любимцами тогдашнего молодого поколения. Успех был и международным: картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале 1958 года.
Режиссёр Григорий Чухрай, сам несколько лет назад выпустившийся из этих стен, показал студентам ВГИКа свою первую самостоятельную картину и одну из первых картин «оттепельного» кино — «Сорок первый» по одноимённой повести Бориса Лавренёва. Шпаликов в тот год был ещё только на первом курсе. Это было тоже событие и откровение! На экране столкнулись жёсткая идеологическая непримиримость и правда живого чувства, и вторая явно перевешивала. Двумя-тремя годами раньше такое в нашем кино невозможно было и представить.
Сценарную мастерскую, в которую попал Шпаликов, вёл заведующий кафедрой кинодраматургии Валентин Константинович Туркин. Ему было под семьдесят; он активно работал как сценарист в 1920-е годы (был автором сценариев, например, «Закройщика из Торжка» и, совместно с Фёдором Оцепом, «Коллежского регистратора» — экранизации пушкинской повести «Станционный смотритель»), затем занялся преподаванием. С Туркиным связан самый первый опыт сотрудничества Шпаликова с киностудией. Педагог порекомендовал его на Киностудию им. Горького для работы над сценарием по роману Александра Беляева «Человек-амфибия». Правда, до фильма дело почему-то не дошло, хотя Гена увлёкся идеей и уже начал обдумывать и сочинять. Науму Клейману запомнилось из разговоров той поры, что это был сценарий более сложный и глубокий, чем тот, по которому спустя несколько лет была-таки поставлена на «Ленфильме» картина «Человек-амфибия» и который принадлежал уже другим авторам. Герой романа виделся Шпаликову человеком, принадлежащим сразу двум стихиям, воде и земле, и в этой двоякости изначально заложена была драма…
В феврале 1957 года Туркин отпраздновал свой семидесятилетний юбилей (Гена был отправлен от группы в цветочный ларёк за букетом для мэтра), а менее чем через год, в январе 1958-го, умер, и Шпаликов написал маленькую заметку о нём — возможно, для стенгазеты. За приличествующими в таких случаях словами проглядывают неподдельное доброе и благодарное отношение ученика к учителю, живые штрихи его личности: «Он очень любил жить, смеяться, придумывать, и смерть не вяжется с ним. Он не мог умереть, такой весёлый, большой, добрый. В памяти остались мелочи и незначительное: как улыбался при встрече, как выходил из института в расстёгнутом пальто и спрашивал, почему я сегодня такой невесёлый, как он советовал каждому читать Аристотеля…»
С кончиной Туркина связан в биографии Шпаликова эпизод, о котором можно сказать известной поговоркой: и смех и грех. Гена выступал от студентов на траурном митинге во ВГИКе и начал свою речь неожиданной для скорбного повода фразой: «Дорогой Валентин Константинович, вы ушли, и это так хорошо». Студенты потихоньку прыснули, педагоги переглянулись. Поняв, что попал впросак, Гена начал выкручиваться: мол, хорошо, что остаёмся мы, ученики, которые продолжат ваше дело, и далее в таком духе: общие места траурных речей…
После Туркина со студентами его мастерской занимались разные педагоги. Они поочерёдно опекали будущих сценаристов, но равноценной Валентину Константиновичу по педагогическому воздействию фигуры уже не было. Так и осталось у них ощущение студенческого «сиротства».
Что сочинял в годы учёбы «по профилю своей специальности» сам Шпаликов?
Летом вгиковцы уезжали на практику — кто куда, благо страна большая. Хорошее — хотя для институтского бюджета и затратное — дело, позволявшее набраться впечатлений, соприкоснуться с разными профессиями. Будущий сценарист должен увидеть своими глазами, где и как живёт и работает народ. После первого курса Гена отправился на юг, в Керчь, и до начала московского фестиваля, которое пришлось на 28 июля, плавал с моряками по Азовскому и Чёрному морям. Шутил: я — как Пушкин в южной ссылке. На следующее лето состоялась «северная ссылка» — поездка в посёлок Диксон, часть которого расположена на берегу Енисейского залива, а часть на острове с таким же названием — Диксон. Это самый северный населённый пункт России, а тогда — и всего Советского Союза.
Результатом практики, одной и другой, стали два цикла очерков и рассказов, каждый — объёмом в шестьдесят с лишним машинописных страниц. Тексты были перепечатаны, видимо, для того, чтобы сдать их на кафедру в качестве отчёта. Они ещё ждут своего издателя. Азовский цикл, озаглавленный почему-то «Сибирские рассказы» (ошибка машинистки или шпаликовская шутка?), особенно впечатляет записанными автором рассказами о войне. Таков рассказ матроса Сашки о его ростовском детстве, совпавшем с оккупацией города: сначала обстрелы, пожар в квартире, ночлег в яме, ранение сестры от пулемётной очереди, затем — угон в Германию. Бывший боцман Иван Саввич рассказывает трагическую историю о том, как при сдаче немцам Керчи в 1942 году погибли десятки людей, висевшие на фалах (верёвках) буксира, эвакуировавшего баржу с многочисленными ранеными. Буксир и баржа попали под страшный обстрел, люди на фалах мешали судну идти, и командир приказал рубить фалы. Несчастные погибли ради того, чтобы можно было спасти раненых, которых было гораздо больше. Страшная арифметика войны. Такую беспощадную правду в ту пору в фильмах не показывали.
Главной темой второго цикла, «Лето белых ночей», стала жизнь северных рыбаков: «Мы живём в бревенчатой избе на берегу океана. Утром мы проверяем сети, расставленные в бухте, я зарываю рыбу в снег, и мы уходим в тундру». Или: «Плоская льдина жёлтого цвета порвала первую сеть. Льдину нужно увести в сторону. Я разгоняю лодку и врезаюсь в льдину». Или ещё: «Зимой я ухожу в тундру за песцом и оленем. Нет ничего безобиднее оленя». Трудно сказать, какова была степень реального участия московского студента в труде поморов, выходил ли он в самом деле с ними на лодке в море. Возможно, что и выходил. Насчёт зимних походов же в тундру за песцом и оленем — сомнительно уже потому, что практика проходила летом, хотя фраза «нет ничего безобиднее оленя» звучит так убедительно и естественно, что кажется: автор и впрямь всю жизнь имеет дело с оленями.
Но порой повествование получает такой драматический накал, что понимаешь: здесь без художественного вымысла уж точно не обошлось. Герой одного из рассказов цикла («Игарка») — матрос-речник Матвей; пока его баржа стоит на приколе, он зарабатывает перевозом в лодке жителей через Енисей. В прошлом он фронтовик, переживший гибель жены и ребёнка от несчастного случая. Через неделю после их похорон Матвей шёл по коридору горной гостиницы (дело было на территории Чехословакии, где находилась тогда его часть). «В последнем номере он увидел власовца и его девку. Он закрыл их в зеркальный шкаф для верхнего платья и попросил солдат подвинуть шкаф к окну. Окно было высокое. Шкаф упал с четвёртого этажа горной гостиницы в прозрачное озеро, окружённое лесом и скалами. Военно-полевой суд приговорил его к расстрелу. Расстрел заменили десятью годами исправительно-трудовых работ». Такая вот спонтанно-изощрённая месть предателю, в которую вылилась вся ненависть героя к фашизму. Оценим то, как причудливо соединились в этом рассказе ощущение реального трагизма войны и безудержная фантазия молодого автора, способная порождать невероятные сюжетные ситуации…
Творческие поездки бывали и зимой. В начале 1958 года Шпаликов был командирован в Кронштадт — закрытый город военных моряков. Отчёт в жанре очерка, тоже пока не опубликованного, был написан и в этот раз. Написан вполне профессионально: охвачены и историческое прошлое города-крепости (очерк так и назван: «Крепость Кронштадт»), и нынешняя его жизнь, тоже напомнившая автору жизнь «на осадном положении»: «В каждой комнате этого спокойного города висит чёрная шинель… Днём и ночью по городу ходит матросский патруль… Крепость была всюду. Я не мог сразу понять это, но это было так». В Кронштадте Шпаликов провёл весь январь, и что-то не ладилось у него там собственное творчество. Вале Дьяченко он пишет из «пустой гостиницы» (бывший дворец петровского фаворита Меншикова), где «нет никого и очень холодно» и где автору письма «смертельно надоело». В чём дело? Может быть, в том, что Гена попал к военным, и собственное недавнее прошлое поневоле окрашивает его кронштадтские впечатления: «Каждый вечер после двенадцати ко мне приходят дежурные по Дому офицеров, которым нельзя уйти, и поэтому они трезвые, и поэтому они паршиво настроены и начинают изливать душу, как им опротивела служба, и всё в этом роде… Какое несчастье — носить офицерские погоны, впрочем, не для всех». Знакомый мотив…
В числе шпаликовских произведений студенческой поры есть одно очень необычное — короткий сценарий под названием «Человек умер», с датой «21 октября 1956 года». Это значит — написано всего на втором месяце учёбы, до венгерских событий и волнений во ВГИКе. Да иначе и не были бы упомянуты в тексте шпаликовские однокурсники — Злотверов и Кафаров, которые вскоре будут арестованы; в качестве героев здесь вообще выступают реальные лица, студенты: Кривцов, Бекаревич, Копалина, Авдеенко, Шунько… Текст небольшой, всего несколько страничек, и судя по тому, что сохранён и подшит среди официальных бумаг, это учебная работа. Если и впрямь снимать по нему фильм, то получится короткометражка минут на двадцать-двадцать пять. Но можно представить, как удивился педагог, получив от студента Шпаликова такое сочинение. Снимать такой сюжет в 1956 году — даже в рамках учебной работы — никто бы, разумеется, не стал.
Первые фразы выдают уже имеющийся у него профессиональный навык сценариста: начало должно быть визуальным, ибо это потенциальный кинокадр: «Доска объявлений. К ней в беспорядке приколоты кусочки бумаги. Кривые, дрожащие буквы… Буквы складываются в слова». Далее, после явно комедийных объявлений («Верните будильник людям из общежития! Потерял штаны в библиотеке…») виден листок, «обрамлённый неровной чернильной рамкой, вроде траурной»:
«Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушёл из жизни Шпаликов Геннадий. Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 час., вынос тела — в 7. После выноса будет просмотр нового художественного фильма!!!» Очевидно, что весь дальнейший текст будет выдержан в стиле чёрного юмора. Вот как обсуждают новость товарищи героя по учёбе: «Они что-то жуют. Голоса — совсем спокойные.
— Как это его угораздило?
— Говорят, повесился.
— Повесился?
— Ага, в уборной.
— Не кинематографично. Лучше бы с моста или под поезд. Представляешь, какие ракурсы?» И далее — в таком духе. Весёлая, казалось бы, шутка, но зная, чем закончится жизнь самого Шпаликова, поневоле ощущаешь мороз на коже. Все досужие разговоры о том, что Маяковский не застрелился и Есенин не повесился, а якобы кто-то их убил, разбиваются о несокрушимый аргумент — стихи, в которых лирический герой первого поэта говорит о себе «он здесь застрелился у двери любимой», а герой другого пророчит: «В зелёный вечер под окном / На рукаве своём повешусь». Какие после этого могут быть сомнения? Уже давно думали, давно были внутренне готовы к тому, что случилось потом. Вот и герой шпаликовского сценария, кажется, уже знает всё наперёд…
Кстати о Маяковском. Мы помним, что это любимый поэт юного Шпаликова — как и очень многих в его поколении, впитавшем социалистический пафос «агитатора, горлана, главаря». Маяковский оказался, можно сказать, культурным героем «оттепели», когда заговорили о «возвращении к ленинским нормам», и искренняя, не замутнённая корыстными интересами, вера поэта в коммунистическую идею («Мне и рубля не накопили строчки…») была востребована сознанием молодой интеллигенции. Весной 1956 года, в промежутке между военным училищем и ВГИКом, Гена ходил на площадь Маяковского смотреть строительство макета памятника поэту: деревянная «версия» будущей скульптуры была сооружена специально для того, чтобы можно было её передвигать и тем самым подобрать наиболее подходящее место. В дневнике Шпаликова читаем: «Памятник, кажется, будет замечательный». А спустя два года он даже побывал с друзьями в мастерской скульптора Кибальникова, уже заканчивавшего работу над статуей. Монумент будет установлен спустя три месяца и станет одним из символов эпохи рубежа 1950–1960-х годов: прямо у его подножия будут проходить поэтические чтения. «Посреди зала, — записывает Шпаликов в дневнике, — стоит громадный Маяковский из мокрой, зеленоватой глины. Вокруг — сложные конструкции, с которых неоднократно падал скульптор с чёрной бородой». Юмористическая нотка неожиданно оттеняет юношеский пиетет перед классиком, который всего «сорок с немногим лет назад шагал кольцом бесконечных Садовых» (здесь автор дневника цитирует поэму Маяковского «Люблю»).
Нечто похожее замечаем и в тексте студенческого сценария: здесь есть пассаж, который звучит как реминисценция из предсмертной поэмы Маяковского «Во весь голос». В ней поэт иронизирует по поводу сентиментальности и слащавости стихов иных своих современников, противопоставляя им гражданский пафос собственного творчества: «Я, ассенизатор / и водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, / ушёл на фронт / из барских садоводств / поэзии — / бабы капризной. / Засадила садик мило, / дочка, / дачка, / водь / и гладь — / сама садик я садила, / сама буду поливать». У Шпаликова Злотверов, узнав о самоубийстве героя, недоумевает: «Не понимаю, что он этим хотел сказать. Но вообще — это в его духе. Цветочки, ландыши… Сен-ти-мент. Достоевщина, в общем. Я бы лично в принципе так не поступил». Вероятно, не случайно, эти слова отданы именно этому однокурснику автора: Злотверов был человеком политически, что называется, ангажированным. Словцо «достоевщина» напоминает о том, что до «оттепели» автор «Преступления и наказания», самый христианский писатель в русской классической литературе, в школьной программе отсутствовал. Мотив осуждения самоубийства — тоже вполне «Маяковский». Здесь стоит напомнить его стихотворение «Сергею Есенину» с афористичной концовкой: «В этой жизни / помереть / не трудно. / Сделать жизнь / значительно трудней». Так вот, текст Шпаликова показывает, что провозглашаемая Маяковским гражданская нота, противостояние «упадочничеству» и «сентиментам» вызывают некоторое несогласие: сходные убеждения вложены в уста того, кто не понял поступка героя, а герой — alter ego самого автора. Девятнадцатилетний почитатель Маяковского должен бы во всём соглашаться со своим кумиром, но уже позволяет себе полушутливую полемику с ним. Намечаются «ножницы» между советским юношей, воспитанным в советско-патриотическом духе — и будущим нонконформистом, творческий инстинкт которого так и не позволит ему вписаться в рамки советского литературного официоза.
За вольной или невольной полемикой с Маяковским стоит, однако, и нечто более важное. Тема смерти в советском искусстве должна была иметь непременно если не героическое (когда речь шла о войне), то во всяком случае серьёзное звучание. Советское искусство вообще было оптимистическим, и смерть в грандиозные планы переустройства мира как-то не очень вписывалась. Это тонко почувствовал поэт из того же поколения, что и Шпаликов, уже в новом веке иронически вспоминающий об этом в стихах: «Смерти, помнится, не было в 49-м году./ Жданов, кажется, умер, но как-то случайно, досрочно. / Если смерть и была, то в каком-то последнем ряду, / Где никто не сидел; а в поэзии не было, точно. / Созидание — вот чем все заняты были. Леса / Молодые шумели. И вождь поседевший, но вечно / Жить собравшийся, в блеклые взгляд устремлял небеса. / Мы моложе его, значит, мы будем жить бесконечно» (Александр Кушнер). Во всяком случае, шутить над смертью не позволялось. Шпаликов же — пошутил. Пусть его юмор — чёрный (а иначе, наверное, шутить над смертью и невозможно), но всё-таки это юмор. И его студенческий сценарий, несмотря на то, что он на несколько десятилетий «залёг» в архиве и стал известен только в постсоветское время, может быть назван одной из первых «ласточек» «оттепели» в нашем искусстве. Напомним ещё раз: октябрь 1956-го. Между XX съездом и Венгрией.
О том, что сценарий «Человек умер» не был простой юношеской бравадой и кокетничаньем со смертью, говорят и стихи Шпаликова, написанные три года спустя, в студенческую ещё пору:
Хоронят писателей мёртвых, живые идут в коридор. Служителей бойкие мётлы с метают иголки и сор. Мне дух панихид неприятен, я в окна спокойно гляжу и думаю — вот мой приятель, Вот я в этом зале лежу.Стихотворение заканчивается строчкой, как бы выпадающей из общего строфического рисунка, ни с чем не зарифмованной, единичной, звучащей как заклинание: «Ровесники, не умирайте…»
Полтора года спустя после необычного сценария, в марте 1958 года — стало быть, на втором курсе — Шпаликов сочинил для студенческого театра ВГИКа пьесу «Гражданин Фиолетовой республики». Но поставлена она не была и при жизни автора вообще не попала ни на сцену, ни в печать, хотя студенческий театр ВГИКа собирался превратить её в спектакль. Организатором этого дела был Наум Клейман, режиссёром — Андрей Хржановский, будущий классик мультипликации, художником — Валерий Левенталь (повод упомянуть и о том и о другом у нас ещё будет). Была устроена читка пьесы. Читал сам Гена, но читал неважно, и его сменил Финн.
Произведение очень показательное, и для двадцатилетнего автора — что называется, на вырост. Сильный художественный инстинкт привёл его к теме, ставшей одной из самых значительных в искусстве XX века — и зарубежном, и отечественном. Речь идёт об антиутопии — жанре, противостоявшем тоталитарной модели общественного устройства. К середине столетия тоталитарный режим уже был знаком жителям нескольких европейских государств — Германии, Италии, Испании и, наконец, Советского Союза (другое дело, что советский народ едва ли осознавал это, воспринимая происходящее вокруг как должное). Как сумел начинающий драматург — пусть уже после XX съезда, но всё-таки в самое наисоветское время, когда в правильности социалистической идеи-«утопии» невозможно было усомниться, — обратиться к сюжету по сути своей антиутопическому? Не берёмся судить о том, знал ли студент Шпаликов запрещённые в СССР и опубликованные на Западе антиутопические романы Евгения Замятина «Мы» и Джорджа Оруэлла «1984». Но, думается, в любом случае помогла традиция пьес-сказок Евгения Шварца, в тексте «Гражданина…» ощутимая.
Условно-фантастическая Фиолетовая республика живёт по Конституции, согласно которой королю по достижении двадцатилетнего возраста отрубают голову («Это не казнь. Это — акт справедливости»), а девушек отдают в «интернат общественной жизни», где они должны будут «родить и первоначально выкормить мальчика или девочку». Жизнь регламентирована настолько, что запрещено даже «целоваться в парках, на площадях и в местах общественного пользования»: это якобы «подрывает моральные устои народа». За исполнением странной Конституции Фиолетовой республики строго следит «человек в чёрном костюме, белой рубашке и чёрном галстуке» — первый министр двора Фиалкин, он же эмигрант и бывший таксист, он же любовник королевы Клеопатры, официально считающейся супругой каждого новоиспечённого короля. Как ни странно, на должность короля, несмотря на обречённость его гильотине, постоянно находятся новые претенденты (после очередной казни объявляется конкурс!). В тексте очевидны аллюзии не только на французскую революцию (гильотина, «аристократка»-королева, «король № 16», которого, как Людовика XVI, как раз и казнят в пьесе) и на знаменитую роковую женщину — египетскую правительницу («пятнадцать королей до меня спали с Клеопатрой»), но и на советскую идеологию и советскую историю. Они пропущены через современные бытовые приметы (афиши на заборах, телефонная будка, скамейка под фонарём) и через советский «новояз» (слово из романа Оруэлла), то есть идеологические речевые клише, которые можно было в ту пору встретить в любой газете: «память о тебе не умрёт», «тяга к образованию», «отделить цирк от государства» (пародийный намёк на отделение церкви от государства в СССР), «любимое место отдыха трудящихся» (о парке), «раскрепостим домашнюю хозяйку», «прославим женщину-мать», «человек пролетарских кровей». Что касается последнего, то пролетариат в советскую эпоху был объявлен наиболее передовым и революционным классом, и пролетарское происхождение считалось «правильным», хотя ясно, что в реальности рабочий человек на государственную жизнь никак не влиял, разве что для виду сидел иногда в президиуме партийного собрания. Ироническое отношение автора ко всей этой, далёкой от жизни, словесной трескотне несомненно.
Однако завершается сюжет не антиутопически, как может предполагать читатель, знакомый с романами Замятина и Оруэлла и знающий, каковыми оказались реальные повороты истории XX века, а скорее наоборот, утопически. Попытавшиеся обманным путём разбогатеть и в итоге разоблачённые Фиалкин с Клеопатрой намереваются бежать из Фиолетовой республики, но они схвачены, и теперь их самих ждёт эшафот. Пьеса завершается на оптимистической, поистине советской ноте: «Прошло много лет. Фиолетовая республика теперь называется иначе. День освобождения стал листком в календаре, на котором написано красными буквами, что 16 апреля народ свергнул власть незаконных правителей… В этот день люди не работают и по вечерам ходят в кино…» Прямо-таки Седьмое ноября, «красный день календаря», общесоюзный выходной (а заодно не работали и восьмого). Неужели у Шпаликова это всерьёз?
Всерьёз. Стоит прислушаться к голосу Наума Клеймана, спустя несколько десятилетий так рассказывающего о своём однокурснике: «Странное чувство, с одной стороны, освобождения, радости, надежд, а с другой стороны, разверзшейся правды, трагизма сопровождало нас фактически всё время Оттепели. И мне кажется, что Гена выразил собой именно двойственность времени: и его свет, и ощущение той бездны, которая разверзлась и которая не страшит, но требует от тебя, чтобы ты не закрывал глаза и не делал вид, что этого не было». Пьеса о Фиолетовой республике стала, может быть, первым шпаликовским произведением, где это противоречие себя наглядно проявило, где соединены и «ощущение бездны», и надежда на то, что добро сильнее зла. Благодаря этой надежде Шпаликов — и ранний, и более поздний — несмотря ни на что, светлый художник.
18 марта 1958 года он записывает в дневнике: «Сегодня пьесу приняли к постановке. Может быть, мне даже заплатят деньги. В то, что пьеса будет на сцене, — я не верю». Так и вышло. Сначала сменился состав комсомольского бюро, потом оказалось почему-то, что некому перепечатать на машинке рукопись, потом почему-то не смогли собраться на репетицию, и затея сама собой сошла на нет. По поводу этой истории Гена написал необычный текст под названием «Моя речь на комсомольском собрании, которое будет в конце года». В этой «речи» он пытается, в своём духе, шутить, но юмор выходит грустным — как грустна вся эта история с несостоявшейся постановкой: «Вы знаете, что существуют парламентские обязательства и обещания президента или рядовых сенаторов. Они могут обещать, например, выстроить мост на Луну или осушить часть Атлантического океана под кокосовые пальмы. Но их просьбы ничего не меняют. И нет ни моста до Луны, и по Атлантическому океану ходят пароходы и плавают киты». И лежат без движения пьесы…
Во втором номере журнала «Молодая гвардия» за 1959 год был опубликован рассказ Шпаликова «Второй пилот». Большая удача — начинающему автору, студенту напечататься в центральном издании. Для литератора, едва-едва перешагнувшего двадцатилетний возраст, это очень крепкая, профессиональная проза — по-хемингуэевски немногословная (в журнале рассказ занимает пять страничек небольшого формата) и мужественная, о людях «трудной профессии». Знакомство Шпаликова с творчеством Хемингуэя началось с романа «Фиеста», прочитанного как раз в студенческую пору: «У меня появился писатель, коего я всегда бы хотел иметь на столе, в чемодане, всюду. Очарование, непонятное, как опиум». Хемингуэй — на тогдашнем молодёжном сленге «старик Хэм» — был культовым писателем «оттепели», ему подражали, по его примеру надевая грубошерстные свитера, отпуская бороды и покуривая вместо сигарет трубки, его портреты висели в каждом интеллигентном доме. «…И — проступает из-под каждой кровли / Икона византийского письма, / Хемингуэй, в трусах, на рыбной ловле», — иронически писал по этому поводу в тех же шестидесятых годах поэт Александр Межиров.
Сюжет «Второго пилота» построен на контрасте между образами двух лётчиков Игарского отряда полярной авиации. Написан рассказ, конечно, под впечатлением от северной практики 1958 года. Фамилия одного из героев, командира экипажа, — Савицкий, другого, второго пилота — Стешанов. Поначалу читатель сочувствует Савицкому — опытному профессионалу, понимающему, что его напарник «боится земли», то есть момента приземления машины. Он нарочно почаще даёт Стешанову ручку самолёта — «преподаёт уроки храбрости», как считают в отряде. Однако уже здесь внимательный читатель может заметить, что всё не так просто; после приземления пилоты идут через поле: «Савицкий, огромный и значительный, в расстёгнутом кожаном плаще, и Стешанов, очень спокойный, с побелевшими губами». Смущают прилагательные «значительный» и «спокойный»: они намекают на иную, чем мы подумали, расстановку акцентов. Не окажется ли значительность первого мнимой, не станет ли спокойствие второго залогом его «реабилитации»?
Так и получается: в экстремальной ситуации, когда экипажу приходится спасать разбившегося в горах геолога. Савицкий хотя и посадил самолёт, но отказался взлетать: площадка в горах, где они сели, была недопустимо мала для взлёта. Всё как будто верно, но это обрекало раненого человека на неминуемую гибель: доктор Таня Волкова, прилетевшая с ними, одна, без специальной медицинской помощи, не справилась бы. И тогда Стешанов предложил разогнаться и падать в пропасть с работающим мотором, выиграв тем время для взлёта. И взлетел! В архиве Шпаликова хранится несколько десятков нигде пока не публиковавшихся небольших рассказов: «Рассказ о первой любви», «Пешком за жизнью», «Пережиток прошлого», «Жертва любви», «Двое из восьми миллионов», «Звёздное озеро», «Ночной разговор», «Вечерний звон» и другие — иногда шуточные, иногда серьёзные. Шпаликов любит героев необычных, не вписывающихся в привычный распорядок жизни. Его героем может стать, например, человек, способный на какой-то отчаянный шаг, готовый рискнуть жизнью (как это сделал Стешанов). Таков он, например, в рассказе «Карниз»; другой его вариант называется «Три шага». В квартире на пятом этаже захлопнулась дверь, и женщина, у которой там остался раскалённый утюг, просит тринадцатилетнего мальчугана подняться по пожарной лестнице и влезть в окно. Он поднимается — и уже стоит на карнизе. И вот концовка, насквозь кинематографичная по своему «сценарному» стилю и трагическая по своей развязке:
«Бледное лицо мальчишки. Глаза — совсем спокойные.
Скользит нога.
Удивлённый, негромкий вскрик — и пустой карниз.
На рыхлом снегу остались следы детских ботинок.
Один — криво сползает вниз.
Кружится снег».
Можно было подумать, что здесь будет щекотание нервов — а получилась полная «гибель всерьёз», если вспомнить выражение Бориса Пастернака, имя которого нам ещё понадобится.
И, наконец, особенно любопытная часть шпаликовского литературного наследия студенческих лет — его дневник. Он не всегда похож на дневник в традиционном смысле этого слова. Обычно в дневнике пишут о конкретных событиях, происшедших в конкретный день. У Шпаликова есть такие записи, но зачастую он не столько фиксирует событие, сколько даёт не претендующую на фактическую точность лирическую зарисовку, своего рода стихотворение в прозе. И тогда читатель понимает, что автор дневника едва ли не в первую очередь — поэт-лирик:
«Полночь тихая и бесснежная. Снег хлестал весь день сквозь стёкла по занавескам. Сейчас он тает под ногами. Вчера я сидел на Пушкинской, на скамейке, вытянув неподвижно ноги, и вокруг шёл снег, беспорядочно, со всех сторон, вразброд шёл снег. Снег сухой. Я сидел, постепенно засыпаясь снегом, и над головой тёмные, тонкие ветки были неподвижны, как нарисованные тушью на сером небе. Было очень тихо, и снег шелестел в воздухе, и всё вокруг — и памятник Пушкину, и фонари, и фонтан позади — было похоже на театральные декорации. Снег был ненастоящий и блестел — совсем стеклянная вата».
Впрочем, такой умиротворённо-лирический настрой сопровождает автора дневника далеко не всегда. Порой он ироничен, язвителен — особенно если речь заходит о современной литературной жизни. Шпаликов уже сейчас словно чувствует свою инородность в мире признанных литературных авторитетов, даже если говорит о писателях вовсе не плохих. И тогда Пушкинская площадь предстаёт уже в другом ракурсе:
«День поэзии. Люди в хороших штанах читали плохие стихи. У них лица сытно питающихся. Не у всех, но самодовольные почти все. Л. Мартынов. Площадь Пушкина. Любопытные толпятся около эстрады. Мартынова я узнал, не зная, что это — Мартынов. Поднялся гражданин в серийном пальто, в шляпе, в чуточку растрёпанном шарфе… Лицо — приятное. Голос развязный, такой, как надо — не благополучный… Читал громко и хорошо. Стихи — средние».
А многие страницы дневника выдают профессиональный литературный интерес молодого автора. На них — записи мелькнувшей мысли, услышанной на улице забавной фразы, короткого психологического наблюдения — того, что может пригодиться в работе. Настоящий писатель так и должен работать — чтобы ничто не пропадало. И вот студент Шпаликов записывает, скажем, такое: «Индивидуалист, связанный с жизнью обшей канализацией». Или: «В лесу пахло земляничным мылом». Или: «Служил в гареме. Был уволен по сокращению штата». Нормальная мастерская работника слова. Шпаликов уже ощущает себя писателем.
…В 2009 году, спустя 48 лет после окончания Шпаликовым ВГИКа и 35 — после его ухода из жизни у главного входа в институт был открыт необычный памятник. Три фигуры: Шпаликов, Тарковский и Шукшин, изваянные скульптором Алексеем Благовестновым. Символично, что он родился в год, когда один за другим ушли из жизни Шукшин и Шпаликов. В этой композиции Шпаликов и Тарковский стоят, Шукшин сидит. Ему это «идёт», он художник очень «земной», да и фотография есть известная, где он сидит прямо на земле, опираясь локтями о полусогнутые колени. Шпаликов (может быть, и не очень похожий на себя) — в плаще, со сжатым и поднятым в знак приветствия кулаком. Тоже — по образцу известного снимка. На открытии памятника кинорежиссёр Сергей Соловьёв сказал, что это памятник не только трём знаменитым выпускникам — это памятник вгиковскому студенчеству, особенно студенчеству «оттепельному». Золотому поколению нашего кино, одним из ключевых героев которого был Шпаликов. Получив институтский диплом, он не ушёл из родного вуза, а навсегда остался рядом.
ПЕРВЫЙ БРАК. ПЕРВЫЕ СЦЕНАРИИ
Несмотря на то что Шпаликов был любимцем ВГИКа, настоящего любовного опыта у него пока не было. Лёгкие увлечения красавицами с актёрского отделения не в счёт. Первое серьёзное чувство пришло к нему в студенческие годы и обернулось студенческим браком. Счастливым ли?
…Ставшая шпаликовской избранницей Наталия Рязанцева, студентка сценарного отделения, ученица Евгения Габриловича, была моложе его на год и училась на следующем курсе. Она родилась в семье, что называется, с традициями: прадед, Сергей Дмитриевич Ржевский, прадед Наташи по отцу, был в разное время тамбовским, симбирским, рязанским губернатором. В Рязанской области, в принадлежавшем Ржевскому селе Власьеве, долго сохранялся и был местной достопримечательностью старинный усадебный парк. Отец Наташи, Борис Сергеевич, — видный инженер и учёный, лауреат Сталинской премии, работник Министерства путей сообщения, кандидат технических наук, автор работ о технической организации железнодорожного движения. Мама, Елена Ивановна, занималась домашним хозяйством, хотя изначально тоже была железнодорожницей — окончила техникум в Ленинграде. По меркам полуголодных послевоенных лет семья была обеспеченной и благополучной. В своих воспоминаниях о детстве Наталия Борисовна рассказывает, как неловко было ей среди одноклассниц, семьи большинства которых бедствовали и многие из которых росли без отцов, не вернувшихся с фронта.
Поначалу ничто не предвещало романа. Шпаликов на Наталию особого внимания вроде бы не обращал, у неё самой ещё тянулась трудная любовная история, которая наконец сошла на нет. Первая искра пробежала между ними на институтском новогоднем балу, накануне 1959 года. Душевная рана девушки ещё не затянулась, было тяжело и хотелось, чтобы симпатичный брюнет Гена Шпаликов обратил на неё внимание. Он и обратил, а в первый день нового года позвонил и напросился в гости. Пока не роман, но уже — знаки внимания.
А затем её отправляют с «комсомольским поручением» переписывать жильцов гостиницы «Алтай» недалеко от Ботанического сада, чем она и занималась несколько дней кряду. Гостиница была заполнена не то и вправду алтайцами, не то якутами, пришлось прямо в гостинице и жить. И тут появляется Шпаликов и начинает помогать ей. В те дни, прямо в гостинице, и сделал ей предложение. И сразу начал рассказывать о том, как они будут жить на берегу океана, и у них родятся мальчики, которые будут бегать в полосатых майках и ловить рыбу. Типичные шпаликовские мечты — они и в стихах его проступают, полушутя-полусерьёзно:
Ах, красавица, красавица моя, Расквитаемся, уеду в Перу я, В Перу, Перу буду пить и пировать, Пароходы буду в море провожать.И впрямь — почему бы нет? Между тем Наташа, будучи девушкой другого характера и к прожектам не очень склонной — отнеслась к этому пока сдержанно. Мол, поглядим… Но Шпаликов был обаятелен и настойчив, не ответить ему взаимностью было трудно. Он не сидел сложа руки и не ждал у моря погоды. Когда Рязанцева поехала в Ленинград на соревнования с волейбольной командой ВГИКа («оттепель» — эпоха студенческого спорта), Геннадий неожиданно оказался там же. Он через Ленинград ехал с компанией в Карелию (малая родина!) кататься на лыжах, но, зная, что Наташа здесь, задержался и… остался. Друзья поехали дальше уже без него. И этот шаг — очень «шпаликовский», вполне в характере Гены. Какие лыжи, если рядом Наташа!
Роман стремительно развивался. Шпаликов заходил за ней в Дом колхозника возле Сенной площади (к тому времени она уже несколько лет как носила советское название «площадь Мира»), где одновременно со студентками-волейболистками жили артисты-лилипуты. Домами колхозника называли в советское время дешёвые гостиницы с многоместными номерами, и было странно, что таковые есть в Ленинграде: они ассоциировались как-то больше с глубинкой, с районными центрами. Впрочем, район Сенной, где были рынок и автостанция, глубинку и напоминал. В одной комнате с Наташей жили три лилипутки. С ними общительный Гена быстро нашёл общий язык, слушал их репетиции прямо в номере, даже предлагал что-то для репертуара: стихи, песни. Затем влюблённые гуляли по городу, заходили в рестораны. Как ни удивительно это кажется сейчас, но тогдашним студентам, при сравнительной их бедности, было по карману побывать в каком-нибудь фешенебельном месте — например в «Астории».
В их ленинградской жизни ощущалась какая-то лёгкость — а может быть, просто не думалось о завтрашнем дне, о том, сколько рублей остаётся в кошельке. Как-то собрались в цирк (знаменитый цирк Чинизелли на Фонтанке — в эту пору, конечно, уже безо всякого «Чинизелли», вызывавшего «ненужные» ассоциации с царскими временами, а просто Ленинградский цирк), но в программе были удавы, и Наташа запротестовала: мол, терпеть их не могу, давай не пойдём. И они отправились бродить по окрестным улицам. Когда переходили мост через Фонтанку — тот самый, под которым теперь обосновался бронзовый «чижик-пыжик» скульптора Резо Габриадзе, — остановились и поцеловались, и вдруг… Гене стало плохо, он едва не упал. Любовный обморок от счастья? Если бы. Оказалось, что у него стенокардия (в народе называемая «грудной жабой»). Рановато, конечно, — в двадцать с небольшим. Значения этому не придали: ещё чего, в таком возрасте думать о болезнях! Он быстро пришёл в себя, онемевшая было левая сторона тела вновь подчинялась, и они как ни в чём не бывало отправились дальше бродить по улицам и набережным. А такие приступы бывали с ним и позже, иногда — прямо на съёмках. Позже, когда Гена с Наташей уже поженятся, дядя Сеня устроит им путёвку в кардиологический санаторий МВД в подмосковной Рузе. Гену там подлечат, а Наташе эта пора запомнится общением и игрой в преферанс с лечившимися там после трудов праведных лагерными охранниками с Колымы…
Тот ленинградский день завершился подарком: Гена вручил Наташе только что вышедший том «Литературного наследства» под названием «Новое о Маяковском», со своей надписью: «…в день, когда мы не пошли смотреть на экзотических зверей». Издание наделало тогда шума: в нём, на «оттепельной» волне, были напечатаны письма поэта к возлюбленной — Лиле Брик. Кое-кому эта публикация, восстанавливающая атмосферу необычного любовного треугольника (Лиля была женой литератора Осипа Брика), казалась снижающей образ советского классика. Мы помним, что юный Шпаликов был пристрастен к Маяковскому, и должны, вслед за Наташей Рязанцевой, оценить этот подарок. Подарок с подтекстом: любовные письма…
Ленинградские прогулки с Наташей отозвались, конечно, в стихах Шпаликова, с их необычной образностью, где лирической героине служит даже милиция, превращённая поэтической фантазией автора в голубые цветы («виновата» тогдашняя синяя милицейская форма?):
Любимая, все мостовые, все площади тебе принадлежат, все милиционеры постовые у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат цветами голубыми на городском, на тающем снегу. Любимая, я никакой любимой сказать об этом больше не смогу. («В Ленинграде»)В общем, Ленинград их и повенчал — хотя ни о каких венчаниях в буквальном смысле слова в эпоху советского государственного атеизма не могло быть и речи. Правда, Наталия Борисовна спустя много лет признаётся, что с её стороны любовного чувства пожалуй что и не было. Были и другие кандидаты на роль спутника её жизни, не менее — если не более — для неё привлекательные. Но со Шпаликовым было интересно, и на его не раз повторённое в те ленинградские дни предложение выйти за него замуж она ответила согласием. Потом, в Москве, во ВГИКе, когда начался новый семестр, они были уже «тили-тили-тесто», дело шло к свадьбе, и она состоялась: 29 марта 1959 года, в воскресенье, молодые расписались в загсе. Свадьбу отмечали в шпаликовской квартире на улице Горького.
Но ещё до свадьбы, зимой, был один эпизод, который Наталии хорошо запомнился — можно сказать, врезался в память. Гена повёл её на Ваганьковское кладбище, на могилу своей бабушки. Бабушка умерла совсем недавно, в декабре, шестого числа. Умерла в больнице, куда Гена приехал за три часа до её смерти. Она была уже в таком состоянии, когда что-то понимать и тем более говорить трудно, и всё-таки она, увидев внука, произнесла: «Мне плохо» и после его вопроса «Что плохо?» — добавила: «Нет сил». Смерть бабушки, которую он любил, пережил тяжело. Это была первая в его сознательной, взрослой жизни потеря близкого человека. «Я не знаю, как мне быть, — записывает он в дневнике в первые же дни. — Сколько мне предстоит провожаний, таких и страшней. Почему так устроена жизнь, что люди расстаются и за этим нет ничего, всё пусто и мертво». Знать бы ему тогда, что всё будет наоборот — это не ему, а близким людям придётся провожать его раньше времени. Нет, лучше не знать… Но в тот зимний день, на кладбище, он то ли шутя, то ли серьёзно вдруг сказал Наташе: проживу до тридцати семи, потому что жить дольше поэту неприлично. Их тогдашний возраст был таков, что «пушкинское» число тридцать семь должно было казаться абсолютно нереальным. Такого возраста не бывает — бывает двадцать, ну, двадцать пять. А ведь оказался этот разговор — пророческим…
Легко сказать — расписались. Новая семейная пара — новые проблемы и хлопоты. Первый вопрос: где жить? Своего жилья у них, естественно, не было. Надо было селиться у родителей. Семья Наташи — родители и брат Юра, младший, но уже взрослый, — жила в «сталинском» доме на Краснопрудной улице (№ 3/5), недалеко от «трёх вокзалов» (до этого жили на Лосиноостровской, по Ярославской железной дороге). С появлением новой пары стало, конечно, тесновато, да и до этого было не слишком просторно. Квартира была двухкомнатной (переезд семьи в трёхкомнатную, в том же подъезде, был пока впереди), и брат с сестрой делили одну из комнат, перегородив свои «четырнадцать квадратных метров» шкафом. Брату теперь пришлось перебраться в комнату родителей, а «детскую» отдали молодожёнам.
Большим «приобретением в хозяйстве» Гена не был, что-нибудь смастерить-починить не умел: в Суворовском училище заниматься этим не приходилось. Зато в строгой родительской квартире повеяло теперь духом студенческой компанейской жизни: приходили друзья, устраивались посиделки, которые затягивались за полночь. Заглянет, скажем, Андрей Тарковский с бутылочкой сухого вина, восхитится комфортом и уютом отремонтированной по случаю свадьбы комнаты, по ходу вечера Гена ещё сбегает в ближайший магазин за «подкреплением». И вот втроём они играют в странную игру — вроде бы в карты, но карт нет, а вместо них — открытки с фотографиями известных киноактёров. Тогда их продавали в газетных киосках, и они пользовались спросом. Так вот, четыре набора открыток — всё равно что четыре карточные масти: советские актёры, французские, итальянские и ещё какие-то. То ли колоду карт потеряли, то ли это очередная шпаликовская шутка. Потом идёт в ход гитара… В общем, в какой-то момент стало ясно, что лучше переселиться.
Поначалу выручили сестра Шпаликова Лена, учившаяся в финансово-экономическом техникуме (по этой специальности она потом и будет работать), и её муж лейтенант Слава Григорьев, тоже суворовец, но окончивший не Киевское училище, а Горьковское. Гена с ним сдружился. У Лены и Славы была комната в районе площади Маяковского, на Садовой, возле гостиницы «Пекин», но в реальности они жили у Славиных родственников. В пустующую же комнату пустили Гену и Наташу. В кулинарию при «пекинском» ресторане как-то утром Наташа отправилась за едой для переночевавшего у них гостя — писателя-киевлянина Виктора Некрасова, автора известного романа «В окопах Сталинграда», будущего эмигранта «третьей волны». Хозяевам Некрасов годился в отцы (хотя общались демократично — на «ты») и на ночлег к ним попал нечаянно. Обычно он останавливался в Москве у драматурга и сценариста Семёна Лунгина, но в этот раз застолье у кого-то из друзей затянулось, добираться до Лунгиных было далеко, и Некрасова позвали к себе Шпаликовы. Правда, Гена с Виктором Платоновичем, которому Наташа хотела угодить, не очень-то польстились на ресторанные вкусности: есть с похмелья совсем не хотелось. Визит Некрасова запомнился больше другим: увидев в общем коридоре на вешалке его модную импортную куртку, соседка, жена майора из «органов» и сама капитан оттуда же, дама весьма официальная и «правильная», отреагировала на куртку как бык на красную тряпку. У советских граждан таких курток нет, ясно, что молодёжь привела шпиона. «Наши люди в булочную на такси не ездят». Смешно, конечно, но Наташе с Геной было не до смеха. Убеждать соседку, что это не шпион, а известный писатель, было бесполезно. Может, и обошлось бы, но в то же похмельное утро к Гене зашёл его приятель, однокашник по ВГИКу Олег Павлов. Тихие поначалу утренние посиделки незаметно переросли в ссору и чуть ли не в рукопашную схватку двух вгиковцев, поднялся большой тарарам, и тут уж чаша терпения соседей лопнула. Они потребовали съехать «в двадцать четыре часа». Пришлось съехать.
Можно было попроситься к Людмиле Никифоровне, жившей в шпаликовской двухкомнатной квартире на улице Горького. Но туда не рискнули, хотя заглядывали часто, встречались там порой и с дядей Сеней. Встреча родных — это, как правило, застолье, куда приглашалась и соседская семья, с которой хозяйка дружила. О том, что Гене лучше бы подальше держаться от водки, тогда тоже ещё не думалось. А кое-что могло бы и насторожить…
Рязанцева вспоминает, например, что он всегда очень напряжённо спал — по её выражению, «как кормящая мать». То есть — готовый в любой момент проснуться. Вероятно, «суворовская» привычка. Но она означала, что человек ночью не отдыхает по-настоящему. Ещё он боялся темноты — может быть, тоже с той поры, когда ему, мальчишке, приходилось стоять в ночных караулах? При такой душевной хрупкости алкоголь — дело опасное.
Но за столом весело — и слава богу. Наташа от спиртного тоже не отказывалась, но всё же ощущала в себе какую-то скованность. Называть свекровь мамой, как та ей предложила, не могла — не получалось как-то. И вообще, одно дело — в гости ходить, другое — вместе жить. Да и нереально это было. Во-первых, там жили ещё и Генин отчим «дядя Саша», по характеру человек довольно суровый и в своём неприятии нового в жизни и в искусстве по-военному категоричный (увидев по телевизору выступление Беллы Ахмадулиной, сказал: оттаскать бы её за эту чёлку!), и его дочь от первого брака Лариса. А во-вторых, какое-то время там же обитали и Лена со Славой.
В 1961 году жизнь семьи Шпаликовых — Перевёрткиных пережила две смерти. 55-летний дядя Сеня, к этому времени генерал-полковник, погиб в авиакатастрофе во время служебного полёта на вертолёте. От рака умер отчим Гены. Квартиру на улице Горького разменяли, Людмила Никифоровна и Лариса разъехались. Но Гены, прописанного теперь у жены, это уже не касалось. Молодые супруги сняли в итоге комнату на Арбате, дом 23, квартира 5. Хозяином комнаты был большой человек — начальник Московского моря, живший где-то в другом месте, в условиях более комфортных. Большая коммуналка: 12 комнат, а все места общего пользования — в единственном числе. Публика в основном интеллигентная. Ближайшей соседкой Гены и Наташи оказалась дама по имени Лана Григорьевна, концертмейстер, к которой приходили репетировать певцы.
Весёлое житьё-бытьё супругов Шпаликовых (Наталия взяла после свадьбы фамилию мужа) продолжалось и на Арбате. Молодая пара вела жизнь полубогемную, ходила по компаниям, по кафе. О быте свежеиспечённые супруги заботились мало. Ключи от замка куда-то подевались, и дверь в комнату отпиралась… висевшим у двери ножом. А что и от кого прятать?
Шпаликов был работоспособным человеком, мог писать при любых обстоятельствах. На четвёртом курсе, весной 1960 года, он написал сценарий «Причал». Написал очень быстро — по словам Юлия Файта, за несколько ночей. Это был конец февраля — начало марта. 5 марта машинопись первого варианта сценария была сдана на «Мосфильм». Предполагавшийся фильм не походил на привычное советское кино 1950-х годов. В нём не было советской идеологии, строек коммунизма, утверждения «морального облика» советского человека и тому подобных обязательных компонентов. Не было даже чётко прочерченного сюжета. А что было?
«Действие фильма, — так начинается сценарий, — происходит летом в Москве на протяжении одной ночи. Фильм начинается днём недалеко от города и кончается на следующее утро ровно в восемь часов». По Москве-реке плывёт баржа, и на ней — главные герои сценария: девушка Катя, уроженка Мурома, ни разу не бывавшая в Москве, и тридцатилетний шкипер баржи, по имени даже не названный. Они — пара, жених и невеста, но на протяжении всего сюжета их счастье оказывается под угрозой. Сначала Катя — совершенно необъяснимо — лезет в воду, затем выпускает верёвку, за которую она держалась, и отстаёт от баржи; слава богу, шкипер замечает это, баржа останавливается и подбирает Катю. А затем сам шкипер отправляется по ночной Москве к своей бывшей возлюбленной Анне, теперь вышедшей замуж и переезжающей из арбатского переулка на Новоподмосковную улицу (снос московской старины как раз в районе Арбата — тогдашняя животрепещущая и острая тема), и забирает с собой её сына Алёшу: «Зачем ты сейчас матери? У неё будет ребёнок… А ты уже посторонний…» Припугнув ребёнка приютом, куда его теперь якобы отдадут, он рисует ему радужную картину: «Ты будешь матросом. Сначала — баржа, а потом, как говорится, весь мир у наших ног».
А в это время Катя, полагающая, что жених «сбежал» от неё, пытается найти его на московских улицах и наталкивается на разных людей, которые поначалу представляются ей опасными и враждебными. Но опасность оказывается мнимой. Ночной мир Москвы — добрый помощник героини. В конце концов некий велосипедист везёт девушку по набережной параллельно барже, она вновь бросается в воду и плывёт. «На корме шкипер обнимает Катю. Восемь раз бьют куранты». Круг замыкается.
«Причал» представлял собой, как сказали бы в XXI веке, ремейк одного из шедевров мирового кинематографа — фильма безвременно, всего на тридцатом году, умершего от туберкулёза французского режиссёра Жана Виго «Аталанта» (1934). На втором курсе Шпаликов и его друзья увидели эту ленту на учебном просмотре и просто «заболели» ею. Немудрено: не лишённая мелодраматизма история молодой супружеской пары — хозяина и капитана судоходной баржи Жана и Джульетты, — раскрытая в сюжете «свадебного путешествия» на этой барже в обществе старого матроса, чудаковатого «папаши Жюля» и подростка-помощника (такова команда судна), производила сильнейшее впечатление на «оттепельное» поколение. Это был кинорассказ о простых людях, о притягательности большого города и его «изнанке», о любви и ответственности за любовь. Фильм мастерски снят: искусство режиссуры и съёмки явно опережает время. Кинематограф тридцатых годов не знал таких динамичных сцен, как в «Аталанте». Вот, например, каскад финальных эпизодов: папаша Жюль, найдя уставшую от однообразия жизни в трюме и на палубе и ушедшую «смотреть Париж» Джульетту (она, как и шпаликовская Катя, никогда не бывала в столице), на глазах у окружающих перебрасывает её через плечо и выносит из магазина; вот встретившиеся наконец после разлуки и неизвестности герои после секундного замешательства (ведь исчезновению Джульетты предшествовала ссора) падают в объятиях прямо на пол; вот красиво снятая с вертолёта баржа продолжает свой путь по реке… Этот стиль кинокритики стали называть поэтическим реализмом: реальная жизнь, но жизнь, увиденная поэтическим зрением. Впечатление от фильма переплеталось в сознании «оттепельной» молодёжи с впечатлением от песен Ива Монтана. После его гастролей в СССР на рубеже 1956–1957 годов они широко звучали по радио, выходили на пластинках. Монтан пел примерно о том же — о «маленьких» людях, простых парижанах, их радостях и бедах.
Сюжетное сходство «Причала» и «Аталанты» очевидно. Можно вспомнить и другую западную киноленту — фильм Витторио Де Сики «Похитители велосипедов» (1948), одно из программных произведений итальянского неореализма — демократичного направления в киноискусстве, тяготевшего к изображению простого человека в полной драматизма повседневности. Сюжет «Похитителей…» тоже построен на мотиве поиска, только ищут там не человека, а украденный велосипед (найти его нужно позарез, ибо он необходим главе семейства для работы, с трудом полученной в пору послевоенной безработицы), и ищут не в Париже, а в Риме. У фильмов Виго и Де Сики, в сущности, общая тема: маленький человек в большом городе. Разнообразная «низовая» городская жизнь проходит перед глазами зрителя этих фильмов: улицы, мосты, автобусы, причалы, ломбарды, рынки, полицейские участки… Кстати, в сюжете «Причала» есть и велосипедист.
Но не нужно воспринимать «Причал» как простое подражание западным образцам. Есть в шпаликовском сценарии нечто, превращающее его всё-таки в событие отечественной культуры. Это нечто — Москва.
Москва сталинских десятилетий выглядела в советской культуре как «столица Советского Союза», её изображение и воспевание носило идеологизированный характер. Главными символами города были тогда Кремль, Красная площадь, Мавзолей… «Я люблю твою Красную площадь и кремлёвских курантов бой» — пелось в одной из популярных песен послевоенного времени. Москва как город частной жизни, как малая родина, как место, где не только (и не столько) слушают кремлёвские куранты, сколько просто живут, любят, ходят на свидания, отчаиваются и надеются, — такой Москвы в советском искусстве не было или почти не было. Булгаковский роман «Мастер и Маргарита», где Москва именно такая (хотя она там не только такая, а ещё и сатирическая, но для советского искусства это тоже нонсенс), был под запретом: он будет напечатан лишь в 1966–1967 годах. Звучали — с конца 1950-х — лишь первые песни Окуджавы, с которых, можно сказать, и началось лирическое, интимное, сердечное «обживание» Москвы: «Лёнька Королёв», «Полночный троллейбус», «Часовые любви»… Сценарий Шпаликова подхватил именно эту, только-только зарождавшуюся, линию отечественной культуры.
Причём действие у Шпаликова происходит в самом центре города. Двигаясь по Москве-реке сначала по загородной местности (неважно, что не с той стороны, где находится родной город Кати — Муром), затем мимо Парка культуры им. Горького, баржа естественно оказывается недалеко от Кремля, в рукаве реки, у Малого Каменного моста. Героиня выходит на берег, «сворачивает к Александровскому саду», «поднимается на пустую Красную площадь, идёт к Мавзолею. Она видит торжественную смену караула». Так что же — всё-таки официоз?
Друзья Шпаликова замечали, что в нём, при всей его склонности к иронии, готовности подшутить над советскими идеологическими клише (мы ещё увидим это в следующей главе), где-то глубоко внутри сидело серьёзное отношение к советской идее. «Молодой Шпаликов, — заметила спустя много лет Наталия Рязанцева, — был сам произведением соцреализма, и тот „возвышающий обман“, что вменялся в обязанность искусству и литературе, был его второй натурой». Но он интуитивно тянулся к правде жизни, которая была-таки сильнее всякого обмана, даже «возвышающего». Поэтому «Причал» — сценарий не о Красной площади и не о Мавзолее Ленина, а о любви. Здесь любят не только главные герои: Катя во время своего ночного путешествия по столице не раз видит целующихся влюблённых — «часовых любви». А бывшая возлюбленная шкипера живёт на «окуджавовском» и на «шпаликовском» Арбате, а это уже совсем не Красная площадь, хотя и недалеко от неё…
Снимать «Причал» собирались на «Мосфильме» вгиковские ребята-режиссёры немец Хельмут Дзюба и Володя Китайский, учившиеся на одном курсе с Миттой, Тарковским и Шукшиным: это должна была быть их дипломная работа. Талантливому Китайскому друзья прочили большое будущее. Предполагалось, что женские роли в «Причале» сыграют две вгиковские красавицы, учившиеся тоже у Ромма, но тремя курсами младше — Светлана Светличная и Людмила Абрамова. Одна прославится позже ролью роковой гостиничной соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая (хотя, конечно, не только ею), другой суждено было стать вскоре женой Владимира Высоцкого, в ту пору тоже только начинающего актёра и барда. Сниматься она будет немного.
На студии заявку «Причала» долго мурыжили, то ставили в план, то вычёркивали — обычная киношная история. И вдруг — как взрыв, как шок — известие о самоубийстве Китайского. Повесился в лесу, недалеко от Загорска, как назывался в советское время город Сергиев Посад. Фильм был остановлен. Тогда «Причал» так и остался без экранного воплощения. Четыре десятилетия спустя режиссёр Юрий Кузин, в эпоху драматических событий вокруг «Причала» лишь появившийся на свет, снимет по этому сценарию картину «Ковчег» с Евгением Сидихиным и Кариной Разумовской в главных ролях. В титрах есть честная оговорка: «по мотивам», но и с учётом этого предложенная в фильме интерпретация шпаликовского сценария не кажется большой удачей. Пусть основные сюжетные ходы источника сохранены, но сама поэтическая атмосфера «оттепельной» Москвы как большого дома, где на любой улице обязательно встретишь приятеля или знакомую девушку, не очень соответствует столичной жизни рубежа веков, с бутиками и иномарками. А история Китайского поневоле вспоминается зрителю современного сериала Валерия Тодоровского «Оттепель» (в котором, кстати, использованы стихи Шпаликова): завязка его сюжета заключена в самоубийстве молодого талантливого сценариста. Среди вгиковских студентов и выпускников это был случай, увы, не единственный…
«Причал» обозначил склонность самого Шпаликова к «пароходно-речной» теме. Как художника вода его притягивала. В том же 1962 году, когда намечались съёмки фильма по его сценарию, появился фильм Алексея Сахарова «Коллеги» — экранизация одноимённой повести Василия Аксёнова, громко вошедшего тогда в литературу лидера «молодёжной» прозы. Главные роли в картине сыграли три будущие знаменитости — молодые актёры Василий Ливанов, Василий Лановой и Олег Анофриев. Их герои проходили проверку на прочность в ситуациях, когда надо было сделать выбор: или — или… Анофриев спел в фильме песню «Палуба» на стихи Шпаликова с музыкой Юрия Левитина (те же стихи, но с музыкой Бориса Чайковского, были использованы Юлием Файтом в фильме «Трамвай в другие города», о котором мы скоро тоже скажем). Песня пошла в народ, широко звучала на радио. Кажется, ничего особенного и не было в этих стихах, но именно непритязательностью, непосредственностью, простотой они и хороши:
На меня надвигается По реке битый лёд, На реке навигация, На реке пароход. Пароход белый-беленький, Дым над красной трубой, Мы по палубе бегали — Целовались с тобой.Есть в этих стихах что-то детское — упрощённая, сведённая к двум «главным» цветам гамма, ещё и с тавтологическим уменьшительно-ласкательным суффиксом: «пароход белый-беленький, дым над красной трубой», Так нарисовал бы эту картину ребёнок: белый пароход, красная труба. При этом какая интересная здесь рифмовка: вперемежку с рифмами простыми («лёд — пароход», «трубой — тобой») идут рифмы изысканные, ассонансные (построенные на созвучии гласных): «надвигается — навигация», «беленький — бегали». Не сразу и замечаешь, что никакой «навигации» в тот момент, когда по реке идёт «битый лёд», быть не может: попробуй поплавать на чём-нибудь среди идущих по реке льдин. Но мотив ледохода поэту нужен: он даёт финальный метафорический образ, кульминацию этого жизнелюбивого лирического сюжета, просветлённо-безмятежного настроения, когда не хочется думать о грустном, а вот так бы всю жизнь и радоваться реке, палубе, спутнице, у которой опять же по-детски «бумажка приклеена… на носу»: «Ах ты, палуба, палуба, / Ты меня раскачай, / Ты печаль мою, палуба, / Расколи о причал». Кстати, приклеенная к носу бумажка, как и летний запах («Пахнет палуба клевером»), тоже с ледоходом сочетается весьма отдалённо. Невольно закрадывается и другая мысль: а всерьёз ли написаны эти стихи, не шутит ли втайне поэт, соединяя «навигацию» и «битый лёд»? Может быть, этот не сразу открывающийся шуточный подтекст уловил в песне безымянный автор ушедшей в народ гротескной пародийной перетекстовки: «На меня надвигается / По реке битый лёд. / Ну и пусть надвигается: / У меня огнемёт. / Нажимаем на кнопочку — / Лёд растаял в огне. / Можно выпить и стопочку, / Можно выпить и две».
Между тем судьба фильма «Коллеги» оказалась трудной. «Повредила» ей судьба автора повести, Аксёнова: советская власть его не любила, подозревала в диссидентстве, а в 1980 году он уехал из СССР и, как все тогдашние эмигранты, безоговорочно перешёл в разряд не упоминаемых и не публикуемых на родине. Поэтому и фильм не очень афишировался и шёл на экранах кинотеатров мало.
Не только речной — ещё и наземный городской транспорт привлекал в те годы творческое сознание Шпаликова. Демократичное время «оттепели» — это, помимо прочего, новое ощущение человека рядом, едущего в том же трамвае или автобусе, уставшего, как и ты, после работы, занятого, как и ты, своими мыслями и заботами. Как у Окуджавы, в одной из самых первых его песен, которую он написал в 1957 году: «Последний троллейбус, мне дверь отвори! / Я знаю, как в зябкую полночь / твои пассажиры — матросы твои — / приходят / на помощь». Есть стихи об этом и у Шпаликова — правда, в несколько ином, полушутливом, тоне написанные:
С работы едущие люди, Уставшие от всех забот, От фабрик и от киностудий, Трамваев и солдатских рот… Передо мной спина и шея — Как бы закрытая стена. …………Я вопрошаю: О чём ты думаешь, спина? О чём ты думаешь, спина? Что за печаль одолевает? Спросил бы у тебя спьяна, А так — отваги не хватает.В 1961 году Юлий Файт выпустил на «Мосфильме» свой дипломный короткометражный (длительностью 20 минут) фильм «Трамвай в другие города» — по сценарию Шпаликова. Эта был первый сценарий Шпаликова, получивший воплощение на экране. Любопытный факт: редактором картины стал Юрий Трифонов, уже написавший к этому времени нашумевших «Студентов», но находившийся пока на пути к своим большим литературным вершинам и работавший в созданном на «Мосфильме» объединении писателей и киноработников.
Город, и более того — мир, увиден в этом сценарии глазами мечтателя, глазами ребёнка. Два мальчика, Саша и Юра, решили, что трамвай может отвезти их в другой город. Может быть, здесь ощущается отголосок фантасмагорического стихотворения Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай» («Через Неву, через Нил и Сену / Мы прогремели по трём мостам»)? Гумилёва, расстрелянного чекистами в 1921 году, ни при Сталине, ни при Хрущёве (ни, добавим, при Брежневе) не переиздавали, его стихи до самой перестройки второй половины 1980-х были под запретом, но многие молодые люди из поколения Шпаликова (например, Владимир Высоцкий или Юрий Визбор) их знали. Кто-то знал по сохранившимся в семье старым книгам, кто-то — переписанными от руки или перепечатанными на пишущей машинке. Вполне мог знать их и Шпаликов.
Путь «в другие города» приводит ребят на берег моря, где они встречают купающегося милиционера. Ребята опасаются, что он поймает их и отправит домой, и топят в воде милицейскую форму: «Без формы он уже не милиционер… Он нам ничего не сделает. Не имеет права». Заканчивается эта шалость «праздником примирения»: форму приходится вернуть, совместными усилиями она отжата, милиционер вновь одет, а ребят он везёт с собой на лошади — но не за решётку и не в детскую комнату милиции, а просто везёт. В «оттепель» даже милиционеры необидчивые и добрые… Фильм же интересен ещё и тем, что на экране есть изображение самого Шпаликова: он снялся в эпизоде. Один из мальчишек, подсев к взрослому пассажиру с самоваром на коленях, спрашивает его: «Дяденька, а вы куда едете?» Спутник пассажира в шутку отвечает, обыгрывая известную поговорку: «А этот дядя едет в Тулу со своим самоваром». Трамвай-то — в другие города… В этот момент в кадре есть ещё один пассажир: он стоит и читает книгу. В образе этого пассажира и предстал Шпаликов.
После защиты дипломной работы дома у Файта вместе с Геной и со всей студенческой компанией отмечали успех. Отец Юлика, Андрей Андреевич, был чрезвычайно горд за сына, который теперь тоже стал профессиональным кинематографистом, и сделал ему необычный подарок: самодельную модель трамвая, раскрашенную в два цвета — красный и зелёный. Хотел найти в магазине игрушек трамвай игрушечный, но не нашёл, пришлось мастерить самому. Сбоку он написал: «В другие города. № 1». А на торце — фамилии авторов фильма: «Ю. Файт — Г. Шпаликов». И были внутри этого игрушечного трамвайчика даже фигурки персонажей — пассажиров трамвая. Может быть, именно к этому домашнему торжеству имеет отношение запись, сделанная рукой Шпаликова в машинописи сценария, сохранившейся у Гены (а после его смерти — у Файта): «в два часа дня 1 июня 1961 года в день защиты детей — и пошли в магазин».
В 1962 году вышла на экран ещё одна сценарная работа Шпаликова — фильм белорусского режиссёра Виктора Турова «Звезда на пряжке», тоже короткометражный (вошедший в киноальманах «Маленькие мечтатели»), по одноимённому рассказу белорусского же прозаика Янки Брыля. С Туровым Шпаликов был знаком по ВГИКу: Виктор учился на режиссёрском факультете и выпустился в один год с Геной. Легший в основу сценария рассказ-миниатюра интересен тем, как неказенно и незаштампованно подана в нём военная тема. Бывший партизан, «дядька Лапша» (что за странное прозвище? или это фамилия такая негероическая?), работает водопроводчиком в котельной, а ещё он большой любитель выпить. В весёлом состоянии духа он рассказывает о войне мальчишкам, на которых этот рассказ производит сильное впечатление. В годы «оттепели» военная тема ещё не успела «забронзоветь» и канонизироваться, как это будет в брежневское время — время возведения гигантских монументов и раздачи орденов, порой за несуществующие заслуги. В фильме же ветеран войны показан, можно сказать, по-житейски, по-уличному. Правда, автор сценария этот «снижающий» колорит смягчил. Во-первых, в рассказе Лапша хотя и выпил, по-видимому, один, но сказано, что есть у него «дружок и коллега, водопроводчик Кипеня». В фильме же рядом с Лапшой оказывается не забулдыжный водопроводчик, а офицер, с которым они вместе воевали, серьёзный человек с благородным лицом и интеллигентно одетый. И когда они выпивают, это вызывает у зрителя не иронию (вот, мол, алкаши…), а отношение опять-таки серьёзное: солидные люди вспоминают войну, пьют за своего погибшего командира. Во-вторых, исполнитель роли Лапши, Георгий Жжёнов, на роль забулдыги как-то не очень подходит: он, при всей своей внешней демократичности, обычно играл серьёзные роли и располагал к своим героям основательностью суждений и поступков. Поэтому фильм рассказу по цельности и свежести трактовки военной темы, пожалуй, уступает.
Правда, мы судим по конечному результату, а в рабочих материалах картины без шпаликовского озорства всё же не обошлось. Рассказывая ребятам во дворе о том, как трудно на войне, Лапша перечисляет реальные её тяготы: дескать, сидишь в окопе — голод, холод… И вдруг откровенно, «из сегодняшнего дня», добавляет: денег ни копейки. И тут же спохватывается: ой, что это я говорю!.. Конечно, это пришлось вырезать. Самое же главное: Шпаликов нашёл здесь, благодаря литературному источнику, одну из ключевых своих тем — дети и война. Она окажется нужна ему, когда спустя несколько лет кинематографическая судьба вновь сведёт его с Туровым и со студией «Беларусьфильм», и получится замечательный результат, но об этом мы ещё поговорим отдельно.
Но была у Шпаликова в ту пору — в начале 1960-х — и ещё одна работа, где тема детей войны была намечена как бы авансом. Речь о сценарии «Летние каникулы» (первоначально — «Праздное путешествие»), который Юлий Файт, по его собственному свидетельству, пытался поставить на Ялтинской киностудии в 1962 году. Это была последняя попытка превратить сценарий в фильм — как все предыдущие попытки (на столичных студиях), неудачная, хотя в Ялте у Шпаликова уже был подписан договор, и он получил аванс. Написан сценарий был в 1961-м: в тексте звучит мотив полёта в космос и появляется слово «космонавт». Вероятно, это было навеяно первым полётом человека в космос в апреле того года. О Юрии Гагарине говорила вся страна, это было событие номер один; сам Шпаликов всерьёз интересовался космической темой, читал разные статьи о космосе и космонавтах. А 1962 год ушёл на безуспешное продвижение сценария.
Военная тема вступает здесь в самой первой сцене: мальчик и девочка с откоса смотрят, как мимо них проходит воинский эшелон. На платформах состава — зачехлённые пушки, солдаты, один из которых наигрывает на гармошке. Девочка пытается петь, но мальчик её одёргивает: «Они на фронт уезжают, а мы с тобой песни поём». И сразу действие переносится через 15 лет — в современный день. Мальчик и девочка выросли. Это юные герои задуманного фильма — Андрей, приехавший в город своего военного детства с подругой — почти невестой — Марией (оба они — студенты), и местная девушка Надя.
Сюжет несложен. Несмотря на то что в самом начале прозвучал тост бывшего учителя, а теперь пенсионера Антона Матвеевича «за детей, помнящих войну, за поколение, которое обещает быть самым честным и справедливым», — само это поколение в сценарии оказывается неоднородным. Андрей по мере развития действия выглядит всё менее и менее привлекательным. Поначалу он отправляется на встречу с родственниками один, без Марии, хотя формально и приглашает её. Но приглашает как-то вскользь, словно сам не желая её участия в семейном застолье: «Меня ждут родственники. Я их фамильная драгоценность, вроде столового серебра. Слушай, пойдём вместе». Мария чувствует фальшь и отказывается: мол, ты — драгоценность, зачем же идти мне. Там, у родных, юноша беспринципно начинает флиртовать с Надей (которой он явно нравится — и, видимо, чувствует это). Позже, на реке, затевает нелепую игру с местным подростком Колькой, который должен пройти «испытание храбрости, проверку воли, устойчивости вестибулярного аппарата, крайне необходимой при космических полётах» (вот она, «космическая» тема) — то есть сесть в пустую бочку и скатиться в ней к реке с горы. Опасная забава заканчивается переломом ноги. Как будто не понимая всей серьёзности ситуации и своей вины, Андрей ёрничает: «Итак, тюрьма. Мария, ты будешь носить мне передачи?» Наконец кульминация — недостойное поведение Андрея в момент нападения кучки матросов на Марию и Петра — положительного местного парня, которому, вместо Андрея, она симпатизирует всё больше. Этих матросов сам же Андрей и спровоцировал. Видя это, читатель-зритель уже и не рассчитывает, что Андрей может броситься на помощь. Нет, он просто «внимательно наблюдает за дракой». Моральное поражение героя очевидно, и Мария с ним, конечно, не останется. Замечательна финальная сцена, когда уезжающего Андрея разыскивает на вокзале его дядя. Увидев дядю, тот трусливо… запирается в туалете. Дядя пытается открыть дверь, объясняя недоумевающему проводнику: «Там один парень сидит, мой племянник, я ему дам в морду — и пусть едет. Понимаешь, поздно узнал, что он уезжает». Но даже и получить в морду за дело этому «дитяти войны» слабо.
Думается, что если бы фильм по этому сценарию был снят, то он был бы интересен не только этой этической коллизией, но и заложенной в сценарии стилистикой, для советского кино непривычной — хотя понятно, что здесь многое зависело бы от режиссёра. И всё-таки текст сценария сам по себе задаёт некую атмосферу. Она внешне довольно статична: действия как такового в «Летних каникулах» немного. Зато можно представить себе, как сменяли бы друг друга на экране картины городской жизни и как визуальность довлела бы над тем, что теперь принято называть «экшен» (действие): велотрек, праздничный стол, толпа на улице, парк, трамвай, пляж, кафе… Будущие сценарные работы Шпаликова, ставшие фильмами, покажут, что он — большой мастер передачи именно атмосферы, особого воздуха начала 1960-х годов, в котором ощущались и память о сравнительно недавней войне, и открытие городской жизни как средоточия частного бытия, и судьба молодого «оттепельного» поколения, и ощущение моральной ответственности за свои поступки — тоже по сути новое, ибо послесталинская эпоха обострила в человеке — особенно молодом — ощущение личности. Теперь с человека был другой спрос, и шпаликовские герои и здесь, и особенно в будущей «Заставе Ильича», — должны сами решить всё для себя и сами за себя ответить. Вспоминая уже в новом столетии о Шпаликове, его друг кинорежиссёр Сергей Соловьёв замечает, что Гена и был «автором этого воздуха». Воздуха надежды и ответственности.
Вернёмся, однако, в арбатскую комнату, к супругам-студентам. Шпаликов, впрочем, уже заканчивает институт и получает диплом. Но в практической стороне их жизни это мало что изменило. Деньги — то есть гонорары — бывали, но как-то странно сам же Гена к ним относился. Однажды принёс хорошую сумму (может быть, аванс за «Причал» или за «Летние каникулы»?) и с порога на глазах изумлённой Наташи взял да и подбросил купюры к потолку. То ли от радости, то ли от пренебрежения к «материальным ценностям». Мол, что они, деньги — сор, да и только. Не в деньгах счастье. Купюры, конечно, собрали, а потом, когда шла очередная полоса безденежья, стирали с абажура пыль и вдруг… нашли там завалявшуюся десятку. То-то было радости: при скромном аппетите на неё можно было тогда несколько дней прожить. А когда снова разживались деньгами — снова пускали их на ветер, тратили на кафе-рестораны и на домашние посиделки. Брались за мелкую подработку: сочиняли песенки для мультфильмов, рекламные стишки про «штапельки», которые почему-то «не помялись ни капельки». Подписали договор с какой-то невразумительной организацией, для которой обязались поставлять рекламу текстильной промышленности, отсюда и «штапельки». Были даже целые рекламные сценарии. Гена написал, например, сценарий «Красный шар», со своим сюжетом. Если в самом деле воплотить на экране этот текст, то получился бы не ролик, а целый фильм минут на пятнадцать как минимум. Человек покупает сыну красный шар на привокзальной площади у инвалида-частника. В ту пору действительно была у вокзалов такая торговля, между тем как само понятие «частник» в советские годы имело негативный оттенок: частная собственность в СССР официально не признавалась, всё должно было принадлежать государству. Так вот, пока человек добрался до дома, шар превратился из красного в «бурый, полинялый», а затем и вовсе лопнул. Заканчивается эта история фразой «Покупайте детям красные шары только в игрушечных магазинах!». Просто и ненавязчиво…
Впрочем, не так уж и просто. У шпаликовского сценария есть прямой киноисточник — короткометражная лента французского режиссёра Альбера Ламорисса под названием именно «Красный шар», на которую автор откровенно намекает в своём тексте: «Так же, как в Париже, моросит дождь…» Гена и его однокурсники увидели фильм Ламорисса весной 1957 года на учебном показе. В Европе фильм имел большой успех: в том же 1957-м он получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а годом раньше — «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм на фестивале в Каннах. Работа Ламорисса того, конечно, стоила. Это была необычайно лиричная и трогательная история «дружбы» мальчика с красным воздушным шаром, который, вопреки усилиям равнодушных взрослых людей, не хочет с ним разлучаться и везде за ним следует. На протяжении всего сюжета сам шар выглядит как контрастное яркое пятно на фоне серых парижских улиц (замечательная операторская работа Эдмона Сешана). Заканчивается всё печально и жестоко: уличные мальчишки — местная шпана — преследуют мальчика и его воздушного друга и в конце концов шар расстреливают из рогатки и наступают на него ногой. У французского фильма неожиданный и трогательный финал: как бы узнав о случившемся несчастье, все парижские надувные шары слетаются к мальчику, и он поднимается на них в воздух. Кстати, не отсюда ли позаимствовали устроители церемонии закрытия московской Олимпиады 1980 года идею поднять Мишку на воздушных шарах над стадионом? И не фильм ли Ламорисса подсказал ещё тогда, в «оттепельную пору», Булату Окуджаве лейтмотив «Песни о голубом шарике»: «Девочка плачет: шарик улетел»? Ведь девочка с голубыми шарами, на которые в какой-то момент «отвлёкся» красный шар мальчика, в фильме Ламорисса тоже была — не говоря уже о том, что фильм и песню роднят сюжет сплетения судьбы шарика с судьбой героя (героини) и грустная интонация утраты. И уж несомненно, что под влиянием «Красного шара» Ламорисса снята студенческая короткометражка Андрея Тарковского «Каток и скрипка», о необычной дружбе мальчика-скрипача и водителя асфальтового катка. Зачем Гена пародирует картину, которая ему понравилась (запись в дневнике, хорошо характеризующая вкусы и правила игры в советском кино: «Волшебно, но у нас такой сценарий не взяли бы и для учебной работы. Не смешно»)? Может быть, в силу уже тогда проступившей склонности к игре, к шутке — или для контраста между городской поэзией Парижа и московско-советской житейской «прозой»?
И ещё о шарах. В 1960 году Шпаликов в соавторстве с Владимиром Бычковым, уже два года как окончившим режиссёрский факультет ВГИКа, представил на «Мосфильм» сценарий под названием «Сказка про игрушки и пушки». Это сказка о борьбе добра со злом, где действуют злобный господин Миллион, Генерал, Министр Хороших Советов и Министр Дурных Примет, Музыкант, Трубочист… Ощущается влияние сказок Андерсена, «Трёх толстяков» Юрия Олеши и «Краденого солнца» Чуковского. Генерал, понявший, что народ, которым он командует, не хочет воевать, с криком «Мне пропадать, и пусть все пропадут!» хочет выстрелить в солнце и «расщепить его». Зная, что Бычков спустя несколько лет снимет картину-сказку «Город мастеров», понимаешь, что его рука была в этом соавторстве направляющей. Но и шпаликовский почерк виден: в тот самый кульминационный момент, когда солнце может погибнуть и жизнь на земле тоже, люди пускают в небо разноцветные шары, которые закрывают солнце и не позволяют выстрелить в него. Знакомый мотив! Генерал проиграл. Картина не была поставлена, сценарий «застрял» то ли на студии, то ли в ЦК ВЛКСМ, куда он был послан: комсомольское начальство контролировало всё, что было адресовано подрастающему поколению.
Был и другой вид заработка: на курсе Шпаликова учился писатель из Монголии, которого охотно (мы ведь дружим с «братским монгольским народом»!) печатали в советских журналах. Гена подрядился переводить его рассказы и переводил их — разумеется, с подстрочника — в духе Хемингуэя, его знаменитых «рубленых» фраз, оставляя мало что от реального содержания. Так знаменитый американский прозаик «помог» Шпаликову подзаработать денег.
Так и жили. Шпаликов, однако, не терял своего остроумия и умения разыграть окружающих. Житейская неустроенность подсказала ему как-то замечательную шутку, жертвами которой стали жильцы других одиннадцати комнат арбатской коммуналки. Отношения с ними у него были, мягко говоря, небезупречными. Гена любил предстать перед этими столичными дамами в образе галантного кавалера, но они чуяли в нём «классового врага» и постоянно ждали какого-нибудь подвоха. Доходило дело даже до милиции, которую соседи однажды вызвали по причине чересчур шумного поведения соседа и его гостей, заявившихся на очередные дружеские посиделки. В разгар застолья в комнате появился страж порядка и заявил, что «нарушение покоя отдыхающих граждан в ночное время» чревато выселением.
Так вот, однажды в квартире зазвонил телефон — он, естественно, был здесь единственным и висел в общем коридоре. Проходившая мимо соседка сняла трубку и услышала мужской голос с явным иностранным акцентом, что уже само по себе её взволновало. «Аллоу, это говорят из посолства Швеции. Могу ли я поговорить с мистер Шпаликофф?» «Его нет», — вымолвила удивлённая женщина. «О, как жаль. Я хотель сообщит ему приятную новость. Мистер Шпаликофф удостоен Нобелевской премии, и ми должны вручить ему визу и билет в Стокхолм на церемонию вручения. Я позвоню ему ещё раз».
«Новость» сразу стала известна всей квартире. Шпаликов невероятно вырос в глазах соседей. Нобелевская премия! Вспомнили, что он часами стучит на пишущей машинке, не даёт соседям спать: видно, что-то сочиняет. Звонок и вправду повторился, а «лауреата» всё не было дома. Переполох от этого не ослаб.
Тайное всегда становится явным: потом, конечно, пришлось во всём сознаться. В арбатскую квартиру звонил из ближайшего телефона-автомата кинооператор Митя Федоровский, друг Шпаликова (работал он в основном в кинодокументалистике, а ещё снимал отдельные выпуски знаменитого сатирического киножурнала «Фитиль»). Сам Гена стоял в это время рядом и давился от смеха. Зачем ему была нужна эта шутка? Возможна простая бытовая подоплёка: жизнь в коммуналке налагала на её обитателей известные обязанности — в том числе уборку мест общего пользования. Висел даже график, согласно которому жильцы — в том числе и Шпаликовы — должны были это делать. И Гене жутко не хотелось этим заниматься — и не хотелось, чтобы занималась и Наташа. Он решил, что «нобелевского лауреата» уж точно от мытья унитаза освободят. И ведь освободили — сразу же вычеркнули из графика. Но потом всё равно вернули на место.
Думается, однако, что шутка была затеяна не ради унитаза, а ради шутки. Это было в духе Шпаликова, никак не вписывавшегося в аккуратный распорядок жизни, столь необходимый «нормальному» человеку, а ещё любившего дарить себе книги классиков с надписями такого типа: «Геннадию Шпаликову от Льва Толстого». Или: «от Максима Горького». Или, скажем, похвастаться перед какой-нибудь барышней фотографией Пастернака, которую умыкнул у Паши Финна вместе с пастернаковской же «Охранной грамотой» (умыкнутой в свою очередь Пашей из вгиковской библиотеки) и на обороте которой красовалась надпись: «Геннадию Шпаликову, поэту и гражданину. Борис Пастернак». Судьба фотоснимка неизвестна, а «Охранная грамота» по сей день хранится у Наталии Рязанцевой.
Когда Шпаликов, спустя годы, рассказывал эту «нобелевскую» историю друзьям, они спрашивали его: как же ты после этого смотрел соседям в глаза? А я не смотрел, я тут же съехал, отвечал он. И они не могли понять, говорит ли он правду, или присочиняет по обыкновению. Пожалуй, присочиняет: ведь на самом деле он никуда пока не съехал, и даже после расставания с Наташей (просим прощения у читателя за то, что забегаем вперёд) чуть ли не целый год ещё жил, уже без неё, в этой комнате.
Но была у той шуточной истории, кажется, и невольная серьёзная подоплёка, в которой обнаруживается как раз «пастернаковский» след. Подсказку даёт сохранившаяся у Наталии Рязанцевой большая, похожая на амбарную книгу, шпаликовская тетрадь, в которой находится рукопись «Причала». На первой странице её читаем: «В этой прекрасной книге должна быть написана прекрасная вещь, которая впоследствии будет удостоена Нобелевской премии, её вручит мне в Золотом зале дворца король Георг 7. Это будет в Стокгольме, осенью. Г. Шпаликов. 14 декабря 1958 года». Как раз минувшей осенью разразился «нобелевский» скандал с романом «Доктор Живаго». Присуждение самой престижной в мире премии «антисоветскому» произведению, опубликованному не в СССР, а за границей, показалось властям настолько вызывающим, что Пастернак был исключён из Союза писателей. Это означало тогда гражданскую смерть, а спустя полтора года он умер и на самом деле. Конечно, этот преждевременный уход лежал на совести советских высших чиновников — если только у них была совесть. Шпаликов ездил в Переделкино на похороны Пастернака 2 июня 1960 года, ставшие общественным событием, скрытым — а может быть, уже и открытым — знаком противостояния молодой интеллигенции задушившей поэта власти. Об этих похоронах, на которых «зрители в штатском» снимали приехавших на кинокамеры, Александр Галич напишет потом ставшую знаменитой песню, заканчивающуюся стихами: «…А над гробом встали мародёры / И несут почётный ка-ра-ул!» Шпаликов же Пастернака обожал, мог цитировать не только многие его стихи, но и прозу («Охранную грамоту»). «Доктора Живаго» он в ту пору, как и почти все жители Советского Союза, не читал. Может быть, прочёл впоследствии, уже в эпоху самиздата, наступившую во второй половине 1960-х. В студенческую же пору он познакомился с Екатериной Николаевной Виноградской, рассказавшей ему, как Пастернак был влюблён в неё, как они гуляли по Москве, катались на санях, а однажды случилось полусерьёзное-полукурьёзное происшествие: Пастернак задержался у Виноградской досветла и сидел на подоконнике (прямо как в его стихотворении «Белая ночь»: «Смотрим вниз с твоего небоскрёба») спиной к улице. Екатерина Николаевна сидела напротив и увидела, как по пустынной улице шла жена поэта, Евгения Владимировна. Женя увидела мужа, остановилась и… повернула назад. Пастернак её не увидел. Легенда, которую создала себе стареющая современница великого поэта? Как бы то ни было, после встречи с ней Гена Шпаликов записал в дневнике: «Я бы хотел с ней дружить».
Конечно, третьекурснику Шпаликову и в голову не приходило всерьёз сравнить себя с Пастернаком. Он, как всегда, шутил. Или думал, что шутил, а шутка получилась в каком-то — пусть не в «нобелевском» как таковом — смысле пророческая. Пастернак есть Пастернак, Шпаликов есть Шпаликов, но этот юноша, годившийся своему кумиру во внуки, займёт-таки своё неповторимое место в русской литературе. А Швеция… Интересно, что значит дневниковая запись Шпаликова 1958 года, где он воображает выходку, которую мог бы устроить именно у посольства этой страны: «Я подошёл к шведскому посольству, и так мне захотелось выразить какой-нибудь протест, устроить хоть какую-нибудь манифестацию или обыкновенным образом высадить красивое окно из цельного стекла». Похоже, здесь всё тот же «нобелевский» след и характерная шпаликовская готовность к эпатажу, напоминающая поведение лирического героя молодого Маяковского, его стихотворений «Нате!» или «Ничего не понимают».
О другой шутке, возникшей на «финансовой» почве, вспоминает Александр Митта, называющий Шпаликова «Моцартом оттепели» — за творческую лёгкость, с которой он переносил житейские неурядицы. Может быть, этот эпизод и не совсем шуточный — или шуточный поневоле. Шпаликов занял у Митты денег и долго не возвращал. Жена Митты несколько раз напоминала мужу: мол, пора бы получить от Гены долг. Тот сказал наконец Шпаликову. Конечно, конечно, верну, заверил его Гена. И однажды пришёл с конвертом. Митта, уверенный, что в конверте лежат деньги, внутрь не заглянул, торжествующе показал конверт жене (мол, видишь, а ты сомневалась в человеке!), а когда Гена ушёл, обнаружил, что в конверте лежит… листок со стихами. Есть у Шпаликова в этой истории одно оправдание: думается, если бы он был при деньгах и дал бы кому-то в долг — и сам не возмутился бы, если бы получил в ответ вместо денег стихи… Всё по пушкинскому «Моцарту…»: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / Пренебрегающих презренной пользой, / Единого прекрасного жрецов».
Атмосфера арбатского житья-бытья узнаётся в шпаликовских текстах тех лет — скажем, в прозаическом наброске «В Москве повсюду лето…». Набросок такого типа у Шпаликова не единственный, он оставил их целую серию, и в них всегда просвечивает настроение того дня или часа, когда они пишутся. Точной даты под ним нет, но есть дата в тексте: «Какое сегодня число? 2 июля 1961 года». Конечно, набросок не нужно воспринимать как чисто автобиографический текст: это всё-таки литературное произведение. Но возник он, скорее всего, именно тогда, летом 1961-го. Дело в том, что в наброске говорится о самоубийстве Хемингуэя, а оно случилось как раз в тот день. Только день недели не совпадает: в тексте говорится о понедельнике, а 2 июля в тот год пришлось на воскресенье. С другой стороны, герой узнаёт о гибели писателя из «Правды» — главной советской газеты, а газеты могли напечатать сообщение только на следующий день. «Правда», в отличие от всех советских газет, выходила и в понедельник (то есть редакция работала даже в воскресенье, ибо номер нужно было готовить накануне выхода). В общем, здесь переплетаются реальность и лёгкий вымысел, но нет сомнений, что пишется этот текст по горячим следам события.
Так вот, герой наброска, в котором нетрудно заподозрить самого автора, маясь безденежьем, решает сдать книги. В те времена букинистическая торговля, в новом веке «ушедшая» в Интернет и почти не оставившая «живых» магазинов, процветала. Книги, как и всё прочее при «плановой» советской экономике, были дефицитом, а для некоторых ещё — особенно в 1970-е годы — и предметом престижа. Номинальные цены были невысокими (их же регулировало государство), а спрос — большим; в результате возник «чёрный рынок». Очень ценились собрания сочинений классиков, за которыми охотились, порой выстаивая ночные очереди в магазинах, где наутро должна была происходить подписка. «Если бы у меня было полное собрание сочинений Флобера, как, например, у моей соседки, — размышляет герой наброска, — я бы его сегодня же отнёс в букинистический магазин… Итак, что мы имеем: Шолохов, Хемингуэй, можно и Достоевского прихватить, и Пришвина (все говорят, что он — гениальный писатель, но я ничего, кроме длинных описаний лужаек, пней и русских болот, у него не читал). Пришвин у меня в двух томах. Кто подарил — не помню. Но точно знаю, что я его не покупал и не крал. А вот и краденые книжки, если уж мы коснулись этой темы…»
Конечно, молодой герой бравирует своей «независимостью от авторитетов» и своим «воровством», но сам Шпаликов и впрямь относился к книгам — своим и чужим — довольно свободно, как и к деньгам. Вполне мог «зачитать» чужую, в гостях, увидев на полке прежде им прочитанную и почему-либо не понравившуюся книгу, мог небрежно её швырнуть. Или запросто выбросить за окно колоду карт, если ему хотелось пойти с друзьями на улицу, повеселиться, а компания затеяла игру в преферанс. Хорошо, что друзья его понимали и относились к таким чудачествам более или менее спокойно. Даже Иван Александрович Пырьев, тогдашний председатель Союза кинематографистов, терпимо отнёсся к шпаликовскому эпатажу, когда Гена в фойе Дома кино на улице Воровского (нынешняя Поварская) снял со стены приглянувшуюся ему картину, понёс её к выходу и был остановлен вахтёром. Лёгкий скандал, прибавляющий известности и адреналина, — жанр вполне шпаликовский. Но ещё неизвестно, какова в таком скандале доля сознательного расчёта на «пиар», а какова — спонтанности шпаликовской натуры. Почему-то кажется, что второго — больше. Уж очень органично у него это получалось. Кстати, в доме на улице Воровского — в этой киношной «вотчине» — Гена был вообще своим человеком ещё со студенческой поры. Тот самый приятель-монгол, рассказы которого он переводил, отдал ему в благодарность свой пропуск, и Гена мог посещать «дефицитные» кинопросмотры. А ещё раньше его, второкурсника, пропустил туда на свой спектакль «Тень» легендарный Эраст Петрович Гарин, когда-то игравший в постановке этой пьесы Евгения Шварца в Ленинградском театре комедии у Николая Павловича Акимова, а после переезда в Москву сам поставивший «Тень» в Театре киноактёра, как раз в Доме кино и располагавшемся. «Седой, изящный и восхитительно пьяный» — в таком бурлескном тоне охарактеризовал Гена в дневнике Гарина, не забыв при этом и всерьёз дать оценку постановке: «очень красиво». Пьеса-памфлет о природе власти звучала тогда остро и современно, вызывая понятные ассоциации с недавно пережитой сталинской эпохой…
Но мы отвлеклись от наброска «В Москве повсюду лето…». Он заканчивается вполне банальной выпивкой героя со случайными знакомыми на вырученные в букинистическом магазине деньги, а ведь поначалу он был воодушевлён на «благородные поступки» — «переводить старушек через улицу, кормить голубей…». Это мотивы, увы, уж точно автобиографические.
В компании друзей Шпаликова затяжная выпивка за полночь, с разговорами и песнями, была обычным явлением. Постепенно Шпаликов становился пьющим человеком. У него, правда, не было другой вредной привычки: он был некурящим. Но на фоне пристрастия к рюмке это утешало мало. Уж лучше бы курил… Следы дружеских выпивок заметны в шпаликовских стихах. «Сегодня пьём / Опять втроём, / Вчера втроём, / Позавчера — / Все вечера / Втроём. / Четвёртый был, / Но он забыл, / Как пел и пил. / Ему плевать, / Ушёл вчера, / А нам блевать / Все вечера / Втроём». Здесь остроумно обыграно смысловое и звуковое созвучие слов «плевать» и «блевать», первое из которых использовано как фразеологизм, но в паре со вторым глаголом «напоминает» и о своём прямом значении. И стихотворный размер — короткий двустопный ямб — необычен: вместить в него поэтический смысл трудно. А смысл здесь, несмотря на всю кажущуюся несерьёзность текста, есть. Стихи — об уходе друга, о том, что «людей теряют только раз, а потерявши, не находят» (есть у Шпаликова такие строки, но разговор о них — впереди).
Пили много, но ухитрялись при этом работать — писать, снимать, сниматься. Ухитрялся и Шпаликов. После «весёлого» вечера, напившись чаю и завернувшись в одеяло, он садился за пишущую машинку. Мог работать и «под хмельком». Писание было его страстью и образом жизни. Набивал текст иногда какой-нибудь совершенно ерундовый, как бы для себя, и всё равно это действовало на него благотворно и восстанавливало внутреннее равновесие. Любил импровизации и буриме — например, на спор с Наташей сочинил стихотворение «Квазимодо». Шпаликов сказал ей, что может за 20 минут написать стихи на любую тему. Она: «Хорошо, поглядим. Твоя тема — Квазимодо». И он не за 20, а за 17 минут выдал 20 строк, отстучав их на машинке сразу набело: «О, Квазимодо, крик печали, / Собор, вечерний разговор, / Над ним сегодня раскачали / Не медный колокол — топор. / Ему готовят Эсмеральду, / Ему погибнуть суждено, / Он прост, как негр, как эсперанто, / Он прыгнет вечером в окно…» (и так далее). Можно ли было относиться к этому стихотворному сочинению всерьёз? Но спустя много лет Рязанцева услышит, как читает «Квазимодо» на вечере памяти Шпаликова один известный актёр, читает с драматическим нажимом и пафосом, — и поразится несовпадению посмертного восприятия стихов и изначального повода их появления на свет.
Видимо, молодой талант был в ту пору сильнее алкоголя. Почему пил? Может быть, уже тогда почувствовал, что его хрупкий — не только кинематографический, но и поэтический — талант неизбежно столкнётся с железобетонной стеной советской идеологии, жёстко контролировавшей все сферы жизни. А «важнейшее из искусств», где особенно ощутима зависимость от начальства, от плана, от бюджета, от худсовета, контролировалось с пристрастием. Может быть, сказывалась наследственность. Может быть, не хватало силы воли, чтобы остановиться. Трудно теперь сказать. Но Наташа скоро почувствовала, что их «экспериментальный брак» (так она сама его называла) трещит по швам. Как с этим быть — она не знала. Тоже молодая и не очень опытная в жизни, со своими творческими интересами, тоже одарённая (время это подтвердит), а пока хотевшая спокойно написать и защитить дипломную работу, — она была не очень готова к роли жены-«мамы». Контролировать мужа, вовремя уводить его из компаний или вообще запрещать бывать в них — такая судьба её не прельщала. И мы ведь помним: она вышла за Шпаликова не столько по любви, сколько из интереса к его личности и таланту.
Но и тогда, когда отношения уже сошли на нет и стало ясно, что их супружество — факт прошлой жизни, Геннадий продолжал чувствовать духовную связь с этой женщиной, которую нельзя было взять и просто вычеркнуть из своей жизни. И хотя в загсе всё было внешне правильно-формально, и нужные в таких случаях слова про то, что «не сошлись характерами», были сказаны (Шпаликову всё хотелось поиронизировать по поводу этой казённости, но он сдерживался), — «душевный развод» был долгим и трудным: то ругались, то мирились. «Мы жили в этом шалаше — / Сначала вроде странно жили, / Хотя поссорились уже, / Но всё-таки ещё дружили». Ведь их связывало многое: студенчество, Фонтанка и Арбат, общие друзья, бесконечные разговоры о кино и о литературе. Порой они напоминали сами себе не столько мужа и жену, сколько брата и сестру, людей «одной крови», которых роднит скорее единство интересов, чем общая жилплощадь и совместно нажитое имущество. Имущества, в сущности, и не было, жилплощади — подавно. При всей своей яркости и таланте, Шпаликов в чём-то ощущал и превосходство Наталии, какую-то свою «оробелость» перед этой женщиной, так и не ставшей «писательской женой», которая была бы готова всю себя посвятить мужу:
Наташа, ты не наша, А всё равно — моя. Одна хлебалась каша, Сидели без рубля. Да и не в этом дело, Подумаешь — рубли. Я так же оробело Люблю тебя. Любил.«Любил». Свято место пусто не бывает. Супруги расстались в 1961 году (официальный развод оформили позже), и вскоре в жизни Шпаликова появилась новая женщина, которая станет его женой и родит ему ребёнка. Изменит ли это его жизнь? Об этом — чуть позже.
ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ
В годы «оттепели» стихи не просто писали — их ещё и пели, причём запели сами же поэты. Возникла авторская песня — песня, в которой всё, и стихи, и мелодия, и аккомпанемент, и пение, принадлежит одному человеку, автору всего этого. Она возникла из переплетения традиций уличной песни, песни студенческой, городского романса и, конечно, русской поэзии. Михаил Анчаров, Юрий Визбор, Александр Городницкий, Новелла Матвеева, Юлий Ким — эти барды (как вскоре стали их называть) появились ещё в 1950-х, кто пораньше, кто попозже. В начале 1960-х зазвучали голоса Владимира Высоцкого и Александра Галича. И голоса ещё многих, очень многих поющих поэтов: бардовское движение стало одним из символов эпохи.
Почему оно возникло именно тогда? «Оттепель», сменившая жёсткие сталинские «холода», внутренне раскрепостила человека, зародила в нём потребность осмыслять жизнь, которой жил он и которой жила страна. Человек стал ощущать, что он — не просто звено большого государственного механизма, а — личность; человек задумался, но возможности выразить свои мысли напрямую — с трибуны или с журнально-газетных страниц — у него не было. Советская цензура оставалась в силе и строго блюла идеологическую «чистоту». Чего стоит одна только история с Солженицыным: его повесть «Один день Ивана Денисовича» о сталинских лагерях не пробилась бы в печать, если бы не обращение Твардовского, главного редактора «Нового мира», к самому Хрущёву. Для того чтобы напечатать в журнале литературное произведение, потребовалось личное вмешательство первого человека государства. Как раз Хрущёв в 1956 году, на XX съезде КПСС, и критиковал деяния Сталина. Но то Хрущёв. Известно: что позволено Юпитеру…
Так вот, зародившаяся в сознании тогдашнего человека критическая мысль стала искать лазейку, возможность выхода в обход цензуры и печатного станка. И нашла. Человек запел. А появившиеся как раз в ту пору домашние магнитофоны растиражировали голоса поющих поэтов, сделали их песни популярными — в основном, конечно, в среде интеллигенции. Иногда их и называли фольклором городской интеллигенции. И главным в этих песнях были — стихи. Мелодия, голос, аккомпанемент усиливали смысл поэтического слова, ради точности и откровенности которого барду прощались и незатейливые «три аккорда», и отсутствие профессионального вокала. Именно оно, слово, вызывало в первую очередь раздражение советской власти, которая хоть и не могла бороться с хождением магнитофонных лент, но постоянно огрызалась и мстила бардам: кого-то «попросит» с работы, кому-то перекроет на долгие годы или даже на всю жизнь возможность печататься, а кого-то просто выдавит из страны…
Но это будет позже. А поначалу и сами барды не относились к своему творчеству всерьёз. Будущие классики жанра сильно удивились бы, если бы им тогда сказали, что они создают большое искусство, которое лет 40–50 спустя войдёт в хрестоматии. Они просто общались, шутили, сочиняли песенки для друзей и подруг, пели их в компаниях, за столом, за бутылочкой с закусочкой (а порой, при тогдашней бедности, и почти без закусочки). Вот так пел свои стихи и поддавшийся общему песенному «поветрию» Геннадий Шпаликов.
Сколько было у него песен — именно авторских? Трудно сказать: на магнитофоны они почти не записывались, хотя в интеллигентных компаниях — и со Шпаликовым, и без него — звучали. Но до наступления постсоветской эпохи, до 1990-х годов, его имя не соотносилось с авторской песней и не оказывалось в одном ряду с именами её творцов. Дело было не в цензурном запрете: Шпаликов таковому не подвергался, его имя из титров фильмов не вычёркивалось. Но он не выступал со сцены, не участвовал в сборных бардовских концертах. Поэтому записи его до самого распада Советского Союза среди коллекционеров «не ходили», их мало кто слышал. Ныне в авторском исполнении под гитару известны десять его песен. Александр Петраков и Олег Терентьев, подготовившие сначала журнальную публикацию этих текстов, а позже и компакт-диск, полагают, что это единая фонограмма, записанная в 1965 году в квартире ленинградского кинорежиссёра Владимира Венгерова. Исследователь авторской песни, текстолог Андрей Крылов считает, что, напротив, песни записаны в разное время; об этом его опытному слуху говорят технические особенности записей. У Венгерова не было своего магнитофона, но был товарищ со студии, магнитофоном обладавший. Он и свёл для Венгерова воедино разные записи — в том числе сделанные, возможно, не только в разных квартирах, но даже и в разных городах. Так возникла «Венгеровская» плёнка, которую режиссёр, кстати, спустя много лет прислал Сергею Никитину, сочинившему на рубеже 1970–1980-х годов целую серию песен на стихи Шпаликова. Вот что вспоминает кинорежиссёр Петр Тодоровский, имея в виду ту пору биографии Шпаликова, когда у него образовалась уже другая семья:
«…В огромной коммунальной квартире у него была маленькая комнатушка, где он жил с женой и ребёнком, однако собирались в этой коммуналке замечательные персонажи… После премьеры моего фильма „Верность“, помнится, состоялся один из первых наших совместных гитарных вечеров. Сохранились очень хорошие записи, где поёт Генка, поёт Окуджава, я им подыгрываю… Ну а ещё до этого я поехал в Петербург к Окуджаве, тогда он жил там (мы вместе писали сценарий) (речь о той же „Верности“. — А. К.) — и, как я помню, нас собирал у себя Венгеров». И дальше Тодоровский говорит вновь о песенных вечерах и об участии в них Шпаликова. Из слов Петра Ефимовича явствует, что записи делались не только в Ленинграде, но и в Москве.
Скажем попутно, что с Венгеровым Шпаликов как раз в ту пору сотрудничал — сочинял для его фильма «Рабочий посёлок» текст песни «Спой ты мне про войну…», исполненной в картине Тодоровским, которого Венгеров неожиданно попросил об этом. Но, может быть, непрофессиональное пение в кино как раз более органично и убедительно, чем пение мастеров вокала. Мелодию написал Исаак Шварц. Фильм этот, с молодыми Людмилой Гурченко и Олегом Борисовым, хотя и был полон советскими киноштампами, всё же нёс в себе ощущение подлинного драматизма послевоенной жизни, в которой медленно и трудно залечивались нанесённые войной душевные раны. Шпаликов сочинил один куплет, а дальше дело не шло — что поделать, не был он образцом собранности и сосредоточенности; у нас ещё неоднократно будет возможность убедиться в этом. Наконец Венгеров, у которого в очередной раз собралась эта компания — Шпаликов, Шварц, Тодоровский — увёл Гену в отдельную комнату и по-командирски строго сказал: пока песню не напишешь — за стол не сядешь. И Шпаликов написал. Казалось даже, что он сам был доволен таким поворотом. Творчество всегда — радость, даже если изначально «из-под палки».
Окуджава же некоторое время в самом деле жил в Ленинграде. У него образовалась новая семья: вторая жена Булата, Ольга Арцимович, с которой он познакомился в 1962 году, была ленинградкой, и он переехал к ней из Москвы. В Ленинграде у них родился сын. В конце 1965-го семья переберётся в столицу, Окуджава вновь станет москвичом, хотя Москву он не забывал и в ленинградские годы, ездил туда постоянно.
Сочинённые, судя по всему, на рубеже 1950–1960-х годов, эти несколько песен (несколько записанных, а были наверняка и ещё) и есть его вклад — пусть это и пафосно, не по-шпаликовски, звучит — в отечественную авторскую песню. Известны и другие песни на его стихи — но написанные уже профессиональными композиторами (только что мы упомянули Шварца), спетые профессиональными певцами или актёрами, в кино и помимо кино; речь сейчас пока не о них. Речь именно об авторских.
Что же напел Шпаликов на магнитофон?
Может быть, самая известная из этих песен, звучавшая в те годы особенно широко, — «Ах, утону я в Западной Двине…», сочинённая, по свидетельству Наталии Рязанцевой, в 1961 году. К концу лета она уже была написана: Андрей Михалков-Кончаловский вспоминает, как Шпаликов пел её на даче Михалковых на Николиной Горе в компании самого Андрея, ещё одного Андрея — Тарковского и Юлия Файта. Был конец лета, молодёжь разожгла костёр, пекла картошку, закусывала ею…
В песне «Ах, утону я…», как в капле воды, отразилась личность Шпаликова, его, если можно так сказать, поэтический парадокс. Вслушаемся:
Ах, утону я в Западной Двине Или погибну как-нибудь иначе, Страна не пожалеет обо мне, Но обо мне товарищи заплачут. Они меня на кладбище снесут, Простят долги и старые обиды, Я отменяю воинский салют, Не надо мне гражданской панихиды…Стихи — о смерти, и сама тема должна настраивать на серьёзный, даже трагический лад. Но… тема звучит явно не всерьёз — как это было и в студенческом сценарии Шпаликова «Человек умер». Во-первых, смущают странное безразличие лирического героя к «способу» собственной гибели (именно гибели, а не просто смерти) и сам этот расклад между весьма конкретным вариантом («утону я в Западной Двине») и дальнейшей полной «свободой выбора» («как-нибудь иначе»). Кстати, почему упоминается именно Западная Двина — неясно. С таким же успехом можно было назвать Северную Двину (если, конечно, в ней купаются) или Волгу. Откуда этот шутливый тон? Да просто Шпаликову нужно было поздравить с днём рождения приятеля Валерия Вайля, и он быстро, на ходу, собираясь в гости к Лере (так звали Вайля друзья), сочинил эти стихи. Не странный ли подарок ко дню рождения? Нет, не странный. Можно не сомневаться в том, что стихи (а может быть, Шпаликов их сразу и спел за праздничным столом?) имениннику понравились. Они хорошо вписывались в царившую в этой компании атмосферу иронически-пародийного отношения к советскому официально-ритуальному укладу, с присущими ему «воинскими салютами» и «гражданскими панихидами». Ясно же, что молодые люди поколения «оттепели», которым вообще жизнь казалась долгой и счастливой (мы ещё вспомним эти эпитеты…), никак не примеряли этот официоз к себе. Тем более что несоответствие официоза реальной повседневной жизни обыкновенного человека, о котором в сталинское время почти никто пока, повторим, и не задумывался, становилось всё заметнее и заметнее.
«Страна не пожалеет обо мне…» Кажется, здесь звучит новая перекличка с Маяковским, когда-то написавшим: «Я хочу быть понят моей страной, / а не буду понят — / что ж?! / По родной стране / пройду стороной, / как проходит / косой дождь». Здесь тот редкий для Маяковского случай, когда он — как будто всегда уверенный в силе своего поэтического слова — проговаривается о возможности непонимания читателями нынешними и, наверное, будущими. Может быть, Шпаликов здесь впервые увидел в Маяковском не «первого пролетарского поэта», а лирика, ощущающего, подобно любому большому поэту, внутренний разлад с современниками и с потомками?
Между тем в третьем куплете «антисоветская» нота усиливается: «Не будет утром траурных газет, / Подписчики по мне не зарыдают, / Прости-прощай, Центральный Комитет, / Ах, гимна надо мною не сыграют». В эпоху Интернета уже трудно представить, как собирались у киосков очереди за свежими газетами (а многие их в самом деле выписывали, получали дома), и время от времени в каждой из них на первой полосе появлялся портрет в траурной рамке, а под ним — официальное сообщение Центрального комитета КПСС о кончине «выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, верного продолжателя дела великого Ленина…».
Стихи Шпаликова, как ни шути и как ни пародируй, — о смерти. И так получится, что этот дружеский полуэкспромт обретёт после гибели самого автора трагический пророческий смысл. И раз обретёт — значит, всё же был в них какой-то надлом, в шумной компании на дне рождения Леры Вайля едва ли замеченный. Это и есть парадокс Шпаликова: говорить и петь смешно, подмешивая в стихи тревожную, драматичную ноту. Его шутки иногда напоминают шутки Гамлета над черепом шута. Этот «чёрный юмор» особенно задевает слушателя самой шпаликовской манерой исполнения: автор поёт монотонно, как бы с нарочитым равнодушием к судьбе своего героя, своего лирического «я». Песня «Ах, утону я в Западной Двине…» могла бы звучать и более выразительно и разнообразно — это, кстати, доказал молодой Владимир Высоцкий, напевший её на магнитофон в домашней обстановке. Позже, почти три десятилетия спустя, на самом излёте советской эпохи, свою мелодию на эти стихи напишет композитор Эдуард Артемьев, и песня в исполнении Александра Абдулова прозвучит в фильме «Гений». Но автор есть автор: он ощущает своё произведение именно так. И аккомпанемент Шпаликова под стать его пению: порой кажется, что он и гитарой-то почти не владеет, просто бьёт по струнам. И в этом тоже есть — пусть невольная — творческая установка: а что переживать и интонировать, если всё равно «страна не пожалеет обо мне»… Сама же эта монотонность несёт в себе — по контрасту с темой смерти — подспудный комический, а лучше сказать, трагикомический эффект.
В таком же трагикомическом духе написана — и в такой же «монотонной» манере автором исполнена — песня «Что за жизнь с пиротехником…», сочинённая в 1959 году и посвящённая Павлу Финну. Странный здесь герой: кажется, прежде человек такой профессии в нашей поэзии не появлялся. Но главная странность не в этом, а во внезапном переходе от шутливой картины «жизни с пиротехником» к исходу жизни этого самого пиротехника:
Что за жизнь с пиротехником, Фейерверк, а не жизнь, Это — адская техника, Подрывной реализм.Рязанцевой два последних стиха запомнились в другой версии: «Наплевать нам на технику / И на соцреализм». Здесь Шпаликов прошёлся по «основному художественному методу советской литературы» — социалистическому реализму, который догматически провозглашался в школьных и вузовских учебниках. Но слушаем песню дальше:
Он весёлый и видный, Он красиво живёт, Только он, очевидно, Очень скоро помрёт.Не «умрёт», а именно «помрёт»; в третьем же куплете прозвучит ещё более просторечный глагол: «…Пиротехникой ранен, / Окочурится он». К середине песни слушатель начинает понимать, что поётся она от лица женщины, вдовы несчастного пиротехника: «Я продам нашу дачу, / Распродам гардероб, / Эти деньги потрачу / На берёзовый гроб». Ведь в зачине мы слышали: «Что за жизнь с пиротехником…». Вот женщина и жила с ним, а теперь ей приходится продавать дачу и одежду: в те скудные в бытовом отношении времена одежда вполне годилась на предмет продажи, её могли даже украсть где-нибудь в поезде. Но намёка на скорбь, заметим, нет абсолютно. Даже «последний путь» героя напоминает фарс: «И по рыночной площади / Мимо надписи „стоп“ / Две пожарные лошади / Повезут его гроб». То, что лошади почему-то «пожарные» и что слово «гроб» попадает в рифму дважды подряд, вызывая иллюзию как бы беспомощности автора, его неспособности придумать новую рифму (гроб — гардероб; гроб — стоп), — лишь обесценивает и вышучивает похоронный пафос. Здесь тоже траурных газет не будет и гимна не заиграют…
Откуда взялся в сознании автора образ пиротехника? Не было ли здесь какой-то конкретной подсказки? Была, и о ней Финн рассказывает в своих воспоминаниях. Жена Паши, Лена, как-то задвинула свои туфли под тахту, и когда они понадобились, Паша полез за ними, освещая потёмки спичкой. Тахта загорелась, Паша зачем-то вспорол ножом её внутренности, набитые сухой морской капустой, и пламя побежало по ней так быстро, что молодые супруги сообразили: единственный способ избежать пожара в квартире — немедленно выбросить горящую тахту с балкона (пятого этажа!). Что они и сделали, обжигаясь и чертыхаясь. О том, что происходило после этого во дворе, история умалчивает… Зато появилась песня про «пиротехника».
У шуточной песни между тем интересный контекст. Строчки про «пожарных лошадей» могут иметь своим источником песню Вертинского «Бал Господен». Вертинский был для «оттепельного» поколения фигурой, как сейчас бы сказали, культовой: вернувшийся в Советский Союз после почти четвертьвековой эмиграции и выступавший с концертами, хорошо памятный и поколению родителей юношей 1960-х, он олицетворял Серебряный век русской культуры и воплощал собой связь времён, прерванную сталинской властью. Так вот, в песне «Бал Господен» Вертинский пел о похоронах героини, «обновившей» наконец бальное платье, когда-то, в молодости, присланное ей из Парижа в город, где балов, увы, не бывало: «Но однажды сбылися мечты сумасшедшие, / Платье было надето, фиалки цвели, / И какие-то люди, за Вами пришедшие, / В катафалке по городу Вас повезли. / На слепых лошадях колыхались плюмажики, / Старый попик любезно кадилом махал… /Так весной в бутафорском смешном экипажике / Вы поехали к Богу на бал». Забавные слепые лошади с плюмажиками предвосхищают столь же забавных пожарных лошадей, везущих «берёзовый гроб» (напомним ещё раз песню «Ах, утону я…»: «Они меня на кладбище снесут…»). Но эта «забавность», в момент похорон по-житейски неуместная, оправдана общим поэтическим тоном стихов-песен и оттеняет неприкаянность и обречённость героев обеих песен. Может быть, песенка про пиротехника отзовётся в творческой памяти Высоцкого, когда он будет писать в 1972 году своих трагических «Коней привередливых», имеющих вообще сложный литературный и фольклорно-мифологический генезис: «И в санях меня галопом повлекут по снегу утром». Два поэта автомобильного века, Шпаликов и Высоцкий, почти ровесники, настойчиво включают в лирический похоронный обряд уже ушедший в историю гужевой транспорт, и возможно, тут не обходится без влияния одного на другого.
Есть и другая ассоциация, звучащая в концовке песни про пиротехника и, кажется, приоткрывающая секрет шпаликовского чёрного юмора: «Скажут девочки в ГУМе, / Пионер и бандит — / Пиротехник не умер, / Пиротехник убит». Это секрет заключён в абсурде. Абсурден сам набор говорящих о герое песни: что общего между девочками в ГУМе (это продавщицы или покупательницы?), пионером (то есть «правильным» советским мальчиком, «всегда готовым к борьбе за дело Коммунистической партии»; такие слова были в пионерском девизе) и бандитом? Не пародирует ли Шпаликов в этих строках популярную в советское время, идеологически выдержанную сказку о Мальчише-Кибальчише из повести Аркадия Гайдара «Военная тайна»? У Гайдара Мальчиш-Кибальчиш погибает в борьбе с «буржуинами», и сказка заканчивается так: «А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зелёном бугре, у Синей Реки. И поставили над могилой большой красный флаг. Плывут пароходы — привет Мальчишу! Пролетают лётчики — привет Мальчишу! Пробегут паровозы — привет Мальчишу! А пройдут пионеры — салют Мальчишу!» Абсурдно и то, что́ эти «девочки в ГУМе» скажут: ну ясно, что раз пиротехник подорвался на своей пиротехнике, то слово «умер» к нему не очень подходит: точнее было бы сказать «погиб», но почему здесь сказано «убит»? Теперь начинаешь понимать, что и строчки «Ах, утону я в Западной Двине /Или погибну как-нибудь иначе» — тоже абсурдны. Не странен ли выбор именно этого варианта из всевозможных «способов погибнуть»? И так ли уж обязательно гибнуть? Этот шпаликовский абсурд — способ противостояния советскому официозу. Официоз ведь всегда претендует на серьёзность, выражая себя на языке манифестов и постановлений. Но не зря ещё в Древней Руси были скоморохи, которые такую серьёзность вышучивали и словно выворачивали наизнанку.
На пару с адресатом этой песенки Павлом Финном Шпаликов однажды сочинил шуточное стихотворение «Разговор о чебуреках поведём…», тоже превращённое в песню: «Разговор о чебуреках поведём, / Посидим на табуретках, попоём…» Так, в компаниях, на табуретках в чьей-нибудь кухне, и пели. Жаль, что запись не сохранилась.
Сюжет песни «Мы сидели, скучали…» тоже абсурден. Абсурд можно заподозрить уже в самом начале её, хотя, кажется, внешне ничего такого здесь нет. Но как раз в том, что ничего такого нет, абсурд и заключён: «Мы сидели, скучали / У зелёной воды, / Птиц домашних качали / Патриарши пруды./ День был светлый и свежий,/Людям нравилось жить, — / Я был весел и вежлив, / Я хотел рассмешить» (в студенческом дневнике Шпаликова есть запись: «В зелёной воде Патриарших прудов плавали скучные лодки»). Какая-то подозрительно благостная картина «светлого и свежего» дня с «весёлым и вежливым» героем.
А эти, будто убаюкивающие слушателя, «домашние птицы» на Патриарших… Что-то здесь не то. Но послушаем, чем же герой собирается рассмешить свою даму (Гена в ту пору был увлечён актрисой Наташей Кустинской, с ней песенка и связана). Вот, оказывается, чем:
Сочинял вам, не мучась, Про царей, про цариц, Про печальную участь Окольцованных птиц. Их пускают китайцы, Чтоб потом наповал Били птиц сенегальцы Над рекой Сенегал.Не будем придавать большого значения ни признанию «сочинял вам, не мучась» (наверное, герой и в самом деле «вешает лапшу на уши» героине без особых усилий), ни странноватой для свидания тематике «про царей, про цариц». Возможно, что здесь можно найти что-нибудь смешное. Но вот «печальная участь окольцованных птиц» — это уже совсем не смешно. При слове «окольцованных» можно было заподозрить аллюзию на брак: мол, герой намекает, что жениться на своей собеседнице не собирается. Но нет, дальнейшее упоминание китайцев и сенегальцев рассеивает наше подозрение. И как будто превращает рассказ героя в полную бессмыслицу.
Однако бессмыслица таит в себе смысл. Вот Шпаликов поёт дальше: «Не узнать добровольцам, / Что убийцы босы, / И научные кольца / Продевают в носы. / Погибают скитальцы / Вдалеке от друзей, / Горько плачут китайцы / И Британский музей». Появление «добровольцев» (на сохранившейся шпаликовской фонограмме их место заняли «комсомольцы»; была такая известная советская песня: «Комсомольцы-добровольцы…») означает, что Шпаликов и здесь пародирует советскую идеологию и риторику. Одним из постулатов «марксизма-ленинизма» был «пролетарский интернационализм». Отношения с Китаем на рубеже 1950–1960-х годов были сложными: они, как мы уже говорили, испортились после критики Сталина Хрущёвым на XX съезде. В песне же китайцы — «друзья» окольцованных птиц. Это пародия на лозунги «дружбы братских народов», но это ещё и аллюзия на реальное обстоятельство китайской жизни той поры. В 1958 году в Китае прошла кампания по уничтожению воробьёв, крыс и прочих «вредителей». Толпы людей, крича и размахивая чем попало, не позволяли птицам садиться на землю, и те просто падали замертво от бессилия. В советских газетах, по радио об этом много говорилось — разумеется, критически. Но при чём тут Британский музей? Тоже неспроста. В советских учебниках истории говорилось о том, что Маркс и Ленин занимались в читальном зале Британского музея; даже и картинка соответствующая (с Лениным) была: выражаясь по-нынешнему, фейк, каковых и тогда хватало. Вот и плачут друзья-китайцы вместе с Британским музеем и Марксом-Лениным о бедных птицах, убитых злыми сенагальцами, противящимися распространению социализма и мира во всём мире… Для Шпаликова всё это, разумеется, — предмет вышучивания. И потому слушатель песенки в итоге возвращается «от смысла к бессмыслице», вспоминая что-нибудь знакомое из слышанного раньше — например, танго-пародию из репертуара певца 1930-х годов Константина Сокольского: «Дышала ночь торжественно в лесу, / Пел соловей над головою нашей. / А мы с тобою ели колбасу / И запивали кислой простоквашей…» Такой же нарочитый комический контраст.
Песни Шпаликова, о которых у нас уже шла речь, сюжетными не назовёшь — несмотря на то что кое-что в них всё-таки «происходит». Однако песня «Колокол» — несомненно, сюжетная. И сюжет её тоже пародиен.
Стоял себе, расколотый, Вокруг ходил турист, Но вот украл Царь-колокол Известный аферист. Отнёс его в Столешников За несколько минут, Но там сказали вежливо, Что бронзу не берут.Царь-колокол — в самом деле «расколотый»: фрагмент его находится рядом с самим «экспонатом». Хотя прямого отношения к советской власти он не имел, но был всё же, наряду с Царь-пушкой, одним из исторических символов СССР. Ведь выставлен он на территории Московского Кремля, а Кремль… — и так далее. Неподалёку — памятник Ленину, а за Спасскими воротами — его Мавзолей. Так что Царь-колокол — это серьёзно, и посягнуть на него значит посягнуть на святое. Вот «известный аферист» и посягнул.
Здесь и начинается абсурд. Во-первых, Царь-колокол попробуй укради. Во-вторых, в Столешниковом переулке, в антикварном магазине его не взяли не потому, что он из Кремля, а потому, что он… качеством не вышел: бронза, в отличие от золота и серебра, антикваров не интересует. «Святыня», оказывается, подвластна «законам рынка». В-третьих, вор, которому надо же куда-то сбыть добычу, «Таскал его… волоком, / Стоял с ним на углу, / Потом продал Царь-колокол / Британскому послу». Ну, это уж совсем не по-советски: сплошная купля-продажа и корысть, кого ни возьми — что нашего афериста, что магазинных антикваров, что британского посла (с этого представителя враждебной капиталистической страны что уж вообще возьмёшь…).
Поэт, как известно, — пророк, хотя не всегда догадывается об этом. Мог ли Шпаликов представить, что спустя лет 50–60 наступит время, когда у памятников начнут воровать очки и шпаги, отпиливать пистолеты и вообще утаскивать и сдавать «на металл» целые монументы? Так что сегодня история про Царь-колокол не кажется такой уж фантастической, как казалась в хрущёвские времена…
Эта песня напоминает одно известное произведение «нетрадиционного» — говоря иначе, уличного, или интеллигентского, — фольклора: шуточную песню ленинградского филолога Ахилла Левинтона «Стою себе на месте…» (в народной версии: «Стою я раз на стрёме…»), очень популярную в послевоенные десятилетия. Это сегодня имя автора известно, а тогда его никто не знал, считалось, что песня народная. В ту пору такой фольклор был очень популярен и по-своему выражал дух некоей фронды, вольномыслия, противостоя, как и связанная с ним своим зарождением авторская песня, казённому советскому искусству, песням про «великий Октябрь», Ленина и партию. У песен Левинтона и Шпаликова перекликающийся сюжет, общий стихотворный размер (трёхстопный ямб) и даже похожая мелодия. В том, что Шпаликов знал песню «Стою я раз на стрёме…», сомневаться не приходится; вероятно, она и отозвалась в его собственной песне.
В песне-источнике герой, обычный уголовник, оказывается втянут в шпионскую историю. Шпиономания в Советском Союзе — особая тема: ведь «первое в мире социалистическое государство» было, как внушали простым гражданам, окружено врагами. И вот один такой шпион и подкатывается к нашему маргиналу: «Он предлагал мне деньги / И жемчугу стакан, / Чтоб я ему разведал / Советского завода план… / Потом мы его сдали / Властям НКВД, / С тех пор его по тюрьмам / Я не встречал нигде. / Меня благодарили власти, / Жал руку прокурор, / Потом нас посадили / Под усиленный надзор». Несмотря на «патриотизм» героя, власти поступают с ним и с его дружками вероломно.
Герой же песни Шпаликова, может, и рад бы как истинный патриот загнать свой «антиквариат» в советский магазин, да там ведь не взяли. Пришлось бедняге продавать его британскому послу, за что он и пострадал: «И аферист закованный / Был сослан на Тайшет. / И повторили колокол / Из пресс-папье-маше». Вот здесь и начинается самое интересное. Шпаликов задевает одну из самых больных точек советской (да только ли советской…) идеологии: подмена сути видимостью, показуха, обман населения…
Не побоялись бога мы И скрыли свой позор. Вокруг ходил растроганный Рабиндранат Тагор. Ходил вокруг да около, Зубами проверял, Но ничего про колокол Плохого не сказал.Оказывается, колокол-то стоит в Кремле ненастоящий, поддельный! Но при чём тут Рабиндранат Тагор, индийский поэт, один из «друзей» Советского Союза, приезжавший к нам в 1930 году? Упоминание о нём в песне было навеяно, скорее всего, телевизионным фильмом «Великий сын Индии. Рабиндранат Тагор в СССР», выпущенным в 1961 году к столетию поэта. В фильме есть кадры, где Тагор стоит возле Царь-колокола — причём повторяются они зачем-то (видимо, из-за нехватки видеоматериалов) трижды, и не обратить на них внимания трудно. Но дело тут даже и не в Тагоре лично. Хотя сталинское государство уже тогда, в начале 1930-х, тяготело к изоляционизму и со временем воздвигло «железный занавес», но оно всё же было заинтересовано в том, чтобы западная и восточная интеллигенция создавала Советскому Союзу положительную репутацию в глазах мирового общественного мнения. Для того и приглашались сюда Луи Арагон, Лион Фейхтвангер, Рабиндранат Тагор… Они то ли не видели истинного положения дел в стране, то ли не хотели его видеть. В общем, «ходили растроганные» и «ничего плохого» о Стране Советов не говорили. Фильм же о Тагоре — типичный образчик советской пропаганды и риторики, наполненный журналистскими штампами («Шли годы, но, как воды полноводного Ганга, не иссякало его вдохновение»; «Пробудившаяся Индия свято чтит светлую память своего великого сына» и т. п.), и это само по себе уже должно вызывать у Шпаликова, с его тонким языковым чутьём, поэтическое раздражение.
Как ни ироничен или даже саркастичен бывал порой в своих песнях Шпаликов, а всё же он был не самым резким из бардов. Очень показательна в этом отношении история, происшедшая с двумя его песнями — «Мы поехали за город…» и «У лошади была грудная жаба…». В этой истории участвует ещё один поющий поэт — несомненно, более крупный (хотя корректно ли сравнивать по бардовскому масштабу кого бы то ни было со Шпаликовым, от которого осталось только несколько песен?), а в ту пору только начинавший свою большую поэтическую стезю.
В 1961 году Шпаликов, уже окончивший ВГИК, оказался вместе с Наталией Рязанцевой в Доме творчества кинематографистов в подмосковном Болшеве. Дома́ творчества, подобные Болшеву или литературному Переделкину (вспомним «Перелыгино» в «Мастере и Маргарите»), — специфическая примета быта творческой интеллигенции советской эпохи. Члены творческих союзов (писателей, кинематографистов, театральных деятелей, художников) могли получить путёвку и какое-то время жить в этом доме — фактически пансионате, где их окружала природа и где в счёт путёвки неплохо кормили. В итоге творческие люди сочетали полезное (работу над романом или сценарием) с приятным (отдыхом). Иногда второе перевешивало или даже полностью вытесняло первое (ведь отчёта никто не требовал), но это уж зависело от самого постояльца. И конечно, Дом творчества давал замечательную возможность общения: из совместных прогулок и хмельных посиделок за полночь порой рождалось что-нибудь интересное, переживавшее конкретный повод, входившее затем в историю. А если в Доме творчества появлялся Шпаликов, то можно было ждать озорных шуток и розыгрышей. Однажды в Болшеве Гена (и не лень же ему было!) отпечатал на машинке текст «телеграммы», вырезал слова, наклеил их на узкую и длиннющую полоску бумаги, напоминающую телетайпную ленту, свернул в рулон и «отправил» в соседний номер Павлу Финну. Текст был примерно такой, без предлогов, как обычно и набирался текст телеграммы для экономии денег (стоимость телеграммы зависела от количества слов): «Срочно вылетайте Хьюстон… Ваше присутствие открытом космосе крайне необходимо. Захватите чертежи скафандром обеспечим на месте… Объём работы невелик, однако наличествует возможность трагического исхода. Предупредите родных, своих мы уже предупредили. Погода космосе неустойчива…» Паша, читая это, очень веселился; на то и был расчёт.
Так вот, в тот раз, когда Гена приехал в Болшево с Наташей, там оказался и Александр Галич — уже немолодой, разменявший пятый десяток, маститый драматург и сценарист, высокий, барственный, привыкший к хорошей жизни и к вниманию женской половины компании. Вряд ли и сам Галич тогда думал, что здесь и сейчас он превращается из преуспевающего советского литератора в большого художника-нонконформиста, которому суждён крестный путь русского поэта — преследование со стороны властей, исключение из Союза писателей и Союза кинематографистов, изгнание из страны и по сей день не прояснённая смерть на чужбине…
Галич и Шпаликов, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, подружились. Этой дружбе мы обязаны двумя песнями, которые часто называют соавторскими. Хотя это не совсем соавторство: здесь можно выделить, что́ именно принадлежит одному, а что́ — другому. В обоих случаях Галич дорабатывал текст Шпаликова. Поэтому фактически здесь не две, а четыре песни — две собственно шпаликовские и две галичевские, написанные «поверх» шпаликовских, на их основе.
Вот что рассказывал сам Галич в эмиграции, в передаче на радио «Свобода» 1975 года, когда Шпаликова уже не было в живых, и упоминание его имени опальным изгнанником не могло ему повредить: «…И вот в Болшеве Гена написал куплет — первый куплет песни, потом вместе мы подобрали мелодию… И как-то он бросил эту песню. А я её через несколько дней дописал — написал остальные куплеты». Первый «куплет» — это первые три строфы:
Мы поехали за город, А за городом дожди, А за городом заборы, За заборами — вожди. Там трава несмятая, Дышится легко, Там конфеты мятные, «Птичье молоко». За семью заборами, За семью запорами, Там конфеты мятные, «Птичье молоко»!Друзья Шпаликова, правда, вспоминают, что этот куплет про «заборы» он сочинил раньше — не в Болшеве, а в подмосковной же Жуковке, на Рублёвском шоссе, на даче у оператора Вилия Горемыкина. Отец Вили был министром общего машиностроения СССР (фактически — «оборонка»), потому и имел дачу в престижном посёлке. Рязанцевой запомнилось даже, что сочинял Гена его не в одиночку, а участвовала в этом вся компания, и сочинили уже в электричке, пока ехали к Горемыкину. Эту короткую песенку Шпаликов напевал в Болшеве в дружеских застольях, «между первой и второй», но серьёзного значения ей не придавал — как не придавал его, похоже, и другим своим сочинениям такого рода. Понятно, что советская номенклатура живёт на бесплатных государственных дачах «за семью заборами», что живёт она совсем не так, как простые граждане, у многих из которых не то что госдач или хотя бы просто дач — и квартир-то своих нет, что рацион питания у неё тоже другой и что покой высокопоставленных жильцов оберегает охрана — тоже, разумеется, за казённый счёт. Лёгкий налёт характерного шпаликовского абсурда есть и здесь: какая связь между «дождями» и «вождями», кроме рифмы?
Интересно, помнил ли Шпаликов, сочиняя эти строчки, своё детское стихотворение, которое мы цитировали в первой главе и к которому обещали вернуться? Когда-то восьмилетний Гена, отдыхая в пионерском лагере, придумал стишок про этот самый лагерь, с таким же ритмом и таким же зачином, как в позднейшей песне «Мы поехали за город…»: «Мы приехали в наш лагерь. / С песней громкою вошли, / умывались, раздевались, / а потом уж спать легли. / Мы ходили на прогулку, собирали там цветы. / Мы расставили их в банки / и по спальням разнесли…» Похоже, не правда ли? Только детская лагерная «идиллия» сменяется теперь совсем другой картиной и другим настроением. Может быть, этот ритм и эта интонация подспудно жили в поэтической памяти Шпаликова и в «нужный» момент всплыли в ней сами собой.
Галич песенку услышал — и значение всему этому придал. Он стал сочинять продолжение и заострил сатирическое звучание стихов Шпаликова, сделал текст более резким в социальном отношении, более саркастичным: «Там и фауна, и флора, / Там и галки, и грачи, / Там глядят из-за забора / На прохожих стукачи. / Ходят вдоль да около, / Кверху воротник… / А сталинские соколы / Кушают шашлык!.. / А в пути по радио / Целый час подряд / Нам про демократию / Делали доклад. / А за семью заборами, / За семью запорами, / Там доклад не слушают — / Там шашлык едят!» Сталина не было уже восемь лет. Его тело как раз в 1961 году было вынесено из Мавзолея, и Сталинград тогда же был переименован в Волгоград. Но «сталинские соколы» — и сам Хрущёв, и не вошедший пока в полную силу Брежнев, и, скажем, кавалерийский маршал Будённый (его имя сейчас нам понадобится), занимавшие большие посты при «отце народов», — были на месте, за семью заборами государственных особняков. «С лёгкой руки» Шпаликова Галич и начнёт писать свои остросоциальные песни, обращаясь и к теме наследия сталинизма («Ночной дозор»), и к теме привилегированной жизни власть имущих («Городской романс», «Письмо в семнадцатый век»), и к теме лжи и цинизма государственной идеологии и её носителей («Съезду историков»).
Там же, в Болшеве, Галич написал продолжение и ещё одной песенки своего молодого друга, и опять получилось острее и конкретнее, чем у того. Но сначала — текст Шпаликова, пение которого сохранилось (в отличие от куплета «Мы поехали за город…»; его, как и всю «совместную» песню «За семью заборами», мы можем слышать только в галичевском исполнении) на «Венгеровской» фонограмме. Вот как пел эти стихи сам Геннадий:
У лошади была грудная жаба, Но лошади — послушное зверьё, И лошадь на парады выезжала И маршалу молчала про неё. А маршала сразила скарлатина, Она его сразила наповал, Но маршал был выносливый мужчина И лошади об этом не сказал.Казалось бы — забавная история, стихотворный анекдот, соль которого, во-первых, в том, что болезни явно не соответствуют болеющим. Может ли лошадь заболеть грудной жабой — то есть стенокардией, а взрослый человек, солидный боевой маршал — скарлатиной, которая считается детской болезнью? Комично, во-вторых, и то, что «персонажи» песенки каждый свою болезнь утаивают друг от друга — будто они могут пообщаться и поделиться. Кстати, лошади из песни поэт «отдал» собственную болезнь — мы помним, что он сам страдал стенокардией.
Но незатейливая песенка на деле сложнее анекдота, в ней тоже есть политический подтекст, за который и «зацепился» старший поэт. Хотя у Шпаликова маршал по имени не назван, в сознании любого тогдашнего слушателя при этом слове мгновенно всплывало имя командующего Первой конной армией в Гражданской войне Семёна Будённого. Будённый был ещё жив и преподносился советской пропагандой как живая легенда Красной армии. Например, широко звучал по радио «Марш Будённого» братьев Покрасс на слова Анатолия Д’Актиля с припевом: «Веди, Будённый, нас смелее в бой! / Пусть гром гремит, / Пускай пожар кругом, пожар кругом…» Книгу репрессированного при Сталине Исаака Бабеля «Конармия», где деяния красных кавалеристов изображались — скажем так — весьма неоднозначно, тогда мало кто вспоминал.
Но была и другая (народная?) песня о Будённом — не звучавшая по радио и совершенно противоположная только что процитированной: «В стране советской полудённой, / Среди степей и ковылей / Семён Михайлович Будённый / Скакал на рыжем кобыле́. / Он был во кожаной тужурке, / Он был во плисовых штанах, / Он пел народну песню „Мурка“, / Пел со слезою на усах». Так народ отреагировал на «канонизацию сверху»: образ маршала оказался снижен и попал в один ряд с героями уличного фольклора. Похоже, стихи Шпаликова стали тоже своеобразным «низовым» откликом на эту канонизацию.
Можно предположить, что у шпаликовского «маршала» есть ещё один прототип — маршал Георгий Жуков, полководец Великой Отечественной войны, ставший впоследствии министром обороны и принимавший военные парады на Красной площади верхом, несмотря на то что век кавалерии уже ушёл в прошлое. В этом случае упоминание о скарлатине звучит как намёк на опалу и отставку Жукова в 1957–1958 годах.
И ещё одна версия происхождения сюжета песни. Суворовцы шпаликовского выпуска вспоминают, что тогдашний начальник училища был страстным конником и парады на плацу принимал верхом. Над этим его пристрастием Гена, дескать, и подшучивает.
Как обошёлся с этими стихами Шпаликова Галич? Он заменил вторую строчку — теперь она стала такой: «Но лошадь, как известно, не овца». Вероятно, Галич имел в виду, что овца (баран) — упрямое животное и не стала бы выезжать на парады, будучи больна. А лошадь — ничего, терпит. Далее, Галич заменил болезнь маршала со скарлатины на куда более серьёзную, отчего стихи зазвучали жёстче: «А маршал, бедный, мучился от рака, / Но тоже на парады выезжал, / Он мучился от рака, но, однако, / Он лошади об этом не сказал». Самое же главное — Галич дописал ещё один куплет (четверостишие), и здесь уже виден будущий Галич, создатель целой поэтической «энциклопедии ГУЛАГа»: «Нам этот факт Великая Эпоха / Воспеть велела в прозе и стихах, / Хоть лошадь та давным-давно издохла, / А маршала сгноили в Соловках!» Такого у Шпаликова, с его сравнительно безобидным анекдотом в стихах, не было. «Великая Эпоха» — это, конечно, сказано (пропето) с большим сарказмом. Галич и назвал свою версию саркастически: «Слава героям». Уж конечно, слава героям, которых «сгноили» в Соловках и в лагерях Мордовии, Сибири, Казахстана…
Когда Галич спел в Болшеве эти, уже дописанные им, песни, Шпаликову они не очень понравились. Неудивительно: ведь Галич «утяжелил» их, и шпаликовской «лёгкости» не осталось. Но Гена ничего не сказал: мешало почтение к старшему. А мы теперь знаем, что и известность песни получили благодаря голосу Галича, так что роптать на Александра Аркадьевича в любом случае грешно.
О том, как в действительности произошло рождение двух этих сравнительно ранних произведений авторской песни, не знали поначалу и люди, имевшие к авторской песне самое прямое отношение, её творцы. Не знал долгое время, например, Окуджава, хотя мог бы знать: в первой половине 1960-х они со Шпаликовым общались довольно тесно, даже, можно сказать, дружили. Из-за этого незнания вышло однажды недоразумение, но здесь нужно ненадолго отвлечься от песен, чтобы сказать несколько слов об отношениях между двумя поэтами.
В мае 1961 года Шпаликов и Рязанцева поехали в Гагру. Поселились в гостинице; деньги с собой поначалу были вроде бы и достаточные, но юг «съедает» их быстро. Как быть? И вдруг Шпаликов встречает на улице Сергея Александровича Ермолинского — сценариста, впоследствии автора знаменитых «Неуловимых мстителей», до этого, в сталинские годы, хлебнувшего тюрьмы и ссылки. Ермолинский взял молодую пару под своё крыло и пригласил в Дом творчества писателей (дома творчества существовали не только в Подмосковье, но и на юге — в Гагре, Пицунде, Ялте, Коктебеле). Обстановка казалась им располагающей не столько к работе, сколько к отдыху. Они и отдыхали: гуляли, загорали, пили местное вино, благо абхазцы продавали его совсем недорого. Похоже, никто из писателей и не работал. Никто — кроме Окуджавы. Он целые дни просиживал в номере за письменным столом, зато вечером в компании пел свои первые, только что получившие известность, песни: и «Вы слышите, грохочут сапоги…», и «Из окон корочкой несёт поджаристой…», и «Ты течёшь, как река — странное название…». В окно номера доходил шум прибоя, и поэтому особенно эффектно звучала новая песня о море, которую Гена и Наташа ещё не знали — «Непокорная голубая волна / Всё течёт и течёт, не кончается. / Море Чёрное, слово чаша вина, / На ладони моей всё качается…».
В Москве Шпаликов и Окуджава не раз «пересекались» в том или ином доме. А познакомились они в мастерской трёх скульпторов-авангардистов — Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса, выставлявших свои работы вместе, под единым творческим именем «ЛеСС». (Кто мог предвидеть тогда, что творчество этих мастеров, на которое советская власть смотрела косо, спустя четверть века после её крушения станет на выставке в Манеже предметом вандализма «православных активистов», решивших, что оно «оскорбляет чувства верующих».) Мастерская находилась в Хамовниках. Туда и явилась вся шпаликовская компания. И там оказался Булат. Он, конечно, пел, но и новые гости решили не ударить лицом в грязь и «выставили» в ответ своего барда. Получилось песенно-поэтическое «состязание».
В тот раз окуджавовские песни Шпаликову не очень понравились. Когда возвращались домой, он критиковал «Песенку о полночном троллейбусе». Ну что, мол, это такое: «И боль, что скворчонком стучала в виске…» Сентиментально как-то. Реакция вполне объяснимая для человека, сочинявшего обычно иронически-пародийные стихи. Наташа заняла сторону Булата, Гена в ответ ей в шутку: ты — просто девушка из предместья. А Наташа и впрямь была «девушкой из предместья» — то есть из Лосинки, где она и выросла.
Шпаликов иногда бывал у Окуджавы в гостях, и одна такая встреча закончилась кровью в самом прямом смысле этого слова. Дело было в начале 1960-х. Окуджава жил тогда ещё с первой женой, Галиной Смольяниновой, которая вскоре после развода неожиданно рано уйдёт из жизни (это случится в 1965-м). В тот раз Окуджава собрал у себя многолюдную дружескую компанию и как-то странно, по выражению Грибоедова, «умел гостей назвать»: пригласил одну красивую юную киноактрису и двух своих друзей — Шпаликова и литератора Вадима Сикорского, с которым познакомился в бытность последнего заведующим литературной консультацией альманаха «Молодая гвардия». Из воспоминаний Сикорского и известна та история, о которой здесь идёт речь. Они оба — Шпаликов и Сикорский — на эту красавицу претендовали, а Сикорский так вообще считал её своей невестой. Потом он поймёт, что Булат (учительское прошлое которого в отношениях с друзьями иногда давало о себе знать) всё подстроил нарочно, что ему не нравилась эта девушка, он был категорически против брака Вадима с нею. Сикорский и Шпаликов оказались жертвами «педагогического» умысла Окуджавы: он отнюдь не по-кавказски стравил их у себя за столом, чтобы скомпрометировать красавицу в глазах Сикорского. Шпаликов, увидев, что у девушки есть чуть ли не жених, разозлился и за столом сильно ткнул Вадима рукояткой тяжёлого ножа. Тот, в ответ на этот удар и на жгучий, ненавидящий взгляд Шпаликова (характер, однако!..), оттолкнул нож — уже лезвием — в обратную сторону, и оно попало в шпаликовское запястье, поранив его до крови. Все вскрикнули и стали возмущаться Сикорским, Галина бросилась перевязывать руку Гене, который был здесь, как оказалось, всеобщим любимцем. Тост Окуджавы за здоровье «раненого Шпаликова» (тут Сикорский впервые услышал эту фамилию) как-то сгладил ситуацию, до драки на лестнице дело не дошло, тем более что Вадим со своей пассией вскоре исчезли и поехали к Вадиму домой «довыяснять отношения» и «залечивать раны»…
Так вот, имя Окуджавы «возвращает» нас к песням о «семи заборах» и о лошади с «грудной жабой». Однажды в Ленинграде, всё у того же Владимира Венгерова, Окуджава и Галич оказались за одним столом, и Галич спел и ту и другую песни. Булат оценил их в своём стиле: «Прелестно». Они ему и впрямь понравились. А спустя несколько лет он услышал от кого-то, что песни эти написаны Шпаликовым. Окуджаву покоробило, что Галич, выслушав его (Окуджавы) комплименты, не сознался в чужом авторстве. В одном интервью — через много лет после гибели Галича, в постсоветское время — даже назвал его лгуном. Но ведь эти песни — и Галича тоже. И те тексты, что пел Галич — это его версии. Что же поделаешь, если появились они в ту пору, когда сами авторы ни о каких «авторских правах» не помышляли и легко заимствовали друг у друга строчки или мелодии, считая такое сотворчество нормальным явлением общего дружеского житья-бытья.
Шпаликов и сам был не прочь иной раз выдать чужую песню за свою. Это нас не удивляет, если мы помним и о компанейском характере тогдашних посиделок, и об игровом, артистическом начале в натуре самого Гены. Вообще, он ещё до того, как начал сочинять песни на собственные стихи, любил петь в компании стихи больших поэтов. Широко известна замечательная песня Сергея Никитина на пастернаковское стихотворение «Никого не будет в доме». Но задолго до Никитина под свою мелодию (простую, как всегда) пел эти стихи Шпаликов; он же напевал и другое пастернаковское стихотворение — «Свидание»: «Засыпет снег дороги, / Завалит скаты крыш. / Пойду размять я ноги: / За дверью ты стоишь». Жаль, что записи не сохранились. Не сохранилась и запись «псевдошпаликовской» песни «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»; он однажды спел это друзьям как своё, но был разоблачён: стихи написаны Ахматовой! Наверное, не услышим уже и шпаликовское пение стихов Николая Тихонова: «Я свежий труп ищу в траве, / Я свежий труп ищу, / Он пал с осколком в голове, / Я — странно! — не грущу». А ещё он пел стихи Цветаевой: «Целовалась с нищим, с вором, с горбачом, / Со всей каторгой гуляла — нипочём!» Только вторую строчку шутливо переделывал: «И с товарищем моим, со стукачом». Шпаликов вообще знал много наизусть. Стихи, скажем, Бориса Слуцкого или Михаила Светлова, автора знаменитой «Гренады», с которым Гена и Наташа Рязанцева познакомились в московском кафе, смело подсев за столик к мэтру и представившись ему, — мог прочесть с ходу и к случаю в разговоре.
На магнитофонную ленту были записаны в авторском исполнении и две песни, сочинённые Шпаликовым по заказу для фильма «Мальчик и девочка» по одноимённому рассказу Веры Пановой. Мелодии к ним написал композитор Борис Чайковский. А режиссёром этой мелодрамы о курортном романе, следствием которой оказался ребёнок, появившийся на свет уже без уехавшего навсегда отца (который и сам ещё мальчишка, не знающий жизни), был Юлий Файт. В фильме есть какая-то недоговорённость, оставляющая зрителя в финале в лёгком недоумении. Что значит появление в финале картины в доме героини, матери-одиночки, двух солдат, один из которых как-то странно на неё смотрит. По законам мелодрамы тут и должен бы оказаться её возлюбленный, которого ведь как раз в армию призвали, и зритель этого ждёт; да нет, вроде не похож. Или какой-нибудь его приятель-сослуживец, который передаст ей весточку от главного героя; тоже не то. Но почему она так многозначительно смотрит в окно им вслед? Финал рассказа Пановой был в этом смысле проще: пришли — помогли — ушли. Только лёгкий намёк на отсутствие в доме мужчины…
Первая — «Дорожная песня» — звучит в фильме, в исполнении Николая Губенко, дважды и каждый раз отражает сюжетную ситуацию и настроение героя (начинающий в ту пору актёр Николай Бурляев). В начале картины он едет отдыхать в Крым, и в вагоне песню разухабисто распевает под гитару какой-то парень (Губенко его и играет) в тельняшке и с папиросой в зубах: именно так, с папиросой, артистично прихватив её губами с вагонного столика! Песня в этот момент под стать беззаботному настроению бурляевского героя. Во второй раз она звучит в эпизоде, когда он уезжает обратно, на душе у него тягостно, он только что расстался с будущей матерью его ребёнка, которой, как водится, обещал писать, да так и не напишет. Здесь Губенко поёт — уже за кадром — иначе, со сдержанно-драматической нотой, без прежней разухабистости. Шпаликов же поёт эту песню в духе первого киноварианта, не всерьёз, нарочито акцентируя шуточное начало. Кстати, в этой песне обыграны строчки из одной давней, ещё довоенной пионерской песни «Бескозырка белая» Владимира Моделя на слова Зинаиды Александровой: «Бескозырка белая, / В полоску воротник. / Пионеры смелые / Спросили напрямик: / „С какого, парень, года, / С какого парохода / И на каких морях / Ты побывал, моряк?“» У Шпаликова же слышим: «Милый, ты с какого года, / И с какого парохода…» Автор, в своём духе, подшучивает над советским бодряческим песенным каноном и при этом тонко и органично вплавляет чужие строчки в свой текст. Ему эти строчки нужны: они иронически отражают юношескую незрелость залётного героя.
В шутливом ключе поёт Шпаликов у Венгерова и «Солдатскую песню» из этого фильма, об оставшейся дома невесте солдата, которую зовут Клава. В картине песня звучит в самом финале в манере, стилизованной под строевое исполнение армейского «ансамбля песни и пляски». Таких песен тогда было немало: вспоминается что-нибудь вроде этого: «А для тебя, родная, / Есть почта полевая. / Прощай, труба зовёт. / Солдаты, в поход!» «Солдатская песня» и написана как стилизация подобных сочинений: похоже, что и поэт, и композитор сознательно равнялись на этот жанр. В фильме раздольное мужское хоровое исполнение несёт в себе и лирическую ноту. Между тем у исполняющего её автора ни лирическая нота, ни строевая — не ощущаются, а если ощущаются, то разве что в качестве предмета пародирования. Он поёт весело, сам ощущает удовольствие от этого веселья, «заводит» слегка подвыпившую компанию, и она начинает громко и нестройно подпевать ему, как бывает, когда застолье уже дошло до нужной кондиции: «Земля ты русская, девчонка курская и перекличка соловья…» И в его исполнении особенно заметна уже знакомая нам типично шпаликовская поэтическая алогичность: «Как у нас под Курском соловьи поют, / А мою невесту Клавою зовут». В огороде бузина, а в Киеве дядька… Одним словом, заказная песня прозвучала в авторском исполнении именно как авторская, тем более что в бардовском искусстве иронически-пародийная нота вообще очень сильна. Шпаликов словно предвосхитил эту ноту, эту линию, и проложил дорогу Высоцкому и Галичу как художникам комического склада, высмеивавшим в творчестве советские речевые клише.
На фонограмме «Солдатской песни» есть шутливое авторское посвящение, звучащее под смех компании и подтверждающее точность процитированного в начале этой главы воспоминания Тодоровского: «Эта песня посвящается солдату Булату Окуджава и солдату Петру Тодоровскому, в день их премьеры — от лейтенанта запаса Шпаликова». Именно так Шпаликов это и произнёс, не склоняя фамилию Булата. Сам Окуджава свою фамилию обычно тоже не склонял — это видно в тексте и относительно ранней шуточной баллады «Руиспири», и позднейшего автобиографического романа «Упразднённый театр». Со временем в языковом обиходе возобладал «склоняемый» её вариант, но в середине 1960-х произнесение фамилии поэта ещё не устоялось. Лейтенантом запаса же Шпаликов — из военного училища, как мы помним, ушедший — называет себя потому, что во ВГИКе была военная кафедра, действительно дававшая выпускникам лейтенантское звание. Правда, на военные сборы в Вышний Волочёк он со своим курсом не ездил: ему зачли учёбу в Суворовском училище. Что ж, опыта армейской жизни у него и впрямь было побольше, чем у однокурсников. Как вспоминает Наталия Рязанцева, «дух „лейтенантства“ сидел в нём… долго и прочно», и неспроста Шпаликов любил известные строки Слуцкого: «…И мрамор лейтенантов — / Фанерный монумент — / Венчанье тех талантов, / Развязка тех легенд». Тодоровский, кстати, был на фронте как раз лейтенантом, а не солдатом, как назвал его в своём шутливом посвящении Шпаликов. А Окуджава — в самом деле солдат, здесь ошибки нет.
…И сохранилась на плёнке — если не считать спетой Шпаликовым песни «Шумит сахалинская рожь», «занесённой» в Генину компанию её автором, старшим поэтом-песенником Андреем Досталем, — ещё одна его собственная песня, не похожая на все остальные. Здесь другая эмоциональная нота: привычной шпаликовской разухабистости и усмешки не слышно. Не случайно эти стихи позже, уже после ухода поэта из жизни, будут часто вспоминать, когда речь зайдёт о его трагической судьбе, и они будут, как и стихи о «Западной Двине», восприниматься как пророческие:
Людей теряют только раз И след теряя, не находят, А человек гостит у вас, Прощается и в ночь уходит. А если он уходит днём, Он всё равно от вас уходит. Давай сейчас его вернём, Пока он площадь переходит. Немедленно его вернём, Поговорим и стол накроем, Весь дом вверх дном перевернём И праздник для него устроим.Стихи кажутся на первый взгляд не вполне профессиональными и не вполне удачными. Ну что за глагольные рифмы, «покаяться» в которых призывал собратьев по перу уже Маяковский: «находят — уходит», «уходит — переходит», «вернём — перевернём», «накроем — устроим»? Между тем в этих рифмах есть свой поэтический эффект — а может быть, даже и сознательная поэтическая задача. На фоне элементарной рифмовки как-то особенно выразительно звучат отдельные строки, на которых, по мысли Блока, растянуто «покрывало» этих стихов. Блок говорил, правда, не о строках, а о словах («Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звёзды»), но это не так важно. А «острия» — вот они. Во-первых, афористичная первая строчка «Людей теряют только раз». У Шпаликова вообще есть несколько таких строк, которые стали крылатыми, и мы до них ещё дойдём. В самом деле, как точно это сказано: невозможно потерять ещё раз того, кого ты однажды уже потерял. В смысле, конечно — невозможно вернуть, ибо потерять вторично можно было бы лишь то, что возвратимо. Во-вторых, две последние строчки во втором четверостишии: «Давай сейчас его вернём, / Пока он площадь переходит». Всё в нашей власти: это нам только кажется, что если человек от нас ушёл — мы не в силах вернуть. Он ещё виден, он переходит площадь на наших глазах! Ещё есть шанс. Это двустишие сильно своей поэтической конкретикой: «площадь переходит», — оттенённой общим, как будто отвлечённым характером лирической ситуации: «Людей теряют только раз». И в-третьих, концовка, последние два стиха: «Весь дом вверх дном перевернём / И праздник для него устроим». Намерение «перевернуть дом» означает ведь не только поиск выпивки-закуски по сусекам — это ещё и некий символический «перевёртыш» жизни, которую можно переломить, развернуть в другую сторону. И тогда люди, которые, кажется, безнадёжно ушли, — вернутся. А «праздник» — состояние вполне шпаликовское, и опять-таки не в смысле застолья, хотя и в этом смысле тоже. Но главное: Шпаликов и его песни несли в себе ощущение праздничности, разлитое в том времени — времени надежд, помноженных на молодость. И песня, по сути своей грустная, как бы скрашена этой праздничностью.
…Конечно, при жизни Шпаликова невозможно было и подумать о публикации этих поэтических текстов — на бумаге ли, на пластинке. Когда спустя пять лет после его ухода из жизни, в 1979 году, появился-таки сборник его произведений, куда вошли и стихи, — многое осталось за бортом книги, ибо с точки зрения советской цензуры было совершенно «непроходным». Составителем книги значится Маргарита Синдерович, редактор по профессии, дружившая со шпаликовской компанией, но в реальности книга — плод работы не одной только Риты, а всей этой компании: Файта (председателя комиссии по творческому наследию Шпаликова при Союзе кинематографистов), Финна, Княжинского, Рязанцевой… Удалось протащить в печать «Мы сидели, скучали…», «Ах, утону я…», «Меняют люди адреса…». Но у песни про маршала и лошадь и у некоторых других поэтических сочинений шансов пройти через печатный станок не было. И тогда был найден хитрый и остроумный ход: оформлявший книгу художник Михаил Ромадин, друживший со Шпаликовым, герой его полушутливого рассказа «Мой знаменитый друг», нарисовал картинку, где поэт изображён за пишущей машинкой, из которой как бы вылетают листки со стихами. Похоже, цензор не вглядывался в то, какие именно стихи отпечатаны на них очень мелким шрифтом. Иначе заметил бы, что это стихи «незалитованные», то есть не пропущенные в печать. Сборник «пополнился» запрещёнными строчками — и маленькая победа Шпаликова и его друзей над цензурой была одержана.
ГЛАЗАМИ ДВАДЦАТИЛЕТНИХ
Шпаликов был ещё студентом, перешёл на последний курс, когда проницательная судьба привела его в один из самых, как сказали бы в XXI веке, знаковых культурных проектов эпохи «оттепели».
В числе кинорежиссёров, заявивших о себе в конце 1950-х годов, был Марлен Хуциев. Хрущёвское время он встретил уже не юношей, на пороге тридцатилетия, а родился в 1925 году, на второй год после смерти Ленина. Этим объясняется его необычное для нынешней эпохи имя, образованное как аббревиатура от фамилий Маркса и Ленина. Тогда детей называли то «Виленом» (от «Владимир Ильич Ленин»), то «Сталиной» (понятно, в честь кого), то «Энергией» (это слово было в ходу в 1920-е годы, когда страна усиленно электрифицировалась)… Но, подобно другим художникам, родившимся в середине 1920-х, — скажем, Булату Окуджаве или Михаилу Анчарову, — Хуциев раскрылся по-настоящему лишь теперь, словно дождался благотворного тепла.
Несколько лет Хуциев проработал на Одесской киностудии. В 1956-м там вышла его лента «Весна на Заречной улице», спустя два года — ещё одна, «Два Фёдора». Хотя киноязык в них был ещё вполне традиционный для искусства «социалистического оптимизма», фильмы Хуциева всё же отличались от привычного советскому зрителю кинематографа. Один — поэтическим ощущением молодости и любви, другой — реальным драматизмом послевоенной жизни, требующей восстановления разрушенных общенародной бедой человеческих связей. Первая картина подарила стране одну из популярнейших песен — «Когда весна придёт, не знаю…», которую и в фильме, и затем ещё несколько десятилетий со сцены пел Николай Рыбников. Во второй снялись Василий Шукшин и Тамара Сёмина, оба пока ещё — студенты-вгиковцы. И вот после «Двух Фёдоров» Хуциев — тоже, кстати, выпускник ВГИКа, а теперь его преподаватель — берётся за новую работу и вряд ли представляет себе, какой долгой и трудной, а в конечном счёте всё-таки благодарной окажется её судьба.
Хуциев, вернувшийся теперь из Одессы в Москву и соскучившийся по ней, собрался снимать фильм именно с московским сюжетом, и фильм серьёзный — без полукомедийной лёгкости «Весны на Заречной улице». Это должен был быть фильм о молодёжи, входящей во взрослую жизнь в «оттепельное» время — после 1956 года. Молодёжи, не затронутой родимыми пятнами мрачной сталинской эпохи. Первая мысль о таком фильме мелькнула у него ещё на съёмках «Весны…», в Запорожье: три заводских парня, переживающих смерть очень уважаемого на предприятии директора, фронтовика; вынутый хирургом из-под сердца директора и подаренный одному из этих парней осколок как символическая эстафета поколений… В ту пору в самом деле на заводе «Запорожсталь» умер директор, и режиссёр слышал сочувственные разговоры местных жителей о нём. В будущем фильме директора не будет, но три парня-друга — будут, и будет мотив преемственности «оттепельного» поколения по отношению к воевавшему поколению их отцов.
О том, как замысел постепенно оформлялся в сознании режиссёра, а затем и на практике, Хуциев спустя много лет рассказал киноведу Татьяне Хлоплянкиной — автору специальной книги, посвящённой судьбе этого фильма. Книга написана на основе не только устных воспоминаний Марлена Мартыновича, но и сохранившихся документов (некоторые из которых мы будем здесь цитировать). Так вот, увлёкшись рабочей темой, он отправился на завод «Серп и Молот» — что называется, изучать натуру. «Серп и Молот» был ближайшим к Подсосенскому переулку, где Хуциев в ту пору жил, крупным предприятием. А располагался завод у площади Ильича. Такое название она на ту пору совсем недавно, в 1955 году, получила, а перед этим 30 с лишним лет называлась Застава Ильича; местные жители так и продолжали её по привычке называть (после распада Советского Союза к площади вернётся её историческое название — Рогожская Застава). Отсюда и произошло название картины, вернее — одно из трёх названий, которое фигурирует в студийных документах подготовительного периода и периода съёмок и сдачи картины (1960–1963). Слово «застава» казалось режиссёру более удачным, чем «площадь», подходящим фильму по смыслу — и мы об этом ещё скажем. Поначалу же Хуциев хотел назвать картину строчкой из популярной в советское время «Песни о Каховке» Михаила Светлова и Исаака Дунаевского на тему Гражданской войны: «Ты помнишь, товарищ?» О третьем варианте названия скажем чуть ниже.
Хуциев начал работать над фильмом в паре с Феликсом Миронером — своим другом ещё по студенческим годам. Имя Феликс, похоже, — тоже «революционное», в честь Дзержинского. Сценарий «Весны на Заречной улице» был написан именно Миронером, и оба они — Марлен и Феликс — значатся в титрах этой картины как режиссёры-постановщики. Казалось бы, сам бог велел продолжать сотрудничество. 26 февраля 1960 года Хуциев и Миронер подписывают на Киностудии им. Горького (она специализировалась на выпуске фильмов для детей и юношества) сценарный договор на «Заставу Ильича». К договору приложена заявка с изложением сюжета будущей ленты. Сюжет предлагался — как раз в соответствии с профилем студии — «юношеский». Три парня-москвича: Сергей Журавлёв, на роль которого Хуциев пригласит актёра из театра автозавода им. Лихачёва Валентина Попова. Николай Фокин — его сыграл Николай Губенко, в ту пору не имевший ещё актёрского опыта студент ВГИКа, приходивший к Шпаликову на Арбат «советоваться» и «прояснять биографию героя». Наконец, молодой отец семейства Иван — Станислав Любшин, тоже студент, но театрального училища им. Щепкина, и уже игравший в «Современнике». Любшин так понравится режиссёру, что и героя в честь актёра он «переименует» в Славу. Намечены кое-какие сюжетные перипетии. Некоторые из них в картине останутся, некоторые (например, не лишённый мелодраматизма мотив прежних отношений между вернувшимся сейчас из армии Сергеем и нынешней женой Славы Люсей) — уйдут.
И работа пошла. Но пошла ли? Как-то не очень ладилось в этот раз сотрудничество с Миронером. Феликс любил отчётливую и традиционную сюжетную выразительность. Хуциев же хотел другого. Его всё больше притягивала — может быть, не без влияния «атмосферного» итальянского и французского кинематографа — импрессионистичная и в то же время очень демократичная манера, нацеленная не на «уехал — приехал», а на глубинные токи времени, дух эпохи, который может быть выражен через затяжные на первый взгляд диалоги, панорамные съёмки городских видов, мелькающие одно за другим лица обыкновенных людей на улице… В прежних хуциевских картинах этого не было. Забегая вперёд скажем, что коллеги Марлена, увидев позже «Заставу», упрекнули его в замедленности действия на экране, и он в ответ сказал: ну что ж, иногда нужно и остановиться, оглядеться. Так и вошла с тех пор в речевой обиход эта фраза, которую мы чаще произносим чуть иначе: остановиться, оглянуться. Режиссёр уверен, что именно он и есть автор этого крылатого выражения.
В общем, получалось, что каждый из соавторов «тянул одеяло на себя», и единого стиля не было. Отношения натянулись и стали портиться. Надо было «расставаться». Так у Хуциева появился вместо Миронера новый соавтор — Геннадий Шпаликов.
«Я — человек рисковый», — говорит о себе Марлен Мартынович. Когда-то он позвал в съёмочную группу «Весны на Заречной улице» молодого Петра Тодоровского, будущего знаменитого кинорежиссера, а по вгиковскому диплому — кинооператора. Позвал, не видя ни одного отснятого Тодоровским метра киноплёнки. Просто порекомендовали — и режиссёр рискнул. Примерно так произошло и со Шпаликовым. Как-то Хуциеву показали на «Мосфильме» текст шпаликовского «Причала» — и ему понравилась лёгкая, воздушная манера повествования. Он увидел в авторе «Причала» как раз того человека, которого ему не хватало в работе над «Заставой» — человека молодого (Хуциев и сам был не стар, но Шпаликов-то моложе его на 12 лет!), в сущности ровесника тех парней, что должны были стать героями картины. И главное — работающего как раз в той «импрессионистичной» манере, которая была нужна режиссёру. Где важен, повторим, не чётко прописанный сюжет, а атмосфера «оттепельной» жизни, «оттепельной» Москвы.
15 сентября 1960 года Миронер пишет заявление на имя директора киностудии с просьбой освободить его от «всех прав и обязанностей, вытекающих из сценарного договора», и согласием о привлечении «к работе над сценарием нового соавтора». Формальная мотивировка — «занятость». Десять дней спустя, 25-го, пишет заявление уже Хуциев: он просит «считать соавтором» Шпаликова. Сотрудничество было закреплено юридически, началась работа — и началась непростая творческая дружба Шпаликова и Хуциева, для которой солидная разница в возрасте отнюдь не стала помехой. «Мен» — так, сократив имя старшего друга и будто бы «по-английски» (man), называл его Геннадий. Помехи, правда, со временем возникнут, но это будут помехи другого рода.
Для Шпаликова это был первый большой фильм, причём фильм сразу двухсерийный. Позже, в 1960–1970-е, двухсерийность станет явлением привычным, но тогда это было в новинку. Гена был доволен. «У нас будут две серии — как у Висконти», — говорил он полушутя-полусерьёзно, имея в виду только что появившийся фильм знаменитого итальянца «Рокко и его братья», полная версия которого шла около трёх часов.
Нам уже приходилось говорить о том, что Шпаликов, при всех своих житейских, материальных и прочих проблемах, отличался необыкновенной работоспособностью, мог писать даже в ситуации, совершенно к этому не располагавшей. Сейчас он учился на пятом курсе, ему надо было сдавать, как всегда, зачёты и экзамены, готовиться к выпуску, а он взялся за большую работу, и первый результат совместного творчества обозначился очень скоро. Уже в декабре того же 1960 года сценарий «Заставы» обсуждается в Первом творческом объединении киностудии. Отзывы коллег — сплошные восторги: «первоклассная вещь»; «первое глубокое, по-настоящему большое исследование жизни на современную тему»; «я думал, что должна появиться вещь, которая будет продолжением „Весны на Заречной улице“, но я никак не ожидал такого произведения…». Спустя полгода, в июльском номере журнала «Искусство кино» за 1961 год, сценарий Хуциева и Шпаликова был опубликован. В журнальной публикации он назывался «Мне двадцать лет». Замена названия была автоцензурной: слово «Ильич» автоматически должно было настораживать тех, от кого зависело прохождение текста в печать. Гусей лучше не дразнить.
В этом тексте уже виден будущий фильм, каким он известен зрителю. Сам сюжет, основные эпизоды, расстановка персонажей — всё это появится затем и на экране. Ещё раз напомним: три московских парня (вполне по Ремарку, ещё одному культовому для «оттепельной» молодёжи писателю, с его романом «Три товарища»), их продолжающаяся, несмотря на женитьбу одного, дружба. Сергей Журавлев, доминирующий в сюжете, встречает девушку по имени Аня, они любят друг друга.
Аню сыграла юная красавица и восходящая звезда Марианна Вертинская. Последней страной в эмигрантской одиссее её знаменитого отца был Китай: там Марианна и родилась, а буквально через три месяца семья навсегда приехала в Советский Союз. Они со Шпаликовым относились друг к другу по-приятельски. Как-то девушка пришла на съёмки в новом серебристом пальто, Гена посмотрел на неё и пошутил: «Смотрю на тебя, Машка, и не пойму: ты не то Аэлита, не то водосточная труба». Аэлита — девушка-марсианка, героиня популярного в те годы фантастического романа Алексея Толстого. Она не обиделась: Шпаликов есть Шпаликов, шуточка в его духе. И дружбы не отменяет.
Молодым героям «Заставы» живётся непросто. Уставшая от отцовских назиданий Аня порывается уйти от родителей. У Николая — несостоявшийся «трамвайный» роман с девушкой-кондуктором: привыкший видеть её и разговаривать с ней, он однажды входит в вагон и видит на её месте… кассу для оплаты проезда, куда надо самому опускать монетки. Таково было «ноу-хау» хрущёвских времён, когда говорили о скором наступлении коммунизма, при котором все будут настолько честны и бескорыстны, что не только кондукторов, но даже и сами деньги отменят. «Трамвайная» тема, кстати, напоминает о картине Шпаликова и Файта «Трамвай в другие города». Тот же Николай отказывается «стучать» на своих товарищей, когда его подталкивает к этому начальник — по указке понятно какой организации. Слава мается своими семейными проблемами и никак не может уразуметь, что семья и дружеская компания — две вещи несовместные, хотя авторам сценария, похоже, очень хочется, чтобы было наоборот.
Внимание переключается то на одного из друзей, то на другого. Отсутствие в фильме традиционной и привычной отчётливой сюжетной линии заметила критика. Публикация сценария в «Искусстве кино» сопровождалась послесловием Юрия Ханютина. Оценив слияние быта и поэзии, тему молодого поколения, его «святое беспокойство и нежелание жить кое-как», критик все-таки отметил, что «замысел ряда сцен пока ещё явно интереснее их решения» и «что многое предстоит додумывать авторам и в характере главного героя — мы должны яснее понять, за что его полюбила Аня, и в финальном решении судьбы самой Ани…». Яснее понять, за что полюбила — закономерное желание… Но дело не в отдельных — якобы «непонятных» — сценах и сюжетных линиях. Дело — в самой стилистике сценария, которую критик, кажется, не до конца понял, хотя поэтичность его он всё же оценил.
Прежде всего — в сценарии немало уличных эпизодов, панорамных картин, общих планов, которые легко представить как визуальные в будущем фильме. Они, конечно, на то и рассчитаны: «Утренние лестницы — шумные лестницы. Они наполнены шагами, разговорами, приветствиями… А тем временем становилось всё оживлённее. Это были утренние улицы большого города, шумные, плотно забитые машинами, деловые… День был очень ясный и солнечный, с лёгким ветром, и листья летели все вместе, прямые и светлые. Они засыпали дороги, скамейки, опускались на плечи, на чёрные блестящие крыши машин… Потянуло влажным прохладным ветром. Где-то рядом была Москва-река. Послышались шаги…» В сценарии вообще были «представлены» такими лирическими зарисовками все времена года; их смена будет ощущаться и в фильме. Соавторы как бы предвосхитили будущую поэтическую книжку Юрия Левитанского «Кинематограф» (!), где после очередной группы стихотворений читатель будет встречать поэтический текст под названием «Как показать лето» или «Как показать осень».
Кинематографический импрессионизм был опробован на московской теме ещё в 1920-е годы — в картинах Бориса Барнета «Дом на Трубной», Абрама Роома «Третья Мещанская». Но к 1950-м годам этот опыт подзабылся, и теперь такая манера воспринималась как новое для нашего экрана явление, к которому, кстати, не была приучена не только критика, но и советская операторская школа. Хуциев рассчитывал, что «Заставу» будет снимать Пётр Тодоровский — но тот как раз сейчас и «сменил профиль», перешёл в режиссуру. Поэтому новую ленту снимет другой оператор — Маргарита Пилихина, которую Хуциев знал ещё по студенческим годам. Узнав от кого-то на студии о сценарии «Заставы», она прочла его, сама подошла к режиссёру и сказала: «Марлен, я хочу снять эту картину». И она снимет её блестяще, проникнувшись новизной того киноязыка, на котором собирались разговаривать со зрителем Хуциев и Шпаликов. Порой снимала с руки — по тем временам это было открытием, недавно сделанным Сергеем Урусевским в картине «Летят журавли», которое давало особый, «неказённый», непривычный для советских фильмов эффект. Вообще на студии все ощущали, что снимается какое-то новое кино: в часы съёмок актёры, операторы, осветители, не занятые в «Заставе» и свободные в это время от своей работы, собирались на хуциевской съёмочной площадке и следили за тем, как здесь работали. И следить было за чем.
Появлялись на съёмках и люди, к студии отношения не имеющие, но зато имеющие отношение к Шпаликову и Хуциеву — например Виктор Некрасов, ревностный болельщик «Заставы». Удивительно, как сумел он в своей книге «По обе стороны океана», печатавшейся в двух последних номерах «Нового мира» за 1962 год, сказать о фильме, ещё не вышедшем на экраны. Это было не в правилах советской печати, где обычно дозволялось упоминать и цитировать лишь то, что уже прошло все худсоветы. Так вот, в двенадцатом номере читаем: «Я не боюсь преувеличения: картина эта — большое событие в нашем искусстве. Смотревший её одновременно со мной Анджей Вайда… которого смело можно отнести к первой десятке современных кинорежиссёров, после просмотра просто сказал, что подобного фильма он ещё не видел…» Некрасов оценил и необычные съёмки Москвы — «настоящей, невыдуманной и такой поэтичной», и «лишённую какого-либо напряжения игру актёров», и «диалоги — свободные, лёгкие, предельно живые». Если до конца года Некрасов и Вайда успели посмотреть фильм, значит, основная работа была уже завершена — а может быть, это была рабочая версия картины, большие фрагменты, ещё не обретшие цельности, но уже такие, что их не стыдно было показать таким зрителям. Рабочий просмотр фильма Некрасов и Шпаликов хорошо отпраздновали. Однокурсник Паши Финна сценарист Евгений Котов снимал в ту пору комнату на Волхонке, ранним утром он выглянул в окно и увидел впечатляющую сцену: посреди пустой ещё пока улицы на руках идёт Шпаликов, а Некрасов держит его за ноги — «чтобы не упал»…
Но вернёмся к сценарию. По его тексту разбросаны разнообразные приметы эпохи начала 1960-х, благодаря которым это время не спутаешь ни с каким другим. Вот сцена, которую придумал именно Шпаликов: выставка современной живописи в Манеже — и как это показательно для того времени! Может быть, в этой сцене успели отозваться впечатления от посещения Геной, Наташей Рязанцевой и Пашей Финном первой выставки работ молодых авангардистов Эрнста Неизвестного и Мая Митурича-Хлебникова — племянника поэта Велимира Хлебникова — в художественном салоне на площади Маяковского. Молодые супруги только что вернулись из Абхазии (где они отдыхали, как мы знаем, в мае 1961 года) и вместе с другом пошли сначала в кафе при гостинице «Пекин», а затем на эту выставку. У нас уже был повод вспомнить о художниках-авангардистах Лемпорте, Сидуре и Силисе, в общей мастерской которых Шпаликов однажды встретился с Окуджавой. Судьба неформального искусства, не вписывавшегося в каноны «соцреализма», складывалась в ту пору очень драматично, хотя апогей этой драмы — посещение Хрущёвым выставки как раз в Манеже 1 декабря 1962 года и его оскорбительная «оценка» искусства, которого он не понимал, — был ещё впереди. Может быть, из-за того, что упоминание Манежа вызывало ассоциации с этим событием, в фильме сцена была перенесена в «классическое» место — в Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Впереди был и галичевский «Вальс-баллада про тёщу из Иванова», герой которой, художник, становится жертвой «антиавангардистской» кампании: «Ох, ему и всыпали по первое… / По дерьму, спелёнутого, волоком! / Праведные суки, брызжа пеною, / Обзывали жуликом и Поллоком! / Раздавались выкрики и выпады, / Ставились искусно многоточия, / А в конце, как водится, оргвыводы: / Мастерская, договор и прочее…» Но уже и в 1961-м эту тенденцию можно было уловить. В сценарии на выставке оказываются Аня и Сергей, они слышат, как «полный человек в сером костюме» (говорящий в данном случае цвет!) возмущается выставленными в зале работами: «Мне хочется прийти на выставку и получать удовольствие хотя бы от этого натюрморта. А я его не получаю!» Что тут можно возразить? Не спорить же с таким всерьёз? «Он хотел бы, чтобы здесь можно было есть натюрморты», — только и сумел «усмехнуться на ходу» Сергей. Кстати, именно в этой сцене, среди посетителей выставки, на несколько секунд мелькнули в кадре Александр Митта и сам Шпаликов. Это его второе и последнее появление на киноэкране в актёрском качестве, столь же мимолётное, как и первое — напомним, в фильме «Трамвай в другие города».
Ещё одна характерная примета эпохи — портрет Гагарина на первомайской демонстрации. 1 мая 1961 года было первым рабочим днём съёмок фильма. В этот день снимали реальную демонстрацию в районе улицы Кирова (до революции и после распада СССР — Мясницкой), а позже, летом, снимали там же и игровые эпизоды, относящиеся к этой сцене, чем, кстати, вызвали недовольство руководства ЦСУ — Центрального статистического управления, на улице Кирова и располагавшегося. Мол, что там у вас, на «Мосфильме», павильонов нет, вы здесь мешаете нам работать, а машинам и пешеходам передвигаться… Съёмки реальной массовой сцены, как позже окажется, — одна из особенностей творческого почерка Хуциева; спустя несколько лет ему понадобится снять для фильма «Июльский дождь» встречу ветеранов войны 9 мая у Большого театра, и он станет снимать подлинных ветеранов именно 9 мая, но сцена не задастся, и придётся потом переснимать уже с набранной массовкой. В сценарии оговаривалось и в кадре видно, что демонстранты несут портрет Гагарина. Шла первая демонстрация после первого полёта человека в космос, всего через три неполные недели, и повод для энтузиазма действительно был. Массовый энтузиазм демонстраций со временем изменится: станет более официальным и организованным сверху, но в «оттепельное» время он был всё-таки ещё живым и настоящим. Многие люди воспринимали демонстрацию как настоящий праздник, и портрет «космонавта номер один» более чем отвечал этому праздничному духу.
Был у поколения молодёжи рубежа десятилетий ещё один кумир, о котором наверняка помнил читатель сценария, а позже и зритель фильма. На сей раз это не простой русский парень, каковым воспринимался Гагарин, а заграничная знаменитость, певец, впрочем, тоже по-своему простой. О его гастролях в СССР зимой 1956/57 года мы уже вспоминали. Это Ив Монтан, песни которого широко звучали тогда по радио и с пластинок. Монтан, напомним ещё раз, открыл своими песнями непарадную жизнь большого города, с «маленькими людьми», их трудом и бытом, городским транспортом, кафе, улицами и бульварами, и сильно повлиял на всё «оттепельное» поколение. Окуджава признавался спустя много лет, что начал писать свои первые песни о Москве под впечатлением от песен Монтана. Оживилась, стала более демократичной, советская песенная эстрада. И Шпаликов как московский, шире — городской художник, в каком-то смысле тоже ученик Монтана. Об этом невольно проговаривается текст сценария.
Бульвары есть не только в Париже, но и в Москве. Когда Аня и Сергей «поднимались в сумерках по оживлённому праздничному бульвару», они встретили «группу молодёжи с аккордеоном», обладатель которого играл сначала популярную в те годы эстрадную песню «Белым снегом», а проходя мимо французов и словно адресуясь к ним, заиграл другое:
Как я люблю в вечерний час Кольцо Больших бульваров обойти хотя бы раз.«Французы весело замахали в ответ. Они оценили приветствие». Это песня «Большие бульвары» из репертуара Монтана. В сценарии использована цитата из перевода, сделанного Михаилом Светловым; русская версия текста была широко известна благодаря исполнению Леонида Утёсова. В другой раз песню Монтана «Это хорошо» цитирует в сценарии — по-французски — пока ещё Иван, а позже Слава (это, напомним, один и тот же персонаж): «Се си бон». Он вряд ли знает французский. Но редкий человек тогда не помнил этой фразы из популярной песенки, как раз совпадающей с названием песни.
Слышны в сценарии и отголоски тогдашних споров о мещанстве. «Оттепельная» молодёжь, открывшая для себя ценность природы, дальних дорог, экспедиций и походов, противопоставляла всё это привязанности к быту и дому, видела в последней проявление косности, отсталости — одним словом, мещанства. Может быть, «посодействовал» этим спорам Маяковский, ещё в 1920-е годы высмеивавший в своих стихах «мурло мещанина». Его последователи до такой резкости не доходили, но всё же смотрели на «мещанство» с иронической высоты. «А я иду, доверчивый влюблённый, / Подальше от сервантов и корыт, / И, как всегда, болот огонь зелёный / Мне говорит, что путь открыт» — так пел Александр Городницкий в своей «Песне болотных геологов», сочинённой в 1959 году. Путь открыт — и незачем держаться за «грошевой уют», если вспомнить ещё одну популярную в те годы песню, «Бригантину» на стихи Павла Когана, погибшего в Великой Отечественной войне. Вот один из диалогов молодых героев Хуциева и Шпаликова:
«— Ну, что будем делать? — спросил Фокин.
— Не знаю, — сказал Сергей.
— Можно пойти ко мне, — нерешительно предложил Иван.
— Телевизор смотреть? — усмехнулся Фокин. — Был человек, — и купил телевизор.
— Нет у меня телевизора, — пожал плечами Иван. — Чего тебе надо?
— Купишь, — убеждённо сказал Фокин. — Все купят».
Интересный штрих: в начале 1960-х годов телевизор был ещё не в каждой семье, на него как на диковинку приходили смотреть к соседям, порой перед небольшим экраном усаживалось с любопытством с десяток человек. Казалось бы, он должен восприниматься как большое техническое достижение; теперь-то мы знаем, что вторая половина XX века в самом деле стала телевизионной эрой. Но юношеский максимализм уже тогда не хочет мириться с семейным «сидением у ящика». И в том, что телевизор «все купят», ничего хорошего нет. Это значит, все забудут о друзьях, о высоких мечтах и планах и погрязнут в мире «сервантов и корыт», а заодно и телевизоров.
Но особое место в сценарии и фильме занимает сцена поэтического вечера, на который попадают Аня с Сергеем. По замыслу сценаристов, она разворачивается в институтской аудитории и в ней участвуют знаменитые молодые — и немолодые — поэты «оттепели». Поэзия оказалась тогда на гребне общественной жизни. В стране, где не было ни полноценной политической мысли, ни мысли экономической, ни философской, где отсутствовала честная публицистика, — роль всех этих сфер сознания взяла на себя поэзия. Поэтические вечера проходили тогда на спортивной арене в Лужниках, и наплыв зрителей был таков, что охранять порядок приходилось конной милиции. Поэзия была глотком свежего воздуха, особенно для молодого поколения, уже не удовлетворявшегося прописными истинами советского официоза. «Поэт в России — больше, чем поэт», — писал тогда Евгений Евтушенко, который и в сценарии появляется. Молодой поэт-трибун был популярен не меньше, чем тот же Ив Монтан, на него смотрели как на эстрадную звезду. В сценарии это обыграно не без юмора:
«— Вы не скажете, кто из них Евтушенко? — спрашивала Веру (сестру Сергея. — А. К.) её соседка, показывая на сцену.
— Третий справа, — сказала Вера, продолжая смотреть на Виктора (Виктор — её друг, он же ведущий вечера. — А. К.).
— С бородой? — спрашивала соседка.
— Да нет же! — вмешался какой-то парень. — С бородой это Орлов, из Ленинграда, а Евтушенко сейчас вышел.
— Насовсем? — огорчилась девушка».
Появляются в этой сцене и Роберт Рождественский, а из старших — Борис Слуцкий, читающий стихотворение уже упоминавшегося нами Павла Когана «Есть в наших днях такая точность…». Написать эту сцену — одно, а ведь Хуциеву предстояло её снять. Но Марлен Мартынович уже имел опыт претворения документальной съёмки в искусство (первомайская демонстрация). Он организовал шедшие пять дней съёмки в Политехническом музее «под прикрытием» афиши о поэтических вечерах. Было объявлено, что «заодно» снимается кино. Первостепенность съёмок не хотелось обозначать ради того, чтобы атмосфера была максимально естественной, как бывает на поэтическом вечере, куда люди пришли просто послушать стихи. В фильме запечатлены не только упомянутые в сценарии Евтушенко, Рождественский и Слуцкий, но и Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Михаил Светлов, Римма Казакова и, наконец, Булат Окуджава, который поёт свой «Сентиментальный марш»: «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет…» Кадры уникальные! От этой сцены невозможно оторваться, она давно «отделилась» от фильма и часто используется в документальном кино и телевизионных передачах об «оттепели». Хотя и в фильме она в высшей степени на месте.
Из этой поэтической когорты ближе всех Шпаликову, пожалуй, Окуджава и Ахмадулина. О Булате мы уже говорили, а с Беллой он познакомился ещё в студенческую пору, когда Финн, Княжинский и Юра Ильенко, будущий кинооператор и режиссёр, тоже близкий Генин друг, привели его в коммуналку на Новоподмосковной улице (теперь это улица Зои и Александра Космодемьянских), где в одной из комнат обитала после недавнего развода с Евгением Евтушенко Белла Ахмадулина. Новоподмосковная, кстати, упоминалась в шпаликовском сценарии «Причал», о котором речь у нас уже шла: именно туда переезжает с семьёй из «старого, тёмного дома» в центре города Анна, бывшая возлюбленная шкипера, которую он разыскивает в Москве. Белла, конечно, была необычайна и производила сильное впечатление на друзей, в том числе и на Гену, хотя роман у неё был не с ним, а с Княжинским. У Шпаликова есть стихи о молодой поэтессе:
На Песчаной — всё песчанно, Лето, рвы, газопровод, Белла с белыми плечами, Пятьдесят девятый год, Белле чёлочка идёт. («То ли страсти поутихли…»)Песчаная улица недалеко от Новоподмосковной — одна остановка на метро, от «Войковской» до «Сокола». Но стихи интересны, как заметил Павел Финн, самой игрой слов («Песчаная» — «песчанно», «Белла с белыми плечами») и вполне «шпаликовским» шутливым контрастом высокого и низкого: романтический образ поэтессы «с белыми плечами» возникает на фоне «рвов» и «газопровода».
Оценила Шпаликова и Ахмадулина. Спустя много лет, когда его уже давно не будет в живых, она напишет небольшое проникновенное предисловие к наиболее полной книге его стихов — «Пароход белый-беленький» (1998). «Некогда, много лет назад, — сказано в нём, — я увидела его весёлым, сияющим, источающим сияние: глаз, лица, улыбки… Я была его товарищ, желала быть вспомогательным другом». А назовёт Белла Ахатовна своё предисловие ёмко и недвусмысленно: «Урождён поэтом». Поэтическое призвание она считала в Шпаликове главным.
Но вернёмся к картине, сценарий которой — своеобразная «энциклопедия оттепельной жизни». Можно прочесть его или посмотреть фильм — и узнать о том времени больше, чем из сухих академических трудов или учебников. В самом деле, воздух времени — в деталях, диалогах, цитатах, репликах…
Ближе к финалу в сценарии разворачиваются две сцены, имеющие особую нагрузку. Во-первых, это сцена молодёжной вечеринки в комнате Ани, отмечающей свой двадцать второй день рождения: «…было шумно, играл магнитофон, кто-то танцевал. Стол был сдвинут к стене — его уже разбирали. Между гостями, мягко ступая лапами, прохаживался пёс». И вот в этой полубогемной обстановке, с небрежно-ленивыми шутками, с декламацией якобы смешных стихов из некоей басни («Козу зарезал Архимед. Морали в этой басне нет»), с появлением подражающего Хемингуэю парня по прозвищу… Хемингуэй, в свитере грубой вязки, с бородой и с трубкой, с демонстративным подарком этого парня Ане в стиле «а-ля рюсс» («настоящие лапти» и «большой чугун картошки в мундире»), — так вот, посреди этого действа вдруг звучат очень серьёзные слова. Сергей предлагает тост «за картошку», «небрежно одетый молодой человек» называет это «квасным патриотизмом», и Сергей «помолчал, а потом начал говорить, останавливаясь перед каждым словом:
— Я отношусь серьёзно к революции, к песне „Интернационал“, к солдатам, к живым и погибшим, к пацану, который растёт у моего друга, и к картошке, которой мы спасались в голодное время.
В комнате стало тихо».
В фильме этот краткий монолог звучит чуть иначе; главное отличие в том, что после упоминания «Интернационала», революционной песни, когда-то бывшей гимном Советского Союза, а затем ставшей гимном Коммунистической партии, — Сергей продолжает: «…к тридцать седьмому году…» Это звучало смело в пору, когда тема культа личности Сталина и массовых репрессий была фактически под запретом. Оппонент, однако, не унимается, продолжает ёрничать: «А как вы относитесь к репе…» — и получает за это пощёчину от Ани (в фильме пощёчину даёт другая девушка, тоже участница вечеринки). Сергей уходит, Аня «выскочила» за ним. День рождения обрывается, шутки в сторону, всё серьёзно.
Смотреть эту сцену в фильме не менее захватывающе, чем смотреть сцену в Политехническом. В работе над ней Шпаликов был особенно необходим: жизнь и нравы молодёжной среды он знал лучше, чем Хуциев. Похоже, он «обеспечил» и актёрский состав сцены: в кадре мы видим в качестве гостей его друзей по ВГИКу и даже его жену, Наталию Рязанцеву. Кто здесь собрался? Андрей Тарковский, как раз в день съёмок узнавший, что его фильм «Иваново детство» получил в прокате высшую категорию и что ему предстоит поездка на Венецианский кинофестиваль. Он и приехал на студию прямо из Госкино, из Малого Гнездниковского переулка, где ему сообщили эту новость. Где ещё, кроме как в «Заставе…», можно увидеть его в актёрском качестве? Разве что в собственной учебной вгиковской короткометражке «Убийцы» по рассказу Хемингуэя, где он снялся вместе с Файтом, Шукшиным и другими однокурсниками. Это было в год, когда Шпаликов только поступал в институт. Именно его, Тарковского, персонаж получает в «Заставе» пощёчину. Андрей Кончаловский («Хемингуэй»), Павел Финн, Дмитрий Федоровский (участники спора о картошке). Ольга Гобзева — это её трепетная и взволнованная героиня даёт пощёчину. Светлана Светличная — девушка-манекенщица, сирота, родители которой погибли на войне, с накинутым на плечи шарфом Наташи Рязанцевой (точнее — Наташиной мамы), поющая на вечеринке народную песню «Летят утки», «неожиданно превратившись в простенькую русскую девушку». И это — подлинно русское, в отличие от принесённых «Хемингуэем» лаптей.
Поистине звёздная вечеринка! В этой сцене много импровизационного, рождавшегося на ходу, как бы из реальной дружеской атмосферы реальной дружеской компании. Конечно, они не играли самих себя, но в каком-то смысле… пожалуй, играли. Когда эта сцена снималась, Шпаликов был на площадке, но сниматься ни он, ни Юлий Файт не стали — как признаётся Файт, «из какого-то снобизма»: всем хочется сняться — а вот мы, дескать, нарочно не будем. Стояли за камерой, смотрели, как идёт работа, переживали за ребят. Хотелось, чтобы Марлен был доволен «актёрами».
И, наконец, финальная по сюжету и кульминационная по смыслу сцена — встреча Сергея с погибшим на войне отцом, лучше сказать, с образом отца. Тема войны проступала в сценарии и до этого, но проступала пока не очень громко, как бы вполголоса. Во-первых, в самом начале Сергей возвращается из армии, и во время дружеской встречи за столом Коля Фокин произносит полушутливый тост «за мирное сосуществование, которое может сделать нас семейными людьми». Нужно помнить, что в октябре 1962 года, когда основная работа над фильмом уже завершалась, разразился Карибский кризис, едва не приведший к военному столкновению СССР и США, а значит — к ядерной войне. Словосочетание «мирное сосуществование» произносилось тогда политиками и журналистами особенно часто. Во-вторых, один из дней в сценарии обозначен чётко и недвусмысленно: 22 июня 1961 года. Эта дата видна на календаре, когда в полночь мать Сергея и Веры отрывает от него очередной листок. Наступает самая короткая в году ночь, которой отмерены ровно два десятилетия с момента начала войны. Сергей не может заснуть: он выходит из дома, идёт к Москве-реке, вдруг встречает там Аню. Авторы оставляют их одних и переключаются на другую гуляющую пару, которая ведёт разговор об отцах-фронтовиках. В-третьих, соседский мальчишка с шутливым прозвищем Кузьмич неожиданно обнаруживает в квартире продовольственные карточки военного времени. В ответ на ироническую фразу Веры, вспомнившей по этому поводу чеховского Гаева с его «многоуважаемым шкафом»: «Давайте справим им двадцатилетний юбилей… „многоуважаемые карточки“!» — звучит серьёзный ответ матери: «Ничего смешного нет… Нам с Серёжей предстояло прожить на них больше чем полмесяца. Сейчас это трудно объяснить и трудно понять». И мать рассказывает о том, как спасались они с сыном (дочери ещё не было на свете) картошкой, которую она рыла под Сходней. Вот откуда мотив картошки в сцене вечеринки. И ещё она рассказывает, как в последний раз приходил домой с передовой отец: «Он даже не стал тебя будить… Поцеловал и ушёл».
Теперь читатель и будущий зритель готов к восприятию финальной сцены. Отец придёт ещё раз. И произойдёт одна из самых глубоких и самых пронзительных сцен советского кино.
Появление отца должно быть художественно мотивировано. Человек из прошлого не может появиться просто так, войдя в комнату, как это сделал бы человек, живущий сегодня. Мотивировка найдена. Во-первых, Сергей выпил водки и теперь «сидел неподвижно, подперев руками голову, смотрел на стол». Мотив для тогдашнего кинематографа смелый, ибо употребление спиртного, даже и в объёме одной стопки, по ханжеским официальным представлениям, советского человека, комсомольца, не красило — тем более не красило в такой ответственный момент сюжета. Но водка нужна здесь не только для того, чтобы «облегчить» появление отца. Он спросит сына: «Пьёшь один?» — и, услышав утвердительный ответ, скажет: «Налей и мне». Так, по-мужски, за столом, за стаканом, — легче разговаривать. А разговор у них трудный. Во-вторых, в этой сцене за окном московской квартиры идёт дождь, и отец как бы из этого дождя — нынешнего и одновременно двадцатилетней давности — и появляется: «Неожиданно несколько капель упали на газету. Сергей вздрогнул. Рядом оперлась рука в мокром обшлаге солдатской шинели».
Сергей как будто и не удивлён появлением отца. После нескольких военных мотивов в тексте сценария оно воспринимается как естественное. Кажется, единственное, что его смущает, — возраст вошедшего: «Я думал, ты старше». Эффект присутствия здесь — сильнейший. Современная комната незаметно превращается в военный блиндаж с нарами, «на которых вповалку спали солдаты: русые, черноголовые, стриженые, — спали тяжело и устало, но лица у них во сне были совсем молодые и даже детские, ещё не тронутые бритвой». Отец говорит: «Их всех убили утром». «А ты?» — спрашивает сын. «Меня убили через день, тоже утром, тоже в атаке. Дождь с ночи был, осень». Вот он, дождь. И мы понимаем: это как бы тот самый приход отца с передовой, о котором рассказывала Сергею мать, когда отец не стал его будить. Но теперь сын не спит. Выросший и оказавшийся перед «взрослыми» вопросами, он хочет услышать от отца совет, «как жить»:
«— Сколько тебе лет? — спросил солдат.
— Двадцать три.
— А мне двадцать один. Я младше тебя на два года. Как я могу тебе советовать?»
Думали ли авторы фильма, что именно эта сцена вызовет высочайший гнев? Вообще-то, конечно, можно было предвидеть, что картина придётся власти не по душе. Несмотря на то что внешне здесь много вполне советского: первомайская демонстрация, рабочие парни, военная тема, — фильм должен был настораживать начальство и своим необычным кинематографическим языком, и напряжённой внутренней жизнью молодых героев, решающих трудные вопросы заново. Но советская идеология этого не требовала! У неё были готовые ответы на любые вопросы. А начнёт молодой человек искать ответы сам — ещё неизвестно, где и какие найдёт…
Именно сюда партийная молния и ударила! Партийная молния — это выступление Хрущёва на встрече с творческой интеллигенцией в Кремле 8 марта 1963 года. Лидер государства «удостоил» картину своим личным разносом.
Но тучи над «Заставой» начали сгущаться до этого. Мартовское собрание 1963 года — не первая встреча партийных вождей с писателями и художниками. Аналогичное мероприятие прошло 17 декабря 1962 года, через полмесяца после печально известного посещения Хрущёвым выставки в Манеже. «Застава» к этому времени уже была снята, и уже прошёл предварительный просмотр ленты на студии, после которого Михаил Ильич Ромм, мэтр советской кинорежиссуры, сказал Хуциеву: «Марлен, вы оправдали свою жизнь…» Но коллеги и друзья — одно, а власти — другое. Так вот, происходило упомянутое мероприятие в новопостроенном Доме приёмов на Ленинских горах (теперь они вновь, как и в досоветские времена, называются Воробьёвыми). Волна критики новых явлений в искусстве, в декабре уже набиравшая силу, пока обходила стороной фильм Хуциева и Шпаликова. Но на следующий (!) после встречи в Доме приёмов день, 18 декабря, за подписью «и. о. начальника Управления по производству фильмов В. Разумовского» директору Киностудии им. Горького Бритикову ушла официальная бумага по поводу «Заставы», где было сказано: «Серьёзным недостатком сценария является его бесстрастная интонация, созерцательная, а не активная, гражданская позиция… Авторы сценария и фильма пытаются ответить на вопрос о смысле жизни нынешнего молодого поколения… Но решая эту задачу, авторы допускают большой просчёт. Они искусственно изолируют своих молодых героев от всего того, что связано с их трудовым и общественным бытием». Ну, так и есть: надо поменьше «созерцать», то есть размышлять, анализировать и побольше стоять на трудовой вахте, там и получишь ответы на все вопросы.
Это был сигнал, «чёрная метка». Надо было готовиться к худшему. И оно грянуло 8 марта. Международный женский день стал днём расправы над «Заставой Ильича». Первое лицо государства, которому, по его словам, «в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием», признаёт, что «в этих материалах есть волнующие места», но они, по его мнению, «служат прикрытием истинного смысла картины, который состоит в утверждении неприемлемых, чуждых для советских людей идей и норм общественной и личной жизни». Хуциев вспоминает, что источником критики стал написанный одним из режиссёров донос на «Заставу…»; возможно, хрущёвские «спичрайтеры» использовали его текст. «Чуждость», как считал Хрущёв, особенно заметна как раз в сцене встречи героя с отцом. Комментируя отказ отца давать сыну совет, вождь возмущается: «И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не поверит! Все знают, что даже животные не бросают своих детёнышей. Если щенка возьмут от собаки и бросят в воду, она сейчас же кинется его спасать, рискуя жизнью. Можно ли представить себе, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни? А сделано так неспроста. Тут заложен определённый смысл. Детям хотят внушить, что их отцы не могут быть учителями в их жизни и за советами к ним обращаться незачем. Молодёжь сама без советов и помощи старших должна, по мнению постановщиков, решить, как ей жить». Пример из фауны как аргумент — приём для советской зубодробительной критики не новый. Несколькими годами раньше комсомольский вождь Семичастный на пленуме ЦК ВЛКСМ противопоставлял опального Пастернака… свинье и одобрительно говорил, что она «никогда не гадит там, где кушает». А Пастернак, стало быть, «гадит» — то есть порочит нашу славную Советскую страну, значит, он хуже свиньи.
Позиция власти была ясна. Дальше, в духе недобрых советских традиций, должна была произойти проработка в среде коллег: «сбившихся с пути» авторов картины надо было осудить и наставить на путь истинный. Спустя всего четыре дня после речи Хрущёва (умеем, умеем же реагировать быстро, когда партия и правительство нас к тому призовут!) на Киностудии им. Горького состоялось заседание Первого творческого объединения, которое возглавлял известный кинорежиссёр Сергей Герасимов, имя которого уже появлялось в главе о ВГИКе. Герасимов — человек начальственный, снимающий «правильные» фильмы вроде «Молодой гвардии» и «Тихого Дона» (такое кому попало не доверят), но умный, умеющий лавировать в советской идеологической воде и разговаривать с Системой на её языке. Топить картину он не хочет — как не хочет этого и второй председатель этого собрания, режиссёр Станислав Ростоцкий. Оба понимают, что фильм придётся переделывать. Но пусть лучше его переделывают сами создатели, Хуциев и Шпаликов, чем какие-нибудь назначенные сверху люди.
Многие на этом собрании выступали в компромиссном духе, который, наверное, и был единственно возможным в той ситуации для тех, кто не желал «Заставе» зла. В таком духе говорили, например, будущая создательница «Семнадцати мгновений весны» Татьяна Лиознова («Почему вы стесняетесь сказать прямо о своей любви к Советской власти? Ради этого и фильм сделан»), директор студии Бритиков («Я удовлетворён хотя бы такой принципиальной декларацией того и другого, что они это дело понимают, что они это дело выправят»; речь, конечно, о Хуциеве и Шпаликове), редактор Рубинштейн («Они получили серьёзный урок, они должны подумать, как им исправить свои ошибки. И мы с вами — мы тоже несём свою вину»). Но на заседании звучало и другое. Мария Барабанова, актриса, она же член комиссии партийного контроля студии (партия всё контролирует!), взялась за «Заставу», похоже, покрепче, чем сам Хрущёв. До 8 марта она, встречая Хуциева в коридорах и ласково называя его Марленчиком, выражала восхищение фильмом, а теперь ничтоже сумняшеся громила: «…основной герой говорит: как жить? Зачем же я смотрела эту кинокартину: он не знает, как жить, после того как Хуциев своим сюжетом должен был двигать героя, должен был довести его до ясного ответа… Я думаю: профессионализма не хватило Хуциеву, почему он так запутался». Вот так: Хрущёв увидел недочёт в том, что герой не получает ответа на свой вопрос от отца, а Барабанова — в том, что герой вообще задаёт этот вопрос!
Режиссёр и сценарист тоже выступили на заседании. Дорабатывать или не дорабатывать картину — такого вопроса для них не было. Понятно, что предстояли компромиссные ходы, что пришлось бы чем-то пожертвовать. Но общий тон выступлений авторов фильма — не покаянный, а рабочий. «И Марлен Хуциев, и я, — сказал Шпаликов, — и вся творческая группа считаем, что было бы равносильно самоубийству встать сейчас в позу и считать, что дело кончено… Это было бы предательством и по отношению к картине, и по отношению к зрителю и к большому коллективу студии, который потратил так много сил и нервов на эту работу».
Начались совещания-обсуждения-осуждения. 6 мая — обсуждение плана переработки сценария в том же Первом творческом объединении. Неделю спустя — заседание партбюро киностудии совместно с комиссией содействия органам партийно-государственного контроля (большевистский привет товарищу Барабановой). Вот образчик партийной критики. Кинорежиссёр Марк Донской, Герой Соцтруда, лауреат трёх Сталинских премий, экранизатор ключевых романов советского литературного пантеона — «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Мать» Горького: «Шагают какие-то шалопаи, несмотря на то, что ты (обращено к Хуциеву. — А. К.) отрицаешь, что это шалопаи. Они даже курят шалопайски. Неужели в двадцать два — двадцать три года такое? Так нагнетено… Это какой-то неонигилизм». А вот и о Шпаликове, тот же оратор: «Я ещё раз посмотрел текст. Он какой-то нечеловеческий, он интеллигентствующий. Твой Шпаликов молодой хороший человек, но речи русской в таком качестве, которое тебе нужно, он не знает». Каков неологизм: интеллигентствующий. Это значит, что — притворяется интеллигентом? Нет, это просто органическое недоверие советской власти к творческим людям — конечно, к тем из них, кто не хочет плясать под дудку общепринятого канона, создавать полотна в духе соцреализма. Хуциев предлагал поправки, начальству всё казалось, что они непринципиальны, что режиссёр уклоняется от серьёзной переработки своей «ошибочной» ленты. Ну и налицо, конечно, — привычное партийное «тыканье», особенно высокомерно звучащее в официальной обстановке.
Режиссёру приходилось подвергаться распеканию «на ковре» даже в ЦК КПСС, у тогдашнего главного идеолога Ильичёва — партийного функционера с дипломом доктора философских наук. Ильичёв цеплялся ко всему: что это за многозначительные шаги патруля по московской улице? почему у вас играет Тарковский, он что, актёр? зачем герои фильма напевают песни Монтана? Разве нет хороших советских песен? Патруль и Тарковский в картине уцелели, а вот монтановскими «Большими бульварами» и «Опавшими листьями» пришлось пожертвовать. От Монтана осталось только «се си бон», и то лишь в одном месте. Странная претензия, ведь Монтан тогда ещё оставался «другом Советского Союза». Рассоримся мы с ним в 1968-м, после того как он осудит ввод советских войск в Чехословакию. Но нос партийного функционера, похоже, чует всё наперёд: аппаратная интуиция подсказывает ему, куда ветер подует завтра… По поводу препон, которые этот «доктор философии» чинил фильму, какой-то остроумец даже пустил в народ стишок:
ЦК решило сгоряча, Что здесь — порочности основа, И пред «Заставой Ильича» Встаёт застава Ильичёва.А что же Шпаликов? Конечно, весь этот тяжёлый процесс не мог обойтись без него. Надо было приходить на заседания и выслушивать чиновничий бред. На совещании в Московском горкоме КПСС, которое проводил его первый секретарь (то есть фактически глава города) Егорычев, Шпаликов «посмел» возразить ему, когда тот стал ссылаться на мнение неких рабочих, якобы осудивших фильм. В советской идеологической практике это было обычным делом: в партийных кабинетах сочинялись осудительные тексты, которые потом подавались в газетах и на радио как свидетельство возмущения «рабочих масс». Гена задал вопрос: а как эти рабочие сумели посмотреть фильм, он же ещё не вышел в прокат? Привыкший к послушанию Егорычев чуть не онемел от такой дерзости и только и нашёлся что бросить в спину сходившему с трибуны Шпаликову: «Скажите спасибо Виктору Некрасову, заступнику вашему!» Он имел в виду уже упоминавшуюся нами публикацию в «Новом мире». Одобрительное слово в лучшем литературном журнале всё-таки кое-что значило, хотя не помешало властям спустя несколько лет расправиться и с Некрасовым, и с «Новым миром». Однажды Гена сорвался и «пошёл в контрнаступление», начал сам нападать на нападавших. Это было наивно и немного по-детски: ничего, мол, вы тут не понимаете! В биографии Шпаликова подобные эпизоды бывали и позже. Несколько лет спустя, в 1969-м, на экраны вышла лента режиссёра Чеботарёва «Крах» по роману Ардаматского «Возмездие». Сюжет его — история разгрома доблестными чекистами контрреволюционной организации Бориса Савинкова. Понятно, что фильм, как и роман, был выдержан в «нужном» советском духе. Шпаликов на премьерном показе в Доме кино неожиданно для всех взял слово и выступил… в защиту Савинкова. Дескать, если бы не Савинков, то и вас тут сейчас бы не было, ибо и картины бы не было. Скажите ему спасибо, а то всё: враг, контрреволюционер… Киношные начальники в президиуме раскрыли рты, и пока приходили в себя, Гена уже вышел из зала.
Кроме того, надо было постоянно возвращаться к тексту сценария и вносить всё новые и новые поправки. Гена был не тем человеком, у которого это могло бы получиться «в рабочем режиме». Хуциев звонит ему: мол, приезжай, надо посидеть вместе над текстом. Приеду, отвечает Шпаликов. И… не приезжает. Исчезает, пропадает. Подставляет друга? И да и нет. Что делать, если он совершенно не был склонен к такому труду — портить собственный текст во имя нелепых придирок? Хуциев делал это стиснув зубы — Шпаликов от этого просто заболевал. Он так и говорил Марлену: я заболел. И это была правда, если не понимать под болезнью традиционную ангину или дизентерию, на которую Гена однажды сослался, увиливая от появления пред Марленовыми очами. Тут уж, конечно, врал откровенно. В бумагах Шпаликова есть запись от 30 декабря 1961 года: «Работа осталась по Марлену самая отвратительная, занудливая и мерзкая: нет слов, чтобы её описать». А ведь шла пока нормальная творческая работа, придирки к сценарию и вынужденные переделки его были ещё впереди…
Но, возможно, не только в тягостной необходимости воплощать волю начальства заключалась проблема Шпаликова. Далеко не каждый художник может жить одним замыслом долго. Бывают, конечно, многолетние труды вроде «Явления Христа народу» Александра Иванова или гоголевских «Мёртвых душ», но для этого нужен особый склад характера, способность к творческому «долгострою» (в хорошем смысле этого слова). Шпаликов от «Заставы» уже отошёл, мог вдруг сорваться и уехать в Одессу, где Пётр Тодоровский собирался снимать фильм «Верность» по сценарию Окуджавы и проводил актёрские пробы. Гена пробовался на одну из ролей в этом фильме, но что-то там не заладилось, и он в итоге не снимался. Говорить Марлену о поездке не хотел, но выдали слегка подкрашенные волосы: герой должен был быть «поблондинистей» смуглого и темноволосого Шпаликова. Однако и это исчезновение — мелочь по сравнению с новой интересной работой, которая появилась у него по ходу переделок «Заставы…», о которой ниже мы будем говорить отдельно. Марлен и об этом поначалу не знал, а когда узнал, отнёсся ревниво. Он по праву считал себя Гениным «крёстным отцом», давшим ему путёвку в большое кино. Ясно, что соавтора-сценариста на цепи держать не будешь, у него могут быть и другие параллельные дела, но окажется, что со Шпаликовым «ушли» в чужую картину и кое-какие творческие приёмы из «Заставы». Творческий темперамент у них был разный. Марлен вообще работал методично и обстоятельно, на съёмках делал много дублей; если бы здесь были уместны спортивные сравнения, то его можно было бы назвать стайером. Рядом с ним более импульсивный Шпаликов казался спринтером. И ещё: возникали у них с Хуциевым не очень явственные, Шпаликовым скрываемые, но всё-таки разногласия. Как-то Гена поделился с Сергеем Соловьёвым: ну что Марлен всё играет в эти игры с Мавзолеем. Лежит там сухофрукт — и пусть себе лежит, он же просто сухофрукт, и ничего больше. Это значит — не нравилось Шпаликову, что в фильме поневоле проступает нечто официозное, какая-то дань советской идеологии, пусть даже дань совершенно искренняя, лишённая конъюнктуры. Мавзолей ведь в самом деле появляется в кадре — в самом финале, где показана смена почётного караула у главной советской усыпальницы (после распада СССР караул у Мавзолея отменили). Но по всему фильму разбросаны и другие символические советские приметы. Например, в самом начале звучит мелодия уже упоминавшегося нами «Интернационала», то и дело слышен бой курантов Спасской башни Кремля, по радио передают то гимн Советского Союза (его обязательно включали по первой программе Всесоюзного радио в шесть утра и в двенадцать ночи как «подъём» и «отбой» для советского народа), то позывные на мотив известной песни Дунаевского и Лебедева-Кумача «Широка страна моя родная», которые возникали в эфире обычно перед какими-то важными официальными сообщениями. Коля Фокин декламирует про себя стихотворение Маяковского «Разговор с товарищем Лениным» (Сергей тоже декламирует Маяковского, но не это, а написанные на исходе жизни стихи о любви: «Уже второй. Должно быть, ты легла…» и др.).
Кажется, Шпаликов уже тогда был от официозно-советского — свободен. Именно от официозного, потому что советское, прикрытое иронией, эпатажем, — в нём всё же жило. Иначе он и не включился бы в «Заставу…». И ведь частично эти советские приметы есть в самом сценарии, а кое-что возникало и добавлялось по ходу работы.
«Скомпрометированное» партийным разгромом название «Застава Ильича» уступило место названию-«дублёру», которое казалось в идеологическом отношении нейтральным и облегчало фильму выход на экраны. Под этим названием фильм осенью 1964 года вышел наконец к широкому зрителю. Он был сильно порезан и стал короче минут на пятнадцать. Некоторые сцены пришлось переснимать. Особенно сильно пострадали, что и неудивительно, ключевые эпизоды. Сцена в музее потеряла самые острые кадры — полемику по поводу натюрмортов, которые «можно было бы есть». После хрущёвского разноса выставки в Манеже тема авангардизма была для партийных чиновников как красная тряпка для быка. Исчез, кстати, с экрана и Шпаликов, мелькнувший, как мы помним, в этой сцене. Сцена с отцом Ани, где проблема «отцов и детей» ощущалась особенно остро, была заметно смягчена и сведена к вопросу о том, «наплевать людям друг на друга», как утверждал старший участник спора, или нет. «Не может быть, чтобы он был прав», — размышляет в итоге Сергей. Конечно, конечно: человек человеку друг, товарищ и брат, как гласил принятый незадолго до того «Моральный кодекс строителя коммунизма», цитаты из которого можно было прочесть тогда на плакатах в любом городе.
Сильно «досталось» сцене поэтического вечера. В ее первой версии на экране появлялись сами поэты; теперь же поэты исчезли, остались только их голоса за кадром. Да и то не все: отсутствуют, например, стихи Евтушенко и песня Окуджавы. Видимо, чиновники решили, что произведениям этих сомнительных, с их точки зрения, поэтов в фильме не место. В этой сцене, вообще переснятой, главным стал не сам поэтический вечер, столь важный для передачи «оттепельной» атмосферы, а разговор оказавшихся на этом мероприятии Сергея и Ани, выяснение отношений между ними. Но для этого совсем не обязательно было «приводить» героев именно сюда: поговорить о том, насколько они нужны друг другу, они могли бы и на московской улице, где на них не шикала бы публика, которой они мешают слушать стихи. Пришлось переснять и финальную сцену — разговор Сергея с отцом. Здесь сменился даже исполнитель роли последнего. Вместо Евгения Майорова, который вообще не был актёром, работал на «Заставе…» супертехником (катал тележку с камерой, укладывал рельсы для неё), и оттого выглядел на экране в хорошем смысле слова «непрофессионально», — появился Лев Прыгунов, актёр вполне «советский», с «положительной» внешностью. Но главное — другой стала сама тональность сцены. Памятуя о высочайшем гневе вождя, режиссёр, конечно, убрал «крамольный» отказ отца давать сыну совет, хотя обмен вопросами о возрасте («Сколько тебе лет…») остался. Зато появилась новая фраза отца, произносящего её перед уходом: «Я тебе завещаю Родину, и моя совесть до конца чиста перед тобой…» Понятно, что такой пафос не прибавляет драматизма и проникновенности ни этой сцене, ни фильму в целом. Отец и сын обнимаются, Сергей произносит по-детски слезливо «Папа…», хотя в первом варианте это слово звучало как отчаянный выкрик, и объятий не было, и оттого всё было эмоционально сильнее.
О самой последней поправке — в привычном духе советского политического абсурда — Хуциев рассказал много лет спустя Татьяне Хлоплянкиной. В октябре был снят со всех своих постов Хрущёв. Картина к этому времени уже была принята и готова к премьере. Хуциева вызвали к начальству и потребовали вырезать те кадры первомайской демонстрации, где люди несут портреты теперь уже бывшего главы государства — того, кто как раз и громил этот фильм. На экране был и он сам — на трибуне Мавзолея, вместе с кубинским вождём Фиделем Кастро. Был — и исчез (а «за компанию» пострадал и команданте Фидель). По негласным советским меркам, развенчанный лидер оказывался «вне закона»: упоминать о нём было нельзя. Как обычно бывает в России в таких случаях, история начиналась заново: о том, что было до этого — нужно было забыть…
У фильма, однако, были не только недруги. Поддержал его журнал «Искусство кино», в четвёртом номере которого за 1965 год была опубликована солидная подборка откликов — большей частью положительных. Она открывалась авторитетным мнением кинорежиссёра Иосифа Хейфица: «В этом фильме сложное письмо. Он многопланов, как и подобает кинороману, в нём удивительно переданы атмосфера, воздух эпохи, её вещность, её аксессуары… Меня пугали пессимизмом этого произведения, его дедраматическим построением (то есть отказом от динамичного действия. — А. К.), прочими жупелами. Я их как-то не заметил…» Далее шли одобрительные слова сценариста Василия Соловьёва, режиссёров Юлия Райзмана и Василия Шукшина, актёра Сергея Юрского… Шукшин, кстати, написал тогда для газеты «Советская культура» положительную рецензию на фильм, но чем-то не показалась она начальству. Газета опубликовала её лишь четверть века спустя, в «перестроечном» 1988 году, когда Шукшина уже не было в живых.
Есть в журнальной подборке 1965 года и негативные отклики — критиков Ларисы Крячко и Николая Коварского. Крячко видит серьёзный изъян картины в том, что «гражданская, общественная тема» в ней «если и не притушена, то отодвинута на второй план», и поэтому, дескать, «чувство… пафоса, душевного возрождения, на которое претендуют авторы в конце фильма, не возникает». Похожие претензии к фильму она высказала в ту же пору на страницах журнала «Октябрь», который тогда был «цитаделью» советских ортодоксов. Но ведь гражданская тема вовсе не отодвинута в фильме на второй план. Она проходит красной нитью через обе серии, особенно через вторую. Да и говорить о том, что авторы «претендуют» на «чувство душевного возрождения» и что претендуют на него только в финале, — значит вдвойне лукавить. Во-первых, возродиться можно «из мёртвых», из некоего духовного провала, но этого в картине нет: поиск себя не есть провал и небытие. Во-вторых, этот внутренний поиск пронизывает всю картину, а не только финал. Коварский же упрекает Хуциева и Шпаликова в том, что они якобы «абсолютно игнорируют атмосферу интеллектуальности» и что в картине отсутствует «единство сценарного и режиссёрского замысла». Завершается же подборка развёрнутым положительным отзывом писателя Ефима Дороша, ставящим акцент на работу режиссёра и словно отодвигающим претензии оппонентов: «Хуциев с естественностью и смелостью художника обращается с любым материалом… Я всё время говорил только о Хуциеве, хотя фильм сделан многими — он отлично снят оператором Пилихиной, в нём талантливо играют актёры, и у режиссёра есть ещё соавтор — сценарист».
Подборка в «Искусстве кино» вызвала недовольство в партийных кабинетах. Ознакомившийся с отзывами о фильме председатель Госкомитета по печати Романов доносил в ЦК КПСС, что большинство из них написаны «в духе безудержного захваливания, подчёркивания исключительной значительности и противопоставления его (фильма. — А. К.) другим фильмам». Из этой депеши наверх мы узнаём, что публикация предназначалась для третьего номера (пока вопрос обсуждался, время прошло, и в третий она уже не попала) и что кое-чем в ней пришлось-таки пожертвовать. Был, оказывается, в подборке и отклик поэта Бориса Слуцкого, увидевшего в героях фильма «якобы типичных представителей московской молодёжи 60-х годов». Слово «якобы» под пером начальника советской печати говорит само за себя.
Поддержка журнала, может быть, повлияла на решение властей отправить фильм на Венецианский кинофестиваль 1965 года, где он получил специальную премию жюри; в том же году он получил награду «Золотая пластина» на Римском кинофестивале, и в Италии вышла книжка с текстом сценария в переводе Джованни Буттафава. Но дело могло вполне решиться и без этой подборки. Партийная номенклатура действовала безошибочно и не смущалась очевидным противоречием в своих действиях: разносить в пух и прах, заставлять корёжить картину, ставить ей палки в колёса — и ничтоже сумняшеся отправить её в Италию! Это значит — прекрасно понимали, что снято и над чем они куражатся. Хотя и в номенклатурных делах бывало так, что левая рука не ведала о том, что творит правая… Хуциев ездил в Венецию один: пригласили только его. О поездке Шпаликова речь не шла, но и без того невозможно представить, чтобы ему разрешили поехать в «капстрану». Такая поездка — дело ответственное: представлять на Западе Советскую страну нужно достойно. У того, кто не слишком «морально устойчив» и склонен к «анархизму», это вряд ли получится. Развод тогда уже был достаточным поводом для того, чтобы в такой «устойчивости» усомниться, а о пристрастии к спиртному и говорить нечего. Натворит ещё что-нибудь в этой Италии и скомпрометирует репутацию советского гражданина…
В изуродованном цензурой виде фильм просуществовал до перестройки второй половины 1980-х годов; правда, ни прокат, ни телевидение своим вниманием его в годы «застоя» не баловали. В ту пору власти вообще старались поменьше напоминать о хрущёвских временах, и это сказывалось на художественной жизни страны. Начавшийся в стране при Горбачёве процесс обновления затронул все сферы жизни, в том числе литературу и кино. В 1986 году прошёл Пятый съезд Союза кинематографистов, на котором были забаллотированы официозные кинодеятели — Сергей Бондарчук, Лев Кулиджанов, Станислав Ростоцкий. Руководство Союза обновилось, его возглавил режиссёр Элем Климов. Началось возвращение лент, долгие годы «лежавших на полке»: «Интервенции» Геннадия Полоки, «Истории Аси Клячиной…» Андрея Михалкова-Кончаловского, «Долгих проводов» Киры Муратовой…
Была восстановлена справедливость по отношению и к фильму Хуциева — Шпаликова. 14 мая 1987 года секретариат правления Союза кинематографистов утвердил решение комиссии по конфликтным творческим вопросам, в котором говорилось: «В связи с тем, что „Застава Ильича“ бесспорно является ключевым произведением начала 60-х годов, комиссия находит настоятельно необходимым провести работу по восстановлению авторской версии картины…» Прошло восемь месяцев. В январе 1988 года в первом номере журнала «Октябрь» появилась «Жизнь и судьба» Гроссмана, в первом номере «Нового мира» — «Доктор Живаго» Пастернака, на телевидении — серия передач к юбилею Высоцкого, а в Доме кинематографистов — «Застава Ильича» в своём первозданном виде, под старым названием, такая, какой её изначально представляли себе и создали Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов. В конце 1980-х, когда рушились вчерашние запреты, много говорили и писали о драматизме нашей новейшей истории. Но увидеть «Заставу» в январе 1988-го смог только один из создателей ленты — второго не было в живых уже 13 лет…
НА ПИКЕ СУДЬБЫ
Мир кино тесен. Тем более в нём всегда заметны яркие фигуры — как вершины, которые видно издалека. И которым хорошо «видно» друг друга.
В 1962 году Шпаликов познакомился с киноактрисой Инной Гулая, только что снявшейся в фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» и в одночасье ставшей знаменитой — хотя это была уже не первая её работа в кино. До этого девушка успела сняться в главной роли в антирелигиозном (при Хрущёве прошла новая волна борьбы с «культом») фильме «Тучи над Борском», и в одной из второстепенных ролей — в фильме «Шумный день». Инна была на неполных три года моложе Гены. Уроженка Харькова, она теперь жила в Москве с матерью, Людмилой Константиновной Генфер, воспитавшей дочь в одиночку, без отца. Жили трудно: мама зарабатывала как портниха, специально для этого окончила курсы кройки и шитья. Девочка мечтала стать актрисой. Поступала в театральное училище — неудачно. Стала заниматься в студии при Центральном детском театре, попасть в которую удалось благодаря маминому знакомству. Среди её клиентов была тёща известного футбольного тренера Константина Бескова, Елизавета Павловна. Она работала администратором как раз в Центральном детском театре. Две женщины сдружились, а Инна уговорила маму попросить подругу похлопотать за неё. Инна «показалась» в театре, и — судьба её решилась. Взяли её охотно, но поскольку студийцем она оказалась «внеплановым», то стипендии у неё не было. Выручала материально, конечно, по-прежнему мама. Инна занималась с удовольствием, прошла школу преподававших в студии режиссёров Марии Кнебель и Анатолия Эфроса. Кнебель была несколько лет даже главным режиссёром Детского театра и только что оставила эту должность, но в театре продолжала работать. Эфрос же был её учеником по ГИТИСу; вскоре он прославится на посту главрежа Театра им. Ленинского комсомола, который в ту пору ещё не называли Ленкомом, и особенно, уже позже, — на таком же посту в Театре на Малой Бронной. В жизни студии активно участвовала и известная актриса Валентина Сперантова, которую впоследствии, с появлением на телевидении ежедневной передачи «Спокойной ночи, малыши!», узнали дети всей страны.
В спектакле Эфроса по пьесе Александра Хмелика «Друг мой, Колька!» Инна Гулая вышла на сцену Детского театра. После студии было уже проще поступить в «Щуку», как называют в артистической среде Высшее театральное училище им. Щукина при Вахтанговском театре. В 1962 году Инна стала студенткой. Было у неё ещё в студийные годы и сердечное увлечение, героем которого оказался уже учившийся в той же «Щуке» будущий таганковский актёр Ваня Бортник и которое вспоминающая об этом киноактриса Валентина Малявина называет «школьным романом». Ну а теперь её героем стал Гена Шпаликов, талант которого она хорошо почувствовала. Может быть, за талант и полюбила.
Фамилия Инны — украинская, и её по законам славянских языков надо бы склонять: Гулая, Гулой, Гулую… Но так сложилось, что её обычно не склоняют; она от этого приобретает некий «иностранный налёт», и так, может быть, и лучше, ибо благозвучнее. Неспроста некоторые кинозрители воспринимали её как экранный псевдоним. Будем следовать этой «несклоняемой» традиции и мы.
Шпаликов называл Инну «моя шведская девушка». Она очень эффектно выглядела. Блондинка (1960-е годы вообще — «время блондинок»; блондинкой была и Наташа Рязанцева), открытое лицо, притягивающая взгляд улыбка — и в самом деле что-то скандинавское во внешности. И конечно — успех фильма, в котором она сыграла главную роль. Сюжет его мог бы показаться мелодраматичным, если бы за ним не стояла реальная драма поколения детей войны. Героиней картины была девушка Наташа, в военное время потерявшая родителей. О её истории случайно узнаёт фронтовик в прошлом, а теперь забулдыга и выпивоха Кузьма Кузьмич Иорданов (Юрий Никулин). Актёру здесь пришлось играть, вопреки привычному для него по работе в цирке комедийному амплуа, серьёзную роль. Судьба девушки задевает Иорданова, человека одинокого (жена умерла), за живое. Оказавшись перед угрозой выселения из Москвы как «антиобщественный элемент», Иорданов приезжает к Наташе в село и выдаёт себя за её отца. Чужие по крови, они становятся по-настоящему близкими друг другу, хотя складывается это новое родство не сразу и трудно: прежние житейские привычки Кузьмы Кузьмича дают о себе знать. У Наташи одновременно устраивается и личная жизнь, она выходит замуж, и в сюжете картины она раскрывается и как ещё почти ребёнок, и как уже взрослая женщина, которая оказывается в чём-то старше и мудрее Иорданова, меняет его отношение к жизни. Инна Гулая была в этой картине очень естественна; вспоминая много лет спустя о совместных съёмках, Никулин заметил, что она не играла роль, а жила в ней. Такое же ощущение остаётся и у зрителя. Замечателен эпизод первой встречи героев на станции, когда Наташа бежит навстречу только что сошедшему с поезда отцу: она косолапит, ноги как бы подворачиваются. Это невозможно сыграть, ибо так не бегают и не ходят — нужно переживать такое смятение, когда твои ноги тебе как бы неподконтрольны.
Фильм был включён в программу Каннского кинофестиваля, и Инна ездила туда. У «кинозвезды» не было даже более или менее подходящего наряда, пришлось одевать её «всем миром» — то есть усилиями родных и знакомых. Но об этом знали только они, а участники и зрителя фестиваля, любуясь «шведской девушкой» и русской красавицей в одном лице, не подозревали, каких усилий всё это стоило ей самой. Никакого приза в Каннах лента не получила, но это не помешало атмосфере общего восхищения юной актрисой. Шарма ей придавал и её собственный характер: рассказывают, что она была эксцентрична и капризна, порой даже на грани грубости. Творческого человека, который и сам был не лишён в поведении эксцентрики, она должна была привлекать. Шпаликову трудно было не увлечься ею. Он и увлёкся. Они, казалось, подходили друг другу и уж точно друг друга стоили. Звёздная пара.
Кстати, во время поездки во Францию Инна встречалась со знаменитым Марком Шагалом, и тот подарил ей свою литографию. Этот подарок «подольёт масла в огонь» шпаликовской шутливой привычки хвалиться перед друзьями якобы автографами знаменитостей (в реальности же, как мы знаем, самим же Геной и написанными).
Влюблённые стали встречаться, бродили по Москве, заходили в кафе. Когда курс Инны отправляли работать на овощную базу (кинозвезде — никаких скидок и поблажек!), Гена приходил провожать её. Инна познакомила его с подругами. Знакомству предшествовали её телефонные звонки и восхищённая фраза: «Я встретила тако-о-ого парня!» Но представиться маме Инны Гена не спешил — о его существовании Людмила Константиновна узнала из звонка Никулина: на первых порах после совместной работы актёры перезванивались и общались. Он и рассказал ей, что Инна встречается с Геной Шпаликовым: как-то они зашли к Никулиным, жившим на улице Фурманова (Нащокинский переулок) вдвоём. Можно догадаться, почему Гена, провожая девушку за полночь домой (Инна жила на Верхней Красносельской улице, дом 10, квартира 120) и заставляя её мать волноваться, в самом доме всё никак не появлялся: брак с Наташей официально ещё не был расторгнут, а Людмила Константиновна, которой воспитание дочери досталось очень тяжело и для которой в Инне была заключена вся жизнь, наверняка завела бы разговор на эту тему. Но когда однажды Гена позвонил, а Инны не было дома, мама вежливо дала понять, что хотела бы увидеть кавалера своей дочери. И тут уж пришлось «нанести визит». Они пришли вдвоём, Гена был в хорошем костюме и при галстуке. Носить костюм и галстук он, судя по разным фотоснимкам, вообще любил, и не только в официальных случаях, и этим отличался от многих кинематографистов своего поколения, предпочитавших в повседневности, а порой даже и в торжественных случаях, более демократичный стиль одежды: свитер, джинсы, ветровка. Гена же и на съёмочной площадке мог появиться, что называется, при параде. Но надо было знать Гену и не рассчитывать, что этот «парад» он весь вечер выдержит: за столом — не то от волнения, не то от того, что ещё до похода в гости успел выпить — рукавом того дорогого пиджака он зацепил им же и принесённый торт. То, что он был слегка под хмельком, Людмила Константиновна заметила, и это в глубине души её царапнуло: будет ли дочка счастлива с этим человеком?.. А в тот вечер Инна, чувствуя желание матери поговорить с Геной и «выяснить отношения», быстро увела его из дома.
Дело между тем и впрямь шло к семейной жизни, тем более что Инна уже была в положении. Надо было подумать о жилье. Инна с мамой жили в коммунальной квартире, в пятнадцатиметровой комнате, где разместиться новой семье было невозможно. Женившись на Инне, Гена прописался у неё в комнате, но в реальности новая пара жила, по-видимому, всё в той же арбатской комнате. Во всяком случае, Павел Финн вспоминает, что после ухода Наташи Шпаликов жил там ещё не менее года. Жил, возможно, уже с Инной. В пользу этого говорит и свидетельство Петра Тодоровского, которое мы приводили в главе «Песни под гитару»: режиссёр вспоминает, что бывал у Шпаликова в коммуналке, где тот жил с женой и ребёнком.
В 1963 году молодые супруги въехали в новую двухкомнатную квартиру в Черёмушках по адресу: улица Телевидения (позже она была переименована в улицу Шверника), дом 9, корпус 2, квартира 33. Поначалу названия улицы не было, и официально адрес был таким: Новые Черёмушки, квартал 10с (а номера корпуса и квартиры — те же). Черёмушки были грандиозным строительным «проектом» хрущёвской эпохи, когда государство решило расселить коммуналки и дать каждой семье по отдельной квартире. Идеал оказался, как и всякий идеал, недостижим, но коммунальные квартиры и в самом деле перестали быть массовым явлением, население вздохнуло свободнее. Шпаликов и Гулая получили квартиру благодаря Союзу кинематографистов, членом которого Гена уже, несмотря на свою молодость, был. Позже он вступит и в Союз писателей. Членство в творческих союзах давало кое-какие — иногда весьма существенные! — преимущества. Сказалась и известность Инны. Правда, «хрущёвки» были невесть какого качества, спешка и дешевизна сказывались на всем, и сегодня в шпаликовском районе их уже почти нет: они снесены, а на их месте выстроены многоэтажные «башни». Нет и «экспериментального» шпаликовского дома, в котором были какие-то необычные пластиковые полы. Синтетика тогда широко входила в жизнь, была даже в моде. «У меня из-под ног, — шутил Гена, — сыплются искры». Шутил он на эту тему и в стихах:
Живу весёлым, то печальным В квартале экспериментальном. Горжусь я тем, что наши власти На мне испытывают пластик.К тому же квартира была на первом этаже, прямо над бойлерной, дававшей дому тепло. Из подвала вечно доносился гул, было то жарко, то холодно. Но с милым, как известно, рай и в шалаше, а уж над бойлерной — и подавно. Спустя три года, в 1966 году, семья «расширит» свою жилплощадь — переедет на Большую Черёмушкинскую, дом 43, корпус 1, квартира 176 (ныне это дом 11, корпус 1). Хлопотала об этом Инна; Гена был в таких — и не только в таких — вопросах человеком не очень практичным. В новой квартире у супругов был даже телефон: не всякая семья могла в ту пору этим похвастаться. Теперь жилье было совсем другого качества — новый девятиэтажный кирпичный дом. Из названия улицы ясно, что находится он в том же районе, где Шпаликов и Гулая жили перед этим. Переезд был недальним.
Начало жизни в Черёмушках совпало — или почти совпало — с пополнением семейства. 25-летний Шпаликов стал отцом. 19 марта 1963 года у молодых супругов родилась дочь Даша. Пока Инна была в роддоме, Гена места себе не находил, писал Инне по несколько записок в день: «Инночка! Я тебя очень люблю, будь умницей, не волнуйся — я тут с ума схожу…» Момент был нервный ещё и потому, что после хрущёвского погрома в Кремле начались совещания-разносы. Пока Инна была в роддоме, муж успел побывать на таком партийном «промывании мозгов» на студии, о чём и сообщал ей в записке в смягчённой форме: дескать, нас (то есть его и Хуциева, авторов «Заставы…») ругали не очень… Заглядывал поочерёдно к друзьям, бывало, что и слегка навеселе. Зашёл к Марианне Вертинской, решив, что та по-женски оценит его переход в новое «качество». Ему хотелось, чтобы Марианна поехала с ним навестить Инну в роддоме. При нём были бутылка сухого вина и стихи, адресованные… не Инне, нет, а Марианне:
Выпей со мной, Марьяна, Из моего стакана. Пусть тебе снится Светлая Ницца И заграница, Марьяна. Кошки на мягких лапах, Твой знаменитый папа.Но адресат стихов лишь на первый взгляд кажется не подходящим для такого случая. «Знаменитый папа» Марианны и её младшей сестры Анастасии когда-то посвятил им песню «Доченьки», которую Гена, конечно, знал и которая вспомнилась ему в день появления на свет его собственной «доченьки». Вдвоём поехали к Инне, передали ей продукты и записку. Через 15 минут им принесли её ответ — листок, на котором было написано: «Идите к чёрту». Может быть, приревновала мужа к Марианне, которую он вдруг выбрал в спутницы похода к жене? Или просто «послала»? Обижаться на это было невозможно. Такова была ее экстравагантность. Она могла в разговоре употребить выражение и покрепче. Но сейчас друзья должны были разделить радость Гены, как же иначе? У Инны сохранились тёплые записки, переданные ей в палату Марленом Хуциевым и Андреем Тарковским. Дружившие с первой Гениной женой, они нашли общий язык и со второй.
Очень помог в те первые месяцы Андрей Михалков-Кончаловский, перешедший на последний курс режиссёрского факультета ВГИКа. Гена сдружился с Андреем, не раз бывал в элитной квартире Михалковых на углу улицы Воровского (Поварской) и Садового кольца, иной раз оставался там на ночлег и спал на раскладушке, ногами под большой чёрный рояль. Знаменитые родители Андрея терпели его друзей, хотя Сергею Владимировичу были явно не по душе табачный дым и пустые бутылки, если ребята не успевали их спрятать. Гена писал для дипломной работы Андрея как режиссёра сценарий под названием «Счастье» (у нас ещё будет повод вспомнить о нём). Шпаликов был так надёжен в дружбе, что Андрей бывал откровенен с ним как ни с кем другим из своего окружения. Кончаловский помог… с молоком для шпаликовской дочки. Молодые супруги сняли на лето дачу на Николиной Горе, поближе к друзьям, и Андрей, имея велосипед, ездил каждый день за молоком в село Успенское. Вспоминая о том времени, он полушутя называет себя кормильцем Даши Шпаликовой.
Своим именем дочь Гены и Инны была обязана Гениной бабушке Дарье Сергеевне, которой уже пять лет не было в живых. Он предложил назвать девочку в ее честь, хотя не настаивал, просто написал жене в роддом, что это имя ему нравится. Инна не возражала. Началась новая жизнь, требовавшая уже не «вздохов на скамейке», а забот и хлопот. Инна пыталась в первое время совмещать материнские обязанности с учёбой. Получалось это не очень удачно, и из училища ей пришлось уйти. Но поскольку человеком она всё-таки была уже профессиональным, опытным, актёрская жизнь её продолжалась, несмотря на отсутствие образования. Проработав недолгое время в Театре юного зрителя, Инна устроилась в Театр-студию киноактёра. Это был своеобразный актёрский «запасник», позволявший реализовать себя на сцене тем, у кого не было возможности постоянно зарабатывать в кино и кто при этом не служил ни в каком театре. Но после звёздного успеха фильма «Когда деревья были большими» это было, конечно, не то. Она вообще была создана для первых ролей. И ещё она была создана, как заметил тот же Юрий Никулин, для кино. Отсюда ощущение нереализованности, которое возникло во время работы в Театре киноактёра, хотя поначалу, посреди новых житейских забот, она об этом не очень задумывалась. С Никулиным, кстати, подружился, вслед за Инной, и Гена.
В пору своей семейной жизни Инна снималась немного. Фильм Кулиджанова создал ей амплуа наивной, непосредственной девочки, но взрослая женщина, мать семейства внутренне для такого амплуа уже не подходила. Роль бодрой и лучезарно-улыбчивой «комсомольской богини» Шуры Солдатовой, которую она сыграла в середине 1960-х в фильме Михаила Швейцера «Время, вперёд!» по одноимённому роману Валентина Катаева, со ставшей знаменитой музыкой Георгия Свиридова, — дела не спасала, ибо едва ли такое амплуа вообще было перспективным для талантливой актрисы. Для творческого роста ей были нужны серьёзные психологические роли. Гена переживал, считал, что в её невостребованности виноват он. Воспоминания окружавших их людей на этот счёт разнятся. Кинорежиссёр Сергей Соловьёв рассказывает, что Шпаликов уговаривал его снять Инну в каком-нибудь из его, Соловьёва, фильмов: дескать, ну что тебе стоит, сними её, она хорошая актриса. Актёр Александр Пороховщиков свидетельствовал, что Гена, напротив, очень ревниво относился к сотрудничеству Инны с другими кинематографистами — то есть не с ним самим, Шпаликовым. Как бы то ни было — а скорее всего, бывало и так и этак, — основания для чувства собственной вины у него, наверное, были. Неспроста очень близко знавший обоих супругов Швейцер в их семейных неурядицах винил именно Гену. Наступит момент, когда Шпаликов найдёт выход из этой ситуации — хотя и временный, лучше сказать — разовый. Но об этом — чуть позже.
Впрочем, порой дело было и в самой Инне. Её экстравагантность иногда шокировала режиссёров старшего поколения, привыкших к академизму. Как раз в пору самого начала совместной жизни Гены и Инны актриса пробовалась на роль Офелии в фильме Григория Козинцева «Гамлет», где главную роль играл Смоктуновский. Картина снималась на «Ленфильме», и надо было ехать в Ленинград на пробы, но оказалось, что «Гамлета» Инна не читала. Срочно требовался «Гамлет» в переводе Пастернака, чтобы почитать хотя бы в купе ночью. Шпаликов призвал на помощь Файта, тот прямо на вокзал к отходу поезда привёз текст из домашней библиотеки. Перевод был, правда, не Пастернака, а Лозинского, но выбирать не приходилось. Гена с Инной приехали в Ленинград, Инна пробовалась в паре со Смоктуновским превосходно, Козинцев был склонен взять её на роль, но когда он попросил её надеть на голову, по сюжету трагедии, венок, актриса вдруг заявила: «Она что, с ума сошла — надевать такое на голову?..» Козинцев был в шоке от невежества актрисы. Усилия Файта по срочной доставке шекспировского текста оказались тщетными. Офелию же сыграла в фильме Анастасия Вертинская. Не будем сравнивать двух актрис, но думается, что Офелия получилась бы из непосредственной в жизни и на съёмочной площадке Инны превосходная.
…Бывая иногда с Инной у Юрия Никулина, а ещё чаще — и с Инной, и без неё — у Паши Финна, Шпаликов обращал внимание на двухэтажный жилой дом на углу улицы Фурманова и Гагаринского переулка — покрашенный в жёлтый цвет, но уже и не совсем жёлтый, а облезлый и потрескавшийся, известный жителям этого района своим скандально-коммунальным бытом. Публика там обитала пьющая и неспокойная. И ничего особенного в этом доме не было, если не считать памятной мраморной доски, открытой несколькими годами раньше под торжественную речь уже знакомого нам Сергея Владимировича Михалкова, большого литературного начальника и автора гимна Советского Союза. Текст на доске гласил, что в этом доме жил друг Пушкина Павел Нащокин и что в гостях у него бывал сам Пушкин.
Гена обратил на эту доску внимание. И сочинил песню — шутливую, как и большинство его авторских песен, о которых мы говорили в отдельной главе, оставив эту песню «на потом». Теперь пришло время поговорить о ней.
Я шагаю по Москве, Как шагают по доске, Что такое — сквер направо И налево тоже сквер. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил, Горевал, лежал в постели, Говорил, что он простыл.Пушкин здесь, конечно, не жил, его друг князь Пётр Вяземский и подавно, но для автора песенки это значения не имело. В его поэтическом мире реальность то и дело окрашивается в шутливые интонации, такова его манера. Не жили — а могли бы и жить. Тем более что Вяземский — хороший поэт и критик — поизвестнее Нащокина, и дружил Пушкин с ним побольше и подольше.
Продолжение песни — вполне в духе характерного шпаликовского «абсурда»:
Кто он, я не знаю — кто, А скорей всего, никто. У подъезда, на скамейке Человек сидит в пальто. Человек он пожилой, На Арбате дом жилой. В доме летняя еда, А на улице среда Переходит в понедельник Безо всякого труда.Полная абракадабра: человек сидит в пальто, то есть на улице холодно — а в доме летняя еда; пассаж про то, что в доме еда, а на улице среда — это опять по принципу «в огороде бузина…». Ну а среда, «безо всякого труда» переходящая в понедельник — нелепый анахронизм. Этак всё может переходить во всё: понедельник — в субботу, а ноябрь — в апрель. Напомним шпаликовское же: «Как у нас под Курском соловьи поют, а мою невесту Клавою зовут».
После этого мы уже не удивляемся последнему четверостишию, где вместо Пушкина с Вяземским и «пожилого человека в пальто» появляется сам лирический герой, признающийся:
Голова моя пуста, Как пустынные места. Я куда-то улетаю, Словно дерево с листа.Абсурд приводит к забавной тавтологии («пуста, как пустынные места») и гротеску: герой обладает способностью «летать». В чём же смысл этой песенки? В бессмыслице? Да, но бессмыслица имеет смысл — во всяком случае, по отношению к Пушкину точно. Не от этих ли стихов 1963 года берёт отсчёт «игра в классики» в нашем искусстве позднесоветских десятилетий, означавшая низведение бронзовых фигур с пьедесталов и живое общение с ними как с современниками? Если говорить о Пушкине, то вспоминается, скажем, окуджавовское стихотворение «Счастливчик Пушкин» или книга «Абрама Терца» (Андрея Синявского) «Прогулки с Пушкиным». Впрочем, тут и у самого Шпаликова источник просматривается — стихотворение Маяковского «Юбилейное», в котором поэт призывал избавить Пушкина от «хрестоматийного глянца» и беседовал на ночном Тверском бульваре (бронзовый опекушинский Пушкин стоял тогда именно там) с его памятником. И, наверное, не обошлось без обэриутской традиции, без влияния шутливых хармсовских «Анекдотов из жизни Пушкина» («Как известно, у Пушкина никогда не росла борода… Пушкин любил кидаться камнями…» — и всё в таком же духе).
Мы неспроста заговорили подробно об этой песне. Кажется, именно она стала зерном новой — и как покажет время, самой знаменитой — сценарной работы Шпаликова. Речь идёт о фильме, название которого подсказано первой строкой этой смешной песенки: «Я шагаю по Москве».
В предыдущей главе мы обмолвились, что по ходу долгой цензурной тяжбы с «Заставой Ильича» у Шпаликова появился новый замысел. Это и был замысел фильма «Я шагаю по Москве», который собирался снимать режиссёр Георгий Данелия. Данелия был старше Гены на семь лет. Архитектор по первому своему образованию, он окончил в 1959 году Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Союзе кинематографистов и полностью посвятил себя кино. К началу сотрудничества со Шпаликовым он успел снять две короткометражки и два полнометражных фильма, из которых наибольшую известность получил «Путь к причалу» по рассказу Виктора Конецкого. Фильм часто упоминали ещё и в связи с написанной для него и прозвучавшей с экрана «Песней о друге» («Если радость на всех одна…») Андрея Петрова на стихи Григория Поженяна, ставшей настоящим эстрадным «хитом» — хотя тогда такого слова в нашем лексиконе ещё не было. В будущем же Данелия станет одним из самых знаменитых отечественных режиссёров, большим мастером комедийного жанра, в том числе и в лирическом его варианте: снимет «Афоню», «Мимино», «Осенний марафон»… Сам режиссёр считает, что именно с фильма «Я шагаю по Москве» и начался в нашем кино жанр лирической комедии. После просмотра в Госкино между режиссёром и чиновниками произошёл примерно такой диалог: непонятно, о чём фильм — это комедия — но она не смешная — а это лирическая комедия — ну тогда так и напишите: лирическая. Так и осталось: лирическая комедия. Очень точно.
Идея фильма принадлежала уставшему от мытарств с «Заставой…» Шпаликову — с ней он и пришёл к Данелии, проницательно почувствовав в режиссёре будущего мастера именно этого жанра. Правда, замысел свой Гена изложил пока весьма туманно: сильный дождь в городе, идущая босиком под дождём девушка и едущий следом за ней велосипедист. Такая сцена (правда, без дождя) была у Шпаликова ещё в «Причале», и она, видимо, прочно сидела в его сознании, ему хотелось найти ей применение. Никакого сюжетного развития пока не было, но Гена обещал придумать. И придумал.
Работали над сценарием в болшевском Доме творчества, где пару лет назад Гена напел Галичу свои песенки про заборы и про лошадь с грудной жабой, а Галич их досочинил. Музыканты говорят: играть в четыре руки. Шпаликов и Данелия писали в две машинки. Гена сочинял текст эпизода и отдавал режиссёру. Поскольку текст был не всегда «киногеничным», а скорее литературным, в жанре лирической прозы, Данелия его сокращал, процеживал через сито будущего экранного действа и расставлял знаки препинания, которых у Шпаликова обычно не было. Тот на такие мелочи внимания не обращал. Сокращать поэтичный шпаликовский текст было жаль, но приходилось. Что делать, кино — искусство не то что жёсткое, а просто другое. Иногда Гена пропадал на пару дней, потом появлялся с виноватым видом и оправдывался: мол, ребята ехали в Москву, а мне как раз нужно было по семейным делам, прости, что не позвонил — хотел, да забыл…
Первоначальный вариант сценария будущей картины был готов уже в 1963 году и назывался «Верзилы» (в другом варианте, относящемся к этому же году, сценарий называется «Приятели»). Сцена, с которой началась для Гены работа над этим сюжетом, там в самом деле была: «А по самой середине улицы шла девушка. Она шла босиком, размахивая туфлями, подставляла лицо дождю… Внезапно появился парень на велосипеде. Мокрый насквозь, в кедах, улыбается. Он медленно поехал за девушкой». И в окончательном варианте сценария, и в самом фильме эта сцена, с замечательной лёгкой лирической мелодией Андрея Петрова (Данелия вновь обратился к нему), есть. Только добавился ещё зонтик, который велосипедист держит в руке, норовя прикрыть им всё равно уже сплошь мокрую девушку от дождя. Сцена стала ещё лиричнее. Почерк Шпаликова виден здесь сразу: живая, «импрессионистичная», молодая Москва, лишённая своей советской официальности. В лёгкой лирической комедии это ощущается в не меньшей степени, чем в большом драматичном кинополотне Марлена Хуциева. Сцена дождя — и, конечно, не только она — поэтично снята Вадимом Юсовым, одним из лучших кинооператоров своего поколения, к тому времени успевшего поработать с Тарковским в короткометражке «Каток и скрипка» и в прославившем режиссёра фильме «Иваново детство». На экране то появляется снятая с вертолёта панорама города, то мелькают ноги прохожих с «обувью крупным планом», то выплывает из-под речного моста байдарка с гребцами, с этого же моста и снятая (и вновь вспоминается «Аталанта»), то движется поток машин, вызывающий в сознании зрителя ассоциацию с известной картиной Юрия Пименова «Новая Москва». Кстати, и улица на этой съёмке та же, что и у Пименова, — Охотный Ряд (в ту пору — проспект Маркса). И машины на экране едут то от зрителя, то, напротив, к нему, как бы прямо на камеру, установленную прямо посреди проезжей части улицы. Хороша в фильме и вечерняя столица: вереница огней машин на заднем плане (со временем это станет штампом вечерних и ночных съёмок, но тогда смотрелось как находка), а на переднем — памятник Маяковскому, голова поэта. Такие ракурсы — свободные, внешне лёгкие и непринуждённые — для советского кино пока непривычны. Позже камерой Юсова будут сняты «Андрей Рублёв» и «Солярис» Тарковского, «Не горюй!» Данелии, «Чёрный монах» Ивана Дыховичного… Большой мастер, так счастливо оказавшийся в одной команде с Данелией и Шпаликовым.
И ещё. Кино всегда фиксирует зримые приметы времени и является поэтому, при всей своей постановочности, визуальным документом. Но в этом фильме, сюжет которого откровенно погружён в живую московскую реальность, таких примет особенно много. Советская настенная мозаика с фигурами «рабочих и крестьян»; концерт на открытой парковой веранде (огромный «зал» при полном аншлаге!); танцы во дворе под радиолу, играющую в открытом окне квартиры; «Победы» и «Москвичи»; популярные кеды (кроссовок ещё не было); самодельные шапки из газеты, в которых не только красили стены и потолки, чтобы не испачкать волосы и лоб, но порой не стеснялись и выйти в жаркий день на улицу; уличные автоматы с газированной водой, уличные же телефоны-автоматы, для которых, если хочешь позвонить, нужно иметь двухкопеечную монету, не то придётся просить прохожих разменять… Теперь уже ушедшая натура.
Что же касается автора «Верзил» (вернёмся пока к ним), то сценарист позволил себе комедийный тон даже по отношению к Красной площади. Один из юных героев (сейчас мы их назовём) вмешивается в рассказ экскурсовода и переводит внимание туристов с собора Василия Блаженного на ГУМ: мол, вот главная достопримечательность — магазин, «яркий пример тяжеловесно-вычурной псевдорусской архитектуры конца XIX века». За что экскурсовод и «посылает» непрошеного помощника куда подальше. Вообще в сценарии немало характерной шпаликовской «экстравагантности». Например, лейтмотивом сюжета становится… гусь, купить которого к обеду поручает одному из юных героев мать. Точнее, не сам гусь, а разные перипетии, в которые таскающие его по Москве герои попадают. Кстати, этот сюжетный мотив мог иметь своим источником уже упоминавшуюся нами кинокомедию Барнета «Дом на Трубной». Там героиня, попавшая в Москву деревенская девушка, таскает по улицам утку, привезённую в качестве гостинца для дяди, и спасает её, вырвавшуюся из рук и едва не попавшую под трамвай. А в самом начале шпаликовского сценария появляется ещё один представитель фауны — «большой серый заяц», сидящий «у обочины дороги, чтобы всем, кто его увидел, стало хорошо и спокойно на душе».
Главными героями «Верзил» были два парня — простой (в хорошем смысле) и основательный сибиряк Володя Ермаков, монтажник и начинающий писатель, оказавшийся в Москве проездом, и его случайный московский знакомый, рабочий-метростроевец, балагур Колька. При случае он может и сболтнуть лишнего, но это всё равно не лишает его юношеского обаяния и не способно по-настоящему рассорить ребят. Сделать его метростроевцем — это был хитрый ход авторов картины, столкнувшихся с «идеологическими» возражениями: мол, почему у вас советские молодые ребята, вместо того чтобы работать на производстве, болтаются весь день по городу. А потому и болтаются, что один из них — приезжий (чистое алиби), а другой работает по ночам, а днём — свободен.
Кстати, ещё раньше у Шпаликова была идея сценария под названием «Как убить время», где двое парней «убивали время» следующим образом: по валяющимся на земле остаткам воблы отыскивали пивной ларёк, а ещё оказывались в парке культуры и ввязывались в драку из-за девушек с двумя юными грузинами. Конечно, у этого «сомнительного» сюжета шансов дойти до экрана не было. Но некоторые из сюжетных мотивов сценария «Как убить время» отзовутся в картине Шпаликова и Данелии.
Собака на улице порвала Володе брюки. К тому же его московские родственники, на которых он рассчитывал, уехали на дачу, и он вынужден попросить Кольку оставить у него пока свои вещи и «укрыться» в его квартире в ожидании, пока Колькина сестра Катя зашьёт их. Но сначала они отправляются на поиски хозяйки собаки, которая, оказывается, молилась в это время в церкви. «Пока вы там богу молитесь, эта тварь людей кусает!» — возмущается Колька. В ответ на тёткины извинения: «Простите, пожалуйста» — Колька отвечает: «Бог простит». Это звучит, конечно, как насмешка. Насмешка над верой вполне вписывалась в идеологию атеистической советской эпохи, но само перенесение сцены в храм (в фильме мы не только видим церковный интерьер, но и слышим голос священника) неожиданно и смело. Всё-таки это комедия не сатирическая, от которой можно было бы ожидать выпадов в адрес «опиума для народа», а лирическая. Здесь же подразумевалась еще и уличная сцена разбирательства, кто виноват в происшедшем: «Он её дразнил, сама не укусит»; «Если каждая собака начнёт людей кусать, вся Москва взбесится»… Но в фильм эта сцена не вошла — возможно, по причине слишком заметного сходства с чеховским рассказом «Хамелеон». Впрочем, Шпаликов, большой шутник, мог выстроить так сцену сознательно, как бы пародируя хрестоматийный сюжет. К Чехову же он, как мы ещё увидим, вообще питал особую склонность (о «многоуважаемом шкафе» из «Вишнёвого сада» речь у нас уже шла).
В ГУМе ребята знакомятся с Алёной, продавщицей грампластинок (помните в шпаликовской песне про пиротехника: «Скажут девочки в ГУМе…»?). Компания проводит день в Москве, Володя даже попадает в неприятную историю — по нелепому обвинению оказывается в милиции, хотя на самом деле он пытался задержать жулика. Всё распутывается благодаря находчивому вмешательству Алёны: справедливость восстановлена, истинный злоумышленник оказывается там, где ему и положено быть, а Володя отпущен. Кстати, эпизод коллективной погони за вором под соответствующую ироничную мелодию Петрова предвосхищает своей эксцентричностью знаменитые «пробежки» героев комедий Леонида Гайдая. В итоге явно симпатизирующие друг другу Володя и Алёна, в этот же день порвавшая отношения с другим молодым человеком, малоприятным физиком Митей, должны расстаться, ибо сибиряку пора на самолёт.
С Митей в «Верзилах» связана сцена, в сценарии «Я шагаю по Москве» — и, естественно, в фильме — уже отсутствующая (впрочем, в фильме Мити нет вообще). А сцена любопытна тем, что навеяна, похоже, одной из первых песен Окуджавы. Оказавшись с ребятами в ресторане (как-то всё просто было в «оттепельные» времена: простые рабочие парни могли запросто побывать в ресторане), Алёна видит своего «бывшего» с женщиной (это всё происходит, ещё раз подчеркнём, в течение одного дня!) и в компании друзей, «окружённой сразу двумя официантами». Элита гуляет. Глядя на них, Колька напевает: «А мы себе вразвалочку, покинув раздевалочку… идём к себе в отдельный кабинет…» Это и есть песня Окуджавы «А мы швейцару: Отворите двери!..», где соединяются интеллигентская неприязнь к «мещанству», о котором тогда много и с осуждением говорили («Здесь тряпками попахивает так… / Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы»), с мотивами уличного фольклора («Я не любитель всяких драк, / но мне сказать ему придётся, / что я ему попорчу весь уют…»).
Названия «Верзилы» и «Приятели» по ходу работы отпали. В первом из них слышался негатив по отношению к героям, а их образы должны были быть всё же лирически окрашены. Второе же было слишком нейтральным, ни о чём зрителю не говорившим. Окончательное название — «Я шагаю по Москве» — звучало как динамичное, молодое, отвечающее духу времени и духу сюжета. Гусь с зайцем по ходу работы из сценария исчезли. Зато начиная с промежуточной версии сценария («Приятели») появился ещё один персонаж: незадачливый молодожён и одновременно призывник Саша, то просящий в военкомате отсрочки ради медового месяца (точнее, просит за него не лезущий за словом в карман Колька), то, наоборот, порывающийся уйти в армию из-за ссоры с невестой-женой Светой прямо в день свадьбы. Его прообраз — стриженый парень, случайный встречный Володи и Кольки, разговаривающий по уличному телефону-автомату и, судя по его фразам, собирающийся жениться — был-таки в «Верзилах», но там у него не было ни имени, ни своей сюжетной линии, он лишь мелькнул однажды в тексте. У Саши всё утрясётся и будет хорошо — хотя и не без вмешательства в его личные дела Кольки. Саше Шпаликов придумал забавное на первый взгляд отчество: «Индустриевич». Когда майор в военкомате его произносит, то у него даже возникает лёгкая заминка. Между тем имя Индустрий в самом деле существовало. Его получил при рождении, например, будущий режиссёр Таланкин, вместе с которым Данелия снимал в 1960 году фильм «Серёжа». Затем их пути разошлись. Имя Таланкин сменил, стал Игорем, но не в него ли метит очередная шпаликовская шутка?
Короче говоря, компания своим составом и своей типажностью напоминает троицу (плюс девушка) из «Заставы Ильича». В «Верзилах» образ Володи — как и образ Сергея в «Заставе…» — имел автобиографические черты: Володя был сиротой и воспитанником Суворовского училища. Теперь Шпаликов эти черты убрал: автобиографизм непременно вёл бы к тому, что герой стал бы сильно выделяться рядом с другими, а «задвигать» на второй план Кольку с Сашей автору, наверное, не хотелось.
На главные роли в картине были нужны молодые актёры. На роль Володи Ермакова Данелия пригласил актёра Алексея Локтева, недавно окончившего ГИТИС и теперь работавшего в Московском театре им. Пушкина. Роль сразу принесла ему известность, но дальнейшая актёрская судьба Локтева сложится трудно и противоречиво. Сниматься он будет немного, всё больше в ролях второго плана. Ролей, равных сыгранной им у Данелии, у него уже не появится. Позже он переедет в Ленинград, затем вернётся в Москву, будет пробовать себя в драматургии, в какой-то момент уйдёт в религию, станет прислуживать в храме в подмосковных Мытищах. Погибнет в 2006 году в автокатастрофе в Благовещенске во время кинофестиваля «Амурская осень», оставив ощущение неполной реализованности таланта. Так получилось, что образ Володи Ермакова остался главным памятником актёру Алексею Локтеву.
На роль Кольки Шпаликов предложил режиссёру восемнадцатилетнего Никиту Михалкова, будущую знаменитость. В то лето Никита только собирался поступать в Щукинское театральное училище. Михалков вполне может считать Шпаликова своим крёстным отцом в кинематографе. Гена, как мы помним, дружил со старшим братом Никиты, Андреем, был вхож в дом Михалковых. Вот и юный Никита ему приглянулся. Претендент на роль поначалу показался Данелии совсем уж «маленьким», но Никита быстро «подрос» — втянулся в работу и вскоре осмелел настолько, что самонадеянно затребовал (как потом выяснилось, с подсказки брата) повысить оплату своего съёмочного дня с восьми рублей до двадцати пяти. Мол, съёмки уже идут, часть материала отснята, никуда не денутся, заплатят. В то время и восемь рублей были суммой очень неплохой, особенно для начинающего, а уж двадцать пять… Такую ставку получали самые знаменитые актёры. Но коса нашла на камень: Данелия оказался человеком стойким и дал понять, что будет пробовать другого актёра. Да если бы даже он и поддался Михалкову — надо представлять неповоротливую советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой волокитой — скорее всего, безрезультатной, и уж точно затяжной — это могло бы обернуться. В общем, пришлось Никите пока «довольствоваться малым», большие гонорары ожидали его, будущего автора «Утомлённых солнцем» и «Сибирского цирюльника», впереди. В фильме «Я шагаю по Москве» он обаятелен своей непосредственностью и разговорчивостью. Это его герой обыгрывает «пушкинскую» тему, прозвучавшую в шпаликовской песенке о Пушкине и Вяземском. Отхлёбывая чай из чашки, он показывает Володе за окно и говорит: «А вот в том доме когда-то Пушкин жил» (в тексте «Верзил» в этом месте была прямая автоцитата: «Здесь когда-то Пушкин жил»). На вопрос Володи: «А теперь кто живёт?» — Колька не моргнув глазом отвечает: «Родственники». И даже показывает гостю одного из них — якобы пушкинского «правнука», который «края (то есть крайнего на футбольном поле игрока. — А. К.) играет в „Торпедо“». На Колькин свист в окне напротив появляется темноволосый кучерявый парень, у которого, оказывается, нога не в порядке: врачи «мениск подозревают». «Похож» (в смысле: на Пушкина), — говорит Володя. Типично шпаликовская шутка, включая «мениск». Здесь чувствуется своеобразный автобиографизм: мы помним, что сам автор сценария повредил в военном училище колено.
В роли Саши снялся ровесник Михалкова Евгений Стеблов, студент Щукинского театрального училища, однокурсник Инны Гулая. Это была его первая работа в кино. Будущее амплуа Стеблова — герой-интеллигент, творческий человек. В таком качестве он появится в фильмах «Урок литературы», «Раба любви» (кстати, это картина Никиты Михалкова — режиссёра), «Ужин в четыре руки»… Непосредственный и немного нескладный, сначала с пышной шевелюрой, затем почти «под ноль» подстриженный перед призывом в армию — таков его герой в фильме «Я шагаю по Москве». Съёмки шли вразбивку — то более ранняя по сюжету сцена, то более поздняя, то опять ранняя. Ждать, пока свои волосы снова отрастут, некогда. Как тут быть? Евгению сшили парик, аналогичный его собственной причёске, в нём он и снят в нескольких сценах. Зритель «обмана», конечно, не замечает. Шпаликову нравилась игра Стеблова, он даже говорил ему, что тот играет в духе Чаплина. Ну, может быть, на Чаплина и не очень похоже, но сравнить героя с любшинским «женатиком» из «Заставы Ильича» вполне можно, и мягкий комический элемент в его роли налицо.
Главная женская роль — юной продавщицы грампластинок Алёны — досталась студентке актёрского факультета ВГИКа Галине Польских, успевшей до этого сняться в нескольких картинах, в том числе в главной роли (семиклассницы Тани) в фильме «Дикая собака динго» по одноимённой повести детского писателя Рувима Фраермана. У этой миловидной блондинки, которую Шпаликов, наверное, тоже мог бы назвать, по её внешнему типажу, «шведской девушкой», впереди было большое актёрское будущее. Правда, преобладание в её обширном (примерно полторы сотни ролей) репертуаре кинообразов положительных «простых русских женщин» затрудняет выбор ролей вершинных — наиболее ярких и запоминающихся. С цветом волос возникла было проблема. Данелия хотел видеть героиню брюнеткой, и её тут же перекрасили. Посмотрев на темноволосую Галину, режиссёр сказал: нет, не годится, оставим как было. И она вновь стала блондинкой. Как бы то ни было, Алёна в фильме Шпаликова и Данелии симпатична не только Володе Ермакову, но и зрителю. Сама актриса спустя несколько десятилетий вспоминает, что «особой актёрской игры» у неё там не было. Думается, она скромничает: игра была. Галина тонко передала зарождающийся интерес своей героини к незнакомому молодому человеку, который она по скромности стесняется проявить открыто, и её растерянность в тот момент, когда им всё же нужно расстаться…
Фильм замечателен не только главными ролями и их исполнителями. Хороши и второстепенные. Мать Кольки играет Любовь Соколова, в ту пору жена Данелии, а вообще «мама номер один» советского кинематографа: это её привычное амплуа, в ту пору только складывавшееся. Сестру Катю — Ирина Мирошниченко, будущая звезда театра и кино, а пока студентка Школы-студии при МХАТе. Юная Инна Чурикова предстала в роли девушки деревенского вида в парке, неожиданно победившей в конкурсе, «кто быстрее и лучше нарисует лошадь», получающей в подарок петуха в клетке и собственным «успехом» слегка напуганной. Ролану Быкову досталась комическая роль посетителя парка, который, кстати, насвистывает мелодию «Песни о друге» из фильма «Путь к причалу» (своеобразная режиссёрская «автоцитата») и которому кажется, что молодёжная компания Володи и его друзей его преследует и «гипнотизирует». По правде сказать, озорник Колька и впрямь пообещал ради шутки своим спутникам это сделать, и его «целеустремлённый» взгляд смутил бы любого прохожего, а не только этого забавного гражданина. Гражданин, кстати, своей комедийной типажностью предвосхищает комиссара Жюва в блистательном исполнении Луи де Фюнеса из трилогии о Фантомасе, которая тоже уже снимается во Франции, но которую советские зрители увидят позже. Лев Дуров, тоже комик, — дежурный милиционер в отделении, которому герой Быкова совершенно заморочил голову. Ирина Скобцева (будущая Элен Курагина из снятой её мужем, Сергеем Бондарчуком, экранизации «Войны и мира») — прогуливающаяся по парку эффектная молодая дама с зонтиком, которую Колька просит позвонить строгим родителям Алёны и сказать им, что Алёна «у подруги». Та и звонит: «Алёна у меня. Что делаем? Ничего не делаем, книгу вслух читаем». Совершенно «антипедагогично» с точки зрения взрослой женщины. Но как хороша, и вечер чудесный, и голос обворожительно-обволакивающий…
Владимир Басов играет полотёра в доме писателя Воронова, к которому приходит для литературного разговора Володя — и заодно увязавшийся с ним Колька, якобы «начинающий поэт». Полотёр по-хлестаковски выдаёт себя за хозяина (которого гости ведь не знают в лицо) и с важностью, приправленной изрядной долей цинизма, беседует с ними о литературе, пока не появляется сам писатель. Полотёр быстро покидает писательское кресло («Здрасьте, Алексей Петрович, а я вот тут с молодёжью беседую, пока полы сохнут») и как ни в чём не бывало возвращается к своим прямым обязанностям, напевая себе под нос знаменитое в ту пору «Если я заболею, к врачам обращаться не стану…». Теперь становится ясно, почему в момент, когда ребята вошли в квартиру, он потребовал от них вытереть ноги.
У этой сцены была автобиографическая подоплёка. Когда Гена и Инна привезли новорождённую Дашу домой, с ними оказался Данелия. В подъезде уборщица мыла лестницу. Творческие люди даже в такие «бытовые» моменты думают об искусстве. Данелия вполголоса, чтобы не сбивать радость семейного события, говорит Гене: «А давай у нас в фильме будет полотёр». Пока женщины — Инна и её мама — возились с пелёнками и с тарелками, мужчины, «чтобы не мешать», вышли на лестницу и тут же, на пустой коробке из-под торта, купленного по случаю пополнения семейства, набросали эту забавную сцену. Такая спонтанность — вполне в духе Шпаликова, в самом деле умевшего работать в любой обстановке, даже на лестничной площадке в день возвращения жены с ребёнком из роддома.
Едва ли не самой знаменитой сценой недолгого (всего час и 18 минут; это не то что «Застава Ильича»…) фильма стал финал. В «Верзилах» Володя и Алёна расставались в аэропорту. В картине же они прощаются в метро (на экране легко узнаётся станция «Университет»), и такая замена делает прощание более быстрым и на вид как бы будничным. Володя звал Алёну в свой Качинск, заверяя, что торговать пластинками она сможет и там: магазин они для неё построят. Алёна ничего ему не обещает. И едва ли поедет, несмотря на свою симпатию к сибиряку. Надо прощаться. И вот Володя без долгих объяснений запрыгивает в вагон в тот самый момент, когда дверь уже закрывается. Но как раз благодаря такой спонтанности прощание — ведь ясно, что навсегда! — сильнее «цепляет» зрителя. Но каким иначе оно может быть в присутствии «третьего лишнего» — Кольки, который теперь, после отъезда Володи, извиняется перед героиней, что не может её проводить: ему нужно ехать на работу. Колька направляется к эскалатору и напевает. «Молодой человек, — останавливает его дежурная, — ты чего кричишь?» «Я пою», — легко, без всякой обиды, отвечает он. Она окриком «гражданин!» возвращает его назад с едущего на выход эскалатора, и зритель думает: сейчас оштрафует парня за нарушение общественного порядка. И вдруг слышит: «Спой ещё». Нам кажется, одной этой сцены достаточно, чтобы почувствовать дух «оттепели» — ощущение свободы, когда можно петь в метро, и строгие дежурные, хотя и находятся «при исполнении», разделяют твоё «песенное» настроение, благосклонно слушают и даже просят спеть ещё. Понимаем всю условность кино, где вообще нередко поют — дома, на улице, за рулём, и всё-таки… Всё-таки можно. Это как миролюбивый милиционер в фильме «Трамвай в другие города». Мы теперь знаем, что это ощущение было ненадёжным и недолгим. Но едва ли это чувствует беспечный юный парень, то стоящий спиной к камере на поднимающемся эскалаторе, то нетерпеливо бегущий по нему вверх, наконец, машущий рукой оставшейся внизу женщине в форменной одежде и нам, зрителям, и исчезающий из вида под финальные титры, первый из которых и напоминает нам: «сценарий Геннадия Шпаликова».
Бывает всё на свете хорошо, В чём дело, сразу не поймёшь, — А просто летний дождь прошёл, Нормальный летний дождь. Мелькнёт в толпе знакомое лицо, Весёлые глаза, А в них бежит Садовое кольцо, А в них блестит Садовое кольцо И летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, Но я пройти ещё смогу Солёный Тихий океан, И тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, Пока не знаю, с кем, Но если я по дому загрущу, Под снегом я фиалку отыщу И вспомню о Москве.Вокальные данные у Михалкова, конечно, не ахти какие, но здесь они и не нужны. Его исполнение хорошо именно тем, что оно — любительское. Спеть так мог бы любой московский — и не обязательно московский — парень. И так спеть мог бы сам Шпаликов — но убедиться в этом мы не можем, потому что авторской записи песни, судя по всему, не существует. Но как знать — вдруг когда-нибудь обнаружится…
История этой песни уже обросла легендами или полу-легендами. Есть разные версии её появления на свет. Наталия Рязанцева вспоминает, как однажды (дело было уже после развода) встретила Шпаликова в Замоскворечье, в Лаврушинском переулке возле Третьяковки, у кассы РООАП (Российского общества охраны авторских прав). Они оба получали в этот день какие-то деньги. Встречались они там вообще не раз. Для Шпаликова день выплат был обычно или днём отдачи долгов (если гонорары выпадали хорошие), или делания долгов новых (если наоборот). Так вот, Гене в этот день как раз нужно было ехать на «Мосфильм», где его давно уже поджидал метавший громы и молнии Данелия. Вышли все сроки написания песни для фильма «Я шагаю по Москве», уже была готова мелодия Андрея Петрова (она звучит и в начальных титрах картины, но без слов), а текста песни всё ещё не было. В общем, ехать было не с чем, и Гена просто прогуливался с бывшей супругой по улице. Рязанцевой запомнилась ветреная погода и пыль. То ли накануне, то ли прямо сейчас Гене пришли в голову непритязательные строчки про тундру, тайгу и фиалку, он пропел их Наташе и спросил: ну как? совсем ерунда? Она в ответ: пока в такси доедешь, придумаешь что-нибудь получше. Но в такси ничего лучшего не придумалось. Приехал на «Мосфильм» с тем, что было.
Евгению Стеблову дело запомнилось иначе. Он пишет в своих мемуарах, что Шпаликов сочинил текст песни сидя в зале ресторана «София» на площади Маяковского (теперь — Триумфальная) во время съёмок эпизода, где Саша и Колька проходят под автомобильной эстакадой. Шпаликов наблюдал за этим через окно — и у него стали складываться строчки, которые он тут же записал на попавшемся под руку листе — едва ли не на меню. Кстати, Стеблов же вспоминает, что песня должна была звучать не только в финале картины, но и в сцене, в которой его герой впервые попадает в дом Кольки. Там планировалось пение не под инструментальный ансамбль, как в финале ленты, а под гитару. То есть песня мыслилась как лейтмотив картины, скрепляющий её сюжет — ведь мысль о том, что «бывает всё на свете хорошо», звучит и в самом сюжете фильма, начиная с самой первой сцены (разговор Володи с незнакомой девушкой в аэропорту), а заодно невзначай напоминает о монтановском «Се си бон» (отозвавшемся, как мы помним, и в «Заставе Ильича»). И если тебе хорошо, то даже раздражённые реплики вредного соседа по вагону метро («Не напирай… Ну стой, говорю, спокойно!»; есть в фильме такая сцена) вы будете встречать с беззаботной улыбкой на лице. Но сцену с пением под гитару Данелия из фильма убрал. Михалков же вспоминает, что поначалу он должен был петь не ту песню, которую в итоге спел, а «Я шагаю по Москве, как шагают по доске…» — то есть «авторскую» песню Шпаликова, с «Пушкиным» и «Вяземским», с «человеком в пальто» и «летней едой в доме». Но всё-таки это было бы, пожалуй, уже чересчур, слишком «по-шпаликовски» — и явно не для советских худсоветов. Нужна была песня более нейтральная, не столь уязвимая в цензурном смысле, и она в конце концов появилась.
Версия режиссёра картины о появлении песни «Бывает всё на свете хорошо…» перекликается с версией Стеблова, но всё же не совпадает с ней. Данелия тоже рассказывает, что песня была сочинена во время съёмок, и именно на площади Маяковского, но не в ресторане, а прямо на улице. Данелия и оператор Вадим Юсов сидели на крыше «Софии», а Гена появился внизу, и Данелия прямо с крыши потребовал от него (экстремальное, надо сказать, требование) тут же сочинить текст. Обещаний от Шпаликова он уже наслушался и понял, что если того не заставить сделать обещанное прямо здесь и сейчас, так никогда ничего и не будет. Гена сначала прокричал ему снизу (!?) ту самую прежнюю песню про дом, где когда-то Пушкин жил и где летняя еда, а на улице среда. Данелия тут же, «с крыши», её забраковал (мол, это старое и всем известное, нас не проведёшь!), и Гена стал на месте придумывать строчки про «солёный Тихий океан, и тундру, и тайгу».
Кто из мемуаристов ближе к истине? Так ли уж это важно, если ясно одно: сочинялась песня спонтанно, на ходу, и не эта ли замечательная шпаликовская небрежность — или, лучше сказать, естественность — решила её судьбу, прославила и превратила в музыкальный — песенный — символ «оттепели»?
Судьба фильма «Я шагаю по Москве» сложилась иначе, чем судьба «Заставы Ильича». «Заставу» мытарили полтора года, а новая картина прошла через инстанции сравнительно легко, хотя кое-какие вопросы у чиновников, как мы видели, всё же вызывала. Может быть, потому в этот раз было легче, что дух «оттепели» новая картина воплощала не в «подозрительных» спорах о «картошке» и 1937 годе, а в лёгком жанре лирической комедии. Огромным (это не преувеличение) успехом пользовалась не только сама картина, но и песня Шпаликова и Петрова, сразу широко зазвучавшая на эстраде, по радио и телевидению. «В чём дело, сразу не поймёшь»: песня-то написана вполне в шпаликовском полушутливом духе. Если вдуматься — странная песня. Допустим, пройти «и тундру, и тайгу» теоретически ещё можно, но как можно «пройти солёный Тихий океан»? Как представить себе отблеск «летней грозы» в «весёлых глазах», да ещё после того, как «летний дождь» уже «прошёл»? Сначала дождь, потом гроза? Почему герой сам не знает, с кем распустит «над лодкой белый парус»? Удивляет и намерение отыскать под снегом фиалку, и вообще малопонятная связь этой фиалки с воспоминанием о Москве. Но миллионы слушателей, похоже, и не задумывались об этом, не замечали прикрытого популярной мелодией и голосами певцов пародийного — или близкого к нему — тона. Не потому ли, что тексты эстрадных песен и не претендуют обычно на смысловые глубины и на высокий поэтический уровень? Там, грубо говоря, всё сойдёт. В те же годы с эстрады звучало, например, и такое, бодро-комсомольское: «Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть». Какая связь между «старением сердца» и «допеванием песни до конца»? Да никакой. Вот Шпаликов, прекрасно понимая, что сочиняет для широкого слушателя, и мог тонко посмеяться над обычной для эстрады манерой подменять поэтический смысл «набором слов». А непосредственный слушатель этого и не заметил…
Между тем песню включили в свой репертуар популярные в ту пору эстрадные певцы Эдуард Хиль, Эмиль Горовец, Эдита Пьеха. Сам Гена, видя в очередной раз дома на телеэкране Хиля с этой песней и с вечной жизнерадостной улыбкой, словно приросшей к лицу певца, в шутку говорил дочке: вот, видишь, дядя поёт — он наш с тобой кормилец. Чем больше он будет петь эту песню, тем больше у нас будет денежек. Профессиональный оптимизм Хиля, конечно, имел мало общего со шпаликовским «стёбом», но здесь это каким-то боком сошлось. Шпаликов словно подыграл советскому «бодрячеству», и едва ли тот же Хиль и другие исполнители улавливали скрытую в песне «абсурдную» нотку. Что касается авторских отчислений за песню, то Геннадий и впрямь их получал, хотя где-нибудь «на загнивающем Западе» (таковым его — то есть Запад — считала советская пропаганда) автор столь популярной песни, наверное, просто озолотился бы. Сам он любил пошутить на эту тему: «Если бы с каждого, кто напевает себе под нос „А я иду, шагаю по Москве“, я собрал бы по рублю, то стал бы уже миллионером». Был у него и шуточный стишок на эту тему, который он отправил однажды в письме Юлию Файту:
О, что напела мне страна? Какие пали дивиденты? Поёт и тенор и шпана — А мне положены проценты.Советское государство разбогатеть никому не позволяло, держало всех на коротком поводке. Так что шпаликовская шутка насчёт «миллионера» была чисто риторической, а называть «дивидентами» (именно так, через «т» Гена написал это слово — ради рифмы с «процентами») скромные авторские можно было тоже лишь иронически. Уж со «шпаны» точно ничего не возьмёшь…
Премьера фильма «Я шагаю по Москве» опередила премьеру «Заставы Ильича». Она прошла в апреле 1964 года в только что построенном кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади (в постсоветское время не очень удачно переименованном в «Пушкинский»: хотя бронзовый Пушкин и стоит тут же, на площади, но живой Александр Сергеевич в кино не ходил). Показ картины стал первым показом в стенах нового кинотеатра. Понятны досада и обида Марлена Хуциева, увидевшего, что поэтичный образ Москвы, составлявший одну из ключевых граней его «Заставы…», воплощён в фильме, задуманном и снятом позже, но вышедшем на экраны раньше. Понятно и его ревнивое отношение к участию Шпаликова в этой работе в ту пору, когда сам Хуциев «держал оборону» в стычках с партаппаратом. Но создатели фильма столкнулись с критикой и независимо от личных отношений. В кинематографическом и литературном закулисье раздавались едкие голоса: вот, мол, Хрущёв сказал, что советское искусство должно быть позитивным, и вы тут как тут — угодили, отработали «социальный заказ». Писатель Владимир Максимов, автор опубликованных к тому времени повестей «Мы обживаем землю» и «Жив человек», будущий эмигрант и издатель журнала «Континент», по натуре максималист, отказывался подавать руку Данелии и Шпаликову как «лакировщикам действительности». Гена огорчился: «Он что, и Пушкину, написавшему „Мороз и солнце, день чудесный“, руки бы не подал? Пушкин тоже лакировщик?..»
Но фильм ответил за себя сам: разве можно представить теперь наше кино без него? Не думаем, что у повестей Максимова читателей больше, чем зрителей у этой «сказки о Москве», как однажды назвал картину её режиссёр. И едва ли она представляет собой произведение более «конформистское», чем некоторые стихи Евтушенко, который однажды в узком дружеском кругу дал ей такой эпитет. Две знаменитые киноработы Шпаликова и родственны между собой (что естественно), и в то же время не похожи и дополняют друг друга тем, что показывают молодёжь начала 1960-х годов — и вообще тогдашнюю жизнь — по-разному: драматически и лирико-комедийно. Это две стороны одной медали. Ведь в жизни есть и то и другое. Правда, кремлёвские куранты, сопровождавшие действие в «Заставе…», слышны за кадром и в фильме «Я шагаю по Москве», но здесь они звучат по-другому, неожиданно переплетаясь с беспечным напевом пританцовывающей в ожидании прилёта мужа девушки в аэропорту. Надо же, такая юная, а уже замужем, и у неё тоже «всё хорошо»…
В 1964 году фильм участвовал в Каннском кинофестивале. Данелия был признан победителем в номинации «Специальное упоминание лент молодых режиссёров». Вместе с ним в Канны ездила Галина Польских. Шпаликов, конечно, не ездил. Международные лавры обошли его и на этот раз; точнее говоря — именно в этот раз они его впервые и обошли, ибо «Застава Ильича», повторим, вышла чуть позже. Но бог с ней, с Европой. Сам Гена именно сейчас, в 1963–1964 годах, находится на пике своей судьбы. Успех двух картин (пусть даже у одной из них он оказался трудным, очень трудным), ранняя всесоюзная известность (ему всего 27 лет), знаменитая красавица-жена, только что родившаяся дочка, своя квартира… Жить да радоваться. Он и радовался. «Мороз и солнце, день чудесный». Бывает всё на свете хорошо. Но что будет дальше? Как долго может длиться это счастливое состояние влюблённого в жизнь художника?
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОД
Мы уже говорили о том, что Шпаликов очень переживал из-за актёрской невостребованности жены. Ему хотелось, чтобы Инна снималась, и хотелось снять картину с Инной самому. Ему хотелось самому снять картину. Кинематографист-лирик, каковым он был, мечтал выразить себя в фильме полностью — на уровне не только сценария, но и режиссуры. То есть — снять авторское кино. Шпаликов был слишком крупным художником, чтобы довольствоваться ролью «второй скрипки»: ведь имя сценариста обычно отходит на второй план рядом с именем режиссёра, которому достаются главные лавры. Но дело тут, конечно, не в лаврах и не в честолюбии, а именно в самовыражении — не только через слово, но и через изображение, через атмосферу, настроение и ритм действия… Будь он ещё актёром и оператором — он, наверное, захотел бы и сыграть главную роль, и постоять за кинокамерой.
Возможности же режиссёрской работы он в себе чувствовал. Геннадий не относился к тем сценаристам, которые считают, что с последней точкой в рукописи их участие в создании ленты заканчивается. Он бывал на съёмочных площадках постоянно, процесс съёмки его захватывал, и работу друзей-режиссёров — Хуциева, Данелии, Файта — он наблюдал близко и внимательно. Ему эта работа нравилась.
В 1964-м, в год премьер «Я шагаю по Москве» и «Заставы Ильича», Шпаликов написал сценарий под названием «Долгая счастливая жизнь». Его он и рассчитывал превратить в фильм самолично, а в главной роли видел Инну.
На экраны этот фильм вышел в 66-м, а снимался он на «Ленфильме». Съёмки пришлись на 65-й. Это был первый — и единственный — опыт сотрудничества Шпаликова с киностудией Северной столицы. Оно стало возможным благодаря Владимиру Венгерову; в его ленинградском доме Шпаликов, как мы помним, бывал, пел, и даже немногочисленные записи его песен сохранились отчасти благодаря старшему другу. Венгеров, руководивший на «Ленфильме» творческим объединением, и составил Шпаликову протекцию — а может быть, даже и сам предложил сотрудничество, узнав от Гены о замысле картины. Шпаликов, и раньше нередко навещавший Ленинград, теперь стал бывать там особенно часто и подолгу. А поскольку главную роль в картине должна была играть Инна, ездили они вместе.
Как раз в эту пору на «Ленфильме» свою картину «Мальчик и девочка» (речь о ней уже шла в одной из глав нашей книги) снимал Юлий Файт. Друзья-москвичи встретились теперь в Ленинграде. У Файта возникла неожиданная творческая проблема: актриса, игравшая главную героиню его фильма, неудачно озвучила роль. Режиссёр решил переозвучить ленту и попросил Инну. Талантливая, быстро схватывавшая суть дела Инна на пару с Николаем Бурляевым, исполнителем главной мужской роли, быстро и качественно выполнила «чужую» работу. Так что за кадром в фильме звучит именно её голос, хотя в титрах это, конечно, не указано.
Актёрскому таланту Гениной жены не всегда соответствовали её житейские навыки. Файт вспоминает забавный эпизод этой «ленинградской дружбы». Как-то Гена с Инной приехали не то внезапно, не то не вовремя — в общем, им было негде поселиться, гостиничный номер для них забронирован не был. В советские времена, при государственной монополии буквально на всё, тотальный дефицит распространялся и на гостиницы: у человека «с улицы» шансов поселиться практически не было — его ожидала вечная табличка с надписью «мест нет». Конечно, в реальности места были, но только не для всех. Администратора надо было улещивать конфетами (их тоже ещё поди купи) или ещё какими-нибудь подарками, но это умели не все и срабатывало это тоже не всегда. Короче говоря, Файт полулегально пристроил супругов в своём номере, но продлилось такое совместное житьё недолго. Друзья привезли с собой фотоаппарат, фотографировали город Питер и себя на его фоне, а потом Инна прямо в номере печатала фотоснимки. Современному молодому человеку, выросшему в эпоху цифровых камер, трудно представить, каким сложным и долгим был процесс изготовления фотоснимков в то время. Сначала надо было проявить плёнку в специальном бачке, пользуясь растворами проявителя и закрепителя, затем плёнку высушить, к чему-нибудь её подвесив, затем с помощью громоздкого фотоувеличителя спроецировать изображение на фотобумагу, её после этого тоже проявить и закрепить в небольших ванночках и, наконец, тоже высушить. Непроявленная плёнка при малейшем попадании на неё света становилась негодной. Печатать же снимки нужно было только при красном свете: фотобумага выдерживала лишь его. Одним словом, фотографу требовалась целая лаборатория, в которую Инна превратила санузел файтовского номера. Для последней же операции (сушка отпечатков), если делать всё грамотно, нужен был ещё один прибор — глянцеватель, но можно было обойтись и без него, а в гостиничных условиях и подавно. Нужно было только прикатать валиком или прямо ладонью отпечаток к стеклу и дать ему высохнуть, а высохший снимок отваливался от стекла сам. После этого фотоснимок был полностью готов.
Инна так и сделала, использовав зеркало и оконное стекло. Может быть, никто этого и не заметил бы, если бы она знала, что стекло надо протереть уксусом. Именно благодаря ему высохшие снимки сами легко падали со стекла. Но тут, как на грех, пришла горничная и, увидев эту затянувшуюся «фотовыставку», закатила скандал. Ещё бы: она мыла-мыла стёкла, а теперь придётся делать это заново! В итоге друзей выселили из номера за «антисанитарное поведение», и пришлось московской компании искать в городе на Неве другое пристанище. Они вместе сняли квартиру в районе Чёрной речки; как раз в этот момент и началась основная работа над картиной «Долгая счастливая жизнь».
Желающего кратко пересказать её сюжет необычность сценария сразу ставит в тупик. Здесь, кажется, ничего и не происходит, а то, что могло бы произойти, … не происходит тоже.
Сюжет разворачивается («разворачивается» — громкое слово) в Сибири. Парни и девушки, работающие на большой стройке, едут в субботу автобусом в город Н., который «был похож на все молодые города, возникшие в Сибири, и представлял из себя тот притягательный культурный центр, в который устремлялись в праздничные дни молодые люди со всех строек, расположенных от него в ста и более километрах». В автобусе едет и девушка по имени Лена, в плаще и берете, с выглядывающей из-под него белой чёлкой. Это — главная героиня сценария. Кажется, Шпаликов решил развить наметившийся в фильме «Я шагаю по Москве», но не реализованный там мотив поездки героини на сибирскую стройку. Володя Ермаков, напомним, звал туда москвичку Алёну. Ну и сама молодёжная тема — конечно, характерная шпаликовская.
Однако героем картины стал не парень лет, скажем, восемнадцати, как можно было бы предположить, а мужчина постарше. Фары автобуса, перед которым вдруг промелькнул вызвавший своим появлением «восторг и крики» заяц (опять заяц — один из любимых «персонажей» полушутливой шпаликовской фауны! в самом фильме вместо него в кадре появится… лось), вдруг высвечивают «поставленные точно на середине шоссе» чемодан и сумку. Показался и их владелец, попросивший его подвезти — отставший от партии геолог, полушутя рассказывающий о себе, что «не ел пять дней, тонул, горел, но бодрости не терял». В автобусе он знакомится с Леной. Примечательная деталь: «Лицо у него было молодое, но усталое, небритое. Он казался старше своих лет, и говорил он уверенно». Потом выясняется, что он рождён в 1934 году; по ходу съёмок ему ещё «прибавят» два года. Это значит, что теперь ему тридцать с небольшим. Некоторые детали биографии героя проясняются позже, по ходу действия. По образованию инженер, в экспедиции был три месяца, перед этим служил на Курилах. Если речь идёт об армии, то поздновато как-то служил, но не будем придираться, тем более что герой тут же рассказывает, что он там «ради науки спускался под воду». Здесь оказался проездом, должен завтра ехать домой, в Куйбышев. И Лена, как оказалось, тоже не со школьной скамьи: «Я рано пошла работать. Маляром работала на строительстве, штукатуром. Потом замуж вышла. Он неплохой был человек, я не жалуюсь. Всё ему прощала… Пил — прощала. Бывало, и домой не приходил, — прощала». Теперь мужа нет. Такой вот жизненный опыт…
Это метаморфоза существенная. Шпаликовские герои повзрослели вместе со своим автором. Сам Гена, молодая звезда последних хрущёвских лет, входил в новую полосу жизни. Он в эту пору мог бы повторить пушкинскую строчку из шестой главы «Онегина»: «Ужель мне скоро тридцать лет?» Пора было прощаться с юностью. И дело тут, кажется, не только лично в нём и в его возрасте. «Оттепельное» хрущёвское время действительно заканчивалось. Художник Шпаликов, что называется, нутром почувствовал надвигающуюся перемену. Приближался брежневский «застой». Его героями должны были стать уже не юноши и девушки, у которых вся жизнь впереди, а повзрослевшие люди того же поколения: для них — и для страны вообще — наступала эпоха разочарований и рефлексии, разговоров на интеллигентских кухнях и ухода в себя, всевозможных ограничений и оттого — нереализованности. Усталости, в конце концов. Вот почему новый герой Шпаликова выглядит старше своих лет — подобно лермонтовскому Печорину, о котором в романе сказано: «С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трёх лет, хотя после я готов был дать ему тридцать». Ассоциация с Печориным возникла не случайно: шпаликовский персонаж — тоже герой своего времени, времени «послеоттепельного», более того — хронологически один из первых его героев. И, может быть, тоже не случайно в тот момент, когда автобус тряхнуло на повороте и Лена невольно прижалась к Виктору (так зовут нового пассажира), он, опять полушутя (полушутя — это вообще любимая шпаликовская интонация, позволяющая прикрыть серьёзное и избежать пафоса), произносит именно лермонтовские строчки: «Ночевала тучка золотая на груди утёса великана…»
Что касается возраста Виктора, то выбор на эту роль актёра ленинградского Большого драматического театра Кирилла Лаврова поневоле делал героя ещё чуть постарше. Не потому, что самому Лаврову в период съёмок «Долгой счастливой жизни» было уже сорок. Возрастное несоответствие героя и актёра легко разрешается за счёт грима и прочих профессиональных хитростей. Но Лавров играл в кино обычно положительных, «правильных» персонажей. Они и определили собою его актёрский «имидж». Например, к началу съёмок шпаликовского фильма он только что снялся в роли политрука Синцова в экранизации романа Симонова «Живые и мёртвые», а спустя несколько лет начнётся его лениниана: изображать и на театральной сцене, и на киноэкране советского вождя ему доведётся не раз. Естественно, что такую роль могли доверить лишь «проверенному товарищу». Лавров и был таковым, хорошо вписавшимся в советский официоз, да и после распада СССР остававшимся на виду: общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР, после смерти Георгия Товстоногова и до самой своей кончины в 2007 году — худрук БДТ. Фигура очень крупная и влиятельная.
Эта, уже тогда привычная, «правильность» актёра, как нам кажется, не всегда вяжется с сутью того образа, который он создаёт в «Долгой счастливой жизни». Герой фильма Шпаликова — фигура сложная, противоречивая. Как сейчас говорят — амбивалентная. Лавровская положительность порой мешает эту амбивалентность прочувствовать. Никак не получается избавиться от ощущения, что видишь и слышишь как минимум секретаря партбюро. Шпаликовский выбор именно Лаврова на главную роль мог быть вызван тем, что актёр был известен и это способствовало бы известности и картины. Гена словно чувствовал, что интеллектуальная природа фильма широкой популярности не предполагает.
Впрочем, сотрудничество Шпаликова и Лаврова обошлось «без швов», отношения сложились хорошие. И после ухода Шпаликова из жизни Кирилл Юрьевич всегда тепло о нём вспоминал. И всё же Инна смотрится в своей роли органичнее: красота, непосредственность и жизненный опыт в её героине слиты воедино.
Но не будем забегать вперёд и вернёмся к сценарию. Распевая вместе со всеми в автобусе популярную песню «На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего…», Лена и Виктор почувствовали что-то общее: «А кто знает, как это получается? Кто знает, каким образом люди находят друг друга?» Ощутив в себе этот взаимный интерес, они рассказывают каждый по «экстремальному эпизоду» из своей прежней жизни: Лена — как ребята научили её плавать, толкнув в воду, и ей пришлось «научиться» поневоле; Виктор — как в пору учёбы в ремесленном училище, в 1946 году, прошёл на спор от училища до дома ни разу не коснувшись земли — то есть перебираясь с предмета на предмет: с гимнастического бума — на бочку, с бочки — на забор… Выходка вполне в духе Гены Шпаликова, учившегося пусть не в ремесленном, зато в суворовском. Кстати, в его же духе — и склонность героя слегка побалагурить, как, например, на том самом лихом повороте автобуса: «Главное, в субботу глупо разбиваться. В понедельник другое дело…» Или после слов Лены о «скучном» бывшем муже: «Скучный. А что в тебе весёлого? Один нос… Нос весёлый, глаза невесёлые — старая история. У Гоголя какой нос был? А грустил». И даже такую светлую матерчатую кепочку, как у Виктора, Гена тоже носил. То есть наоборот: свою кепку «отдал» персонажу.
В фильме прошлое героини будет «нагружено» ещё историей её полудетской любви к соседу-пожарному, который — похоже, знать не зная о своей юной воздыхательнице, — женится на какой-то абсолютно непоэтичной тётке, заметно выше его ростом, да и сам возлюбленный слегка комичен (Георгий Штиль — актёр соответствующего амплуа). Девушка от этого просто в отчаянии. Проход же Виктора «не коснувшись земли» оказался заменён его спуском с горы на лыжах, сюжетно мотивированным тем, что герой, оказывается, в детстве какое-то время жил с отцом на высокогорной станции. Сказать по правде, сценарный вариант кажется нам эффектнее и живее. Он смотрелся бы с бо́льшим напряжением (хотя он, как и катание на горных лыжах, потребовал бы дублёра). Но здесь сценарист и режиссёр — одно лицо; как говорится, своя рука владыка. Может быть, Шпаликов почувствовал, что озорство пэтэушника, пусть даже двадцатилетней давности, с солидным Лавровым не очень вяжется, и поэтому подобрал для его героя более благородный «экстрим»? Зато в автобусном эпизоде фильма есть находка, которой в сценарии быть не могло: обычный вроде бы, полушутливый диалог («Ты кто такой? Откуда ты взялся?» — «Я? Иностранный разведчик. Что, разве не похоже?..») озвучен так, что голоса героев резонируют, словно отдаются в пустом помещении. В этот момент все прочие шумы приглушаются и становится ясно, что герои — мужчина и женщина — слышат только друг друга, отрешившись от всего окружающего.
А мотив озорства возникает здесь, как мы сейчас увидим, неспроста. Автобус подъезжает к городскому драмтеатру (или, уже по фильму, — клубу). Оказывается, это молодёжный культпоход на постановку чеховского «Вишнёвого сада»: здесь на гастролях знаменитый МХАТ. В фильме использованы фрагменты реальной мхатовской постановки — со знаменитыми актёрами Аллой Тарасовой (Раневская) и Алексеем Грибовым (Фирс; в одной из сцен за кадром звучит голос другого выдающегося исполнителя этой роли — Игоря Ильинского, из Малого театра). Лена, культорг этой компании, обещает провести в театр и Виктора, у которого билета ведь нет. Но тут Виктора оттеснили, в театр он с Леной не попал, зато проник… через окно, с помощью ещё одного «театрала» — подростка, который сначала с плеч Виктора пролез в форточку, а затем изнутри открыл ему окно. Правда, кадров самого проникновения героя в здание в фильме нет — ну и правильно: трудно представить себе серьёзного Кирилла Лаврова, лезущего в окно, несмотря на то, что сам Кирилл Юрьевич в молодости увлекался спортом и фигуру всегда имел подтянутую, да ещё прошёл закалившую его физически войну. Он, конечно, легко влез бы в окно и в 40 лет, но дело не в этом… Итак, два театральных «зайца» попали сразу за кулисы, и Виктор в итоге снова оказался рядом с Леной. Вот она и оправдала себя, экстремальность и эксцентричность подростковой выходки ученика «ремеслухи».
Зачем сценаристу понадобился «Вишнёвый сад»?
Литературный фон завязывающейся у нас на глазах истории Лены и Виктора выбран очень точно. Виктор оказывается в театре в момент диалога Ани и Пети Трофимова, призывающего «бросить в колодец» ключи от хозяйства, быть «свободной как ветер», и добавляющего: «Верьте мне, верьте!.. Мне ещё нет тридцати, я молод, я студент, но я уже столько вынес!.. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его…» Петя обещает Ане то, что сформулировано в названии сценария фильма, — долгую счастливую жизнь. Ответная реплика Ани — вполне в духе Чехова-драматурга, у которого персонажи обычно разговаривают так, будто не слышат друг друга: «Восходит луна». И слова Пети сразу не то что обесцениваются, но воспринимаются как идущие словно мимо адресата. Ведь Петя — «вечный студент», не способный окончить университетский курс, приживал, у которого дальше красивых слов дело не идёт. Быть жизненной опорой ни для Ани, ни вообще для кого бы то ни было он явно не может. Кстати, когда играющие Аню и Трофимова актёры встречаются Виктору за кулисами, он обращает внимание на то, что они «не такие уж и молодые» и что выражение только что «сказанного на сцене» постепенно «сходило с них, остановившись в неподвижности, застыв на мгновение, пока они шли, но сходило». Так ведь и шпаликовские герои — «не такие уж и молодые».
«Вишнёвый сад» — одно из «загадочных» произведений русской классики, споры о котором не утихают по сей день. В чём главный смысл пьесы — в лирико-ностальгическом прощании с эпохой дворянских усадеб или в насмешке над несостоятельностью героев-«недотёп»? Почему Чехов назвал пьесу «комедией»? Насколько широко нужно понимать слова преуспевающего, казалось бы, Лопахина: «наша нескладная, несчастливая жизнь»? Не объединил ли он в местоимении «наша» и героев пьесы, и зрителей эпохи чеховского безвременья? И не в этой ли фразе — возвращаемся к Шпаликову — ключ к названию его сценария? Ведь полемическая перекличка слышна, что называется, невооружённым ухом: «нескладная, несчастливая» (а ещё герои чеховской «Дамы с собачкой» мечтают о «новой, счастливой жизни») — «долгая счастливая». Какая же она всё-таки, по Шпаликову? В самом деле долгая и счастливая?
Чеховская пьеса помогает кинодраматургу сказать об ощущении противоречивости и драматизма судьбы собственного, теперь «не такого уж и молодого», поколения, о его самоопределении на переломе от эпохи юношеских надежд и ожиданий к эпохе серьёзного жизненного выбора и ответственности.
Диалог Виктора и Елены в театре, но не в зале и не в фойе, а возле какой-то лестницы в полутёмном тупике, где они «обнялись с поспешностью и простотой», сильно напоминает диалог Пети Трофимова и Ани в чеховской пьесе. Лена говорит, что «жить пустой жизнью страшно». Виктор отвечает ей почти по-трофимовски: «Главное это искать что-то светлое, правильное… Никогда не нужно бояться начать свою жизнь заново». Но, поймав себя на этой ассоциации, мы вправе задаться вопросом: как же сложатся отношения героев Шпаликова? Сумеют ли они начать свою жизнь заново? Вопрос скорее к Виктору, чем к Лене, ибо и в чеховской пьесе, и вообще в русской литературе именно мужчина обычно проигрывает в ситуации на рандеву (если вспомнить название статьи Чернышевского о повести Тургенева «Ася»: «Русский человек на rendez-vous»), оказываясь слабее женщины. Она — будь то Татьяна Ларина или Ольга Ильинская — готова взять на себя ответственность и сделать первый шаг. А мужчина — пасует.
В сценарии Шпаликова настораживает то, что Виктор, вновь потеряв из виду Лену, ушедшую танцевать (в антракте спектакля, ну прямо как в сельском клубе, — танцы!) и затем разыскивая подругу с номерком из гардероба, — в буфетном разговоре за бутылкой пива с каким-то незнакомым парнем говорит о своей новой знакомой: «…ненормальная или работает под ненормальную». Этого парня сыграл Павел Луспекаев — как и Лавров, актёр БДТ, будущий знаменитый Верещагин из «Белого солнца пустыни». Здесь он почему-то внешне похож на… Шпаликова: случайность или своеобразный режиссёрский «автограф»? После такой фразы Виктора сам факт откровенности с незнакомым человеком нас уже не удивляет. Но тогда зачем эти разговоры и объятия, и даже предложение поехать вместе с ним молодой женщине, которая уже сейчас «смотрела на него влюблённо»? И которая вскоре появится в его номере в Доме приезжих (в фильме заменённом на плавбазу «Отдых») с двумя чемоданами и… трёхлетней дочкой: «А я решила с утра перебраться… Чего ждать, раз решено!.. Куда ты, туда и я». Брать с собой дочку «не решилась пока: устроимся — заберём. А привела показать». Виктор, похоже, не ожидал такого резкого поворота событий. «Заспанный» и «перепуганный», он машинально бреется, повернувшись к Лене спиной, и «так было значительно проще, и можно было теперь и помолчать, оглядывая бесцельно комнату…».
В такой неопределённости они втроём отправляются завтракать в уличный буфет. Всё в той же неопределённости Виктор бессмысленно набирает уйму блюд, которые им втроём просто не съесть: «кабачковую икру, шпроты, сметану, вафли, колбасу, баранину с картошкой». Наливает себе водки и выпивает, забыв о Лене: «Что ж ты один пьёшь?» — «Забыл… Ты прости». Звучат какие-то необязательные фразы — всё мимо ситуации. Почти как у Чехова, где герои разговаривают и при этом не слышат друг друга. Каждый — сам в себе.
Но женщина, как уже сказано, — решительнее. Никто ещё не успел никуда уехать, а она уже всё поняла: «Ну, будь здоров. Не вышло у нас с тобой ничего, не получилось. Я как утром на тебя посмотрела, поняла — не вышло. Я ведь не дура, не сумасшедшая (а он о ней говорил: „ненормальная“! — А. К.)… Не печалься. Поезжай с лёгким сердцем. Жизнь большая („долгая и счастливая“! — А. К.), может, и встретимся ещё. Иди». Это в сценарии. В фильме же эта сцена — по сути дела, кульминационная — выглядит гораздо банальнее: Виктор с предсказуемой фразой о том, что ему «надо позвонить», встаёт из-за столика, уходит — и больше не возвращается. Забирает на плавбазе свои вещи и отправляется на автобус. Такая развязка психологически подготовлена, однако, сценой на плавбазе: пока Виктор бреется, за окнами его номера мелькают тени постояльцев плавбазы, эксцентрично бегающих по палубе и даже по крыше под лихорадочный наигрыш тапёра, поглядывающего на них с иронической улыбкой: мол, бегайте, бегайте… Смотрится это нелепо: всё-таки не юные пионеры, а взрослые люди, да ещё невесть откуда взявшиеся. Ведь большой многоместный номер, в котором остановился Виктор, абсолютно пуст. Абсурд этой сцены обессмысливает всю ситуацию — по сути дела, решающую в картине. Но этот же абсурдный бег «рифмуется» с будущим бегством Виктора. И уже здесь понимающий взгляд Лены насторожен, и он тоже предвещает скорый поворот сюжета. Выходит, Лена ему была нужна только на один вечер — а точнее сказать, на ночь. В фильме это ощущалось: Виктор сначала порывался пойти к ней домой, а потом звал её к себе на плавбазу. Не очень, кстати, понятно, почему, если героиня живет здесь же, в городе, в театр она ехала на автобусе — в выходном наряде — со стройки. Но это мелочь, внимания на которую можно и не обращать.
Итак, чеховский сюжет? Сюжет Пети Трофимова, заявляющего, что он «выше любви»? Лопахина, так и не сделавшего предложение Варе? Алёхина из рассказа «О любви», теряющего свою возлюбленную навсегда? Не будем спешить с выводом. По пути из города в аэропорт Виктор вдруг просит остановить автобус и выходит: «Нахлынуло, накатилось что-то и потянуло вдруг снова увидеть человека, которого он знал всего сутки и то очень приблизительно». Стоило ли это делать? Отъезд — как и в финале фильма «Я шагаю по Москве» — неизбежен. Дороги назад нет. Но здесь, под самый занавес, задержать уже завершившийся сюжет всё-таки было нужно — ради финального образа, для Шпаликова, как мы скоро увидим, чрезвычайно важного.
«Автобус шёл в одну сторону, а навстречу ему по реке плыла самоходная баржа… Когда река опустела и пропала баржа, засыпанная снегом, он вдруг с отчётливостью представил себе, как через несколько часов в тот же день она войдёт в город, через который протекает река, и поплывёт мимо домов, где ему не жить, мимо всего, что он оставил там, в этом городе, как уже не раз оставлял в других местах, думая, что всё ещё впереди, что всё самое лучшее ещё предстоит где-то там, в других местах и городах, где он ещё не был, но ещё побывает, и с ним произойдёт, случится то самое главное и важное, что должно случиться в жизни каждого человека, и он был убеждён в этом, хотя терял каждый раз гораздо больше, чем находил».
Всё же что-то мешает воспринять историю Виктора как очередное поражение «русского человека на rendez-vous». Да, внешне как будто оказался несостоятелен в любви. Заморочил Лене голову, позвал было с собой, и дальше — ничего. Но, может быть, Виктора отчасти оправдывает вечная и неодолимая тяга к будущему, вера в то, что «всё самое лучшее ещё предстоит где-то там». Кстати, в автобусе по дороге в аэропорт он, только что расставшийся с Леной, с любопытством поглядывает уже на девушку-кондуктора, и даже музыка замечательного композитора Вячеслава Овчинникова (работавшего с Тарковским в «Ивановом детстве» и «Андрее Рублёве» и с Бондарчуком в «Войне и мире»), только что звучавшая напряжённо, обретает какую-то лёгкую — если не сказать легкомысленную — тональность. Жизнь продолжается — несмотря на то что герой «терял каждый раз гораздо больше, чем находил». Это диалектика пути, о которой историк искусства Игорь Ильин сказал: идти — значит проходить мимо. Но ведь надо идти!
Так история не юного уже инженера-геолога, в возрасте тридцати «с хвостиком», вечного путника, не могущего остановиться там, где, казалось бы, остановиться надо (интересно, что он будет делать в своём Куйбышеве? работать инженером на заводе с восьми до пяти?), обретает философский подтекст. Типичность этого героя для эпохи 1960-х именно на переломе от «оттепели» к «похолоданию» вскоре подтвердится ещё одной замечательной киноработой — фильмом Киры Муратовой «Короткие встречи», с Высоцким в главной роли геолога Максима, такого же неприкаянного странника по жизни, со сложной любовной коллизией. Кстати, Высоцкий с бородой и с гитарой в таком амплуа более органичен, чем Лавров. А ещё можно вспомнить песни о геологах барда Александра Городницкого или даже эстрадную песню о них же Пахмутовой на слова Гребенникова и Добронравова («Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнцу и ветру брат»; она в фильме, кстати, цитируется). Но возникший поначалу в русле «антимещанских» настроений «оттепельной» молодёжи, стремившейся «за мечтами и за запахом тайги», интерес к этой профессии к середине десятилетия стал обретать черты своеобразного эскапизма — ухода от нараставшей фальши общественной жизни. Позже, в 1970-х, это приведёт к появлению поколения «дворников и сторожей», предпочитавших судьбу маргинала участию в официальной лжи. В фильме Шпаликова откровенного эскапизма нет, но уже заметно не «походно-романтическое», а философское осмысление судьбы героя.
Между тем кино — это не только сюжет, актёры и нравственно-философские проблемы. Кино — это ещё работа оператора. Успех любого фильма во многом зависит от видеоряда, как стали это называть впоследствии. «Оттепель» — прорыв и в области операторского искусства. Мы уже знаем, каков вклад, скажем, Маргариты Пилихиной в «Заставу Ильича» или Вадима Юсова в фильм «Я шагаю по Москве». Работать на картине «Долгая счастливая жизнь» Шпаликов пригласил оператора Дмитрия Месхиева. Месхиев, ровесник Лаврова, имел более чем десятилетний разнообразный опыт: ему доводилось снимать и историко-революционное кино («Шторм»), и комедию («Полосатый рейс»), и фильмы психологические, экранизации русской классики («Кроткая», «Дама с собачкой»). Вероятно, именно эта грань его творчества (плюс ещё любимый Чехов) и привлекла внимание Шпаликова. Ведь его фильм был тоже психологическим и требовал особого киноязыка. Здесь у Гены были кое-какие идеи, и в Месхиеве, только что отработавшем на съёмках раскритикованного чиновниками за «пацифизм» и «экзистенциализм» военного фильма Григория Никулина «Помни, Каспар…» (там и операторские приёмы — например световой контраст — были непривычными), он почувствовал единомышленника. Как заметил при обсуждении картины на худсовете «Ленфильма» Венгеров, «увлечённость Месхиева совпала с увлечённостью Шпаликова».
Увлечённость чем?
В главе, посвящённой первым сценарным работам Шпаликова, мы говорили о его «Причале» и о том, что этот сценарий нёс в себе следы влияния поразившей и самого Гену, и многих его ровесников-вгиковцев «Аталанты» Жана Виго. Юношеское пристрастие к французскому режиссёру не прошло. Теперь у Шпаликова появилась возможность признаться в этой любви не только на языке сценарного слова, но и на языке режиссуры — а значит, сюжета, мизансцены, ритма, света, звука… Здесь без оператора «с родственной душой» было никак не обойтись.
Преемственности видеоряда «Долгой счастливой жизни» по отношению к «Аталанте» посвящена специальная работа киноведа Натальи Адаменко, опубликованная в 2009 году в журнале «Искусство кино». Исследовательница выделяет эпизоды, где связь с французским фильмом особенно заметна. Некоторые сцены совпадают композиционно: например, в «Аталанте» старый матрос-машинист папаша Жюль, обнаружив исчезнувшую с баржи Жюльетту в парижском магазине патефонных пластинок, вдруг перебрасывает её, как некую добычу, через плечо и уносит обратно на баржу; в «Долгой счастливой жизни» двое парней, пока Виктор раздумывает, пойти ему на спектакль или нет, также внезапно поднимают Лену на руки и проносят её в зрительный зал. Но в то же время ощущается своеобразие почерка Шпаликова — Месхиева, которые не повторяют, а творчески обыгрывают опыт выдающегося предшественника. Например, в обоих фильмах зримо воплощается мотив отчуждённости людей. Но если в «Аталанте», в сцене свадьбы в начале фильма, этот эффект достигается за счёт динамики изображения (молодожёны и группа гостей движутся на экране как бы в разные стороны, и вообще новообразовавшаяся супружеская пара сильно опережает прочих участников торжества и вырывается далеко вперёд; заметим, что с этой сценой Виго сюжетно «рифмуется» у Шпаликова сцена свадьбы пожарного), то в «Долгой счастливой жизни», замечает автор статьи, важнее световые эффекты, игра света и тени, изменение глубины резкости при съёмке… Взять, например, сцену объяснения героев на театральной лестнице. Она построена на световом контрасте: сравнительно светлый фон (стена) и тёмные фигуры почти обнимающихся героев, напоминающие скорее тени, чем самих людей. Плюс ещё — «тень от тени» на освещённой стене. И тёмные торцы ступеней лестницы, в то время как верхние поверхности этих же ступеней откровенно высветлены. Такой контраст имеет, безусловно, смысловое наполнение: свет «долгой и счастливой жизни» ненадёжен, он имеет оборотную «теневую» сторону, которая и проступит в итоге на поверхности сюжета к финалу картины. Впрочем, световой контраст и графичность кадра были ощутимы — насколько это позволяла кинотехника 1930-х годов — и в чёрно-белой (эра цветного кино тогда ещё не наступила) «Аталанте». Наверное, под влиянием картины Виго и Шпаликов решил снимать «Долгую счастливую жизнь» на чёрно-белой плёнке.
Но главный знак творческого диалога фильма Шпаликова с «Аталантой», конечно, — финал, снятый сознательно в стилистике Виго. По сюжету это уже эпилог: действие завершилось, зрителю ясно, что герои расстались навсегда и что Виктор уезжает. По реке плывёт баржа — плывёт долго, по направлению к городу, который Виктор покинул. Она минует сначала сельские виды (речка в этом месте настолько узка, что даже трудно представить, как баржа по ней проходит; или это оператор так искусно сработал и создал иллюзию узости?), а затем индустриальный пейзаж города. Минует она и уличный буфет, где совсем недавно завтракали герои: осень, сезон окончен, витрины и мебель разбирают и увозят. Так, из села в Париж, плыла «Аталанта» (и так, из Подмосковья в столицу, плыла баржа в «Причале»). У Шпаликова на барже сидит девушка с гармошкой и наигрывает какую-то неторопливую — скорее грустную, чем весёлую — мелодию, поневоле вызывающую ассоциацию со старинными ямщицкими песнями. Они были тоже грустными и тягучими, ибо дорога была долгой, и надо было чем-то занять душу, пока ехал… Эта баржа — символ жизни, пусть не очень счастливой, но, может быть, долгой, а может быть, счастливой оттого, что долгой, или долгой оттого, что счастливой. Просто жизни, которая не стоит на месте. Как и в финале картины Виго, баржа снята сверху, с моста. И гармошка в «Аталанте» тоже была: на ней несколько раз по ходу сюжета наигрывал какие-то беззаботные мелодии папаша Жюль. Но гармошка в России всегда воспринималась как свой инструмент, в нашем национальном сознании она «обрусела». Мы не всегда задумываемся о том, что слово «тальянка» (просторечное название однорядной гармони) образовалось за счёт отпадения первого гласного звука — «и» — от слова «итальянка», а происхождение инструмента, соответственно — европейское. В сцене в уличном буфете, о которой мы уже говорили, за кадром звучала популярная в те годы эстрадная песенка: «Хороши вечера на Оби, ты, мой миленький, мне подсоби. Я люблю танцевать да плясать, научи на гармошке играть». Но не подсобит миленький, нет. И на гармошке играть не умеет — Лена спрашивает его об этом. И о том, правда ли хороши вечера на Оби. Не знает, не видел. Всё — со знаком минус. Это их последний разговор. Но вообще в фильме Шпаликова гармошка вкупе со свистнувшим с моста, под которым проплывает баржа, белобрысым парнем (похоже, тем самым, которого Виктор подсаживал в окно театра) напоминают, что, несмотря на прямые киноцитаты (даже мост Шпаликов нашёл похожий на тот, что был изображён в «Аталанте»), мы не в Париже, а в России, в русской глубинке. И что на неудавшемся рандеву мы только что видели — русского человека. Героя русской литературы, частью которой являются и шпаликовские сценарии.
В бумагах Шпаликова сохранился коротенький текст, набросок под названием «О волшебном», с эпиграфом: «Посвящается памяти Виго, моего учителя в кинематографе, да и в жизни, хотя я его абсолютно не представляю живым». В этом наброске, автор которого как бы обращается к уже покойному в то время режиссёру и вспоминает о сильнейшем впечатлении, когда-то произведённом на него «Аталантой», — дан своеобразный лирический автокомментарий к картине «Долгая счастливая жизнь», именно к финалу её: «…и я-то — в память Вам — снял безумно длинный конец своей первой картины — в память Вам, Виго, в память Вам, Виго, и ещё раз в память Вам, — страшно, что мы ровесники сейчас, — да — и нам бы дружить, — но что я мог сделать? — я только мог снять длинно и — безумно длинно, — идущую по воде баржу, воду, девочку с гармошкой — что я ещё мог — это было объяснение в любви к Вам, Виго, — где вы сейчас, Виго? — где Вы? — умница, — где Вы, Виго? — я-то знаю где, — но оттого, что знаю, — такая тоска!» 29-летний, успевший снять лишь четыре фильма, Виго умер от туберкулёза в год премьеры «Аталанты».
Когда Шпаликов пишет: «я снял», — он и прав и не прав одновременно. Конечно, этот финал был придуман им, и он был очень важен для него как для сценариста и для режиссёра. Но на съёмках этого эпизода самого Геннадия не было. Он был так измотан непривычными для него режиссёрскими нагрузками (кое-кто из киношников вообще сомневался, что он их вытянет), что остался в городе, на натуру не поехал. Месхиев снимал один.
Затяжным финалом, с точки зрения сюжета уже как бы и не имеющим смысла, сценарист и режиссёр Шпаликов словно дразнит привыкшего к последовательному киноповествованию зрителя. И словно нарочно провоцирует критиков и чиновников, кидает им красную тряпку, на которую они обязательно «клюнут». Говорят, на премьере картины в ленинградском Доме кино зрители (а там были не случайные зрители) в самом деле в зале недоумённо перешёптывались: что это за бесконечная баржа?.. Официоз картиной Шпаликова был тоже недоволен. Главная советская газета, «Правда», всегда выражавшая «генеральную линию партии», в июле 1968 года заметила устами критика Георгия Капралова, что, «уловив некую жизненную коллизию, драматург не объяснил её, не проанализировал глубоко, не извлёк из неё нравственно-философского „корня“…». Отношение шпаликовских коллег к фильму оказалось тоже сложным. Один из ленфильмовских мэтров, Григорий Михайлович Козинцев, довольно подробно критиковал «Долгую счастливую жизнь» на заседании худсовета студии в апреле 1966-го, при сдаче картины. Начав с дежурных фраз о таланте создателей фильма, приведя слова Ленина о том, что талант дело редкое и его нужно оберегать, заметив, что «Месхиев никогда так хорошо не снимал фильмы, как снял он этот фильм», Козинцев по сути дела не оставил от ленты камня на камне. Получалось, что «в какой-то момент все детали второго плана: пейзажи, происшествия на заднем плане, отдельные эпизоды заднего плана, выходят вперёд, упорно занимая главный плацдарм, ничем не помогая той хорошей истории, которая является основой фильма». Что у Шпаликова — «не культура современного искусства, а скорее тургеневский пейзаж, т. е. бесконечное описание того, что ни за чем не нужно». Что «сопоставление МХАТа с танцами и твистом» задаёт тон, который «неправомочно выходит на передний план». Короче говоря, Козинцев не принял шпаликовского условного киноязыка, и в таком контексте даже не очень понятно, за что он похвалил (голословно, впрочем) Месхиева: ведь камерой оператора воплощался замысел Шпаликова. Подоплёка недовольства старшего режиссёра проступает в тот момент, когда он формулирует собственную «программу-максимум», как он это называет: «простая честная фраза». Таким, считает под влиянием публицистического духа «оттепельного» искусства Козинцев, должно быть современное кино; таким он видел и воплотил «Гамлета». Но Шпаликов снимает уже другое кино — постоттепельное. И потому оно у него не «простое», а сложное. «Долгую счастливую жизнь» надо смотреть несколько раз.
На том же заседании худсовета выступил другой режиссёр старшего поколения, ровесник Козинцева, — Иосиф Ефимович Хейфиц. Он сравнил картину с лирическим стихотворением, которое пытается стать поэмой. Лиризма и в картине действительно немало. В сценарии было ещё больше — не всё вошло в фильм. Например, осталась только с тексте сценария зимняя тема, именно лирическая: «Но сегодня, в день холодный и светлый, в последний настоящий, не приукрашенный ничем осенний день, должен был выпасть снег, всё уже готово было к тому, что он выпадет. И он выпал, упал на землю и леса, на фонари и крыши. Ах, зима! Самой природой отпущенное счастье дышать твоим воздухом, колким, чистым, скрипеть твоим снегом…» Можно только воображать, как, на контрасте чёрного и белого цвета, в динамике света и тени, это «стихотворение в прозе» Геннадия Шпаликова было бы снято Дмитрием Месхиевым. Но значит ли это, что и сценарий, и фильм «пытаются стать поэмой» — то есть претендуют на эпичность? Нам кажется, что нет. Собственно сюжетная линия здесь как раз ослаблена, о чём речь у нас уже шла. Это скорее не «поэма» (в эпическом значении слова; Хейфиц именно это имел в виду), а «роман в стихах» (в «онегинском», лиро-эпическом). Кстати, несколько лет спустя друг Шпаликова, Андрей Михалков-Кончаловский, в самом деле снимет фильм в стихах — «Романс о влюблённых». Вот неожиданно нашлось подходящее жанровое определение и для фильма Шпаликова: романс о влюблённых.
Неудивительно, что профессиональные режиссёры критически отзывались о фильме: он мог показаться им в самом деле недостаточно профессиональным. Ведь Шпаликов не учился режиссуре, какие-то вещи он схватывал интуитивно, «лирически». Поэзия «Долгой счастливой жизни» стала по-настоящему открываться и зрителям, и специалистам лишь десятилетия спустя. Так что легко судить из XXI века. И даже из «перестроечного» времени, когда о фильме «Долгая счастливая жизнь» заговорили как о поворотном событии истории нашего кинематографа, судить было намного легче, чем из 1966 или 1968 года.
Между тем на Западе ленту оценили уже тогда, в 1966-м. На фестивале авторских фильмов в итальянском городе Бергамо она получила Гран-при в виде металлической пластины на малахитовой основе. Изящный приз вручили, конечно, не самому Шпаликову, а передали по дипломатическим каналам. Автор картины хранил его дома и охотно показывал друзьям. Но сама заграница была для него по-прежнему закрыта. Не эта ли награда дала Гене повод для сочинения очередного рассказа про себя из серии «хотите верьте — хотите нет»? Своему другу художнику Михаилу Ромадину он поведал о том, как его прямо с подмосковной электрички «сняли» и отправили в Италию на кинофестиваль, где вручили кубок. Доверчивый Ромадин принял эту историю за чистую монету. Мы помним, что так же наивно поверили в «Нобелевскую премию» арбатские дамы-соседки. Ромадин пересказал это Тарковскому, и Андрей, уже бывавший за границей и хорошо знавший, что просто так, «с электрички», туда не попадают, поразился доверчивости Михаила и в одну секунду развеял эту красивую легенду Шпаликова о самом себе.
Что там заграница, если даже в Карелию, на свою малую родину, Гена не попал, хотя от Ленинграда это совсем недалеко. Они с Файтом хотели съездить в Сортавалу, где в Доме творчества композиторов отдыхали в ту пору их московские друзья — супруги Валерий Левенталь и Марина Соколова, оба художники. Сортавала находилась в приграничной зоне, и нужно было оформлять пропуск. Друзья пришли в милицию, и им там сказали: зайдите за документами через две недели. А у них было всего два дня. Так и не съездили.
…Ленинград напомнил Шпаликову о его прежней — и совсем ещё недавней — жизни. В этом городе жила теперь Наталия Рязанцева.
Самое первое время после окончания ВГИКа было у неё трудным. Творческая жизнь не складывалась; как она сама позже выразится, «срывалась одна работа за другой, денег нигде не платили…». Замечательные фильмы по её сценариям — «Крылья» Ларисы Шепитько (сценарий Наталия написала в соавторстве с Валентином Ежовым), «Холодно — горячо» Николая Розанцева, «Долгие проводы» Киры Муратовой — были впереди. И впереди была, как оказалось, встреча, изменившая личную жизнь Наталии Рязанцевой. Это была встреча с ленинградским кинорежиссёром и сценаристом Ильёй Авербахом. Илья был по образованию врачом, после института отработал три года по распределению в вологодской Шексне, но душа к медицине не очень лежала, хотя с работой он справлялся неплохо. Человеком он был «гуманитарным»: хорошо знал живопись и поэзию, сам писал стихи. Но более всего его притягивало кино. Вернувшись в Ленинград, решил посвятить себя этому искусству, окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве, затем ещё курсы сценаристов и режиссёров при «Ленфильме». Стал профессиональным кинематографистом. Знакомство Наталии с Ильёй обернулось взаимным интересом, переросло в любовь, она стала его женой.
Совместную жизнь Рязанцевой и Авербаха «долгой и счастливой», наверное, не назовёшь. В ней всё было, как и со Шпаликовым, непросто, хотя Илья оказался человеком куда более уравновешенным и собранным. Проблема была та же: две звезды, которым на одной орбите трудно. И всё же этот брак, несмотря на разные полосы в его истории, сохранился и продлился два десятилетия — до кончины Авербаха. Вероятно, помогло участие в общих, как теперь говорят, проектах. Авербах снял новеллу «Папаня» в фильме «Личная жизнь Кузяева Валентина» по Наташиному сценарию (работа малоизвестная и не оцененная по достоинству, между тем как замечательная, тонко сочетающая комизм и драматизм). По её же сценарию Илья Александрович снял позже фильмы «Чужие письма» и «Голос», оба — в жанре психологического кино. Наталия Рязанцева вообще — мастер психологического жанра.
Каково же было удивление Наташи — а также её нового супруга и его мамы, Ксении Владимировны Куракиной, когда на пороге их ленинградской квартиры на Петроградской стороне, на улице Подрезова, вдруг оказался Шпаликов. Илья и Ксения Владимировна видели его вообще впервые в жизни, но он не смущался ни этим обстоятельством, ни тем, что вообще-то бывшие мужья к бывшим жёнам, живущим уже с новыми мужьями, так просто с улицы домой не заходят.
Но Гена не просто зашёл: он зашёл… за Наташей! Дескать, ты всё равно лучше всех, собирайся, поехали со мной в Москву. Ксению Владимировну, в прошлом актрису, а теперь театрального педагога, преподававшую в Ленинградском театральном институте сценическую речь — то есть даму классического склада, с манерами комильфо, — он при этом называл её домашним именем «Киса» (впрочем, он и свою вторую тёщу, маму Инны, звал не по имени-отчеству, а просто Людой и на «ты»). У хозяев квартиры не было слов. Ясное дело, что незваный гость был не вполне трезв, и, судя по всему, у него произошла очередная ссора с Инной: у этой пары коса на камень находила то и дело. Отнестись к подобному заявлению всерьёз (а потом Шпаликов Авербаху ещё и соответствующее письмо прислал!) было невозможно, но, если вдуматься, была у этой выходки и своя объяснимая подоплёка. Шпаликов прекрасно помнил, что именно в Ленинграде, в зимние студенческие каникулы 1959 года, их роман с Наташей и начинался.
Помнил и другие эпизоды, из других совместных с Наташей поездок в Питер. Когда, например, встретили там другую «вгиковскую» пару: Бориса Андроникашвили, выпускника сценарно-киноведческого факультета, сына расстрелянного в 1938 году писателя Бориса Пильняка (Пильняка тогда, конечно, не печатали, он «вернётся» в литературу лишь в годы перестройки), и Людмилу Гурченко, уже прославившуюся благодаря фильму «Карнавальная ночь». Этот фильм, вышедший на экраны только что, в самом конце 1956 года, стал одной из первых ласточек «оттепельного» кино: в нём был высмеян чиновник-консерватор «товарищ Огурцов», сыгранный Игорем Ильинским. В рассказе «Патруль 31 декабря» (о нём шла речь в первой главе) Шпаликов вспоминал весёлую новогоднюю песенку про «пять минут» из «Карнавальной ночи», которую пропела там Люся, и без затей, хотя и с полушутливой официальностью, резюмировал: «Будем всегда благодарны Л. М. Гурченко». Или другой ленинградский эпизод, о котором можно сказать известной поговоркой: и смех и грех. В ресторане «Восточный» подвыпивший Гена упал с лестницы, его отвезли в травмпункт, забинтовали голову, что не помешало ему на следующий же день искупаться в пруду в парке на Елагином острове…
Теперь, в очередную сложную минуту семейной жизни, воспоминание о том времени всколыхнулось в его душе, сработала «память места». И импульсивный, непредсказуемый характер самого Шпаликова.
След шпаликовского настроения ленинградской поры хорошо просматривается в его стихотворении «Воспоминание о Ленинграде 65 года»:
Всё трезво. На Охте. И скатерть бела. Но локти, но локти Летят со стола. Всё трезво. На Стрелке. И скатерть бела. Тарелки, тарелки Летят со стола. Всё трезво. На Мойке. Там мост да канал. Но тут уж покойник Меня доконал. Ах, Чёрная речка, Конец февраля, И песня, конечно, Про некий рояль. Ещё была песня Про тот пароход, Который от Пресни, От Саши плывёт. Я не приукрашу Ничуть те года. Ещё бы Наташу И Пашу — туда.Стихотворение кажется шуточным и на первый взгляд не очень понятным. Но вчитаемся в стихи, в которых, кстати, использованы замечательные ассонансные (построенные на созвучии гласных) рифмы: «Охте — локти», «Мойке — покойник», «февраля — рояль». Во-первых, в динамике первых двух строф, где «со стола летят» и локти и тарелки, ощущается некое смятение, душевная неуравновешенность — несмотря на то что «всё трезво». Как-то неуютно лирическому герою в Северной столице. Во-вторых, слышен знакомый нам шпаликовский «панибратский» тон по отношению к Пушкину: это он, великий «покойник», «доконал» героя стихотворения. Мы помним песенку «Я шагаю по Москве…», где Пушкин тоже появлялся, но там он «жил» и «с Вяземским дружил», и покойником не был. Правда, «лежал в постели, говорил, что он простыл», ну так это не смерть. В московских стихах Шпаликова Пушкин был повеселее, чем в ленинградских. Конечно, Мойка, вкупе с гибельной Чёрной речкой (где, напомним, Шпаликов и Файт как раз снимали квартиру), располагает к печальному настроению, но только ли в Мойке тут дело? И в-третьих, последние строфы приоткрывают секрет ощущения ленинградского неуюта: в питерских компаниях, хоть «на Охте», хоть «на Стрелке» (речь, конечно, о стрелке Васильевского острова, со зданием Биржи и Ростральными колоннами), недостаёт московских друзей — Саши (Княжинского), Паши (Финна) и, конечно, Наташи. Она притягивает не столько, может быть, как жена (бывшая), сколько как друг, каковым она, мы помним, себя со Шпаликовым обычно и ощущала. Ну а песни, упомянутые в стихотворении, — это шуточная «Лают бешено собаки…» («Лают бешено собаки / В затухающую даль. / Я пришёл к вам в чёрном фраке, / Элегантный, как рояль»; авторская фонограмма её не сохранилась, но известно, что Шпаликов её напевал) и уже знакомая нам песня про «пароход белый-беленький» из фильма «Коллеги». Без этих песенок шпаликовская компания не компания.
Не то чтобы прежняя жена казалась ему теперь лучше нынешней. Это скорее вечная неудовлетворённость реальной жизнью и вечная мечта о лучшей жизни, к которой, кажется, только руку протяни. Или дойди, как до линии горизонта… Между тем съёмки картины подошли к концу, ленинградский год завершился. Вернулась московская жизнь, далеко не благостная. Сложная супружеская пара не была примером семейной гармонии. К отношениям Гены и Инны, может быть, подошла бы поэтическая фраза Маяковского: «любовная лодка разбилась о быт». Для нормальной, размеренной семейно-бытовой жизни, к каковой обязывало уже рождение ребёнка, они оба приспособлены были мало. Гена уходил «в пике», порой пропадал на несколько дней, выйдя из дома… в домашних тапочках, потом обнаруживался, подобно булгаковскому Стёпе Лиходееву, где-нибудь в Ялте или Сочи, присылал телеграмму с просьбой выслать денег на билет. Жена, всё-таки — несмотря ни на что — любившая его, высылала последние, ещё и брала взаймы. Гена возвращался. Инна, от такой неустойчивой жизни тоже потянувшаяся к рюмочке, вдруг не пускала его, потом пускала, потом прогоняла сама. Конечно, она, подобно своей героине Лене, много терпела и прощала, но всё-таки женская жертвенность, раздевание и укладывание хмельного мужа в постель, была для нее тягостной. Дверь их черёмушкинской квартиры на свежего человека производила странное впечатление: она была вся в замках. При очередной ссоре и очередном исчезновении мужа Инна вызывала слесаря, и он ставил новый замок — чтобы Гена не смог попасть в квартиру. На нынешние металлические двери много замков не поставишь, можно лишь поменять один на другой. А на тогдашней деревянной — проще было поставить новый и не возиться с подбором замка, подходящего к старому гнезду. Потом наступало примирение, Гена получал ключ, в очередной раз давал «честное слово, что такое больше не повторится», но следующий скандал неизбежно случался, и замок менялся вновь. И так далее — вплоть до записки, которую Инна однажды обнаружила дома и которую можно считать эпилогом их семейной жизни: «Вовсе это не малодушие, — не могу я с вами жить. Не грустите. Устал я от вас. Даша, помни. Шпаликов».
Дашу определили в интернат. Оставаться в доме ей было и впрямь уже невозможно: лучше, если ребёнок не видит и не слышит родительских ссор.
Кинозритель, пришедший на сеанс «Долгой счастливой жизни» и не посвящённый в семейные обстоятельства этой пары, едва ли подозревал о сильном личном подтексте картины. А заключался он в том, что этим фильмом Гена с Инной словно пытались вернуть семейное счастье, поначалу казавшееся возможным и теперь уходившее из-под ног. «Надо уметь, — говорит в фильме Виктор, — беречь друг в друге хорошее. Надо уметь прощать». Но в фильме из этого ничего так и не вышло, и реальная семейная жизнь его главных творцов тоже шла под откос. Две кометы — Шпаликов и Гулая — мчались каждая по своей траектории, даже если порой казалось, что их траектории совпадают…
Шпаликовское выражение «долгая счастливая жизнь» прижилось в нашем культурном сознании. В 2004 году рок-группа «Гражданская оборона» выпустила альбом под таким названием; в альбом входила и одноимённая песня Егора Летова. Сам музыкант, когда ему напомнили о фильме Шпаликова, признался, что песня возникла не в связи с фильмом, а под впечатлением от посещения реанимационной палаты, когда ему вдруг представилось, что он сам или кто-то другой потеряет возможность принимать сильнодействующие вещества, без которых, по его мнению, невозможен рок-н-ролл. Слово «наркотики» Летов из осторожности не произнёс. В песне это выражено так: «Потрясениям и праздникам — нет. / Горизонтам и праздникам — нет… / Отныне долгая счастливая жизнь / Каждому из нас…» Песня словно отрицает шпаликовское выражение в его прямом, «положительном» значении; но Летов, думается, ушёл от Шпаликова не так уж далеко. Ведь у героев фильма долгая счастливая жизнь не получилась; может быть, получится в будущем, но уже по отдельности, друг без друга?
По такому — «скептическому» — пути пошёл и кинорежиссёр Борис Хлебников, выпустивший в 2012 году фильм с тем же названием, заимствованным им из песни Летова. Симптоматично, что для режиссёра, родившегося пять лет спустя после премьеры шпаликовской картины, произведение рок-музыканта оказывается ближе произведения кинематографической классики. Фильм Хлебникова — постсоветский вестерн, трагическая история молодого фермера Александра, приехавшего из города в село и столкнувшегося с местными властями, и мафиози, выдавливающими его с земли. Своё дело он вынужден защищать с оружием в руках. Конечно, ни о какой «долгой счастливой жизни» всерьёз здесь не может быть и речи. Финал картины как будто открытый, но приговор герою, убившему двух чиновников и милиционера, фактически подписан. Фильм Шпаликова к этому вроде бы не имеет отношения, но Шпаликов невольно подсказал и Летову и Хлебникову саму формулу, с её двусмысленностью, которая на рубеже столетий, в эпоху большого общественного слома, оборачивается уже не затаённой иронией, как в картине 1966 года, а жёстким сарказмом.
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ
Шпаликов был очень профессиональным кинематографистом. Дело не только в его способности писать в обстоятельствах, мало для этого пригодных, — дело ещё в его готовности работать в разных жанрах, включиться в тематику, которой прежде он никогда не занимался. Профессионал — сценарист ли, прозаик, живописец — этим, в частности, и отличается от любителя. Последний обычно вращается в кругу излюбленных тем и сюжетов, которых у него не может быть много. Первый же способен обращаться к самому разному жизненному материалу и профессионально его «обживать».
Но при этом в сценариях Шпаликова всегда ощущается, так сказать, личный ракурс. В них, независимо от жизненного материала, эпохи, сюжета, обязательно есть нечто «шпаликовское», задушевное, дающее ключ к его собственной личности.
* * *
В 1964 году Шпаликов написал сценарий короткометражного фильма под названием «День обаятельного человека». Он возник, что называется, не от хорошей жизни. В 1963-м Шпаликов заключил на «Мосфильме» договор на сценарий короткометражки «Точка зрения» (другое название — «Счастье»), ставить которую собирался его друг Андрей Кончаловский. Это должна была быть дипломная работа Андрея как режиссёра. Сценарий, в основе которого лежали взаимоотношения молодой пары, включал в себя ещё исторические ретроспекции (молодость родителей героини, Гражданская война, стратонавты 1930-х годов…). 25 июня того же года текст сценария был обсуждён на сценарной коллегии и рекомендован к переработке по причине «недостаточной мотивированности характеров» (Лазарь Лазарев), «расплывчатости» и «неопределённости» (Юрий Бондарев), «умозрительности» (Александр Борщаговский). Вступиться за друзей пытался на этом заседании Андрей Тарковский, да куда там… Но Кончаловский вдруг переключился на другую работу — фильм «Первый учитель» по одноимённой повести Чингиза Айтматова (в студийных документах он поначалу назывался «Шумят тополя»). По двум этим причинам дело с «Точкой зрения» затормозилось. На студии возникла идея перезаключения договора со Шпаликовым для написания другого сценария, уже для полнометражного фильма. Шпаликов новый сценарий представил, но его текст «тянул» лишь на короткометражку и при обсуждении был сочтён не сценарием, а «расширенным либретто», то есть чем-то средним между сценарием и заявкой. В полновесный сценарий Гена его так и не переделал, в результате студия расторгла договор с ним и потребовала вернуть полученный им аванс в размере 1250 рублей. Сумма по тем временам очень приличная: учителю или инженеру, чтобы заработать такие деньги, нужно было трудиться целый год. А полный гонорар должен был составить 5000 рублей. Вернул ли Шпаликов аванс — не знаем. А текст сценария остался «короткометражным».
Опыт работы в таком жанре у Шпаликова был ещё со студенческой поры («Трамвай в другие города»). Короткометражка — жанр по-своему трудный: если фильм сюжетный — нужно суметь вместить действие в небольшой объём; если импрессионистичный, к чему Шпаликов, как мы уже замечали, тяготел… то это непросто уже само по себе, независимо от объёма.
«День обаятельного человека» — сценарий одновременно и сюжетный, и импрессионистичный. О сюжете сейчас скажем, но сразу отметим «лирические отступления» (так это названо прямо в тексте), в которых мы видим Москву сначала ранним утром, а затем днём. Это уже знакомая нам стилистика «Заставы Ильича», почерк сугубо шпаликовский, тонкий, мы бы сказали даже — нежный. Его слог — визуальный, неторопливый, порой как бы кружащийся в обилии придаточных предложений и завораживающий этим кружением, вдруг обращающий наше внимание совершенно излишним для сценария оборотом («прямо надо сказать»). Это скорее даже литература, чем сценарий фильма. «Оживали пруды. По их поблескивающей от первых солнечных лучей глади, по спокойной, тёплой воде уже плавали утки, ныряли, весело взбирались на деревянный помост… Чудесный был день, прямо надо сказать. Таких немного бывает среди всех летних дней, а если и случаются такие дни, то нужно относиться к ним с большой нежностью и уважением и стараться, чтобы твоё душевное состояние не шло вразрез с состоянием погоды, природы, с тем белейшим тополиным пухом, который летает по городу…» Здесь нужна камера Маргариты Пилихиной или Александра Княжинского — и если бы дело дошло до съёмок, то наверняка кто-то из них это бы и снимал, и снял бы органично и поэтично. Но «прямо надо сказать»: до съёмок не дошло, сценарий остался нереализованным. Фильм по нему был-таки снят, но… спустя ровно 30 лет, в 1994 году, режиссёром Юрием Петкевичем, с Алексеем Гуськовым в главной роли. Это будет уже совсем другое время, другое кино и даже другой объём. Картина займёт всего 15 минут — между тем как шпаликовский сценарий был рассчитан, судя по всему, как минимум минут на 30.
Так вот, главная роль, главный герой, сюжет, конфликт — нечто новое, прорастающее сквозь поэтическую Москву. Новое для самого Шпаликова, для нашего кино, для нашего сознания вообще.
Главные герои «перешли» сюда из «Точки зрения». Героя нового сценария зовут Андрей Высотский. Можно подумать, что фамилией он обязан Владимиру Высоцкому, и Шпаликов лишь слегка её изменил. Но вряд ли: с Владимиром Гена в эту пору ещё не знаком, а познакомится очень скоро (об этом — уже через несколько страниц). Скорее всего, здесь надо слышать ассоциацию с известным в то время диктором радио Ольгой Высотской. Фамилия сама по себе — знак принадлежности героя к миру избранных, находящихся «на высоте», простым смертным недоступной. Это он, Андрей, — «обаятельный человек», его день — лучше сказать, сутки — прослежены в тексте с ночи до вечера. Он — преуспевающий певец, солист Большого театра. Избалован, привычен к «премьерству» в музыке и в жизни, тем более что обладает безупречной внешностью — «представляет из себя образец мужественности шириной плеч, открытой улыбкой, ростом и всем прочим, что должно быть в человеке, который уже достиг тридцати лет и часть этого времени он серьёзно занимался своим физическим развитием, ибо ничто не может появиться просто так». Не герой — картинка. Но не обманчива ли внешность? — уж слишком она «правильная».
По мере чтения сценария мы настораживаемся. Уже в первой сцене («Ночь») жена Андрея Вера делится с ним своим беспокойством, как будто неоправданным и ничем не подготовленным: «Я боюсь себя, тебя — и за тебя боюсь, даже по глупости: вдруг ты под машину попадёшь, вдруг тебя какой-нибудь бандит ночью по ошибке стукнет…» Муж вышучивает эти страхи («Главное, это вашему брату сумасшедшему не возражать») и слышит в ответ: «Андрей, ты нехороший человек». Его шутливое многословие напоминает заговаривание зубов для отвода глаз: «Отбрось всё личное, заслоняющее тебе глаза, всё внешнее, поверхностное — и перед тобой откроется мрачная картина зла», и так далее, и так далее.
Дальше наша насторожённость нарастает. Андрею звонит его друг и коллега Паша Селезнёв, просит денег в долг и получает отказ. В качестве «компенсации» же слышит велеречивый и как будто шутливый монолог про то, как Андрей «сам в долгах» и как «кредиторы сжимают кольцо», и даже предложение своей машины Паше, чтобы тот «с любимой девушкой в Звенигород, например, съездил». Добрый какой, оказывается! А вот в долг всё равно не даёт, хотя Вера замечает: «Ну, Паше можно было дать». Объяснение Андрея таково: «Только дураки дают в долг, а мы — не из них. Деньги даются нам трудами, немалыми и опасными. Вот Карузо, пел, пел — и заработал рак горла». Рассуждать так можно лишь в том случае, если считаешь, что долг тебе не вернут — то есть не доверяешь тому, кому даёшь. И это — дружба?
С любовью, как мы уже заметили, дело обстоит тоже непросто. Первая сцена давала понять, что настоящей гармонии в отношениях Андрея и Веры нет. Дальше — больше. В четыре часа они должны быть на похоронах Вериной тётки. «Я не пойду», — заявляет супруг. Мол, твоя тётка — «вот ты сама и иди». Есть у него мотивировка и поглубже: «Я пока в консерватории учился, восемь профессоров и два доцента скончались. Представляешь, сколько над ними слов наговорили! Сам выступал дважды. С тех пор не верю ни единому слову, что бы там ни говорили!» Да он циник, этот певец-краснобай. И его комплименты в адрес жены: «Умница. Прелесть. Друг и советчик. Здравый ум, соединённый с красотой» — воспринимаются уже как откровенная ложь, когда мы узнаём, что он ей изменяет. Его юная пассия, решив, что нужно «отрубить всё» и «освободиться от неправды», взяла да и позвонила Вере и всё ей рассказала. Следуют скандал и разрыв, которые в планы Андрея явно не входили. Он и в этой ситуации остаётся эгоистом, думающим лишь о себе: «Почему я, взрослый человек, должен буду из-за твоей опрометчивости — назовём её так — выслушивать всё, что мне предстоит выслушать сегодня?» Ну а цена его «заботы» о жене («И зачем обижать Веру — человека, который этого не заслуживает?») очевидна и в комментариях не нуждается.
И всё же… Всё же он едет на похороны, сразу замечает «профиль Веры, обращённый как-то в сторону, грустный и беспомощный» (можно представить себе её состояние после того телефонного разговора), проходит к роялю и в память об умершей поёт лермонтовский романс «Выхожу один я на дорогу». Он «пел, и его мысли были сосредоточены не на портрете тётушки, конечно, хотя все, кто был в этой комнате, поддались настроению этой песни и видели только это девичье лицо начала века, и ничего более, но Андрей смотрел только на волосы Веры, собранные на затылке в светлый пучок, на её шею, плечи, спину». Эта сцена всё восстанавливает: они вместе возвращаются домой и разлад отношений воспринимают как одно из тех «огорчений, которые если и случаются с ними, то проходят так же быстро и так же излечимы, как всё, что было в этот летний день».
Да, день оказался, мягко говоря, насыщенным — даже с поправкой на условность короткометражного формата. Но эта насыщенность позволила сценаристу внести в сюжет проблему, появление которой в тексте именно 1964 года очень симптоматично в свете наступавшей новой эпохи общественной жизни. Напомним, что в тот год пишется и сценарий «Долгой счастливой жизни», и там проблема — похожая. Эпоха, названная позже «застоем», породила особый тип героя: способный или даже одарённый человек, не реализующий себя в полной мере, проигрывающий на любовном фронте, рефлектирующий больше, чем действующий, порой забалтывающий что-то очень важное в пустых словах, а то и в алкогольном дурмане. Он может быть «обаятельным», но обаяние скрывает пустоту и внутреннюю неустойчивость. «Лишний человек» нового времени. Новый Гамлет, всё больше склоняющийся к тому, чтобы «не быть». Важнейшей темой эпохи становится несостоятельность — профессиональная ли, личная — неважно. Знаковый герой такого типа — Зилов из вампиловской «Утиной охоты». Или Дмитриев из трифоновского «Обмена». Или Игорь Саввович из одноимённого романа Виля Липатова. Эти герои, пожалуй, более убедительны, чем плакатно-положительный Евгений Столетов из липатовского же романа «И это всё о нём», которого в 1970-е годы навязывали старшеклассникам как «героя нашего времени». Нет, герой 1970-х, увы, не столь идеален, на нём лежит печать той вязкой тины, в которую сползала страна в брежневские годы и которая в конце концов затянула советскую жизнь, распавшуюся в годы горбачёвские.
Но эти герои — позднейшие. Их время — впереди, и мы до него скоро дойдём. Герой же «Дня обаятельного человека» открывает этот ряд уже в 1964 году. Остаётся поражаться проницательности автора сценария, который, получается, был не только «автором воздуха Оттепели», но и наметил пунктиром дальнейшую судьбу поколения, вошедшего в наше искусство с молодыми героями «Заставы Ильича». Он стал «автором» ещё и «воздуха застоя»; сошлёмся ещё раз и на фильм «Долгая счастливая жизнь», о котором мы подробно говорили в предыдущей главе. Шпаликов, наверное, мог бы повторить пушкинские слова, относящиеся к герою поэмы «Кавказский пленник» (их можно спроецировать и на позднейший литературный ряд: Онегин, Печорин…): «Я в нём хотел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодёжи 19-го века». Добавим от себя: и молодёжи «послеоттепельного» времени в XX веке. Герои «оттепели» — у того же Шпаликова — были всё же не такими: они могли рефлектировать, но в них не было «преждевременной старости души».
Здесь можно вспомнить, что у Шпаликова уже был герой несостоятельный — в сценарии «Летние каникулы», и звали его, кстати, тоже Андрей. Но тот был заметно проще: отрицательный, и всё тут. Андрей Высотский сложнее: он совмещает в себе разные начала, душевная червоточинка не помешала ему всё же оказаться на высоте (на этот раз подлинной, без кавычек) в финале. Как эта высота не позволяет нам забыть о червоточинке. Но Онегин и Печорин как раз таковы: их не назовёшь отрицательными, они амбивалентны, они совершают ошибки и проступки не по злому умыслу. От чего, конечно, не легче — ни их жертвам, ни в итоге им самим.
И наконец: в Андрее есть что-то… от самого автора. Шпаликов сам был таким «обаятельным» человеком, всеобщим любимцем, который мог заговорить собеседнику зубы, в ответственный момент вдруг исчезнуть, сочинив какую-нибудь полуфантастическую причину своего исчезновения (неспроста так обижался на него Хуциев, да и он ли один?). Нет, мы не хотим ставить знак равенства между автором и героем сценария. Но какая-то доля авторефлексии здесь есть — и есть, может быть, попытка искупить собственные грехи через очистительное пламя искусства. Ведь возвращается же Андрей к Вере, поднимаясь над всем своим легкомыслием и эгоцентризмом.
Дальнейший путь кинодраматурга покажет, что тема проверки на состоятельность, нащупанная им в «короткометражном» сценарии 1964 года, была затронута не случайно. Спустя несколько лет она проступит в другом, уже полноформатном, сценарии, одном из программных для Шпаликова. Но не будем забегать вперёд.
* * *
В середине 1960-х годов Шпаликов взялся написать сценарий под названием «Я родом из детства» (рабочий вариант — «Фронтовой город») для белорусского режиссёра Виктора Турова, с которым он дружил и с которым, напомним, создавал в первый год после окончания ВГИКа короткометражную ленту «Звезда на пряжке». На сей раз работа, тоже на «Беларусьфильме», предстояла более масштабная. Это был второй полнометражный фильм режиссёра; первой же была картина о белорусских партизанах «Через кладбище» по одноимённой повести Павла Нилина. «Через кладбище» — фильм дипломный, но очень удачный и значимый. Судя по всему, Шпаликов начал работу над сценарием «Я родом из детства» сразу после «Звезды на пряжке», вышедшей в 1962-м. Возможно даже, что до работы над сценарием «Я шагаю по Москве». Картина «Я родом из детства» должна была развивать намеченную в «Звезде…» тему «дети и война».
Для Турова эта тема была особенно важна. Он родился неполным годом раньше Шпаликова и ребёнком хлебнул военного лихолетья сполна. Когда его родную Могилёвщину оккупировали фашисты, отец был расстрелян на глазах у сына. Сам Витя был угнан в Германию. Нужно ли после этого удивляться, что режиссёр постоянно обращался к военным сюжетам и что героями его новой картины стали дети войны?
На «родной» минской киностудии у Турова почему-то не всё ладилось. Ещё на стадии обсуждения сценария руководство «Беларусьфильма» решило подстраховаться и обратиться в секцию кинодраматургии Союза кинематографистов: дескать, мы тут разошлись во мнении и просим вас обсудить сценарий. Подтекст понятен: если вдруг по поводу картины гром грянет, мы ни при чём, нам товарищи из Москвы посоветовали… Товарищи из Москвы (под председательством Ивана Иосифовича Щеглова) подивились такому перекладыванию ответственности и решили сценарий не обсуждать. Тон разговора был по отношению к Шпаликову очень доброжелательным, поэтому поневоле удивляешься: ну чего им стоило «обсудить» и принять решение в пользу сценария! Авторов фильма это поддержало бы, тем более что на «Беларусьфильме» хотели даже заменить режиссёра. Присутствовавший на московском обсуждении Шпаликов однозначно сказал: «Я не знаю, почему сюда приехал Четвериков. Я не хочу с ним работать, я работал с Туровым».
Но если для Турова фильм был личной работой благодаря самой теме, то для Шпаликова он был ещё и автобиографическим. Параллели с судьбой его собственной семьи здесь очень откровенны и бросаются в глаза всякому, кто немного знаком с обстоятельствами семейной истории Шпаликовых. Другое дело, что в ту пору таких людей было, конечно, немного — только самые близкие.
Сценарий «Я родом из детства» — как и другие сценарии Шпаликова к фильмам «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве» или «Долгая счастливая жизнь» — не очень насыщен действием. Он представляет собой скорее сцены из жизни небольшого белорусского города в течение весны и лета 1945 года. Город пережил оккупацию. Но теперь война заканчивается. В кадре — школа, в которой все уроки проходят на первом этаже: второй и третий разрушены, заниматься там невозможно. Однорукий учитель, руководящий школьным хором; почему нет второй руки — объяснять не нужно. Проходящие через город поезда, к которым выходят местные жители в надежде на возвращение близких. Сцена на станции: капитан-фронтовик, только сейчас узнавший, что его семья уничтожена фашистами, в отчаянии обливает бензином и поджигает вагон, порываясь застрелиться. Танцплощадка, где один из юных героев сценария «сводит» в танце «очень молодую девушку в светлом платочке» с «худым, строгим» младшим лейтенантом, потерявшим на войне зрение. Казнь гестаповца и полицая из местных (в фильме — трёх гитлеровцев) на городской площади. Салют в честь Победы, голос Юрия Левитана…
Но есть всё же в сценарии и картине сюжетная линия — история семьи Савельевых, к которой приковано главное внимание сценариста — а затем и зрителя фильма. Мальчик Женька — это он, как и его друг Игорь, родом из детства. Это к ним в первую очередь относится текст «от автора» в начале сценария, который в фильме звучит за кадром: «Это будет фильм о детстве поколения, к которому так или иначе принадлежат все эти люди, детство у них было разное, но в чём-то удивительно похожее. Может быть, потому, что у всех в детстве была война, а это уже много. И ещё, может быть, потому, что у половины из них нет отцов — это тоже объединяет». Не у половины — куда больше…
Все члены семьи Савельевых, кроме Женьки, имеют те же имена, что и члены семьи Шпаликовых. Отец — Фёдор, офицер, участник войны, приехавший домой на чересчур короткую, однодневную побывку, проведший в семье вечер и ночь, а утром вновь отправившийся на поезд. Мать — Людмила. Дочь — Ленка, «Елена Фёдоровна», как по-взрослому названа она однажды в сценарии. Семья не была на оккупированной территории — она вернулась в родной город из Алма-Аты, где находилась в эвакуации — как и сами Шпаликовы. Счастье мимолётной семейной встречи Савельевых оказалось обманчивым: вскоре они получают похоронку — сообщение о гибели Фёдора при штурме Берлина. Мы помним, что в конце войны — но не в Германии, а в Польше — погиб и Фёдор Шпаликов. Так что Женька Савельев — своего рода двойник самого Гены Шпаликова, его экранное alter ego.
Теряя отцов, оставаясь единственными — пусть пока и малолетними — мужчинами в доме, дети войны взрослели быстро. Мальчишеская тяга к рискованным забавам и острым ощущениям толкает Женьку к тому, чтобы в последний момент перед быстро идущим поездом лечь на шпалы и пролежать на них, пока состав громыхает над головой. Приключение завершается благополучно — зато Женька получает по лицу от друга Игоря: «Мало тебе, что отца убили, да?» Мог бы Женька, прежде чем лезть под поезд, подумать о матери и о сестре — но не подумал. «Они, Женька и Игорь, были ровесниками, но сейчас Игорь казался старше».
Некоторые эпизоды сценария, усиливающие тему раннего взросления, в картину, увы, не вошли — по причинам явно не творческим. В финале Игорь уезжает в Минск, в ремесленное училище — уезжает рано утром, пока дома спят: «Неохота, чтобы мать провожала. Слёзы и всё такое… И Надька тоже какая-то нервная стала». «Надька» — старшая сестра Игоря. Ещё бы ей не быть нервной: она была угнана фашистами и только что вернулась из Польши. Прощается он только с Женькой. В мешке у него — нехитрая домашняя снедь и склянка с жидкостью. «Надо проститься, — неожиданно серьёзно сказал Игорь, — чтобы всё, как у людей… У тётки достал…» Два подростка пьют самогон и заедают его картофельными лепёшками. Конечно, показывать с советского экрана, что подростки выпивают, было никак нельзя: чему, дескать, учите подрастающее поколение… А жаль. Сцена выразительная и жизненная, оправданная всей логикой раннего взросления, на которой построен сценарий. И жаль, что вместе с этой сценой пришлось пожертвовать и словами, которые, наверное, должны были, подобно приведённому выше тексту в начале действия, звучать от автора, за кадром: «Никогда в жизни у них этого больше не будет. Ничего лучшего, чем это утро 45-го года, и потом они не раз вспомнят об этом». Эти слова замыкают сюжет, «закольцовывают» его сознанием уже давно выросшего, взрослого человека, для которого война была и осталась главной точкой жизненного отсчёта. Всё измеряется ею. Это человек поколения Шпаликова, поколения Турова. Поколения шпаликовского друга оператора Александра Княжинского, эту картину снимавшего. И поколения Владимира Высоцкого, который тоже оказался в составе съёмочной группы.
Высоцкий в ту пору находился в начале своей большой известности. Он был моложе Шпаликова всего на несколько месяцев, у него за плечами тоже были военное детство и эвакуация из Москвы. Вот только отец с фронта, слава богу, вернулся, хотя и не к Володиной маме. Годом раньше Геннадия, в 1960-м, Высоцкий окончил Школу-студию при МХАТе. После этого были мимолётная работа в нескольких столичных театрах (нигде не прижился), съёмки во второстепенных ролях в малоинтересных картинах вроде «Увольнения на берег» и «Штрафного удара» — пока актёр не оказался в труппе обновлённого тогда Театра на Таганке. Это произошло в 1964 году — как раз перед началом работы над фильмом «Я родом из детства». И уже начинали звучать по стране песни молодого барда Высоцкого — пока в основном на улично-уголовные темы вроде «Татуировки» и «Я был душой дурного общества». Скоро, во второй половине 1960-х, Высоцкий проявит себя — в обход всех худсоветов и запретов, благодаря одним только магнитофонным записям — уже не только как автор таких песен, но и как создатель поэтической «энциклопедии советской жизни», в которой военная тема займёт одно из ключевых мест. Фильм Турова и Шпаликова (и снятый вскоре после него фильм Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль» об альпинизме) стал для Высоцкого как бы трамплином в большую поэтическую и актёрскую судьбу. Со своей стороны, участие Высоцкого тоже многое дало белорусской кинокартине и многое в ней предопределило.
В сценарии Шпаликова была роль соседа Савельевых, фронтовика Володи, вернувшегося с фронта с обожжённым лицом. На станции они с Женькой случайно встретились и разговорились, но Женька его не помнит. И только когда они оказались у двери квартиры и мужчина достал точно такой же, как у Савельевых, ключ, до Женьки дошло: «Так это вы и есть наш сосед?» Оторвав топором доски, которыми была забита комната, Володя попадает в своё жилище, где единственная вещь — кроме железной кровати без матраца и треснувшего зеркала без оправы — висящая на большом гвозде гитара.
Попробовать Высоцкого на эту роль предложил Турову Княжинский — хотя до этого на неё пробовались два других замечательных актёра — Алексей Петренко и Владимир Заманский. Но Высоцкому «помогла» как раз гитара! После кинопроб Высоцкий пел для Турова и других участников съёмочной группы — и на студии, и дома у режиссёра. Они подружились, и как-то уже само собой вышло, что роль Володи будет играть Высоцкий.
По сценарию, в картине не раз должны были звучать песни довоенных и военных лет и романсы: «Вставай, страна огромная…», «Утро красит нежным светом…», «Чайка смело пролетела над седой волной…», «Не тревожь ты себя, не тревожь…», «Отвори потихоньку калитку…» Две последние — как раз под Володину гитару, в день его возвращения, когда соседи устраивают совместный «пир», в основном из привезённых фронтовиком, диковинных для ребят, продуктов (бразильский компот, румынское вино). Но раз в съёмочной группе теперь был Высоцкий — «репертуар» изменился. Грех было не использовать песенный талант актёра, тем более что он и сам был настроен выступить и в таком качестве. Он, правда, почти не писал для фильма специально, предложил уже написанные прежде песни. И Турову, и Шпаликову они понравились. Опорной песней стали «Братские могилы» («На братских могилах не ставят крестов…»): они звучат в исполнении Марка Бернеса в сцене, где жители города возлагают цветы к могилам павших бойцов, а затем в финале, в исполнении Володи (самого Высоцкого). В сцене на рынке звучит песня «Высота» («Вцепились они в высоту, как в своё…»). Во время побывки Фёдора Савельева и домашней вечеринки по этому случаю — «Холода» («В холода, в холода от насиженных мест…»): её Высоцкий написал специально для картины и стилизовал под довоенный вальс. Наконец, вновь из уст Володи звучат фрагменты песни «Звёзды» («Мне этот бой не забыть нипочём…»). Высоцкий предлагал в картину ещё песню «Штрафные батальоны», но здесь была слишком «скользкая», по меркам советской цензуры, тема, и песня в фильм не вошла.
Шпаликов и Высоцкий именно в работе над этим фильмом и познакомились. Вдруг оказалось, что в Москве они — соседи. Стоило приехать в Минск, чтобы узнать, что Высоцкий живёт на той же улице Телевидения, совсем рядом. Шпаликовский адрес в ту пору, напомним: дом 9, корпус 2, а адрес Высоцкого: дом 11, корпус 4. Дома Высоцкого, увы, тоже уже нет. А расстояние между домами двух поэтов было — метров полтораста. У Высоцкого была тоже двухкомнатная квартира в такой же «картонной» пятиэтажке. Но жильцов в ней было побольше, чем у Шпаликова: сам Высоцкий, его мама Нина Максимовна (она и получила эту квартиру в ходе хрущёвского расселения коммуналок), жена Люся — Людмила Абрамова (кстати, выпускница ВГИКа, актёрского отделения; мы её уже упоминали в связи с историей шпаликовского «Причала») и их маленькие сыновья — Аркадий и Никита.
Очень тесной дружбы между Шпаликовым и Высоцким не было, в ближайший круг друг друга они не входили, но отношения были очень тёплые, приятельские. По соседству не раз заглядывали один к другому на посиделки и просто так. Это было в период между 1965 и 1968 годами — как раз на волне фильма «Я родом из детства». Когда Туров бывал в Москве — непременно оказывался в Черёмушках, хорошо знал оба этих адреса и всегда их «совмещал». В один из его приездов произошёл любопытный эпизод. Высоцкий позвал друзей в ресторан ВТО (Всероссийского театрального общества) на углу улицы Горького и Бульварного кольца. Компания состояла из четырёх человек: Высоцкий, Туров, Шпаликов и Инна Гулая. Раз позвал — то и платить собирался сам. Заказали напитки и блюда, и пока ждали и выпивали «по первой» и «по второй», инициатор застолья со словами «Посидите тут без меня, я на пять минут отлучусь» вышел и куда-то пропал. «Гости» за разговором и не заметили его отсутствия, и вот он появился как ни в чём не бывало. Ну, допустим, не через пять минут, а через полчаса. Оказалось, что Высоцкий, прикинув примерную сумму заказа, сообразил, что у него может не хватить денег, и быстро «слетал» за ними к отцу, жившему на улице Кирова. Эпизод вполне показателен для его спонтанного характера — но показателен и для отношения Володи к Шпаликову и к Турову.
В 1968-м этот семейственно-дружеский круг распался: Высоцкий развёлся с Людмилой, у него началась новая жизненная полоса, закрутился роман с Мариной Влади, да и у Шпаликова домашние проблемы всё осложнялись и осложнялись, об этом мы уже говорили…
* * *
В середине 1960-х годов кинорежиссёр Владимир Мотыль задумал поставить картину о декабристах. Он, по его собственному признанию, «инициировал» написание сценария на эту тему двумя авторами, принадлежавшими разным поколениям. Одним из них был Иосиф Михайлович Маневич — маститый кинематографист, приближавшийся к своему шестидесятилетию, автор сценариев «Педагогической поэмы» по книге Макаренко, «Слепого музыканта» по повести Короленко, «Гиперболоида инженера Гарина» по роману Алексея Толстого. Жозя, как дружески называли его в киношных кругах, работал главным редактором на «Мосфильме» и преподавал на сценарном отделении ВГИКа. Он был одним из тех педагогов, которые «по совместительству» опекали шпаликовский курс после кончины Валентина Константиновича Туркина. Конечно, Маневич хорошо знал бывшего студента сценарного отделения Шпаликова, который и стал вторым автором сценария. Лучше сказать — основным автором, потому что бо́льшую часть работы выполнил он. Написанный в 1966 году сценарий получился объёмистым — на две серии. На первый план в сюжете выступила фигура Петра Каховского, застрелившего 14 декабря на Сенатской площади петербургского генерал-губернатора Милорадовича и затем казнённого в числе пяти участников восстания, чья вина была признана следственным комитетом особенно значительной. Сценарий построен как своеобразный коллаж эпизодов, где строгая хронологическая последовательность сознательно не соблюдена. Действие начинается в первую ночь после восстания, затем отодвигается в осень того же года, когда Каховский приезжает в Петербург, затем ещё дальше — в пору его отрочества, когда он, четырнадцатилетний, учился в университетском благородном пансионе. Перед нами Каховский то в пору своего романа с Софьей Салтыковой, ставшей позже женой пушкинского друга Антона Дельвига, то уже в казематах Петропавловской крепости, то на допросе в Зимнем дворце… И наконец — на эшафоте: «Они стоят спиной друг к другу. Руки в кандалах сплетены последним пожатием навечно. Лица их, живые, сосредоточенные, обращённые к нам в думах о предназначении человека, о доблести, о славе, о любви».
Так получилось, что декабристская тема оказалась на оселке общественного сознания эпохи «застоя». С одной стороны, восстание на Сенатской площади, «с лёгкой руки» Ленина, было канонизировано и присвоено советской идеологией как явление «дворянского этапа революционного движения» в России. Дескать, раз боролись с царизмом — значит, поступали как должно, молодцы, герои. Но русская литература позднесоветского времени почувствовала в истории декабризма и нечто иное, не совпадавшее с официальным мифом. В появившихся во второй половине 1960-х годов пьесах Окуджавы «Глоток свободы» и Леонида Зорина «Декабристы», песне Галича «Петербургский романс» акцентировалась нравственная сторона подвига «людей 14 декабря», и это само по себе уже не совпадало с советской концепцией истории как классовой борьбы. Интеллигенцию «застойных» лет всё больше притягивала в декабристах их жертвенность, ощущение которой было усилено современными аллюзиями — прежде всего пикетом на Красной площади 25 августа 1968 года в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. На рубеже десятилетий появится роман Окуджавы «Бедный Авросимов», поначалу имевший заимствованное из пьесы цензурное название «Глоток свободы». Позже, к юбилею восстания (1975), будет написана пьеса Бориса Голлера «Сто братьев Бестужевых», снят фильм Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», в которых этот мотив тоже будет улавливаться. А ещё позже, в 1980-х, уже на излёте советской эпохи, эту грань декабристской темы очень точно сформулирует поэт, бард Михаил Кукулевич в своём песенном цикле «Декабристы»: «Иль не сытно вам елось? / Иль не сладко пилось? / Что вам так захотелось / Жизнь пустить под откос?» Не то чтобы декабристское движение противопоставлялось этим официальной советской трактовке — но всё-таки акценты ставились иные, и думающий читатель — или слушатель, или зритель — это замечал.
Шпаликов и Маневич именно этот нерв истории движения и уловили. В центре сюжета сценария — не политическая программа декабристов, а их поведение накануне восстания и сразу после него. Момент поражения и становится моментом истины для каждого из них, моментом нравственного выбора. Поручик Сутгоф, которого в караульном помещении Зимнего дворца допрашивает генерал Левашов, на вопрос: «Вы присягали на верность подданства ныне царствующему Государю императору?» — дерзко отвечает: «У присяги был, но в душе не присягал». В этот момент здесь же появляется Михаил Бестужев. Он явился добровольно, не дожидаясь, когда его унизят арестом. Левашов намеревается арестовать вошедшего и в ответ слышит: «Извините, генерал, что лишаю Вас этого удовольствия. Я уже арестован… Я арестовал сам себя. Вы видите, что шпаги при мне нет». Каховский, допрашиваемый лично императором, произносит целый монолог о том, каким видится ему истинно просвещённое правление: «Государь! Невозможно идти против духа времени! Невозможно нацию удержать в одном и том же положении! Взгляните на состояние народа. Тяжёлые налоги, безопасность лиц ничем не защищена, продажное судопроизводство, убита торговля, сжато просвещение… И полное отсутствие законов!» Завершается речь неожиданным в своей откровенности признанием подследственного, которому кажется (зря кажется, зря!), что слушатель и впрямь проникся его пафосом: «Какое поприще для Вашей славы, для Вашего величия! И какое счастье, что Вы не подъехали к нашему каре на Сенатской площади — я бы стрелял в Вас!» Звучит убедительно — ведь стрелял же Каховский в Милорадовича…
Не все ведут себя так. Александр Бестужев во время очной ставки с Каховским фактически выдаёт его, заявляя, что не тайное общество, а сам Каховский был автором идеи цареубийства. Это значит, что и сам Бестужев ни при чём. «Ты хочешь сказать, — прерывает его Каховский, — что я просто злодей, убийца, а не исполнитель нашей общей воли?» И сам Пётр Григорьевич, как видим, не так прост: быть один в ответе за «общую волю» он не желает. Такой образ «дворянских революционеров» был непривычным для советской эпохи. Авторы сценария, несмотря на естественный романтический ореол вокруг фигур декабристов, не идеализируют их. Участники восстания предстают здесь не ходульными символами освободительного движения, а живыми людьми. Едва ли это могло понравиться заседавшим в худсоветах чиновникам от культуры. И не только чиновникам, но и творческим людям, от которых судьба сценария зависела тоже. Режиссёр и киновед Александр Мачерет в своём заключении по этому сценарию упрекнул авторов в том, что изображение декабристов у них «носит в известной степени „разоблачительный“ характер». Рецензент полагал также, что напрасно авторы начинают действие с поражения восставших («Читателю сценария невольно сообщается ощущение бесполезности борьбы») и прибегают к «статичности, привычной в театре, но обедняющей кинематограф». Мачерет в итоге приходит к «заключению о невозможности считать рецензируемый сценарий удовлетворительной основой для постановки фильма».
Но сценарий не устроил и самого Мотыля, уже вне зависимости от идеологических соображений. Режиссёр решил, что фигура Каховского в качестве главного действующего лица для будущего фильма не подходит. Выстрел в графа Милорадовича, стоивший Пьеру (как иногда, «по-толстовски», герой именуется в тексте сценария) жизни, показался ему и сюжетно, и исторически непродуктивным. Застрелил — и что? Апология террора? Отказавшись от написанного для него сценария, Владимир Яковлевич занялся другими работами, снял «Женю, Женечку и „катюшу“» и «Белое солнце пустыни». Оба фильма имели успех, второй же стал, без преувеличения, народным, разошёлся на цитаты. А спустя несколько лет Мотыль вернулся-таки к декабристской теме, и в 1975 году, к полуторавековой годовщине восстания, выпустил поэтичную двухсерийную картину «Звезда пленительного счастья» по сценарию, написанному им совместно с Олегом Осетинским, с широко зазвучавшей песней «Кавалергарда век недолог…» Исаака Шварца на стихи Окуджавы. В сюжете фильма был сделан акцент на судьбе жён декабристов, поехавших вслед за мужьями в Сибирь.
А что же сами соавторы «Декабристов»? Они решили, что материал не должен пропасть. Может быть, и впрямь прав был Мачерет, посчитавший написанное Шпаликовым и Маневичем пригодным скорее для театра, чем для кино? Переделав сценарий в пьесу под названием «Тайное общество», они предложили её в Театр Советской армии, где она была поставлена в 1968 году Леонидом Хейфецом и недолгое время шла на сцене, пока не была запрещена. Видно, чувствовали всё-таки власть имущие, что в пьесе действуют «не те» декабристы, о которых «вождь мирового пролетариата» писал как о первых русских революционерах. Чиновникам не нравилось название: в словосочетании «тайное общество» уже слышался какой-то нехороший намёк.
Не по вкусу им пришлись ещё сцены допросов молодых людей, недовольных властью. Не устроила виселица на сцене. Не приняли они и религиозных мотивов — ассоциаций с распятием Иисуса. А Шпаликов придумал и более смелые — и по-шпаликовски озорные — вещи. Например, в начале спектакля он хотел обыграть в ту пору навязшее у всех в зубах ленинское выражение «Декабристы разбудили Герцена» из статьи «Памяти Герцена». На сцене это должно было выглядеть так: стоит кровать, на которой спит Герцен. Раздаётся удар колокола («Колокол» — название герценовского журнала), и спящий просыпается. Получалась своеобразная «иллюстрация» ленинской мысли. Придумали и другую версию «пробуждения» — под стук топоров: строится виселица. Но и то и другое протащить на сцену было, конечно, невозможно: над ленинскими словами шутить нельзя!
В театре было устроено обсуждение спектакля, к участию в котором привлекли даже работников цехов: нужно было «мнение рабочего класса», которым советская идеология обычно прикрывалась в своих атаках на «идейно чуждое» и «сомнительное» искусство. В итоге (не только из-за этого спектакля) Хейфец вынужден был вообще уйти из театра. То был конец 1960-х — недоброе время после подавления Пражской весны, окончательно поставившее крест на надеждах на «социализм с человеческим лицом» и давшее понять, что «оттепель» закончилась.
Но декабристский сюжет для Шпаликова не закончился. Со временем он решил вернуться к этой теме и всё-таки попытаться довести её до экранного воплощения. С таким предложением он обратился к Сергею Бондарчуку. Это было неожиданно: всё больше напоминавший маргинала Шпаликов — и преуспевающий, вполне вписавшийся в официальный мир советского кино Бондарчук, экранизировавший сначала шолоховскую «Судьбу человека» («правильное» произведение «правильного» советского писателя), а затем, при мошной государственной поддержке (чего стоили одни батальные сцены с привлечением целых воинских частей), «Войну и мир». Впрочем, другой поддержки — спонсорской — в те времена не могло и быть; так ведь государство и поддерживало далеко не всех… Четырёхсерийная киноэпопея по роману Толстого, вышедшая на экраны страны в 1966–1967 годах, стала своего рода «блокбастером» и открыла Бондарчуку широкие возможности, которыми Шпаликов и решил воспользоваться. Мы помним, что к «Войне и миру» он был неравнодушен ещё в студенческие годы, даже ездил на Бородинское поле. И теперь ему пришла в голову смелая мысль — написать как бы продолжение «Войны и мира» для кино, сценарий, в котором герои и сюжетные линии романа протянулись бы до 1825 года и героями которого стали бы дети героев Толстого. А снимет этот фильм Бондарчук, которому и карты в руки, при его-то опыте работы с этим историческим материалом.
Задумка — вполне в духе самого Толстого. Лев Николаевич ведь и собирался изначально писать роман не о Двенадцатом годе, а о возвращающемся из Сибири в 1856 году декабристе. Постепенно замысел «съехал» с 1856 года к 1805-му, к началу Наполеоновских войн России — это хорошо известно со слов самого писателя. Из текста эпилога «Войны и мира» видно, что декабристское будущее предназначено Пьеру Безухову и Николеньке Болконскому — сыну князя Андрея. Так что шпаликовская идея подхватывала толстовскую.
Сотрудничество с Бондарчуком почему-то не сложилось, хотя человеческие отношения между двумя кинематографистами были тёплыми. Бондарчук увлёкся шпаликовским замыслом и взял шефство над Геной: решил вылечить его от пагубной привычки к алкоголю, устроить в клинику. Хотел было положить его в элитную «кремлёвку», но там надо было ждать очереди как минимум месяц, а тянуть время было ни к чему. Зная же Гену, его спонтанность и «готовность к срыву», — так и вообще рискованно. Гена лёг в 57-ю больницу в Измайлове, где у него работал знакомый врач-уролог. Условия были хорошие: палата на двоих, настольная лампа, очень приличная больничная библиотека с собраниями сочинений Пушкина, Толстого, Чехова, Бунина… Целыми днями он читал.
Текст нового сценария сохранился. Он называется «Люди 14 декабря». В нём нет «толстовских» сюжетных линий: на какой-то стадии работы эту мысль Шпаликов оставил — может быть, поняв, что Бондарчука она не захватила. Общего со сценарием «Декабристы» здесь немало, но это всё же другой текст. Учитывая то, что в первом сценарии у него был соавтор, Шпаликов корректно избегает прямых повторов. Появляются новые акценты, несущие особый смысл, затаённый подтекст, на который в ту пору, может быть, никто и не обратил бы внимания. Но спустя несколько десятилетий, когда трагическая судьба автора отстоялась во времени и стала восприниматься как завершённый сюжет, — этот подтекст отчётливее проступил в сознании читателя. Речь идёт об аллюзиях на его собственную судьбу. Разве не в духе самого Шпаликова и его розыгрышей лунинское озорство, эпатаж, пугавшие добропорядочных граждан приключения, когда, например, «с товарищами вниз по Чёрной речке везли на лодках черный гроб, да отпевали, да к ужасу прохожих и поселян при белом свете свечи жгли, а после — рванулась крышка гроба вверх — выскочили оттуда, из чёрного ящика, молодцы с шампанским…». Зная об особом отношении уже почти пропащего отца к дочке Даше, разве можно отделаться от ассоциаций с судьбой Шпаликова при чтении сцены прощания Рылеева с семьёй. В ответ на крик жены: «Настенька! Проси отца за себя и за меня!» — девочка «выбежала, рыдая, обняла колени отца». Рылеев «вырвался из объятий дочери и убежал». Разве нет чего-то личного, шпаликовского, бездомного, в том, что Николай Бестужев сразу после восстания «нашёл приют» в чужом доме: «Совсем незнакомый человек распахнул дверь, сдерживая огромных собак». Узнав, что молодой офицер — сын его наставника по кадетскому корпусу, он охотно предлагает ему кров: «…весь дом пуст. Живите, где заблагорассудится!» И ещё, уже не только личное, а общее, перебрасывающее смысловой мостик из 20-х годов XIX века в 60-е и 70-е века XX, в эпоху диссидентских и просто интеллигентских сходок-посиделок за полночь, обычно на кухне: «Ночь, разговоры друг с другом. В этих русских ночных бессонных разговорах главное часто меняется и, переменившись раз и второй, летит во что-то третье, что ещё более бессонно и прекрасно».
Увы, и этот сценарий не стал фильмом. Работавшая редактором на «Мосфильме» Элла Корсунская вспоминает, как сценарий о декабристах, «затрёпанный, в несвежей обложке, торчал под мышкой у Гены», когда он появлялся в очередной раз на студии, но — «не было на него спроса». Шли уже 1970-е годы…
* * *
Ко второй половине 1960-х годов относится недолгий — и непростой — «роман» Шпаликова с мультипликацией. Вообще-то мы помним, что попытки сотрудничества с «Союзмультфильмом» были у него и раньше, в начале десятилетия, но тогда это была всего-навсего подработка, а теперь он сделал две серьёзные работы, вошедшие — это не преувеличение — в золотой фонд нашей анимации.
Параллельно со Шпаликовым во ВГИКе учился на режиссёрском факультете Андрей Хржановский — сын художника и артиста, мастера звукоподражания Юрия Хржановского, будущая знаменитость. Они поступали в один год, но Хржановский — на режиссёрский факультет. Курьёзная деталь: оба поступали «со сломанной ногой» (с Андреем перед поступлением тоже произошло похожее ЧП). Познакомились на первом курсе — а сдружились на всю жизнь.
Хржановский прославится в 1970–1980-х трилогией мультфильмов о Пушкине, в постсоветское время выступит как режиссёр не только мультипликационного, но и игрового (или, лучше сказать, полуигрового-полудокументального, с элементами анимации) кино — снимет своеобразную картину «Полторы комнаты» о Бродском, о «виртуальном» возвращении поэта в Петербург. Поработав несколько лет на «Союзмультфильме» на вторых ролях, ассистентом, Андрей с 1966 года начал снимать собственные ленты.
Первая из них называлась «Жил-был Козявин»; в основе сюжета лежала сатирическая сказка Лазаря Лагина (автора знаменитого «Старика Хоттабыча») под названием «Житие Козявина», в конце 1961 года опубликованная в журнале «Огонёк». В сценарий мультфильма этот рассказ превратил Шпаликов, поэтому в титрах в качестве авторов сценария указаны они оба — Лагин и Шпаликов. Гена прочёл рассказ в журнале и «зажёг» друга идеей экранизировать его. Так «Козявин» оказался дипломной работой Хржановского. Во ВГИКе почуяли исходящий от замысла «сомнительный душок» и принимать работу не хотели. Выручил Сергей Аполлинариевич Герасимов, в ту пору завкафедрой режиссуры, мэтр и уже почти классик. «Конечно, это сюрреализм, — сказал он. — Но это наш, социалистический сюрреализм». Спорить с ним не стали. Но возможность снять наконец сам фильм представилась только теперь, когда Андрей «укрепился» на студии.
Лагин не зря называл свои «сказки» такого рода «обидными». Они — в том числе и «Житие Козявина» — звучали смело и критично. Можно понять, почему «Житие…», высмеивающее слепое исполнительство, прошло через цензуру в 1961-м: всё-таки шла «оттепель», и кое-что пока было можно — хотя и «очень осторожно». Но к 1966-му Хрущёв был уже убран со всех постов, надвигалось тягучее брежневское время, и цензура огрызалась всё чаще. Когда Хржановский гораздо позже, году в 1983-м или 1984-м, показал «Козявина» Окуджаве, тот поразился: неужели это пропустили?
Шпаликов написал сценарий не по всей сказке Лагина, хотя она занимает неполные две страницы обычного книжного формата. Нет, он ухитрился написать его всего по… шестнадцати первым строчкам! И, похоже, оказался в выигрыше: сценарий (и, конечно, фильм) представляется более цельным, чем литературный источник. Герой Лагина должен выполнить поручение начальства — найти работника по фамилии Сидоров, «а то кассир пришёл, зарплату выдавать будут» (не этому ли мультфильму обязан своим появлением «Сидоров-кассир» в одной из комических миниатюр Михаила Жванецкого, в 1970-х годах часто звучавшей с телеэкранов в исполнении Романа Карцева и Виктора Ильченко?). Козявин «пошёл в указанном направлении и пропал. Два года не было о нём ни слуху ни духу. На третий год является… Оказывается, он вокруг всего земного шара в указанном направлении прошёл и у каждого встречного спрашивал», не видал ли тот Сидорова: «А то кассир пришёл, зарплату выдавать будут. Вот какой исполнительный был сотрудник!» Дальше по сюжету сказки выяснялось, что от присутствия Козявина дохнут мухи и скисает молоко — то есть дурно он пахнет, не только в прямом, но и в переносном смысле (или наоборот). Наконец «исполнительный сотрудник» умирает во время отдыха на курорте, когда проводивший зарядку физкультурник после очередного «выдоха» забыл сказать «вдох».
В такой сюжетной размытости сатирическая направленность сказки несколько ослаблялась. Может быть, поэтому всё это — и про мух, и про молоко, и про вдох-выдох — сценарист отбросил, оставив только историю о кассире и Сидорове. Она сама по себе уже была хороша и вполне показательна для сатиры «на идиотизм, осуществляемый под руководством и по прямому требованию Партии и Правительства» (так определил идею своего фильма режиссёр спустя многие годы, вспоминая об этой работе). Цензура сатиру пропустила, хотя и потребовала заменить название. Фильм поначалу должен был называться так же, как рассказ: «Житие Козявина», но церковное слово «житие» отдавало «опиумом для народа», и пришлось им пожертвовать. Однако это было, может быть, даже к лучшему: «житие», пусть и иронически окрашенное, предполагало всё-таки изображение разных эпизодов из жизни героя, связную биографическую историю, а в сценарии эпизод остался, по сути, один, хотя Шпаликов и развернул его, детализировал.
Детализация оказалась чрезвычайно любопытна. Во-первых, сценарист акцентировал антибюрократическую ноту сюжета. И в начале фильма, и в финале герой показан в окружении служебных бумаг, которые он складывает в огромные кипы. Во-вторых, сюжет мультфильма представляет собой нагромождение гротескных ситуаций: легко ли обогнуть по прямой «весь земной шар»? Для этого надо пройти солёный Тихий океан, и тундру, и тайгу… Что только не попадается Козявину на пути! Он, например, проваливается в колодец-гидрант на одной стороне улицы и выходит на поверхность тротуара из аналогичного колодца на другой стороне (этакий «подземный переход»). Пересекает строительную площадку, чудом не попав под чугунный шар, которым разбивают стену старого дома. Переходит вброд пруд с лебедями. Балансирует по горному хребту… Ведь «главное — с курса не сбиться».
Но самое интересное происходит на четвёртой минуте десятиминутного фильма, в тот момент, когда Козявин оказывается в парке культуры и отдыха. Правда, эта находка принадлежала уже не сценаристу, а режиссёру, но Гене, когда он с друзьями пришёл к Андрею на студию и посмотрел материал, она понравилась очень, ибо была вполне в его вкусе. Если бы это не придумал Хржановский, то это должен был бы придумать Шпаликов. Так вот, на открытой эстраде идёт концерт скрипача, и на деревянных скамейках в качестве слушателей мы вдруг видим… худую-прехудую Ахматову, явно «срисованную» с известного портрета работы Альтмана, Твардовского с торчащей из кармана пиджака книжкой «Нового мира», Эренбурга с трубкой, Цветаеву, Пастернака. Сзади, во втором ряду — Андрей Тарковский, Паустовский, Евтушенко в экстравагантно-полосатой, похожей на тюремную робу рубахе (он обычно одевается и впрямь экстравагантно), Шостакович. Ещё дальше — Мейерхольд, Некрасов, Гоголь. Опальные и полузапретные писатели сидят рядом с классиками! Этот кадр промелькнул на экране быстро, чиновники, от которых зависела судьба картины, явно не разглядели лиц, иначе пришлось бы в лучшем случае это место вырезать, а в худшем — вообще нарваться на запрет фильма. Но на то был и расчёт, что не заметят. Главное — чтобы заметил внимательный, «свой» зритель.
Однажды от одной начальственной дамы, съездившей на Международный фестиваль анимационных фильмов во французском городе Анси, Хржановский услышал: «Мы там ничего не получили. Конечно, если бы там был показан „Козявин“…» Увидев полное изумления лицо режиссёра: мол, кто же вам мешал его туда взять, — она изрекла: «Но вы же понимаете…» Понимаем.
Два года спустя Хржановский и Шпаликов принялись за новую работу — мультфильм «Стеклянная гармоника». На сей раз сценарий был для Шпаликова полностью оригинальным. Сюжет построен как притча о противостоянии художника, искусства миру наживы и бездуховности. В фильме об искусстве режиссёр решил использовать образы искусства же: внешность персонажей напоминает героев известных живописных полотен. В городе появляется музыкант с инструментом, мелодии которого делают людей чище, побуждают вспомнить о добре и красоте. Под влиянием музыки (её для «Гармоники», как и для фильма о Козявине, сочинил ещё один будущий классик — Альфред Шнитке) они теряют свой уродливый «босховский» облик и становятся прекрасны, как герои Дюрера. Но возникает зловещий человек в чёрном плаще и чёрном котелке, образ которого «заимствован» из живописи бельгийского сюрреалиста Рене Магритта. Этот герой — аллюзия на эпоху репрессий, в ту пору ещё не успевшей уйти далеко в историю, остававшуюся на памяти не только старшего поколения, но и поколения Шпаликова — Хржановского. Человек в чёрном привносит в сюжет фильма ещё и тему алчности: в его руке, на фоне чёрной перчатки, мерцает золотая монета, порождающая в душах людей жажду обладания ею и заставляющая забыть о прекрасном. «Чёрный человек» уводит музыканта, отбирает у него и растаптывает гармонику. Но спустя время приходит новый музыкант, и музыка звучит вновь. И хотя этот инструмент ждёт та же судьба, что и прежний, музыка торжествует. Под её звуки горожане восстанавливают башенные часы, разобранные по приказу того же господина. Время продолжает свой правильный ход.
В сценарии сказалось одно — уже знакомое нам — кинематографическое пристрастие Шпаликова. Звуки музыки обретают на экране зримое воплощение: под пальцами музыканта один за другим отделяются от инструмента розовые шары с красной сердцевинкой. Один из них превращается в красный цветок и становится символом неумирающей красоты, хотя люди «чёрного человека» отбирают его у мальчика — будущего музыканта, и он словно обугливается у нас на глазах. Конечно, это кинореминисценция из «Красного шара». Кажется, ему же «Гармоника» обязана эпизодом, когда слушающие музыку горожане воспаряют в воздух: мы помним, как в фильме Ламорисса взмывают в небо все парижские шары.
Судьба фильма сложилась драматично. Это одна из первых киноработ, «легших на полку» в начавшуюся тогда эпоху застоя (некоторые из них мы уже называли). Как видим, эта дурная тенденция не обошла стороной и мультипликацию. Режиссёр вспоминает, что сдавать фильм в Госкомитет по кинематографии повезли в тот день, когда советские танки вошли в Прагу. На что тут можно было рассчитывать… Начальство потребовало привязать сюжет к западной жизни, критика которой была общим местом советской пропаганды. В первых кадрах картины появился такой текст: «Хотя события фильма носят фантастический характер, авторы хотели напомнить о безудержной алчности, разобщённости и озверении людей, царящих в современном буржуазном обществе». Текст, конечно, нарочитый в своём «антибуржуазном» пафосе (чего стоит одно «озверение людей»), но заметили ли это цензоры, нет ли — фильм всё равно был запрещён.
Однако на экран он всё же попал. Скажем так — на малый экран. В кинотеатре «Россия» был малый зал, в котором показывали только мультфильмы. В этом зале «Стеклянная гармоника» шла пару недель, а потом исчезла надолго — до самой перестройки. Во второй половине 1980-х её, как и многие другие ленты, «сняли с полки», но оказалось, что нет плёнки для изготовления копий. Зрителю пришлось ждать наступления эпохи цифровых носителей, когда плёнка стала не нужна…
После 1968 года новых совместных работ у Шпаликова и Хржановского уже не было. Почему? У Шпаликова было много всяких творческих планов и дел, и игровое кино притягивало его, конечно, больше, чем анимационное. Он подарил Андрею стопку своих стихов (эх, если бы книжку!) с шутливой надписью, начинавшейся словами: «В тот торжественно-траурный день…» (почти цитата из надписи Жуковского на подаренном им Пушкину портрете: «в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“…»). У нас, мол, траур по случаю окончания нашего сотрудничества — но не нашей дружбы. Дружба продолжалась.
* * *
В конце 1960-х Шпаликов участвовал в большой работе, связанной с именем и стихами Маяковского.
Мы говорили, что в середине десятилетия Инна Гулая снялась в картине Михаила Швейцера «Время, вперёд!». Следующей работой режиссёра стала экранизация романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» с Сергеем Юрским в роли Бендера, она вышла в 1968 году. Два эти фильма — «двойной портрет» эпохи 1920-х годов: в первом она дана в ракурсе комсомольского энтузиазма, во втором — в ракурсе сатиры. Эпоха эта, между тем, продолжала притягивать Швейцера, и он в том же 1968-м задумал снять ещё одну ленту о том времени, на сей раз в ракурсе не оптимистическом и не сатирическом, а — в поэтическом. Героем фильма должен был стать Владимир Маяковский, фигура которого подсказала и сюжет, и стиль будущего фильма.
Швейцер решил использовать написанный в 1926 году сценарий самого Маяковского под названием «Как поживаете? (день в пяти кинодеталях)». Поэт был не чужд кинематографа, даже снялся в немой картине «Барышня и хулиган», сценарий которой им же и был написан. Кино привлекало художника, прошедшего в юности школу футуризма, как «искусство будущего», обладавшее большими возможностями, со временем в самом деле во многом определившее менталитет человека XX века. Фильм по сценарию «Как поживаете?» собирался снимать Лев Кулешов, один из создателей советского кино — кстати, как раз в шпаликовские времена преподававший режиссуру во ВГИКе. Но фильм сочли дорогостоящим, и сценарий остался лишь на бумаге. Швейцер хотел поставить фильм в стиле 1920-х годов и обыграть историю самого сценария, как бы найденного сейчас, в 1968 году, в архиве.
По ходу работы и сопутствовавшего ей перечитывания поэзии Маяковского режиссёрский замысел изменился. Швейцера привлекла поэма «Про это», в финале которой происходит будущее «воскрешение» Маяковского. Мотив воскрешения был своеобразным отголоском всё того же футуристического сознания, порывавшего с традициями и ориентированного на искусство будущего, и вписывался в советскую картину мира, где мыслилось светлое коммунистическое завтра. Может быть, идея поэтического фильма (в сценарии постоянно звучат стихи) возникла не без влияния поэтических спектаклей Театра на Таганке, в том числе — спектакля «Послушайте!» по произведениям Маяковского, на тот момент только что — в 1967 году — поставленного. Сценарий «Как поживаете?» частично вошёл в изменившийся замысел Швейцера отдельными своими мотивами, но всё же это должен был быть уже другой сценарий. Здесь режиссёру понадобился сценарист, и этим сценаристом оказался Шпаликов, с которым Швейцер познакомился благодаря Инне Гулая. Гена сдружился со Швейцером и его женой Софьей Милькиной, постоянной помощницей Михаила Абрамовича. Сохранилось его письмо к ней, написанное, правда, позже: в письме он указывает свой возраст (35 лет), значит, писалось оно в 1972 или 1973 году. Для Шпаликова Милькина — просто Соня, «милая, замечательная женщина, смурной человек, вздорный, милый, очаровательный, затрёпанный этой сволочной жизнью».
Гена активно взялся за дело, и в следующем, 1969 году сценарий под названием «А вы могли бы?», перенесённым из одноимённого стихотворения молодого Маяковского, был готов. Сценарий — за двумя подписями, Швейцера и Шпаликова — был принят на «Мосфильме», но Госкино его «зарубило»: киноязык задуманного фильма казался чиновникам слишком необычным, не соответствующим тому, каким должен выглядеть «поэт социалистической революции». А выглядеть он должен монолитно-бронзовым, лишённым всяческих внутренних противоречий и драм. В официальной бумаге от 17 марта 1970 года, подписанной начальником Главного управления художественной кинематографии Павленком и заместителем главного редактора сценарно-редакционной коллегии Сытиным и адресованной директору «Мосфильма» Сурину, было сказано, что авторам «не удалось воссоздать в сценарии облик страстного борца за новые формы жизни и искусства». А просто Маяковский в сценарии был — живым.
Наверное, Шпаликов работал над сценарием «лирико-фантастической поэмы» (таков подзаголовок) с удовольствием. Маяковский был его любимым поэтом с «суворовских» времён; стихи Маяковского были включены, как мы помним, в «Заставу Ильича». Шпаликовский драматургический почерк, конечно, явственно проступает и в сценарии «А вы могли бы?». Здесь нет чётко прочерченного сюжета, и это естественно для фильма в стихах и о стихах, в котором на первый план выходит лирическое содержание. За это в официальном заключении авторов тоже покритиковали: «Сценарий фрагментарен, плохо драматургически организован». Но сама авторская манера — поэтическая, импрессионистичная — вполне в духе Шпаликова. И уж точно она не была «слабым звеном» работы.
Эту манеру выдают уже первые фразы сценария:
«Дальние тонкие колокола.
Сквозь облака, очень, очень глубоко внизу — золотой звездой — мерцает в закатном свете церковный крест.
Тихий хор. Шум потока в ущелье.
Чуть теплятся огни за оградой храма.
Ближе…»
Такого «церковного» зачина, а с ним ещё и эпизода, в котором Марина Цветаева, тоже в храме, «крестится, крестится на лик Спасителя» — было уже достаточно, чтобы насторожить цензуру. Но Шпаликов и Швейцер об этом, похоже, и не думают. «Каждый пишет, как он дышит…» Между тем в первой сцене изображается крещение будущего поэта, и по контрасту с ней, когда ещё «трепещет в руках священника мокрое тельце младенца Владимира» и слышен церковный хор, раздаётся «грохот выстрела» и «короткий крик». Читатель-зритель сразу переносится в день прощания с ушедшим из жизни Маяковским:
«Идут, и стоят, и сидят, и проходят, и плачут.
И заглядывают ему в лицо, и медлят, и растягивают время прощания, и не могут смотреть».
Человек умер. Так назывался студенческий сценарий Шпаликова, в котором он поневоле предсказал свой ранний уход из жизни.
В поэме «Про это» есть персонаж из будущего — «большелобый тихий химик», работающий в «мастерской человечьих воскрешений». В поисках, «воскресить кого б», этот химик «перед опытом наморщил лоб» и листает книгу с перечнем некогда живших на земле людей. Его и просит лирический герой, откровенно названный здесь фамилией Маяковский: «Не листай страницы! Воскреси!»
Этот мотив положен в основу рассчитанного на две серии сценария. Спустя ровно тысячу лет после самоубийства Маяковского, 14 апреля 2930 года, в той самой «мастерской», в главном её зале, «по сигналу Химика девушка-ассистент извлекает из свинцовой кассеты тоненькую старенькую книжку. На книжке — портрет женщины с большими глазами и надпись крупными буквами: „ПРО ЭТО“». Обыграна реальная обложка издания поэмы 1923 года, на которой был помещён фотоснимок Лили Брик. «Под внимательным взглядом Химика девушка переносит книгу на проигрыватель… От проигрывателя тянется тонкий провод — к скрипке в руке Химика… Открывается лист. С нотной страницы на учёного пристально смотрит Маяковский. Химик касается смычком скрипки. Возникает музыка. Низкий чистый звук». Так происходит воскрешение поэта. Характерная шпаликовская импрессионистичная манера проявляется здесь в том, что в исполняемой Химиком музыке воскрешения слышны не марши и гимны, которые, кажется, были бы естественны для воспевавшего революцию Маяковского, а совсем другие звуки: «гул телеграфных проводов, шум дождя, шелест листьев, вальс, женский смех, флейта, труба, трамвайные звонки, ржанье лошади, песенка „Трансваль, Трансваль…“». Это атмосфера, напоминающая атмосферу фильмов «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве». Маяковский Шпаликова и Швейцера — горожанин, человек, шагающий по Москве. Он и в собственных стихах таков. «Иду красивый, двадцатидвухлетний». Почему-то думается, что Шпаликов охотно подписался бы под этой полуиронической строчкой Маяковского.
Но здесь, кажется, есть ключ и к другой черте шпаликовского творческого и просто человеческого облика. Маяковский — особенно молодой — был очень расположен к эпатажу. Его лирический герой то и дело ведёт себя вызывающе, «дразнит» публику, горожан, читателя. Стихотворение, давшее название сценарию, уже таково: «А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте водосточных труб?» От такого эпатажа один шаг до гротеска — художественного приёма, соединяющего реальное и фантастическое; он проявляется, в частности, в своеобразной «взаимоподмене» человека и животного (вспомним, например, сказку Щедрина «Дикий помещик» или булгаковского Кота Бегемота). Шпаликов вообще любил литературные «эксперименты» с фауной. В сценарии «Заставы Ильича», например, есть такая сцена: «Навстречу им вдоль бульвара шёл слон. Его прогуливал пожилой человек в тёплых войлочных ботинках. Слон тоже был обут — в чехлы, завязанные тесёмками». В фильм это озорство — ясно, что не хуциевское, а шпаликовское — конечно, не вошло. Появление в городе слона и «мощного зубра» воображает себе автор и в сценарии «День обаятельного человека», в лирическом отступлении, где мы с ним (автором) как бы пролетаем над утренней Москвой. Или вспомним лошадь с «грудной жабой», которая «молчала» о своей болезни (как будто могла сказать!), из песенки Шпаликова, досочинённой затем Галичем.
Но своя «экспериментальная» фауна есть и у Маяковского. У него есть, например, стихотворение для детей «Что ни страница, — то слон, то львица». В нём мир животных то и дело шутливо уподобляется миру человеческому и потому кажется читателю близким и как бы обжитым им. Лев у Маяковского «совсем не царь зверья, просто председатель». Обезьяна — «человеческий портрет, даром что хвостатая»… Кажется, мотивы именно этого стихотворения использованы в одном из эпизодов сценария, где «нововоскрещённый» (фразеологизм вполне в духе самого Владим Владимыча) поэт проходит с девушкой-ассистентом по «зоологическим дорожкам» и наблюдает панораму «очеловеченных» животных. «Сняв шляпу, Маяковский кланяется слонам… Слоны отвечают киваньем голов». Заметим: опять слоны! «А вот и жирафы…» А затем происходит нечто, заставляющее поэта побледнеть и вскрикнуть: «Девочка с куклой в руке играючи вбегает в вольер со львами… Вынув из своих волос гребень, девочка пытается расчёсывать львиную гриву, заплетая её в косички». Изумление ничего не понимающего Маяковского так бросается в глаза людям будущего, что мама девочки спрашивает его: «Вы, наверное, приезжий?» Некая незнакомка, «сняв на ходу лёгкое платье, отбросив шляпку… прыгает в голубую воду. За ней плюхается крокодил». И лишь увидев, как «мирно лежали и прогуливались бок о бок тигры и зебры, леопарды и антилопы», поэт начинает догадываться: «Неужели свершилось… Неужто сбылось пророчество?!. И полюбят друг друга и соединятся во всеобщей любви… И ляжет лев рыкающий подле робкой лани… И перекуют мечи на орала…» Искренняя вера Маяковского в светлое будущее, в коммунистическое царство братства и гармонии здесь преломилась в очень тёплой, напрочь лишённой всякой идеологической риторики, и оттого художественно убедительной сцене «всеобщей любви». Восходящая к Библии фраза «перекуём мечи на орала», превращённая большевиками в советский лозунг, не режет слух, ибо звучит в сценарии в библейском же контексте. Здесь обыграно пророчество из Книги пророка Исайи: «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком… И младенец будет играть над норою аспида, и протянет дитя руку свою на гнездо змеи». Для советских времён — смело!
Ну ладно — зоологические дорожки, где животным, что до воскрешения героя, что после него — как раз и место. Но животные в сценарии попадаются даже на московских улицах. «В Университетском зоологическом музее… сошёл с деревянной подставки страус, расправил крылья, потянулся и упруго зашагал к выходу…» Этот гротеск — тоже вполне «маяковский»: у поэта оживает то солнце («Необычайное приключение…»), то памятник Пушкину («Юбилейное»). Чем больше воскрешений — тем лучше. «Большая Никитская была совершенно пуста. Где-то на другой пустынной улице пересеклись пути идущих с разных концов города — лошади, медведя и страуса. Никто не видел, к сожалению, как они шли». Наверное, в XXI веке эту сцену сняли бы с помощью компьютерных технологий. При технике 1968 года трудно представить себе съёмку такого шествия, да ещё так, чтобы «никто не видел». Но шпаликовское потенциальное поэтическое кино не оглядывается на технические возможности. Сценарист видит так — значит, ему так нужно. А животные между тем «проследовали мимо большой афиши-плаката. Политехнический музей. Сегодня». Воскрешённый Маяковский будет выступать, и животные, тоже как бы воскрешённые, — не собираются ли послушать его стихи? «Деточка, все мы немножко лошади…»
Цитата пришлась к месту не случайно. Гена (мы опять-таки уверены, что он, а не Швейцер) очень точно «выловил» в поэзии Маяковского стихотворение, на котором в сценарии построена довольно большая и важная сцена. Это — «Хорошее отношение к лошадям». Его лирический герой оказывается свидетелем падения лошади на московской улице Кузнецкий Мост, и посреди потешающихся уличных зевак он — единственный, кто испытывает к ней сочувствие: «Подошёл и вижу — / за каплищей каплища / по морде катится, / прячется в ше́рсти…» Лошадь… плачет, как человек, и сострадающего человека объединяет с нею «какая-то общая звериная тоска».
В сценарии — тоже Кузнецкий, и тоже упавшая лошадь. Этот эпизод зимы 1919 года вспоминает из своей новой жизни воскрешённый поэт: «Огромный глаз упавшей лошади. В нём отражены: ледяная гора Кузнецкого, люди вокруг, Маяковский в коротком полупальто. Под мышкой у него берёзовое полено». В холодную и голодную пору Гражданской войны надо чем-то отапливать жилище. Но оценим опять кинематографический — и поэтический! — взгляд сценариста, придумавшего снять глаз лошади с отражением улицы и прохожих. «Маяковский опускается на колени рядом с лошадиной головой. Наклонившись, что-то шепчет во вздрагивающее лошадиное ухо. Они встретились глазами: лошадь и Маяковский. И вдруг лошадь приподняла голову. Встала на передние ноги». Маяковский воскрешает лошадь — как делает это и лирический герой «Хорошего отношения к лошадям», чьи утешительные и подбадривающие слова привели к тому, что «лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла». Что прошептал в сценарии Маяковский в ухо упавшему животному? Вероятно, то же самое: все мы немножко лошади…
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Рубеж 1960–1970-х годов. Заявки, остающиеся, как мы только что видели, лишь заявками. Ощущение невостребованности — при его-то, шпаликовской, фантастической работоспособности и бурлении творческих идей.
Среди причин, по которым замыслы Шпаликова не доходили до экранного воплощения, пора назвать ещё одну: проблема режиссёра. Сценаристу масштаба Шпаликова нужен был режиссёр равного масштаба. Коллеги по его прежним удачам, большие мастера, шли каждый своим путём: Данелия, на волне успеха «Я шагаю по Москве», занялся комедийным жанром и реализовал себя в нём блестяще, но Шпаликову этот жанр в качестве постоянного творческого амплуа был, судя по всему, не очень интересен. Туров ушёл по преимуществу в военную тему, но Шпаликова и это не могло удовлетворить: его творческое сознание война занимала как память, главным образом детская, но не как таковая. Батальная тематика его не привлекала. Хуциев был обижен на Гену за его проволочки с «Заставой Ильича» и уже не стал бы с ним сотрудничать, хотя хуциевский фильм «Июльский дождь» по сценарию Анатолия Гребнева и самого Хуциева лирической манере Шпаликова близок: у него даже название поневоле кажется «шпаликовским» («нормальный летний дождь»).
Но на исходе 1960-х судьба всё-таки свела Шпаликова с режиссёром равномасштабным. Имя Ларисы Шепитько мы уже называли. Почти ровесница Гены (родилась ровно на четыре месяца позже его, 6 января 1938 года), она к моменту начала сотрудничества с ним была создателем фильмов «Зной» (дипломная работа по повести Чингиза Айтматова «Верблюжий глаз»), уже упоминавшихся нами «Крыльев» и короткометражной работы по рассказу Андрея Платонова «Родина электричества». Последняя должна была войти в киноальманах «Начало неведомого века», который планировалось выпустить к 50-летию Октябрьской революции. Альманах оказался, однако, слишком смелым для своего времени: ни «Родина электричества» Шепитько, ни «Ангел» Андрея Смирнова, снятые по одноимённым рассказам Андрея Платонова и Юрия Олеши, цензуру не прошли; допущена к экрану была лишь новелла Генриха Габая «Мотря» по мотивам повести Паустовского «Начало неведомого века» (позже, после эмиграции Габая, была запрещена и она). Табу с киноальманаха было снято лишь в «перестроечное» время, в 1987 году. В 1969-м Лариса Шепитько сняла телевизионный новогодний музыкальный фильм, с фольклорными мотивами (участники — домовой, леший и прочая «низшая мифология»), эстрадными песнями и известными артистами (Вицин, Гердт, Папанов, а ещё рано умерший и ныне, увы, подзабытый талантливый пародист Виктор Чистяков…). В это ревю-сказку вошла и «Песня Русалки» Шпаликова («Белой ночью новогодней / Чудеса в лесу бродят…») с музыкой Романа Леденёва в исполнении одиннадцатилетней грузинки Ирмы Сохадзе, прославившейся перед этим исполнением «Оранжевой песенки». Написана «Песня Русалки» была наверняка на заказ: маленькая, а всё-таки подработка. Песня звучит в картине дважды — по ходу сюжета и в финале как итоговая. Однако и эту работу Шепитько публика не увидела: что-то здесь показалось начальству сомнительным. Может быть, дело было в отсылках, пусть и шутливых, к Западу и западной эстраде («заводи музыку, что-нибудь зарубежное»). Дескать, зачем это нужно советскому человеку… Правда, и «благонадёжных» славянских фольклорных мотивов в фильме хватало. Как бы то ни было, два запрета подряд — хороший повод для того, чтобы полуопальному сценаристу заинтересоваться полуопальным режиссёром.
Человеком Лариса была твёрдым; женское обаяние сочеталось в ней с поистине мужской хваткой в работе. А может быть, только у женщин таковая и бывает?..
Шпаликов и Шепитько были знакомы давно, ещё по ВГИКу. Поэтому Лариса не очень удивилась, когда Гена встретил её и её мужа, кинорежиссёра Элема Климова, в подмосковном Кунцеве, где супруги отдыхали на даче. Гена обладал способностью появляться в самых неожиданных местах. Теперь он появился здесь и принёс Ларисе стопку машинописных листов. Это была заготовка сценария будущего фильма, известного нам сегодня под названием «Ты и я». Такое название возникло позже, а первоначально сценарий назывался «Те, что пляшут и поют по дорогам». Между названием первоначальным и окончательным было ещё одно: «Пробуждение» (оно и стояло перед текстом сценария, сданным Шпаликовым на «Мосфильм» в 1969 году), а Павел Финн вспоминает, что существовал ещё и вариант названия «Кривые чемоданы».
В марте 1968 года Шпаликов представил на «Мосфильм» заявку на сценарий. На студии уже несколько лет работала «Экспериментальная творческая киностудия» (поначалу — объединение), созданная в 1965 году Григорием Чухраем и начальником главка в Госкино Владимиром Александровичем Познером, отцом будущего известного тележурналиста. Познер был нетипичным чиновником: он болел за дело и хотел что-то изменить в малоповоротливой машине государственного кинопроизводства. Возникшая вслед уже ушедшей «оттепели», эта «дочерняя» по отношению к «Мосфильму» киностудия стала своеобразной отдушиной, благодаря самоокупаемости предвещавшей будущую рыночную эпоху и дававшей, согласно своему официальному (и неофициальному: «Эксперименталка») названию, в самом деле возможность эксперимента. Именно там, кстати, готовился и киноальманах «Начало неведомого века». Худруком студии был сейчас Данелия; не удивительно, что сценарий Шпаликов предложил именно туда.
«Название, — сказано в заявке по поводу „пляшущих и поющих по дорогам“, — это как бы развёрнутая метафора, это — молодость, ощущение бесконечности жизни, радости каждого дня, внутренней свободы, раскованности, огромного желания жить в дружбе с другими людьми, веры в то, что мир добр и прекрасен». Одним словом: новая версия того, что «бывает всё на свете хорошо»? Тут позволительно усомниться. После «Долгой счастливой жизни» едва ли можно было ждать от Шпаликова безмятежного оптимизма. Уже там мир оказался не столь «добр и прекрасен», каковым он был в картине «Я шагаю по Москве». Если вчитаться в текст заявки, то обращают на себя внимание две вещи, которые как раз и осложняют шпаликовскую «радость каждого дня». Во-первых, его герои повзрослели ещё на несколько лет: им, «в том числе главному — 36, 37 лет, жизнь этих людей уже стабилизировалась по всем внешним признакам — семья, дети, налаженный уклад, знание жизни…». А во-вторых, кроме «внешних признаков» есть кое-что более важное для будущего фильма, и здесь-то, несмотря на некоторую неопределённость сюжета, уже ощущается его главный смысловой нерв: «Сценарий всем своим строем… рассказывает о том, что в жизни постоянно происходят определённые изменения, что жизнь общества и любого человека взаимосвязаны и общество влияет на внутреннюю жизнь людей». Мы выделили слово «внутреннюю». Фильм будет — об этом. О внутренней жизни людей, вступающей в противоречие с их внешней жизнью.
У Шпаликова есть и другой текст, возникший по поводу этого фильма, — заметки, сделанные для себя. В них звучит та же, лишь иначе сформулированная, мысль: «Я почти никогда не знал, как будет строиться то, что называется сюжетом. Более того, строить его мне неинтересно… Смена настроений, чувств или, скажем, погоды… — вот вам лучший сюжет». То есть опять-таки — внутренняя жизнь. Погода к ней тоже имеет отношение.
Сценарно-редакционная коллегия «Эксперименталки» обсуждала заявку Шпаликова 25 апреля 1968 года. Кроме Шпаликова и Шепитько на заседании присутствовали главный редактор студии Владимир Огнев, редакторы Леонид Гуревич, Валентин Дьяченко, Людмила Шмуглякова и Валентина Гракина, а также кинооператор Павел Лебешев. На заседании мнения разделились. Протокол скупо, но недвусмысленно отражает ход обсуждения. После того как Шпаликов «более подробно (чем в заявке. — А. К.) излагает существо замысла, описывает отдельные события, обрисовывает характеры», Гракина «выражает сомнения по поводу заявки», ибо она «написана неясно, отсутствует сюжетная канва», а Дьяченко «сомневается, что подобный замысел может быть осуществлён в кино», и «полагает его чрезмерно усложнённым». Оба — против заключения договора. Гуревич «одобряет заявку» и «объясняет своё понимание идеи и взаимоотношений». Шепитько «говорит об изобразительном решении будущего фильма», о «стремлении сделать фильм понятным, серьёзным и в то же время поэтичным». Шмуглякова занимает промежуточную позицию — «полагает возможным получить интересный фильм, хотя и не уверена в его массовом успехе». Зато Огнев определённо поддерживает замысел и «выражает симпатии и заинтересованность в подобном фильме». Но поскольку единого мнения нет, комиссия не принимает однозначного решения и выносит вопрос на обсуждение с руководством студии. Ну а руководство студии — это Данелия и Огнев. Понимая, что у руководства «Мосфильма» и тем более у Госкино сомнения по поводу сценария наверняка возникнут, они оба, а с ними ещё редактор Гуревич, письменно поручились за сценарий перед высшим начальством («А кто за тебя поручится?» — ответил когда-то Николай I Жуковскому, хлопотавшему перед ним за одного из друзей и говорившего, что ручается за него).
В общем, заявка принята, договор заключён, и Шпаликов пишет сценарий. В титрах указаны два сценариста: Шпаликов и Шепитько. Для кино это нормальное явление (напомним хотя бы о «Заставе Ильича», где соавторами сценария были Шпаликов и Хуциев): в процессе творческой работы идеи режиссёра непременно проникают в написанный сценаристом текст и корректируют его; какие-то вещи просто обговариваются на ходу. К тому же в кино есть ещё понятие «режиссёрский сценарий»: его разрабатывает на основе литературного сценария именно режиссёр.
Работа над сценарием шла в Доме творчества в Болшеве. Приехал Гена, и приехала — поначалу с Элемом — Лариса. Они поселились в одном коттедже, комнаты их были по соседству, и соседство было продумано Ларисой не без умысла. Работавшие с Шепитько вспоминают, что съёмки картины были для неё настолько личным делом, что участников съёмочной группы она начинала воспринимать почти как родственников. Особенно опекала актёров, просто «влюблялась» в них. Когда съёмки заканчивались, заканчивалось и это пристрастие, но в совместной работе возникал какой-то особый уровень отношений. Нечто похожее она испытывала и к Шпаликову. В Болшеве она чуть ли не тенью ходила за ним с термосом и бутербродами: дескать, Гена, всё что хочешь, но только работай, участвуй, ты нужен нам позарез!
Вообще в Болшево приезжали обычно парами: сценарист и режиссёр. В Доме творчества сложился такой стиль отношений, когда режиссёр «стоит над душой» у сценариста, а тот норовит отлынить и «тихо ненавидит» режиссёра-эксплуататора. В случае со Шпаликовым было чего опасаться. Кроме «непредсказуемости» могла сослужить дурную службу и другая Генина черта: жадный до работы, он мог переключиться на какую-то новую тему, «переметнуться» к другому режиссёру, ибо ждать некогда и не хочется. Идей много, надо суметь их воплотить. Как раз в 1968 году, когда Лариса ждала от Шпаликова завершённый текст сценария, он начал работать с режиссёром Алексеем Салтыковым над картиной «про любовь в СССР», как Гена выразился в письме Ларисе. Это был февраль, Гена отправился в Адлер, Салтыков некоторое время тоже там был, потом уехал, и по тону шпаликовского письма чувствуется, что работа с Салтыковым ему тоже интересна. Трудно сказать, что это была за работа: совместного фильма у Шпаликова и Салтыкова нет. Но у Ларисы было основание забеспокоиться, когда она прочла это письмо Шпаликова. А ещё Шпаликов ухитрился, как раз в пору начала работы с Шепитько, подхватить воспаление лёгких.
Для самого Шпаликова и Лариса, и Элем (когда-то намеревавшийся снять картину по шпаликовскому «Дню обаятельного человека», но «не вызвавший доверия» у мосфильмовских чинов) были хорошими друзьями. «Неохота с тобой расставаться», — признаётся Гена в конце одного из писем Ларисе, словно оправдываясь за многословие, и тут же просит её показать сценарий Элему: «…я очень считаюсь с его мнением и вкусом…» Ларисе Шпаликов посвятил и прислал с письмом стихотворение «Баллада про тихое отчаяние». Вот несколько строк из него, без всяких комментариев показывающих степень откровенности в отношениях между ними:
Тихое отчаяние на меня находило не раз, Отчасти отчаяние было, как водолаз, Но чем тише и глубже оно уходило во тьму, Тем более и более я доверял ему… О, господи, был бы я верующий, а то атеист, Вера моя — звери ещё и чистый лист, Отчётливое отчаяние, обыденность его, Слова-то пустые: печальное, печенье — а то ли — чайная, И ничего неохота, ни синего зимнего тёмного стекла, Более того, — неохота, чтоб ночь текла…Лариса понимала, что непредсказуемого Шпаликова нужно контролировать. Он мог запросто взять и исчезнуть на несколько дней. А если даже и не исчезнуть — был другой риск. В Болшеве в ту пору жил ещё Финн, работавший вместе с Владимиром Петровичем Вайнштоком (Вайнштоку — седьмой десяток, поэтому по отчеству) над сценарием картины «Сломанная подкова». Финну хорошо запомнился один колоритный эпизод тогдашнего болшевского житья-бытья.
Пашин номер был в главном корпусе. Лариса знала, что Паша и Гена — одна компания и что присутствие друга для склонного к возлияниям и приключениям Шпаликова представляет собой опасность. Лариса и Элем перехватили Пашу у входа в столовую в главном корпусе (а жили они и Шпаликов в домике-коттедже), усадили на диванчик и строго потребовали: «Не пей с Геной! И не давай ему денег! Поклянись!» Напор взявших его в тиски супругов был таким жёстким, что не поклясться было невозможно.
Клятва клятвой, но надо было знать и Гену, с его неистощимой и непредсказуемой изобретательностью. Однажды Гена постучал в дверь Пашиного номера и сообщил, что у него кончилось мыло. Без мыла жить никак нельзя, надо его купить, но у Гены нет и денег. Деньги есть у Паши, но Паше Лариса запретила давать Гене деньги. В глазах у Гены бродили подозрительные огоньки, но убеждать он умел. Да и у самого Паши такие огоньки иной раз бродили, бывало, что и он по-тихому исчезал от утомлявшего его своим трудолюбием и сугубо трезвым образом жизни Вайнштока. Однажды пропал на три дня, оставив незапертым номер, и Гена «спасал» его пишущую машинку и радиоприёмник. Но, слава богу, в Доме творчества посторонних не бывало.
Итак, Паша Финн волей пославшего его Шпаликова отправился к Ларисе за увольнительной. У Ларисы в номере оказалась Наташа Рязанцева — приехала проведать подругу. Кстати, о Наташе. В письме Ларисе от 20 февраля 1968 года, ещё до Болшева, Шпаликов признаётся, что его сценарий имел поначалу сильную личную подоплёку: «Вторую половину сценария я выкинул… она, в общем, очень и очень личная и — при живых — не надо, некрасиво, я, кстати бы, и читал всё же (Лариса звала его почитать сценарий вслух друзьям и коллегам, он отказался. — А. К.), если бы не Наташа, всё же очень многое вошло в этот же сценарий». Несколько лет назад «отпрашиваться» надо было бы у Рязанцевой, но их с Геной супружеская жизнь была либеральной, никто ни у кого и не отпрашивался. Лариса, хоть и не жена, а всего-навсего режиссёр, — другое дело. Отпустила-таки, но — «Вы там ни-ни…». Конечно, конечно, мы только за мылом! К завтраку будем на месте. Идти надо было на торговый пятачок за мостиком и на горке: это место в народе называлось почему-то «фабричная девчонка». Там работал ларёк, где продавали всякую мелочёвку.
Но где Шпаликов — там обязательно что-нибудь случается. Не могло такого быть, чтобы просто сходить и вернуться. Друзьям встретился сценарист Валентин Иванович Ежов, человек маститый, лауреат Ленинской премии за фильм «Баллада о солдате», соавтор Рязанцевой по «Крыльям». Ежов был в хорошем настроении, и чувствовалось, что граммов 50 или побольше он уже принял. Заговорщическим голосом он сказал: «Ребята, в пивной есть горячие пирожки с капустой и болгарский коньяк „Плиска“. Может, пойдём?» Соблазн был очень велик, но друзья к этому соблазну были, кажется, даже готовы. Предстоял, правда, завтрак в Доме творчества, но мы же выпьем по 50 и съедим по пирожку, это аппетиту не повредит. Даже поможет.
Где 50 — там 100. Где 100 — там бутылка. Где бутылка — там всё: «спиртное закончилось». Пока суд да дело, завтрак уже прошёл. И обед. Но была ещё банька, где можно было попариться и согнать хмель, а для этого выпить ещё водочки. За ней был экстренно послан банщик, который, как вдруг оказалось, воевал с Ежовым на одном фронте. Почти земляки…
Скоро уже и вечер закончился. Нетрудно догадаться, что происходило в течение всего этого дня в Доме творчества. Лариса была в отчаянии — злилась не столько на Шпаликова (что с ним поделаешь!..), сколько на себя. Она же сама отпустила его с Финном! Если он укатил в Москву — всё, дело безнадёжное, никакого сценария не будет. Вайншток тоже бушевал — но не из-за Шпаликова, а из-за Финна, который был нужен ему не меньше, чем Шпаликов Ларисе. И больше всех бушевал Галич — он тоже в эту пору жил в Болшеве и работал вместе с Марком Донским над сценарием фильма о Шаляпине. Этот фильм так и не состоится, но дело не в том. Какая могучая компания собралась тогда в Болшеве! Александр Аркадьевич возмущался тем, что никто ничего не предпринимает для спасения друзей. А вдруг с ними что-то случилось? «Надо идти в милицию, и я сейчас пойду!» — заявлял он. Маленький ростом Донской комично удерживал Галича за его дорогую дублёнку (пока у Галича не начались серьёзные неприятности из-за его острых песен, он был преуспевающим драматургом, поэтому дорого одевался и вообще жил на широкую ногу). Галич, избавившись от Марка, вышел на шоссе, поймал такси и уехал… в Москву, где и пропадал дней десять. Тут уж настало время волноваться Донскому. Остальная компания за Галича не очень беспокоилась, ибо знала: у него в Москве роман…
Ежов, Шпаликов и Финн появились ближе к ночи. Гена почему-то радостно улыбался: всё хорошо! Лариса увела его в коттедж, и о том, что за разговор происходил там между ними и чем он закончился, история умалчивает. Наутро все опять сели за письменные столы…
В память об этом болшевском эпизоде у Финна остались шпаликовские стихи, через пару дней подсунутые, по обыкновению, под дверь Пашиного номера:
О, Паша, ангел милый, На мыло — не хватило Присутствия души, — Известный всем громила Твоё похитил мыло. Свидетели — ежи, Два милиционера, Эсер по кличке Лера, Ещё один шпажист И польский пейзажист, Который в виде крыльев Пивную рисовал, Потом её открыли, и они действительно улетели, С пивной, так что — свидетелей не осталось.Не всё понятно в этих стихах — может быть, потому, что и об этом тройственном походе по злачным окрестностям Болшева мы знаем не всё. Но сам автор, понятно, знает гораздо больше — оттого и переходит в конце со стихов на прозу…
Но вернёмся к фильму «Ты и я», работа над которым, несмотря на подобные шпаликовские эксцессы, всё-таки продвигалась. Шепитько есть Шепитько, у неё не больно-то забалуешь. Между тем по ходу работы — и уже независимо ни от Ларисы, ни от Гены — в судьбе будущей картины кое-что переменилось. Когда она выйдет на экраны, в титрах названия Экспериментальной творческой киностудии не будет, а будет название почему-то другого мосфильмовского творческого объединения — «Товарищ» (существовало в ту пору и такое). В чём тут дело?
Литературный сценарий был написан за пару месяцев. Представленный Шпаликовым текст принят был сценарно-редакционной коллегией на ура; сомнений, которые возникали при обсуждении заявки, уже не было. Резюме Огнева: «сценарий надо принять и никаких советов не давать» — выражает общий дух обсуждения. Но впереди была инстанция посложнее — Госкино. Там настрой был совсем другой.
Нужно напомнить, чем был в нашей истории 1968 год. Объявленный ООН как Международный год прав человека, в Советском Союзе он этому названию соответствовал мало. Год, когда была подведена окончательная и бесповоротная черта под «оттепелью». Внутренняя и внешняя политика брежневской власти ужесточается. В марте в Новосибирске прошёл фестиваль авторской песни «Бард-68», вызвавший недовольство «наверху»; именно после этого начинается преследование участвовавшего в фестивале Александра Галича, спустя несколько лет вынужденного покинуть страну. В апреле группа учёных, писателей и художников направляет властям письмо протеста против политических процессов последнего времени как «симптомов сталинизма». В ответ последовали аресты и увольнения «подписантов». Тогда же, весной, появляется первый выпуск неподцензурной диссидентской «Хроники текущих событий», с которой начинается эра самиздата. Летом политический градус накалится ещё больше. В июне в прессе пройдёт кампания против Высоцкого, а в августе СССР задавит танками Пражскую весну, о чём мы уже говорили. Ветер дул явно не в либеральную сторону, и чуткие чиновничьи носы это хорошо улавливали. В такой ситуации нужно было ждать не разрешений, а запретов.
Нет, сценарий, слава богу, не зарубили, но крови создателям картины попортили немало. Во-первых, её перевели из сомнительной «Эксперименталки» в казавшееся начальству более надёжным объединение «Товарищ». Во-вторых, из самой «Эксперименталки» убрали Гуревича за «попустительство» странному, по мысли чиновников, замыслу. В-третьих — последовали придирки к тексту, которые придётся Шпаликову и Шепитько учитывать, и картина от этого, конечно, не выиграет. В октябре 1969 года даёт своё заключение по сценарию Афанасий Салынский, официозный драматург, автор «идейно правильных» пьес и сценариев. Заключение, как нетрудно догадаться, оказалось отрицательным: «Хочется видеть в кино реальную жизнь. Истину суровую, смешную, страшную и оптимистичную, такую, как она есть, а не придуманную, хотя бы и столь талантливо». Слово «талантливо» вставлено в текст, конечно, из дипломатических соображений — для видимости объективности, а по сути отзыв Салынского призван похоронить сценарий. К счастью, раздавались и другие голоса. Александр Мачерет, «заваливший», как мы помним, сценарий о декабристах, на этот раз работу одобрил, написал в своём заключении о «большой художественной силе» сценария, о «свежих, сочных, ярких красках советского пейзажа», о «живом, окрашенном в цвета юмора и поэзии» диалоге героев. Опытные люди знали, каковы бывают аргументы советской партийно-бюрократической машины и какие фразы нужны для того, чтобы продвинуть сценарий, спектакль, роман… Хотя есть в заключении Мачерета и замечание в адрес недостаточной «психологической замотивированности поведения и состояния персонажей». Итог же таков: в марте 1970 года Госкино даёт будущей картине добро и включает её в план 1971-го — с условием обязательной, как водится, реализации замечаний.
Видимо, как раз в момент, когда решалась судьба сценария, и написан Ларисой Шепитько текст, где проявляются её «мужской» характер и готовность отстаивать труд друга и единомышленника. Трудно сказать, каким было конкретное практическое предназначение этого текста, но ясно одно: Лариса защищает сценарий перед каким-то оппонентом: «В „Ты и я“ я столкнулась с новой драматургией. Более того, я сама выбрала такую драматургию, такой способ повествования для своей новой постановки, отдавая отчёт самой себе, что эта работа потребует совершенно иных решений, иных изобразительных средств, иного класса актёров, нежели в тех картинах, над которыми я работала раньше. Собственно, я давно искала такой сценарий…» Мол, всё дело даже не в сценаристе, а во мне, «я сама выбрала», «я давно искала»… Режиссёр вызывает огонь на себя.
Пора, наконец, сказать, что же представлял собой сценарий и каков оказался творческий результат сотрудничества сценариста, режиссёра, актёров — то есть сам фильм.
В картине три главных действующих лица. Врач-нейрохирург и учёный Пётр, вдруг бросивший науку и «бежавший» в Швецию, проработавший там какое-то время врачом при посольстве и теперь вернувшийся на родину. Человек импульсивный, готовый на неожиданный и даже эпатажный поступок, не вписывающийся в административно-бюрократическую систему, каковую никак не обойти, если работаешь в советском учреждении, хотя бы и научном. Вернувшись из Швеции, он приходит в управление в надежде, что его снова примут на работу, но начальник, от которого зависит его судьба (в этой роли снялся Олег Ефремов), начинает зачем-то декламировать с иронической интонацией объяснительную записку Петра, полагая, видимо, что этим он «воспитывает» сбившегося с правильного пути посетителя. В ответ Пётр, что называется, просто хлопнул дверью. Это в фильме, а в сценарии он даже не зашёл в кабинет к начальнику. А затем — и в сценарии, и в картине — сорвался и уехал в глубинку, где стал работать простым врачом. Как нередко бывает в шпаликовских сценариях, в этом поступке есть что-то от характера самого автора. Шепитько хотела снять в этой роли, по её собственному выражению, «актёра, похожего по своему актёрскому обаянию на В. Высоцкого». В одном из писем к ней по сравнению с уже цитированным нами более позднем (даты в нём нет), написанном из Болшева, Гена пишет: «…я дал сценарий Володе Высоцкому — режиссёрский, который у меня оставался. Разумеется, — сама у него узнаешь, безо всяких предварительных заверений — для прочтения на всякий случай. Он тебе позвонит». Высоцкий действительно пробовался на эту роль, но что-то у Ларисы с ним не сложилось. И начальство его, автора «сомнительных песенок», всегда тормозило (хотя само потихоньку охотно слушало), да и Володя был вечно занят театром, кино, песенными своими выступлениями: страна жаждала слышать его и видеть, у него уже была к этому времени огромная популярность, пришедшая в обход издательств, прессы, телевидения… Пробовались и другие замечательные актёры: Георгий Тараторкин, Сергей Шакуров, Леонид Филатов. Сыграл же Петра в итоге Леонид Дьячков, работавший в ту пору в Театре им. Ленсовета и однажды уже снявшийся у Шепитько (в «Крыльях»). Если сравнивать его с Высоцким, то Дьячков по своему темпераменту заметно мягче. Киновед Валерий Фомин считает, что отданное Дьячкову предпочтение перед другими актёрами было ошибкой Шепитько. Не знаем… Может быть, на творческом результате сказались некоторые компромиссы, на которые Ларисе всё же приходилось идти ради того, чтобы фильм всё-таки был снят и вышел на экран; в этом она признавалась позже сама.
Любопытно, что Дьячкова Лариса изначально собиралась снимать в другой роли — Саши, бывшего коллеги и друга Петра. Но Сашу сыграл Юрий Визбор. Визбор не был профессиональным актёром и «победил» на пробах у Шепитько таких звёздных конкурентов, как Юозас Будрайтис, Виталий Соломин, Олег Борисов, Олег Даль. Впервые он оказался на киносъёмках благодаря Марлену Хуциеву, неожиданно пригласившему барда сыграть одну из главных ролей в «Июльском дожде». Вслед за этим Визбор, приглянувшийся кинематографистам, снялся несколько раз в ролях разного уровня. Прославившая его как актёра роль Бормана в «Семнадцати мгновениях весны» была ещё впереди. К своей работе в кино он относился не слишком серьёзно: съёмки занимали его как ещё одна форма творческой жизни, и поскольку он был талантливым «многостаночником» (поэт, бард, прозаик, драматург, журналист), то у него хорошо получалось работать и на съёмочной площадке. Была в активе Визбора-актёра ещё и снятая на «Ленфильме» любопытная короткометражка «Рудольфио» Динары Асановой, в ту пору пока студентки-дипломницы, по одноимённому рассказу Валентина Распутина, где Визбор раскрылся как психологический актёр, сыграв героя, которого можно охарактеризовать уже известной нам формулой: «русский человек на рандеву». Возможно, Шепитько увидела эту работу, и это предопределило выбор актёра на роль Саши. В фильме «Ты и я» Визбору предстояло играть нечто похожее, но глубже и драматичнее.
Так вот, Саша — человек другого склада. Спонтанности Петра в нём нет. Он, конечно, имеет некоторую фору — моральное право упрекнуть друга в том, что тот «слинял». Но ведь он слинял и сам! Опыты над животными, в которых и заключалось истинное научное призвание обоих друзей, Сашей тоже отставлены — ради карьеры. Он теперь чиновник от науки, у него есть свой кабинет. Когда перед ним возникает дилемма: просить перед начальством за вернувшегося беспокойного друга или отойти в сторону, не связываться и тем сохранить своё спокойствие и своё положение — он выбирает второе. А ведь Пётр вернулся для того, чтобы работать снова именно с Сашей: «я без тебя как без рук». Фигура Саши оказывается в центре потрясающей (другого слова нет) сцены в цирке, когда он неожиданно вызывается на шутливый призыв клоуна к «храбрым джигитам» из публики «оседлать непокорного арабского скакуна». Вопрос клоуна: «Мужчины в этом зале есть?» — Саша вдруг воспринимает буквально: «Я! Я хочу!» Разворачивается нелепый фарс — пародия на истинное мужество, для которого вовсе не требуется обязательно скакать по арене и висеть под потолком на лонже. Но для героя это — как бы попытка компенсации за собственное малодушие в истории с Петром, да и просто с самим собой.
Есть в сюжете и женщина по имени Катя — жена Петра, а теперь, когда муж исчез в не известном ей направлении, любовница Саши. Любовница — слишком легковесное слово; Катя убеждена, что Пётр её не любит, а Саша неравнодушен к ней, судя по всему, давно. Неспроста он до сих пор не женат: «пока держусь», говорит он Кате полушутя. Она это, конечно, чувствует, хотя по-прежнему думает о Петре всё-таки больше, чем о Саше. Даже из Сашиной квартиры она набирает телефонный номер квартиры своей — в надежде, что услышит голос мужа. Но и роман Саши и Кати ни к чему не приводит: удержать возлюбленную он не может. Русский человек на рандеву, находящий себе оправдание: «Юношеские поступки в зрелом возрасте время делает смешными. Это, Катя, цирковые номера, не более». Сказано вроде бы об эксцентричном поведении Петра, но поневоле — и о себе тоже, ибо звучат эти слова через несколько минут после сцены в цирке.
Катя — своеобразный индикатор нравственного императива картины: в цирковой сцене, когда публика помирает от смеха в уверенности, что Саша — подсадной артист, она — единственная в зале, кто правильно понимает — может быть, на уровне лишь интуиции — происходящее. Она встаёт и выходит из зала. И психологический расклад в отношениях между двумя друзьями она чувствует точно. Кстати, эта сцена «рифмуется» в картине со сценой, когда та же Катя смотрит, но уже с Петром, с трибуны хоккейный матч между сборными СССР и Швеции в Стокгольме. Здесь в центре — блистательный хоккеист Анатолий Фирсов, «ветеран», которому сейчас 31 год. Он сбит соперниками на лёд, с большим трудом поднимается на ноги, снова включается в игру и даже забивает гол. Пётр неотрывно и очень эмоционально следит за его игрой. Не справляясь с нахлынувшими на него чувствами, он даже встаёт, быстро уходит с трибуны и оказывается на улице, где едва не попадает под колёса (подобно тому как полезет на спину цирковой лошади Саша). Метафора понятна: пусть время прошло, возраст уже иной, но игра ещё не проиграна, ещё можно всё вернуть и «забить свой гол». Изначально в сценарии хоккея не было, зато был эпизод… церемонии вручения Нобелевской премии, на которой присутствовали Пётр и Катя (ну никак «не может забыть» Гена Шпаликов о нобелевских лаврах!).
Приступая к работе над картиной и размышляя о возможной исполнительнице роли Кати, Лариса видела в героине «некую комбинацию сексуальности Л. Максаковой и интеллектуальности А. Демидовой». Сыграет Катю в итоге Алла Демидова, хотя и здесь был звездный «конкурс»: пробовались на эту роль Маргарита Терехова, Зинаида Славина, Ольга Гобзева (героиня сцены вечеринки в «Заставе Ильича»), Инна Гулая и даже… Белла Ахмадулина. Участие Беллы не состоялось не потому, что она попробовалась неудачно (Шепитько была очень довольна её пробами, чуть ли не целовала её от ощущения удачи), а потому, что её участие вызвало негативную реакцию в Госкино. Мол, у вас там что, актрис не хватает? Это был повод, а затаённая причина недовольства чиновников была, конечно, другой: от Беллы веяло ощущением свободы, она не вписывалась ни в какие рамки и стереотипы. И кроме того, рутинный кинопроцесс был, конечно, не для неё, эфемерной бабочки русской поэзии. Трудно представить её в бесконечно повторяющихся дублях, когда то одно не так, то другое, и надо просто — есть ли вдохновение, нет ли его — профессионально работать в поте лица. А каким поэтическим было бы это кино, если бы в нём сыграли три поэта: Ахмадулина, Визбор и Высоцкий!
Но оно всё равно получилось поэтическим. Не в том смысле, что в нём звучали стихи — их как раз не было, хотя задумка у Шпаликова была именно такая: фильм со стихами (в письме Ларисе: «никому, по-моему, не приходило в голову, что стихотворение… — это же целая сцена…»). А в том, что на первый план, опять-таки по-шпаликовски, выступает не сюжетная линия, а эмоционально-смысловая составляющая. Только здесь она обусловлена не волнениями вступающих во взрослую жизнь молодых людей, как в «Заставе…», и не ощущением, что бывает всё на свете хорошо, как в «Я шагаю по Москве», а рефлексией по поводу того, как сложилась дальнейшая судьба этого поколения. В пору «оттепели» им было по двадцать, теперь — сильно за тридцать. И жизнь вокруг изменилась: после «оттепельного» подъёма она всё больше погружалась в тягучий «застой», становилась всё более инертной. Наиболее умные и чуткие люди это ощущали. Короче говоря, пора было подводить первые жизненные итоги. Начинать собирать камни, которые щедро разбрасывались в казавшиеся свободными «оттепельные» годы.
В 1971 году в Театре на Таганке прошла премьера «Гамлета» в постановке Юрия Любимова с Высоцким в главной роли. Это был Гамлет эпохи, когда надежды на демократические перемены в обществе, возникшие было в хрущёвские времена, рухнули окончательно. Ощущение невозможности что-то изменить и вызванное им отчаяние, «отсутствие воздуха» (Блок), могучие человеческие силы, остающиеся втуне, трагедия нереализованности — вот что стоит за таганским Гамлетом. Мы уже говорили о невольном гамлетовском подтексте в «Долгой счастливой жизни». Но и фильм «Ты и я», вышедший на экраны в 1971 году, тоже можно счесть «гамлетовским». Он, в сущности, о том же — быть или не быть. Знаменитый гамлетовский вопрос перенесён здесь в обыденную, казалось бы, жизнь, в повседневное существование. Как любили повторять, вслед за горьковской старухой Изергиль, в советских газетах и телепередачах — в жизни всегда есть место подвигу. И, добавим, подлости тоже. Тихой, прикрытой соображениями «здравого смысла» и тем, что «всё равно ведь ничего не изменишь». Впрочем, и подвиг тоже может быть без выстрелов и без лихих скачек. Например, служение науке, для которого рождён, которое и есть твоё жизненное предназначение. Ты должен, по выражению другого знаменитого персонажа (Печорина), угадать своё высокое предназначение и не разменять его на мелочное и суетное. Иначе и есть: не быть.
Может быть, измена своему предназначению касается только Саши? Разве Пётр во второй половине картины не занят самым благороднейшим делом — лечением и даже спасением людей в глубинке, где он — всё сразу: и врач, и фельдшер, и духовник-исповедник… Очень драматична сцена, где девушка Аня (в превосходном исполнении Натальи Бондарчук, впервые здесь ярко раскрывшейся актрисы, вскоре после этого снявшейся в главной женской роли в «Солярисе» Тарковского; в сценарии эту героиню звали Надей) пытается покончить с собой из-за несчастной любви, и Пётр спасает её, возвращая ей веру в жизнь. В какой-то момент, уже при следующей встрече, когда помощь (душевная) нужна не ей, а ему, разговор с этой девушкой, которой он вдруг, опять спонтанно, делает предложение выйти за него замуж, словно отрезвляет уже его самого: «Вы что, — говорит она, — собираетесь меня всю жизнь спасать? А больше не требуется, не надо. Чем другим лезть в душу, лучше к себе загляните. Видимо, в самый раз, а? Вот себя и спасайте на здоровье. Если ещё есть чего спасать». В фильме эта линия представлена лишь одним эпизодом, а в сценарии она более развёрнута и даже несёт основную нагрузку в финале, когда Пётр прощается с Надей (эти характерные шпаликовские финальные прощания…), и не очень ясно, вернётся он к ней или нет. «И теперь уже Пётр никогда не смог бы отделить Надю от этого берега, этих домов, лодок, от всего, что, оказывается, и составляло её жизнь… Теперь это был тоже его город, и неважно, родился он в нём или нет».
Эпизоды работы Петра врачом напоминают, кстати, одну песню Визбора, сочинённую им как раз в начале работы над фильмом, в 1968 году: «Ну а будь у меня двадцать жизней подряд, / Я бы стал бы врачом районной больницы. / И не ждал ничего, и лечил бы ребят, / И крестьян бы учил, как им не простудиться. / Под моею рукой чьи-то жизни лежат, / Я им новая мать, я их снова рожаю. /И в затылок мне дышит старик Гиппократ, / И меня в отпуска всё село провожает» («Я бы новую жизнь своровал бы, как вор…»). Всё верно, это тяжёлый и необходимый труд — без преувеличения сказать, героический. И всё же… Зрителя не покидает ощущение, что главным в жизни Петра, как и в жизни Саши, должно было быть другое. В финале камера переносит нас в прошлое, показывая наконец героев в ту пору, когда они занимались наукой. Пётр, Саша и другие сотрудники — в лаборатории, в обнимку с симпатичной овчаркой, опыт над которой оказался счастливым. Вот он, момент истины. Настоящее призвание, дело жизни обоих: твоё и моё, если обыграть название картины. В этот момент зритель понимает, что и кадры со снятыми крупным планом подопытными собаками в вольерах с почти человеческими глазами в начале фильма были включены в ленту неспроста. Их, как и людей, предавать тоже нельзя. Образуется как бы кольцевая визуальная (и музыкальная: и в начале и в финале звучит написанная специально для фильма мелодия Альфреда Шнитке) композиция, сквозной мотив, подсказывающий зрителю, в чём заключается основная идея фильма. И ещё об этих начальных кадрах зритель вспоминает ближе к финалу картины, когда Пётр то и дело наталкивается на взгляд деревенской девушки, больной тромбозом (в сценарии — деструкцией костной ткани мозга) — кажется, влюблённой в симпатичного приезжего доктора. В фильме она не произносит ни слова: обо всём — и о влюблённости, и о болезни — говорят её глаза. Дело её плохо: «такого даже у Бурденко не делают», говорит Пётр коллеге, а «пытаются» делать только на уровне собак. В тексте сценария Пётр даже достаёт из бумажника фотографию той собаки. Вот тут-то круг и замыкается по-настоящему. Последние кадры фильма — лицо этой девушки крупным планом, её глаза. Оставив науку, Пётр словно обрёк и эту свою пациентку…
Вообще операторская работа в этой картине не менее замечательная, чем в других ключевых шпаликовских фильмах. Снимал её один из ближайших Гениных друзей — Александр Княжинский, работавший и на картине «Я родом из детства». Например, оригинально и замечательно снята сцена, когда Пётр спускается в лифте после похода в начальственный кабинет управления: куда он ни повернётся, со всех сторон видит собственное отражение в зеркалах кабины. Возникает ощущение тупика, в котором герой оказался. Или сцена, когда он бежит на поезд: состав и перрон мы видим словно его глазами, камера покачивается, как весы, и в итоге изображение на экране покачивается тоже. Но ведь именно таким и должно быть зрение бегущего человека. Тоже динамично — и драматично — выстроена уже упоминавшаяся нами сцена в цирке. Здесь движение тоже воспринято зрением героя. Он сидит на скачущей по арене лошади, камера движется вокруг стоящих в центре арены клоуна и укротителя, они поворачиваются по мере того, как лошадь с Сашей скачет вдоль барьера, отделяющего арену от публики, и следят за его перемещением, а он операторской камерой словно «следит» за ними. Хотя ему в этот момент, конечно, не до них. Найден и ещё один интересный световой ход: в полутёмном зрительном зале оказывается высвечено лишь напряжённое лицо Кати, и это важно по смыслу происходящего, о чём речь у нас уже шла.
…Судьба картины «Ты и я» парадоксальна и в то же время показательна для кинематографа брежневских времён. Сквозь цензурно-чиновничьи препоны она с трудом проходила не только стадию сценария, но стадию уже смонтированного фильма, работа над которым была завершена в 1971 году. Участники обсуждения ленты на худсовете объединения «Товарищ» под руководством режиссёра Юлия Райзмана говорили о том, что «картину нужно смонтировать заново — она очень трудно и тяжело смотрится» (директор объединения Агеев); что «мысль картины ясна», показана «ярко и лобово» (каково слово! — А. К.), что картина «безысходна» (главный редактор объединения Глаголева); что «Дьячков не справился со своей задачей: он однообразен, диапазон его внутренних переживаний и внешних проявлений очень мал» (Райзман). Начались переделки: целую серию эпизодов пришлось переснимать и переозвучивать, а ленту перемонтировать. Следующее обсуждение было уже помягче. Критика звучала и на этот раз, но были голоса и в защиту. Например, режиссёр Евгений Карелов (автор замечательной, глубокой ленты о Гражданской войне «Служили два товарища») сказал, что в фильме «прекрасны диалоги, изобразительная сторона, стиль. Картина производит впечатление приятной зависти…». Режиссёр Борис Яшин ставит в упрёк картине то, что она «умозрительна и холодна», что в ней «нет тепла», но всё же признаёт, что она «сделана на высоком техническом уровне», даже «на мировом стандарте».
Худсовет «Мосфильма» предложил, несмотря на все претензии к картине, присвоить ей первую категорию. Но оставалась, опять-таки, ещё конечная инстанция — Госкино. Там люди были «бдительнее» и поощрять «сомнительную» картину не собирались. Фильм в итоге приняли, но присвоили третью категорию — то есть обрекли на минимальное число копий плёнки, на показ в небольших кинотеатрах на утренних и дневных сеансах, на небольшую оплату труда тех, кто картину создавал. Зритель шёл на неё неохотно, а уходил разочарованный: непонятное кино, сюжета почти не видно, финал неопределённый. Зато, как и в случае с «Долгой счастливой жизнью», ленту достойно приняли на Западе: на Венецианском кинофестивале Лариса Шепитько получила медаль в конкурсе молодого кино.
На родине признание к фильму пришло позже. В 1981 году, когда уже не было в живых ни Шпаликова, ни Ларисы, погибшей в июле 1979-го в автомобильной катастрофе на съёмках фильма «Прощание» по повести Распутина «Прощание с Матёрой», Юрий Визбор увидел афишу «Ты и я» у входа в Кинотеатр повторного фильма на улице Герцена (теперь это Большая Никитская). На афише значились несколько сеансов, и Визбору, не видевшему картины с самой премьерной поры, захотелось пойти на неё. Ни на один сеанс не было билетов! К началу 1980-х годов образованная публика, уже приобщившаяся к интеллектуальному и психологическому кино, посмотревшая «Сталкера» Тарковского и «Барьер» болгарского режиссёра Христо Христова со Смоктуновским в главной роли, оценила и ленту Шпаликова и Шепитько.
У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
В начале 1970-х Шпаликов вёл уже откровенно бездомную жизнь. Днём он ходил по улицам и зачем-то прочитывал все газеты на стендах. В те времена во всех городах были такие стенды — с наклеенными на них свежими номерами «Правды», «Известий», «Труда», «Советской России»…
Вероятно, это на время занимало его и отвлекало от собственных неурядиц, а может быть, однообразно-мёртвый советский «новояз», которым были переполнены газетные страницы, давал толчок творческой мысли — по закону «от противного». В газетах, как всегда — «весь советский народ в едином порыве…», «верный сын Коммунистической партии…», «происки мирового империализма…». Мы помним, как Шпаликов ещё в начале 1960-х вышучивал в своих стихах и песнях все эти официальные советские языковые клише. И даже теперь, в нынешнем его неустроенном положении, после чтения газет у него действительно рождались строчки (ещё раньше, до бродяжничества, он любил читать и местную прессу, если оказывался в другом городе). Он заходил на почту, согревался, брал чистый бланк телеграммы или бандероли и ручкой с пером, которое надо было раз пять за минуту макать в чернильницу (давно уже все писали шариковыми, прошёл век и чернильных авторучек с резервуаром, но в почтовых отделениях очень долго держались эти допотопные перьевые — наверное, потому, что такие уж точно с собой не унесут). И — писал стихи. Работники почты его уже заприметили, но не выгоняли. Знали: этот бродяга — безобидный. Дописав стихотворение, он уходил.
Надо было где-то ночевать. Шпаликовская строчка «Меняют люди адреса» для него самого обрела теперь другой, по-своему невесёлый, смысл: он сам ежедневно, ежевечерне «менял адреса», заходя к кому-нибудь из знакомых. Его кормили ужином или поили чаем, и по всему было видно, что идти ему некуда. Но сказать об этом напрямую Гена стеснялся. Хозяева, впрочем, догадывались и сами. Так однажды он зашёл к Евгению Евтушенко. Тот уложил его спать, и ему врезалось в память, что спящий Шпаликов напоминал обиженного ребёнка. Утром Гена поиграл с маленьким сыном Евтушенко, потом как-то стушевался, заторопился уходить. Чувствовалось, что ему неловко от того, что он вносит диссонанс в чужой семейный уют. А может быть, от того, что контраст фигур гостя и хозяина был слишком ощутим: Евтушенко много издавался, был знаменит и жил довольно обеспеченно.
Несколько дней прожил у Лидии Корнеевны Чуковской, где читал запрещённого Солженицына и потом ещё долго ходил под впечатлением от этого чтения. В начале 1974 года, когда разразилась антисолженицынская государственная кампания, закончившаяся насильственной высылкой писателя за границу, Гена написал письмо в его защиту и отправил в «Правду». Нечего и говорить, дело было безнадёжным: Шпаликова вызвали «на ковёр» в Союз писателей, и «секретарь по оргвопросам», а фактически генерал КГБ Ильин сделал ему внушение. В квартире же Чуковской Гену поразило обилие книг. Он сам, почти никогда не живший стабильной домашней жизнью, никогда не имел и настоящей «писательской» домашней библиотеки, и здесь его кольнула ностальгия по тому, чего не было, нет и, наверное, уже не будет… Вообще, вопреки бездомью, Шпаликов продолжал оставаться «глотателем» книг и охотно впитывал новые литературные впечатления. Уже в самый последний свой год, в 1974-м, они окажутся вместе с Пашей Финном в болшевском Доме творчества, и благодаря другу Гена по-настоящему откроет для себя Мандельштама. Как раз за год до этого стихи Мандельштама впервые после очень-очень долгого перерыва были переизданы — в серии «Библиотека поэта». Неважно, что книгу предваряло «идеологически выверенное» предисловие Александра Дымшица, по поводу которого в литературных кругах немало поязвили. Но иначе, наверное, «пробить» издание через цензуру было бы и невозможно. Зато теперь Мандельштам пришёл к читателям — и к Шпаликову в том числе.
Как-то заглянул к поющей поэтессе Аде Якушевой, у которой после развода с Юрием Визбором сложилась к этому времени новая семья — она вышла замуж за журналиста Максима Кусургашева, тоже — как и Ада с Визбором — выпускника МГПИ. Жили они в своей «хрущёвке» гостеприимно, но тесно: «спальное» место было устроено прямо на полу, голова под роялем, ноги — в направлении к туалету. Так что если кому-то посреди ночи требовалось туда пройти, то приходилось перешагнуть через шпаликовские ноги. Ну, в тесноте да не в обиде. К художнику Мише Ромадину и его жене актрисе Виктории Духиной, с которой был знаком ещё по ВГИКу, Гена как-то пришёл в носках — где остались ботинки, они из его объяснений так и не поняли. Ночевал несколько раз у актрисы Екатерины Васильевой, с которой вообще дружил и которой посвящены его стихи: «Спаси меня, Катя Васильева, — / О жалкие эти слова, / А ты молодая, красивая, / Пускай мне конец — ты права. / Не плачу. Не то разучилось, / Не то разучили меня, / Но вот под конец получалось — / Одна у меня ты родня». Иногда — у Евгении Казимировны Ливановой, матери Василия Ливанова.
Бывал у родных своей первой жены Наташи — у её мамы, у брата Юрия, жившего уже отдельно с собственной семьёй в Сокольниках. Заходил к Павлу Финну, обитавшему по-прежнему на улице Фурманова, где они, бывало, собирались в юности. Однажды Паши не было дома. Гена не дождался его, поговорил с его мамой, Жанной Бенедиктовной, которую он по-свойски называл просто Жанной, и ушёл, оставив странную записку: «Спасибо, Паша, маме, молодости, спасибо жизни, что она была». В другой раз Финн был дома, и пока Гена устраивался на раскладушке, «прагматично» убеждал его, что трёхкомнатную квартиру в Черёмушках, оставленную Инне и Даше, надо разменять, что нельзя так жить. Это было, конечно, бесполезно: тревожить семью Шпаликов не стал бы, да и трудно представить его в таком практическом деле, как размен квартиры. Кажется, ему было проще остаться без дома, чем заниматься юридическими и канцелярскими делами. «Наверное, я так и буду жить до смерти в Домах творчества», — говорил он, имея в виду Болшево и Переделкино. А однажды Шпаликов сознался Финну, что провёл ночь… на чердаке его дома. С чердаками и подвалами в советское время дело обстояло проще, чем в нынешнее. Обычно они, как и вход в подъезд, не запирались; домофоны были только в элитных домах, где жили партийные деятели и очень знаменитые артисты. Не запирались и чердаки. «Почему же не пришёл ко мне?» — поразился Финн. «Не хотел беспокоить твою маму».
Зато свою маму он как-то «побеспокоил» появлением в пьяном виде до такой степени, что она позвонила в милицию, и его увезли в отделение (надо признать, что Шпаликов несколько раз попадал туда и без того). Гена сумел дозвониться до друзей, Юлию Файту пришлось ехать, выручать его. И вообще, если подгулявшего Гену было некуда деть и друзья звонили его маме (ведь не всегда же у них была возможность пристроить его у себя, всякие бывали обстоятельства и у Финна, и у Файта…), она могла и сказать «нет». Людмила Никифоровна была человеком строгих правил: в семье военных должна быть дисциплина… Мама переживёт сына и уйдёт из жизни в 1985 году.
Осуждать кого бы то ни было, в том числе даже и мать, за то, что, дескать, не поняли, не оценили, не обогрели — нельзя. Каково терпеть выкрутасы вечно нетрезвого и без вина склонного к чудачествам человека? У всех своя жизнь, свои семьи, и даже самые близкие люди бывают в таких ситуациях, увы, бессильны.
Он изменился внешне, стал выглядеть старше своих лет. Густые чёрные волосы поредели и выглядели неряшливо. В юности он привык к аккуратной короткой стрижке, но теперь было не до парикмахерской. Лицо приобрело какую-то нездоровую одутловатость. Застарелые проблемы с сердцем всё чаще напоминали о себе. Развивался цирроз печени; болели и почки. Он никогда не одевался богато, просто не было такой возможности, но в молодости отличался лёгкой щеголеватостью: светлая рубашка, галстук — или джемпер под пиджаком. Теперь их сменил заношенный свитер. Вместо светлого китайского плаща и «артистического» синего шарфа — потёртая, едва ли не с чужого плеча, кожаная куртка. В этой куртке его можно было увидеть сидящим на скамейке где-нибудь на бульваре и жующим горбушку чёрного хлеба с луком. Такова была любимая шпаликовская закуска к пиву. А мог — в начале осени, когда ночи ещё не очень холодные — даже заснуть в парке, в ворохе листвы.
Прощай, Садовое кольцо, Я опускаюсь, опускаюсь И на высокое крыльцо Чужого дома поднимаюсь. Чужие люди отворят Чужие двери с недоверьем, А мы отрежем и отмерим И каждый вздох, и чуждый взгляд.Эти стихи Шпаликова понравились Андрею Тарковскому, он пел их под гитару или под фортепиано на мотив знаменитого романса «Я встретил вас». Художник с прочной репутацией интеллектуала, Тарковский любил, однако, и спеть «для души» что-нибудь простенькое. У Андрея судьба тоже складывается трудно, у властей он явно не в фаворе, но он снимает картины, с трудом, но пробивает всё-таки своим талантом советский бюрократический бетон. Один «Андрей Рублёв» чего стоит. Во всяком случае, с горбушкой на скамейке друг Андрей не сидит…
В эту пору у Шпаликова наметилось сотрудничество с кинорежиссёром Сергеем Соловьёвым. Когда-то, году в 1963-м, начинающий Соловьёв попытался привлечь молодого и уже известного, «звёздного» Шпаликова к сотрудничеству. Сергей разузнал номер его телефона, позвонил, они встретились, посидели в ресторане ВТО за бутылочкой охлаждённого «Цинандали», но… писать для Соловьёва сценарий Шпаликов отказался. Та встреча обернулась, вместо договора о сотрудничестве, походом в цирк, где выступала пользовавшаяся шпаликовским вниманием гимнастка, получившая от него в тот вечер букет цветов. Соловьёв понял, что такие «романы» — вполне во вкусе его нового друга.
Но теперь, в 1972 году, расклад был иным. Неплохо складывались дела у Соловьёва: он экранизировал горьковского «Егора Булычова», пушкинского «Станционного смотрителя» и был на подходе к фильму «Сто дней после детства», который, несмотря на то что сам автор считал его «халтурой», принесёт ему целую порцию наград. А дела Шпаликова были понятно какие. Киностудии какое-то время ещё заключали с ним договоры, выплачивали аванс — «подкармливали», но он катастрофически срывал все планы, и ему перестали верить. И хотя сам Гена в одном из писем как раз этой поры (Софье Милькиной) признаётся, что «писать… стал лучше, веселее и просто расписался, наконец, вовсю», — выбирать уже не приходилось. Надо было радоваться возможности выступить в тандеме с молодым ещё, но уже проявившим себя другом-режиссёром.
Гена, сразу придумавший название: «Все наши дни рождения», — начал фантазировать: быстро подаём заявку, получаем аванс, берём купе до Владивостока и пока едем туда-обратно — успеваем всё написать. В Тихом океане только умоемся — и назад. Такие шпаликовские прожекты новостью для Соловьёва не были. Перед этим Гена уговаривал Сергея записаться в секцию парашютистов, где якобы «даже паспорт не нужен, а требуется только сдать анализы…». Парашютный спорт был для Шпаликова идеей фикс, он не без зависти-ревности относился к знакомым, этим занимавшимся. Ну ладно, прожекты прожектами, но писать-то было надо. И они начали писать. Точнее, писать начал Соловьёв. Гена сказал ему: слушай, старик, я сейчас дописываю роман «Три Марины», про Марину Цветаеву, Марину Освальд (вдову убийцы американского президента Джона Кеннеди, русскую по рождению) и просто Марину. Ты, дескать, пока начинай, а я тебе попозже начну присылать диалоги для сценария. Шпаликов уехал в какой-то пансионат, откуда спустя некоторое время и впрямь начал присылать написанные на серо-голубых телеграфных бланках куски для сценария, хотя порой они перемежались не очень вразумительными письмами другу. Как-никак, но дело всё-таки шло, и когда они вновь увиделись, Шпаликов усадил Соловьёва читать роман про трёх Марин, а сам начал читать их совместный сценарный текст, Сергеем сведённый в нечто единое.
Текст шпаликовского романа сохранился, хотя очевидно, что — не полностью. Но это такой текст, который вряд ли и мог быть «полным». Манера письма у автора такова, что повествование кажется бесконечным. Так можно писать долго-долго — впрочем, можно в любой момент и остановиться. Это как бы коллаж из разрозненных глав, смесь «потока сознания» и постмодернистской «игры в классики». Вот пример шпаликовской манеры — фрагмент о Цветаевой: «Марина Цветаева — в слезах — вот уж чего не ожидал, что в слезах — вот уж — но, читатель, — поверь, что так, поверь, а Марина Цветаева — пока мы бежали до её дома — домика, сарая, скорее чем дома — но — жить можно — вот пока мы добегали, а она плакала, плакала, — на бегу плакать сложно, — хотя — плакать — очевидно — всё равно, где, когда и как…» И всё же сквозь хаотичный, казалось бы, набор слов пробивается нечто шпаликовское, в его неприкаянности и душевном сиротстве: «жить можно» (ему бы что-нибудь такое, домик или сарай, всё равно, да ведь бесполезно, не приживётся нигде), «плакать… всё равно, где, когда и как…». Всё равно. Или приводятся стихи другого классика: «Пью за здравие Мери, милой Мери моей, тихо запер я двери, и — один — без гостей. Пьянство в одиночку. Вот и тост. Спасибо, говорит она, спасибо». Тут можно и не комментировать — разве что стоит заметить, что пушкинская цитата обрывается на выразительной строке «…и — один — без гостей». У поэта дальше идёт ещё один стих, строфу завершающий: «…Пью за здравие Мери». Шпаликову нужна здесь не столько героиня, вокруг которой выстраивается поэтическая мысль у Пушкина, сколько сам герой, его питие в одиночку. Просто — его питие…
Сергею Соловьёву Шпаликов рассказал, как ходил с романом к Твардовскому в «Новый мир», и тот взял рукопись и даже выплатил аванс. Было ли это, и если было, то так ли — бог весть. А может быть, это был совсем другой текст, который в памяти дружившей с Геной редактора «Мосфильма» Эллы Корсунской, — сохранился как роман под названием «Шаровая молния». Элле Шпаликов посвятил шутливую «первую русскую поэму ужасов» под названием «Путешествие к молоканам» («Я обещал письмо Вам написать, / Коль Вы меня просили, — / Мне поздно босиком плясать, / Но отказать я Вам не в силе. / Не в силах отказать стихом, / Рубахой, пряником, стаканом, / Или полуденным грехом, / Или поездкой к молоканам…») и подарил свою фотографию с мрачновато-шутливой надписью («Разыскивается государственный преступник. Рост 175. Вес 80. Элла, это я, правда»). Этот текст Гена называл, правда, «не совсем романом», а Элле однажды признался, что рукопись его… отдал под залог одному своему товарищу-режиссёру, потому что срочно были нужны деньги, а взять их было негде. А может быть, это был один текст, который постоянно «жил» в сознании и под пером Шпаликова, то расширялся, то ужимался и получал то одно название, то другое. Проза Шпаликова (не сценарии, а именно проза!) такова, что её можно начинать читать с любого места и на любом месте можно остановиться. Но представить такой текст напечатанным в тогдашнем «Новом мире», при «традиционных» литературных вкусах главного редактора, как и в любом другом советском журнале тех лет — невозможно. Твардовский, кстати, в 1970 году под давлением партийного аппарата был вынужден уйти из «Нового мира», так что если Соловьёв не ошибается и если сам Шпаликов не присочиняет в своём духе, то значительная часть текста к началу десятилетия уже должна была быть написана. Да и фигура Марины Освальд была интересна по относительно горячим следам событий: Кеннеди погиб в 1963-м, и в 1970-х об этой женщине уже подзабыли.
Вот таким романом Шпаликов и «потчевал» Соловьёва. В ту же пору, в начале 1970-х (дата в архивной описи Музея кино — 1972), он написал и другую крупную вещь, на сей раз на космическую тему, в подзаголовке имеющую жанровое определение «повесть для кино» и до сих пор не опубликованную. Называется она «В поисках пространства и света». Судя по объёму, текст рассчитан не на одну и не на две, а на несколько серий. Впрочем, едва ли автор думал о количестве серий. Он писал прозу — свободную, по-шпаликовски мозаичную и импрессионистичную, где переплетаются космос и быт, перемежаются картины детства мальчика Алёши, ученика ремесленного училища (будущего космонавта Алексея Леонова), сцена «международного совещания по вопросам космогонии» и авторские отступления о звёздах и планетах, образуемых, возможно, из «тёмных пятен пылевых облаков». А затем на первый план выходит образ героини, свободно меняющей свои сюжетные роли: она — то ждущая и встречающая любимого человека из космоса женщина, то сама космонавт или лётчик. И от её лица звучит драматичный монолог, передающий спонтанность сознания приближающегося к земле человека на парашюте, который, кажется, не срабатывает: «Я не видела, конечно, что меня ловили. Пытались поймать. Я всё ещё пыталась что-то сделать. Не сдаваться. Я понимаю. Но времени мало. Подробности. Нет подробностей. Вот, всё опрокинулось. Дыбом земля. Жёлтая. Ещё раз попробуем. Сука смерть. Ещё. Нет, не так. А вот так. Ещё. Обвиснуть свободно. Рывок. Нет. Ещё раз. Работай ногами. Нет. Сволочь смерть. Нет».
Несмотря на авторскую увлечённость романом, всё-таки и «соловьёвский» сценарий продвинулся. Оказалось, что всё более-менее складывается, и будущий фильм в тексте сценария уже просматривается. И там тоже есть полёт.
Главный герой — Митя, Дмитрий Петрович Арсентьев, учёный, сотрудник НИИ, изобретший 20 лет назад прибор под названием «Синдром». У него день рождения — 45 лет. Гости-сослуживцы, недовольная жена — ничего особенного, всё как обычно… Но Митю тянет к чему-то неординарному, скучная привычная жизнь тяготит его. Посреди юбилейного празднества он вдруг исчезает из дома вместе с пришедшим тоже поздравить его другом детства Лёшей. Лёша, работающий в театре постановщиком трюков и пиротехником (мы помним, была когда-то у Шпаликова песенка про пиротехника!), устраивает Мите, с помощью театральной техники и рабочего сцены, настоящий день рождения: Митя… летает под крышей театра. Он «с присвистом проносился в небесах, сигал в жуткую пустоту подполья и вылетал вновь, возрождённый, будто из небытия. Зрелище было захватывающим и прекрасным». И это — иносказательно вопреки скепсису одного из приятелей, полагающего, что своего предела в жизни Митя достиг и у него «новенького ничего не будет».
Но полёт — прелюдия к главному. Оказывается, в юности Митя прошёл через войну, и вот в сюжет сценария входит и выступает на передний план военная тема. На «низкой барке с деревянным рулём на корме» (вновь знакомый мотив) герой отправляется за город — без всякой конкретной цели, просто — куда-то на свободу и на простор, и оказывается… в другом времени. Причём совсем не удивляется. Перед ним — «штурмовик минувшей войны», в кабине которого сидит лётчица по имени Наташа, а рядом с ней — «обмякшее тело, одетое в офицерскую лётную форму». Это тело Клары, которое теперь надо извлечь из кабины и опустить в траву. Война возвращается, и мы понимаем, что она и есть главная отправная точка Митиной судьбы и что именно Наташа, а вовсе не жена Света, — главная женщина его жизни. Кульминация сценария — новый взлёт Мити, на этот раз не на театральной трапеции, а на боевом самолёте. «Деревья в конце поляны стремительно понеслись на него, — ручку на себя, плавно — теперь только небо впереди…»
Этот сюжетный ход напоминает эпизод, тоже кульминационный, несколькими годами ранее снятого Ларисой Шепитько фильма «Крылья». Великолепно сыгранная Майей Булгаковой героиня, в прошлом фронтовая лётчица, многие годы работает директором училища, и никуда не деть ей своё военное прошлое, вошедшее в плоть и кровь. В финале картины она вновь оказывается на аэродроме и как будто внезапно — а на самом деле вполне закономерно! — поднимается в воздух. Одним из авторов сценария «Крыльев» — наряду с Валентином Ежовым — была Наталия Рязанцева. Может быть, этот сюжетный мотив — их с Геной «семейное детище»? Неспроста же он и о парашютах речь заводил…
Но от сценария до фильма — дорога долгая, и не всегда осуществимая. Чиновники почуяли, что кино задумано «не вполне советское»: какие-то подозрительные полёты, какие-то сомнительные приятели… Хорошо, что говорится о войне (военная тема в ту пору была частью идеологической политики), но как-то недооценивается у вас, тт. Соловьёв и Шпаликов, современная жизнь. Случайная фронтовая подруга получается важнее законной жены. А кого намечаете на главную роль? Смоктуновского? Ну, он ведь фронтовиков никогда не играл… И так далее, и тому подобное, уже хорошо знакомое и многократно пережитое. В итоге сценарий оказался «зарублен».
Давно замечено, что большой художник, особенно художник поэтического склада, каковым Шпаликов и был, — на исходе жизни как бы возвращается к её истокам, начинает всматриваться в собственное прошлое, пытаясь разглядеть там нечто такое, что привело его к себе нынешнему. В поколении Шпаликова так произошло с Высоцким — автором «Баллады о детстве», с Визбором — автором «Волейбола на Сретенке». Это были песни о детстве не только лирического героя, но о детстве целого поколения и о том большом, уже ощущаемом как история, времени, которое ему (поколению) выпало в самом начале пути. На четвёртом (Высоцкий) или на пятом (Визбор) десятке лет возникает необходимость подведения предварительных итогов, и, наверное, никто из этих поэтов не думал в тот момент, что итоги окажутся окончательными.
В 1973 году Шпаликов задумал сценарий «Воздух детства», в котором намеревался «вернуться» во времена своей учёбы в Суворовском училище. В сентябре он съездил в Киев — глотнуть того самого поэтического «воздуха детства» и сделать кое-какие прозаические дела. Съездил не один — вместе с молодым кинорежиссёром Михаилом Ильенко, младшим братом шпаликовского друга Юрия Ильенко. Михаил выпускался из ВГИКа и собирался снимать дипломную картину на Киевской киностудии им. А. Довженко. «Воздух детства» и мыслился как совместная работа сценариста Шпаликова и режиссёра Ильенко.
Киев притягивал Шпаликова не только «суворовским» прошлым. Там жил его старинный друг Виктор Некрасов, которому на родине были отмерены уже последние месяцы. Яркий, независимый, близкий к диссидентским кругам, он сильно раздражал власть, и вскоре, в 1974 году, она начнёт устраивать ему провокации и откровенно выдавливать из страны. Вика уедет, влившись в большой поток «третьей волны» эмиграции. В тот же год покинули страну Солженицын, Галич, Владимир Максимов, годом раньше — Андрей Синявский, двумя годами раньше — Бродский… Русская культура уезжала, улетала на Запад.
В эту пору дружба Гены с Викой вышла как бы на новый виток — как вскоре окажется, увы, и последний. Они виделись и в Киеве, и в Москве. В один из вечеров в киевской квартире Некрасова на Крещатике Гена перепел свой старинный песенный репертуар. Иногда поутру Вика обнаруживал в почтовом ящике или просто под дверью то салфетку, то какой-то бланк с почты или из гостиницы, исписанный строчками Шпаликова. Это был очередной дружеский подарок (подарок без всяких кавычек). Гена и здесь был верен своему московскому «стилю» полубродяжнического писания на чём попало. Незадолго до отъезда Некрасова Шпаликов говорил ему: возьми меня с собой в Париж — там и с тобой я, ей-богу, «завяжу»… Вике, который в эту пору, чувствуя приближение неизбежного отъезда, тоже сильно пил, посвящено одно из последних шпаликовских стихотворений. Оно написано в октябре 1974 года, примерно через месяц после того, как его старший друг улетел из страны:
Чего ты снишься каждый день, Зачем ты душу мне тревожишь? Мой самый близкий из людей, Обнять которого не можешь. Зачем приходишь по ночам Распахнутый, с весёлой чёлкой, Чтоб просыпался и кричал, Как будто виноват я в чём-то? И без тебя повалит снег, А мне всё Киев будет сниться. Ты приходи, хотя б во сне, Через границы, заграницы.Это всё будет скоро, очень скоро, но сейчас пока на дворе 1973-й, и киевский сценарий пишется, и студия готова к тому, чтобы дать ему ход. А ещё Вика, всегда мечтавший увидеть фильм по булгаковской «Белой гвардии» (Киев же!), заводит разговор на эту тему. Но… ненадёжный Гена, оказавшись в родных для его «суворовской» памяти местах, дал себе волю, и, увы, привычное уже для него нетрезвое состояние никак не давало возможности завершить работу. Ильенко нервничал — защита его приближалась, а фильма всё не было. Наконец он махнул рукой и снял другую ленту, без Шпаликова. Студия, однако, не теряла надежды довести шпаликовский сценарий до съёмок, у Геннадия появился соавтор — Леонид Осыка, но и это дела не спасло. Лёня оказался подвержен той же пагубной страсти. Шпаликов к тому же вдруг срывался и уезжал в Москву, затем, правда, возвращался, даже прошёл в Киеве курс лечения. Но всё было безрезультатно. Фильм так и не был снят.
Сценарий, однако, сохранился и даже производит впечатление вполне законченного текста. Вероятно, даже после своего киевского «провала» Шпаликов не бросил этот замысел и занимался им. Но то ли студия уже не хотела больше иметь с ним дело, то ли ему самому в 1974-м — последнем, как окажется, — году было уже не до того… А сюжет «Воздуха детства», как всегда у Шпаликова, показателен и значим для того итогового настроения, которое он переживал.
Главный герой сценария, Алексей Скворцов, — явный alter ego автора. 36-летний холостяк, сын погибшего в 1945-м в Польше фронтовика (военная тема напоминает о себе в сценарии не раз), живущий в неуютной стандартной однокомнатной квартире. Мы застаём его утром, во время бритья: «Босой, в старом халате. Тяжеловат уже». Рубашка из прачечной, пуговицы «ломаются под пальцами». Пустой холодильник. Неустроенность и неухоженность — шпаликовские, ощущение того, что в жизни «ничего не получилось» — тоже, и даже возраст точен: в 1973 году Шпаликову именно тридцать шесть. Как и автор сценария, герой учился в своё время в Суворовском училище и теперь неожиданно получил приглашение на его двадцатипятилетний юбилей. Юбилей — уже через три дня, но Алёша срывается с работы и прихватывает с собой девушку по имени Марина, работающую вместе с ним в конструкторском бюро, с которой у него никаких «отношений» вроде бы и не было, — но у этого героя всё спонтанно! Без билетов, задобрив «кондукторшу», как она здесь названа, то есть проводницу, они отправляются в город Н-ск. Попутно мы узнаём «подлинную историю плаща», об исчезновении которого сокрушается в своих воспоминаниях о Шпаликове Сергей Соловьёв. У Лёши нет денег на поезд, по пути с Мариной на вокзал он останавливает такси, заскакивает в какой-то буфет, с ходу продаёт буфетчице плащ и свитер — и «налегке» отправляется в Н-ск. Ну это уж и впрямь совсем по-шпаликовски!
Название города скрыто под этим сокращением напрасно. Автор «проговаривается», когда его герой уже в Н-ске в разговоре с местным родственником, дядей Колей, вспоминает о походах на футбольные матчи. «А помнишь, — говорит дядя Коля, — как на ЦДКА — „Динамо-Киев“ ты чего-то заорал…» Столичный армейский клуб ЦДКА и киевское «Динамо» могли играть между собой только в Москве или в Киеве. Выдаёт место действия и упоминание Цепного моста, связывавшего берега Днепра: к шпаликовским временам этот мост уже не существовал, но оставались целы его опоры, через которые были протянуты линии электропередач. Так что выражение «у Цепного» киевлянину было по-прежнему понятно.
Но город герою и знаком, и не знаком одновременно. «Город изменился. Он совсем иной, этот город». Есть одна тонкость в истории жизни Леши Скворцова. В дороге он рассказывает Марине, что в Н-ске живёт «знакомая девушка» по имени Лариса. Девушка, как выясняется, не просто «знакомая» — иначе, придя к ней в дом и увидев её сына, он не спросил бы: «Это не мой ребёнок?» Пожалуй, только шпаликовский герой может себе позволить заявиться в дом к бывшей возлюбленной с другой девушкой, которая сама ему к тому же приходится непонятно кем, да ещё с детской непосредственностью задавать такие вопросы. Есть на то своя причина: она кроется всё в той же неприкаянности Алексея. Он одновременно с той и с другой — и в то же время ни с кем в частности. Во время праздничного застолья бывших суворовцев в ресторане у Цепного моста он танцует с Мариной и слышит от неё просьбу: «Ты скажи что-нибудь» — и вдруг произносит: «Я тебя люблю», а она в ответ: «Никого ты не любишь». Может быть, эта поездка есть лишь способ «исчезнуть, затеряться» — такое желание возникало не то у героя, не то у автора ещё в начале сценария, пока Лёша был в Москве.
Вряд ли этот сценарий мог превратиться в фильм. Может быть, Шпаликов срывал работу студии не потому, что вообще был склонен к «анархизму», а потому, что это был не просто сценарий — это было выяснение отношений с самим собой, со своим прошлым. Это была исповедь, для которой было достаточно бумаги и чернил. А снимать кино, превращать свои воспоминания в видеоряд — зачем? Они и так наш вечный личный видеоряд. И зачем нам некий актёр, который всё это сыграет, если мы — вот они, сами, без посредников?
Личная нота откровенно проступила в самом финале сценария. Лёша произносит на банкете речь и как бы видит этих взрослых людей мальчишками, какими они были в 1947 году, «и была между ними черта времени, которую преодолеть никому не дано. Но расстаться им было невозможно». А дальше идёт полный текст стихотворения Шпаликова — одного из лучших его стихотворений, тоже исповедального, выражающего судьбу и драму целого поколения мальчишек, чьи первые годы жизни совпали с войной.
По несчастью или к счастью, Истина проста: Никогда не возвращайся В прежние места. Если даже пепелище Выглядит вполне, Не найти того, что ищем, Ни тебе, ни мне. Путешествия в обратно Я бы запретил, Я прошу тебя, как брата, Душу не мути. А не то рвану по следу, Кто меня вернёт? И на валенках уеду В сорок пятый год. В сорок пятом угадаю, Там, где — боже мой! — Будет мама молодая И отец живой.Стихотворение прозвучало-таки с экрана — но спустя два года после кончины автора, в 1976 году. Николай Губенко снял тогда как режиссёр фильм «Подранки», герои которого — воспитанники детского дома, мальчишки, осиротевшие во время войны. Через раннее военное сиротство и через интернат прошёл в детстве и сам Губенко, родившийся на четыре года позже Шпаликова. Стихотворение передал ему работавший на этой картине оператор Александр Княжинский, друг Гены, получивший текст в свою очередь от Юлия Файта, хранившего в ту пору бумаги покойного. Мы помним, что это была одна компания. Десятью годами прежде Губенко, как мы уже говорили, спел шпаликовскую песню «Милый, ты с какого года…» в фильме Файта «Мальчик и девочка». Теперь, в «Подранках», он озвучивал главную роль, сыгранную Юозасом Будрайтисом (литовский акцент которого для фильма не годился), и сам же прочитал стихотворение за кадром в финале, в качестве своеобразного лирического эпилога — как оно мыслилось в «Воздухе детства» и самим Шпаликовым. Это была первая — необычная — «публикация», сделавшая известным шпаликовское стихотворение и как бы легализовавшая Шпаликова как поэта. А позже Губенко использует и другие его стихи в своём фильме «И жизнь, и слёзы, и любовь» (1983): там прозвучат три строфы стихотворения «Влетел на свет осенний жук…» из цикла «Три посвящения Пушкину». Эти стихи хорошо увяжутся с «пушкинским» названием картины. Кстати, использует строки покойного друга (песню «Людей теряют только раз» с музыкой Гии Канчели) и Георгий Данелия в своём фильме «Слёзы капали» (1982). А ещё год спустя, в картине Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» прозвучит песня самого Тодоровского на ещё одно военное, лучше сказать предвоенное, полное тревожного ожидания беды, стихотворение Шпаликова — «Городок провинциальный…». Сам Тодоровский её и напел под собственный гитарный аккомпанемент (а гитарист он замечательный): «Городок провинциальный, / Летняя жара, / На площадке танцевальной / Музыка с утра. / Рио-рита, рио-рита, / Вертится фокстрот, / На площадке танцевальной / Сорок первый год».
Сценарий «Девочка Надя, чего тебе надо?» — по-видимому, последняя работа Шпаликова. Павел Финн свидетельствует, что она была завершена за несколько дней до ухода автора из жизни, и она очень символична как прощальное произведение художника. Это единственный случай, когда Шпаликов написал трагедию. Он должен был её написать: «полная гибель всерьёз», если воспользоваться поэтическим выражением любимого им Пастернака, прежде чем произошла в судьбе самого Шпаликова, оказалась «отрепетирована» под его пером.
Главная героиня сценария — Надежда Смолина, молодая женщина, жительница большого волжского города, рабочая, мать семейства и кандидат в депутаты Верховного Совета СССР. Верховный Совет — по статусу нечто вроде нынешней Госдумы. Но никакой реальной властью он не обладал, принимавшиеся им решения были заранее «проштампованы» в номенклатурном ЦК КПСС, который фактически и руководил государством. А в Верховном Совете «демократично» были представлены разные слои населения, в том числе и рабочие: пролетариат в советское время объявлялся «самым передовым и революционным классом», ибо «пролетариям нечего терять, кроме своих цепей». Так было сказано в «Манифесте Коммунистической партии» Маркса и Энгельса — своего рода катехизисе советской идеологии. Поэтому рабочие должны участвовать в «управлении государством».
Партийные чиновники, выдвинувшие Надю в депутаты, явно рассчитывают, что она будет такой же послушной марионеткой, каковыми были её предшественники. Вот только она так не считает. «Ты меня, — резко заявляет она секретарю заводского парткома Грише, — комсомолочкой считал: то, сё, воскресники, субботники, песенки под гитару! Хватит, товарищ Гриша!.. Меня эта советская власть вырастила в голодуху самую (речь идёт о тяжёлых годах после войны с фашистской Германией. — А. К.), да и не в этом дело! Я вам её на откуп не отдам, понял? И девочку со значком Верховного Совета вы из меня не сделаете!» Одного этого краткого монолога достаточно, чтобы сценарий стал абсолютно «непроходным»: говорить в таком тоне о «советской демократии», о чиновниках-коммунистах было нельзя. Шпаликов это понимал как никто другой. Но он, кажется, идёт здесь ва-банк — как и его героиня, не желающая признавать никаких компромиссов ни с начальством, ни с собственной совестью. Терять уже нечего: сценарий всё равно «ляжет на полку», а высказаться наконец — надо. Другой возможности, может быть, и не будет. Да, не будет.
Сценарий о «девочке Наде» ещё раз показывает, что Шпаликов, при всей своей склонности к вышучиванию советских идеологических и языковых клише, не был антисоветчиком, диссидентом. Он, подобно другому своему любимцу — Маяковскому, в этом сценарии даже процитированному, явно по памяти, ибо с незначительной ошибкой («В коммунизм из книжки верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть…»; у поэта: «в книжке»), — верил в правильность советской идеи. И видел, чем в реальности она обернулась.
Советский ригоризм Надежды Смолиной поражает, если не сказать: потрясает. Она не ждёт, когда её изберут в депутаты («безальтернативные», как всегда это было в Советском Союзе, выборы — впереди). Она уже сейчас, находясь в статусе кандидата, активно вмешивается в жизнь, борясь со всем, что, по её мнению, эту жизнь искажает. Отец «трудной» девушки Лизы, угодившей в милицию, беспробудно пьёт. Надежда добивается выезда к нему санитарной машины, должной отвезти мужчину на принудительное лечение от алкоголизма. Тот заперся в квартире, и когда санитары взламывают дверь, хозяин квартиры, не желающий смириться со своей участью («Сволочи! Гады! В дурдом захотели спрятать! Не выйдет! Живым всё равно не дамся!»), уже не в квартире, а на асфальте. Он выбросился из окна. Спустя несколько часов в этой же квартире соседка заходит в комнату покойника, предлагает Наде чаю с печеньем — и та соглашается. И печенье не встаёт ей поперёк горла. Вот другая история. К Наде обращается женщина, работница этого же завода: её сын ждёт суда за изнасилование, она надеется, что Надя как-то поможет, похлопочет, чтобы наказание не было слишком суровым. В ответ она слышит: «Я бы таких только расстреливала! Или посылала бы на какие-нибудь урановые рудники, чтоб они там подыхали медленной смертью!»
Права ли она? Не в этом дело, а в том, что эта максималистская жёсткость соответствует её собственному жизненному кредо и подтверждается её собственной судьбой. Организовав субботник по ликвидации большой стихийной свалки в одном из районов города, она нечаянно гибнет, охваченная пламенем от вылитого на этот хлам и зажжённого бензина. Мы понимаем: так и должно было случиться. Предельно высокая планка, с которой она меряет чужую жизнь, относится прежде всего к ней самой. Так что на всё, ею сказанное и сделанное, она имела право, эта девочка Надя…
Героиня такого — максималистского — склада появлялась у Шпаликова и в другом сценарии — написанном тоже на исходе жизни и фильмом тоже не ставшим: «Прыг-скок, обвалился потолок». Аня Сидоркина, сильная женщина, работающая на «мужской» работе, даже на двух работах (слесарь в домоуправлении и в плавательном бассейне), вызвавшая милицию, когда муж привёл в дом приятелей и устроил там пьяные посиделки. Обошлось бы штрафом, но Юра пытался сопротивляться милиции и получил поэтому год исправительно-трудовых работ, теперь отбывает срок в другом городе. А потом, как догадывается читатель, получает ещё и прибавку — за то, что самовольно приехал в Москву на Новый год, чтобы увидеться с женой и дочкой (дочка Ксеня — особая, трудная и, похоже, автобиографическая тема). Права ли Аня?.. Но это была всё-таки драма (ясно, что тоже «непроходная»), а не трагедия. В сценарии о «девочке Наде» разыгрывается именно трагедия.
Не знаем, с чем в литературе 1970-х можно сравнить этот сценарий по трагическому накалу и по степени его обнажённости. Разве что с распутинской повестью «Прощание с Матёрой». Но хочется — и страшно — хотя бы мысленно представить фильм по нему. Кто бы мог его снять? Может быть, Лариса Шепитько? После ухода Шпаликова из жизни она раскроется как трагедийный художник: снимет фильм «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников» — притчу о нравственном выборе, который делает для себя человек в роковую минуту. А ещё думается, что предсмертная картина уехавшего из страны Андрея Тарковского «Жертвоприношение» как-то связана — может быть, и невольно — с этим сюжетом Шпаликова. Герой фильма Тарковского готов пожертвовать своим домом ради прекращения начавшейся ядерной войны, и в самом деле поджигает его, а его самого как сумасшедшего увозят в больницу, хотя он сопротивляется этому. Жертва и пламя — этот сюжетный мотив мог обсуждаться друзьями и запомниться Андрею, развившему его, конечно, в своём, исключительно индивидуальном философском ключе. Кстати, в сценарии вновь звучит и знакомый нам мотив полёта, на сей раз — воображаемого, а не реального, в отличие от полёта в «Крыльях» и во «Всех наших днях рождения». Только теперь героиня не летела, а «падала, раскинув руки, падала сквозь редкие облака к земле…». И падение было неотвратимым. По сценарию в этот момент должен был звучать «Сентиментальный марш» Окуджавы: «…Я всё равно паду на той, на той далёкой, на Гражданской, / и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». Вольно или невольно, но такой концовкой Шпаликов соединил свою предсмертную работу с картиной, благодаря которой он вошёл в большое кино — «Заставой Ильича», где Окуджава пел со сцены Политехнического именно эту песню.
В начале 1970-х были у него и другие планы, другие заявки на сценарий. Ему хотелось снять фильм о дублёрше Валентины Терешковой (вновь мотив женского полёта!), но тут кинематографическое начальство по каким-то своим, одному ему понятным идеологическим причинам заморозило космическую тему. Хотел экранизировать «Скучную историю» Чехова, которая наверняка стала бы у него «авторским кино» и уже названием полемически перекликалась бы с «Долгой счастливой жизнью». В том фильме, как мы помним, была даже вставная «чеховская» сцена — постановка «Вишнёвого сада». Шпаликов хотел именно поставить картину, ещё раз выступить в качестве режиссёра. Фильм по «Скучной истории» — это была Генина мечта со студенческих лет. Теперь он подал заявку на киносценарий в творческое объединение «Товарищ» при «Мосфильме». Объединение возглавлял кинорежиссёр Юлий Райзман. «Она, — пишет автор заявки о чеховской повести, — по-настоящему современна, хотя и сочинена в 1889 году. Но есть вечные проблемы и вопросы, неизбежно встающие перед каждым человеком: как ты прожил эту жизнь, такую, в общем, недолгую, краткую совсем, что ты оставил после себя людям… Чехов никого в этой истории не оправдывает, не обвиняет. В этом смысле он беспощаден, как может быть беспощаден хирург, если можно назвать беспощадностью борьбу за человеческую жизнь». Райзман заинтересовался предложением, собрал художественный совет для просмотра «Долгой счастливой жизни», чтобы оценить режиссёрские возможности Шпаликова. Просмотр был успешным: члены худсовета по достоинству оценили ленту, Райзман дал добро. Но дело застопорилось на уровне мосфильмовского начальства. Свыше было сказано, что в сценарной заявке мало действия и вообще непонятно о чём фильм. Конечно, «вечные проблемы и вопросы» — это непонятно о чём. Бедный Чехов! И бедный Шпаликов… Но кроме бюрократических препон было и другое: время поэтического кино в духе любимого шпаликовского Виго ушло, 1970-е годы оказались более трезвыми и более реалистичными, может быть — и более жёсткими. Шпаликовский же стиль оставался — за исключением, пожалуй, «Девочки Нади…» — прежним.
Но не всё, написанное Шпаликовым в последние годы жизни, легло в стол.
В 1971 году был снят, а в 1973-м вышел на экраны фильм режиссёра Сергея Урусевского о Есенине «Пой песню, поэт», сценарий которого был написан в соавторстве самим Урусевским и Шпаликовым — причём фамилия Шпаликова в титрах фильма стояла первой. Урусевский был намного старше Шпаликова (родился в 1908 году), прошёл войну как фронтовой кинооператор, как оператор же работал и в кино — и до войны, и после неё. Это его камерой, напомним, вдохновенно и новаторски снят фильм Калатозова «Летят журавли». Теперь Урусевский решил попробовать себя в режиссуре: первым опытом была лента «Бег иноходца» по одноимённой повести Чингиза Айтматова, вторым — «Пой песню, поэт».
Шпаликова Урусевскому порекомендовал Сергей Соловьёв. Надо было помочь другу: ведь Гена, как всегда, сидел без денег. «Только вы, — говорил Сергей Урусевскому и его жене, собиравшимся в Дом творчества в Болшеве, — забирайте его с собой и держите на замке. Тогда он вам всё напишет, а иначе исчезнет, и не найдёте». Урусевские так и сделали, а убедить Шпаликова помог тот же Соловьёв. Сценарий был написан.
Есенин для Шпаликова — особая тема. Похоже, в есенинском поэтическом «хулиганстве» он видел что-то близкое себе. И есенинскую поэтическую судьбу к себе примерял. Обращал особое внимание на предсмертную есенинскую поэму «Чёрный человек» с зачином: «Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен. / Сам не знаю, откуда взялась эта боль. / То ли ветер свистит / Над пустым и безлюдным полем, / То ль, как рощу в сентябрь, / Осыпает мозги алкоголь». В последний год жизни Шпаликов сочинил свою вариацию на эти есенинские строки, сохранив даже рифму:
Друг мой, я очень и очень болен, Я-то знаю (и ты), откуда взялась эта боль! Жизнь крахмальна — поступим крамольно И лекарством войдём в алкоголь!Привычная для Шпаликова игра слов, этакое поэтическое жонглирование («крахмальна — крамольно»), и кажущееся шуточным переиначивание есенинских стихов не могут заслонить подлинной боли, которой продиктованы эти стихи, посвящённые Павлу Финну.
Картина была задумана как поэтическая, в основе которой — стихи Есенина. Есть актёр, играющий самого поэта (Сергей Никоненко), есть игровые сцены — но главным в фильме является всё же поэтическое слово. Герои не разговаривают между собой: они декламируют стихи, или же стихи звучат за кадром.
Фильм производит впечатление неровное. Удерживать внимание зрителя в течение более чем часа непросто: стихи всё-таки чреваты некоторой монотонностью, да и чтение их за кадром могло бы быть более эмоционально-разнообразным. Стихам здесь явно нужна сюжетная поддержка. Она есть, пожалуй, только в первой новелле, построенной на стихотворении «Хороша была Танюша, краше не было в селе…». Лирический сюжет в фильме домыслен и развёрнут: молодой крестьянский парень (Евгений Киндинов), его возлюбленная (Татьяна Игнатова), отказавшая ему в ответном чувстве и затем сама переживающая то же; неестественно лихое свадебное катание героя и его невесты («Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой»); гибель девушки. В этой новелле есть довольно смелые для советского кино эпизоды — например, приход Танюши в храм, поданный без всякой иронической ноты, каковая была заметна в фильме «Я шагаю по Москве», или её купание и мелькнувшее на экране полностью обнажённое тело (при тогдашнем официальном пуританстве советского искусства). А дальше действие становится всё более заторможённым: например, в «ностальгических» беседах героев «Анны Снегиной», в новелле «Письмо матери» темп уже не тот. Всё-таки одно дело — видеть эпизод, другое дело — видеть весь фильм; выдающийся оператор, каковым Урусевский был, не всегда может достичь таких же высот в режиссуре.
Может быть, поэтому событием в нашем кинематографе фильм не стал, хотя, кажется, и не прошёл бесследно. В сериале «Сергей Есенин» режиссёра Игоря Зайцева с Сергеем Безруковым в главной роли есть сцена, где поэт читает на публике свою «Исповедь хулигана». Аналогичная сцена была и в фильме Шпаликова — Урусевского, только там Есенин читал эти стихи в не понимающем его богемном салоне, а у Зайцева — в аудитории советской молодёжи, принимающей Есенина на ура. Но восторженный приём достаётся поэту не даром, аудиторию он должен «завоевать», расположить к себе своей демократичностью. То есть — в обоих фильмах сцена строится как своеобразный поединок со слушателями — но поединок с разным исходом.
Прокатная судьба картины стала ударом для Шпаликова. Как раз к моменту завершения работы над фильмом о Есенине председателем Госкомитета по кинематографии был назначен Филипп Тимофеевич Ермаш, которого Шпаликов в шутку называл «Ермаш Тимофеевич» — по аналогии с Ермаком Тимофеевичем, покорителем Сибири. Только если Ермак отправился из Москвы в Сибирь, то партийный чиновник Ермаш, наоборот, приехал в Москву из Свердловска и работал в ЦК КПСС. Теперь его «поставили на кино» — бдить идеологическую выверенность советских фильмов. Ермаш посмотрел картину «Пой песню, поэт» и дал добро на… 16 копий. Это значило, что соавторы сценария не получат почти ничего. А Шпаликов был в долгах, признавался Соловьёву, что не заплачено ни за квартиру, ни за Дашины уроки. Шпаликов хотел писать письмо Ермашу, начал — и бросил: бесполезно…
Фильм «Пой песню, поэт» стал последней работой Сергея Павловича Урусевского. Он ушёл из жизни 12 ноября 1974 года. Его младшего товарища и соавтора не стало одиннадцатью днями раньше. Но до этого у них была ещё одна попытка сотрудничества: они задумали экранизировать незавершённый пушкинский роман «Дубровский», работали над сценарием всё в том же Болшеве. Шпаликов увлёкся сюжетом, не пил, была надежда, что сценарий напишется. У них с Урусевским выработалась привычка ходить вдвоём по коридору Дома творчества и обсуждать детали задуманной картины. В номере Гены на столе стояла, как обычно, фотография дочки. И ещё — подаренная Викой Некрасовым небольшая репродукция городского пейзажа постимпрессиониста Мориса Утрилло. Шпаликов любил его живопись. Вероятно, в это самое время им было написано верлибром стихотворение, в котором дочка и французский художник связаны единой поэтической мыслью. Стихотворение так и называется — «Даша Шпаликова и Утрилло».
Он — серое, дымное, нежное небо, Ты — смутное, Я не знаю, что, Но вы — родственники. Ибо таскал я вас рядом Всю дорогу. И вы привыкли — Даша, И утром — Утрилло.Возможность словесной игры («утром — Утрилло») Шпаликов не упустил и здесь. Мысль о близком человеке и о любимом художнике поддерживала его. Но самочувствие было всё же плохое: уже успел развиться цирроз печени, Гена глотал таблетки транквилизаторов, его иногда начинало мутить за обедом, он вставал из-за стола и уходил. Замысел «Дубровского», увы, так и не обрёл экранного воплощения, хотя текст сценария был написан.
…Есть нечто общее между шпаликовскими героями последних лет — вымышленной Надеждой Смолиной и реальными Есениным и Маяковским. Все трое уходят из жизни сами — каждый восходит на свою Голгофу. Несчастный случай, жертвой которого становится Надя, по логике сюжета воспринимается как самосожжение. Случайное совпадение? Едва ли: ведь и сам автор этих сценариев вскоре поступит точно так же. В пушкинские тридцать семь. В России поэту жить больше тридцати семи лет неприлично, говорил он друзьям. Они думали: шутит. Оказалось — нет.
В один из весенних дней 1974 года Шпаликов забрёл в Дом кино, заметил в ресторанном зале Пашу Финна с кем-то из его приятелей, подсел. Выглядел неважно, что было и не удивительно при его образе жизни. Паша рассказал ему о смерти Татьяны Алигер — дочери известной поэтессы Маргариты Алигер. Таня писала детские книжки под фамилией Макарова. Она умерла от лейкемии. Финн дружил с ней и уход её переживал тяжело. Гена в ответ на рассказ Финна вдруг промолвил: «Теперь мой черёд». «Что ты мелешь?» — начал успокаивать его друг. Гена слушал с отсутствующим выражением лица и вскоре ушёл.
1 ноября 1974 года исполнялось ровно три года со дня кончины Михаила Ильича Ромма. На эту дату было намечено открытие надгробия на Новодевичьем кладбище. На церемонию собрался весь цвет советской кинематографии. Ромм, мало того что сам был видным режиссёром, он ещё и воспитал целую плеяду замечательных кинематографистов. Мы помним, что он выпустил знаменитый курс ВГИКа, на котором учились Тарковский, Шукшин, Митта, Гордон, Файт.
Шпаликов тоже пришёл на церемонию. Температура была плюсовой, но день стоял промозглый, как бывает на излёте осени. Гена был раскрытый, в тёмной куртке, шея была обмотана бросавшимся в глаза ярким шарфом. Он приехал в Москву утренней электричкой из Переделкина, где жил уже несколько дней в Доме творчества по писательской путёвке. Дом творчества включал в себя не только капитальное двухэтажное здание с колоннами, «коридорной системой» и одноместными номерами, но и несколько лёгких коттеджей, в одном из которых, на втором этаже, Шпаликов и поселился.
Переделкино было для него местом поэтическим. Здесь жил и здесь умер любимый им Пастернак. Но здесь хорошо ощущалось и другое — статусное и имущественное неравенство членов одного, казалось бы, и того же Союза писателей. Кто-то — дай бог им здоровья — преуспевал и жил в комфортных казённых дачах, фактически пожизненных, а кому-то доставался — да и то на две недели — продуваемый осенними ветрами мезонинчик в дачном домике. Эта двойственность жизни писательского посёлка чувствуется в стихах о Переделкине самого Шпаликова:
Меняют люди адреса, Переезжают, расстаются, И лишь осенние леса На белом свете остаются. Останется не разговор И не обиды по привычке, А поля сжатого простор, Дорога лесом к электричке. Меж дач пустых она вела, Достатка, славы, привилегий. Телега нас обогнала, И ехал парень на телеге.С одной стороны — «осенние леса» и «поля сжатого простор», а с другой — «достаток, слава, привилегии», о которых поневоле думаешь, проходя мимо высоких заборов наподобие тех, о которых когда-то Гена придумал, а Галич досочинил песенку «Мы поехали за город…».
Открытие надгробия Ромма сопровождалось, как обычно бывает в таких случаях, речами. Кто их произнесёт — решалось всегда заранее в кабинетах кинематографического начальства. Дело официальное, спонтанность тут ни к чему. Поэтому, когда Гена хотел подойти к могиле, сказать несколько слов и прочесть стихотворение, сочинённое накануне, — его вежливо «замолчали»: мол, выступающих и так много, зачем затягивать церемонию… У него был какой-то неприкаянный вид, он подходил то к одной группке, то к другой, и чувствовалось, что ему вообще не по себе. Разговаривая со знакомыми, заводил речь о больном Урусевском: мол, навестите, человеку тяжело. Увидел Иосифа Михайловича Маневича, своего старшего соавтора по «Декабристам», и тепло с ним поговорил — хотя отношения у них в последнее время были натянутыми (не на почве ли «декабристского раздела», приведшего к написанию Шпаликовым отдельного сценария?).
Покрывало с надгробия сдёрнули, публика ещё какое-то время стояла возле него, обсуждали памятник и вспоминали покойного, кто-то достал из-за пазухи предусмотрительно припасённую фляжку с горячительным (помянуть — святое дело), а Гена между тем взял за локоть Серёжу Соловьёва: пошли, мол, могилки посмотрим. Они прошлись по одной аллее, по другой… «Ты посмотри, — заговорил Шпаликов, — какие надписи: народный артист, заслуженный деятель науки… Какая теперь разница, заслуженный или народный? Жил человек, и нет его. И никакие звания уже не нужны». Подошли к свежей могиле Шукшина. После его смерти не прошло и месяца. Гена был тогда на гражданской панихиде, а на похороны не поехал — говорил, что не было сил. Шукшин тоже «заслуженный» — да разве в этом дело…
С кладбища Шпаликов ушёл вместе с Григорием Гориным, писателем-сатириком, драматургом и сценаристом, который в эту пору тоже жил в Переделкине, и они ежедневно по-свойски общались. Сейчас, на холоде, хотелось согреться. Гена попросил у Горина денег на выпивку. Тот дал ему на дешёвое вино — то ли у него самого было с собой денег немного, то ли он не хотел, чтобы Шпаликов купил более дорогую водку и напился. Потом он себя за эту «экономию» казнил — потому что если бы Шпаликов действительно опьянел, то случившегося в тот вечер могло бы и не быть. Хотя есть судьба, которую не обойти…
Уходить с кладбища и вообще оставаться одному не хотелось. Увидел Ольгу Суркову, кинокритика (в будущем — исследовательницу архива Тарковского, в начале 1980-х, ещё до самого Андрея, эмигрировавшую из страны). Разговорился, попросил составить компанию. Была мысль просто купить в магазине бутылку и распить её где-нибудь на скамеечке. Но с дамой это как-то неловко, нужно было придумать вариант поцивилизованнее. Зашли в кафе при гостинице «Юность». Тогдашние кафе — что-то среднее между столовой и баром, заведения вполне демократичные. Было опасение, что их не пустят: Шпаликов выглядел не лучшим образом. Однако пустили, предупредив только, что водки нет, лишь сухое (о коньяке ничего сказано не было — видимо, читалось и так, что на него у посетителей денег нет). Гена взял две бутылки сухого вина и «на закуску» — три маленькие шоколадки. Говорил больше он — о сегодняшней церемонии, о Ромме («если честно, не такой уж великий, как его сегодня расписывали, но человек хороший, мне однажды серьёзно помог»), о Тарковском, о Вике Некрасове, о дочке Даше («одиннадцать лет, взрослая, меня иногда наставляет…»). Мысль о том, что сейчас они расстанутся, он останется один, и один поедет к себе, была для него тягостна. «Поехали в Переделкино, посидим там у меня». Нет, Оле пора было возвращаться домой, к маме. Сели в такси, доехали сначала до её дома на улице Строителей, и Шпаликов поехал в Переделкино, прихватив с собой не начатую в кафе бутылку.
Наутро Шпаликов не пришёл на завтрак, а потом его не оказалось и за обедом. Горин забил тревогу. Вместе с поэтом Игорем Шкляревским поднялись на второй этаж домика, постучали в дверь — тишина. Заволновались. Надо было что-то предпринимать. Нашли лестницу, Шкляревский залез на уровень второго этажа, заглянул в окно — и понял, что обитатель комнаты мёртв. Спустился и сказал Горину — тот был всё-таки выпускником мединститута и работал когда-то на «скорой помощи». Горин тоже полез по лестнице, выдавил стекло и оказался в комнате. Увиденное было страшным.
Шпаликов лежал на полу, задушенный шарфом, который он привязал к крюку в стене рядом с раковиной. На столе стояла бутылка с остатками вина — та самая, что Гена захватил из кафе.
Когда обитатели Дома творчества узнали о случившемся, был общий шок. Надо было что-то предпринимать. Рабочий день уже закончился, руководства Дома творчества на месте не оказалось. Из главного корпуса, где был телефон, вызвали «скорую». Машина приехала, но тело не взяла: «скорая» возит только живых. Приехала милиция, но и она ограничилась своими прямыми обязанностями: убедилась, что произошло именно самоубийство, составила протокол — и тоже уехала. Горин позвонил Павлу Финну, тот стал обзванивать друзей. В Переделкино поехал Слава Григорьев — муж Гениной сестры Лены: он, прежде военный, работал в эту пору уже в милиции и поэтому мог скорее, чем другие, что-то организовать. Потом Слава — может быть, со слов Горина — говорил родным, что Шпаликов умер даже не от удушения, а от боли, которой не выдержал изнурённый болезнями организм. Нашли шофёра литфондовского «рафика», переложили Гену на пол машины. Надо было везти его в морг, в Москву, но ехать в одиночку шофёр отказывался. Не потому, что боялся покойников, а потому, что дело криминальное: если ГАИ вдруг остановит и проверит груз — что говорить?.. В кабину сел незаменимый Горин, и ещё — писатель Анатолий Гладилин, чья проза нашумела ещё в «оттепель» в журнале «Юность» наряду с аксёновской. Вскоре, в 1976-м, Гладилин эмигрирует из страны. Поехали в областную больницу (МОНИКИ) на проспекте Мира. Там и остался на свою последнюю ночь в Москве Гена Шпаликов — дитя и певец родного города, так, казалось бы, беспечно «шагавший» по нему под напевы собственных песен и под сценарии собственных фильмов и так сроднившийся с ним, ставший его неотделимой частицей.
Отчего он сделал этот страшный шаг? Ни от чего конкретно — и от всего сразу. От одиночества. От бездомья и бродяжничества. От усталости. От депрессии. От невостребованности. От хрупкости поэтической натуры, созданной не для того, чтобы пробивать чиновничьи запреты или ухитряться лавировать между ними.
За год до самоубийства, осенью 1973 года, Шпаликов посмотрел в Кинотеатре повторного фильма картину французского режиссёра Марселя Карне «Дети райка». Снятая в годы фашистской оккупации Франции мелодрама о нереализованной любви актёра-мима Батиста и красавицы Гаранс произвела на Гену впечатление, отразившееся в его стихах, посвящённых дочке Даше: «Бездомность, блеск и нищета, / Невесел и конец, / Когда понятна вся тщета / Двух любящих сердец». Бездомность — очень шпаликовский мотив. В фильме, снятом в театрализованной манере, где искусство и жизнь едва ли не сливаются воедино, был эпизод, который Шпаликов не мог для себя не отметить. Батист, выступающий на сцене в образе грустного Пьеро, изображает человека, собирающегося повеситься. Но ему мешают то маленькая девочка, попросившая верёвку, чтобы попрыгать через неё, то прачка, которой не на чем развесить постиранное бельё. Эпизод как будто фарсовый, но в то же время и серьёзный: Батист страдает от неразделенной, как поначалу кажется, любви к Гаранс, и сценическое действие отражает сюжетную коллизию самого фильма. Всё настолько серьёзно, что кажется: Батист хочет покончить с собой по-настоящему. Увы: то, что не произошло с героем картины (ситуацию разрядил испуганный вскрик влюблённой в Батиста актрисы Натали), произошло спустя год в реальности с одним из её московских зрителей. Этот зритель увидел на экране то, о чём сам думал уже не раз.
…В 1970 году, когда они с Урусевским только задумывали снимать фильм о Есенине, Гена написал посвящённое старшему товарищу стихотворение:
Это кладбище, на Ваганькове, Рано утром, часам к пяти, С Петькой, с Ванькою по Ваганькову, До Есенина подойти. Ничего я о нём не знаю, Да и знать ничего не хочу, Я деревьям во тьме внимаю, Улыбаюсь во мглу и молчу. Это счастье, тридцатилетним Потеряться в родной земле, — Потеряемся — не заметим, Улыбнёмся потом во мгле.Стихи не до конца отделанные, как у Шпаликова бывало не раз (он словно бы не воспринимал их всерьёз), но они важны не отделкой. Ваганьково было для Шпаликова особым местом: здесь лежала его бабушка, Дарья Сергеевна, лежали её дети, умершие ещё до войны, мамины брат и сестра, которых Гена не мог помнить, — Иван и Анна. Сюда, на эту могилу, когда-то приводил он свою первую жену Наташу Рязанцеву. Здесь лежал Есенин, златоглавый хулиган русской поэзии, ставший теперь героем Шпаликова. Настал черёд и Геннадию Шпаликову лечь в ваганьковскую землю, рядом с бабушкой. Круг замкнулся.
Когда Генины друзья пришли к тогдашнему председателю Союза кинематографистов Кулиджанову — решить вопрос о панихиде и о похоронах, — возле кабинета оказался и секретарь партбюро секции сценаристов Котов. «Вообще-то, — заметил кинопартиец, вдруг „проникшийся“ христианскими представлениями, — даже церковь не хоронит самоубийц в церковной ограде». Это был намёк на то, что торжественное прощание Шпаликову вроде бы и не полагается. Не только по христианским, но и по советским меркам почести самоубийце представлялись делом проблематичным. В итоге сошлись на том, что гражданская панихида пройдёт, но не в большом, а в конференц-зале Дома кино на Васильевской.
Что-то было в этих похоронах «шпаликовское», как будто несерьёзное, фарсовое. Привыкший при жизни шутить Гена словно продолжал это делать и сейчас. Участок земли на кладбище был тесным, вырыть яму в полную длину не получалось, и вырыли так, что гроб нужно было опустить сначала под углом, в потом, уже внутри могилы, выровнять. Слава богу, что вообще вырыли: гроб уже привезли на кладбище, а яма ещё не была готова, ибо могильщики были совершенно пьяны. Всё срочно, всё по-российски, всё не пойми как. «Я продам нашу дачу, распродам гардероб, эти деньги потрачу на берёзовый гроб…» С гробом тоже возникли проблемы. По недоразумению в ритуальной конторе в графе «рост» вписали примерный рост покойника, а надо было — длину гроба. Там своя математика. Вовремя сообразили. Так что чуть было не достался Гене гроб для ребёнка. А когда Файт и Василий Ливанов поехали за гробом, чтобы привезти его в морг, и начали с трудом вытаскивать нужный из-под целой груды готовых гробов, вся эта груда на них рухнула…
Были поминки, на которых Марлен Хуциев сказал многим запомнившуюся фразу: «Так мы скоро разучимся чокаться». Он имел в виду недавнюю смерть Шукшина и старый русский обычай — не чокаться на поминках.
…Трагическая судьба Геннадия Шпаликова словно отбросила свою тень на судьбу его семьи. Инна Гулая после гибели сыграла в кино лишь несколько эпизодических ролей — в основном в картинах своего давнего друга Михаила Швейцера, старавшегося её поддержать. Конечно, она страдала от отсутствия работы, иногда и выпивала, — и ушла из жизни в 1990 году от передозировки лекарства, прожив два дня в больнице, куда её отвезла машина «скорой помощи». Было ли это нечаянной ошибкой или сознательным шагом — сказать трудно… В то время поведение её не всегда казалось адекватным. Однажды матери, Людмиле Константиновне, которую Инна, приехавшая к ней на Страстной бульвар из Черёмушек, напугала своим странным и отсутствующим видом (промокшая под дождём, она прошла в ванную и начала декламировать текст какого-то сценария), пришлось даже вызвать «скорую помощь». Приехавшая бригада решила, что нужен психиатр. Так Инна попала в психиатрическую клинику. Потом мать не могла себе простить, что сделала это: оказавшись единожды в этом медицинском учреждении, человек попадал на учёт и становился его пациентом фактически навсегда. Но что было делать?.. Дочь Даша жила в это время у бабушки, а не у матери. Но и Инна в самое последнее время фактически переселилась к Людмиле Константиновне (одиночество стало уже невыносимым), и последняя беда произошла с ней именно там.
Даша, окончив школу в 1980 году, поступила во ВГИК, снялась в нескольких фильмах — снялась, на наш взгляд, интересно. Первая работа в кино — и сразу главная роль, на «Ленфильме», в картине Светланы Проскуриной 1987 года «Детская площадка»: бывшая детдомовка Жанна, девушка с характером. Автором сценария был Павел Финн: узнав от Проскуриной, что та собирается снимать Дашу, он охотно поддержал эту идею. Друзья Шпаликова вообще всегда помогали и помогают его дочери, помня его строки, написанные в последний месяц жизни: «Всё прощание — в одиночку, / Напоследок — не верещать. / Завещаю вам только дочку — /Больше нечего завещать» («Не прикидываясь, а прикидывая…»). После «Детской площадки» Даша снялась ещё в нескольких фильмах. Но… Со смертью матери что-то переломилось и в ней. Она оставила актёрскую профессию и ушла в Новоголутвинский монастырь в подмосковной Коломне (он тогда только-только возобновился после запустения советских лет). Полтора года спустя, так и не приняв монашеский постриг, вернулась в Москву с намерением вновь заняться актёрской работой, но жизнь её в нормальное русло уже не вошла. В Театре-студии киноактёра, где когда-то работала Инна и куда теперь устроилась Даша, вскоре произошло сокращение. Жизнь тогда, в начале 1990-х, вообще круто разворачивалась в «рыночную» сторону, и творческому человеку вписаться в этот поворот было трудно. Затем Дарья стала жертвой квартирной аферы (в 2012 году этой истории был посвящён специальный выпуск телевизионной программы Андрея Малахова «Пусть говорят») и осталась без собственного жилья. Теперь из-за душевной болезни и из-за бездомья она большую часть времени проводит в лечебнице. Не наше дело ставить диагнозы, но не можем не привести слова кинорежиссёра Александра Сокурова, в фильме которого «Спаси и сохрани» по роману Флобера «Госпожа Бовари» Дарья сыграла небольшую роль: «У неё не болит психика — у неё болит душа»…
Безвременно ушедший из жизни Шпаликов не ушёл, однако — и не мог уйти, — из российского кинематографа и русской литературы. Спустя год после его кончины прошёл посвящённый ему вечер в Литературном музее на Петровке. Выступали Марлен Хуциев, Марианна Вертинская, Юлий Файт, литературовед Дмитрий Урнов. О том, что в 1979 году вышел первый сборник его произведений, мы уже говорили. В годы перестройки вспоминать его стали, естественно, чаще. Проходили новые вечера памяти (один из них, в Белом зале Центрального дома литераторов, вёл Булат Окуджава). Появились публикации из архивов, а позже, в 1990-х — и основательные сборники со сценариями, стихами, прозой, письмами. Фильмы и песни доступны на компакт-дисках и в Интернете. Шпаликова смотрят, читают, слушают, поют.
…На его могиле, на гранитном памятнике, выбиты строчки из давней шпаликовской песни: «Страна не пожалеет обо мне, Но обо мне товарищи заплачут».
Это смотря что понимать под страной.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Детские годы
С бабушкой, Дарьей Сергеевной Перевёрткиной
Отец, Фёдор Григорьевич Шпаликов
В кругу родных. В верхнем ряду — мать, Людмила Никифоровна, и дядя, Семён Никифорович Перевёрткин. Середина 1940-х гг.
Встреча суворовца с мамой и сестрой Леной. Конец 1940-х гг.
Курсант московского училища
Встреча с мамой. 1955 г.
В студенческую пору
ВГИК. Современное фото
С Наталией Рязанцевой
С первой женой Н. Рязанцевой и А. Княжинским. Рубеж 1950–1960-х гг.
«День был светлый и свежий, Людям нравилось жить…»На съёмочной площадке
На съёмках фильма «Трамвай в другие города», с дарственной надписью А. Княжинскому. Начало 1960-х гг.
Фанерный трамвайчик с надписью «В другие города», подаренный в день защиты диплома Ю. Файту его отцом, актёром Андреем Файтом
На съёмках фильма «Звезда на пряжке» с В. Туровым. Начало 1960-х гг.
Групповое фото. Крайний справа А. Княжинский
РАБОТА НАД «ЗАСТАВОЙ ИЛЬИЧА»
С Марленом Хуциевым
В. Попов и М. Вертинская
Главные герои картины (актёры В. Попов, Н. Губенко, С. Любшин)
Сцена молодёжной вечеринки: Н. Рязанцева и А. Тарковский
Отдых в бане — с А. Княжинским, А. Брилингом и Ю. Файтом
С фотохудожником Г. Тер-Ованесовым
С Ю. Файтом (справа) и кинооператором Г. Рербергом
Портрет Шпаликова, выполненный кинорежиссёром и оператором Ю. Ильенко и подаренный Шпаликовым Ю. Файту. Конец 1960-х гг.
«Слава Богу, что жизнь многословна, Так живи, не жалей живота»КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
Н. Ургант и В. Высоцкий в фильме «Я родом из детства»
«Сочинял вам, не мучась…»
Со второй женой, Инной Гулая. 1963 г.
С дочкой Дашей. Середина 1960-х гг.
«Вчерашний день погас, А нынешний не начат…»
Кадр из фильма «Долгая счастливая жизнь». К. Лавров и И. Гулая
Приз, присуждённый картине «Долгая счастливая жизнь» на фестивале авторского кино в Бергамо (Италия) в 1966 году
Кадр из финальной сцены фильма «Долгая счастливая жизнь»
С Н. Пановой — художником по костюмам Киностудии им. Горького
Лариса Шепитько
С Л. Шепитько и Ю. Визбором на съёмках фильма «Ты и я». Начало 1970-х гг.
Кадр из фильма «Ты и я»: Ю. Визбор и А. Демидова
С художником М. Ромадиным и А. Тарковским. Первая половина 1970-х гг.
Иллюстрация М. Ромадина к первому (посмертному) сборнику произведений Шпаликова. Фрагмент. 1979 г.
Летом и зимой: разные ракурсы жизни
Один из последних снимков. С Виктором Некрасовым и его пасынком Виктором Кондыревым в Киеве
Могила Шпаликова и его родных на Ваганьковском кладбище
Вечер памяти Шпаликова в Литературном музее. Слева направо: Ю. Файт, М. Вертинская, М. Хуциев, Е. Габрилович, Д. Урнов. 1975 г.
Памятник Шпаликову, Тарковскому и Шукшину у входа во ВГИК. Открыт в 2009 г.
«Я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться, как почка тянется к листу вся в ожидании проснуться»ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. Ф. ШПАЛИКОВА
1937, 6 сентября — родился в семье военного инженера Фёдора Григорьевича Шпаликова (р. 1908) и Людмилы Никифоровны (урожд. Перевёрткиной; р. 1918) в рабочем посёлке Сеге́жа Карельской АССР, куда отец был направлен для участия в строительстве целлюлозно-бумажного комбината.
1938, 14 декабря — рождение сестры Елены.
1939 — возвращение семьи в Москву (Покровское-Стрешнево).
1941–1943 — эвакуация в Киргизию (пос. Ала-Арча возле Фрунзе).
1945, 29 января — гибель отца на фронте (в Польше); начало учёбы в школе.
1947 — направлен на учёбу в Киевское суворовское военное училище.
1955 — окончание Суворовского училища и поступление в Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. 26 июня — первая публикация (два стихотворения в украинской республиканской молодёжной газете «Сталинское племя»).
1956, 7 марта — уход (по состоянию здоровья — из-за травмы ноги) из военного училища.
20 августа — поступление на сценарное отделение ВГИКа. Переезд семьи по адресу: ул. Горького, 43 (ныне 1-я Тверская-Ямская ул., 13), кв. 110.
1959, 29 марта — регистрация брака с Наталией Рязанцевой, переезд к ней по адресу: ул. Краснопрудная, 3/5, кв. 105.
1961 — окончание ВГИКа.
Сентябрь — фактическое расторжение брака с Рязанцевой.
1961–1963(?) — проживание (сначала с Рязанцевой, затем без неё) в съёмной комнате коммунальной квартиры по адресу: ул. Арбат, 23, кв. 5.
1962 — образование новой семьи — с Инной Гулая.
1963, 8 марта — резкая критика фильма «Застава Ильича» Хрущёвым на встрече с творческой интеллигенцией в Кремле.
19 марта — рождение дочери Дарьи; переезд в новую квартиру по адресу: ул. Телевидения (ныне Шверника), 9, корп. 2, кв. 33 (корпус не сохранился).
Конец 1960-х — переезд по адресу: ул. Б. Черёмушкинская, 43 (ныне 11), корп. 1, кв. 176.
1974, 1 ноября — самоубийство в Доме творчества «Переделкино».
1979 — выход первого сборника произведений Шпаликова.
1985 — смерть матери.
1990, 28 мая — смерть жены, И. Гулая.
2003, 24 июня — открытие мемориальной доски в Москве на доме 13 по 1-й Тверской-Ямской улице.
2005, 24 ноября — открытие мемориальной доски в Киеве, в офисе Ассоциации выпускников суворовских военных училищ «Кадетское содружество».
2009, 1 сентября — открытие памятника Шпаликову, Тарковскому и Шукшину у входа во ВГИК.
2011, 1 ноября — открытие мемориальной доски в Сегеже.
ФИЛЬМОГРАФИЯ[1]
Застава Ильича: Кф. / Реж. М. Хуциев. Студия дет. и юнош. фильмов им. М. Горького, 1962. Сценарий (в соавт. с М. Хуциевым); эпизодическая роль. Фильм был выпущен в 1964 г. под назв. «Мне двадцать лет». В 1987 г. восстановлен в авторской версии и вышел на экраны под назв. «Застава Ильича». Премьера в Центральном доме кино — 28 янв. 1988 г.
Трамвай в другие города: Короткометр. кф. / Реж. Ю. Файт; комп. Б. Чайковский. Мосфильм, 1962. Сценарий; текст песен «Палуба», «Ах, путь короткий или долгий…»; эпизодическая роль.
Звезда на пряжке: Короткометр. кф. / Реж. В. Туров. Беларусьфильм, 1962. Сценарий.
Коллеги: Кф. / Реж. А. Сахаров; комп. Ю. Левитин. Мосфильм, 1962. Текст песни «Палуба».
Я шагаю по Москве: Кф. / Реж. Г. Данелия; комп. А. Петров. Мосфильм, 1963. Сценарий; текст песни «Я шагаю по Москве».
Пока фронт в обороне: Кф. / Реж. Ю. Файт; комп. Б. Чайковский. Ленфильм, 1964. Текст песни «Я жизнью своею рискую…» (в фильме — со второй строфы: «Я помню страны позывные…»).
Рабочий посёлок: Кф. / Реж. В. Венгеров; комп. И. Шварц. Ленфильм, 1965. Текст песни «Спой ты мне про войну…».
Долгая счастливая жизнь: Кф. Ленфильм, 1966. Сценарий; постановка.
Кто придумал колесо? Кф. / Реж. В. Шредель; комп. И. Шварц. Ленфильм, 1966. Текст «Песни про облака».
Мальчик и девочка: Кф. / Реж. Ю. Файт; комп. Б. Чайковский. Ленфильм, 1966. Текст песен: «Солдатская песня» («Яблони и вишни снегом замело…»), «Дорожная песня» («Милый, ты с какого года…»), «Подводная царица» («Ах, путь короткий или долгий…»).
Я родом из детства: Кф. / Реж. В. Туров. Беларусьфильм, 1966. Сценарий.
Жил-был Козявин: Мультфильм / Реж. А. Хржановский. Союзмультфильм, 1966. Сценарий (в соавт. с Л. Лагиным).
Стеклянная гармоника: Мультфильм / Реж. А. Хржановский. Союзмультфильм, 1968. Сценарий.
В тринадцатом часу ночи: Тф. (новогоднее ревю) / Реж. Л. Шепитько; комп. Р. Леденёв. ТО «Экран», 1969. Текст «Песни Русалки».
Ты и я: Кф. / Реж. Л. Шепитько. Мосфильм, 1971. Сценарий в соавт. с Л. Шепитько.
Пой песню, поэт: Кф. / Реж. С. Урусевский. Мосфильм, 1971. Сценарий в соавт. с С. Урусевским.
Ждём тебя, парень: Кф. / Реж. Р. Батыров; комп. Р. Вильданов. Узбекфильм, 1972. Текст песен: «Куда летит двадцатый век», «Кончилась война».
Подранки: Кф. / Реж. Н. Губенко. Мосфильм, 1977. Стихотворение «По несчастью или к счастью…».
Трясина: Кф. / Реж. Г. Чухрай; комп. М. Зив. Мосфильм, 1977. Текст песни «Спой ты мне про войну…».
В день праздника: Кф. / Реж. П. Тодоровский; комп. И. Шварц. Мосфильм, 1978. Текст песни «Спой ты мне про войну…».
Культпоход в театр: Кф. / Реж. В. Рубинчик; комп. В. Дашкевич. Беларусьфильм, 1982. Текст песни «Бывают крылья у художников…» (в фильме звучит также декламация этого стихотворения).
Слёзы капали: Кф. / Реж. Г. Данелия; комп. Г. Канчели. Мосфильм, 1982. Текст песни «Людей теряют только раз…».
Военно-полевой роман: Кф. / Реж. и комп. П. Тодоровский. Одесская киностудия, 1983. Текст песни «Рио-рита» («Городок провинциальный…»).
И жизнь, и слёзы, и любовь: Кф. / Реж. Н. Губенко. Мосфильм, 1983. Стихотворение «Влетел на свет осенний жук…» (в фильме — с третьей строфы: «Редеет круг друзей, но — позови…»).
Гений: Кф. / Реж. В. Сергеев; комп. Э. Артемьев. Ленфильм, 1991. Текст песни «Ах, утону я в Западной Двине…».
День обаятельного человека: Кф./Реж. Ю. Петкевич. Студия «Дебют», 1994. Сценарий.
Ковчег: Кф. (по мотивам киноповести «Причал») / Реж. Ю. Кузин. Студия «Пигмалион», 2002.
Оттепель: Телесериал / Реж. В. Тодоровский. Мармот-фильм, 2013. Стихотворения «Людей теряют только раз…», «Садовое кольцо», «По несчастью или к счастью…».
ИСТОЧНИКИ
Основные издания и газетно-журнальные публикации сочинений Шпаликова
Хуциев М., Шпаликов Г. Мне двадцать лет: Киносценарий. М., 1965.
Шпаликов Г. Избранное: Сценарии; Стихи и песни; Разрозненные заметки / Сост. М. М. Синдерович; предисл. Е. Габриловича и П. Финна. М., 1979.
Шпаликов Г. Я жил как жил: Стихи; Проза; Драматургия; Дневники; Письма / Сост. Ю. А. Файт. М., 1998; то же — 2000; 2013; 2014.
Шпаликов Г. Пароход белый-беленький [Сб. стихов / Сост. А. Нехорошев]. М., 1998.
Шпаликов Г. Стихи; Песни; Сценарии; Роман; Рассказы; Наброски; Дневники; Письма/Сост. Л. Быков. Екатеринбург, 1999.
Шпаликов Г. Второй пилот: Рассказ // Молодая гвардия. 1959. № 7. С. 85–90.
Хуциев М., Шпаликов Г. Мне двадцать лет: Сценарий / Послесл. Ю. Ханютина // Искусство кино. 1961. № 7. С. 40–96.
Шпаликов Г. Из литературного наследия: Дневник (фрагменты). Стихотворения / Публ. П. Финна и Р. Синдерович; предисл. П. Тодоровского // Искусство кино. 1984. № 5. С. 89–105.
Шпаликов Г. Люди 14 декабря [Сценарий] / Послесл. А. Караганова// Киносценарии. 1984. Вып. 2. М., 1984. С. 255–276.
Шпаликов Г. «Девочка Надя, чего тебе надо?» / Послесл. П. Финна//Киносценарии. 1987. № 5. С. 170–191.
Швейцер М., Шпаликов Г. А вы могли бы? (Отрывок из сценария) // Экран и сцена. 1990. № 26. 28 июня. С. 1, 8–9.
Шпаликов Г. Выбранные места из недописанного романа / Предисл. Н. Рязанцевой; публ. Д. Шпаликовой // Искусство кино. 1993. № 10. С. 84–103.
Маневич И., Шпаликов Г. Декабристы // Киносценарии. 1997. № 5. С. 71–103; № 6. С. 78–99.
Шпаликов Г. «Людей теряют только раз…» [Стихи; Проза; Дневниковые записи; Заметки; Письма] / Подгот. текста и предисл. Ю. Файта//Знамя. 1997. № 7. С. 123–147.
Швейцер М., Шпаликов Г. А вы могли бы? Сценарий лирико-фантастической поэмы по Маяковскому / Предисл. М. Швейцера//Киносценарии. 1998. № 4. С. 51–67; № 5. С. 65–84; № 6. С. 66–89.
Шпаликов Г. Предисловие к празднику: Страницы дневника; Стихи / Публ. Д. Шпаликовой; подгот. текста Л. Омелькиной // Октябрь. 1998. № 8. С. 136–160.
Шпаликов Г. Записи в двадцать лет: Из дневников 1957–1958 годов / Публ., подгот. текста и предисл. Е. О. Долгопят // Киноведческие записки. Вып. 51. 2001. С. 220–245.
Шпаликов Г. Начало [Юнош. дневники] / Предисл., публ. и коммент. Е. О. Долгопят//Киноведческие записки. Вып. 61. 2002. С. 231–262.
Шпаликов Г. Мой знаменитый друг [рассказ, посв. художнику М. Ромадину] / Предисл., подгот. текста и публ. Е. Долгопят// Киноведческие записки. Вып. 81. 2007. С. 101–105.
Шпаликов Г. Воздух детства («Я жив и здоров, учусь хорошо…»): Непоставленный сценарий. Переписка / Публ., предисл. и коммент. Е. Долгопят// Кинограф. № 20. 2009. С. 146–193.
Мемуарно-биографическая, критическая и научная литература
Адаменко Н. Дмитрий Месхиев и поэтический реализм фильма «Долгая счастливая жизнь» // Киноведческие записки. 2003. № 64. С. 83–96.
Адаменко Н. Эта долгая жизнь [О фильме «Долгая счастливая жизнь»] // Искусство кино. 2009. № 5. С. 73–84.
Андрющенко Е. «Прощай, Садовое кольцо…» // Персона. 2002. № 2. С. 89–92.
Бондаренко В. Геннадий Шпаликов: Праздник глазами остриженного подростка // Бондаренко В. Последние поэты империи: Очерки лит. судеб. М., 2005. С. 277–302.
Вегин П. Ошибка Геннадия Шпаликова // Вегин П. Опрокинутый Олимп: Записки шестидесятника. М., 2001. С. 238–243.
Визбор Ю. Когда все были вместе [О работе над фильмом «Ты и я»] // Визбор Ю. Сочинения: В 3 т. М., 2001. Т. 3. С. 148–160.
Виноградова О. А. Поэтический мир Геннадия Шпаликова//Дергачёвские чтения-98: Рус. литература: нац. развитие и регион, особенности. Екатеринбург, 1998. С. 63–65.
Володин А. Записки нетрезвого человека // Володин А. Пьесы. Сценарии. Рассказы. Записки. Стихи/Сост. Л. Быков. Екатеринбург, 1999. С. 422.
Володин А. Как растут крылья // Лит. обозрение. 1980. № 2. С. 80–81.
Гладилин А. Улица генералов: Попытка мемуаров. М., 2008. С. 188–194.
Гребнев А. Записки последнего сценариста. М., 2000. С. 115–121.
Данелия Г. Безбилетный пассажир. М., 2003. С. 213–229.
Деменок А. «Застава Ильича» — урок истории [подборка документов из архива Киностудии имени Горького] // Искусство кино. 1988. № 6. С. 95–117.
Дёмин В. Последний день творения // Лариса: Книга о Ларисе Шепитько / Сост. Э. Г. Климов. М., 1987. С. 73–75 (о фильме «Ты и я»).
Долинин Д. О ВГИКе: [Воспоминания]. — Проза. ру — (дата обращения: 21.12.2016).
Здравствуй, «Застава Ильича»!//Московские новости. 1987. № 28. 12 июля.
Зоркий А. Девочка Надя, чего тебе надо? // Кинопарк. 1997. № 4. С. 54–55.
Кинематограф оттепели: Документы и свидетельства / Сост., коммент. В. И. Фомин. М., 1998.
Клейман Н. И. О том, как приехать во ВГИК на поливальной машине, любить Пушкина, показать Эйзенштейна в Сибири, доказать немецкому критику, что Дзига Вертов — мёртв / Ведущая Е. А. Голицына. — Устная история — —1920 (дата обращения: 21.12.2016).
Козинцев Г. М. «…Где начинается искусство, там… весы бездействуют»: Из выступлений режиссёра на худсовете «Ленфильма», 1955–1966 / Подгот. текста Л. С. Георгиевской, А. Д. Бонитенко; предисл. и коммент. Я. Л. Бутовского//Киноведческие записки. № 76. 2005. С. 291–313 (на с. 305–310 — отзыв о фильме «Долгая счастливая жизнь»),
Кондырев В. Всё на свете, кроме шила и гвоздя: Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев — Париж. 1972–1987 гг. М., 2011. С. 163–167.
Кончаловский А. Низкие истины. М., 2006 (по ук. имён).
Корсунская Э. Книга для друзей. М., 2012. С. 14–35.
Крылов А. Галич — «соавтор». М., 2001 (по ук. имён).
Крячко Л. Бой «за доброту»//Октябрь. 1965. № 3. С. 175–184 (о «Заставе Ильича» — на с. 182–184).
Кузовкин Г. Партийно-комсомольские преследования по политическим мотивам в период ранней «Оттепели» — (дата обращения: 21.12.2016).
Кулагин А. Из историко-культурного комментария к произведениям В. С. Высоцкого [в частности, о возможной реминисценции из стих. Шпаликова «Переделкино» в «Моём Гамлете» Высоцкого] //О литературе, писателях и читателях: Сб. науч. трудов памяти Г. Н. Ищука. Вып. 2. Тверь, 2005. С. 137–138.
Личное дело № … [Обзор хранящихся в архиве ВГИКа студенческих личных дел Шпаликова, Гурченко, Шукшина, Тарковского, Хржановского, Клеймана и др.[/ Публ., предисл. и коммент. Н. Самойловой, М. Жирковой, А. Хачатрян, О. Баженовой // Киноведческие записки. 68. М., 2004. С. 75–108.
Макаров А. Вольная городская жизнь [К юбилею Шпаликова] // Известия. 2007. № 161. 6 сент. С. 6.
Малявина В. Услышь меня, чистый сердцем. М., 2000.
Медведев А. Территория кино [Воспоминания.] М., 2001. С. 102–105.
Митта А. Моцарт оттепели // Киносценарии. 1997. № 4. С. 96–97.
«Мне двадцать лет» [Подборка откликов о фильме] // Искусство кино. 1965. № 4. С. 27–46.
Надель Л. Владимир Высоцкий и Геннадий Шпаликов // В поисках Высоцкого: Науч. — попул. журнал. Пятигорск, 2013. № 7 (янв.). С. 32–46.
Некрасов В. Геннадий Шпаликов: К 10-летию со дня смерти // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1984. 18 нояб. С. 4; то же // Знамя. 1990. № 5. С. 21–23.
Некрасов В. Долгая и счастливая жизнь? // Континент. № 25. 1980. С. 355–357.
Некрасов В. По обе стороны океана // Новый мир. 1962. № 12. С. 120–122.
Некрасов В. Post-scriptum к «Землянке» (Геннадий Шпаликов)//Новое русское слово. 1976. 18 июля — -viktor.com/Books/Nekrasov-Gennadiy%20Shpalikov.aspx (дата обращения: 21.12.2016).
Никитин С. «Я к вам травою прорасту…» // Новая газета. 1997. № 38. 22–28 сент. С. 16.
Нилин А. Станция Переделкино: поверх заборов: Роман частной жизни. М., 2015. С. 160, 362–403.
Полухина Л. Инна Гулая. Геннадий Шпаликов. М., 2007.
Прощёный А. Шпаликов // Проза. ру — –466 (дата обращения: 21.12.2016).
«Речь идёт о герое нашего времени» [Стенограмма обсуждения режиссёрского сценария фильма «Застава Ильича»] / Публ. и предисл. А. Баталиной // Искусство кино. 2015. № 9. С. 29–53.
Рязанцева Н. «Не говори маме» [Воспоминания; Рассказы; Статьи; Интервью]. М., 2005.
Сикорский В. Встреча с памятником // Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. [Вып. 1.] М., 2004. С. 10–12.
Соловьёв С. Перед лицом нового века //Лит. обозрение. 1984. № 11. С. 93–94.
Соловьёв С. Начало. То да сё…: Записки конформиста. Кн. 1. СПб., 2008; он же. Ничего, что я куру? Записки конформиста. Кн. 2. СПб., 2008; он же. Слово за слово: Записки конформиста. Кн. 3. СПб., 2008 (в кн. 3 — ук. имён ко всем трём книгам).
Сорокалетний марафон [Воспоминания участников съёмочной группы о работе над фильмом «Я шагаю по Москве» / Подгот. И. Изгаршев] // Суперзвёзды. 2003. № 13 (июль). С. 20–22.
Стеблов Е. Удаляясь, Гена вдруг обернулся… // Стеблов Е. Против кого дружите? М., 2005. С. 100–107.
Суркова О. Письмо вослед//Искусство кино. 2001. № 3. С. 138–147.
Те, что пляшут и поют по дорогам [Из истории фильма «Ты и я»] / Публ. и коммент. В. Фомин//Экран и сцена. 1997. № 32–33. 11–18 сент. С. 14–15; № 41–42. 16–23 окт. С. 8–9; № 44. 30 окт. — 6 нояб. С. 8–9.
Тодоровский П. [Воспоминания о Шпаликове] // Огонёк. 1997. № 38 (сентябрь). С. 41.
Туров В. «О дружбе с Высоцким я молчал шестнадцать лет…» / Диалог ведёт Б. Крепак // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. (Вып. I] М., 1997. С. 5–49.
Финн П. Бывшая улица Горького, 13 // Искусство кино. 2003. № 9. С. 83–85.
Финн П. Конспект воспоминаний // Искусство кино. 2015. № 1.С. 170; № 3. С. 131–171.
Финн П. Прощай, Садовое кольцо [Пьеса, поев, памяти Шпаликова; авт. предисл.] // Киносценарии. 2011. № 4–6. С. 30–71.
Хейфец Л. Музыка в лифте. М., 2005. С. 169–170.
Хлоплянкина Т. «Застава Ильича»: Судьба фильма. М., 1990.
Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М., 1999 (по ук. имён).
Шпаликова Д. «Такая вот фигня…» [Рассказы] / Предисл. Ю. Файта // Экран и сцена. 2014. № 7. Апрель. С. 14–15.
Шукшин В. Есть два рода тишины… [О фильме «Застава Ильича»; рецензия 1964 г.] // Советская культура. 1988. 27 авг. С. 4.
Шумный день [К истории создания фильма «Я шагаю по Москве»] // Кинопарк. 2003. № 8. С. 58–61.
Эпельзафт М., Мазин А. Два дня в беседах с «музыкальным человеком»//Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 7. М., 2010. С. 171.
Я не прощаюсь [Воспом. о Шпаликове Ю. Файта, С. Арцеуловой, М. Вертинской, М. Ромадина, Б. Хмельницкого] / Интервью: Анна Арцеулова // Кинопарк. 2007. № 6. С. 52–57.
Основные архивные фонды
Государственный центральный музей кино. Личный фонд Г. Ф. Шпаликова (тексты сценариев, прозаических и поэтических произведений, писем, дневников и проч.).
Российский государственный архив литературы и искусства (в фондах киностудий — тексты сценариев и сценарных заявок, стенограммы их обсуждений; в отдельных личных фондах — письма и стихи).
Документальные фильмы, содержащие воспоминания современников о Шпаликове
Чтобы помнили. Глава 1. Инна / Автор и реж. Л. Филатов. 1993. Передача подготовлена при участии творч. центра «Актёр».
«Страна не пожалеет обо мне» / Реж. И. Рубинштейн, Т. Хрюкин; авт. сценария И. Рубинштейн. Овертайм, 1998.
Шпаликов: «Людей теряют только раз…» Сценарий и постановка Р. Крихана. ООО «Техновидео» (и др.). 2005.
Как уходили кумиры: Геннадий Шпаликов. Идея телеверсии: В. Добрусин; по книге Ф. Раззакова «Как уходили кумиры»; реж. — пост. М. Роговой. «Инфотон», по заказу ДТВ. 2005.
Больше чем любовь: Геннадий Шпаликов. Авт. сценария и реж. Т. Малова. ГТРК «Культура», 2006.
Я шагаю по Москве. Геннадий Шпаликов. Авт. сценария и реж. Л. Вьюгина. ВГТРК, 2008.
Марлен. Прощание с шестидесятыми. Авт. идеи проекта [ «Кино, которое было»] А. Агранович, В. Репников. ОТР. Студия 217. 2003.
Справочные материалы
Геннадий Шпаликов [Библиогр.] /Сост. В. Босенко, В. Юровский, Р. Шипов//Пятьдесят российских бардов: Справочник / Сост. Р. Шипов. М., 2001. С. 363–369.
Черноусое А. П. Шпаликов Геннадий Фёдорович//Русская литература XX века: Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиогр. словарь: В 3 т. М., 2005. Т. 3. С. 750–752 (с фактическими ошибками).
Персональный сайт
Геннадий Шпаликов. Сайт памяти поэта, сценариста и режиссёра — /index.php/kinokartiny/stsenarist?limit-start=0 (дата обращения: 21.12.2016)
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Автор сердечно благодарен за плодотворное общение и за помощь в работе над книгой родным и друзьям её главного героя: Елене Фёдоровне Григорьевой (Шпаликовой), Наталии Борисовне Рязанцевой, Науму Ихильевичу Клейману, Юлию Андреевичу Файту, Павлу Константиновичу Финну, Андрею Юрьевичу Хржановскому, Марлену Мартыновичу Хуциеву; научным сотрудникам Государственного центрального музея кино Елене Олеговне Долгопят, Эмме Рафаиловне Малой, Алексею Николаевичу Тремасову; коллегам-исследователям Марии Александровне Александровой, Дмитрию Иосифовичу Бондаренко, Андрею Евгеньевичу Крылову, Марии Александровне Раевской.
Примечания
1
Сост.: В. Босенко, В. Юровский, Р. Шипов (см.: Пятьдесят российских бардов: Справочник. М., 2001. С. 368–369). Для настоящего издания дополнено автором книги.
(обратно)
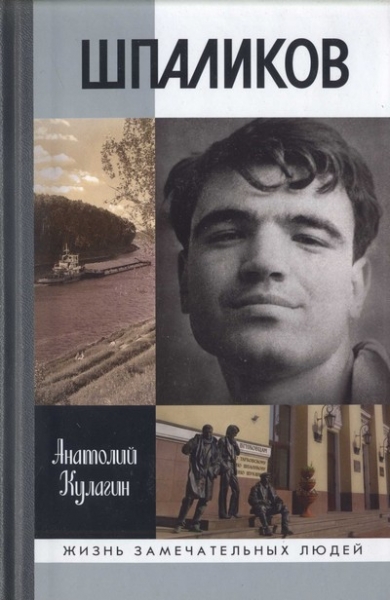


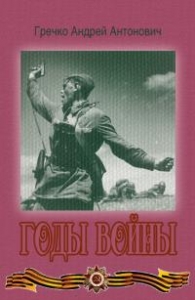
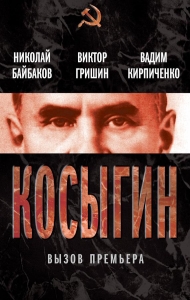
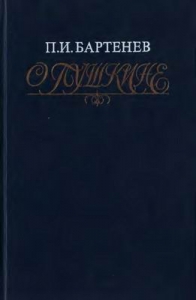
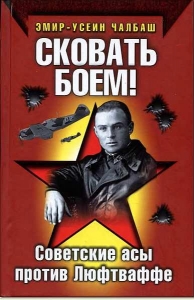
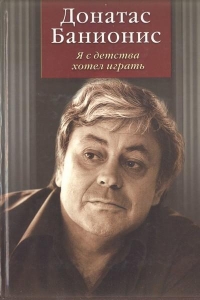
Комментарии к книге «Шпаликов», Анатолий Валентинович Кулагин
Всего 0 комментариев