Лора Томпсон ПРЕДСТАВЬТЕ 6 ДЕВОЧЕК Сёстры Митфорд: писательница, птичница, фашистка, нацистка, коммунистка, герцогиня
TAKE SIX GIRLS by Laura Thompson Copyright
© Laura Thompson 2015
First published in 2015 by Head of Zeus Ltd
Книга издана с любезного согласия автора и при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга и Head of Zeus Ltd.
© Л. Сумм, перевод на русский язык, 2018
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© «Фантом Пресс», издание, 2018
* * *
* * *
Луису, любимому
Введение Митфордианский феномен
Представьте шесть девушек, шесть законченных индивидуалисток, и выпустите их в одну из самых взрывоопасных эпох мировой истории — вы получите сестер Митфорд. Этому социальному эксперименту позавидовал бы самый изобретательный исследователь, а интересен он во многом невозможностью его повторить. Никогда больше не будет шести таких девиц, воспитанных в такой манере и в такое время.
Сестры Митфорд родились в сердце Англии, самая старшая — в 1904 году, самая младшая — в 1920-м. Их родословная древнее Нормандского завоевания. Дочери второго лорда Ридсдейла и леди Ридсдейл должны были стать женами и матерями аристократов, образцовыми представительницами своего класса, появляться на придворных балах в атласных, чуть неуклюже сидящих платьях и носиться верхом по графству Глостер в добротном твиде. Кое-что от старомодного воспитания все же в них сохранилось, и Нэнси Митфорд на смертном одре признавалась, что отдала бы все за день на охоте. Но огромный мир за пределами поместья Хейтроп давно предъявил свои права на Нэнси и на всех сестер за исключением Памелы — и на фоне этой бледной тени тем ярче сияли остальные пять.
Выбранные сестрами Митфорд пути можно перечислить почти так же, как в детском стишке перебираются жены Генриха VIII: Писательница, Птичница, Фашистка, Нацистка, Коммунистка, Герцогиня. Можно составить минибиографии, жонглируя наиболее поразительными фактами с ловкостью опытного циркача. Нэнси, самоучка, не умевшая расставлять знаки препинания («Не Ваш конек», — писал ей Ивлин Во), сделалась известной писательницей, чьи изданные в 1940-х романы «В поисках любви» и «Любовь в холодном климате» принадлежат к популярной и любимой читателями классике. Памела, буколический птицевод с голубыми глазами (солнечные очки она всегда подбирала в тон), была воспета молодым поэтом Джоном Бетжеменом («Памела нежная, кто ближе всех к земле»). Диана, первая красавица в своем поколении, преспокойно приняла участь парии, бросив идеального мужа ради лидера Британского союза фашистов сэра Освальда Мосли. Юнити, зачатая в канадском городе Свастика, сделалась яростной нацисткой и близкой подругой Адольфа Гитлера. Джессика сбежала из дома с коммунистом Эсмондом Ромилли, племянником (а по слухам, сыном) Уинстона Черчилля, и поселилась в рабочем районе Ротерхайта. Дебора стала хозяйкой Чэтсуорт-хауса, величественной, выстроенной еще в XVII веке резиденции герцогов Девонширских, и собрала здесь выдающуюся коллекцию записей и сувениров Элвиса Пресли.
Все эти подробности потоком хлынули в прессу в 2014 году, после смерти Деборы, «последней из сестер Митфорд», хотя ничего нового тут не было. Кто-то путался и считал Нэнси фашисткой, а Юнити — коммунисткой, но общее представление имели почти все. Столь же знаком был англичанам совокупный образ сестер: безудержное аристократическое легкомыслие, схожие, словно вариации на общую тему, лица, домашний язык. Митфорды обитали в лингвистическом микроклимате почти детского лепета («ой, пожалей меня»), более всего известны прозвища, которыми они наделяли всех и в первую очередь друг друга, и то, что началось как семейная шутка, позднее стало достоянием публики. Тут опять кто-то может запутаться и решить, что нацисткой была Женщина, а писательницей Хонкс или что Стабби обожала сельскую глушь, а замуж за герцога вышла Бобо‹1›, но в целом примерно так судьбы этих девушек и складывались. К тому же с Гитлером были знакомы все они и звали его Хитти или герр Маляр — одни так, другие эдак.
За несколько лет до ее смерти я взяла интервью у вдовствующей герцогини Девонширской, Дебо (Нэнси — можете себе представить? — дала ей прозвище Девять, мол, умом она старше не станет). Герцогиня признала, что популярность «темы Митфордов» ее несколько удивляет: «Что люди до сих пор интересуются нами — это поразительно. А уж по каким причинам, им лучше знать». Ее сестра Диана Мосли (Хонкс, Бодли, Корд, Нарди), с которой я тоже встречалась, высказалась намного резче: «Бесконечные разговоры о семье Митфорд — тощища смертная, — заявила она, запрокидывая все еще красивую голову в почти беззвучном смехе (так смеялись все девочки Митфорд, словно веселье словами не выразить). — До смерти надоело!»
Разумеется, то же самое можно сказать и о женах Генриха VIII. «Ой, только не заводите снова про Анну Клевскую и портрет работы Гольбейна. Кто ж про это не слыхал?» Такая известность, разумеется, осложняет задачу биографу. Судьба Юнити Митфорд — отменный сюжет для оперы, а все сводится к скверному анекдоту: «Тут объявили войну, и она застрелилась». Потрясающая человеческая трагедия исчезает, остается только эта фраза. Беда в том, что слишком большая известность не только порождает скуку, но и обесценивает смыслы. А судьба этих шести сестер значима и еще не до конца осмыслена. Я понимаю тех, кому давно уже охота порвать в клочья кружевную митфордиану, все эти «Пуля, Муля, кладовка Цып»‹2›, но вот что я скажу: приглядитесь заново к столь знакомым именам и фактам и задумайтесь над ними. Эти шесть сестер — лучшие образцы в музее английскости, и они представляют весьма сложное явление, хотя от их образа веет божественной простотой. Как бы мы их ни воспринимали, счесть их скучными едва ли кому удастся.
Причем, как я уже сказала, это явление никогда больше не повторится. Ни такие характеры, ни такое состояние мира — подобная конфигурация не сложится вновь.
Начать с простого факта — большого количества детей в семье. Всего их было семеро, и хотя о Томе, единственном сыне (1909 года рождения), часто забывают, он обладал не менее сильным и загадочным характером, чем сестры. Далее, особенности воспитания. Том отправился в Итон, но девочки получили домашнее образование, и три больших семейных поместья — Бэтсфорд-парк, Астхолл-мэнор и Свинбрук-хаус — служили площадками для игр, где развивалось их воображение. У современного ребенка день расписан по минутам (в 4 часа — гобой, в 4.30 — анализ на переносимость глютена), и он таскается за родителями по всяким взрослым заведениям от бара до «Старбакса». Девочки Митфорд, напротив, обитали в собственном мире. Они обладали свободой, которую ныне сочли бы дикостью. Физически эта свобода была ограничена: девочки не выезжали дальше чем в Шотландию, нигде не появлялись без няни и, кроме родственников, общались в основном с грумами, гувернантками и егерями. Их мать бывала строга, а отец порой устраивал яростный разнос за нарушение строгих правил этикета, и все же на более глубоком уровне им была дарована абсолютная свобода: ничто не мешало девочкам следовать своей натуре и подлинным склонностям. Насколько это пошло им на пользу — другой вопрос, но именно такая свобода вылепила «сестер Митфорд».
Они рыскали по своим владениям, вечно увлеченные книгой, любовью, животными (нет ни одной фотографии, на которой не красовался бы замечательный пес), с каждым годом становились все краше и все жаднее до жизни: монотонная скука сельского существования оказалась парадоксально мощным стимулом. Не следует представлять себе неразлучную и постоянную шестерку, складывались временные пары и альянсы: Диана и Том, Джессика и Юнити, Дебора и Джессика. Помимо всего прочего, и разница в возрасте мешала им образовать секстет (в котором Том был бы гастролирующим дирижером), но поскольку никакой другой компанией они не располагали, то все время сталкивались друг с другом, выбивая искры, словно кремень об огниво. В соперничестве установилась семейная иерархия, которая сохранится до конца, и, даже когда в живых оставались только Диана и Дебора, отголоски тех союзов и тех раздоров все еще можно было угадать.
Их поразительные, подчас патетические индивидуальности оттачивались в этом сложном взаимодействии. Разумеется, утверждение, будто Джессика сделалась неистовой коммунисткой, потому что самая близкая ей сестра, Юнити, стала яростной нацисткой, будет легковесным упрощением, и столь же наивен вывод, будто Юнити стала нацисткой, следуя примеру обожаемой Дианы, и все же некоторая доля истины в этом есть. Если бы они не выросли в постоянном общении, воюя, сближаясь, отдаляясь в вечном воинственном ритме, не вылепились бы и столь яркие индивидуальности. И опять-таки живи они в другое время, эти индивидуальности — по крайней мере, у части девочек Митфорд — проявились бы совершенно иным образом.
Девочки Митфорд росли в пору глубоких и — что, пожалуй, важнее — драматических перемен. Дебют Нэнси в обществе состоялся 28 ноября 1922 года на балу в Астхолле. Светская хроника «Таймс» высказывалась о нем с формальной церемонностью, все еще соблюдавшейся по отношению к высшим классам («Среди тех, кто приглашал гостей к танцам, была графиня Батхерст…»), словно Эдвардианская эра не завершилась. Танцы для самой младшей дочери, Деборы, организовали в семейном особняке в Лондоне 22 марта 1938 года. За десять дней до того произошел аншлюс, аннексия Австрии нацистской Германией.
За шестнадцать лет между этими двумя дебютами политические конфликты дошли до крайнего ожесточения. С двух сторон мировой шахматной доски неуклюжими глыбами высились коммунизм и фашизм. Демократия на их фоне казалась существом ничтожным и слабым, жалко блеющим об умеренности — после мировой войны и русской революции, на фоне Великой депрессии и массовой безработицы. Англия, в отличие от Италии, Испании и Германии, не искала прибежища в диктатуре, но и здесь многие мечтали об определенности и тешили себя иллюзиями, броскими лозунгами. В 1920 году была основана Коммунистическая партия Великобритании, а через три года — с неумолимой логикой — фашистская партия, поначалу малочисленная.
Быстро сменявшие друг друга недолговечные кабинеты министров пытались справиться с непрекращающимся экономическим кризисом и отвратить угрозу нестабильности. Очень серьезно относились к «письму Зиновьева» (1924 года), якобы инструкции главы Коммунистического интернационала, о переходе к классовой войне. Хотя происхождение этого документа сомнительно, большевики действительно раскачивали ситуацию в стране, а у пролетариата и так имелись достаточные причины для недовольства. Ужасающе высокой была безработица. За пару недель до дебюта Нэнси по стране прошел первый из общенациональных «голодных походов». В 1926 году состоялась всеобщая стачка, а в 1936-м — «поход из Ярроу». В 1929 году первый в истории страны премьер-министр от лейбористов Рэмси Макдональд поручил молодому и энергичному члену парламента сэру Освальду Мосли разобраться с безработицей, но Мосли пошел своим путем, когда его радикальные (хотя и довольно популярные) идеи были отвергнуты. В 1931 году он сформировал Новую партию, через год переименованную в Британский союз фашистов.
В Германии, где к 1933 году насчитывалось 7 миллионов безработных, нищета достигла предела, а послевоенные обиды накапливались, взрыв казался неизбежным. Предстоял жесткий выбор: либо коммунисты, либо нацисты. Заняв должность канцлера, Гитлер объявил войну марксизму и уже этим приобрел себе немало приверженцев в некоторых британских кругах, как прежде Муссолини, пришедший к власти в 1922 году. Иные английские аристократы вполне откровенно выражали желание сблизиться с Гитлером. В 1936-м на обеде, устроенном Англо-Германским обществом дружбы в честь посла фон Риббентропа, присутствовали среди прочих герцог Веллингтон, лорд Лондондерри и лорд Ридсдейл с супругой. В том же году лорд Ридсдейл выступил с палате пэров с хвалебной речью в честь Гитлера и бранил прессу за «грубейшие преувеличения в таких вопросах, как обращение нацистов с евреями». Главную мысль он сформулировал в одной фразе: «Что бы мы ни имели возразить по поводу конкретных моментов его правления, очевидно, что герр Гитлер спас Германию от красной угрозы».
Такова была позиция аристократа, но ее в той или иной мере разделяли многие рядовые британцы, чей ужас перед коммунизмом мы едва ли способны теперь постичь в полной мере. С другой стороны, для значительной части интеллигенции — тех самых людей, которых Сталин методично истреблял, — коммунизм оставался идеалом и светлой мечтой, а также последним оплотом в борьбе с фашизмом. Сам факт, что эти яростно противоборствующие идеологии в основе своей до странности схожи, многие — и в том числе Нэнси и Дебора Митфорд — ясно осознавали, но такого рода ясность и здравый смысл были в 1930-е годы не ко времени. Требовалось иное — политическая жестикуляция, бескомпромиссная присяга на верность тому или другому, решения, проистекающие из жесткой теории без учета зыбких реалий человеческой природы. Молодые люди всегда откликались на боевой клич экстремизма, не устояли и Диана, Джессика, Юнити.
И все же их поведение нельзя назвать заурядным. Опять-таки значимость их поступков поблекла из-за того, что все о них слишком хорошо известно, однако вдумайтесь: да, в ту пору многие другие юные светские создания флиртовали с тем или иным сортом экстремизма, к примеру, их кузину Климентину Митфорд ненадолго ослепил блеск лакированных сапог, но в том-то и особенность сестер Митфорд, что они не флиртовали, они были до конца верны своим убеждениям. И в 1952 году Дебора писала о Джессике: «Ее окаянное дело въелось ей в душу, и она никогда не могла отречься». Попробуйте вообразить нечто подобное сегодня. Девятнадцатилетняя Джессика Митфорд уходит жить с исламским фундаменталистом? Вряд ли. Девушка из высшего класса может какое-то время увлеченно играть в «активистку», то есть размахивать плакатом против добычи сланцевого угля в Сассексе (где проживают ее родители) или переспать с симпатичным борцом против капитализма (который учился в одной школе с ее братом). Правда, юноша, ради которого Джессика ушла из дома, Эсмонд Ромилли, был дальним родственником Митфордов и учился в Веллингтоне. Как писала Нэнси, изображая схожую ситуацию в романе, «она была ему представлена и знала его фамилию». И все же когда в 1937 году Джессика исчезла — якобы уехала в Дьепп к друзьям, но так там и не появилась, — мир ее родителей рухнул. Две недели они не знали, жива она или мертва, сутки напролет просиживали у телефона, ожидая неведомо чего. Лорд Ридсдейл больше не виделся с дочерью с того дня, как проводил ее на вокзал Виктория. Получив наконец известие о ней, он якобы заявил: «Хуже, чем я опасался, — вышла замуж за Эсмонда Ромилли», но, даже если он произнес вслух такие слова, едва ли говорил искренне. Родители Джессики так и не оправились от этого удара, от бездумной и жестокой решимости, с какой она отреклась от прежней своей жизни (впереди их ждали более тяжелые испытания). «Я чуть с ума не сошла, когда казалось, что ты исчезла насовсем», — писала дочери леди Ридсдейл, а Дебора утверждала: «Это самое страшное, что со мной случилось в жизни». Сорок лет спустя Джессика написала Деборе: она, мол, «оч. удивлена», что своим бегством причинила ей такое огорчение. Однако в интонациях письма чувствуется попытка оправдаться — не слишком убедительная, ибо, похоже, в 1937 году Джессике было наплевать, кого и насколько сильно она ранила. Столь притягателен был экстремизм, воплощенный в мужчине. Только из-за такого мужчины она могла сбежать. Только из-за экстремизма она могла сразу и полностью отказаться от всего, что было дорого.
Обычно за идеологические крайности хватаются разочарованные мужчины. Бывает, конечно, и с девушками, но при чем тут сестры Митфорд? Стильные, благополучные, представленные ко двору, только и знавшие, что скакать следом за гончими да танцевать в лучших домах Лондона. О юных мятежниках часто говорят, дескать, им-то терять нечего, — и это не всегда справедливо, но уж кому было что терять, так это сестрам Митфорд. Бунтарство лишало их всего — их, нежнокожих отпрысков привилегированного класса. И они были достаточно умны, чтобы это понимать, ведь ум Джессики был острее бритвы, а Диана для отдыха читала Гете (на свадьбу доктор Геббельс подарил ей полное собрание сочинений в розовой телячьей коже). Джессика была к тому же красива, жизнерадостна и, по единодушным отзывам, обаятельна, а Диана, красотой равная богине, вела жизнь точно из приторного романа: особняк в Белгравии, обожающий муж, двое маленьких сыновей. Странной среди них, согласно позднейшему признанию Деборы, считалась только Юнити, но и она была красива, умна, и хотя некоторые ее эксцентрические выходки подчас пугали, Юнити тоже покоряла сердца.
Разумеется, сыграла свою роль и молодая глупость. «Фюрер дважды впадал в ярость… это было дивно», — можем мы прочесть в письмах Юнити. Порой складывается впечатление, что Гитлер — это Мик Джаггер образца 1966 года, а она — его юная обожательница. Но одной лишь наивностью всего не объяснишь. Что-то в натуре этих молодых женщин откликалось на темную суть времени. Под солнечной бурливостью Митфордов текла более угрюмая и упорная струя. Здесь присутствовал и выраженный сексуальный инстинкт — желание принять, впустить в себя нечто агрессивное и непреклонное, и хотя это желание направлялось на конкретных мужчин, в нем была, безусловно, и мистическая сторона — экстремизм апеллирует к древнему, неукрощенному цивилизацией «я».
О том, как и почему сестры выбрали каждая свой путь, мы подробнее поговорим чуть позже. Исходным пунктом стала глубокая и сложная страсть Дианы к сэру Освальду Мосли, хотя несомненное влияние на Диану оказали интеллектуальные «протевтонские» симпатии ее родичей. В контексте времени и семейного расклада поведение сестер Митфорд выглядит более понятным, но отвага — немыслимой. «Что за жизнь мы ведем», — писала Нэнси в 1940 году матери, изумляясь, но, как всегда, сдержанно.
Сама Нэнси не бросалась без оглядки в экстремизм того или иного сорта. Друг семьи, Вайолет Хаммерсли, как-то писала ей: «Вы, Митфорды, любите диктаторов», но это лишь отчасти соответствовало истине. Памела вышла замуж за приверженца фашизма и познакомилась с Гитлером («в своем коричневом костюме он похож на старого фермера»), однако до крайностей Дианы и Юнити ей было далеко. Дебора провела месяц перед Второй мировой войной с гостями, собравшимися по случаю скачек в Йорке, и тоже оставалась в стороне от политических бурь. Что же касается Нэнси, она сначала спасала беженцев-республиканцев, проигравших гражданскую войну в Испании, а затем вернулась домой и с головой окунулась в патриотическую работу.
И все же нечто общее в их отношении к политике было — не столько в том, что они делали, сколько в том, как они это делали, в стальном стержне под светской улыбкой — вот что типично для Митфордов. Они были естественны и бесстыдны — не в том смысле, что совершали позорные поступки, хотя Юнити далеко зашла в своей любви к нацизму, нет, точнее будет сказать, что они были избавлены от чувства стыда, наделены блаженной и неуязвимой уверенностью в своей правоте. И о чем бы ни зашла речь, беседовали они все на том же детском языке. Между формой выражения («милый Гитлер», «славный Ленин») и тем, что они совершали, разверзается пропасть. Отрочество Джессики и Юнити, живших в одной комнате и поделивших ее надвое — половина в серпах и молотах, половина в свастиках, — наглядно иллюстрирует отношения сестер Митфорд с политикой: полная искренность, но и непременное желание похвастаться. Покрасоваться перед няней.
Им незачем было гоняться за публичностью, они и так получали ее в огромных и опасных количествах, но и никакого страха она у сестер Митфорд не вызывала. Отчасти это у них в крови, оба деда были яркими персонажами, но объектом публичного внимания сестры Митфорд стали благодаря собственным заслугам. Их характеры, их разнообразная красота, и все это шестикратно, превращало их в сногсшибательное явление. При такой внешности они никак не могли оставаться незамеченными, а при таких склонностях ни в коем случае этого не хотели бы. У них проявлялась тяга к огням рампы, желание блистать в ее лучах. «Да кто на вас глядеть станет», — приговаривала няня, однако девочки ухитрились вырасти без присущего большинству аристократов страха показаться вульгарными. Нэнси стала не просто писательницей, а «знаменитостью». (Ивлин Во сообщал: «На прошлой неделе я видел Дебо и считаю своим долгом предупредить, что она распространяет опасную для вашей репутации сплетню: якобы вы разрешили „Телевижн“ вас сфотографировать»‹3›.) Она весьма щедро распоряжалась своим именем: вела в «Санди Таймс» авторскую, в высшей степени самоуверенную и пристрастную колонку, помогала при постановке пошловатого мюзикла на сюжет «В поисках любви»‹4›, позднее готова была участвовать и в затевавшемся на Ай-Ти-Ви комедийном сериале, основанном на биографиях шести сестер‹5›. Дебора, герцогиня Девонширская, раздавала бесчисленные интервью и, похоже, забавлялась тем, как легко приручить журналистов («Разве перед ней кто-нибудь устоит?»‹6›). Диана, прекрасно понимая, что напрашивается на неприятности, приняла в 1989 году участие в «Дисках необитаемого острова» на Радио-4. Слушатели были возмущены, но с митфордианской жаждой популярности рука об руку идет полное равнодушие к людскому суду. Если бы сестры обзавелись твиттером (это вполне можно себе представить, Джессика точно могла бы это сделать), они бы помирали со смеху при виде гневных комментариев с тэгом #снобскаясука. Они были одарены и легкостью и стойкостью. Когда в 1943 году Диана с мужем сидели под домашним арестом, наглухо задернув занавески, чтобы в окна не могли заглянуть репортеры, Диана писала: «Я бы предпочла быть нами, а не ими: уж очень погода отвратительная». Когда Нэнси в 1955 году написала трактат «Английская аристократия»‹7›, с его знаменитой классификацией лексики «В» (высшего сословия) и «не-В» — «только простонародье скажет „листы для письма“ вместо „почтовая бумага“» — взрыв негодования оставил ее равнодушной. «Да кто вы такая?» — возмутился один из читателей. «Ужасно трудно ответить», — пожимала она плечами.
Снобизм, черствость, идиотизм, блуд, бессовестность — в чем только не обвиняли сестер Митфорд, а они встречали любую критику ясной улыбкой и отвечали в свойственной им манере, прямой и упрямой, которая обезоруживала любого противника. У Дианы этот принцип «ни за что не извиняться, ничего не объяснять» развился в неслыханной степени. Трудно себе представить человека, более равнодушного к общественному мнению. «Ненависть посторонних для меня абсолютно ничего не значит, как тебе известно», — писала она Деборе в 2001 году. «Я им восхищалась», — сказала она о Гитлере в радиопередаче «Диски необитаемого острова». Мне она так же спокойно и безмятежно, как говорила почти обо всем, сообщила, что ее муж «был очень хитроумным человеком». Безусловно, Диана была органически неспособна сказать что-либо кроме правды, как она ее видела‹8›. Это отчасти упрощало жизнь, но и чудовищно ее осложняло. Она отказывалась оправдываться или защищать себя. Могла бы сослаться на обстоятельства, сказать, что увлеклась, а задним числом поняла, что к чему, — но нет. Как бы о ней ни судили, нужно признать, что из миллиона женщин только одна способна так твердо стоять на своем. Она писала статьи, в которых с ледяной последовательностью ставила под вопрос самые безусловные для общества вещи: так ли однозначно справедлива была война против Германии или был ли режим Виши абсолютным злом. О Гитлере она отзывалась как об «ужасной главе» истории, но не стала задним числом ретушировать свои отношения с ним, а ее верность сэру Освальду всегда была столь неколебимой, что превратилась в легенду. В Диане, с ее улыбкой сфинкса и бодрой безмятежностью, скрывалась тайна, и даже сестры подчас не умели ее разгадать. Политические пристрастия никак не отразились на искренней, сердечной доброте, которую Диана проявляла во всех прочих сферах жизни. Постоянно прорывавшийся смех не мешал ей разделять идеологию тех, кто маниакально серьезно относился к самому себе. Она была загадкой в гораздо большей степени, чем Джессика и Юнити, на которых она оказала сильное влияние. Может быть, она была одной из самых загадочных женщин в истории. Говоря о «сестрах Митфорд», подразумевают в первую очередь ее и Нэнси, потому что без Дианы и Нэнси эти шестеро не приобрели бы подобного значения.
Диана воплощала мистическое и неукротимое начало. Нэнси — беззаконное очарование, возвышенные пустяки, шуточки, используемые для самообороны. («Всегда найдется причина для смеха», — писала она, умирая от рака.) Такое распределение ролей, конечно, упрощает дело. Двойственную природу сестер Митфорд невозможно разделить, их очарование рождается как раз из таких противоположностей и парадоксов.
Нет такого слова — «митфордианский», но оно небессмысленно, как и слова «прустовский», «диккенсовский», «гилбертианский». Этот эпитет что-то говорит всем, кто не вникал в биографии шести сестер, но так или иначе представляет себе их совокупный образ.
За причиной далеко ходить не надо. Элементы, составляющие феномен сестер Митфорд, разнообразны, сложны и противоречивы, но главную роль сыграло то обстоятельство, что «феномен Митфорд» был упакован, обвязан красивой ленточкой с пышным бантом, и сделала это Нэнси. Это она создала миф «Митфордов». В 1945 году она вписала свою семью в роман «В поисках любви» и далее растила и культивировала «митфордианство» (ее примеру последовала Джессика с автобиографией «Достопочтенные и мятежники»), пока не сложился образ аристократического очарования, притягательный и недоступный и столь же опасно-затягивающий, как наркотик.
Без Нэнси у каждой сестры оставалась бы ее собственная биография, особенно примечательная у Юнити, но их значение как целого — культурное и общественное — обеспечила старшая из девочек Митфорд. Возможно, она не была самой умной — самой умной считалась Диана, — однако Нэнси была наиболее проницательной и сумела, всмотревшись в прошлое, собрать все нити своими хорошенькими маленькими ручками и преобразить факты в искусство.
Сделав это, написав «В поисках любви», с дотошной тщательностью сохранив семейные воспоминания и светотенью придав им вневременную ценность, она создала вполне отчетливый и определенный мир, то есть миф. Ее роман настолько глубок и прочувствован, что в него вошло гораздо больше, чем она осознанно собиралась поместить в книгу за три месяца, которые ушли на работу над ней. Здесь можно проследить генезис митфордианского мифа, а главное в этом мифе — образ Англии.
Чтобы вполне понять этих шестерых сестер, нужно отправиться в Котсуолдс, где они росли, в соседние деревни Астхолл и Свинбрук, стоявшие когда-то на земле их отца. Четыре сестры — Нэнси, Юнити, Диана и Памела — похоронены на кладбище при церкви Святой Девы Марии в Свинбруке. И более всего поражает скромность этого последнего упокоения: как это кладбище растворено в ландшафте, как спокойно приемлет ход времени и саму смерть, как непохоже оно на ту блестящую, безумную гонку, в которой сестры прожили эпоху и оставили свой след в мире. «Не называй борьбу бесплодной» — гласит надгробие Юнити. Этот стих трогает душу, особенно здесь, на тихом и мирном квадрате зелени, где царит молчание, прерываемое лишь деликатными трелями певчих птиц да псалмом, который поют в церкви. Здесь борьба, изуродовавшая краткую и мучительную жизнь Юнити, лишается всякого значения.
От церкви с мемориалом Тома Митфорда и дубовыми скамьями, купленными лордом Ридсдейлом на выигрыш в скачках Грэнд-Нэшнл 1924 года, чуть больше мили до усадьбы Астхолл, где прошло детство Митфордов, основная его часть. Там сформировалось воображение девочек, на земле оттенка пера фазаночки, в неглубокой плоской долине среди бескрайних полей, стен сухой кладки, здоровых упитанных овец и неумолчного шелеста реки Уиндраш. Сам Астхолл, темно-коричневый, с фронтонами, словно врос в эту землю корнями, как гигантское дерево, и рядом с ним тоже церковь — окна детской выходили на кладбище.
Англия изменилась до неузнаваемости с тех пор, как в этом уголке Оксфордшира росли девочки Митфорд, но Астхолл и Свинбрук с виду остались те же, и усадьба Астхолл — прекрасный образец неизменного идеала английского сельского дома. На фоне такого магического постоянства разворачивается сюжет «В поисках любви». Нэнси воссоздала Астхолл под именем Алконли, населила своими родственниками и описала, не идеализируя, но с той же волшебной легкостью и ясностью, с какой солнце рассеивает лучи над утренними полями.
Разумеется, не обошлось без фантазии: Митфорды были не совсем такими, как Рэдяеты, выдуманные Нэнси. Буйная эксцентричность лорда Ридсдейла передана достоверно, как и некоторые его привычки, например, записывать имена неугодных людей, многократно протыкать листок булавками и в таком виде прятать в ящик, но «дядюшка Мэтью» вышел более простым и уверенным в себе человеком, чем прототип, и «тетя Сэди» оказалась добрее и благожелательнее, чем была мать Нэнси. Хотя книга охватывает тот самый период времени, когда «девочки Митфорд» устремились каждая к своей политической крайности, ни слова не сказано о том, что Гитлером восхищалась и сама леди Ридсдейл. Откорректированы и пугающе наивные ремарки лорда Ридсдейла в адрес довоенной Германии. «Господи, вот уж не думал, что доведется принимать в своем доме чистокровного гунна», — заявляет дядя Мэтью, когда на дебютном балу его дочери появляется сын управляющего Английским банком по фамилии Крезиг. Темные страсти Юнити и Дианы также не вошли в роман, а бегство Джессики представлено в самом легкомысленном свете: Джасси в этой книге соединяется с актером из Голливуда, а Линду в коммунисте покоряет главным образом неотразимая внешность.
Роман задает непрерывный и нерушимый цикл. Сезоны сменяются в мирном ритме сельской жизни: в одну пору — охота, в другую — ягнятся овцы, юные Рэдлеты порхают, как бабочки, в поисках света и блеска, а в сердцевине этого повествования усадьба Алконли, ушедшая корнями в землю, с которой непостижимыми узами связан дядя Мэтью.
На самом деле у Митфордов имелось три семейных дома, но примыкавшая к ним земля была распродана. Вместе с титулом лорд Ридсдейл унаследовал в 1916 году обширные имения, но удержать их не смог. Первым (вместе с 10 000 акрами земли) ушел Бэтсфорд-парк в Глостершире, сказочный старинный замок, перестроенный его отцом. В 1926 году пришлось расстаться с Астхоллом — домом и имением. Усадьбу, столь любимую всеми Митфордами, заменил только что построенный сразу за деревенской околицей дом в Свинбруке — холодное, строго симметричное здание. Нэнси придала Алконли некоторые внешние черты Свинбурка — «он был угрюм и гол, словно казарма, возведенная на высоком холме», — но оживила атмосферу в нем. На самом деле новый дом устраивал только Дебору. Девятилетняя Джессика после переезда в Свинбрук («Свинский брук», — заклеймила его Нэнси) мечтала покинуть его. Она копила «деньги на побег» и умоляла отправить ее в школу; ее просьбу исполнили, однако лишь ненадолго. Когда Джессика выросла и бежала со своим коммунистом, лорд Ридсдейл, возможно, упрекал себя за ее не слишком счастливое детство. Хотя мятежная юность Джессики, бунтарство, продолжавшееся и в зрелом возрасте, имеют более сложную подоплеку, переезд в Свинбрук сыграл свою роль: с этого начался распад семьи. «Покинув Астхолл, мы никогда уже не вели нормальную семейную жизнь», — писала впоследствии Диана‹9›. Нэнси печально шутила о превратностях фортуны: от замка (Бэтсфорд-ПАРК) они постепенно (Астхолл-МЭНОР) дошли до обычного дома (Свинбрук-ХАУС). А после продажи в 1938 году Свинбрука у них вовсе не осталось загородных домов. Той жизни пришел конец.
Трагическая ирония: к тому времени, когда роман «В поисках любви» вышел в свет, с лица земли исчезло практически все, что он символизировал. Погиб не только мир феодальных обязательств и единства со своей землей, но от самой семьи Митфорд мало что уцелело. Вымышленных Рэдлетов тоже постигли трагедии и перемена мест, но семья оставалась нерушимой, вечной, вопреки ходу времени. В реальности громокипящие идеологии 1930-х, безликие и равнодушные к личному счастью человека, оставили Митфордов сокрушенными и павшими духом.
Нэнси обрела творческую радость, сочиняя «В поисках любви», но это был также акт искупления — дорогой ценой. Она прославляла безвозвратно утраченное — свое прошлое и прошлое своего сословия. И ей удалось вызвать читательский отклик, который не смолкает до сих пор.
После войны, хотя к власти и пришло в 1945 году правительство лейбористов (за которое голосовала и сама Нэнси), люди все еще ностальгически вспоминали то, чем обладали Рэдлеты, — легкость, уверенность и неспешность, шарм, благодаря которому жизнь казалась не столь жесткой и жестокой, а главное — укорененность в Англии. Конечно, людям нравилось читать об этом. Как и опубликованное в том же 1945 году «Возвращение в Брайдсхед», книга Нэнси Митфорд имела мгновенный, ошеломляющий успех. В первый же год разошлось 200 000 экземпляров, ко времени смерти Нэнси (1973 год) было продано свыше миллиона книг, и даже сейчас, когда высшие классы превратились в единственное меньшинство, над которым можно насмехаться без ущерба для политкорректности, эта книга все так же популярна. Не менее популярно и не менее обаятельно ее продолжение, «Любовь в холодном климате» (1949 год), в котором Рэдлеты оттеснены на второй план. Нэнси Митфорд — несомненный талант, пусть и не из высшей лиги, но она умела то, что оставалось недоступно другим. Она строила повествование так, чтобы воплотить самую суть описываемого и даже стать ею. Со временем она превратилась в улыбчивого привратника при особом образе Англии (не Великобритании), и этот образ привлекает не только своим смыслом, но и тем, как он подается. Нэнси писала о высшем классе не так, как ее друг Ивлин Во (с почтительной серьезностью, слегка прикрытой шуточками), — она относилась к аристократам как к самым обычным людям (кем они для нее и были). При этом она не окарикатуривает и комических своих персонажей, ко всем относится доброжелательно и с пониманием. Но юмор, пронизывающий ее существо до мозга костей, помог Нэнси ясно видеть себя и свой класс и смеяться над собой — даже над своим кредо.
Она изображает аристократию легкими штрихами, не стесняясь, и сама воплощает почти детское бесстрашие высших классов, отказ набрасывать покров смущения и осторожности на слова и поступки. Взять хотя бы реакцию Линды Рэдлет на собственную новорожденную дочь. «Милосерднее будет не смотреть», предупреждает она кузину Фанни, и кузина тоже с ужасом глядит на «вопящий апельсин» в пеленках. Вполне естественная реакция для многих, кого вынуждают сюсюкать над колыбелью, но далеко не всякий решится дать ей волю, а те, кто позволяет себе выражать подобные чувства вслух, чаще всего этим бравируют. Нэнси не такова. Она пишет самые возмутительные вещи с той же вежливой, женственной точностью, что и любые другие. Линда, отправляясь на поезде в Испанию, признается кузине, что боится путешествовать одна. «Едва ли ты останешься в одиночестве, — подбадривает ее Фанни. — Иностранцы весьма склонны к насилию, как я слышала». — «Это бы неплохо…»
В романе «Любовь в холодном климате» на свет появляется еще один ребенок, у красавицы Полли и ее отвратительного мужа. «Стоило младенцу глянуть на своего отца, как рассказывали Рэдлеты, и он тут же скапутился». Мы смеемся в этом месте, и смех отчасти вызван шоком, но сама Нэнси не собирается никого шокировать, и ее ничто не шокировало. Безупречные манеры сочетаются в ней с полным пренебрежением к приличиям, и более всего приличия подрывает ее отказ от серьезности. Приехав в Перпиньян помогать беженцам из Испании (этот тяжелый и грустный труд она выполняла заботливо и эффективно), Нэнси не удержалась от шуточки: ждите, скоро и Юнити подоспеет. Ничего столь возмутительного в ее романы не проникало. Они все же не истина в чистом виде, а истина, превращенная в товар.
Особое свойство текстов Нэнси, их митфордианское качество заключается как раз в этой прямодушной легкости. Эта черта присуща всем сестрам, до некоторой степени и отцу семейства. Они оттачивали прямоту друг на друге, а порой апеллировали к галерке, как Джессика в «Достопочтенных и мятежниках», но это и был естественный для них язык. Прекрасный пример — Диана. Ее вместе с Мосли подвергли аресту по подозрению в симпатии к врагу, и три года в Холлоуэе она переносила ужасные условия и нравственные страдания. Тем не менее, как она говорила мужу, «просыпаясь утром в одиночестве, по крайней мере чувствуешь себя единственной». Эта шутка, рожденная страданием, легкость, свидетельствующая о неукротимом духе, а в первую очередь, полная естественность (Диана не пыталась изображать из себя шутницу, она говорила то, что думала) — безусловно митфордианские. Такова и вся их система семейных прозвищ, ставшая общим достоянием — Туддер (Том‹10›), Торт (Королева-мать‹11›), Бутсы (Сирил Конноли‹12›), Джоан Гловер (фон Риббентроп‹13›) и Декольте (президент Кеннеди‹14›), — до такой степени общеизвестная, что грозит превратиться в нудятину (наскучить), но сами шутники в этом не виноваты. В романах Нэнси слегка откорректировала эти шутки, но главный голос в них — ее собственный‹15›, митфордианский, то есть мы слышим особую, прямую, с широко раскрытыми глазами, полную игры воображения речь, невыносимую для одних, неотразимую для других, но всегда неподражаемую. Удивительное сочетание детскости и аристократичности. Порой эта речь чересчур экспрессивна («Неча спорить!», «О, ты так добра, сама доброта!», «Она дииивная»), но долговечность ей придает ее проницательность, умение попасть прямо в яблочко. «Знаешь, быть консерватором намного спокойнее, — говорит Линда Рэдлет, ушедшая к коммунистам. — Правда, понимаешь, что это вовсе не хорошо. Но этому отводятся определенные часы — и все».
А уж быть тем, к кому обращена митфордианская речь, — чистейшее наслаждение. «Да ведь вы умница!» — похвалила меня Дебора, стоило мне всего лишь припомнить кличку одной из скаковых лошадей ее мужа. «Мисс Томпсон и умна, и мила», — рекомендовала меня Диана пожилому джентльмену, присоединившемуся к нам в Париже за чаем. Меня они покорили, но это случалось с каждым, кому довелось познакомиться с ними (у Дианы и Карл Маркс ел бы с рук). Их манера говорить была лишь внешним выражением их шарма, и в том-то вся суть: сколько ни анализируй, сколько ни разбирай на компоненты феномен «девочек Митфорд» — ушестеренное влияние, происхождение и воспитание, эпоху, умение подать себя, силу духа, юмор, — всегда остается главный, всепроникающий элемент обаяния. И этим они тоже могли довести до исступления, но загадка их очарования неуничтожима.
Сам факт, что сестры Митфорд обладали неотразимым шармом, тоже не уникален. Многие в этом круге знали, как очаровать собеседника, — этим искусством владели и Диана Купер, и лорд Бернере, и сэр Гарольд Эктон и, на более зловещий лад, Вайолет Хаммерсли. Это естественное качество высшего класса, имевшего достаточно досуга, чтобы плести свою эфемерную паутину, и достаточно уверенности в себе, чтобы преодолевать сопротивление. «Сливочный английский шарм», как выразился Ивлин Во, увековечивший его в «Возвращении в Брайдсхед», потоками изливался в общество, и умиротворяя и отравляя его.
Но очарование Митфордов, которое, при всей своей высокогорной прохладе, обладало существенным свойством облегчать жизнь, было шармом с большой буквы. И шарм этот был вполне осознанным, особенно с тех пор, как Нэнси его возвела в миф. Митфорды использовали свое очарование как прием, как часть игры, в которую приглашали и тех, кого они очаровывали, и именно благодаря осознанности и самоиронии их очарование не рассыпалось в прах.
Шарм «девочек Митфорд» как целого в значительной степени — творение Нэнси. Но ведь существуют и реальные шесть сестер, шесть женщин, каждая из которых была на свой лад, безусловно, очаровательна, однако в них намешано и многое другое. В особенности странным кажется даже упоминать шарм, когда речь идет о Юнити. И это, пожалуй, самый поразительный аспект в совокупном митфордианском образе: этот образ услаждает, он завораживает — и в то же время включает в себя так много вовсе не очаровательного. Или это снова действие шарма, которое вынуждает закрывать глаза на иные, смертоносные симпатии девочек Митфорд?
Если б не мифологизаторский талант Нэнси, по отдельности каждая из шести биографий (за исключением разве что Памелы) была бы увлекательна, однако благодаря Нэнси, сумевшей вывести на рынок себя, свою семью и свой класс, до сих пор сохраняется интерес ко всей полудюжине как единой «упаковке». Как сейчас сказали бы, сестры были «символами». Соберите воедино Одри Хепберн в роли Холли Голайтли, Пэтти Херст в пору Симбионистской армии освобождения, девушек в жемчугах из «провинциального романа», пирующих в полночь учениц частной школы из повестей Энид Блайтон и юных улыбчивых богинь с мраморного фриза. Их значение выходит за пределы реалий современной им эпохи и становится символическим — так ныне происходит почти со всем.
Им воздают честь тематические модные съемки (твид, маленькие шляпки, элегантные сапоги, походные посохи) и блоги («Божественная Дебо» — вполне характерный заголовок для постов такого рода). Недавно вышла книга «Руководство по жизни от девочек Митфорд». Вполне можно было бы водить экскурсии по разнообразным местам их обитания (Свинбрук, Чэтсуорт, тюрьма Холлоуэй). Они постоянно упоминаются в поп-культуре. Знаменитое детство Кейтлин Моран — где восемь детей-самоучек носились по социальному жилью в Вулвергемптоне — выглядит как пролетарская вариация на тему девочек Митфорд. С другой стороны, сестры были объектами сатиры, и современники-комедиографы состязались в остроумии на их счет. В шоу Би-би-си-2 «Люди Беллами»‹16› две актрисы, состарившиеся копии Джессики и Дианы, сидят в гостиной под портретами Сталина и Гитлера и они великолепно воспроизводят «лепет» Митфордов: «Сталин, он был ужасно привлекательный. Эти замечательные мужицкие усы… до невозможности сексуально!» — «Фуффи — о, я звала фюрера Фуффи, милый мой Фуффи, — его так неправильно поняли…» Нельзя сказать, чтобы эти шутки свидетельствовали о сильной любви к «девочкам Митфорд», но ведь «девочки» и не внушали к себе любовь: понятно, что они вовсе не белые и пушистые. Шутка в первую очередь адресована нам, тем, кто восхищается поклонницами смертоносных идеологий.
Это ведь и правда извращение. Общество ныне погружается в нирвану неосуждения, и если что осталось безусловно неприемлемым, то именно те понятия, которые символизирует имя Митфордов. И тем не менее — соблазнительный образ. Как это вышло?
Возможно, перед нами разновидность синдрома «Аббатства Даунтон»: люди ищут комфорта в веке иерархий, предрассудков, определенности — иными словами, в аристократическом прошлом. Ныне принадлежность к высшему классу может обрушить вам на голову гнев небесный, учиться в частной школе — «хуже убийства», как отзывалась Линда Рэдлет о неведомых грехах Оскара Уайльда; говорить со «стандартным английским» произношением или завести лабрадора — значит навлечь на себя обвинение в элитарности, но стильность сохраняет свой таинственный флер, и воплощением ее остаются сестры Митфорд. В романе «В поисках любви» Нэнси воссоздает этот мир с уютной, приветливой легкостью и все же огораживает его незримыми барьерами. И читатель пленен — пленен не только юмором и шармом. Нам нравится то, что описывает Нэнси, мы бы рады освободиться и возненавидеть этот мир, и все же мы в большинстве своем не хотим, чтобы он исчез. Что мы будем делать без высших классов? Мы собьемся с пути. Лишь бы представитель высшего класса вел себя желательно в соответствии со статусом, озорно посмеиваясь над собственной эксцентричностью, — и эгалитарная Британия его извинит.
Митфорды, достаточно склонные к популизму, не забывающие про галерку, прекрасно умели подавать свой класс для всех классов. Дебора охотно высмеивала свой акцент: «Смешно. Такое глупство. А здесь [в Дербишире] звучит даже еще глупее»‹17›. «Высший класс — такая скука, словами не передать», — заявит она из цитадели Чэтсуорта. Эта свобода ума и насмешка над собой — типичное митфордианство, другой вопрос, насколько они глубоки. В письмах Дебора пренебрежительно отзывается о симпатии Джессики и ее семейства к левому крылу («Боюсь, Чэтсуорт покажется им недостаточно прогрессивным»). Представителя среднего класса за подобные замечания разорвали бы в клочья, но «удивительно стильной»‹18› Деборе все сходило с рук. Ее автобиография «Подождите меня!» откровенно выражает недовольство новыми лейбористами и в типичном для сельской дамы стиле расправляется с Айвором Новелло, который, гостя у нее в Девоншире, посмел назвать ее рабочего уиппета «славным бежевым мохнатиком» (Нэнси вполне могла выразиться в таком же стиле, но Дебора этого категорически не одобряла). С другой стороны, Диана лично была лишена каких-либо признаков снобизма и искренне смеялась, прислушиваясь к своему «вычурному», как она считала, голосу в телевизоре‹19›. Но это в частной жизни, а когда бралась за перо, то проявляла внезапное и точное понимание, кто есть кто. «Леди Сибил Коулфакс не может существовать в реальности»‹20› — типичное доя нее замечание в книжном обзоре. В опубликованном дневнике Дианы приводятся слова лорда Стратмора: дескать, будь у него ружье, он бы застрелил другого пэра за невежливый отзыв о королеве. «До чего же мы докатились, если у шотландского землевладельца в августе не оказалось под рукой ружья?»‹21›
Кстати, «шотландский» в этой фразе — Scotch (а не Scottish), что типично для «В». Спор о «В» и «не-В» — вечное яблоко раздора во всех классовых вопросах. Подобные градации есть и в романе, но «В поисках любви» приглашает читателя позабавиться вместе, и это принципиально: та же вкрадчивая лесть, что и, например, в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны», где зритель тешит себя иллюзией, будто видит на экране собственную жизнь (включая празднества в замках). И напротив, эссе «Английская аристократия» обсуждает ситуацию в лоб и дает ясно понять, что шутить позволено только автору. Хотя это разделение не ею придумано (сами обозначения «В» и «не-В» принадлежат лингвисту Алану Россу), однако Нэнси, именно потому, что она принадлежала к этому классу, разожгла костер ненависти. Множество людей приняли к сведению ее строгие правила и в жизни больше не поминали «каминную полку», но при этом она ухитрилась задеть их за живое. («Могло бы найтись занятие поинтереснее, чем слушать по телевизору суждения этой снобки о классовых различиях», — писала недовольная зрительница после появления Нэнси на канале Би-би-си.) И даже поклонники не были очарованы, как в ту пору, когда тетушка Сэди выражала мнение, что Саррей — неподходящее место доя сельского дома. Хорошо еще, что никто не читал письмо Нэнси, написанное в 1957 году после землетрясения в Мексике и успокаивающее Джессику насчет судьбы ее дочери: «Такие люди, как мы, никогда не погибают в землетрясениях, к тому же пострадало всего 29 человек, сплошь не-В». «Подначивание» Нэнси бывало бесчувственным — она смягчала его, обращаясь к читателям, но не считала нужным делать это перед друзьями и тем более перед членами семьи. В наше время подобное замечание вызвало бы, пожалуй, не меньшее возмущение, чем дружба с Гитлером, но если бы Нэнси дожила до того, чтобы услышать такую критику, она бы отразила ее улыбкой, как отражала бурю, вызванную ее рассуждениями о «В» и «не-В». Обвинения в снобизме и душевной пустоте градом сыпались на ее элегантную голову — и она выдержала их не моргнув глазом, как, не дрогнув, перенесла ее сестра Диана поношения, которые большинство людей едва ли смогло бы стерпеть.
Эта уверенность в себе — спокойная и вместе с тем тверже алмаза, — она-то и завораживает, в особенности женщин. Аристократическая самоуверенность в изысканном женском варианте, которой современные женщины, хотя и обрели большую свободу, едва ли сумеют достичь.
Казалось бы, настала пора для полной женской уверенности: мужчины вынуждены ходить вокруг нас на цыпочках, почтительно; современная культура убеждает, что мы можем выбрать себе любой путь в жизни; книги советуют ценить в себе все изъяны, однако стремиться при этом к совершенству… и все это нисколько не ободряет, скорее наоборот. Женщины оказались словно в гермокабине, постоянно должны быть настороже, особенно присматриваться к тому, как живут другие женщины — не лучше ли, чем ты сама. Может быть, нужно печь печенье или создать международную компанию? Внешне походить на лауреатку «Оскара» или, напротив, восстать против тирании заботы о внешности? Сбривать волосы по всему телу или помещать в твиттере фотографии бунтарских подмышек? Стать домашней богиней, сладкой мамочкой, альфа-самкой, префеминистской, феминисткой, постфеминисткой, феминисткой, но из тех, кто не против подтяжки лица?.. Хаос.
Казалось бы, ответ прост: будь собой. Но ведь так трудно понять, кто ты. Вот почему нас околдовывают Митфорды, столь уверенные в любом своем выборе, даже безумном.
Они бестрепетны, избавлены от сомнений. И этого состояния нам сегодня не достичь. Дело не в деньгах — в доме сестер Митфорд хватало вещей, но их приходилось продавать — и не только в принадлежности к привилегированному кругу, привилегии лишь смягчают удары судьбы. Побег Джессики, публичный позор Юнити и Дианы, распад семьи, выкидыши, болезни, утраты — о Митфордах можно было бы снять мыльную оперу с постоянными драмами, и сестры обладали жизненной устойчивостью матриархов этого жанра. Что бы ни случилось, они принимали это с ясным челом. Как говорила Нэнси, всегда найдется, над чем посмеяться. Из этого не следует, как заметила однажды Диана‹22›, что они были непременно счастливы, нет, но всегда отыскивали что-то забавное, и в этом заключалась подлинная философия, стремление к легкости, очень даже неплохое руководство для жизни. Бесценная способность подняться над бедами и рассматривать их как нечто преходящее, не придавать им такого уж значения — мало ли на что наткнешься по пути к тихому кладбищу в Свинбруке. Не стоит страдать.
Терапевтичны воспоминания о том, как Диана беспомощно тряслась, не в силах сдержать смех, когда народный певец завывал свои «хей-нонни-но»: «Его пригласили в Холлоуэй развлечь арестантов, но такого развлечения не предполагали». Чудесно читать отзыв Нэнси о французском любовнике, Гастоне Палевски: ему сравнялось пятьдесят, «и он терзается по этому поводу. Я не страдала ни из-за каких ужасных возрастов, которые меня постигли, так что едва ли его пойму». Или вот Нэнси обсуждает на смертном одре с Деборой свое наследство: «Мы животики надорвали, хохоча над завещанием». Дебора, потерявшая в родах третьего ребенка, сообщает, что деревенская повитуха титуловала ее «миледи» «в самые непристойные моменты». А Диана заявляет, что секс, из-за которого столько шума, не сложнее батончика «Марса»‹23›. Все, что мы принимаем так близко к сердцу, — страдание, старение, смерть, рождение детей, любовь… Митфорды тоже относились к этому серьезно в глубине души. Но даровали себе свободу, притворяясь, будто все это не столь важно.
При всем своем бесстрашии девочки Митфорд все же соблюдали определенные границы. Они являют нам смесь церемонности и анархии, которую теперь уж не воспроизвести: революционерки с личным парикмахером, ниспровергатели авторитетов, которым в голову бы не пришло налить молоко прежде заварки, трансгрессоры в твиде. И этот неистребимо дамский способ нарушать правила тоже очаровывает женщин.
Разумеется, очаровали они и меня. Помню, как Диана изящно движется по светлой и полной воздуха квартире в Седьмом округе Парижа, высокая и хрупкая, словно длинная прядь серовато-белого дыма, невероятно красивая в свои девяносто лет. Скулы как будто точенные резцом Пановы, щеки чуть приподнимаются в беззвучном митфордианском смехе. И я слышу, как она говорит, легко, мимоходом: «У меня была фантастическая жизнь». Или Дебора — спокойная, сильная — сидит, подняв повыше ноги на приступочке, в просторной и неформальной гостиной в Чэтсуорте, читая мне нотацию: женщина должна обзавестись мужем и детьми, «все как следует», и хотя это наставление полностью противоречит моим планам, я почему-то так и не смогу от него отмахнуться. И Нэнси, замечательная Нэнси, создательница митфордианского мифа, наделенная острым умом, романтичностью, цинизмом, счастливым умением радовать читателя каждым поворотом фразы, — когда я впервые, примерно в тринадцать лет, ее прочла, я едва могла поверить (так придавили меня Элиот и Харди), что подобное удовольствие дозволено, что книга может быть не глыбой, а легче вздоха и тем не менее сообщать вечные истины. Мало кто из женщин может устоять перед Нэнси (ее сестрам это удавалось, но это отдельная история). Силуэт от Диора, французские бульдоги, пружинящая энергия, проницательные «глупства», любовь к парижскому остроумию и изяществу семнадцатого века, ее манера обозначать идеальный вечер как «долгие часы улыбок и любезностей» — все это отвечает женской потребности в элегантности посреди неэлегантного века. Но есть и большее: подлинная сущность, повседневная отвага под маской легкомыслия. И ее романы, как и романы Джейн Остин, можно истолковать неверно, в угоду женским фантазиям. Линда Рэдлет знакомится с неотразимым французским герцогом и поселяется в квартире в Шестнадцатом округе; Лиззи Беннет знакомится с грозно-загадочным владельцем великолепного имения, и обеих любят за их Подлинную Сущность… Разумеется, ради такого истолкования придется закрыть глаза на все, что таится в тени этих повествований. В романе «В поисках любви» настойчиво обозначено присутствие смерти, словно кладбище, видное из окна Астхолла. Как и «Гордость и предубеждение», этот роман не забывает предостеречь читательниц, что любовь и счастливая развязка — дело случая, что жизнь коротка и одно неосторожное движение пускает ее под откос. Но вечно пребудет — не только в этой книге, во всем, что написано Нэнси, — ее ясная утвердительность. Ее интонация — это призвук счастья, здорового юмора. Так я узнала, что легкость вполне сочетается с глубокой серьезностью, и это был ценный урок.
Вот почему я бесконечно благодарна Митфордам, митфордианству, которое делает жизнь более приятной, хотя и не прячет другую ее сторону. Позвольте еще пример скрытой реальности: после войны Диана страдала от жестоких мигреней, однако это не сказывалось ни на ее облике, ни на ее спокойной сдержанности. Можно считать это метафорой отношений с внутренними бурями. Немалую цену приходилось платить за принадлежность к такому секстету. В 1971 году Нэнси сказала в интервью, что сестры служили друг другу защитой «от жестокости жизни», на что Джессика, которая еще в 1944 году в похвалу своей дочери заметила: «В ней нет и следа Митфордов», возразила: самое жестокое в жизни — сами сестры, «и особенно Нэнси». Семейная динамика — типичная драма женского соперничества, с постоянными, на протяжении всей жизни, сменами конфигураций. Поначалу Нэнси ревновала к Пэм, позднее — к Диане, Джессика завидовала Деборе, Юнити находилась под обаянием Дианы, Нэнси заключила недоверчивый союз с Джессикой, Диана критиковала Нэнси — и так далее, до самой смерти. Но в целом, за одним существенным исключением, эти запутанные семейные узы не разрывались. Сестры часто встречались, большую часть жизни переписывались, но в восьмидесятые годы, когда наружу вышли некоторые секреты, — в частности, то, что Нэнси писала одной сестре насчет другой, уповая, что эти строки никогда не попадутся на глаза той, кого они обсуждали, — вся семейная структура вновь пошатнулась.
Или вот еще. В письме, адресованном Деборе в 1989 году, после предварительного интервью для «Дисков необитаемого острова», Диана высказала мнение, что — вопреки энтузиазму восторженной девицы, явившейся к ней с радио за интервью, — ничего особенного в сестрах не было, за исключением только Юнити. «Конечно, Пташка была оригинальна в высшей степени, но мы, все остальные, — ничуточки». Весь феномен создан и раздут газетами, решила она.
Ревизионистский подход к Митфордам стал бы попыткой рационально объяснить их тайну Можно, к примеру, рассматривать их как типичную семью высшего класса, в которой выросло множество дочерей, причем половина из них заинтересовалась экстремистскими, но крайне модными идеологиями. Вот и все? Да, для тех, кто отвергает миф о Митфордах, на этом и точка. За скобками остаются талант Нэнси и ее неумирающие книги, умение Деборы сохранять национальное достояние Чэтсуорт-хауса и мгновенно очаровывать таких мужчин, как Джон Кеннеди, беспощадный политический пыл Джессики, Дианы и бедняги Юнити, «оригинальной Пташки». Даже невероятное разнообразие их знакомств — Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди, Йозеф Геббельс, Ивлин Во, Адольф Гитлер, Люсьен Фрейд, Литтон Стрейчи, Майя Энджелоу, фельдмаршал Монтгомери… можно сколько угодно продолжать — свидетельствует о таких связях со своей эпохой, что они уже сами по себе имеют огромное значение.
Неча спорить!
Часть I
Families! Je vous hais!
Андре Жид. Les Nourritures terrestres[1] (1897)1
Опубликованное в 1955 году эссе Нэнси «Английская аристократия» запомнилось главным образом благодаря делению на «В» и «не-В», хотя на самом деле гораздо интереснее и глубже другая часть эссе, размышление о характере английского аристократа. Так, о воображаемом лорде Фортинбрасе автор сообщает, что из-за полного неумения обращаться с деньгами и поместьями «он заслуживал разорения и разорился». Она вполне могла подразумевать собственного отца, второго лорда Ридсдейла.
«Вы как раз достигли энергичного возраста двенадцати лет, — писал Ивлин Во в „Открытом письме“ в ответ на эссе Нэнси, — когда ваш отец унаследовал титул, и еще за год до того вероятность, что он когда-либо станет пэром, казалась ничтожной… Если бы ваш дядя не погиб в бою, если бы родившийся после его смерти ребенок не оказался девочкой, всех вас, чудесных деток, увезли бы на ранчо в Канаду или овцеводческую ферму в Новой Зеландии. Заманчиво было бы пофантазировать, как бы сложилась ваша жизнь в таком случае».
Разумеется, Во поддразнивал свою корреспондентку, но писал он правду. Дэвид Митфорд унаследовал титул после смерти своего старшего брата Климента, чья жена через несколько месяцев после гибели мужа родила дочь. Лишь этот поворот судьбы наделил девочек Митфорд титулом «достопочтенных». Иными словами, Во намекает, что роль описателя высшего класса взяла на себя отнюдь не самая знатная его представительница. И поскольку сам Во был всю жизнь заворожен той же темой, на социальный статус своего доброго друга Нэнси он взирал со смесью восторга, зависти и пристальной критики. Но и он не мог сбросить со счетов факт, существенный для них обоих, — древность семейства Митфорд. Знатность в романах середины XX века нередко обозначалась словами «такие-то прибыли в Англию с Вильгельмом Завоевателем», однако Митфорды обосновались на острове задолго до того и учили отличиям В от не-В еще англосаксов.
Хотя об этом Нэнси в своем эссе не упоминает, несомненно, ее тешила мысль, что ее предки владели Митфордом-возле-Морпета в царствование Эдуарда Исповедника, а дочь сэра Джона де Митфорда Вильгельм Завоеватель просватал за нормандского рыцаря. Замок сэра Джона, честь честью, с валом и рвом, построенный в Нортумберленде в XI веке и разрушенный примерно триста лет спустя, сейчас входит в число туристических достопримечательностей.
Нортумберлендские Митфорды — старшая ветвь семейства, а шесть сестер принадлежали к младшей линии, из Хэмпшира. Их предок барристер, тоже по имени Джон, удостоился в 1802 году титула лорда Ридсдейла. Годом ранее он ненадолго занял должность спикера палаты общин, а затем был назначен лорд-канцлером Ирландии и в этой должности не завоевал народной любви. В 1808 году он унаследовал от дяди своей жены Томаса Фримена Бэтсфорд — элегантный симметричный георгианский особняк среди ухоженного парка (сестры Митфорд иногда именовались двойной фамилией Фримен-Митфорд). В семействе не хватало прямых наследников: деду «девочек Митфорд», Элджернону Бертраму Митфорду, Бэтсфорд достался от троюродного дяди. При этом он не унаследовал титула, но в 1902 году титул был восстановлен, и Элджернон Митфорд стал первым бароном в этом новом отсчете.
Это был оригинальный человек, более замечательный даже, чем его сын Дэвид, увековеченный в романе «В поисках любви». Берти Митфорд во всей полноте обладал свирепой энергией «дяди Мэтью» без присущей тому скрытой пугливости (персонаж романа не решается покидать свой дом). Он был из тех викторианцев, кто проносился по жизни со стремительностью паровоза, у кого пар иссякал лишь на смертном одре. Некоторые черты сестер Митфорд восходят к нему: красивая внешность, нетривиальная мораль, умение писать то, что люди захотят прочесть, как и прочные связи с Германией.
Он родился в 1837 году, учился в Итоне и оксфордском колледже Крайст-Черч, после чего поступил на службу в Форин-офис и получил назначение в посольство в Санкт-Петербурге, затем в Пекине и Токио. Он говорил по-французски, по-русски, по-китайски и по-немецки, переводил на английский Канта и японских писателей. Этот его талант тоже достался потомкам: Дэвид безукоризненно владел французским, Юнити мгновенно освоила немецкий, чтобы общаться с высокопоставленными наци, Нэнси и Диана в разное время делали переводы‹1›. Писательский дар у Берти был не столь выдающийся, как у Нэнси, митфордианская ясность его прозы отчасти заглушается неизбежной для той эпохи «полнозвучностью». Тем не менее его «Сказки старой Японии» пользовались огромным успехом. Получив приглашение присутствовать на последнем официально предписанном харакири, он составил отчет, который рецензент назвал «одним из самых страшных и незабываемых» из виденных им текстов. Он также написал книгу о своем пребывании в Китае, «Атташе в Пекине» (годы спустя сын Дианы найдет его подлинный, без самоцензуры, пекинский дневник, «сплошь отвратительный СЕКС»). Автобиография под непритязательным заголовком «Мемуары» была опубликована незадолго до его смерти в 1916 году и стала «книгой года», как обычно становились впоследствии книги Нэнси. Обозреватель отмечал, что при довольно свободной композиции эта книга «совершенно свободна от пустословия» — это же будут говорить и о книгах Нэнси.
В 1874 году Дизраэли назначил Берти секретарем Управления общественных работ. Он занимался перестройкой Хемптон-корта и руководил реставрацией часовни Святого Петра в оковах в лондонском Тауэре, где захоронены останки Анны Болейн. Попутно он был избран членом парламента от Стратфорда-на-Эйвоне. Водил знакомство с Диккенсом, Уистлером, Браунингом, дружил с будущим королем Эдуардом VII, которого консультировал по устройству садов Букингемского дворца (его внучка Дебора, отобедав в 1961 году у королевы, сообщила, что вышел «пребольшущий парк», населенный полевыми мышами). На собственной земле, в Бэтсфорде, где он обосновался в 1886 году, Берти выращивал бамбук и создал роскошный дендрарий. Он также не пожалел средств, снес старый дом и выстроил волшебный замок цвета тусклого золота — мечта успешного викторианца, — который и поныне светится фантастическими красками на фоне котсуолдского неба.
Про него говорили, что он «всюду побывал и все видел». Да, он и впрямь объехал весь свет, хотя в его мемуарах чувствуется викторианец, совершающий «гранд-тур» в поисках не столько великих произведений культуры, сколько «впечатлений»: познакомиться с Гарибальди, поохотиться на буйвола. А его прогерманские симпатии — что за смесь наивности и общности интересов привлекла Берти к Хьюстону Стюарту Чемберлену, зятю Рихарда Вагнера, который оказал столь заметное интеллектуальное влияние на Гитлера?
Как любитель музыки Берти, естественно, ездил на фестиваль в Байрейте и охотно общался со всей семьей Вагнер. Особенно он сблизился с сыном композитора, Зигфридом, который был женат на уроженке Англии Уинифред Уильямс. Когда Нэнси в 1968 году посетила Байрейт, ее «пригласили навестить фрау Уинифред» и в ходе этого визита сообщили, что комнату Зигфрида украшала единственная фотография — Берти Митфорда. Уинифред, занимавшая в пору войны должность арт-директора фестиваля, была поклонницей Гитлера, и когда в 1938 году Юнити заболела в Байрейте, а затем, съездив, вопреки советам врачей, на нацистский марш-парад в Бреслау, окончательно слегла, именно Уинифред, по просьбе фюрера, взяла на себя заботу о ней. Второе имя Юнити, Валькирия, было дано ей в честь великой оперы по предложению деда, несмотря на то что родилась она как раз в год, когда началась Первая мировая.
Дружба первого барона Ридсдейла с Хьюстоном Стюартом Чемберленом проистекала, вероятно, из общей любви к Вагнеру, но оказалась достаточно близкой, чтобы побудить Берти написать предисловие к трактату Чемберлена Die Grundlagen, или «Основания XIX века», который был опубликован в переводе на английский в 1910 году. Англичанин по рождению, Чемберлен в 1916 году перешел в германское подданство. На его похоронах в 1927 году присутствовал Гитлер с ближайшими сподвижниками, а на родине его считали «худшим ренегатом за всю войну».
Но задолго до войны, до смены подданства и «ренегатства», Хьюстон в этом трактате не забыл включить в концепцию чистой «арийской расы» также и англичан. Эта раса, писал он, «наконец-то позволит наиболее одаренным индивидуумам посвятить свою жизнь надындивидуальной задаче». Легко себе представить, как эта формула приглянулась Гитлеру: по общему мнению, именно теории Чемберлена послужили философским обоснованием и оправданием политики нацистов.
В иных кругах его сравнивали с Кантом и Шопенгауэром. Правда, критически настроенный автор некролога в «Таймс» напоминал, что покойный Чемберлен свел историю к расистскому делению на «тевтонов и антитевтонов, овец и козлищ», — антитевтонами оказались евреи. Разумеется, страшный итог подобных размышлений в ту пору был еще не очевиден, а сам по себе грандиозный идеал общетевтонского союза вполне находил отклик в Англии, тем более что обе страны были связаны и древними общими корнями, и сравнительно недавними династическими, с тех пор как в 1714 году в Англии воцарилась Ганноверская династия. Не так уж удивительно, что Берти Митфорд поддался риторике Чемберлена, да еще и подкрепленной волнующими звуками вагнеровской оперы. Также вполне можно понять, почему многие аристократы, в том числе и сын Берти Дэвид, в тридцатые годы поддерживали Союз англо-германской дружбы, стремившийся предотвратить повторную войну между «тевтонами». Но вот поступки Юнити и, пусть и не в таком масштабе, Дианы подвергают серьезному испытанию нашу готовность понять. Что тут сказать? Разве что — они были воспитаны в соответствующем духе, они с детства впитали темное величие «Лоэнгрина» и «Фауста» и считали немцев родными. Том Митфорд, самый близкий для Дианы член семьи, думал точно так же. Брат Берти женился на немке, а в 1914 году сын Берти Джек устроил роскошную, широко освещавшуюся в прессе «англо-германскую свадьбу». Его женой стала наследница аристократического рода Мари фон Фридландер Фульд‹2›.
Но при всем своем космополитизме Берти не забывал о связи с родной землей, о местных корнях. Это было для него совершенно естественно. Так, он возглавлял Общество конного спорта в своем графстве, и Дэвид впоследствии, расплавив медали, выигранные отцовскими лошадьми, сделал себе золотой кубок. Его присутствие все еще ощущается в Мортон-ин-Марш, ближайшем к Бэтсфорду городе из такого же нарядного камня оттенка охры (цвет Глостершира), с отелем «Герб Ридсдейла» и крытым рынком, построенным за счет лорда. Оставил он и иные следы, ставшие для наследников сюрпризом: в 1962 году Дебора переслала Нэнси фотографию из журнала «Филд», на которой был запечатлен смотритель Бэтсфорда — вылитая копия их отца. «Спасибо за нового дядюшку, он прекрасен», — откликнулась Нэнси.
Берти — «дед-проказник», как именовала его Нэнси, — славился такого рода подвигами, как и его мать. Высказывались даже предположения, что и сам Берти зачат в прелюбодеянии и предков «девочек Митфорд» стоит поискать не среди Ридсдейлов, а среди Сефтонов. Причина таких слухов вполне очевидна: едва Берти сравнялось четыре года, его мать, леди Джорджина Эшбернэм (тоже из семьи, более древней, чем Нормандское завоевание), бежала с сыном графа Сефтона. Доказательств того, что будто Берти рожден от любовника, никогда не было, но публика охотно верила в это, как верила, что леди Диана Мэннерс (впоследствии Купер) — дочь издателя «Пэлл-Мэлл газетт». «Меня здорово вдохновляют рассуждения о бастардах в „Томе Джонсе“», — парировала Диана. Вероятно, примерно так же относился к этому и Берти. Его внучка писала в «Английской аристократии»: «Стыд — понятие буржуазное». Отголоски семейного скандала ничуть не повредили ни карьере Берти, ни личной жизни. Вскоре после того как Эдуард VII взошел в 1901 году на трон, Берти «отобедал с Его Величеством» в Виндзоре. Женился он на дочери графа Эйрли, леди Климентине Огилви, что означало существенное продвижение по социальной лестнице: Эйрли владели настоящим замком, не самостроем. Возможно, именно поэтому теща Берти до конца жизни именовала дочь девичьей фамилией.
Графиня Эйрли, дожившая до 90 лет и скончавшаяся в 1921 году, происходила из рода Стэнли, чьи письма Нэнси впоследствии издала. Два тома, «Леди Олдерли» и «Стэнли из Олдерли», вышли в 1938–1939 годах. («За исключением нескольких досадных мелочей в связи с Мюнхеном, мисс Митфорд образцово справилась со своей задачей», — отозвался обозреватель.) Про отца Нэнси и в некрологе писали, что он «унаследовал грозное величие олдерлийских Стэнли», и эта «грозность» несомненно была присуща Генриетте Бланш Эйрли. В четыре года Нэнси услышала от нее афоризм, достойный «Аббатства Даунтон»: «Нет ничего более жалкого, чем леди, не говорящая по-французски». Такого рода высказывания запоминались навсегда. Возможно, внучке передалось от Бланш и восхищение Вольтером, которым она в итоге увлеклась всерьез и написала в 1957 году «Влюбленного Вольтера». В отличие от Митфордов, Бланш не была склонна к шуткам, однако «снобистская сторона» Нэнси помогла ей оценить причастность бабушки к высотам культуры, дружбу с Томасом Карлайлом, Мэтью Арнольдом и Гладстоном. В юности Бланш посещала салон Холланд-хауса в Кенсингтоне, где последний гранд-бал давали в 1939 году, накануне войны, а столетием ранее это было средоточие общественной, политической и артистической жизни Лондона, там бывали все, от Дизраэли до Байрона. На смертном одре Нэнси мужественно шутила: хорошо бы попасть в «правильную компанию» на небесах. Устроило бы ее общество тех, кто бывал в Холланд-хаусе?
Еще в одном Бланш и Нэнси близки: обе привечали умных мужчин. Высказывались предположения, будто среди умных кавалеров Бланш числился Берти Митфорд, и потому-то Бланш, наблюдая вблизи донжуанские ухватки будущего зятя, противилась замужеству дочери.
Опять-таки кто может знать наверное? Почти несомненно, что у Берти был роман с сестрой его жены Бланш Хозьер, чья дочь Климентина была очень похожа на Дэвида Митфорда. Бланш, несчастливая в браке, неоднократно меняла любовников, но, по-видимому, подруге признавалась, что Климентина рождена от Берти‹3›. Внутрисемейные любовные связи продолжались и в следующем поколении: муж Климентины, Уинстон Черчилль, вроде бы имел близость с сестрой своей жены Нелли Ромилли, и ее сына Эсмонда, будущего мужа Джессики Митфорд, многие считали сыном Черчилля. Эсмонд поддерживал этот слух (он и внешне напоминал Черчилля), но главным образом по идеологическим соображениям: отпрыск правящей элиты, внебрачный сын первого лорда Адмиралтейства — с красным флагом в руках! Позднее Диана Мосли так описывала провокационное поведение Эсмонда: «Он делает это назло, подначивает»‹4›.
Разумеется, сестры Митфорд подобные сенсации воспринимали совершенно спокойно. Все шесть были искушенными женщинами, и если их родители, Дэвид и Сидни, вроде бы друг другу не изменяли, то дед по матери, Томас Гибсон Боулз, был слеплен из того же теста, что и Берти Митфорд. Незаконность его рождения сомнений не вызывала: член парламента Милнер Гибсон прижил сына от Сьюзен Боулз. Томас, рано лишившись жены (она погибла, пытаясь избавиться от пятой беременности, угрожавшей ее жизни, и ее судьба вплетена в финал «В поисках любви»), сменил нескольких любовниц, среди которых оказалась и гувернантка его дочерей Генриетта Шелл («Телло»), родившая ему трех сыновей. Никто даже не пытался «замести сор под ковер». Сидни признавала всех сводных братьев, и Телло, родившая затем еще одного сына от морского офицера, с которым познакомилась в Египте, дружила с девочками Митфорд‹5› и часто гостила в Астхолле. В 1894 году Томас Боулз назначил ее редактором основанного им журнала «Леди» — талантливая и свободная духом женщина проработала в этой должности четверть века. В 1930 году Джордж, сын Томаса, унаследовавший журнал, предоставил Нэнси одну из первых в ее жизни журналистских вакансий, еженедельную колонку с обзором светских событий, ироническую по тону, однако по содержанию слаще меда. Но нельзя сказать, что карьеру ей обеспечили связи, — к тому времени Нэнси уже писала заметки в «Вог», и первый ее роман, опубликованный в 1931 году («Шотландский танец»), вызвал у родственников скорее неудовольствие — как из-за «крайней непристойности»‹6›, так и потому, что молодая красивая писательница «выставлялась» (например, ее фотография заняла целую полосу в «Санди диспэтч»). Вероятно, поколение Томаса Боулза и Берти проявило бы в этом случае большую терпимость — и столь же вероятно, что литературные опыты обоих дедушек подали Нэнси идею взяться за перо и укрепили в ней уверенность: опубликовать свои труды будет несложно («У меня никогда не было с этим хлопот, — вспоминала она, — иначе я бы сразу сошла с дистанции»‹7›).
Некролог в «Таймс» называл датой рождения Томаса Боулза («Тапа») 1844 год, хотя сам он писал: «Думаю, я родился в 1841». Как и его приятель Берти Митфорд, Томас был человек энергичный, сверхпредприимчивый, и — это свойство унаследовала его дочь Сидни — скорее эксцентричный, чем очаровательный. Среди персонажей нашей истории он более всего, как это ни странно, напоминает сэра Освальда Мосли: оба они прославились своими выступлениями в парламенте и оба — то ли из принципа, то ли из упрямства — заняли крайнюю позицию, лишив себя таким образом надежд сделать карьеру на государственной службе. Тап, как сообщал автор некролога, «органически не переносил компромиссы, что, безусловно, стало главным препятствием для вхождения в кабинет». Подобным образом и Мосли за шесть лет (1918–1924) успел перейти от консерваторов к независимым, а от них — к лейбористам, а в 1931 году создал Новую партию, превратившуюся затем в Британский союз фашистов. Тап был избран в парламент в 1892 году от округа Кингс-Линн, где победили консерваторы, в 1906 году представлял фритредеров, вернулся в парламент в 1910 году уже как либерал и воссоединился с консерваторами в 1911 году. Он любил находиться в центре внимания, и эту черту унаследовали его внучки — кто в большей, кто в меньшей степени. Штаб-квартиру первой своей избирательной кампании он организовал на яхте и обращался к согражданам на местном норфолкском диалекте. Он подал в суд на Банк Англии и выиграл процесс, обвинив банк в том, что он-де проводил налоговые вычеты, установленные законом 1910 года, до принятия закона. Впечатляющий человек. Можно вообразить его нашим современником — как бы он рассказывал о своей борьбе в выпуске «Ньюснайт».
Почти агрессивное желание что-то делать можно увязать с особенностями воспитания Тапа (хотя он рос в отцовском доме, но образование получал во Франции). В итоге он фантастически многого достиг, основал не только «Леди», но и «Ярмарку тщеславия» и весьма преуспевал. То же самое можно сказать о Берти, который кроме Бэтсфорда с дендрарием и оленьим парком обладал великолепным домом на Кенсинггон-Хай-стрит. Нэнси вспоминает, как в пору Первой мировой войны сидела на террасе у «дедушки Ридсдейла» и вносила свой патриотический вклад, «как tricoteuse»[2]. Особняк ненадолго пережил своего владельца. В поздних романах Нэнси возникнет сюжет гибели лондонских семейных резиденций, она опишет, как на месте некоего особняка на Парк-лейн вырастает гостиница «цвета старческих зубов»‹8›. И в самом деле, дом Берти был встроен в отель «Майлстоун», который в 1926 году начал свою рекламную кампанию с почтительного уведомления: гости пройдутся по паркету, помнящему Эдуарда VII. Конюшню и задний двор превратили в «восхитительный ресторан», но отделанный дубовыми панелями бальный зал остался нетронутым, а также, как ни странно, и домашняя часовня. Словом, замечательное место; Берти и его супруга, вероятно, вкладывали в него огромные средства — правда, на рубеже веков Митфорды отнюдь не бедствовали.
Особняк Тапа Боулза на Лоундс-сквер был еще роскошнее, а распоряжалась в нем Сидни: лишившись в семь лет матери, она так вросла в жизнь своего отца, что порой, несмотря даже на присутствие Телло, брала на себя роль хозяйки. Вместе с младшей сестрой Дороти (она же Малютка) Сидни помогала отцу устраивать пикники на яхте и сидела за парадным обедом. С четырнадцати лет она управляла огромным домом в Найтсбридже. Убедительное свидетельство ее распорядительности, вот только детство было обкрадено. Матери она толком не знала, а отец обращался с ней словно со взрослой. Этим отчасти объясняется ее загадочный, замкнутый характер, так или иначе повлиявший на всех дочерей Сидни.
Она использовала французское слово, обозначавшее приверженок Робеспьера, которые устраивались со своим рукоделием поблизости от гильотины.
А сама Сидни находилась под сильным влиянием отца, перенимала его весьма своеобразные ухватки. Сделалась таким же педантом по части еды, как он, частенько писала в газеты о необходимости каждой семье выпекать домашний хлеб (одно из таких писем было опубликовано в ноябре 1939-го, вскоре после того как Юнити покушалась на самоубийство) и о преимуществах непастеризованного молока. (Дебора впоследствии бестрепетно сообщала, что опухоль на шее, которая осталась у нее на всю жизнь, появилась благодаря молоку от принадлежащих матери коров: в стаде гернсиек случилась эпидемия туберкулеза.) «Женщины должны приложить все силы к изучению здоровой пищи и соответствующих предписаний, начиная с Законов Моисеевых», — писала в «Таймс» Сидни. А Тап и вовсе считал, будто евреи не болеют раком. Он не доверял врачам, и Сидни вслед за ним утверждала, что «правильное тело» самостоятельно исцелится от любой болезни. Джессике в двенадцать лет пришлось самой звонить врачу, когда у нее случился приступ аппендицита. Во всяком случае, так она пишет в «Достопочтенных и мятежниках» — мемуарах, которые Диана, Дебора и Нэнси относили скорее к вымыслу, чем к фактографии. Например, Джессика утверждала, что вырезанный у нее аппендикс она за один фунт продала Деборе. Дебора возражала: это невозможно хотя бы потому, что в ту пору она не располагала такими деньгами. Это лишь один из примеров бесконечно повторяющихся правды и лжи, многократно умножаемых в зачарованном кругу сестер Митфорд.
2
При всей странности такого устройства жизни вполне вероятно, что быть хозяйкой в доме требовательного, непростого в обращении, но чрезвычайно бодрого духом Томаса Гибсона Боулза вполне подходило Сидни. Она была любознательна («хоть в Гиртон»[3]), а Тап окружал себя умными людьми. Она любила его усадьбу в Уилтшире, архитектура XVIII века восхищала ее; никогда больше ей не доведется жить в такой обстановке. Сидни, как и отец, ходила под парусами, а он порой проводил несколько месяцев подряд, целое идиллическое лето, на маленькой яхте в таких парадизах художников, как Трувиль и Довиль. «Моя мать обожала море и смотрела на него глазами Тиссо, а не Конрада», — писала Нэнси‹9›. В 1963 году в некрологе друг семьи Джеймс Лиз-Милн утверждал, что она «воспринимала жизнь с философской отрешенностью морехода» — интересная мысль. Он также назвал ее необыкновенной женщиной, добавив, что было бы странно, если бы дочь Томаса Гибсона Боулза вышла иной.
Ее будущий муж Дэвид Митфорд (он был на пару лет старше и родился в 1878 году) тоже мог похвастаться незаурядным отцом. Правда, все качества отца явственнее проступали в первенце и наследнике, Клименте. Он был образцовый юноша — добрый, умный, всеми любимый. С Дэвидом случались проблемы. Климент учился в Итоне, Дэвид в Рэдли. Климент служил младшим лейтенантом в славном Десятом гусарском полку, а Дэвид, проваливший письменный экзамен в Сэндхерст, отправился разводить чай на плантациях Цейлона.
Но война — великий уравнитель. Оба брата сражались с бурами, Дэвид оказался в рядах Нортумберлендских стрелков и, как и списанный с него дядя Мэтью, был храбрым бойцом. Его назначили адъютантом, он получил (наконец-то догнав брата) чин лейтенанта и поверил, что перед ним открывается желанная военная карьера. В 1901 году он просил отца купить ему офицерский патент, но в марте 1902 года пришло сообщение, что он «опасно ранен». Далее краткие сводки, публиковавшиеся в «Таймс», то обнадеживали «благоприятным прогнозом», то пугали: «пулевое ранение чрезвычайно тяжелое». Он пролежал четыре дня в бычьем фургоне, рана в груди кишела червями, одно легкое схлопнулось — что не мешало пациенту курить сигарету за сигаретой. В итоге его комиссовали и отправили домой. Так в 24 года он лишился всякой надежды на военную службу.
Армейская жизнь ему бы подошла, при его небрежной галантности и неиссякаемой энергии. Он унаследовал напор Берти Митфорда, но без возможности дать выход своим силам. («Беда с моим папой была попросту в том, — скажет впоследствии Нэнси, — что ему нечем было заняться»‹10›.) Дэвид был не так образован, но во многих отношениях более чувствителен, чем Берти. Шумный, бравурный, неуверенный в себе. Срисованный с него дядя Мэтью передает этот парадокс, и ради комического эффекта бравурность усилена: дядюшка щелкает кнутом под окнами и охотится с гончими на детей. Нэнси рассказала о Дэвиде Митфорде правду, однако — и это было неизбежно — не всю правду. Опять-таки дядя Мэтью — образец супружеской верности, более того, он обожает витающую порой в облаках, но вполне проницательную тетю Сэди, их брак изображен как тихое и устойчивое счастье. Реальная жизнь несколько сложнее.
Дэвида Митфорда и Сидни Боулз познакомили их отцы: в 1894 году Тап поехал в Бэтсфорд навестить своего друга Берти и прихватил с собой Сидни. Неудивительно, что Дэвид — поразительный красавец — завоевал ее сердце (как неудивительно, что эта пара произвела семерых красавцев детей). Десять лет спустя они обвенчались в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. К тому времени чаши весов выровнялись или даже сместились в пользу Сидни: Дэвид все еще был, конечно, красив, но слегка перекошен из-за отсутствия одного легкого, а Сидни расцвела. К выходу в свет она получила наконец подобающие девушке наряды (до той поры отец держал ее преимущественно в матросских костюмчиках), и, как писал Джеймс Лиз-Милн, превознося Сидни в некрологе, у нее был «божественной формы рот, с чуть опущенными краями губ, выражавший целый мир и юмора и трагедии». А еще она обладала способностью контролировать и сдерживать, обрекая уязвимого мужчину постоянно стремиться ей угодить. Тот факт, что Дэвид сделал предложение после тяжелого ранения, утратив надежды на военную карьеру, мог бы навести на мысль, что он женился, когда не осталось других способов распорядиться своей жизнью. Однако он написал Сидни любовное письмо из больницы в Южной Африке и просил передать это послание ей в случае его смерти: чувства были искренними, а ранение, видимо, побудило к действию.
Сидни тем временем, по слухам, влюбилась в другого, но согласилась выйти за Дэвида, чтобы исцелить свою рану Причины, по которым люди вступают в брак, часто запутаны, даже если напрашивается простое объяснение: физическая привлекательность. Возможно, Дэвиду было бы лучше с более теплой женой, а Сидни — с более сильным мужчиной, похожим на ее отца. И все же этот союз оказался прочным и достаточно схожим со счастливой картинкой, нарисованной в «В поисках любви», пока тридцатые годы не подвергли его жестоким испытаниям. В 1937 году Дэвид выступил в палате пэров против поправки к Закону о браке — предлагалось запретить разводы в первые пять лет после свадьбы, и Дэвид хотел отменить это условие. Насильно удерживая людей вместе, им причиняют лишние страдания, заявил он‹11›. Для такого консерватора это был на редкость либеральный подход. Вряд ли при этом он хлопотал о себе — его отношения с Сидни в ту пору еще не пострадали, — но его мир начал распадаться, когда Диана рассталась с первым мужем, а Джессика бежала из дома. Все безусловные вещи, в том числе брак как пожизненное обязательство, подверглись пересмотру.
Но в 1904 году, когда пара вроде Дэвида и Сидни Митфорд могла жить в тылу Слоан-сквер с шестью слугами на тысячу фунтов в год, грядущие катаклизмы никто себе и вообразить не мог. Дэвид и Сидни казались самыми заурядными представителями своего сословия. Единственное, что могло привлечь внимание, — их замечательная красота. Они выросли в несколько необычных семьях, но это само по себе было как раз обычно. И если задним числом в родословной Митфордов обнаруживаются творческое начало и музыкальность, ум и шарм, эксцентричность, любовь к Германии и так далее, то все-таки подобный ретроспективный анализ близок к шарлатанству вроде хиромантии. Когда в ноябре 1904 года на свет появилась Нэнси, ничто, по совести говоря, не предвещало, что из нее вырастет нечто большее, чем жена и мать приличного семейства. Но перед тем как ей исполнилось три года, родилась вторая девочка, и с этого момента возникла основная формировавшая семью сила — соперничество между сестрами. Рождение Памелы, писала потом Нэнси, «повергло меня в ярость, не утихавшую лет двадцать». Шутка, да не совсем. Однажды, вскоре после рождения сестры, Нэнси, прогуливавшаяся с родителями по лондонской улице, начала неистово кричать. Ее никак не удавалось остановить, пока она вдруг сама не сказала: «Надо мной даже эти дома смеются». Мать, естественно, была смущена и огорчена и позднее уже взрослой дочери писала: «Ты часто впадала в ярость и могла опозорить нас посреди улицы». Отец обожал Нэнси и был к ней более снисходителен. Но ведь занятно, чтобы ребенок сказал такое про смеющиеся дома?
Те, кто знаком с Митфордами лишь по созданному Нэнси мифу, наверное, будут удивлены, услышав, что до Первой мировой войны это было сугубо городское семейство. Ее Рэдлеты вросли в свое имение, их жизнь определялось могучей красотой сменяющих друг друга сезонов, любовь к охоте въелась им «в кровь и проникла до мозга костей», и именно этим обусловлена их свобода. Но первые десять лет детства Нэнси — тогда уже родились и Пэм, и Том в 1909-м, а год спустя Диана — жизнь семьи была преимущественно связана с Лондоном. Разумеется, с лучшим районом Лондона, поблизости от магазинов «Харродс» и «Армз и Нейви», но все же эта жизнь протекала среди городских улиц, пробок (тогда еще из карет и кэбов), в стесненности. Вся природа, какую дети в ту пору видели, сводилась к Кенсингтонскому парку, их дважды в день водила туда няня. Дэвид работал в «Леди» (немыслимо представить себе дядю Мэтью на такой службе или хотя бы поместить его на Ковент-гарден), пополняя таким образом 400 фунтов, которые выдавал ему ежегодно Берти, и содержание, выплачиваемое Сидни ее отцом.
Поначалу Митфорды жили в доме № 1 по Грэм-стрит, в «кукольном домике», по описанию Дианы, но это преувеличение, хотя, конечно, при четырех малышах дом был забит колясками и прислугой: кухарка, три горничные и две няни — Лора Дикс, она же обожаемая детьми Блор, и юная Ада Боуден. «Так чем же моя мать занималась день напролет? — вопрошала потом Нэнси. — Теперь, когда к ней подступаются с вопросами, она отвечает, что жила для нас. Если и так, никто не может утверждать, будто она жила с нами». Перепись 1911 года застала Дэвида и Сидни по этому адресу на Грэм-стрит вместе с кухаркой; дети и няни обозначены как «пансионеры» в доме на Андерклифф в Борнмуте. То был апрель, а летом того же года семья обзавелась собственным домом для отдыха, коттеджем Олд-Милл в Хай-Уикоме. Сначала Тап арендовал его, а потом Сидни выкупила (благоразумно: в случае нехватки средств, а такой случай у Митфордов наступал то и дело, этот дом мог послужить убежищем или дополнительным источником финансов, если его сдавать). В Уикоме семейство отправилось на поезде со всеми детьми и слугами, а также собаками, мышами, морскими свинками и ужами, а в тот год еще и с шетландским пони, которого Дэвид высмотрел накануне отъезда, возвращаясь из редакции «Леди» (первую ночь пони провел на лестничной площадке дома на Грэм-стрит). Лошадку не пустили в вагон для проводников, и тогда Дэвид выкупил целое купе третьего класса, чтобы разместить ее там. «Разумеется, в те времена путешествовать третьим классом было крайне необычно для ЛЮБОГО человека», — совершенно серьезно заявила Пэм с экрана телевизора, когда участвовала в документальном фильме‹12›. Похожая история произошла с Деборой: в разгар Второй мировой войны она повезла из Шотландии в Англию козу в третьем классе и ночью привела ее доить в гостиную первого класса, «чего мне делать не следовало»‹13›. Очень по-митфордиански: очаровательно, эксцентрично, как бы и неосознанно — если б они сами об этом не рассказывали.
Так и шла жизнь — от Эдвардианской эпохи (у Нэнси было мощное и, по ее мнению, ложное воспоминание о том, как ее родители в 1910 году рыдали, уткнувшись носами в окаймленные траурным кантом газеты с извещением о смерти короля) и далее в ту недолгую пору блаженного неведения, когда все вроде бы оставалось прежним, но на самом деле уже приуготовлялась великая перемена августа 1914-го. Климент, наследник Ридсдейла, женился на своей кузине леди Хелен Огилви, на свет появилась малышка Розмари. Берти Митфорда судьба щедро одарила сыновьями (их было пятеро, насколько известно), но все вместе они сумели породить лишь троих внуков. Дэвид собирался искать золото в Канаде и в первый раз отправился в штат Онтарио вместе с Сидни в 1913 году. Они жили в хижине в маленьком поселке старателей в Свастике, и там была зачата Юнити. Характерно для Дэвида и затеять такой дерзкий мужской план, и занять участок всего в миле от того места, где более везучие наткнулись на богатейшую жилу‹14›. Денег в итоге у Дэвида не прибавилось. Тем не менее, вернувшись в Англию, он перевез всю семью в большой дом в Кенсингтоне, на Виктория-роуд, где через четыре дня после начала войны родилась Юнити.
Война с Германией должна была показаться семидесятисемилетнему Берти Митфорду полной нелепостью. Его сын Джек не так давно праздновал в Берлине пышную свадьбу (другое дело, что его брак с фройляйн Фульд через год распался), его друг Хьюстон Стюарт Чемберлен снискал восхищение кайзера. Вероятно, Берти переживал далеко не столь сильный внутренний конфликт, как Юнити, которую четверть века спустя вражда между Британией и Германией буквально будет раздирать на части, и даже не столь сильный, как со временем Диана, Том и Сидни. Но досталось и ему, тем более что его сын Климент погиб в мае 1915 года под Ипром.
Нэнси, недолюбливавшая Германию, вспоминала: девчонкой она «изо всех сил молилась о начале войны»‹15›. Мечтала она в свои девять лет о том, как будет прятаться на дереве, подобно Робину Гуду, и оттуда стрелять во врагов. В итоге война действительно благоприятно сказалась на ее судьбе, однако Нэнси горько оплакивала смерть Климента и чувствовала себя виноватой. Его в семье обожали все. Памела потом вспоминала, что именно тогда впервые увидела, как плачут взрослые. В феврале 1915-го он получил орден «За достойную службу» после тяжелого ранения — Десятый гусарский полк был атакован в самом начале войны. Едва оправившись, вернулся в строй, но вскоре погиб. Его жена Хелен была на третьем месяце беременности, и через полгода, когда у нее снова родилась дочь (Климентина, которая в 1937 году поедет вместе с Юнити и Гитлером на фестиваль в Байрейте), Дэвид стал законным наследником титула и состояния лорда Ридсдейла.
Возраст (36 лет) да и отсутствие легкого не позволяли ему участвовать в боевых действиях, но все же он пошел на военную службу. Он, вероятно, был даже рад войне (пока не потерял брата): наконец-то востребован. Как бы ни утешала семейная жизнь, Дэвид явно рвался на волю — то на безбрежные просторы Онтарио, то в оксфордширское имение. Так и чувствуешь, что ежедневно на службу в «Леди» безрадостно брел прирученный тигр, только и мечтавший размять мышцы и прыгнуть. Неудивительно, что Дэвид убедил врачей отпустить его во Францию в группе офицерского резерва. Годным он даже близко не был, но в апреле 1915 года получил назначение офицером транспортной службы. Это считалось сравнительно легкой должностью, однако в скором времени состоялась вторая битва под Ипром. Тогда-то Дэвид и проявил в полной мере отвагу и расторопность. Он руководил снабжением, носясь через город галопом под нескончаемым обстрелом, порой и дважды за ночь, — да, этот человек был рожден для военной службы, увольнение из армии лишило его ясного пути в жизни. Его батальон ни на один час не оставался без боеприпасов и не потерял ни одного человека. Час высочайшего триумфа для Дэвида. Наверное, он был счастлив — но и страшно изнурен физически, а смерть Климента нанесла ему тяжелую душевную рану. Эти годы в разгар войны тяжело сказались на всех. Сидни тоже нелегко приходилось с пятью детьми в маленьком оксфордском доме, без жалованья от «Леди» доход заметно сократился. Впрочем, это не помешало супругам во время недолгого отпуска Дэвида зачать Джессику. Она родилась в сентябре 1917 года, к тому времени Дэвид был окончательно признан инвалидом и отправлен домой. Он вернулся уже как второй лорд Ридсдейл и прямо в мундире занял свое место в палате пэров.
Берти умер в августе 1916-го. Он успел опубликовать свои мемуары несколькими месяцами ранее, после смерти Климента, — заключительный акт неукротимой силы духа. Дэвид унаследовал примерно 17 000 фунтов наличными и 36 000 акров земли. Денег оказалось несколько меньше, чем могло бы быть, — Томас Боулз в 1921 году оставил вдвое большую сумму, — но Ридсдейлы жили в той свойственной концу века роскоши, что проистекала из безусловной веры в неисчерпаемость финансовых источников. Вдова Берти, Климентина, дочь графа, переехала в Нортумберленд и там прожила до 1932 года. На ее счету, когда она умерла, обнаружилось всего 1667 фунтов 13 шиллингов и 8 пенсов. Скорее всего, ей ни разу в голову не пришло заняться сведением баланса. И в браке она тратила деньги без ограничений, хотя больше всего пошло на перестройку Бэтсфорда. Дэвид сразу понял, что этот дом ему придется продать, попросту не хватало средств на содержание такой усадьбы. И все же состояние Митфордов оказалось весьма существенным, и пусть они получили не так много наличными, настоящее сокровище заключалось в земле, мебели и картинах. Иными словами, значительную часть этого богатства можно было обратить в деньги, что как нельзя лучше подходило человеку с характером Дэвида. Он принялся распродавать свое наследство уже в мае 1917-го, первым делом выставив на продажу Бэтсфорд («Тюдоровский особняк, воспроизведенный в буртонском камне… 350 акров парка… часть деревень возле Мортон-ин-Марш,800 акров леса»). Начав с Бэтсфорда, он уже не останавливался, распродавая все, чтобы избежать нужды, как выдуманный Нэнси лорд Фортинбрас. Ему досталось столько добра, что он смог сохранить множество замечательных вещиц — например, собранную отцом коллекцию китайских и японских вееров. Но перечень отправившегося на аукцион в первые же два года — картина Рейнольдса за 14 800, принадлежавшая Берти коллекция фарфора за 4600, тысячи акров в Оттербурне, графство Нортумберленд («возможно залегание угля»), имение Бэтсфорд — производит устрашающее впечатление беспомощности в финансовых вопросах.
Однако в 1919 году Дэвид еще владел основной частью наследия, деревней Свинбрук, форельей заводью в Уиндраше, множеством акров в пологой долине. «Все это твое», — сказала добрая и склонная к драматическим жестам Бланш Хозьер двенадцатилетней Нэнси, стоя с ней на вершине холма в Бэтсфорде, откуда открывался вид на большую часть Котсуолдса. «Вздор и чепуха! — отрезала Сидни, когда дочь прибежала к ней с этим замечательным известием. — У тебя нет ничего».
3
С этого и начались «Митфорды». Часть выручки от стремительной распродажи Дэвид использовал для приобретения тысячи акров, примыкавших к Свинбруку вместе с усадьбой Астхолл, где им предстояло прожить следующие семь лет. Все дети, за исключением Джессики и Деборы, которая тогда еще даже не родилась, сохранили воспоминания о Бэтсфорде. Они переселились в поместье в начале 1916 года, покончив с Лондоном. С 1917 года они жили в главном доме, стеснившись в нескольких комнатах, словно арендаторы, вдруг сделавшиеся владельцами. В особенности Нэнси — ей было без малого пятнадцать, когда Астхолл продали, — запала в память золотая сияющая слава, скрытая под чехлами от пыли, огромный бальный зал с немыслимой высоты сводчатым потолком, пять лестничных пролетов, длинные подоконники в комнатах с потускневшими стенными панелями. Аристократический образ жизни, какого у Нэнси никогда уже не будет (тут больше повезло Деборе), но она всегда могла возродить его как нечто несказанно прекрасное, о чем умела писать с насмешливым реализмом. К примеру, Хемптон, усадьба, где разворачиваются вступительные сцены «Любви в холодном климате», изображается схожим с Бэтсфордом — как пышный готический замок, построенный на месте непритязательного и милого здания в стиле английской неоклассики. («Это красиво, я полагаю, — отзывались о нем соседи, — но мне как-то не по вкусу.»)
Диана, которой на момент продажи исполнилось девять, запомнила Бэтсфорд как дом, где каждый мог всегда найти большую пустую комнату и почитать в одиночестве. Эту жгучую страсть к чтению разделяли Нэнси (позднее книги сделаются главным утешением для обеих сестер) и Том. В 1919 году, распродавая обстановку Бэтсфорда, Дэвид Митфорд поручил десятилетнему сыну отобрать книги, которые следует оставить себе, — Тома он считал книжным червем.
Эти трое обладали живым умом, и тот факт, что они сохранили его и в зрелые годы, служит доводом в пользу простейшей системы образования: научите детей читать, впустите их в обширную библиотеку вроде той, какую собрал Берти, а дальше пусть сами. Разумеется, этот метод (вообще-то полная противоположность «системе») оставил серьезные пробелы в знаниях, но самое важное было сделано — дети захотели учиться. Их также возили несколько раз в год в соседний Стратфорд-на-Эйвоне, Шекспир был для них знакомым именем. В доме жили две гувернантки, французская и английская, но основную работу дети проделали сами. Эти уединенные годы в Бэтсфорде сформировали старших детей, в меньшей степени они пошли во благо Памеле, страдавшей и от болезни, и от семейного расклада. В 1911 году Пэм переболела полиомиелитом и после него прихрамывала, одна нога осталась короче другой. Нэнси изводила ее беспощадно, а Пэм не умела себя защитить. Много позже, во время Всеобщей забастовки, сестры вместе работали в кафе, поили чаем сотрудников аварийных служб, и Нэнси, переодевшись бродяжкой, донимала сестру. Любой другой сразу разгадал бы этот маскарад, но Памела испугалась не на шутку. Как Памела на самом деле относилась к Нэнси, нам неведомо, потому что в некотором смысле Пэм выросла наиболее непроницаемой из всех сестер — не по-митфордиански пассивной, — однако она обладала собственным вариантом общесемейной уверенности в себе (более невозмутимым и тихим), а ее манера выражаться была на редкость естественной. Так, Гитлер, по ее отзыву, «в своем старом коричневом костюме похож на фермера». Суть митфордианского наречия заключается в том, чтобы прямо высказывать свое мнение, не отклоняясь ни на йоту, и в этом с Памелой никто не сравнится. Купив дорогущую молочную корову гернсийской породы, она с досадой сообщила: «Тварь бессумчатая». Подобные комически-откровенные выражения не давались даже Нэнси, хотя она охотно заимствовала их для своих книг.
Та роль, которую характер и обстоятельства отвели Пэм с ранних лет, явно была важна в общей структуре семьи. «Такой, как она, никогда не будет, даже отдаленно похожей на нее, правда?» — писала Дебора после ее смерти. Сколько бы Нэнси ни издевалась над ней, придумывая прозвища вроде Крошкодав (Пэм росла довольно полной, и всю жизнь у нее с едой были непростые отношения), Пэм вовсе не превращалась в забитую жертву — она была наделена природным внутренним достоинством. После смерти вспоминали главным образом ее поразительную доброту, но в чем-то она могла проявить столь же поразительную черствость (так, она не любила детей) и глухоту — например, пускала любимых такс (the Elies[4]) скакать без удержу по диванам Чэтсуорта. «Со своими штучками», — жаловалась Дебора Диане (типичное выражение). Памела служила тихим и неподвижным центром в секстете девочек Митфорд, неприступная и неуязвимая, наособицу и этим как раз уравновешивающая. Ее безумные и безмятежные высказывания более изменчивые сестры перебрасывали друг другу с упоенным восторгом и неизменной припиской: «Она дииивная». Джон Бетжемен, дважды делавший ей в 1932 году предложение, находил чисто английское очарование в скромном облике сельской жительницы. По сравнению с сестрами она может показаться пустым местом, но на самом деле ее присутствие было столь же явным, как одной из охотничьих лошадей ее деда, — и столь же невозмутимо она сносила укусы Нэнси, точно какой-нибудь мелкой мошки.
Итак, в Бэтсфорде семейная мозаика Митфордов в целом сложилась. Нэнси — черная королева, ослепительная, склонная повелевать. Пэм уклонялась от борьбы. Диана и Том, почти сверстники, сдержанные, прохладные, единодушные, — они оставались близкими друзьями и после того, как Том в 1918 году отправился в школу. Затем, уже в Астхолле, с рождением Деборы, младшие дети сформировали собственные группировки. Они выдумывали особые словечки, не довольствуясь оборотами вроде «неча спорить!», создавали практически непостижимые для окружающих версии английского языка, превращаясь в миниплемя внутри семьи. Юнити и Джессика именовали друг друга Буд и общались на «будледидже», который понимала только Дебора, но не отваживалась принять участие в разговоре. Это продолжалось и во взрослой жизни. «Шбусп со тфа пеззму», — писала Юнити Джессике в 1937 году, и это означало «спасибо за твое письмо», а далее она делала «моему доброму Буду» выволочку за побег из дома и сообщала, что Гитлер запретил немецким газетам публиковать скандальный отчет об этом событии, «очень мило с его стороны, правда же?». Близость между Юнити и Джессикой, укрепившуюся в ранней юности, не поколебало политическое противостояние: сестры обсуждали порой, не придется ли одной из них расстреливать другую, но оставались, как это ни странно, союзницами.
Такая же прочная связь существовала между Джессикой и Деборой в более раннем детстве. Они прозвали друг друга Hons, что означало не столько «достопочтенные» (Honourable), сколько «цыпы» (hens), поскольку их мать держала большой птичник. Эти двое говорили на «цыпьем» языке, и в зрелые годы их письма пестрели выражениями вроде «не забывай писать своей старой Цыпе». Тем не менее, с точки зрения Деборы, побег сестры привел к более глубокому разрыву, чем готова была признать сама Джессика, а Джессика впоследствии допускала, что Дебора вызывала у нее ревность‹16›. Несмотря на вынужденное постоянное общение двух самых младших сестер и непрестанную игру в Цып, отношения в этой паре были, вероятно, более односторонними, чем между Джессикой и Юнити, двумя будущими париями (хотя в детстве неспособность вписаться в социум явно проступала только у Юнити). Дебора же обладала на диво покладистым характером, и это вполне могло раздражать Джессику.
В 1936 году мать отправилась с тремя младшими в средиземноморский круиз. Возможно, Сидни предчувствовала неладное и пыталась, пока не поздно, отвлечь Юнити и Джессику от их крайностей. Однако Юнити твердо держалась уже усвоенной манеры: вступала на борту в споры с лекторшей левых взглядов (а лекции на корабле читала не кто иная, как герцогиня Атолл), в Испании нацепила значок со свастикой, и ее чуть не прибили. В «Достопочтенных и мятежниках» Джессика утверждает, что затем и сама наподдала сестре, попытавшись разъяснить ей смысл испанской Гражданской войны. В воспоминаниях Деборы это никак не отразилось, они сохраняют принципиально «нормальный» тон: на корабле она и Джессика продолжают забавляться в той очаровательно-проказливой манере, которая присуща младшим сестрам в романах Нэнси, обзывают безобидного ученого «профессором-потаскуном» (что также будет использовано в «Любви в холодном климате») и зачарованно таращатся на евнухов во дворце Топкапи («Дети, — сказала им Сидни, — даже и не вздумайте заговаривать о евнухах за ужином»). Рассказ Деборы изображает юных девушек, дурашливых и счастливых, однако Джессика потом писала, что в этом путешествии уже замышляла побег, который и осуществила спустя год.
Воспоминания сестер представляют разные версии детства Митфордов, как и роман «В поисках любви», и если бы не этот роман, то, возможно, другие мемуары не были бы написаны вовсе. Нэнси создала «бренд Митфордов», и следом за дело взялись Джессика, Диана и Дебора (подумывала написать книгу и Памела, но так и не собралась)‹17›. Диана предпочитала ясную, обнаженную прозу, отвергая фантазии. Дебора, которую Диана относила «к числу правдивых»‹18›, с наслаждением описывала эксцентричность своего семейства, но не впадала в сенсационный тон. Зато автобиография Джессики «Достопочтенные и мятежники» вышла столь пристрастной, что заметно уклоняется в область вымысла. «Бесстыжая, но в высшей степени занимательная» — так охарактеризовал эту книгу один из обозревателей. А еще эта автобиография чересчур точно подражала «В поисках любви». «Вот как я это понимаю, — писала Нэнси Ивлину Во, — во многих аспектах она стала воспринимать нашу семью, сама того не сознавая, глазами моих книг». Однако между версиями Нэнси и Джессики существовало также принципиальное отличие (помимо того, что роман заведомо не автобиография): Нэнси пишет радостно, а ее сестра — с горечью. «Достопочтенные и мятежники» полны многословных жалоб — на родителей, отказавшихся послать Джессику в школу, на узколобый консерватизм, в котором она была воспитана, и предрассудки правого толка, сковавшие ее детство и юность. Для Дэвида Ридсдейла, писала его дочь, весь мир состоял из чужаков, за исключением лишь некоторых членов семьи и «очень немногочисленных соседей по имению, краснолицых, одетых в твид, к которым он по неведомой причине проникся симпатией». Вполне предсказуемая картина: та же Нэнси, но без ее озорного гения. Однако в воспоминаниях Джессики появились и более гротескные, глубоко задевшие сестер выпады. Например, безо всяких на то оснований она заявила, что дядя Бертрам (в семье его звали Томми), служа мировым судьей, получал удовольствие от присутствия на смертной казни через повешение. Все это излагалось с большой легкостью, но у читателя не оставалось сомнений в том, кому тут следует сочувствовать.
«Достопочтенные и мятежники» задуманы очень умно, Джессика ухитрилась совместить несовместимое: разоблачить эксцентричных реакционеров и благодаря им продать большой тираж. Сестры сочли эту книгу нечестной. «Глупая старая Цыпа», — в характерном для нее тоне отзывалась Дебора, а Диану разбор этой книги в литературном приложении к «Таймс» возмутил так, что она разразилась опровержением. Более всего ее разъярил намек, будто сестрам Митфорд недоставало культуры и образования (как насчет бэтсфордской библиотеки?) и что родители активно сопротивлялись просвещению: «Презрение к интеллектуальным ценностям было вопросом индивидуального выбора для каждого ребенка, а не семейной необходимостью». «Обсервер», доверчиво заглотав россказни Джессики, точно церковные облатки, возглавил крестовый поход против Ридсдейлов. Дебора писала Нэнси, что их мать имела полное право подать в суд за намеки, будто она не занималась воспитанием детей. После смерти Сидни (через три года после выхода этой книги) автор некролога Джеймс Лиз-Милн воспользовался случаем, чтобы опровергнуть то карикатурное ее изображение. Нет ничего «столь далекого от истины, — писал он, — как популярное представление о покойной, навязанное „Достопочтенными и мятежниками“, словно о женщине, далекой от культуры, с ограниченными светскими понятиями». По словам Лиз-Милна, а уж в его образованности никто не сомневался, Сидни поощряла в детях интерес к искусству и «вполне вероятно, пробудила в них ту интеллектуальную независимость, которой они прославились».
Это почти наверняка правда. У Джессики на редкость традиционные взгляды для столь прогрессивного человека. Возможно, школа действительно привнесла бы в ее жизнь что-то, чего ей недоставало, но лишь человек, чье детство прошло не в школе, способен так идеализировать общее образование. Кстати говоря, Джессика и Дебора провели семестр в дневном заведении в Хай-Уикоме, когда им было соответственно около 11 и 9 лет. Джессике этого показалось мало, зато Деборе — более чем достаточно. «Я не понимала, чего учителя от меня хотят и почему». За обедом она вежливо поблагодарила: «Спасибо, не надо». В четырнадцать лет ее попробовали отдать на пятидневную неделю в Оксфорд, «без собаки, пони и няни»‹19›. Там она продержалась три дня и упала в обморок на уроке геометрии. Семестр она закончила приходящей ученицей, и на том ей разрешили бросить школу, за что будущая герцогиня вечно была благодарна матери (назойливые тетушки уговаривали Сидни проявить строгость). Больше всего школы выпало на долю Юнити, чья «интеллектуальная независимость» чересчур уж привольно развивалась в домашних условиях.
В 1929 году она отправилась в пансион Буши при колледже Святой Маргариты, два года спустя посещала в качестве приходящей ученицы лондонский Квинз-колледж, и из обоих учебных заведений ее исключили («нет, нет, попросили уйти», безнадежно уточняла Сидни). Она и не пыталась адаптироваться. Одноклассница запомнила, как Юнити «нарочно не хотела ничего понимать». Правда, ее и саму вроде бы огорчали такие неудачи‹20›. Если формальное образование ставило целью «социализировать» Юнити, успешной эту попытку никак не приходится считать. Напрашивается вывод: со школой или без итог был бы тот же.
Но для Джессики разница, очевидно, состояла в том, что подруга всех ее игр, Юнити, уезжала в школу, а она оставалась дома, — тогда, в 1929 году, впервые обнаружилось недовольство Джессики устройством семейной жизни. Нэнси, посещавшая в пять лет «Фрэнсис Холланд», тоже рвалась на свободу, хотя в ее случае это было скорее демонстративным, чем искренним желанием. В шестнадцать лет Нэнси отправили в «Хейтроп Касл», чтобы завершить ее образование. «Школа для нее была раем», — писала Диана (сама она приходила в ужас при одной мысли о пансионе и благополучно его избежала). Естественно, ведь для Нэнси школа стала чем-то новым, необычным, а главное — там она избавилась от сестер. «Каждую ночь она молилась о том, чтобы каким-нибудь таинственным способом, каким именно — предпочитала не вникать, снова стать единственным ребенком»‹21›. Да, с одной стороны, Нэнси мечтала остаться единственной, особенной, и чтобы на этот статус никто не покушался, избавиться от надоедливой свиты шумных сестренок, с другой — ей бы это не понравилось: исполненное желание оказывается не столь приятным, как виделось, и в одиночестве ее скука не приносила бы столько плодов.
4
В этом, разумеется, суть «девочек Митфорд»: в их коллективной жизни, против которой каждая на свой лад восставала — и которая сделала каждую из них столь уникальной. Образ сквайров в Астхолле, при известных преувеличениях, все же верен истине: жизнерадостные, своевольные и глубоко пустившие корни в сельскую почву Англии.
Сделавшись лордом Ридсдейлом, Дэвид возмечтал построить собственный дом на горе, на внешней границе Свинбрука. Астхолл для него был промежуточной остановкой. Но едва он перебрался в Астхолл, как его яростная энергия нашла выход в строительстве и переделках, он обустраивал конюшни, псарни, спальни и «галерею» — весьма полезное дополнение к дому, неортодоксальное, но вписавшееся в общий план. Галерея вела в библиотеку (она же музыкальный кабинет), в которую Дэвид превратил большой сарай. Этот сарай, отдельный небольшой дом в саду, позволил детям и в Астхолле находить уединение, каким они тешились в Бэтсфорде. Том, унаследовавший от деда любовь к музыке, мог тут без помех играть на пианино, а Диана и Нэнси читали, прислушиваясь к его мелодиям. Бах и Вальтер Скотт, Гендель и Бальзак, вершины человеческого творчества жадно поглощались молодежью в этом сарае посреди Оксфордшира, а вокруг кипела сельская жизнь — охота, стрельба, капканы; митфордианская жизнь — собаки, мыши, крысы, морские свинки, пони, здоровенькие светловолосые дети в джохпурах, болтавшие на будледидже и цыпьем наречии. Сидни с птичником, Дэвид с коллекцией кнутов. Это была прекрасная жизнь, пока она длилась.
Сам Астхолл, красивый и неформальный, обладал драгоценным качеством домашности. У Сидни имелся талант интерьерного дизайнера (он перешел от нее к Нэнси), и Диана впоследствии вспоминала, с каким природным изяществом мать обставляла дом. Китайские ширмы Берти пригодились, чтобы защититься от сквозняков в длинном, отделанном панелями холле с каминами в обоих концах и окнами по обеим длинным стенам. Японские ширмы, разрисованные хищными птицами, отправились в столовую. За окнами гостиной виднелась церковь — так близко, что составляла единый ансамбль с домом, дети ходили туда к вечерне и однажды выслушали проповедь о дурном поведении тех, «кто с криком гоняет собак по святой Божьей земле». Упрек адресовался непосредственно Дэвиду, частенько срезавшему с гончими путь через кладбище. С четырнадцати лет Диана играла в церкви на старинном органе, а деревенский мальчишка раздувал меха. «Я пользовалась обеими педалями — для шума и для пущего пафоса». Сестры Митфорд ездили верхом, охотились, играли в теннис, учились танцевать — «все у нас выходило скверно», писала Диана‹22›, но этот растущий, расползающийся дом составлял основу их бытия: промозглая классная комната у подножия величественной дубовой лестницы, легендарный полтергейст, стягивавший простыни с постели кухарки, волшебный сарай.
«В поисках любви» не содержит ничего похожего на сарай в Астхолле, вместо него юные Рэдлеты используют в качестве убежища кладовку В подобного рода большой кладовке для белья в Свинбруке проводили заседания «общества Цып» Джессика и Дебора (альтернативой служила старая печь коттеджа в Хай-Уикоме), где они и присоединявшаяся к ним Юнити говорили на своих тайных языках. Нэнси к моменту переезда в Свинбрук исполнился двадцать один год, уже не по возрасту прятаться в кладовке, но она перенесла игру своих младших сестренок в роман и превратила в тотем, в метафорическое средоточие митфордианской мифологии. В сюжете «В поисках любви» это место используется вполне прагматично: там подростки отогреваются в рождественские морозы, обмениваются новостями и обсуждают запретные темы деторождения и абортов («Прыжки с высоты и горячие ванны, это уж непременно»). Линда, главная героиня романа, уже взрослая, в ожидании родов прячется там же, с собакой у ног, и перечитывает сказки.
Рэдлеты тоже обходятся без образования, за исключением их кузины и рассказчицы этой истории Фэнни — она посещает «ужасное заведение для среднего класса», по отзыву ее дяди Мэтью, где учат «наливать молоко прежде чая». Упоминается, но мимоходом, обширный выбор книг у Рэдлетов, их домашняя библиотека, «надежное собрание XIX века, принадлежавшее деду, чрезвычайно начитанному джентльмену», и Нэнси уточняет: подобного рода «судорожное чтение», детство самоучек, ни в коей мере не может заменить регулярной школы. Рэдлеты (Митфорды) нахватались изрядно знаний и «позолотили его собственной оригинальностью», но не умеют сосредотачиваться и не выносят скуку. Вся книга пронизана пониманием: эти молодые люди недостаточно подготовлены к жизни — во всяком случае, к современности. Эта мысль тревожит Линду, обладающую интуитивным умом, но слишком малой толикой здравого смысла.
Здесь Нэнси без лишней жесткости, исподволь, критикует собственное роскошное и вместе с тем дикарское воспитание, попустительское отношение к учебе, систему гувернанток и снобистское презрение к школе («Мой отец опасался, что от игры в хоккей на траве икры сделаются толстыми, — вспоминала она. — Он был решительно настроен против толстых икр»‹23›). Вообще-то для девочек высшего класса в ту эпоху домашнее обучение не представляло особой редкости. Леди Диана Купер как-то проговорилась насчет родительских страхов, как бы дочь, пойдя в школу, не начала носить челку (а Диана Мосли прокомментировала: скажи нечто подобное Нэнси, это попало бы в передовицы газет).
Среди гувернанток попадались неудачные, как та, которая вздумала учить Юнити, Джессику и Дебору мелким кражам из магазинов («прячь-в-карманчик»), и другая, малорослая, которую Юнити подхватывала и усаживала на шкаф. Но в Бэтсфорде девочкам повезло: Ванда Сереза (Зелла), учившая их французскому и вышедшая потом замуж за англичанина, стала близкой подругой Нэнси и навещала Диану в Холлоуэе. Мисс Мирамс, тоже занимавшаяся с юными Митфордами в Бэтсфорде, казалась Диане «довольно суровой», но сумела подготовить Тома к экзаменам в «Локерс-парк» — он поступил в эту школу даже не без блеска. Мисс Хасси работала по одобренной Сидни программе PNEU‹24›; она появилась в Астхолле в начале 1920-х, а потом еще десять лет преподавала в Свинбруке, охватив всех девочек, за исключением Нэнси. Она оказалась чрезвычайно компетентной, хотя приспособить занятия к столь разным возрастам и способностям было непросто (Пэм, по ее позднейшим отзывам, «несколько отставала»‹25›). И в обморок при виде принадлежавшей Юнити змейки по кличке Энид, обернувшейся вокруг цепочки сливного бачка, она, вопреки тому, что утверждается в «Достопочтенных и мятежниках», не падала (змея принадлежала Диане, это был «безобидный ужик», и никто из-за него сознания не терял. Джессика в очередной раз вольно распорядилась фактами). Роман уже задал эту тему и пустил собак по следу: гувернантки Рэдлетов покидали дом, едва приехав, насмерть напуганные дядюшкой Мэтью и его кнутом. Джессика — талантливая на свой лад, но как журналистка, а не как писательница — подхватывала подобные фантазии и уносилась на их крыльях, а потом назвала вымысел автобиографией.
Разумеется, и Нэнси под прозрачным покровом художественного сюжета поставляла читателям то, что они принимали за подлинный рассказ о ее детстве. В основе своей он и был подлинным, и не всегда так уж просто найти точки, в которых сюжет отклоняется от правды. Взять хотя бы разговор об образовании — да, Нэнси ведет его всерьез. Отчасти. Она завидует той глубине знаний, какой обладают ее умные знакомцы мужчины, в том числе ее брат Том («не забывайте, я необразованная женщина», сокрушалась она в письме Ивлину Во). Но в то же время роман рассказывает и другую историю, скрывающуюся под этой поверхностью. Получившая школьное образование Фэнни — прекрасный человек, но не обладает и каплей пьянящего очарования Рэдлетов-Митфордов, которым Нэнси гордилась, не особенно это скрывая (и на котором неплохо зарабатывала). Более того, когда дядя Мэтью попросил Фэнни рассказать о Георге III, все, что она смогла выдавить из себя: «Он был королем. И он сошел с ума», а Линда («слава богу, ты-то у нас необразованная») вываливает множество бессвязных, но гораздо более интересных фактов. Что же касается опасений, что дети никогда не смогут сосредоточиться на какой-то задаче… Нэнси случалось написать книгу за три месяца, Джессика стала проводить серьезные журналистские расследования, статьи Дианы отличались высочайшей точностью, а Дебора безупречно вела хозяйство в Чэтсуорте. Эти четверо достигли в жизни больше среднего, а если они следовали лишь за тем, что их интересовало, питало их воображение, то не так ли поступает большинство людей? Так что могла к этому добавить школа-пансион? Сестры постоянно влияли друг на друга, и если это влияние не всегда было благоприятным, то больше всего от него пострадала как раз Юнити — единственная, регулярно учившаяся в школе. В романе тетя Сэди, обеспокоенная своенравием подрастающих детей, спрашивает, стоит ли отдать их в школу: «Вы можете поручиться, что благодаря этому хоть что-то изменится к тому времени, как они вырастут?» И слышит в ответ: «Для ваших отпрысков, дьяволят эдаких, никакой разницы не будет».
5
Нэнси вовсе не стремилась уподобиться Фэнни, хотя и описывала с удовольствием и эту вымышленную героиню, и опекавшую ее разумную и добрую тетю Эмили, которая столь решительно отправила ее в школу. Отношения между Фэнни и Эмили, идеально переданные, да и сами близкие к идеалу, — вот о чем мечтала бы Нэнси. Отчасти эта сюжетная линия была завуалированной критикой собственных отношений с матерью.
Как и Джессика, Нэнси тоже оглядывалась на детские годы с обидой, и обида лишь усиливалась со временем. На исходе жизни она и вовсе грозила взяться за откровенную автобиографию. Но если Джессика обрушивалась на весь клан Митфордов и консервативную среду, то мишенью Нэнси почти исключительно служила Сидни. Эта загадочная женщина каждой из дочерей виделась по-разному, она сделалась символом их несовпадающих воспоминаний о едином прошлом, и хотя она была наименее известным членом семьи Митфорд, но для всех остальных оказалась точкой сборки.
Когда Нэнси уже недолго оставалось жить, да и Джессика давно вступила в зрелый возраст, сестры сформировали эпистолярный союз против матери. Человеку свойственно оглядываться на прошлое в поисках ключа, который мог бы отпереть тайну его личности, однако этот обмен письмами больше напоминает те союзы, которые юные Митфорды заключали против очередного врага, «антицыпы». И в данном случае архиантицыпой оказалась Сидни.
В 1971 году, через восемь лет после смерти матери, Нэнси призналась Джессике, что никогда не любила Сидни по той простой причине, что Сидни не любила ее, никогда не обнимала в детстве, была холодна и «саркастична» и в целом не проявляла никаких чувств к своему первенцу. «Я не упрекаю ее за это, родители имеют полное право не любить своих детей…» Джессика отвечала, что, подрастая, ненавидела мать, особенно в отрочестве, но позднее была «чрезвычайно к ней привязана». И все же «что абсолютно выжгло мне душу, — писала Джессика, — так это невозможность учиться в школе». Далее она повествовала о том, как примерно в одиннадцать лет, возмечтав о научной карьере, поехала на велосипеде в Бурфорд, поблизости от Свинбрука, и директор тамошней гимназии предложил ей сдать один-единственный экзамен для поступления. Джессика в восторге помчалась домой за официальным родительским согласием — и Сидни с порога отвергла ее план, даже не снизойдя до объяснений. Если эта история правдива, она действительно выставляет Сидни в неблагоприятном свете, но с большой вероятностью тут многое преувеличено, если не вовсе выдумано. Возможно ли, чтобы Джессика взяла штурмом кабинет директора? Дебора отказывалась в такое верить, к тому же, по ее воспоминаниям, Джессика в одиннадцать лет как раз училась в школе (они обе ходили в школу в Хай-Уикоме). Но суть этой повести не в фактах, а в настоявшейся обиде Джессики.
Столь же искренними были и страдания Нэнси, когда она отправляла свой блистательный ум блуждать в прошлом. Она прекрасно понимала, что воспитывалась в той среде и том сословии, где нежная близость между матерью и ребенком не поощряется. Она бы и сама, скорее всего, посмеялась над нынешним ориентированным на детей миром (впрочем, «В поисках любви» рисует именно такой мир), но ее проблемы с матерью были несколько иного рода. Нэнси интуитивно предполагала недостаток эмоциональной близости и, сама гордая и сдержанная — в точности такой образ Сидни сложился у нее, — реагировала так, что ее интуиция с неизбежностью должна была воплотиться в реальность. Например, в 1962 году она опубликовала эссе «Блор», панегирик няне Митфордов Лоре Дикс и косвенную критику матери. Нэнси расписывает, как до появления в 1910 году Блор детьми занималась «Недобрая Няня». Эту женщину уволили после того, как «с верхнего этажа на протяжении месяцев доносились несомненные звуки пыток». Неужто это правда? Легкий, ироничный стиль Нэнси оставляет нам достаточно свободы для скептических вопросов, и все же «несколько месяцев», этот очевидный намек на затянувшееся материнское безразличие, — умышленный выпад, как и сцена, в которой Недобрую Няню увольняет Дэвид Митфорд: «Моя мать слегла, как всегда поступала при обострении ситуации, предоставив отцу вершить расправу». И дальше появляется Блор. Ей было уже тридцать девять, ее могли счесть недостаточно проворной, чтобы усмотреть за четырьмя детьми, но она обеспечила себе эту работу в тот самый миг, когда при виде Дианы воскликнула с искренним восторгом: «О! Какая прелестная крошка!» (Диана, сообщает Нэнси в другом месте, «родилась красивой и всегда была красивой»‹26›.)
Восхваление Блор оборачивается нападками на Сидни, и та написала дочери, что вышел «очаровательный рассказ о нашей дорогой Блор, хотя почему-то она осталась несколько призрачной фигурой». («Ладно, пиши сама», — вертелось, должно быть, у Нэнси на языке.) Главное было передать душевную теплоту Блор, то, чего, по мнению Нэнси (да и Джессики), недоставало их матери. Блор также обладала невозмутимостью, типичной для английской няни, со всеми ее «да кто на тебя смотреть станет, лапонька» (Диане, в утро ее свадьбы) и «застудишься» (Нэнси, нарядившейся на первый в жизни бал). Это качество Нэнси раздувает до комического в романе 1951 года «Благословение»: английская нянюшка, попав в великолепный особняк в Провансе, отказывается от не менее великолепного французского обеда и просит повара сварить ей «рассыпчатую картошечку». Реальная Блор бывала порой забавна на такой лад, но обладала и скрытыми глубинами мудрости. Хотелось бы знать, что она думала по поводу кое-каких дел в доме, где служила. «Лучше бы тебе не ездить больше в Германию, лапонька, — посоветовала она как-то раз Юнити. — Уж эти тамошние мужчины». И ведь была, как отмечает Нэнси, вполне права. Блор умерла (в девяносто без малого лет) до публикации этого эссе, но несколькими годами ранее Нэнси послала ей «Благословение», предупредив, что няня в этом романе «ничуть не похожа на Вас, дорогая моя». Не совсем правда, и Блор, вероятно, об этом догадывалась, но Нэнси спешила извиниться.
Она пыталась выкрутиться и из конфликта с матерью, но тут все сложилось иначе. Прежде всего, она не соизволила предупредить Сидни заранее. Когда же послала ей копию эссе и Сидни приняла этот текст в штыки, Нэнси отреагировала характерной смесью вины и возмущения, она полуизвинялась, но нехотя и угрюмо, как подросток, а не как женщина пятидесяти семи лет. Недели через две она писала матери снова, явно переживая из-за этой ссоры и пытаясь перескочить через нее: сообщала как ни в чем не бывало какие-то случайные сплетни. В особенности ее задело, что Сидни придиралась к «Блор» куда больше, чем к «Достопочтенным и мятежникам», хотя, казалось бы, вот уж бунтарская книга. Возникает ощущение, что хотя обиженной в этой ситуации была Сидни, потери Нэнси намного существеннее, и она к тому же ничего не могла исправить, ведь ситуация была создана ее собственными руками. Так всегда складывалось в отношениях между этими двумя женщинами. Доходило до своего рода эмоционального пата, и тем мучительнее для Нэнси, что мать особо и не переживала, просила только, чтобы ее оставили в покое («Я хочу одного: чтобы ты не включала меня в свои книги»), и вовсе не добивалась внимания. Все остальные девочки Митфорд, за исключением Джессики, заняли сторону Сидни.
«ТАК стыдно расстраивать ее, и думать не могу», — писала Диана Деборе по поводу эссе «Блор». Дебора же обратилась к Нэнси в обычной своей манере и, сочетая здравый смысл с шутливой митфордианской речью, постаралась ей объяснить, что мать задета и обижать ее не очень-то правильно. Памелу, сообщала Диана, Джессика и Нэнси довели до отчаяния, наперебой жалуясь за ужином на свое горестное детство. «НЕПРАВДА!» — взвыла Пэм.
Сидни умерла в 1963-м, и, несмотря на чувство вины или как раз из-за той вины, которая окружала ее отношения с матерью, Нэнси все чаще подумывала взяться за мемуары. Она собиралась написать о своей взрослой жизни начиная с успеха «В поисках любви», но время от времени вспоминать события прошлого и через них объяснять, кем она в итоге стала. Книге этой не суждено было быть написанной, но еще в 1971 году Нэнси интенсивно обменивалась мыслями по этому поводу с другой страдалицей — Джессикой.
Диана обливала жестоким презрением двух немолодых дам, запершихся в «кладовке Цып». «Декка и Ноне — парочка злобных старух, обиженных на жизнь и назначивших виноватой за все несправедливости Мулю! Вот чушь-то!» Так она писала Деборе, и Дебора соглашалась с приговором, хотя и выражала эту же мысль более жизнерадостно: ее происходящее не так задевало, как старшую сестру, — поскольку она была моложе и обязанностей у нее хватало, возможно, она просто не слишком сосредотачивалась на этом конфликте. Она давала сестрам проницательные и добродушные указания, стараясь подправить их перекошенную точку зрения, — например, в письме Нэнси она выражала сомнение, что Джессика так уж горела желанием сделаться профессором, — и в целом, говоря современным языком, советовала им перерасти детские обиды и жить дальше. И это разумный совет. С другой стороны, Нэнси — писатель, писатели видят все иначе. Для писателя, говорит Мюриэл Спарк, все — материал, ничто не пропадает зря. В этом смысле жаль, конечно, что Нэнси так и не написала автобиографию, было бы лучше и для читателей, и для нее самой.
Насколько автобиография оказалась бы близка к истине — отдельный вопрос. Нелюбовь ее к Сидни вполне искренна, однако из этого еще не следует, что эта неприязнь полностью оправдана. Без сомнения, кое-какие сведения, упомянутые Нэнси в более ранних письмах, почти что мимоходом, иной раз ошеломляют. Например, когда муж Нэнси Питер Родд вызвался в начале Второй мировой добровольцем, теща заметила: «Полагаю, его скоро пристрелят». Когда врач, лечивший Нэнси от бесплодия, поинтересовался, не имела ли она контакта с сифилисом, Сидни ответила: ну да, первая няня действительно была заражена. Разумеется, такие подробности мы знаем только со слов Нэнси. Соответствуют ли они действительности? Замечание о Питере, скорее всего, отчасти правда, поскольку упоминается в двух письмах. Что касается истории про няню, как ни странно, Диана, обычно настроенная крайне скептически, пишет: от такого «волосы встают дыбом», то есть она поверила или почти поверила. Трудно себе представить, чтобы кто-то, пусть даже Нэнси, изобрел подобное обвинение на пустом месте (разве что начитавшись Ибсена?). Поскольку никаких признаков инфекции у самой Нэнси не обнаружилось, с ее стороны было уж вовсе нелепо и далее обвинять мать в своей беде, но, по крайней мере, она могла ее упрекать в недостатке сочувствия и живого воображения — как можно было столь бессердечно подкрепить худшие страхи дочери!
Или свидетельство Джессики. В 1971 году она писала Нэнси о том, как Сидни, примерно в тридцать лет («Она и в молодости бывала ужасна»), столкнулась в Дьеппе с насмерть перепуганной Нелли Ромилли (первой свекровью Джессики). Нелли, в ту пору совсем юная, еще незамужняя, проиграла десять фунтов и умоляла Сидни ссудить ей эту сумму, а Сидни вместо помощи «наябедничала» — прямиком отправилась к матери Нелли (Бланш Хозьер) и в подробностях уведомила ее о произошедшем. Источником этого рассказа, по словам Джессики, была сама Сидни, которая, очевидно (как многие доносчики), и спустя годы пребывала в уверенности, что поступила правильно. В этой части рассказ Джессики звучит правдоподобно и служит убедительным примером того холода, неодобрительного и неумолимого, который так отталкивал в матери и ее, и Нэнси (эти черты были свойственны и тете Дороти, Малютке). И все же Нэнси и Джессика могли бы не сводить счеты и не нянчиться со старыми обидами. Однако, возможно, такова уж природа писателя. Сидни, а также ее сестра могли бы в свой черед возложить всю вину на своего отца. Необычное и даже искаженное воспитание, без матери, в окружении отцовских любовниц, могло внушить им настороженность. Вероятно, Сидни с тех пор не очень любила женское общество. Любители психоанализа всегда отыщут в детях грехи отцов. Но психоанализ не объяснит нам, почему влияние стимулируется и принимается в той или иной степени.
Придется признать, что, даже с учетом сложной наследственности Сидни и склонности ее дочерей преувеличивать, ту женщину, что вырастает из общих воспоминаний Нэнси и Джессики, полюбить нелегко. Холодная, сдержанная, щедрая на критику и скупая на похвалу — едва ли это те качества, которые хочется видеть в матери. Но и сами девочки были чересчур требовательны, и не стоит упрекать Сидни за желание укрыться «на своем облаке», как это называется в романе «В поисках любви». Кстати, тетя Сэди выглядит вполне симпатично, поскольку она наделена тем митфордианским очарованием, которого недоставало Сидни. На этот образ Нэнси ссылалась, ища себе оправдания после эссе о Блор, но тщетно. Похоже, и тетушкой Сэди Сидни не желала быть.
Может быть, она просто не хотела иметь столько дочерей (по свидетельству Деборы, она даже не внесла рождение последней дочери в свой календарик 1920 года, что, впрочем, саму Дебору нисколько не задевало). Сидни было двадцать четыре года, когда родилась Нэнси; она была поразительно красива, привыкла к необычной и увлекательной жизни с отцом, заполненной флиртом, парусным спортом и катанием на коньках. Первые роды были трудными, и вскармливание грудью тоже, да и сама Нэнси, по правде говоря, всегда была трудной. Для женщины, не одаренной в большой степени материнским инстинктом, оказаться в окружении такого количества девочек, вопящих, красующихся, борющихся за внимание, — ситуация, требующая значительной внутренней адаптации и многих жертв. Нетрудно понять, почему от Сидни исходил холодок, и увидеть ситуацию как глазами Сидни, так и глазами Нэнси. Сложнее понять позицию Джессики, поскольку в целом сестры подтверждают, что после рождения Деборы, в сорок лет, Сидни заметно смягчилась (что тоже отражено в «В поисках любви»). Она изо всех сил старалась развлечь младших дочерей, и это в ту пору, когда не было возможности попросту плюхнуть их на диван перед телевизором. Под недовольными взглядами Джессики и Юнити она затевала праздники, путешествия, круизы — возможно, превысив меру. Позднее она, скорее всего, задавалась вопросом, стоило ли вкладывать такие усилия.
Но как же ее влияние сказалось на каждой из них! Они продолжали обсуждать ее личность, ее характер до самого конца. Даже Диана («О, я обожала мать»‹27›) в поздние годы признавалась, что ее «ужасала» строгость Сидни эпохи Астхолла. Она перечитала письма Памелы и укрепилась в этом убеждении. Напрашивается подозрение: будь авторами писем Нэнси и Джессика, Диана сбросила бы их со счетов как преувеличение, хотя сама в юности «прошла через отчуждение, досаду и даже презрение к Сидни»‹28› и не раз становилась жертвой материнского смертоносного неодобрения. Например, когда Диана ушла от мужа к сэру Освальду Мосли, мать запретила Джессике и Диане видеться с ней, и вот тогда Диана была обижена и зла, под стать Нэнси, однако, писала она спустя много лет, со временем предпочла забыть такие проявления «жестокости». Отчасти сказалось поведение Сидни во время войны, ее преданность дочери, заключенной в Холлоуэе, и симпатия к Мосли. Второй муж Дианы заметно повлиял на ее отношение к семье: он обожал Сидни и на дух не переносил Нэнси (она видела его насквозь, а мужчины такого склада этого не прощают). К тому же Сидни, как и супруги Мосли, решительно выступала против войны с Германией. Она познакомилась с Гитлером, он ей понравился, и она еще долго сохраняла надежду на примирение. В первую неделю войны она чуть не выкинула Нэнси из машины, потому что та позволила себе нелестно отозваться о Гитлере (так Нэнси изложила этот эпизод в письме Джессике, а Джессика тридцать лет спустя повторила в документальном фильме на Би-би-си‹29›). Подлая несправедливость, бушевала Диана. Никто ведь не знает, как противно, «мелочно» вела себя Нэнси с матерью. У Сидни терпение лопнуло. Вот в чем дело, а не в желании защитить фюрера. «Муля была такой замечательной, во сто крат замечательнее Нэнси», — жалостливо подытоживала Диана.
Дебора, как обычно, старалась все смягчить. Она единственная из девочек Митфорд сумела сохранить добрые отношения со всеми сестрами, она вечно выслушивала их признания и умело ими жонглировала. Не обращая внимания на всю эту чепуху насчет Гитлера, Дебора продолжала обожать Диану и уважала страстное желание сестры отстоять мать. Джессика, по мнению Деборы, постоянно выискивала повод, чтобы атаковать Сидни как реакционерку, представительницу правого крыла и так далее, но «старая Цыпа имела большое сердце». Нэнси — признавала Дебора — натура непростая: так и не сумела достаточно повзрослеть, чтобы принять мать такой, какая она есть, но из-за своей нелегкой жизни нуждалась в семейном козле отпущения. Дебора была снисходительнее к Нэнси, чем Диана. Однако младшая дочь была безоговорочно предана Сидни и понимала, что достойная миссис Беннет жизнь способна лишить умную женщину равновесия, и чем погружаться исступленно в дочерей, Сидни вполне разумно предпочла окружить себя броней холода и строгости. Нэнси материнская отчужденность приводила в отчаяние, Джессику бесила, а Юнити, возможно (всего лишь возможно), навсегда сделала неуравновешенной. Однако Дебору собственное воспитание вполне устраивало — или же оно никак на ней не отразилось. Отчужденность Сидни она передавала, предваряя каждую реплику матери протяжным вздохом: «Орррнннхх». Таким простым приемом, типичным для Деборы суховатым и проницательным абсурдом, удавалось нейтрализовать всякое ощущение холодности Сидни, пренебрежения повседневностью. «Расскажешь Муле что-нибудь потрясающее или пугающее, а в ответ порой: „Орррнннхх, малышон, подумать только…“ — и все». Если верить Деборе, сестры то и дело жаловались ей на мать, но ей самой, как младшей, было проще. Например, с двенадцати лет ее отпускали на охоту одну. «Хорошо леди Ридсдейл, — заметила как-то другая мать семейства. — У нее еще пять дочерей, если что и случится с Дебо, невелика беда…»
6
Под неоднозначное влияние Сидни подпал и друг семьи Джеймс Лиз-Милн. В 1963 году он писал в некрологе, что Сидни правила семьей с «невозмутимой безмятежностью, достоинством и обаянием». Ее «патрицианская сдержанность» вовсе не отпугивала, а была «одним из секретов ее очарования». Вспоминая, как он гостил в Астхолле и Свинбруке, автор некролога приходит к выводу: «Источником безоблачной радости тех дней — теперь я осознаю это с ностальгической печалью — была эта загадочная, щедрая, великодушная мать семейства».
Отчасти тут мог сказаться и тот факт, что Лиз-Милн боготворил Диану — он был старше ее на пару лет, считал идеалом и оставался ей верен во всех перипетиях ее непростого взросления — и несколько недолюбливал Нэнси. Впрочем, он с Нэнси приятельствовал, однако в письменных отзывах нередко ее критиковал. «Обед не доставил особого удовольствия: Нэнси вздумала сверкать и совершенно меня изнурила» — типичная запись в дневнике. Ее манера поддразнивать, утверждал он, сродни «острой маленькой колючке, едва прикрытой, словно наживка на крючке рыбака, буйством пестрых перышек». Многие люди, в том числе и Диана, считали Нэнси колючей. А вот Джон Бетжемен, близко знакомый с этой семьей, напротив, утверждал: «В Нэнси больше всего тепла». С присущей поэту проницательностью он мог угадать в ее отношениях с Сидни ту накапливаемую и с годами уплотнявшуюся горечь, которую не смягчила и смерть. Но с точки зрения тех, кто склонен к критике, отношения Нэнси с матерью выставляли ее в плохом свете. Лиз-Милн превозносил именно те качества Сидни, которые пробуждали в Нэнси и чувство вины, и уверенность, что ее не хотят понять. Хотелось бы знать, как она прочла этот текст. Джессике некролог понравился настолько, что она даже не стала возражать против замечаний в адрес «Достопочтенных и мятежников», но прошлась по поводу приписываемой Сидни «души моряка»: «Хорошо Лиз-Милну рассуждать, но кто бы пожелал себе в родители морехода?»‹30›
Лиз-Милн, как он рассказывает, одним из первых наблюдал «феномен Митфордов» в действии. В автобиографии он описывает ужин в Свинбруке в 1926-м, когда, по его словам, Дэвид закатил чудовищный скандал, возмутившись словами Лиз-Милна, что Англии следовало бы заключить союз с Германией (похоже, эта тема возникала нередко). Хозяин дома принялся орать: «Вы не знаете проклятых гуннов! Они хуже всех чертей в аду!» Сидни, эта святая, кое-как успокоила мужа («с выражением муки на ее милом лице»), но дело зашло слишком далеко. Все девочки, пишет Лиз-Милн, от двадцатилетней Нэнси до шестилетней Деборы, «переглянулись и запели в унисон: „Мы не хотим терять вас, / Но пробил час — идите“»[5].
Оказалось, что все это выдумки. Для человека, который не в восторге от творчества Нэнси, как он сам потом признал, Лиз-Милн оказался удивительно податлив на ее мифотворчество. Его воспоминания были опубликованы в 1970-м, через двадцать пять лет после «В поисках любви», и этот ужин — ни дать ни взять сцена из романа: беснующийся дядя Мэтью, спокойная тетушка Сэди, шесть красивых и живых сестер. «Девочки Митфорд» в автобиографии Лиз-Милна — литературный образ, а не воспоминание. На самом деле этот ужин состоялся в 1928-м и не завершился бодрой песенкой; более того, едва ли на нем присутствовали младшие сестры. Но вечер действительно перерос в резкую и непривычную для этой компании ссору, о чем ясно дает понять письмо Нэнси, написанное в ту пору Тому. Много лет спустя Диана отзывалась об этом эпизоде как об исключительном случае, когда «все» одновременно вышли из себя.
Лиз-Милн познакомился с Митфордами через Тома: они учились в одной подготовительной школе и стали в Итоне любовниками. В другом томе автобиографии Лиз-Милн передает эти отношения с поразительной и трогательной откровенностью: как воскресными вечерами за школьной часовней «мы с ним… страстно обнимались, губы к губам, тело к телу, каждый чувствовал прижавшийся к нему член другого…» После Итона, как пишет Лиз-Милн, Том имел исключительно гетеросексуальные связи, хотя в школе у него было еще несколько романов, в том числе с Хэмишем Сент-Клер-Эрскином, за которого Нэнси позднее мечтала выйти замуж. Однажды Том пригласил друга в Свинбрук и мать спросила, не против ли он разделить с гостем свою комнату. Сестры Тома хохотали до истерики. Иными словами, они прекрасно знали о затеях Тома — вероятно, от него же, — и тем страннее, что в будущем Нэнси не пожелает смириться с гомосексуальностью Хэмиша.
Том, как и Диана, идеально воплощает митфордианскую красоту и ум. Все семейные качества аккумулировались в нем, породив мужчину, который хотя и не вполне реализовался с точки зрения света, но оставил след, просто будучи таким, каким был. А был он рафинированным продуктом своего класса, с бесстрастным выражением лица и придирчивым умом. «Ничто, кроме самого лучшего, его не устраивало», — писал Лиз-Милн‹31›. Изысканный вкус — Милтон, Шопенгауэр, Бах — не был чужд и сестрам, особенно Диане. В Бэтсфорде, когда Том готовился к поступлению в школу, Нэнси состязалась с ним в начитанности, а позднее страхи Джессики остаться необразованной дурой были слегка смягчены благодаря советам Тома, какие книги читать.
После Итона — Том закончил его в 1927 году, незадолго до того как семья перебралась в Свинбрук, — вместо университета он отправился в путешествие по Европе. Учился музыке, некоторое время провел в Австрии в старинном замке Бернштейн у венгерского графа Януша фон Алмаши. Высказывалось предположение‹32›, что у Тома была связь с Алмаши (позднее такой же слух возник насчет Юнити), но никаких доказательств этого, кроме прежних предпочтений Тома, нет. Нэнси дразнила брата, мол, Сидни думает, его «австрийские друзья совсем завладели мальчиком», — хм, хм, — но на этот раз Том увлекся девушкой, Франческой Эрдоди. Потом он задержался в Берлине. Что-то в этой грандиозной и бескомпромиссной культуре пленяло юношу, как и его деда и двух его сестер.
Том мечтал о музыке, но в 1929 году начал учиться на юриста в Иннер-темпл. Приходилось думать о заработке: хотя Дэвид выделил сыну содержание, надежной финансовой поддержки не хватало. Его взял на работу Норман Биркетт, королевский адвокат с хорошей репутацией, и в 1935 году Том участвовал в защите Альмы Раттенбери, обвинявшейся в убийстве мужа (при соучастии молодого любовника) ‹33›. Это было одно из самых сенсационных дел того десятилетия. Джессика, только начавшая выезжать в свет, прокрадывалась на заседания суда в Олд-Бейли, на что ее отец реагировал примерно так же, как дядя Мэтью на упоминание детьми Оскара Уайльда.
Одновременно Том вращался и в высшем обществе. Среди его ближайших друзей значился троюродный брат, Рэндольф Черчилль, да и с самим Уинстоном, несмотря на разницу в тридцать пять лет, Том неплохо ладил. Он все время влюблялся, думали, что он женится на миленькой юной Пенелопе Дадли Уорд, но (как и тогдашний принц Уэльский) Том предпочитал опытных дам вроде графини Эрдоди и замужней принцессы де Фосиньи-Люсинь или же австрийской танцовщицы Тиллы Лош. Вероятно, их утонченность служила наилучшим противоядием от избыточной экспансивности «девочек Митфорд»; Лош, например, профессионально разыгрывала недотрогу, это было единственное качество, которого сестрам Тома явно недоставало.
Во всяком случае, женщины вовсе не внушали ему страха. Это поразительно: выросший в окружении такого количества женщин со столь сильными характерами, энергичных даже в скуке, беспощадных в соревновании — в том числе в состязании за его любовь, — он вполне мог сдаться и решить, что женщины его подавляют, как решил в свое время брат сестер Бронте. Он мог стесняться девочек, встать на сторону своих друзей мужчин против них, но он был исключительно добр к Нэнси, терзаемой бесплодной страстью к Хэмишу. Однажды в 1929 году он спас ее из «Кафе де Пари», куда она отправилась вместе с Хэмишем, имея семь шиллингов на двоих (вполне типично). «Мы запаниковали, — писала она подруге, — но тут явилась мрачная неодобрительная физия старого Мита». Том одолжил сестре фунт и увез ее в ночной клуб — идеальное для брата поведение, как и готовность пригласить Джессику в качестве своей пары на бал в Иннер-темпл (в 1935 году, в ее дебют). Том мог вырасти капризным, требовательным, любым, каким пожелал бы, учитывая, что, словно царевич Алексей, он был единственным желанным мальчиком, но он выбрал иной путь и справлялся с такой семейной ситуацией легко. Он был, как ни избито это выражение, аристократически невозмутим, причем истинная невозмутимость вовсе не подразумевала душевной холодности — Том всего лишь умел держаться на небольшой дистанции и как-то устраивался так, что все стремились ему угодить. Если это естественный результат воспитания рядом с сестрами, то, наверное, и лучший способ выжить в такой семье. Те две сестры, которые были Тому наиболее близки, Нэнси и Диана, выбирали мужчин, также склонных держаться отстраненно, таких, к кому женщина должна прийти сама.
Позднее биограф Юнити намекал на нездоровые отношения брата с сестрами: инцест вроде бы принадлежал к «излюбленным темам разговора», и «на долю Тома приходилось особенно много таких шуток»‹34›. Вполне можно себе представить, как Юнити бросает подзуживающие намеки, да и Нэнси, стремившаяся продемонстрировать отвагу и свободу, могла выражаться в таком духе. Однако не стоит делать далеко идущие выводы. Было бы удивительнее, если бы Тома не дразнили.
При всей взаимной и, кажется, действительно безоблачной привязанности, он заметно отличался от сестер. Например, Том страдал депрессиями, в то время как сестры с железной решимостью стремились быть счастливыми. Он радовался журчанию их неумолчных шуток, но не обладал подобным даром все обращать в смех. Тем не менее в 1930 году он выступил в роли «Бруно Хата», немецкого художника-авангардиста, прикованного к инвалидной коляске, и в таком виде явился на частную выставку, организованную Дианой и ее первым мужем (а каталог картин составил Ивлин Во). Бедняга Литтон Стрейчи даже купил одно из произведений Бруно Хата. Возможно, он всего лишь пытался угодить Диане, своей близкой подруге; к тому времени старшие девочки Митфорд уже освоили большой мир, с которым на протяжении десяти лет их связывал главным образом Том.
Том был необходим этой семье — как Памела, но более динамичным образом. Без него зазубренная конфигурация Нэнси — Диана — Юнити — Джессика полностью перевешивала бы. Тома все и уважали, и любили. Для этого всего-то и требовалось принадлежать к мужскому полу и не слишком высовываться, но Том делал гораздо больше, и впечатление, оставленное его личностью, долго не изглаживалось. И тем не менее Том остался загадкой. Позднее сестры будут рвать друг друга в клочья, споря, симпатизировал он фашистам или нет. Никто не мог в точности разобраться в его чувствах. В отличие от Рэдлетов из «В поисках любви» с их откровенностью, Том был мужским аналогом изысканной Полли Хемптон из «Любви в холодном климате»: как бы ни полыхали в нем эмоции, он все держал в себе. Полли отчасти списана с Дианы, однако Диана, при всей загадочности, высказывала свое мнение в письмах и воспоминаниях, а от Тома даже писем дошло очень мало. Это дружественные и проницательные послания, однако отнюдь не митфордианские по тону. Так, в 1930 году Том описывает матери перелет вдоль английского побережья всемером (в числе пассажиров были Черчилль и Т. Э. Лоуренс): «Весьма занятно лететь очень низко над кромкой моря, подпрыгивая над пирсами Брайтона и Литтлхемптона, к изумлению гуляющих там людей». В тот год Том, записавшийся в авиационный резерв, попал в аварию (его самолет врезался в дерево при попытке взлететь из Свинбрука). Его отвезли в больницу в Бурфорде, Том отделался сотрясением мозга, но нетрудно вообразить, как силен был в ту пору — когда несчастья еще не начали обрушиваться на Митфордов со всех сторон — ужас его родителей и как тщательно они этот ужас скрывали.
В 1930-м Том проводил каникулы с родителями и с набором сестер в Сен-Морице, они бесконечно катались на коньках. Еще одно семейное увлечение. В юности Сидни любила коньки и была влюблена в своего тренера. «Я бы даже позволила ему поцеловать меня», — записывала она в дневнике. Дэвид, в пятьдесят с небольшим лет все еще не знавший, куда деть избыток сил, часто наведывался на каток в Оксфорде вместе со своим братом Джеком. Оба они галантно флиртовали с инструкторшами родом из Австрии. Юнити завоевала в этом виде спорта бронзовую медаль, хотя однажды упала и ударилась лицом, забыв вовремя выставить вперед руки («Я ждала, к чему побудит меня инстинкт»). Том оказался достаточно талантлив, чтобы кататься в паре с олимпийской чемпионкой Соней Хени (ее не раз приглашали сниматься в голливудских фильмах), а Дебора, чьим партнером в Сен-Морице был министр-консерватор сэр Сэмюэль Хор, получила приглашение в британскую команду юниоров, но мать, даже не сообщив об этом младшей дочери, отвергла предложение (узнав об этом, Дебора, как она признается в автобиографии, почувствовала необычайно сильное по ее меркам сожаление). В этом семейном отдыхе принимал участие и Джек Митфорд, готовившийся к спуску на санях. При нем состояла гламурная хористка Шейла Грэм, которая позднее сделалась очень успешной колумнисткой в Голливуде (одной из первых возмутительниц спокойствия в журналистике) и последней любовью Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Одна из тех умненьких девиц, кому интуиция помогает извлечь выгоду из любой ситуации, Грэм охотно общалась с Митфордами — хотя в ту пору они еще ничем не прославились, — стремилась перенять их культурный, как ей казалось, разговор и аристократическую легкость. Возможно, это было в ее натуре, но в итоге она — пожалуй, уникальный случай — больше привязалась к мужчинам этой семьи, чем к женщинам. Разумеется, ее грезы главным образом сосредотачивались на Томе, «самом красивом мужчине, какого я видела в жизни… Я бы основала собственную аристократию — я бы хотела иметь от него детей, чтобы сыновья были похожи на саксонских королей»‹35›.
7
Сравнивали с саксонскими королями и Дэвида. Шейла Грэм, вероятно, была осведомлена о древности семейства Митфорд, но Дэвида она оценивала в первую очередь по внешности и манере держаться — «великолепные плечи», «чудесной лепки голова», неукротимый облик аристократа, господствующего благодаря своей силе, достигшего власти именно потому, что заведомо считал себя вправе господствовать.
Он производил впечатление человека, созданного для более простой эпохи. Точно так же изображала отца и Нэнси. «Такие люди… как дядя Мэтью, не были бы собой, если бы не царили всегда в собственных замках, — писала она в прощальном романе 1960 года „Не говорите Альфреду“. — Этот тип исчезает вместе с крестьянами, верховыми лошадьми и парижскими авеню, сменяясь, как и они, чем-то менее красочным и более утилитарным». К тому времени, как она взялась за этот роман, Дэвид уже покоился в могиле и давно перестал быть дядей Мэтью, но в художественном воображении Нэнси он сделался символом чего-то невозвратимого, более величественного и вольного, чем та эпоха, когда в реальности жили и он, и она.
Другие девочки Митфорд в целом признавали в образе дяди Мэтью своего отца. Кое в чем возражала Диана — «он не был до такой степени безумен»‹36›, — и вместе с Деборой они отвергали неоднократно повторявшееся в романах утверждение, будто он был свиреп. Но в отличие от своей жены Дэвид не вызывал глубоких разногласий среди дочерей. Он был теплее, чем Сидни, уязвимее, понятнее и слабее, несмотря на присущую этой породе уверенность в себе. Обделенный вниманием в детстве, затмеваемый харизматичным отцом и образцовым братом, обманувшийся в надежде сделать карьеру в армии, он тянулся к безмятежному божеству, каким была в юности Сидни, и в первые годы брака писал о своем великом счастье. Его, как и Тома, вполне устраивала жизнь в окружении женщин. Когда в 1920 году родилась Дебора, горничная Мейбл утверждала: «Я сразу по лицу его милости угадала, что опять девочка», но разочарование было мимолетным. Если первоначальные радости семейной жизни после медового месяца в столице несколько поблекли, то семь лет в Астхолле стали, безусловно, периодом величайшего довольства, какое знал Дэвид. Тут он мог поразмять ноги на собственной земле цвета фазаночкиного пера, караулить дичь в схронах, удить форель в Уиндраше, целых три мили которого принадлежали ему, занимать достойное место в мире среди своих людей. Диана позднее вспоминала, как в раннем детстве отец подхватывал ее и легко носил повсюду с собой, расхаживая по имению: «Успокоительное щекотание вельветовых рубчиков его куртки неотделимо от моих воспоминаний о нем»‹37›.
Дэвид был снисходительным отцом. Хотя — не чета современным родителям — он был, несомненно, отцом, а не приятелем своих детей, он с радостью входил в их мир, привлеченный их энергией, фантазией, порой даже плохим поведением, и во многом поощрял их (правда, не в интеллектуальном развитии). Пони, которого он доставил в Хай-Уиком в вагоне третьего класса, был куплен под мостом Блэкфрайрз, потому что Дэвид внезапно сообразил: вот чем можно порадовать детей. В Астхолле он запрудил реку и устроил купальню, чтобы дети могли научиться плавать, сначала с доской-поплавком. Возвращаясь домой с купания, в темно-синем саржевом одеянии и «кринолине» (смешной юбочке, надеваемой скромности ради), он веселил детей, подбирая босыми ступнями камни и палки и приговаривая: «Смотрите, как ловко действуют мои хватательные конечности». Его обороты речи — вполне и безусловно его собственные — сочетали умышленный забавный педантизм, псевдоученые эпитеты («убери деградирующие локти со стола») и прямоту, которая в своей простоте граничила с поэзией («бесполезный кусок мяса / книжная пещера / гнилой малый»). Это было для него столь же органично, как митфордианский диалект для его дочерей, однако чувствуется, что он знал, как их это потешает, и потому местами утрировал. Благодаря Нэнси эта манера выражаться обеспечила Дэвиду нечто вроде бессмертия.
Дядюшка Мэтью оказался более удачной попыткой изобразить отца, чем первая проба — надутый и рокочущий генерал Мергатройд в «Шотландском танце», но оба персонажа унаследовали его своевольный и непредсказуемый характер. Как поясняла Дебора, «рациональность в его систему не входила». В детстве Дэвид закатывал бурные истерики, а однажды, когда отец запер его в комнате, накалил кочергу и приготовился прорываться и мстить. «В поисках любви» довольно точно передает, как дети, дразня, подначивая, приставая к нему с предложением измерить объем головы и удостовериться, что он «недочеловек», дюйм за дюймом подталкивают его к той границе, когда благодушие, с каким он все это принимал, вдруг сменялось взрывом.
Это достаточно схоже с реальностью, вот только приступы ярости у прототипа были не столь предсказуемы, как у списанного с него персонажа, и потому больше пугали. У дядюшки Мэтью имелись тысячи причин для бешенства — от нарушения пунктуальности («еще шесть минут и три четверти, и чертов малый явится с опозданием») и соседки леди Монтдор («ведьма из ада») до ухажеров его дочери («сточные трубы»)‹38›, славян («значит, серб? Сразу видно — побриться бы не мешало»), всех иностранцев скопом («все они одинаковы, и меня от них тошнит») и так далее. Но его ненависть в своей всеохватности парадоксальным образом становится уже не столь злокачественной, поскольку она бессмысленна и почти ритуальна. Дэвид в целом был мягче, но тем разрушительнее действовал его гнев. Источником постоянной ярости, возможно, было напряжение, постоянные проблемы из-за отсутствия легкого, перелом таза, после которого нельзя было кататься верхом, а вовсе не желание громыхать и запугивать. У Дэвида не было дурных склонностей, за исключением разве что курения. Он не пил, играл крайне редко, не бегал (в этом мы можем быть практически уверены) за женщинами и, хотя состоял в палате пэров и в аристократических клубах «Карлтон», «Мальборо», не любил расслабляться в шумной мужской компании. Таким образом, выхода для накопившихся эмоций не оставалось — кроме внезапных взрывов. Он бывал порой груб, что испытал на себе Джеймс Лиз-Милн. Чрезвычайно педантичный в привычках, он приходил в ужас от неопрятной одежды, пятен на «хорошей скатерти», от всего липкого (он сам признавался, что ад — это капля меда на цилиндре). Изводила его и манера Юнити поглощать большие количества картофельного пюре, не сводя при этом с отца взгляда огромных злобных глаз. Иногда она соскальзывала со стула и устраивалась под столом. В такой ситуации и гневные рулады отца, и отстраненность матери явно оказывались непригодными и нисколько не помогали воспитанию, однако — что могло бы подействовать лучше?
Джессика безусловно опознала в дядюшке Мэтью отца (впрочем, она была готова отождествить его и с генералом Мергатройдом), особенно точным казалось ей его отношение к образованию. Она распространяла созданный Нэнси миф, будто Дэвид считал ненужным учить девочек (отчасти верно), ненавидел книги (совсем не верно) и видеть не мог девочку с книгой в руках. Дескать, стоило ему застать одну из дочерей за чтением, как он тут же выдумывал ей дело: «Иди скажи Хуперу (груму) то-то и то-то», лишь бы досадить. В такое еще можно было бы поверить, если бы девочки прохлаждались с книгой в доме, но поскольку книги находились в сарае Астхолла, все желающие могли без помех предаться зловредному наслаждению.
К тому же Дэвид вовсе не хотел вырастить их невежами (как и его бабушка, леди Эйрли, он настаивал на свободном владении французским языком). Просто он следовал представлениям своего класса. Живущий в поместье аристократ, чье детство пришлось на середину Викторианской эпохи, должен был учить дочерей преимущественно дома, чтобы они оттачивали манеры и лоск, хорошо сидели в седле и приготовились к успешному выходу в свет. Дэвид был великодушнее многих отцов и не подавлял склонности дочерей. Эту гремучую смесь реакционности и либерализма, ограничений и свободы, неоднократно клеймили как источник экстремизма некоторых девочек Митфорд. И вероятно, справедливо. Однако дело обстоит сложнее: было несколько факторов. Нельзя же винить Дэвида в том, что у него родилось так много дочерей, что они были одаренными, скорыми на выдумку, отчаянно соревновались друг с другом, борясь за внимание равнодушной матери, и росли в тот век, когда мир сошел с ума.
Несомненно, на дочерей повлияла личность Дэвида, его театральность, расцветшая благодаря полученному наследству Он был большой человек, с размахом — не только физическим, и девочек тоже привлекал выраженно мужской тип. «Новый человек» их мало заинтересовал. Лишь намного позже стали они прозревать недостатки, скрытые под блистательной оболочкой их отца.
Так, он совершенно не умел обращаться с деньгами. «Бедняжка Додди, такой невезучий», — пренебрежительно отзывалась о его затеях мать (но и Климентина отнюдь не блистала финансовыми способностями: растратив за свою жизнь многие тысячи фунтов, под старость она перебралась из особняка в Эрлс-корте в принадлежавший Ридсдейлам нортумберлендский коттедж и там выгуливала на поводке свинью). Опять-таки едва ли справедливо упрекать Дэвида за отсутствие финансовых способностей, хотя сам он, вероятно, себя в этом винил. После продажи Бэтсфорда вместе со значительной частью обстановки, а также дома в Кенсингтоне и нортумберлендского поместья он, казалось бы, мог не знать забот до конца жизни, тем более что серьезные расходы на образование требовались только Тому. В 1921 году Сидни тоже получила немалое подспорье: ее отец умер, оставив ей примерно четверть своего состояния в 60 000 фунтов. Юридически эти деньги принадлежали только ей, но и они пошли в дело. Дэвид тем временем округлил свинбрукские владения, вполне разумно вложив деньги в землю. И все же, как едко отзывается Нэнси о воображаемом лорде Фортинбрасе, «он и его предки воспринимали свои поместья с точки зрения спорта, а не хозяйства».
Да, словно Фортинбрас, Дэвид сажал леса ради дичи и превращал свое имение в просторную игровую площадку под открытым небом. В усадьбе Астхолл он занимался серьезными усовершенствованиями и помимо пристроек: провел электрический свет от небольшой гидростанции, посадил на подходе к дому дивную березовую аллею — и все эти усилия ради поместья, от которого он собирался избавиться. «Ох, какое безумие сделать все это, а потом продать себе в убыток и строить Свинбрук», — сокрушалась Диана в письме к Деборе шестьдесят лет спустя. И правда безумие. Если бы Дэвид так не настаивал на переезде в Свинбрук, он мог бы в финансовом смысле «продержаться», но упорство и многократные разочарования вынуждали к подобным решениям.
Хотя Астхолл удалось продать лишь в 1926 году, он был выставлен на продажу (вместе с 2140 акрами земли) уже в 1922-м, а на следующий год сдавался в аренду. То ли покупателя не нашлось, то ли Дэвид на время передумал. Семья же переехала в ненавистный Свинбрук с восемнадцатью спальнями, построенный на месте старого дома. Ничего особенно плохого в новом здании не было (разве что избыточная симметричность придавала ему казенный вид), но уют по заказу не производится, и после Астхолла новое жилище выглядело пустым и холодным. Детям лишь «кладовая Цып» казалась уютной, а вилки и ножи — ледяными («невозможно взять в руки»). Внутренние двери сколотили из вяза, которым легко занозиться. Нэнси, нещадно высмеивавшая Свинбрук, утверждала, что дверь в ванную запирать бесполезно — в щель можно целиком просунуть голову и полюбоваться всем происходящим внутри. Сидни с обычным своим безупречным вкусом обставила дом, однако красивая мебель смотрелась тут не на месте. Только Деборе нравился этот дом — в шесть лет она едва ли помнила, как мил и удобен был расползшийся в разные стороны Астхолл, — но все прочие чувствовали глухую досаду И Дэвид, наверное, вновь винил себя. «В Свинбруке его веселость пошла на убыль, — писала Диана, — и он стал почти (хотя и не до конца) взрослым».
Переезд действительно расколол семью. С бессознательной поэтичностью Сидни выразила чувство утраты, сказав, что жизнь в Астхолле запомнилась ей как «сплошное лето». Но к 1926 году произошли и другие перемены, совпавшие по времени с переездом. Нэнси и Пэм успели выйти в свет, Том заканчивал Итон, Диана готовилась к первому сезону, то есть разделение семьи происходило естественно и неизбежно. Старшие дети едва ли особо переживали из-за того, что дедушкина библиотека теперь расположилась в кабинете отца, а пианино стояло на глазах у всех в вытянутой белой гостиной, где не возникало особого желания присесть и поиграть. Но Джессика, разумеется, оплакивала свой сарай в Астхолле, это идеальное убежище. Складывается впечатление, что уклад жизни младших девочек был проще и даже глупее, чем у Нэнси и Дианы. Если присмотреться к поведению Джесси и Виктории в «Любви в холодном климате» — вечно кудахчут про секс («ближженство!») и распевают заголовки из «Дейли экспресс», — то кажется, что Нэнси перенесла в роман настроение из реальной жизни. Деборе, с ее абсолютно здоровым душевным расположением и любовью к сельским забавам, это было по нраву — незаметно сколько-нибудь дурных последствий от такой жизни интроверта среди экстравертов. Ее целиком поглощали долгие дни в оксфордширской глубинке; прелестная деревня с маленьким зеленым квадратом газона для игры в крикет; церквушка, где она облизывала скамейки‹39› и расставляла примулы перед Пасхой; лес, где рос Висельный дуб, некогда и впрямь использовавшийся для казни; кузница, где мастер умело и грубовато подковывал лошадей и подбивал ботинки; обожаемый грум Хупер, чья кобыла — настоящая боевая лошадь — пала в 1927 году именно в тот момент, когда наступила минута молчания в память погибших на Первой мировой. Множество прекрасных псов, куры, сплетничавшие и суетившиеся под ногами, — она собирала яйца, и мать выдавала ей за это прибавку к карманным деньгам. Все вместе складывалось в неколебимую скалу, которая могла устоять в будущих бурях. Но Джессика и Юнити страдали в Свинбруке главным образом из-за того, что оказались отрезаны от внешнего мира и чересчур зависели друг от друга, — впрочем, у Юнити не было бы такой необходимости, сумей она удержаться в школе.
Осенью 1926-го, незадолго до переезда в Свинбрук, Сидни съездила с дочерями и Блор в Париж. Они провели несколько месяцев в семейном пансионе на авеню Виктора Гюго, это было обычным делом в те времена и обходилось совсем не так дорого, как сейчас. Диану записали в институт благородных девиц «Курс Фенелон», и там, по ее словам, она большему научилась за полгода, чем за шесть лет в Астхолле. К трем младшим приставили гувернантку. Нэнси отыскала в Париже любимую подругу Мэри О’Нил, чей дед в это время был послом Великобритании во Франции, и, судя по ее восторженному письму Тому, они великолепно проводили время. Вместе с Пэм она гостила у барона Робера де Ротшильда, обедала в посольстве у Мэри и погружалась в историю Франции XVIII столетия, которой увлечется на всю жизнь («Они были все в точности как ОДИН», — скажет она о Версальском дворе при Людовике XV).
Нэнси впервые побывала в Париже в 1922 году с девочками из школы «Хейтроп Касл». Первое предчувствие, первая встреча с медово-сумрачным городом, где она будет потом так счастлива… Стоя на авеню Анри-Мартен в ожидании автобуса, писала потом Нэнси, она расплакалась, не выдержав этой красоты. Этот культ Парижа, Франции, поклонение чуть ли не каждому французу, современнику и давно умершему, укрепились, наверное, в пору Второй мировой войны, в противостоянии тевтонским симпатиям других членов семьи, но чувство изначально было совершенно подлинным. Ее характер — легкость, церемонность, взыскательность — точно отражался в духах «Фрагонар» и севрском фарфоре. И после нескольких месяцев парижского блаженства тем ужаснее было возвращение в новый дом в Свинбруке. Она изливала свои чувства Тому: «Семейство Митфорд пребывает в когтях свирепой депрессии». Словно все еще оставаясь детьми, но уже с беспощадностью почти взрослых они сочинили собственную воображаемую страну Кр, антипод Свинбрука.
Кое-как эту жизнь скрашивал лондонский дом, приобретенный к тому времени Дэвидом на Ратленд-гейт 26, с конюшнями при нем. Дом стоил без малого 28 000 фунтов, сумма невероятная. И не так уж он был красив, этот высокий, торчащий в стороне от других особняк; рядом с ним, как и в Астхолле, находилось кладбище, на этот раз Русской православной церкви. И все же он был роскошен — с балконом, выходившим на Гайд-парк, с установленным внутри по требованию Дэвида лифтом, с очаровательной гостиной в серых и золотистых тонах и старинной системой для переговоров: нужно было подуть в раструб и, когда на другом этаже откликнутся, начать общение. Такие подробности наводят на мысль, что дом был чрезвычайно велик — и эта догадка верна: гигантский старинный лондонский особняк, девять человек прислуги. Поблизости от «скверного старого Харрода», как Сидни обозначала магазин «Харродс», из которого семейству доставляли продукты, и от Альберт-холла, куда они приобрели абонемент, а также, на радость Деборы, недалеко и от Таттерсола на Найтсбридж-Грин, аукциона, где в ту пору выставляли чистопородных лошадей.
Однако лондонский дом с 1929 года почти все время сдавался в аренду: с финансами у Митфордов стало совсем туго. Сначала там поселился граф Элгин, а Свинбрук арендовал сэр Чарльз Хамбро. Даймлер был продан. Девочки теснились то в перестроенной конюшне на Ратленд-гейт, то в коттедже в Хай-Уикоме. Дэвид снова отправился в Канаду на поиски золота. Ивлин Во, в ту пору тоже безденежный, вздыхал: «Поехать, что ли, покопаться в мифическом золотом руднике лорда Ридсдейла? Да только вряд ли он меня пустит»‹40›.
Бедность была все-таки относительной и непостоянной — например, в 1931 году семья смогла вернуться в Свинбрук. Отчасти вину можно возложить на крах Уолл-стрит, который столько унес с собой. Но и до того Дэвид на протяжении десяти лет продавал и строил, продавал и покупал, всегда и во всем перегибая палку и поступая так, словно дела сами собой уладятся, — и при этом не уставал предостерегать дочерей, что у них приданого не будет. (И не было. «О, у меня в жизни не было денег», — вскричала Нэнси во время телевизионного интервью‹41›. Она заявила, что и «Шотландский танец» написала исключительно с целью «заработать сто фунтов».) Но, как ни странно, ни одну из девочек Митфорд отцовская расточительность особо не огорчала. Они принимали ее как данность — или же не воспринимали чересчур серьезно. «Мы жили, так сказать, меж двух молотков, — шутила впоследствии Нэнси. — Молотка строителя и молотка аукционера»‹42›. Но ведь изначально наследство было изрядным. После продажи Бэтсфорда — а в ту пору многие аристократы избавлялись от разорительных старых усадьб, — казалось бы, все проблемы должны закончиться. Беда в том, что главная проблема заключалась в самом Дэвиде. Он женился на женщине, способной безукоризненно вести счета и благоразумно платить жалованье гувернантке, продавая яйца лондонским клубам. Она попыталась приучить дочерей к экономии, предложив им спланировать траты внутри семейного бюджета в 500 фунтов («Цветы: 490 ф.» — такова была первая строка расходов у Нэнси). Но бороться с неверными инстинктами мужа и ей оказалось не под силу. Правда, Сидни родилась в Викторианскую эпоху, когда женам не полагалось сомневаться в разумности мужей, но на самом деле всякая женщина, если только судьба не связала ее с монстром, умела деликатно направить супруга на путь здравого смысла. Возможно, Диана, утверждавшая впоследствии, что бесконечные продажи и переезды ужасно удручали ее мать, права и в том, что отец «никогда не слушал Мулю».
Он продал Астхолл с убытком — снова повел себя как «бедный Додди» — и за Бэтсфорд тоже не выручил настоящую его цену. Имение выставлялось на аукционе, однако в итоге было продано частным образом, как и поместье Оттерберн, примерно 12 000 акров в Нортумберленде, — и покупатель немедленно перепродал землю. Этот случай приводился в парламентских дебатах как пример «неприятностей, которые причиняют арендаторам земельные спекуляции». Очевидно, предполагалось, что Дэвиду следовало приложить больше усилий и сохранить землю за собой. Деньги приходят и уходят, а земля остается.
Затем Дэвид попытался затеять собственный бизнес и подошел к этому, как герой приключенческих книжек для мальчиков: то отправлялся на золотые прииски, то участвовал в предприятии по подъему галеона, затонувшего с ценным грузом. И самое печальное: его шурин Джеффри Боулз уговорил Дэвида вложиться в компанию таинственного латиноамериканца «маркиза Андии». Этот человек додумался, что радиоприемники, которые тогда — в конце 1920-х годов — были большими и уродливыми коробками, не должны находиться на виду. Он решил прятать их в декоративные пластиковые контейнеры. Как с деликатной издевкой отзывалась Диана, эти контейнеры «заняли бы почетное место среди розового фарфора». В ту пору подобная идея могла казаться удачной, хотя задним числом выглядит гротескной, словно затеи той женщины из романа Патрика Хамильтона «Стимпсон и Горе», которая прятала телефонный аппарат под юбками куклы в костюме Марии-Антуанетты. Дэвид, возглавивший компанию «Артандия лимитед», вскоре пал духом и отсоветовал своему другу лорду Дулверстону (тому самому, кто купил у него Бэтсфорд) становиться соучредителем. Его слова подхватило сарафанное радио, и в 1930 году Дэвид предстал перед судом по обвинению в клевете: он-де назвал маркиза мошенником и самозванцем и оскорбил его жену (она, мол, «сами знаете что»). Конечно, Дэвид так и говорил. Однако он выдержал перекрестный допрос, понравился судье, и дело закрыли.
Маркиз вернул Дэвиду 13 000 фунтов, но неизвестно, какие суммы лорд Ридсдейл вкладывал в подобные схемы. «Вот как растаяли миллионы [sic!], полученные за Бэтсфорд, — писала много лет спустя Диана Деборе. — Пуля был простодушен». Он оценивал ситуации с точностью до наоборот. Он отверг возможность инвестировать в первые ледогенераторы — а впоследствии они появились в каждом британском пабе. По слухам, он также предпочел не вкладывать деньги в завод своего старого друга Уильяма Морриса, хотя чрезвычайно интересовался автомобилями: в 1929 году Дэвид высказал в палате пэров свое мнение по поводу предлагавшегося экзамена на права. Как и следовало ожидать, он высказался против законопроекта, ссылаясь на свой опыт такого испытания во Франции: «Совершенно бессмысленный и ничего не доказывающий фарс». Продав даймлер, которым управлял специально нанятый шофер, Дэвид купил моррис, охотно водил его сам и часами торчал на автозаводе своего друга в Коули, под Оксфордом. «Поскольку особых дел у него не было, — писала Диана, — все-таки, оглядываясь назад, сожалеешь, что он не обеспечил себе доход, присоединившись к этой чрезвычайно успешной компании»‹43›.
Однако Нэнси совершенно справедливо замечает в «Английской аристократии»: «Разве лорду и леди Фортинбрас когда-нибудь приходило в голову найти себе работу и таким образом восстановить семейное благосостояние?»
8
У вымышленного дяди Мэтью средств вполне достаточно — так много, что эта тема даже не затрагивается в семье. Главное его достояние — земля, которая для хозяина священна. И помыслить невозможно, чтобы он продал какую-то ее часть, как невозможно представить себе дядю Мэтью вне этих угодий. «Ты же знаешь, — говорит он Фэнни, — я стараюсь не заходить в чужой дом, если этого можно избежать».
Тем удивительнее, заглянув в светскую хронику «Таймс» (эфемерные листки, из которых можно сложить роман Джорджетт Хейер), обнаружить, как часто появляются в ней имена лорда и леди Ридсдейл. О тете Сэди говорят, что она «знает свет» (отличное выражение) и охотно бывает на званых вечерах, но, выйдя замуж, следует предпочтениям мужа (позднее Диана скажет о прототипе тети Сэди, что матери, пожалуй, следовало выбрать себе более общительного мужа, но ее вполне устроила и домашняя жизнь). При чтении газет складывается впечатление, что эта пара не была затворниками. Легко забыть, что Дэвиду, отпрыску известного рода, естественно было посещать торжественные балы и королевские свадьбы, а в 1928 году оказаться на светском приеме у «миссис Болдуин», на Даунинг-стрит, 10 (хотя аристократии не слишком импонировал сей буржуа, Стэнли Болдуин). Дядя Мэтью явился на большой бал в романе «Любовь в холодном климате», затянутый в панталоны, которые были ему так узки, что он не осмеливался сесть, — и это его единственный выход в свет, за исключением присутствия (по обязанности) в палате пэров, где он голосует непредсказуемо, но по совести. Он выступает с речью против допуска в палату наследниц титула, потому что они будут пользоваться мужским туалетом. (По словам Линды, мнение ее отца разделяли все пэры, но только Мэтью осмелился высказать его вслух.)
Как обычно, этот великолепный вольный портрет лишь отчасти списан с Дэвида. Лорд Ридсдейл слыл в палате пэров чудаком, но заседания посещал достаточно исправно и несколько кривил душой, когда в более поздние годы писал: «Я никогда не езжу в Лондон, если могу избежать этого». Присутствовать в палате он считал необходимостью, почетной обязанностью и мечтал вернуть этой части парламента былое могущество, до принятого в 1911-м закона Ллойд-Джорджа, который сократил право вето и отстранил лордов от обсуждения бюджета. «Неужели никому не приходит в голову, — писал Дэвид в „Таймс“ в 1926-м, — что гаргантюанская оргия расточительства, в которой погрязла наша страна и которая разоряет нас не дюйм за дюймом, а миля за милей, напрямую связана с тем, что всеми финансами занимается одна палата? Это мнение малопопулярно среди политиков (по понятным причинам), но народ в целом отлично понимает это…» Какую бы позицию мы ни занимали, это высказывание явно принадлежит не буйному невеже, каким Нэнси — или, точнее, Джессика, опираясь на пример Нэнси, — пыталась представить своего отца.
Дэвид был истинным консерватором, чьи убеждения из всех дочерей разделяла только Дебора (и, возможно, Пэм).
А еще в нем чувствуется страх — эмоция, его дочерям, кажется, неведомая. В 1922-м он отреагировал на «весьма тревожное положение в стране» — жестокую послевоенную нужду, первый общенациональный «голодный поход», присоединившись вместе с лордами Солсбери и Лондондерри к новому движению «Твердолобых». Их, в частности, страшило то, что Солсбери именовал «призраком большевизма». Опасения по поводу распространения коммунизма были всеобщими и не такими уж иррациональными, как видится ныне. «Твердолобые» сложились при консервативном правительстве, но были разочарованы, когда оно не сдержало обещание отменить закон Ллойд-Джорджа, а впереди их ожидало правление Рамсея Макдональда. «Мы доверяем лейбористам», — отважно заявил Солсбери. Однако в 1934-м — через десять лет, после того как Макдональд впервые сформировал кабинет министров, — Солсбери предложил реформу, согласно которой 150 членов верхней палаты становились выборными. Резон был такой: как бы очередное лейбористское правительство не уничтожило палату лордов, если она и дальше будет целиком несменяемой.
Дэвид, яростно выступавший против этой реформы, объединил вокруг себе немало приверженцев. Он бы дал бой и Тони Блэру («обделенному здравым смыслом», по мнению Деборы), доживи Дэвид до 1999 года, когда в палате осталось всего 92 наследственных пэра. Отказ от принципа наследования, заявлял Дэвид, «это прямой удар по короне и самым основам христианской веры». Трудно сказать, насколько он был религиозен, — посещение церкви по воскресеньям требуется в первую очередь ради приличий, а не ради спасения души, — но в некоторые идеалы он верил безусловно: в noblesse oblige и в Англию.
Как бы ни мечтал Дэвид все бросить и засесть в схроне вместе с любимым егерем Стилом, он уделял немало времени общественному служению (как и лорд Фортибрас, который «все время при делах», хоть и не «при таких делах, что приносят хоть пенни»). Он служил в местном суде и в совете графства — по-другому и быть не могло, — но также исполнял различные обязанности в Лондоне, от чего дядя Мэтью истомился бы до смерти. Дэвид прилежно заседал в различных комитетах, некоторые из них возглавлял, решая столь заковыристые вопросы, как определение границ Брайтона. В 1931-м он сделался председателем благотворительного общества и регулярно писал письма в газеты, призывая читателей не сокращать пожертвования. Его всерьез тревожила безработица, достигшая неслыханного уровня — более 20 % работоспособного населения в 1933 году, — но он также считал необходимым сократить государственные дотации, в том числе благодаря введенной в 1931 году проверке обеспеченности. Дэвид искал решение проблемы в возрождении семейного идеала, а не в «массовой благотворительности государства». Ему бы, вероятно, понравилась концепция «большого общества», хотя он вонзил бы вставные челюсти в тех политиканов (ох и скользкие личности), которые так гладко ее расписывали.
Социальная ответственность была для него понятием естественным — он чувствовал глубокое доверие к своим работникам, как позднее Дебора в Чэтсуорте, — но считал, что проявлять ее лучше в прямых и личных действиях. Вскоре этот взгляд стал до крайности немодным.
Второстепенная, но важная тема «В поисках любви» — ностальгическая дань «феодализму» таких людей, как отец. Критиковать традиционный уклад нетрудно, но на практике он вроде бы работал, а к моменту написания книги (1945) был почти истреблен. «Смутный и расплывчатый» социализм Нэнси («синтетический кошениль», по приговору
Дианы), вероятно, родился из попытки перевести принципы патернализма и антикапитализма, в которых она росла, на политический язык современности. То же происходило под конец с ее голлизмом и со старомодным консерватизмом Деборы. Но Юнити, Диана и Джессика восстали против самой сути своего мира, его стабильности. Насколько осознан был поначалу этот бунт — кто знает. Они уверовали в перемены, в системы и людей, которые не желали допускать и мысли о возможных ошибках. Дэвид, при всей аристократической уверенности, вполне понимал, как часто он допускает промахи. Вот почему он (и дядя Мэтью) все-таки человечны и милы, вопреки всему.
Причем Дэвид был не так крепок духом, как списанный с него персонаж, и наиболее явно его слабость проявилась, когда он попытался превратить любовь к Англии в неуклюжую и непрошеную надежду на гитлеровскую Германию. От дяди Мэтью «гунны» не видели ничего, кроме презрения; это чувство было безошибочным, как прицел его ружья, и мы чувствуем, как Нэнси жалеет об ином характере прототипа. А ведь ее отец какое-то время действительно думал, что Англо-Германское содружество — вполне достойное предприятие, что союз с Германией спасет страну. Другой вопрос, стал бы он так думать, захотел бы так думать, если бы две его дочери выбрали в 1930-е годы иной путь.
9
7 февраля 1928 года в семейном доме Асторов на площади Сент-Джеймс состоялись танцы. «Герцог и герцогиня Йорк почтили виконтессу Астор своим присутствием», — сообщала светская хроника и дальше перечисляла имена гостей. Среди них были и члены семейства герцогов Девонширских, дядя Дэвида — одиннадцатый граф Эйрли — и сами Дэвид и Сидни с тремя дочерями, Нэнси, Памелой и Дианой. Диана впервые вышла в лондонский свет (до того она успела только побывать на балу в Оксфорде). Восемнадцать лет ей должно было исполниться 10 июня, и формально она не считалась даже дебютанткой.
Ничего примечательного в танцах у Асторов не было. Типичный образец светского мероприятия двадцатых годов, интересный лишь потому, что в списке гостей — в этой танцующей, улыбающейся, болтающей толпе — мы обнаруживаем имена тех, чьи судьбы в скором будущем удивительным образом переплетутся. Так, там была леди Дороти Макмиллан, сестра герцога Девонширского, со своим супругом Гарольдом, будущим премьер-министром. Присутствовал и член партии консерваторов Боб Бутби, которого она соблазнит в следующем году, и эта связь продлится до ее смерти (с перерывами, когда Бутби отвлекался на более жесткий роман с Роном Крэем‹44›). Присутствовал и еще один многообещающий молодой политик, в ту пору член партии лейбористов, вместе с женой, в девичестве леди Синтией Керзон. Заметил ли Освальд Мосли на этом вечере семнадцатилетнюю Диану Митфорд, заметила ли она его?
Мосли был на четырнадцать лет старше Дианы и на тот момент разница в возрасте была, вероятно, чересчур велика, девушка могла показатсья ему скорее симпатичной школьницей, чем желанной возлюбленной. У него и так была полна коробочка: на танцы к Асторам приехала его невестка и любовница леди Рейвенсдейл («Голосуй за лейбористов, спи с тори» — таков его тогдашний девиз). Тем не менее Диана уже собирала свою дань с многих мужчин, и моложе Мосли, и старше. «Почему вы так ошеломительно милы, а не только очаровательны?» — задавался вопросом Джеймс Лиз-Милн, словно и впрямь ошеломленный совершенством ее чар (Лиз-Милн сохранял гомосексуальные наклонности, хотя впоследствии женился на Алвилде Чаплин, и на «брайдсхедский» манер был влюблен и в Диану, и в Тома). «Смею предположить, вы очень тщеславны, — писал он в 1926 году Диане в Париж, — и у вас есть на то основания». Примерно в это же время троюродный брат Дианы Рэндольф Черчилль влюбился в нее по уши и был возмущен «невероятной жестокостью и бесчувственным поведением» отвергшей его девицы. (Он так и не простил ее и, когда в 1928 году Диана выбрала другого жениха, распространял слухи о ее легкомыслии. Попутно он и себе ни в чем не отказывал. К примеру, в 1932 году Нэнси писала подруге: «Рэндольф Ч. попытался меня изнасиловать. Было очень смешно».)
На Пасху 1927 года пребывание Дианы в парижской школе «Курс Фенелон» резко оборвалось, стоило матери заглянуть в дневник с неизбежными девичьими шалостями.
А дело было вот в чем. После отъезда остальных членов семьи Диана, размещенная в ультрареспектабельных апартаментах на авеню Виктора Гюго, впервые почуяла свободу. Ей позволялось совершать небольшие самостоятельные прогулки без дуэньи, в то время как в Лондоне она не могла без сопровождения дойти до «Харродса» рядом с домом. При ее внешности в городе, где интерес к женской красоте так обострен и беспощаден, удивительно было бы, если бы Диана не ощутила и не испробовала свою власть над мужчинами. Сидни могла бы это предусмотреть, но трудно понять, в какой мере она замечала взросление своих дочерей.
В дневнике Дианы перечислялись походы в кино с молодыми людьми и «чай с танцами». По нынешним понятиям все это щемяще невинно, однако ей приходилось изворачиваться, прикрываясь вымышленными уроками музыки и тому подобным. Дневник также повествовал о том, как Диана служила моделью для художника Поля Сезара Эллё, чья семья жила поблизости. Сидни давно была знакома с Эллё, так что Диана имела возможность с ним общаться. Эллё с трудом верил своему счастью: юная девушка, живое воплощение творений Кановы (Лиз-Милн сравнивает ее с шедеврами Рафаэля, однако это сравнение не передает «мраморности» Дианы), жадно впитывающая новые знания — умна, а не только красива и мила, — и тут он, лучший наставник по истории искусства, по-отечески заботливый в свои шестьдесят семь лет. Он водил ее в Лувр и Версаль, демонстрировал (еще бы!) коллегам-художникам и, главное, рисовал ее у себя в студии. Хотя к тому времени слава Эллё несколько поблекла, в прошлом он считался едва ли не самым модным портретистом и мог похвалиться, по выражению Дианы, «дивной vie amoureuse»[6]. И при таком опыте он, как
Диана сообщила Лиз-Милну, «называл меня всегда beauté divine»[7] и приговаривал: «Tu es lafemme la plus voluptueuse que je n’ai jamais connu»[8]. Лиз-Милн на это ответил: «Как бы я хотел получить ваш портрет работы мсье Эллё. Должно быть, вы были подобны Эмме Гамильтон, позирующей Ромни». В начале 1927 года Эллё заболел, и его дочь отказала Диане от дома: очевидно, его страсть была уже всем заметна. «Человек, которому я почти поклонялась и который три месяца поклонялся мне, умирает, — писала Диана Лиз-Милну. — Как это перенести?» И после его смерти: «Никто никогда не будет восхищаться мной так, как он». (И еще позже: «Каким я была ужасным маленьким чудовищем».)
Едва ли Диана заносила в дневник все то, что говорил ей Эллё, все эти «прелесть моя, comme tu es belle» и тому подобное. Ее отцу вполне хватило бы и свиданий в кино (как дядя Мэтью впал в неистовство, узнав, что Линда и Фанни побывали на ланче у оксфордских студентов: «Будь вы замужем, ваши мужья имели бы полное право развестись с вами после такого»). И этой же причины хватило для ледяного материнского неодобрения. «Никто, — заявила она дочери, — не пригласил бы тебя к себе в дом, если б знал хоть половину из того, что ты натворила». И все же остается открытым вопрос, только ли это беспокоило Сидни или же откровенное желание, которое Диана возбуждала, особенно в Эллё (как ни уклончивы дневниковые записи, прочесть между строк не составляло труда). Сидни и сама в девичестве позировала Эллё, его летняя студия размещалась на яхте, пришвартованной в Довиле, где Томас Боулз плавал с дочерями. Эллё восхищался ее аристократическим, чувственным обликом. Нелегко женщине принять, что былые качества теперь перешли к другой, — пожалуй, это самое трудное, даже если другая — родная дочь. Женщина, щедро наделенная материнскими чувствами, еще могла бы совладать с ревностью, но Сидни была одарена силой и здравым смыслом куда в большей мере, чем материнским инстинктом. Со временем она стала теплее относиться к Джессике и Деборе, когда их привлекательность уже не казалось столь завидной. Но отношения с двумя самыми красивыми дочерями, Дианой и Нэнси, всегда были непростыми, и это, видимо, естественно. Вроде бы человеку положено гордиться своими детьми, но не всегда действуют столь хрестоматийные правила. Позднее Диана стойко выступала в защиту матери, но тогда, в 1927 году, когда ее резко выдернули из парижской школы и отправили вместе с тремя младшими сестрами в ссылку к двоюродной бабушке в Девон, она была весьма далека от нежности к Сидни.
По сегодняшним понятиям Диана не сделала ничего дурного и весь этот шум кажется смехотворным. Однако в ее отношениях с Эллё (достойных французского арт-хаусного кино) просматривается намек на то, какой Диана станет в будущем. Ведь видела, как бедняга сходит по ней с ума. В шестнадцать лет большинство девушек не проявят интереса или будут хихикать, а она позволила расцвести чувствам — и невинным, и не столь невинным. Эллё поклонялся своей последней богине среди картин и статуй. Невыразимо, но мощно внеморальность великого искусства сливалась с внеморальностью красоты. Это быстро оборвавшееся воспитание чувств научило Диану: если девушка выглядит так, как она, то есть как одна из белых луврских статуй, то она сама определяет правила поведения. «У тебя нет элементарного понятия о морали, — писал ей в 1928 году Рэндольф Черчилль. Обида наделила его некоторой проницательностью. — Иными словами, хотя ты редко поступаешь дурно, ты ничего ДУРНОГО не видишь в грехе. Едва ли ты станешь это оспаривать». Неизвестно, оспаривала она это суждение или нет, но оно, безусловно, казалось ей лестным. Особенно точным оно не было: Диана не грешила в том смысле, какой имел в виду Рэндольф, и мало кто мог сравниться с ней добротой, честностью и великодушием в самом общем смысле слова. Но отверженный поклонник разгадал в ней особое качество воли. Как будто весь мир должен был вести себя иначе, нежели с обычными людьми, с той, что полностью соответствовала требованию доктора Астрова из чеховской «Чайки»: «В человеке все должно быть прекрасно».
Это качество подкреплялось и поведением Дианы, далеким от манер обычной «красавицы». Одевалась она, за исключением нескольких лет в первом браке, без шика, имела грацию балерины и была свободна от манерности, свойственной хорошеньким женщинам. Казалось, она лишена тщеславия и кокетства. Но она понимала, как выглядит, и, при всем спокойствии сфинкса, прямо-таки излучала чувственность. Электрические разряды ощутимо трещали вокруг нее. До чего же смущали всех, и мужчин и женщин, ее энергичная безмятежность, ее тепло и ее холодок, ее превосходный ум и телесное совершенство, — и разве не естественно было ей увериться, что она может делать все, что захочет, и все будет правильно? Эллё был лишь первым в непрерывной череде побед, и она это знала с самого начала.
Сознавали это, пусть не слишком отчетливо, родители юной богини. Потому и поспешили отправить ее в Девон на лето 1927 года. Но это было столь же глупо, как запирать молодую львицу в вольер, — она только и думала, как бы удрать. Она «прострадала», как выражались девочки Митфорд, три месяца напролет от ужасной скуки, конец которой положил визит в гости к Черчиллям в Чартуэлл (дочь Уинстона была ее тезкой и подругой). Там Диана возобновила знакомство с ученым Фредериком Линдеманом, который посоветовал ей изучать немецкий язык (родители отказались оплачивать занятия) и пал к ее ногам, как Эллё. После неофициального дебюта Дианы на балу в больнице Рэдклиффа в Оксфорде Линдеман позвонил с вопросом, много ли предложений она получила. Кстати, это был первый среди знакомых Дианы, кто оскорбил другого человека (близкого друга Нэнси Брайана Говарда) лишь из-за его еврейства.
И вот танцы у Асторов, где среди гостей, Мосли и прочих, оказался симпатичный молодой человек с приятным и живым лицом, притом не слишком высокий, по имени Брайан Гиннесс. Он был немного знаком с Нэнси и Пэм, так что, скорее всего, имел возможность пообщаться в тот вечер и с Дианой. Затем в мае этих двоих усадили рядом за обедом, опять-таки у Асторов, в честь одной из их дочерей, на Карлтон-хаус-террас, и настала очередь Брайана плениться этим бледным идеалом. В июле они с Дианой оба присутствовали на балу на Гровенор-сквер и в том же месяце — в Гровенор-хаус на Парк-лейн, и Брайан просил Диану стать его женой. Она не ответила сразу же, но, вернувшись домой, послала ему записку с согласием, на которую жених отвечал в присущей ему откровенной и трогательной манере: «Я все еще не знаю, сильно ли вы любите меня, и не вполне понимаю, что вы чувствовали вчера вечером. Но я счастлив. Я счастлив тем, что вы счастливы. Счастлив, что люблю вас. Я всесторонне счастлив».
Двадцатидвухлетний Брайан недавно закончил Оксфорд. Он принадлежал к одному из богатейших семейств Англии, пивоваренные заводы бесперебойно наполняли его карманы звонкой монетой. Его отец, полковник Уолтер Гиннесс, позднее получивший титул лорда Мойна, был членом парламента от консерваторов, его мать, леди Ивлин, была очаровательна и эксцентрична — можно даже сказать, в митфордианском духе. (Когда Брайан сообщил матери, что его невеста умеет готовить, та ответила драматическим шепотом: «В жизни подобного не слышала. Это уж очень ужно».) Гиннессам принадлежало два огромных особняка в Лондоне — на Гровенор-плейс (объединенные на олигархический манер дома номер 10 и 11) и в Хемпстеде, — кусок побережья в Сассексе, имение в Хемпшире, земля в Дублине, квартира в Париже и многое другое. Такое богатство стряхивает с себя кризисы и депрессии, словно плащ сбрасывает с плеч. Из семейного фонда Гиннессов, основанного его дедом, Брайан получал 20 тысяч фунтов в год — огромную по тем временам сумму. К тому же он был красив, добр, умен, артистичен, писал стихи и замахивался на роман. Идеальный спутник жизни для Дианы и притом безнадежно ею плененный. Больше, чем необходимо для той роли избавителя девицы из Свинбрука, на которую он в первую очередь предназначался. Но Диану он интересовал главным образом в этом качестве, и когда Брайан пылко восклицал, что их любовь будет длиться вечно, она бормотала нежно: «Во всяком случае, долго».
Окончательный успех сватовству Брайана обеспечили лорд и леди Ридсдейл, которые в очередной раз попытались командовать дочерью, заявив, что для брака она еще молода и помолвку придется отсрочить как минимум на год. Отчасти они были правы, но прежние их суровые распоряжения успели ожесточить Диану. Брайан, естественно, хотел заполучить возлюбленную как можно раньше и пытался переговорить с ее отцом. «Я никогда не езжу в Лондон, если могу избежать этого, — почти грубо отвечал Дэвид, — в данном случае я могу этого избежать, а значит, едва ли появлюсь в ближайшее время в городе». Но, дав волю неудовольствию, он себе же сделал хуже, ему не хватило твердости выдержать тон, тем более что Сидни успела смириться с этим браком. Вскоре Дэвид встретился с Брайаном в бильярдной клуба «Мальборо», мужчины нашли общий язык, и свадьба была назначена на будущую Пасху. Это были, как выразился Дэвид, цветочки, поскольку в итоге влюбленная парочка обвенчалась в церкви Святой Маргариты в Вестминстере уже 30 января 1929 года. Диана, разодетая с помощью няни Блор в атласное платье пергаментного оттенка, в вуали, позаимствованной у леди Ивлин, прошла к алтарю в сопровождении одиннадцати подружек, среди которых были Нэнси и Юнити. Джессика и Дебора заболели и не смогли присутствовать, что, по словам Дианы, испортило ей праздник.
В последней попытке настоять на своем Ридсдейлы противились церковному обряду: Диана не была верующей. В этом они были правы, она давно провозгласила себя атеисткой, но Брайан отчаянно возмутился. Наивным, очень молодым тоном (столь странным в тот иронический век) он взывал к своей возлюбленной, объясняя желание венчаться в церкви: «Как художники аллегорически воплощают идеи весны, лета, осени или зимы в образе человека, так и идея красоты, включающая в себя христианское милосердие (то есть красоту поступка), воплощается в личностном божестве. Мое поклонение такому идеалу красоты направленно на самое ее совершенное воплощение, то есть на вас…» Занятная перекличка с философией Эллё.
10
Оглядываясь на поведение родителей, их судорожные попытки приструнить девиц, которые уже начали грызть удила, так и хочется сказать, что они сами напрашивались на то, что получили, когда мятеж разгорелся в полную силу. У Дороти Сейере во «Встрече выпускников» лорд Питер Уимзи говорит о своем заблудшем племяннике: «Не пошло впрок воспитание, в котором потачки чередуются с суровостью, да и не знаю, кому бы оно пошло впрок». Впрочем, с сестрами Митфорд нелегко понять, какие действия родителей повлияли на них, а какие нет. Родительский контроль имеет свои пределы, хоть разумно применяй его, хоть без особой логики.
Разумеется, Сидни Ридсдейл нелегко далось воспитание всех этих девочек, она с самого начала знала, что среди них могут оказаться черные овцы, и могла только надеяться, что строгое следование правилам выручит ее и всех. Эти труды и тревоги поглотили шестнадцать лет ее и их жизни. В отличие от миссис Беннет она не могла выводить своих дочерей скопом и предъявлять потенциальным женихам. Потребовалось шесть представлений ко двору, шесть балов дебютанток, шесть полностью укомплектованных гардеробов, шесть наборов приемов, обедов, ужинов, за которыми Сидни выставляла на стол фарфоровый сервиз, некогда принадлежавший Уоррену Гастингсу (Один из предков Митфордов приобрел его на аукционе, когда Гастингс таким образом собирал средства для судебного процесса. «Богу лишь ведомо, — писала Дебора, забравшая остатки сервиза в Чэтворт, — сколько бесценных тарелок было перебито при поспешном мытье посуды далеко за полночь».) Такая задача стала бы серьезным испытанием для каждой матери, не только для Сидни, в том числе и потому, что от дебюта в свете слишком многое зависело — потонет девица или выплывет. Злосчастная леди Монтдор («Любовь в холодном климате»), чья дочь Полли признана первой красавицей сезона, однако осталась без пары («До чего ж хороша», — говорили старшие сыновья и отправлялись танцевать с «бледным и лишенным подбородка созданием с Кэдоган-сквер»), не может в себя прийти от ярости, усталости и разочарования. Иные матери — более молодые, легкие — могли бы и сами неплохо провести время: снять в Лондоне дом и участвовать в этом празднике жизни, пользуясь великолепным алиби для любых эскапад. Но все же матерям чаще предстояло сидеть в сугубо женской компании, на стульях с вызолоченными спинками, гонять кусок лосося по фарфоровой тарелке, исподтишка наблюдая друг за другом и мучительно гадая, кто же подцепит принца Уэльского. Эти ланчи дебютанток весьма напоминали школьный выпускной, только в жемчугах. Леди Монтдор в особенности уязвлена тем, как «расхватывают» дочерей тети Сэди, едва они высунут нос из детской. С девочками Митфорд все происходило не столь стремительно, однако появление в свете столь ярких и контрастных красавиц не могло не вызвать фурор. Должно быть, когда Диану увлекли прочь с этой сцены, едва она успела на нее ступить, пронесся общий вздох облегчения, скрываемый под благовоспитанными улыбками.
Типично для Митфордов: их дебюты представляли собой смесь грандиозного и доморощенного. Нэнси, как и старшая дочь в «В поисках любви», совершила официальный «выход» в семейной усадьбе; приглашены были в основном немолодые мужчины — Эйрли, дяди Джек и Томми, — платье ей пошили дома, а танцевать так и не обучили. В романе дядя Мэтью привозит двадцать масляных печей, чтобы хоть как-то согреть ледяные помещения, и это похоже на ужасную правду, как и сатирическое упоминание «третьего состава оркестра Клиффорда Эссекса», который перед балом разместили в ближайшем коттедже. Оркестр Клиффорда Эссекса (первый состав) был чрезвычайно востребован на лондонских балах. Его, наряду с оркестрами Пилбима, Джека Хэрриса и клуба «400», постоянно упоминает светская хроника «Таймс». Вечно звучит этот рефрен: «Оркестр Клиффорда Эссекса исполнял…» На балах постоянно присутствовала и Нэнси. В апреле 1923 года Сидни сняла дом на Глостер-сквер — не самый роскошный, но на таинственной карте высшего света он значился, — и началось: Нэнси на танцах у «миссис Лэм» на Гровенор-сквер, 47; Нэнси в Бэтхерст-хаус на Белгрейв-сквер; Нэнси с родителями в Лондондерри-хаус, огромном особняке на Парк-лейн, где обитала хозяйка политического салона леди Лондондерри (кротко обожаемая Рамсеем Макдональдом) со своим беспутным супругом. В мае Нэнси представили ко двору. Причудливая церемония: девушка приседает в реверансе перед королем и королевой — и вот она уже «в свете». Она сидела в машине, длинная цепочка «Даймлеров» и «роллс-ройсов» растянулась по Мэллу до Букингемского дворца, с обочины глазели точно такие же зеваки, что нынче теснятся вдоль красной дорожки со смартфонами в руках, — в ту пору главной новостью были дебютантки. Их платья «Таймс» описывал с таким же пристрастием к деталям (но более благоприлично), с каким ныне оскароносных актрис. Нэнси была «в белой с золотом парче со шлейфом из старого кружева». Ни магазин, ни дизайнер не упомянуты — вероятно, платье снова пошили дома (это могла сделать горничная Сидни, Глэдис, а материал купить в «Джоне Льюисе»). Наряд дополняли ослепительно белые перчатки из замши. Конечно же, она выглядела великолепно — изящная и гибкая фигура аристократки, обожающей спорт (вроде Кэтрин Хепберн в «Филадельфийской истории»). Такая фигура считалась идеальной в двадцатые годы, и женщина прекрасно смотрелась в любой одежде — еще не появились платья от Диора, но и колючий негибкий твид, описанный в «Любви в холодном климате», был ей к лицу. И хотя ее нельзя было назвать красавицей в строгом смысле слова, с ее глазами печального Пьеро и маленьким ртом, всегда готовым к издевке, смотреть на юную Нэнси было одно удовольствие. Наверное, любая дебютантка, даже не слишком хорошенькая, являла собой привлекательное зрелище: все так молоды, все в белом.
Друг Нэнси Ивлин Во напишет позднее в «Возвращении в Брайдсхед»: год ее выхода в свет был «самым блистательным сезоном после войны». Наконец-то смерть изгнана, вернулись деньги и легкомыслие. Правда, эпическое гало, сквозь которое Ивлин Во взирает на лето 1923 года, не так уж похоже на пережитую Нэнси реальность. Спору нет, наслаждалась она от души. Не утонула, выплыла. Она сделалась очень популярной, особенно среди молодых женщин, таких как Мэри О’Нил, Мэри Милнс-Гаскелл, графиня Сифилд (Нина) и Ивлин Гарднер, будущая жена Ивлина Во. К тому же она, как и Диана, была попросту счастлива уже потому, что вырвалась из дома — подальше от сестер, среди которых она проносилась элегантным вихрем, рассыпая все более изощренные и вместе с тем грубые шутки. К примеру, трем младшим она сообщила, что средние слоги их имен — nit (гнида), sick (больная) и bore (зануда). И подальше от родителей, все более смахивавших на викторианские монолиты посреди века арт-деко. Но даже в этом порыве она оставалась тесно связана с миром, где выросла; она впитывала его, запоминала каждую черту, хотя едва ли тогда могла предвидеть, что воссоздаст его в книгах.
Такой природной отвагой, как Диана, старшая сестра не была одарена. Хотя она и станет потом агитатором, она всегда инстинктивно понимала, что наилучших результатов добьется в знакомой среде. Надо думать, она не могла бы свести дружбу с Эллё: он бы не увидел в ней то, что разглядел в Диане, да Нэнси и не хотела бы, чтобы в ней такое увидели. Во время заграничной поездки вместе с классом в 1922 году во флорентийском отеле она познакомилась с мужчиной, который вел с ней долгие разговоры о Джоне Рескине. «Мой старичок», как она его называла («ему уже лет сорок пять»), был явно поражен тем, что прелестное хихикающее создание слыхало имя Рескина, — однако более всего в рассказе Нэнси поражает другое: невинность. Все ее акты подросткового бунта сводились к внешнему — так, она обрезала себе волосы, хотя и этого было достаточно, чтобы вызвать неслабое землетрясение по шкале Митфорда-Рихтера. Джессика в «Достопочтенных и мятежниках» писала: Нэнси «проложила путь всем нам, но ценой ужасных сцен, завершавшихся молчанием или слезами». Как обычно, Джессика преувеличивает и в ее сообщении есть неточности: Нэнси остриглась не в двадцать лет, а почти два года спустя. И все же различные поступки старшей дочери — не только стриглась, но и красила губы, курила, надевала брюки — вызывали в доме бури пусть и не такого масштаба, как дневник Дианы, однако вполне ощутимые. Во второй половине 1926 года Нэнси писала Тому из Парижа, умоляя похвалить ее прическу, а то родители на нее «взъелись». Сидни в типичной для нее манере (во всяком случае, типичной, с точки зрения Нэнси) сообщила дочери: «Теперь на тебя никто смотреть не захочет». Примерно в то же время Дэвид писал Диане, которая тоже вздумала постричься: «Вернула ли ты себе волосы, которые обрезала? Не вздумай оставить их в Париже». Эта полушутка подтверждает, что короткая стрижка в самом деле воспринималась как проступок. Однако Нэнси было уже двадцать два года, и даже по понятиям той эпохи кажется невероятным устраивать такую бучу из-за того, что ежедневно проделывали практически все юные девицы Европы. Вновь возникает ощущение, будто Ридсдейлы пытались воспрепятствовать вполне естественному и безвредному поведению дочерей, потому что смутно и неопределенно страшились: эти проблески молний — лишь предвестие ужасной грозы. И оказались правы, хотя не так и не в том, что их больше всего беспокоило.
Если формулировать прямо и грубо, проблема Нэнси заключалась в том, что она была не замужем. Это тревожило Сидни, как и тот факт, что Диана ухитрилась опередить старших сестер (опять-таки Сидни вовсе не миссис Беннет). Собственно, Памела имела шанс обвенчаться в двадцать один год, одновременно с Дианой. «Таймс» напечатал объявление о бракосочетании Памелы Митфорд и Оливера Уотни, которое «произойдет приватно» в Оксфордшире 22 января 1929-го, но затем последовало сообщение, что венчание откладывается «в связи с болезнью». Уотни, живший поблизости от Свинбрука и происходивший, как и Брайан, из семьи пивоваров, страдал хроническим туберкулезом. Он даже не присутствовал в сентябре 1928-го на похоронах отца, потому что находился в больнице. Видимо, родители торопили его с женитьбой, а смерть Уотни-старшего избавила его от давления, и отсрочка свадьбы в итоге превратилась в отмену. Официально это подавалось как общее решение, но, скорее всего, инициатива исходила от Уотни. В мае 1929-го Нэнси в письме Тому сообщала, что сама она «просто в ярости», но Пэм совершенно спокойна и «от такого зятя лучше избавиться заранее». Пэм на память остались неведомые нам чувства — печаль? смущение? облегчение? — и обручальное кольцо, которое она отдала Юнити, а та подарила Гитлеру. Тому Митфорду пришлось мотаться по Лондону в маленьком автомобиле, возвращать свадебные подарки.
В самом ли деле Нэнси пришла в ярость из-за того, что ее сестру бросили, — это другой вопрос. Она все еще дразнила «Крошкодава»: например, если удавалось выяснить, какой молодой человек приглянулся сестре, тут же ей сообщала, что видела этого юношу с такой-то девушкой. Но главное, сама-то Нэнси и на милю к алтарю пока не приблизилась.
Прекрасного принца все не было, а при отсутствии жениха девушка — даже самая привлекательная — оставалась, как тогда считалось, на мели. Странная перспектива для Нэнси: возвращаться в Лондон сезон за сезоном, приближаясь к опасному рубежу — середине третьего десятилетия, словно та слишком яркая и эмансипированная девушка из рассказа Фицджеральда; являться на балы в платьях, которые год от года будут выглядеть все более поношенными; перекрашивать костюм для Аскота, чтобы еще раз использовать его в день скачек на Золотой кубок, а между сезонами возвращаться в Свинбрук, в гостиную, заполненную девицами, вечно девицами. В 1927-м Нэнси поступила в школу изящных искусств Слейда — в очередной раз выдержав схватку с родителями — и писала Тому (это уже похоже на отчаяние): если она выставит свои картины в Париже, «семья больше не сможет на меня давить». Пожалуй, в ее возрасте уже странно так воспринимать родителей, но без денег и мужа Нэнси не имела реального выхода — работа не рассматривалась в качестве мыслимого варианта. Во время не слишком успешной учебы в Слейде Нэнси снимала комнату в пансионе в Южном Кенсингтоне и продержалась там меньше месяца. Она понятия не имела, как самостоятельно жить и вести собственное хозяйство, и ей это не понравилось. Ее страсть к свободе ограничивалась довольно тесными рамками.
Возможно, в эту пору затянувшегося девичества — Нэнси три сезона выезжала в свет по всем правилам, а всего провела «в поисках» одиннадцать лет — она стремилась именно к такому напряжению между мятежом и рамками, это вполне писательский подход, хотя сама Нэнси еще не сознавала в себе талант. Порой ее письма читаются так, словно их написал ребенок, желающий шокировать взрослых. Например, она сообщает, что очень пьяна и пора ей завязывать с коктейлями, пока не нажила белую горячку и не принялась в безумии бегать по Свинбруку. Складывается впечатление, что этот образ не так уж ей противен и что напиваться скучно, если никто не делает замечаний. В то же время возникает и более смутное ощущение: кажется, что она переигрывает, что полуистерические мятежные порывы совсем не в ее вкусе, что ее в целом устраивает быть молодой, но стать взрослой для нее еще лучше. Последние два романа, «Благословение» и «Не говорите Альфреду», проникнуты убеждением, что «цивилизованный» средний возраст намного лучше глупой юности. В зрелости Нэнси безусловно в это верила — возможно, уже в молодости об этом догадывалась.
Особенно это касалось мужчин. Конечно, у нее были поклонники, при такой-то внешности. В письмах упоминаются военный Арчер Клайв; приятель Тома Найджел Берч; зажиточный землевладелец Роджер Флитвут Хескет, но, по-видимому, ни одного из них она не воспринимала всерьез. Она уже приближалась к тридцати, когда в ее кругу появился человек иного типа, гвардеец-гренадер сэр Хью Смайли, и у него были самые серьезные намерения, «он положил свой пряничный домик к моим ногам», как выразилась Нэнси. Он делал ей предложение трижды, в первый раз Нэнси отговорилась тем, что, пока не допишет «Шотландский танец», ни о чем думать не может. Это показалось разумным, и сэр Хью, подождав, подступился и во второй раз, и в третий. Во второй раз он явился в ресторан отеля «Кафе Роял» с орхидеями. Шел 1932 год, и, казалось бы, Нэнси должна была с радостью согласиться. Наконец-то мужчина, который преобразит ее жизнь, как Брайан преобразил жизнь Дианы, обеспечит и свободу от родителей, и богатство, и все то, что получила Диана. И все-таки Нэнси не смогла. Так уж она была устроена: не могла вступить в брак с холодным расчетом. Да, сэр Хью был и мил, и богат, но их дети, пугала она саму себя, родятся «тупыми блондинами». В романе «В поисках любви» Линда, главная героиня, выскочила за Тони Крезига, отчасти списанного с сэра Хью, в романтическом упоении, а вскоре поняла, что он безнадежно важен и скучен. А тут даже иллюзии влюбленности у Нэнси не было. И это лучшее предложение, какое она получила за десять лет.
Здесь действовали две причины. Первая: Нэнси оказалась не столь привлекательна для мужчин, как можно было подумать при ее великолепной внешности. Она не очень-то умела обращаться с мужчинами. Это ведь тоже дар, и она им не обладала — смеялась, когда следовало посочувствовать, отпускала, когда надо было вцепиться, и так далее. Только очень уверенный в себе поклонник мог бы проникнуть сквозь эту оболочку и оценить Нэнси по достоинству, а такому поклоннику еще лишь предстояло появиться. На самом деле все сестры (и в особенности Диана и Дебора) справлялись с мужчинами лучше, чем Нэнси. Конечно, когда среди мужчин оказывается Адольф Гитлер, напрашивается мысль, что без такого дара девушке только лучше, — и все же поразительно, как Юнити умела разговаривать с Гитлером, которого в родной стране считали полубогом, и разговаривать с ним как с мужчиной. Отчасти сказывалась митфордская самоуверенность — но и женский инстинкт тоже.
Главным врагом Нэнси был, конечно, ее ум, который в тот или иной момент отпугивал почти всех знакомых мужчин (достойное исключение — ее брат и Ивлин Во). Вероятно, это сказалось бы даже сегодня: несмотря на феминизм, женский ум все еще наиболее приемлем, когда женщина изрекает общепринятые истины или каким-то образом подстраивается под типаж. Живой, порой смертельно острый ум Нэнси чересчур выделялся, и потому у нее отсутствовал малейший шанс расцвести в кругу мужчин ее поколения. Они кое-как мирились с мозгами Дианы, поскольку эти мозги прятались в теле богини, а кроме того, Диана знала, когда и как показать себя, а когда затаиться. У Нэнси острота проделывала мгновенный путь от ума до языка — и к черту последствия. Ее ум подпитывался юмором, точнее, ум и юмор были неразделимы, оба происходили из детской ясности зрения, благодаря которой Нэнси подмечала все то, что люди предпочитают не видеть или хотя бы не высказывать вслух. Также малоподходящее качество для любовных дел.
Вторая, взаимосвязанная с первой, причина: в глубине души Нэнси, вероятно, и не хотела замуж, ей лишь казалось, что она хочет. То есть она была не прочь найти себе мужа — мир не видел бунтаря менее богемного, чем Нэнси, и cote convenable[9] постоянно заявляла о себе, — да и хотелось, наверное, оставить в прошлом воспоминание о том, как она была подружкой на свадьбе у Дианы. Но даже при хорошем отношении к Брайану Гиннессу Нэнси не спешила под венец. Как и Рэндольф Черчилль, она прозревала роковое несовпадение. Все ее романы, с самого первого, наталкиваются на вопрос о том, чем определяется удачный брак. Этот вопрос более всего терзает мыслящего человека: по сути дела, это вопрос о возможности сосуществования любви и реальности.
Один из самых проницательных персонажей Нэнси появился в ее малозамеченном романе 1932 года «Рождественский пудинг». Амабель Фортескью, ловкая светская дама, былая потаскушка («в ее молодости женщине приходилось выбирать между хорошей репутацией и международной»), в сорок пять лет эта женщина достигла мудрости (впервые проявляется надежда Нэнси на то, что зрелый возраст может оказаться богаче юного), и вот что она говорит: «Беда в том, что люди ждут от жизни счастья. Не понимаю, с какой стати, но они этого ждут. До брака они чувствуют себя несчастными и воображают, будто стоит обвенчаться, и причина их несчастья будет устранена. Когда же этого не происходит, они возлагают вину на партнера, что само по себе абсурдно…» Как большинство писателей, Нэнси лучше понимала жизнь в своих романах, чем на деле, и в двадцать семь лет, когда ее рука выводила эти слова, сама с этой истиной еще не смирилась. И все же в молодости она уже обладала достаточной долей здравого скептицизма насчет «и жили они счастливо до самой смерти», но при этом была до крайности романтична. Эти два качества соединяются, хотя и не примиряются в таких романах, как «В поисках любви». Однако в жизни все обстояло несколько иначе.
Диана, вспоминая потом лимб, в котором долго пребывала сестра, склонна была считать его адом: в домашнем плену, без денег, с нелюбимыми родителями, от которых никуда не денешься. «Что ж она так безнадежно застряла, бедняжка Ноне». Застряла, ибо не сумела выйти замуж. Но Диана была пристрастна — воспринимала судьбу Нэнси сквозь призму собственных представлений о счастье, да еще, вероятно, подспудно хотела верить в невезение старшей сестры. Правда, как обычно бывает с творческим человеком, сложнее. Сама Нэнси не чувствовала себя «застрявшей», ведь ее писательская карьера как раз начиналась. С 1929 года она вела колонки в «Вог» и «Леди». Ей было всего двадцать пять лет, она не имела ни литературного образования, ни даже законченных курсов по английской литературе, но сумела написать пусть еще неоперившуюся, подражательную, однако вполне удачную повесть, «Шотландский танец», и сразу следом «Рождественский пудинг». Эти книги далеки еще от той вершины, которую ей предстояло достичь, но продавались неплохо, были хорошо приняты критикой. Нэнси сразу сделалась знаменитостью, пусть второго ряда, — феноменальное, по правде говоря, достижение.
И если бы Нэнси действительно хотела замуж, если б это было ее глубочайшим искренним желанием, то зачем же — примерно в ту пору, когда взялась за перо, — она вздумала влюбиться в Хэмиша Сент-Клер-Эрскина?
11
Конечно, она уверяла всех, и в первую очередь себя, что они с Хэмишем (вторым сыном графа Росслина) скоро поженятся. Когда Хэмиш вернется из Оксфорда, когда будут деньги, когда родители перестанут противиться, когда Хэмиш покончит с гомосексуализмом… Последнее никогда не произносилось вслух, хотя все признаки были налицо. Том Митфорд имел с Хэмишем связь в Итоне, и хотя ее брат теперь гонялся за девушками — и это внушало ей надежду, — Хэмиш признался Нэнси, что «едва ли когда-нибудь настроится спать с женщиной».
Нэнси вовсе не первая девушка, влюбившаяся в гомосексуала, но странно, что при своем уме она так долго тешила себя иллюзией, будто сможет выйти за него замуж. Правда, именно из-за своего ума она и оказалась заложницей этих отношений, всецело из области фантазии. Как многие умненькие девушки, она обитала преимущественно в собственном воображении, там происходило все, что представляло для нее наибольший интерес, а от банальной реальности держалась в стороне. Одна беда: ее чувства, хотя и родились из иллюзии, сделались реальными. Она ужасно страдала из-за Хэмиша Сент-Клер-Эрксина, чего делать не стоило: юноша был светским прощелыгой и снобом, «мелковатым в своей утонченности», по выражению Лиз-Милна. Разумеется, он водил Нэнси за нос, но тянуть неофициальную помолвку четыре с лишним года — ее личный выбор. В 1931-м она была столь несчастлива, что пыталась отравиться газом, хотя искренность этой попытки вызывает сомнения. Что касается Хэмиша, его мотивы достаточно загадочны. Возможно, ему нравилось изображать из себя любовника — обманывать и себя, а не только ее? — и уж конечно, пришлась по душе власть, которую Нэнси ему вручила. «Он был польщен, он младше ее на четыре года, а она всячески его обхаживала»‹45› — так отзывался о ситуации друг, наблюдавший ее вблизи. Сэр Хью Смайли, преподнесший Нэнси в «Кафе Роял» орхидеи и предложивший свою руку вкупе с жизнью, которую многие девушки сочли бы желанной, был оскорблен, услышав, как за соседним столиком посмеивается с видом посвященного Хэмиш. После этого трудно винить сэра Хью за прощальную гневную ремарку: он напророчил Нэнси участь старой девы. В 1929-м она писала Диане, что планировала выйти замуж за богатого, да, к несчастью, влюбилась в бедняка. Все вверх тормашками — но опять-таки это был ее собственный выбор.
Хэмиш — полная противоположность Хью — представлял собой слегка подпорченный образчик «блистательной молодежи»[10]. Лучшие дни этого межвоенного поколения пришлись на затянувшуюся юность Нэнси. Она и сама принадлежала к этому племени, хотя и не в качестве полноправного члена; ее первый роман сверкает и искрится привычными «позолоченными» шутками. Персонаж «Шотландского танца» нарекает новорожденного Моррисом в расчете получить в подарок автомобиль, другой заявляет, что английское общество «лишилось и секса и мозгов, остались только нервы и стадный инстинкт». «Рождественский пудинг» — написанный куда более умелой рукой, местами чрезвычайно забавный, поскольку Нэнси научилась пользоваться своим «идиолектом», — постоянно иронизирует над усадьбами Котсуолда и прелестями деревенской жизни: «Никто не понимает, как ужасно безвылазно жить в деревне, все равно что в тюрьме». Что обеим книгам не пошло на пользу, так это присутствие облагороженного вымыслом Хэмиша. С другой стороны, эти романы обязаны ему своим существованием, так как Нэнси взялась за «Шотландский танец» (посвященный Хэмишу) в надежде заработать денег и потратить их вместе с ним или на него. Гонорар составил 90 фунтов, на 10 фунтов меньше, чем она рассчитывала.
Модернизм книги, циничная издевка над собой напоминают Ивлина Во. Хотя Нэнси вовсе не подражала «Мерзкой плоти», которая была опубликована (и не слишком ей понравилась) к тому времени, как она дописала свой роман, все же ей пришлось кое-что изменить в «Шотландском танце», чтобы избежать обвинений в плагиате. И от предложенного Сидни каламбура Our Vile Age[11] тоже пришлось отказаться, но стоит заметить, что мать, якобы всегда критиковавшая Нэнси, проявила достаточно интереса к ее книге, чтобы придумать название. А вот Дэвид отреагировал в духе собственного двойника (вернее, карикатуры) генерала Мергатройда. Странное дело, маленькую Нэнси он обожал, гордился ею, когда она стала взрослой женщиной, но в промежутке между этими двумя периодами они постоянно трепали друг другу нервы. Отец был в ужасе от публичной известности — неизбежной участи красивой молодой писательницы. В особенности лорд и леди Ридсдейл возражали против посвящения: как уведомляла «Санди диспэтч», книга посвящалась «жениху». Их опасения вполне понятны. Можно было даже заподозрить, что Нэнси назначила объектом своей страсти гея и католика с единственной целью изводить «достопочтенных», как она их именовала, если бы ее письма не были пронизаны чувствами, столь расточительно изливаемыми на «жениха». Дэвид давно распознал гомосексуальные склонности Хэмиша, и, скорее всего, Сидни тоже догадывалась. В 1929 году, гостя в Нортумберленде, Нэнси радовалась тому, как «божественно» ее бабушка отнеслась к Хэмишу, хотя ненавидела его предков (по обеим линиям шотландских аристократов), но семидесятипятилетняя Климентина как раз могла и не разобраться в ориентации «жениха», а с формальной точки зрения он вполне подходил.
В письме к Диане после публикации «Шотландского танца» Нэнси сообщает, что вместо восторгов книга вызвала у родителей великое недовольство, став символом всего, что их пугало в дочери. Они обвинили ее в том, что она якшается «с пьяницами», губит свое здоровье и репутацию. Этим летом она в Лондон не поедет, постановили они. Учитывая, что пора юности для нее безнадежно миновала (в двадцать шесть лет!), ей вообще пора отказаться от светской жизни и смириться со скромным существованием в деревне.
Сделав поправку на свойственные Нэнси преувеличения, мы все же принимаем возмущение ее родителей как несомненный факт. Дэвид лишил ее ежегодного содержания в 125 фунтов — отчасти из-за собственных финансовых проблем, отчасти в наказание. Чего они так боялись?
Трудно сказать. Учитывая наклонности Хэмиша, девичья честь едва ли была под угрозой. Хотя потом будущая невестка Нэнси обзовет ее «товаром, потерявшим вид», намекая на любовные связи (с кем? с сэром Хью Смайли?), ни малейших доказательств в пользу таких обвинений нет. Скорее это просто злопыхательство, пищу для которого дало затянувшееся пребывание в девицах. Сам факт, что Нэнси никак не находила себе мужа в том мире, где для женщин не предусматривалась иная карьера (и еще не было феминистской литературы, которой они могли бы забросать своих критиков), обусловливал уязвимость Нэнси для разного рода сплетен. А она не обладала божественной самоуверенностью Дианы, чтобы небрежно отмахнуться. В итоге, как она писала Диане, она более-менее смирилась с требованиями родителей и осталась на лето в Оксфордшире.
Какое вместилище противоречий это угрюмое дитя, этот утонченный талант! Но ведь ей предоставлялся путь бегства из семьи — сэр Хью, — а она его отвергла. Хорошо еще, что у Нэнси имелись друзья (умение сохранять дружбу до гробовой доски — еще один ее дар), и, на ее счастье, это были и самые любопытные мужчины того поколения.
Хэмиш, о чем в глубине души Нэнси, вероятно, догадывалась, был из них наименее значительным. Гораздо важнее была компания изысканных умников, эстетов, которых для удобства классификации относят к «блистательной молодежи», хотя их влияние было более длительным. Знакомство с ними Нэнси завязала вскоре после выхода в свет, и к концу двадцатых годов у нее сложился постоянный дружеский круг. Она общалась с ними в Лондоне и в Оксфорде, где большинство из них училось (как и Хэмиш, но его в итоге исключили), и опять-таки, как и Хэмиш, большинство из них были гомосексуалами. Их совершенно не смущал острый ум Нэнси. Время от времени они наведывались в Свинбрук и рыскали по имению в своих просторных штанах, мечтая о cachet faivre[12], а Дэвид предлагал им «мыслителей», то есть свиные мозги, и никак не мог смириться с их особенностями. «В выходные они праздничной ордой слетались из Лондона или Оксфорда, — писала Джессика в „Достопочтенных и мятежниках“. — Буд [Юнити], Дебо и меня надежно изолировали от приятелей Нэнси, мама опасалась их дурного влияния. „Что за компания!“ — восклицала она… Они общались на жаргоне того времени, только и слышно было: „Лапочка, ах, это божественно, слишком божественно, о нет, с души воротит, какой позор!“»
Очень скучно они выглядят в этом описании, словно актеры в дилетантской постановке «Водоворота», и это несправедливо: наверное, они были замечательны, ведь нечасто люди идеально подходят друг другу и своему времени. К тому же у них не было телевизора, не говоря уж об интернете. Казалось бы, очевидно, и не стоит лишний раз упоминать, но ведь это один из ключевых факторов в истории Митфордов — безусловная обязанность развлекать, не замыкаясь на себе, заполнять часы усилиями и выдумкой, поскольку возможности включить экран и предоставить ему проделать за тебя всю работу попросту не существовало. В результате жизнь была более утомительной, порой и скучной, но в итоге куда более насыщенной, куда более реальной!
А уж друзья Нэнси в особенности обладали всеми возможностями, чтобы сладить со злой скукой без помощи Инстаграма. Среди них были Брайан Говард (прототип Энтони Бланша из «Возвращения в Брайдсхед»), Гарольд Эктон (тоже повлиявший на образ Бланша, «самый умный из наших друзей», по оценке Дианы), его брат художник Уильям Эктон (он нарисовал знаменитые карандашные портреты девочек Митфорд), дизайнер Оливер Мессел, будущий кинопродюсер Джон Сутро, писатель Роберт Байрон (еще один гомосексуал, заинтересовавший Нэнси) и Марк Огилви-Грант, согласившийся иллюстрировать «Шотландский танец». По словам Дианы, Марк был «для Нэнси почти братом»‹46› и с ним она делилась всеми своими горестями по поводу Хэмиша. Видимо, Нэнси догадывалась, что этот ее друг слишком добр и не скажет вслух то, чего она не могла слышать. А вот Роберт Байрон, признавалась она Марку, над ее попыткой самоубийства смеялся до колик.
Марк был кузеном Нины Сифилд, близкой подруги Нэнси, и, несмотря на гомосексуальность, подумывал жениться на своей родственнице — вот еще один повод для Нэнси считать гомосексуальность неким состоянием, в которое мужчина может по своей воле войти или выйти. Главным образом именно Марк привел в жизнь Нэнси эту славную компанию, хотя имелись и другие связи, например, Эктон знал Тома Митфорда еще по Итону. Был еще один список друзей, в Свинбруке никогда не бывавших, но оттого не менее дорогих: Джон Бетжемен и в особенности Ивлин Во, чья первая жена, «Ивлин-Она», дебютировала в один год с Нэнси. В 1929 году супруги Во жили на Кэнонбери-сквер и выделили Нэнси гостевую спальню. Это как нельзя лучше устроило бы Нэнси, но прожить вместе с друзьями ей удалось всего месяц, поскольку в то лето их брак распался. «Ивлин вздумала наставлять мне рога с [Джоном] Хейгейтом», — жестко сообщал обманутый муж в письме к Эктону. Они развелись, Нэнси встала на сторону Ивлина Во, и их дружба, — которая, на радость потомкам, поддерживалась путем остроумнейших писем, — со временем станет одной из самых важных в ее жизни.
В окружении этих молодых людей Нэнси постепенно раскрывала свои истинные черты, не котсуолдские и не лондонские, а скорее космополитические, в стиле рококо. Та фривольность, о которой много пишет Джессика, составляла только часть общей картины. Мессел, Сутро и многие прочие в этой компании оказались вовсе не дилетантами. Другое дело Брайан Говард, который рано расцвел и быстро увял‹47›, не поняв толком, в чем заключается его талант, — он, к примеру, рисовал картины для мистификации, выставки Бруно Хата в 1930 году. Он был склонен к аффектации — «Право, дорогой, ты же не пожар заливаешь», — мог сказать он любовнику, прыскавшемуся «Герленом», — и к вполне сознательной эксцентричности. Так, в метель он прикрывал голову маленькой картиной Пикассо, обернутой в пижаму («шляпы чудовищно дороги!»). Это нисколько не мешало ему быть проницательным, глубоко и строго мыслящим. Когда Говард сообщил Гарольду Эктону, что его новый друг Нэнси — «очаровательное существо, прямо-таки петарда, друг мой, и порой не только ярко блещет, но и обнаруживает глубокий ум», Эктон отнесся к этой оценке с уважением.
Эктон был вожаком этой стаи. Аффектация и ему была не чужда: когда в гостях напористая молодая женщина, чья машина сломалась по пути на этот званый ужин, попрекнула: «Вы не из тех мужчин, кого можно представить себе лежащим под машиной и что-то делающим», он тут же ответил: «Главное, с кем лежать и что делать». (Его брат Уильям превосходил его находчивостью: когда Диана, встретив его в 1940-м, поинтересовалась, в какой форме он «работает на войну», он ответил: «Изучаю урду».) Гарольд Эктон был «иконой стиля», центром притяжения для друзей, провозвестником всего нового (списанный с него Энтони Бланш читал оксфордским гребцам «Бесплодную землю» Элиота). Он оказал заметное влияние на Ивлина Во: «Полагаю, нас объединяло то, что по-английски именуется gusto, — вкус к многообразию и абсурдности жизни, открывавшейся перед нами»‹48›. Во, безусловно, превосходил Эктона писательским талантом — Эктон опубликовал роман «Чепуха» одновременно с «Упадком и разрушением», и Во совершенно его затмил, — но истинный гений Эктона проявлялся не в литературе, а в самой жизни, в «блеске и очаровании личности, не знавшей себе равной в поколении», как утверждала Диана. В утонченной проницательности он не уступал Энтони Бланшу, и Нэнси дорожила его признанием. Он стал ее первым биографом, наполнив книгу деликатными, но точными оценками. Одна из его догадок: благожелательные портреты гомосексуалов у Нэнси, особенно открытого гея, очаровательно эксцентричного Седрика в «Любви в холодном климате», способствовали снятию «социального клейма» с сексуальной ориентации. Гомосексуальные связи оставались вне закона, но едва ли об этом можно догадаться, следя за вечно радостным Седриком. («Никогда больше не буду писать о нормальной любви, — сообщала Нэнси Марку Огилви-Гранту, — поскольку, очевидно, другой ее сорт привлекает куда больше читателей, и гораздо более благодарных».)
Готовность общаться с такого рода людьми вовлекала Нэнси (до определенной степени) в мир «Мерзкой плоти». Этот роман кажется теперь точным слепком с высшего общества двадцатых годов. «О, Нина, сплошные вечеринки!» — восклицает главный герой. Или, как позднее формулировала Нэнси, «мы почти не видели дневного света, разве что на утренней заре». В одном из эпизодов романа старшее поколение чинно сидит на балу и обсуждает поведение молодежи: «А вы не думаете, что они…» — «Дорогая моя, судя по всему, что я слышу, еще как!» Вероятно, так и Ридсдейлы думали о своей старшей дочери.
Но еще больше их тревожил Хэмиш, нелепость тех чувств, что питала к нему их дочь. «Мерзкая плоть» представляет собой фантастическую сатиру на эту эпоху, вортицистский рисунок из раздробленных, неопределившихся настроений. Да, Нэнси бывала в ночных клубах и на сомнительных собраниях, оживляемых «чудесным порошком», но присутствовала и на светских свадьбах, на танцах в Белгравии, участвовала во всем, о чем писал «Татлер» и что составляло жизнь ее сословия. И не так уж ее друзья-умники угрожали миру Ридсдейлов. Разумеется, родители вспоминали про эту компанию, когда предъявляли Нэнси очередной счет, но при этом частенько приглашали молодежь в Свинбрук, и, вопреки первому впечатлению, эти юноши прекрасно умели скакать на охотничьих лошадях и, разъехавшись, благодарить хозяев любезными письмами. Дэвид оцепенел, когда у некоего юнца из кармана выпала расческа, а другому, обнаружившему полную несостоятельность в обращении с ружьем, заявил: «Лучше бы я взял на охоту горничную», однако тот инцидент, когда он набросился на Джеймса Лиз-Милна, вовсе не был для Дэвида типичен: обычно он умел соблюдать приличные манеры. Он хорошо относился к Марку Огилви-Гранту, а тот, как сообщала Нэнси своей матери уже после Второй мировой, в плену грезил о слоеном торте с джемом, который подавали в Свинбруке. «Семейство Митфорд весьма занимательно, — писал Роберт Байрон своей матери, — и я с удовольствием у них гощу». Это вовсе не похоже на смертельную схватку дяди Мэтью с поклонниками модернизма.
Эти же молодые люди составляли компанию Дианы и Брайана Гиннессов. Как только Диана в январе 1929 года вышла замуж, они повадились собираться в их миленьком домике на Букингем-стрит. Диана впоследствии отрекалась от какой-либо близости к этой «блистательной молодежи», но она сразу же оказалась, словно по врожденному праву, в средоточии художественной и творческой жизни Лондона. Эктон, Байрон, Говард, Генри Йорк, писавший романы под псевдонимом Генри Грин, Литтон Стрейчи и художница Дора Каррингтон, великолепный эксцентрик музыкант Джеральд Бернере, Ситуэллы, Лотте Ленья — все устремились в гостиную Дианы, все в той или иной форме несли свою дань молодой женщине, которая выглядела словно прекрасный сон и притом восхищалась их талантами. «Писатели, художники и композиторы казались мне в ту пору князьями человеческими», — писала она впоследствии. Брайан и сам был неравнодушен к искусству: ухаживая за Дианой, он водил ее в театр чуть ли не каждый вечер. Адвокатская служба не мешала ему писать хорошую, выстраданную поэзию, а в 1930-м он опубликовал роман «Желания и открытия»‹49›, не принесший, правда, успеха. Собравшееся в его доме общество было Брайану весьма по душе, вот только Дианой он хотел бы владеть всецело, а не следить со стороны, как она царит посреди модной столицы. «И я не чужд искусству, и знаю я салон, где Сикерты и Гиннессы, Герлтер и Джон», — воспевал этот салон на Букингем-стрит Джон Бетжемен. Гиннессам принадлежал дивный дом эпохи королевы Анны в Уилтшире. Его внутреннюю обстановку подробно описывал в одном из январских выпусков «Дейли телеграф»: «Миссис Гиннесс приложила в последние полгода немало усилий, чтобы подчеркнуть изящные пропорции комнат ясными пастельными тонами, которые выбраны с присущей молодости простотой». Этот дом тоже наполнился гостями, вечеринками. В двадцать один год Диана уже превращалась в своего рода миф, как утверждал ее будущий пасынок Николас Мосли, проницательно подметивший ее митфордианский талант «сочетать в себе и уважение к условностям, и умение их опрокинуть»‹50›.
Разумеется, часто бывала здесь и Нэнси, в том числе потому, что у Дианы и Брайана она всегда могла повидаться с друзьями. Когда брак Ивлина Во рухнул, лишив Нэнси гостевой комнаты на Кэнонбери-сквер, сестра предоставила ей убежище на Букингем-стрит. Она почти все время там жила, и сюда все чаще стал наведываться Ивлин Во.
«Разделяете ли вы мое восхищение Дианой? — писал он Генри Йорку в сентябре 1929-го. — Мне кажется, она самая интересная в нашем поколении». Во, посвятивший «Мерзкую плоть» супругам Гиннесс, по уши влюбился в Диану. Сама она, уверяла Диана, в ту пору не распознала его увлечения, однако, учитывая предысторию и то, как Диана повергала в транс чуть ли не каждого мужчину на своем пути, трудно поверить, чтобы она ничего не заподозрила, когда во время ее первой беременности (Джонатан родился в 1930-м) блистательный молодой писатель повадился приходить и усаживаться каждое утро на ее постель, словно готовился к совместным родам.
Даже Нэнси, столь слепая, когда речь шла о ее собственных любовных делах, тут обнаружила достаточную проницательность. Наблюдала она вблизи и благополучную жизнь Дианы: деньги, парижские наряды, малышей (в 1931-м явился на свет второй сын, Дэсмонд), обожающего супруга — все, чему вполне можно было позавидовать. Но, наверное, тяжелее всего ей было смотреть на Ивлина Во, который вдруг превратился в очарованного Лизандра из «Сна в летнюю ночь». И не то чтобы он был нужен самой Нэнси — во всяком случае, не в качестве одуревшего от любви поклонника. Но символичным казалось, как смещаются в этом кругу привязанность и преданность (следом за Ивлином Во к ногам Дианы пал Роберт Байрон, и Во, тоже раздираемый ревностью, попрекал Диану тем, что она-де предпочитает ему Роберта). Столько лет Нэнси потратила на поиски друзей, с кем легче сносить бремя родительского гнета и безответной любви, и в мгновение ока они поместили в средоточие своей жизни Диану… Так впервые резко изменился характер отношений между двумя сестрами, белой и черной королевой, которые господствовали над остальными. Власть любой из них стала бы абсолютной, если бы не было другой сестры.
Часть II
Что за человек
Ваш капитан Джек?
Знаю одно:
Его сердце черно.
Из романа Нэнси Митфорд «Чепчики в воздух»1
7 июля 1932 года Диана устроила в Лондоне бал в честь Юнити, которой вот-вот должно было исполниться 18 лет. Несколькими месяцами ранее Гиннессы переехали на Чейн-уок, в дом номер 96, где когда-то жил Уистлер. Великолепный особняк на берегу реки мог вместить 300 гостей в гигантском бальном зале. Среди гостей присутствовал и сэр Освальд Мосли — он же был тайной причиной, по которой Диана затеяла это празднество.
«Ты была прекрасна, будто верховная богиня, — писала Диане другая светская дама, Эмеральд Кунард. — Свежа и словно в каплях росы Олимпа». Роберт Байрон вторил: «Лучший праздник, даже среди твоих. Меня словно воскресили из мертвых». Много лет спустя художник Осберт Ланкастер‹1›, тоже побывавший на этом вечере, высказал несколько иное мнение. Он приехал на бал вместе с Джеймсом Лиз-Милном. В то время в суде слушалось знаменитое дело об убийстве: Элвира Барни, молодая женщина из общества, обвинялась в том, что застрелила своего любовника в Кенсингтон-мьюз, но благодаря усилиям чрезвычайно дорогого адвоката была оправдана. «В экономике продолжался кризис, — вспоминал Ланкастер, — что тоже не улучшало отношения к высшим классам. Толпа, собравшаяся возле особняка, была настроена злобно. Они все поминали нам эту миссис Барни».
Не только во время представления дебютанток ко двору народ выстраивался вдоль Молла — любые светские мероприятия привлекали зевак, желавших посмотреть, как будут съезжаться гости (или, как в этом случае, застать момент, когда Огастаса Джона, вусмерть напившегося, вынесут из особняка на Чейн-уок двое лакеев). Замечание Ланкастера о настрое толпы существенно: контраст между такими богачами, как Гиннессы, и обычными лондонцами в пору Великой депрессии достиг опасной крайности (примерно как сейчас). Диана, можно сказать, дала себе труд выйти замуж — и только. Богатство проявлялось более сдержанно: тогда не отапливали пустующие усадьбы и не арендовали под детский праздник остров Неккер, но все же бесконечное самоуслаждение граничило с вульгарностью. Обожавший Диану муж, боготворившие ее друзья, статьи в «Татлер» и «Байстендер», умилявшиеся каждому ее чиху (новой прическе, манере надевать брюки для работы в саду), приглашение сыграть Пердиту в новой постановке «Зимней сказки» у Кокрена (решительный отказ: это было не в ее вкусе)… С какой легкостью она повергла мир к своим стопам — а ей едва исполнилось двадцать два года. Лето на Средиземноморье, прекрасная картина Стэнли Спенсера, подаренная Брайаном после рождения Джонатана, обюссонские ковры в детской («малышам полезно смотреть на что-то красивое, пока они тут ползают»), отдельные ванные комнаты у супругов (ее свекор считал это неотъемлемой принадлежностью цивилизованной жизни в ту пору, когда подавляющее большинство англичан довольствовалось жестяным корытом и уборной во дворе), беседка в Биддсдене с мозаикой Бориса Анрепа, сама Диана среди прочих персонажей в роли Эрато… Единственный монстр в этом мире чудесных снов — огромный волкодав Пилигрим, которого она кормила с рук сырым мясом.
Но первые «голодные походы» пробудили в Диане интерес к политике, столь же глубокий, как у Джессики, хотя она меньше по этому поводу шумела. Спустя много лет в рецензии на историю рабочего движения Диана с живым состраданием вспомнит «ужасную дефляцию 1926 года, при Болдуине, шахтеров, которых голод принудил сдаться, когда Всеобщая стачка закончилась ничем… сокрушающую бедность, кошмар безработицы, чудовищные условия той эпохи». И она точно знала, на кого возложить вину за послевоенные страдания: «Тори были у власти и ничего не предпринимали». Деборе она потом писала, что с шестнадцати лет сделалась «решительным противником» тори. Но и лидер лейбористов Рэмси Макдональд ей не приглянулся: глава Национального правительства (1931–1935), призванного вывести страну из тупика, «фактически был тори». С юности Диана определила свою партийную ориентацию (голосовала она единственный раз за всю жизнь) как «либерал в духе Ллойд-Джорджа». Со временем Ллойд-Джордж выскажется в защиту Освальда Мосли и против войны с Германией, чем еще более заслужит расположение Дианы, — однако до того он постарается урезать власть палаты пэров, той самой, от которой зависел статус Митфордов. Это один из парадоксов ее жизни, как и пожизненная антипатия к партии богатых — пусть сама она едва поспевала переезжать из одного прекрасного особняка в другой, а через ее руки так легко скользили несметные богатства. Но Диана не была «социалисткой с шампанским» — эта порода тоже удостаивалась от нее лишь презрения. Скорее Диана родилась радикалкой, и родилась не вовремя.
«В 1932 году мы все, у кого была хоть капля мозгов, задумывались о политике, — писала она впоследствии. — Мы были уверены, что поколение родителей развязало войну и что с помощью ума и воли ужасные последствия войны удастся преодолеть и мир изменится». Ах эта вера в перемены! Она столь соблазнительна, особенно для юных. И столь безответственна, ведь, как правило, происходят совсем не те перемены, о каких мечтали.
С Брайаном Гиннессом Диана заскучала — это стало очевидным к балу в честь Юнити, — и скука была отчасти сродни радикализму. Британская политическая система виделась ей такой же пуховой периной, как и ее брак. Все это было слишком идеально — «мертвый идеал, и ничего более», как сказано в «Мод» Теннисона, и героиня этой поэмы похожа на Диану тех лет: «питалась розами и возлежала на лилиях». Разумеется, Диана вовсе не мечтала быть выброшенной на улицу, причаститься горестям бедняков, как Гордон Комсток в романе «Да будет фикус», но она жаждала большего. После рождения первенца в марте 1930-го она уже рвалась прочь — не от ребенка, материнство как раз делало ее счастливой, Дебора позднее охарактеризует сестру как «чрезвычайно детолюбивую», — но ей хотелось поскорее вернуться в мир, насытиться новыми впечатлениями. Ивлина Во это расстроило настолько («в чистом виде ревность», позднее признавал он), что в их дружбе появилась трещина. «После рождения Джонатана вы начали расширять компанию. Я чувствовал, что мне уделяется меньше внимания, чем Гарольду Эктону и Роберту Байрону, я не мог состязаться с ними, не мог и довольствоваться меньшим»‹2›. В то лето он отклонил приглашение в Нокмарун, семейный особняк под Дублином. Возможно, Брайан надеялся побыть там наедине с женой, однако она пригласила множество гостей, в том числе Нэнси и Литтона Стрейчи. «Заняться тут нечем, — писала она Литтону, — только ходить в театр на прескучные ирландские пьесы». Пока Брайан ухаживал, Диана ценила манеру постоянно приглашать ее в театр как признак утонченности. Теперь она однажды поднялась и вышла во время представления, а спутники бежали за ней, как провинившиеся пажи.
В конце 1930 года Диана вновь забеременела, что вовсе не входило в ее планы. «Разумеется, мы бы родили тебя попозже, дорогой, — поясняла она потом своему сыну Десмонду, — только не прямо тогда». Но так ли это? Их браку было всего два года, а Диана уже тяготилась постоянным присутствием мужа. Он вступил в коллегию адвокатов, но почти сразу же забросил юриспруденцию («Мистеру Гиннессу не нужны три гинеи», — приговаривал его секретарь, раздавая указания помощникам). Брайан безвылазно торчал дома, на Букингем-стрит. После детства в постоянном окружении родственников, когда высшей ценностью казалась возможность побыть одной, Диану пугало, что Брайан столь же назойлив, как ее болтливые и вечно требующие внимания сестры. Свобода, к которой она стремилась, вновь оказалась недостижима. На какое-то время муж все-таки расстался с ней, поехав в Австрию с Томом, — он, как и все, любил Тома, — но с дороги написал сорокастраничное письмо с рефреном: «Я лежу без сна и тревожусь о тебе». Вот еще не хватало! (У Митфордов подобные сантименты не были в чести.) Его манера обращения с Дианой, неудачная смесь заискивания и настойчивости, была столь же неразумна, как обращение Нэнси с Хэмишем Сент-Клер-Эрскином. Брайан тоже передавал всю власть в отношениях другому человеку (l’un qui se laisse aimer[13]) и ожидал, что партнерша будет бережна с его сердцем. Увы, подобное доверие редко оправдывается. У Дианы под улыбкой Мадонны вибрировала колоссальная невостребованная сила. Она могла чувствовать лишь презрение к чужой слабости — тем более что понимала, как мало Брайан заслуживает презрения. Он действовал ей на нервы, и тут не было иного выхода, кроме радикальной смены тактики. Обожание Диана получала в огромных количествах, ей требовалось нечто бодрящее. Такой умный человек, как Брайан, мог бы и догадаться.
На самом деле неудовлетворенность жизнью, полной денег и восхищения, служит к чести Дианы. Она вышла за Брайана не потому, что он был богат (и с долей торжества восклицала: «Я сделалась нищей, когда ушла от него», хотя нищета Итон-сквер была относительной)‹3›. Подобно Нэнси и остальным сестрам, Диана не была способна к холодному расчету. Она выбрала Брайана, потому что он сулил ей новую жизнь и отчасти потому, что этому браку противились родители. И ведь они были правы, предостерегая, что она еще слишком молода, но едва ли с возрастом что-то изменилось. Обычное благополучие никогда не сможет удовлетворить женщину, которой любые дары выдавались без малейшего обязательства платить по счетам.
2
В феврале 1932 года «Санди график» сообщала: «В скором времени ожидается возвращение в Лондон молодой писательницы мисс Нэнси Митфорд, которая в ближайшие две недели закончит свой новый роман [„Рождественский пудинг“]. Она сообщила нашему корреспонденту, что в деревне писать легче. Вероятно, там имеются и свои развлечения: на прошлой неделе ее мать, леди Ридсдейл, устроила бал в честь ее младшей сестры с пышным именем Юнити Валькирия. Леди Ридсдейл, не обладая писательским талантом дочери, прославилась как великолепный кондитер…»
Первый бал Юнити состоялся в Свинбруке за пять месяцев до бала на Чейн-уок. Ее дебют пришелся на полный превратностей год, с которого для Митфордов началось все: катастрофы, трагедии, слава, миф. Но поначалу все казалось обычным и нормальным: очередная дочь вступала в свет. Если Юнити и была обделена привлекательностью Нэнси, спокойствием Пэм и красотой Дианы — ну что ж, так тому и быть. Матери дебютанток, вероятно, перешептывались за чаем о хлопотах Сидни Ридсдейл (уже четвертая дочь вышла в свет, а замужем только одна, старшей уже под тридцать, дорогая моя, а теперь еще эта великанша, словно из северных мифов…). Но ничего непоправимого пока не произошло.
Описания Юнити в детстве противоречивы. Джессика запомнила ее угрюмой и раздражительной, Джон Бетжемен — живой, с чувством юмора, а одноклассница писала: «Она сама была самоубийство — столь склонна к саморазрушению». Горничная Митфордов Мейбл утверждала, что Юнити «ужасно обращалась с мисс Хасси», одной из гувернанток, но мисс Хасси отзывалась о своей воспитаннице с сочувствием и любовью: «Никогда не забуду эту маленькую Жанну д’Арк». Дебора, признавая собственную растерянность, много лет спустя писала: «Вероятно, сказать, что она была непостижима, — чересчур легкий выход, но это факт». Однако воспоминания о Юнити подчас окрашены знанием о ее будущем: странности преувеличивают, придают им слишком большое значение. Так убийцу постфактум аттестуют как «одиночку, слегка одержимого», но эти же черты законопослушного гражданина остаются незамеченными. Можно перебирать необычных любимцев Юнити, двукратное исключение из школы и видеть в этом семена будущего безумия (закрыв глаза на то обстоятельство, что Дебора держала ручную козу и не вписывалась в казенную систему образования, однако трудно себе представить более психически здорового человека).
Несомненно, присутствие Юнити в доме раздражало родителей, и не случайно они раз за разом пытались отослать ее в школу. Вряд ли она была особенно шумной, скорее предпочитала «тупое неповиновение», особенно под пристальным и критическим взглядом отца. Склонность Дэвида взрываться по пустякам лишь обострялась благодаря привычкам Юнити, например, сползать за едой под стол. Даже в огромном доме от нее деться было некуда, словно от садовой скульптуры, загромоздившей холл. Ее угрюмость тоже не лишена была юмора. Так, однажды Сидни, взяв на себя обязанности учительницы, прочла ей какой-то отрывок и попросила пересказать, но Юнити отчего-то отказывалась это сделать. Неужели она ни словечка не запомнила? — уговаривала Сидни. Одно только словечко! Хорошо, ответила Юнити, я помню «и». Ее письма отличаются чрезвычайной живостью, словно с трудом сдерживая присущий Митфордам избыток личности. Интересно косвенное свидетельство — сообщение мисс Хасси о художественном таланте Юнити: «Она рисовала карандашом и красками в манере Блейка. Столько воображения». Все девочки Митфорд были одарены — в разной степени и на разный манер, — и Юнити позже посещала в Лондоне школу искусств (бывшую школу Сикерта). Но этот выход, отдушина для фрустраций, оказался недостаточен или же появился слишком поздно. В итоге она подарила один из своих искусных коллажей другому несостоявшемуся художнику — Адольфу Гитлеру.
Примерно с двенадцати лет «трудной» считалась и Джессика, хотя это не воспринималось так остро — может быть, потому, что ее приятная внешность, а главное, изящество (самая маленькая из сестер) делали ее присутствие не столь грозным. Юнити выросла огромной, почти метр восемьдесят, красивой, но с плохими зубами в результате пристрастия к картофельному пюре: на передних зубах две серые пломбы. Словно неуклюжий, слегка изувеченный близнец Дианы: «Застенчивая, нелюдимая, лицо крупнее, и все черты преувеличены, более выражен подбородок»‹4›. Но газеты, раздававшие дебютанткам оценки (благопристойный вариант «колонки позора», которой обзавелась «Дейли мейл»), были к Юнити благосклонны. «Самой прелестной девушкой в Эпсоне показалась дост. Юнити Митфорд», — провозгласила «Дейли экспресс» после Дерби 1932 года.
Но это суждение едва ли соответствовало истине: вероятно, Юнити выделяли потому, что она была еще одной из девочек Митфорд.
В том же 1932 году Джон Бетжемен написал странный трогательный стишок: «Сестры Митфорд, сестры Митфорд, в них люблю я их грехи…» Так юный поэт из романа Мюриэл Спарк «Девушки со скромными средствами» влюбляется в «созвездие» девушек, поселившихся в пристойном лондонском пансионе, и особенно в ту, кто воплощает для него это целое. Для Бетжемена воплощением целого стала Памела («что ближе всех к земле»). Она жила тогда в Биддсдене, где он часто бывал. После разрыва помолвки с Оливером Уотни Памела осталась у разбитого корыта, притихла и ездила с родителями в заграничные путешествия как безнадежно незамужняя дочь. Она отправилась с отцом в Канаду в очередной раз искать золото и со всей семьей в Сен-Мориц. Дома она разводила бордер-терьеров и продавала их через «Таймс». В некоторых отношениях ее можно было считать самой благополучной из сестер, поскольку она не доставляла хлопот, но — как и с Нэнси — неотступно маячил страшный вопрос: что делать девушке, если она никак не выйдет замуж'? Ужасно, право, сколь мало изменилось положение женщины за сто с лишним лет с тех пор, как Шарлотта Лукас вынуждена была благодарить небеса, пославшие ей мистера Коллинза.
Но Пэм сама решила эту проблему, предложив Брайану Гиннессу стать управляющей его молочной фермой с 350 акрами земли. Он тут же согласился — он тепло относился к невесткам, а возможно, как и его приятель поэт Бетжемен, был восприимчив к их совокупной красоте‹5›. Пэм получила ферму и коттедж. Мисс Пэм, как ее именовали доярки, чувствительному Бетжемену представлялась воплощением вечного сельского покоя. Она была привлекательна — еще одна версия Дианы, однако версия пассивная, почти «коровья». Искра Митфордов не разгоралась в ней с такой яркостью, но таинственное очарование этого племени присутствовало, даже если она сама того не сознавала. «Женщина» — прозвали ее еще в детстве сестры, и неспроста. «Я все еще думаю о мисс Пэм, — признавался Бетжемен Диане в феврале 1932 года. — Я прислушивался, пытаясь понять, способствует ли недолгая разлука усилению привязанности, — боже мой, да! Все ли ее сердце склоняется к тому кошмарному чешскому графу?»
Чешский граф был на самом деле русским, Сергеем Орловым, и Пэм называла его просто другом, хотя Нэнси (типично для нее) утверждала, что Пэм «не слишком удачно разыграла свои карты». Бетжемен, поворчав какое-то время насчет Орлова, сдался. До того он дважды делал Пэм предложение. Она потом объясняла, что очень хорошо к нему относилась, но не чувствовала любви, а потому «предпочла отказать». В 1932 году отвергнутый жених писал Нэнси, которая ему очень нравилась: «Если Памела Митфорд окончательно мне откажет, ты могла бы выйти за меня — я богат, красив и аристократичен». Сорок лет спустя, когда его посвятили в рыцари, Нэнси радостно его поздравила, приписав: «Поймай я тогда тебя на слове — „Раз мисс Пэм не желает выйти за меня, это стоит сделать тебе“, — я бы сейчас стала леди. Увы, слишком поздно!»‹6› Она тоже прекрасно к нему относилась. Его пристрастие ко всему викторианскому, необычное для двадцатых годов, постоянно обыгрывается в «Шотландском танце», а неуверенный в себе молодой писатель «Рождественского пудинга» списан с него. Это были легкие и неэгоистичные отношения, опровергающие известное мнение, будто Нэнси переполнена желчью. «Как мы умны и хороши», — писала она ему в ответ на послание, восхваляющее «В поисках любви». («Я горжусь знакомством с тобой», — говорил он ей еще раньше.)
Бетжемен описывает Биддсден как рай на земле: «Словно оксфордский сервиз — мир казался нам вечной вечеринкой». Трехэтажное здание, столь же элегантное и официальное, как его хозяйка, как нельзя лучше подходило к ряду картин, будто из старинного домашнего кинофильма: вот Брайан Гиннесс показывает фокусы, Юнити на пару с Бетжеменом поет духовные гимны, Диана позирует Генри Лэму для портрета, проходит Памела в брюках для верховой езды и гонит стадо коров.
В этих декорациях обретался и Литтон Стрейчи. Несмотря на гомосексуальность, он тоже не устоял перед обаянием Дианы. Впервые они познакомились на ужине после оперы, который организовала Эмеральд Кунард. Она вздумала посадить гостя рядом с прославленной красавицей леди Дианой Купер. «Нет, я хочу сесть с другой Дианой», — возразил он, возможно, из упрямства, но, как писала потом «другая Диана», «мы тут же почувствовали сильнейшее притяжение, словно железные опилки и магнит». Ее страсть к знаниям, которую в детстве удалось лишь пробудить, но не насытить, нашла в Стрейчи идеального сотоварища на том этапе жизни. «Отчасти благодаря ему я так быстро повзрослела». Диане хватило великодушия изображать из себя поклонницу Стрейчи, а не наоборот. Способность привлекать людей никогда не делала ее спесивой.
Дом Стрейчи поблизости от Биддсдена, в Хэм-Спрее, вмещал типичную блумсберийскую компанию, в том числе Дору Кэррингтон с мужем и любовником мужа. В Диане, при всей широте взглядов, ничего блумсберийского не было. Она никогда не стала бы отождествлять, как это делали они, духовную свободу с отказом от бытовых удобств. «Беднейший крестьянин Центральной Европы не потерпел бы такого дискомфорта, какой терпели они». Кэррингтон (так все ее называли) была безнадежно влюблена в Стрейчи, однако с Дианой соперничать не стала, предпочтя с ней подружиться. Она часто бывала в Биддсдене и в честь рождения Десмонда расписала там окно. После визита в 1931 году она отчитывалась Стрейчи: видела «трех сестер и маму Ридсдейл. Младшие [Джессика и Дебора] ошеломляюще красивы, а другая, шестнадцатилетняя [Юнити], восхитительна, в греческом стиле. Мать тоже показалась мне замечательной, очень разумной, без манер высшего класса».
«Мне казалось, я хорошо ее знаю, — писала потом Диана о своих отношениях с Кэррингтон, — но это была иллюзия». Она не осознавала силы чувств своей новой подруги к Стрейчи («только Литтон что-то значил для нее») и сожалела, что немалый талант художницы был истреблен этой странной, всепоглощающей страстью, которая вскоре перешла в последний акт драмы. В 1931 году Стрейчи был уже тяжело болен: неоперабельный рак осложнился тифом. Он умер в январе 1932 года. Кэррингтон пыталась отравиться газом, затем попросила Брайана одолжить ей ружье. Он выполнил просьбу с величайшей неохотой, но был обнадежен ее новым визитом: в марте она приехала на пикник, после чего прислала радостное письмо с благодарностями («ты даже не знаешь, как я люблю бывать в Биддсдене»). А еще через несколько дней застрелилась. Брайан тяжело переживал свою (пусть невольную) вину, а пытавшаяся его утешить Диана сама была на грани отчаяния. Она-то находилась в Лондоне, когда это произошло. А незадолго до несчастья, 21 февраля, она побывала на обеде, где ее посадили между членом семьи Ротшильд и сэром Освальдом Мосли, которого она знала в лицо, но теперь впервые получила возможность с ним поговорить. Годы спустя, вспоминая обитателей Хэм-Спрея, Диана подтвердила, что там было ощутимо возраставшее напряжение, «и все же мне там чудилось нечто постоянное, хотя бы потому, что юные редко задумываются о том, как все преходяще»‹7›. Со смертью Стрейчи и Кэррингтон преходящесть Биддсдена стала очевидной.
И Юнити тоже воспринимала это место как зачарованный замок, раскрывший в ней талант к счастью. Бетжемен, неизменно именовавший ее «Юнити Валькирией», запомнил ее как похожую на Пэм (и с такими же митфордианскими словечками), но более жизнерадостную. Она любила компанейские игры вроде «Замри» (тогда это называлось «Бабушка идет»). Бетжемену запомнилось, как они изображали статуи на лужайке возле Хэм-Спрея. В ту пору Юнити была одержима кинозвездами и могла смотреть кинопрограмму в «Эмпайре» на Лестер-сквер по два-три раза подряд. «Юнити Валькирия была очень остроумной, — утверждает Бетжемен, не смущаясь своей симпатии к ней. — У нее было замечательное чувство юмора, которое почему-то пропадает в рассказах о ней».
В мае 1932 года Юнити была представлена ко двору и бодро отчитывалась Диане: «Было очень весело дожидаться в очереди на Молле». Диана снабдила сестру серобелым платьем от Нормана Хартнелла (это вам не рукоделие горничной Глэдис), а также шубой, перчатками и всем остальным. «Ты меня одела с головы до пят». Юнити производит впечатление вполне счастливой дебютантки. Она догадывалась — девушки обычно догадываются, — что по физической своей стати едва ли имеет шанс сделаться общей любимицей среди нервных юнцов, которые неизбежно окажут предпочтение девицам более скромного роста и привычного поведения, но сколько-то поклонников у нее появилось. В «Достопочтенных и мятежниках» Джессика создает образ «почти пугающей» эксцентричности, от которой по тихой заводи аристократических бальных залов прокатывались волны ужаса: Юнити носила в сумочке любимую крысу Ратулара и сидела во время танцев, поглаживая любимицу Вместо ожерелья она обматывала шею змеей по имени Энид.
«Сложилась легенда, будто она порой брала с собой крысу, но на легенды полагаться не следует», — уклончиво, но ядовито комментирует Дебора. Как обычно, воспоминания сестер противоречат одно другому в соответствии с настроем каждой. Мифу о Юнити (а Джессика великий мифотворец) вполне соответствовало желание эпатировать общество, дополнив костюм от Хартнелла змеей. Прагматичная Дебора, естественно, утверждала, что ничего подобно Юнити себе не позволяла. Сохранилась семейная фотография, где Юнити держит Ратулара на плече, но в слегка диковатом, наполовину сюрреальном мире Митфордов это едва ли могло кого-то удивить. А прочие истории — будто она похитила несколько листов почтовой бумаги в Букингемском дворце, пока ждала своей очереди быть представленной королевской чете, что она ездила в Блэкфрай-арз смотреть бой без правил (непосредственно перед балом в клубе «Херлингэм») — и вовсе не шокируют. Так могла бы поступить любая девушка, если бы чувствовала себя заброшенной и пыталась привлечь внимание. Юнити, несомненно, стремилась привлечь к себе внимание, вот только «любой девушкой» ее не назовешь.
3
Её судьба оказалась прочно связана с судьбой Дианы, хотя старшая сестра и не желала брать на себя ответственность. «Юнити уродилась революционеркой, — говорила она, — и результат был бы тот же, даже если бы я не взяла ее с собой в Германию».
Остается, правда, вопрос, каков был бы результат, если бы Диана в феврале 1932-го не разговорилась за обедом с Освальдом Мосли.
В тот раз она столь мало заинтересовалась этим прославленным соблазнителем, что Брайан, неотступно и печально за ней наблюдавший (и тем ее бесивший), не увидел причин для беспокойства. Но вскоре Мосли повел осаду по всем правилам, и все изменилось. Он-то присматривался к Диане еще с прошлого лета, с бала в особняке на Парк-лейн, принадлежавшем другу ее брата сэру Филиппу Сэссуну. Конечно, он положил на нее глаз. Недосягаемость пробуждает желание, а применительно к Диане это было особенно верно. Позднее Мосли напишет, что Диана обладала «несказанным ликом готической мадонны»; если Джеймс Лиз-Милн ее итальянизировал, как модель, достойную Рафаэля, то Мосли увидел красоту более древнего, североевропейского типа.
Мосли образца 1931 года, то есть пока он еще не сделался исторической личностью, не был точным мужским двойником Дианы, но все же играл в обществе схожую роль. С самого начала, когда он после Первой мировой войны получил место в парламенте, Мосли воспринимался как восходящая звезда. В этот момент он как раз взял паузу — reader pour mieux sauter[14], вероятно, так он это понимал — и планировал вновь ворваться на политическую сцену, однако уже на собственных условиях. В высшем свете он также успел прославиться как гроза мужей, хотя и состоял в браке с леди Синтией Керзон. Преследование замужних женщин Мосли понимал на охотничий лад: «вспугивал дичь». В современном представлении это был классический альфа-самец. Диана впервые имела дело с таким мужчиной в качестве потенциального партнера, однако она с детства считала подобное поведение нормой: альфами были оба ее деда и в некоторой мере отец.
Мосли родился в 1896 году в старинной стаффордширской семье, довольно богатой: его предкам принадлежала земля, на которой была построена центральная часть Манчестера. Его назвали в честь отца, а дома чаще именовали Томом (Диана стала звать его Кролик, а Нэнси — Сэр Огр). Воспитывал его в основном дед, родители разошлись, когда Освальду было пять лет. «Детство я провел на коринфский лад»‹8›, заявлял он, подразумевая, что воспитание было по-мужски суровым. Дед, которого он вспоминал с нежностью, в юности боксировал, да и в старости как-то вырубил внука одним ударом. Мосли придавал большое значение силе и ловкости, отлично ездил верхом и фехтовал, хотя в Винчестере невзлюбил командные игры. Его физический облик — подтянутый, всегда наготове, какая бы неожиданность ни случилась — был главным фактором поразительной самоуверенности, политической активности Мосли и его сексуальных побед.
Отслужив в армии и авиации во время войны, он получил в 1918 году гарантированное консерваторам место в парламенте (от Харроу), а в 1920 году вступил в почти что династический союз с Керзонами. Лорд Керзон, бывший вице-король Индии, занимал в ту пору пост министра иностранных дел и считался очевидным наследником премьер-министра Эндрю Бонара Лоу, хотя (тоже примета времени) в итоге эту должность получил выходец из среднего класса Болдуин. Синтия, Симми, была средней из трех дочерей Керзона, красивая девушка и во всех отношениях завидная невеста. Свадьба, ставшая кульминацией многодневного нагнетаемого газетами ожидания, состоялась в королевской часовне Сент-Джеймского дворца с разрешения Георга V, который почтил церемонию своим присутствием. Список титулованных гостей включал и вдовствующую графиню Эйрли, прабабушку Дианы. Прием — в великолепном особняке лорда Керзона на Карлтон-хаус-террас.
Богатство Керзона, примерно таких же масштабов, как состояние Гиннессов, главным образом происходило из Америки: он, как и многие другие пэры, счел необходимым поддержать свой род деньгами купеческого происхождения. Первая жена лорда Керзона, Мэри, была дочерью чикагского еврея-миллионера, вторая жена, Грейс, — вдовой чрезвычайно богатого американца. В промежутке он имел связь с писательницей Элинор Глин, создавшей термин «это»[15]. Кое-что общее у него с зятем было, но Мосли, конечно же, обошел тестя с большим отрывом. В какой-то момент после свадьбы он признался Симми во всех своих романах («за исключением ее сестры и мачехи», уточнил он в разговоре с Бобом Бутби). «Сестра» — Ирэн, леди Рейвенсдейл (наследница пэрства). Развивая на свой лад чеховские мотивы, Мосли затем добился взаимности и у другой сестры, замужней Александры (Баба) Меткальф.
Супружеская неверность и секс как форма досуга входили в норму В окружении Мосли от мужчины чуть ли не ожидалось, что он будет приударять за хорошенькими замужними дамами. (Супружеская верность Брайана представляла собой, пожалуй, исключение.) Это никого не шокировало, всем было известно, как в загородных усадьбах люди крадутся ночами в поисках таблички с заветным именем на двери спальни. Но все же поведение Мосли не укладывалось в общий стандарт. И хотя на первом месте в его жизни всегда оставалась главная партнерша — сначала Симми, потом Диана, его любовные успехи достигали патологического размаха и в основном были, видимо, нужны для похвальбы (что можно сказать и о многих других его поступках). Помимо невесток он добавил к своим трофеям в двадцатые годы Сильвию, леди Эшли (бывшую хористку и будущую жену Кларка Гейбла) и Джорджию, жену Сашеверела Ситуэла. Приехав летом погостить в загородный дом Мосли в Букингемшире, Джорджия Ситуэл отметила: «Том красуется в плавках и очень доволен собой». Еще бы! За двенадцать лет от женитьбы на Симми до встречи с Дианой — несколько десятков любовных связей. Этой его побочной карьере способствовало и приобретение «холостяцкой квартирки» на Эбури-стрит в 1929-м. Алиби ему служили уроки фехтования, и Симми обычно обманывалась. Добрая, всеми любимая женщина, преданная (и богатая) жена, мать троих детей, она всегда была самого лучшего мнения о муже и заслуживала, правду говоря, большей верности.
Мосли быстро сделал себе имя в политике, но опять-таки в несколько странной и показушной манере, словно ему хотелось выскочить из комфортной и перспективной колеи. В этом, как и во многом другом, он похож на Диану К 1922 году он превратился в «независимого консерватора», обличающего «неспособность правительства сократить бессмысленные расходы» и отказаться от использования «черно-коричневых» в Ирландии, а в 1924 году перешел к лейбористам, во главе которых стоял Рэмси Макдональд. Чрезвычайно экстравагантный поступок для человека его происхождения и причинивший немалое огорчение лорду Керзону. Вероятно, Мосли действовал не столько из принципа, сколько из-за желания уйти от консерваторов, среди которых он стал весьма непопулярен; и все же его заступничество за шахтеров во время всеобщей стачки было не менее искренним, чем позиция Дианы, и неслыханный уровень безработицы его действительно всерьез тревожил. Более семидесяти местных лейбористских округов предложили Мосли баллотироваться в качестве своего кандидата на выборах 1924 года, а он, что тоже типично, предпочел состязаться с Невиллом Чемберленом, будущим премьер-министром, чья семья занимала место в палате общин от Ледивуда уже полвека — и едва не одержал победу. Через два года он выдвигался, от лейбористов по округу Сметуик на дополнительных выборах, а в 1927-м выступал на встрече, когда собрание попыталась сорвать небольшая группа нахалов, именовавших себя Британскими национальными фашистами. Симми, повторявшая все зигзаги его пути, и сама не чуждая политики, тоже решила выдвигаться от лейбористов и прошла в парламент по округу Сток-он-Трент в 1929-м. Мосли подарил ей брошь с выложенным рубинами числом полученных ею голосов. Годом ранее его отец скончался, оставив ему титул баронета («от такого не стоит отказываться», безмятежно постановил Мосли) и примерно 250 000 фунтов. Совокупное богатство этой пары и ее светская жизнь многим однопартийцам казались неуместными, если не просто отвратительными. «Удивительное и поистине печальное зрелище, — писал некий комментатор, когда Мосли был принят в партию лейбористов, — как рабочие люди… буквально пресмыкаются перед золотым тельцом». В Британии отношения с высшим классом устроены не так-то просто, антагонизм сочетается с таинственным притяжением. Патернализм в духе традиций и современный энергичный напор складывались в грозную силу, делавшую Мосли неотразимым в глазах многих людей.
Молодой немецкий журналист описывал появление Мосли на собрании лейбористов в Лондоне в 1924 году:
Внезапно по толпе пронеслось какое-то движение, и молодой человек с лицом британского правящего класса, но с походкой Дугласа Фербенкса пробился сквозь толпу к платформе. За ним следовала дама [Симми] в тяжелых дорогих мехах. Перед нами предстал Освальд Мосли, чья стремительная политическая карьера являлась одним из самых удивительных феноменов международного рабочего движения… Новый человек заговорил… То был гимн, эмоциональное воззвание не к интеллекту, но к идее Социализма.
Так выглядел этот великий оратор в действии. Когда речь завершилась, толпа «неистовствовала», «вне себя, словно на боксерском матче или на ярмарке». При такой всенародной популярности (описанная сцена до неуютности напоминает Нюрнберг, только масштабом поменьше) неудивительно, что многие члены парламента с недоверием относились к молодому баронету-лейбористу. Мосли посматривал на сотоварищей с презрением и приговаривал: «Дохлая рыба гниет с головы». И тем не менее Боб Бутби писал Симми: «Думаю, твой муж, хоть он и проклятый богом социалист, станет премьером и пробудет на этом посту очень долго, потому что в нем есть божественная искра, почти утраченная ныне». Да, о нем говорили в таких выражениях. Стивен Болдуин ворчал: «Том Мосли — подонок и совсем не тот, кто нужен», но когда в 1929 году Мосли получил должность канцлера герцогства Ланкастерского и особое поручение разобраться с безработицей, Болдуин и наиболее подозрительные среди лейбористов вроде Герберта Моррисона казались отсталыми глупцами.
Следующий год породил «Меморандум Мосли»: манифест о возрождении страны. Впоследствии говорили, что он на поколение опередил свое время, но содержал тревожные приметы будущих тенденций. Экономическая теория в духе Кейнса (в частности, устранение безработицы в краткосрочной перспективе путем трудоемкого строительства дорог) сочеталась с требованием установить намного более сильную, фактически авторитарную власть. Значительная часть лейбористов высказалась в пользу меморандума, хотя многие сочли его чересчур дерзким, и лишь с небольшим перевесом его отвергли на партийной конференции 1930 года. Эта неудача, как всегда, подтолкнула Мосли к радикальным действиям. Он вышел из партии, а в 1931-м Макдональд сформировал Национальное правительство. Лейбористская партия практически раскололась, и не столько из-за самого меморандума, сколько из-за тех противоречий, которые он обнажил. Если бы Мосли не вышел в досаде из партии, он бы почти наверняка сделался лидером лейбористов. Однако он был уверен, что сумеет увести за собой многих последователей, в том числе Эньюрина Бивена, в новую, лично им созданную партию. Этими событиями, очевидно, объясняется презрение, с каким Диана относилась потом к Рэмси Макдональду и к правительству, которое он возглавлял вплоть до 1935 года (оно «фактически было тори»). (Писательский талант Диана использовала нередко для сведения старых счетов — так, мужа Дианы Купер, который обозвал Мосли в 1923 году «липким, скользким, слюнявым большевиком [sic]», она разодрала в клочья спустя тридцать лет‹9›.) В одном Мосли был безоговорочно прав: безработица требовала более радикальных решений, ее уровень достиг двух миллионов человек, когда он составлял меморандум, и приближался к трем миллионам в 1933 году, когда из Новой партии вырос Британский союз фашистов.
К моменту первого настоящего знакомства с Дианой Мосли находился в межеумочном положении: покинул парламент и готовился к следующему ходу. Судьба как нарочно предоставила ему досуг для охоты на богиню. Новая партия быстро распалась, на выборах 1921 года потерпели поражение все 24 кандидата. Джеймс Лиз-Милн недолгое время агитировал за Мосли, но без особой убежденности. Спустя много лет он попытался припомнить тогдашние свои впечатления, и вышло поразительное свидетельство о том, как далеко завели Мосли ораторское искусство, дар овладевать аудиторией, словно у рок-звезды: «Он был в ту пору воплощением победоносного эгоизма… Поза, гримасы, сверкающие зубы, то обнажающиеся, то исчезающие, и вся эта рассчитанная удаль скорее могли произвести впечатление на эмансипированных дамочек из Мэйфера, чем на голодных рабочих из Поттериз». Прежний соратник Мосли, Гарольд Николсон, ездил вместе с ним к Муссолини. Он писал: «Мосли верит в фашизм, а я нет». Но Диана, которая вопреки видимости отнюдь не была эмансипе из Мэйфера, в 1932 году постепенно уверилась, что Мосли призван спасти Британию. «Иногда мы спорили, — пишет она, — но в целом он меня убедил». Она приняла его веру. И, как принято у Митфордов, дала ему прозвище — Вождь.
4
В тот вечер, когда ради Юнити устроили танцы на Чейн-уок и Диана вышла к гостям в сером платье из тюля немыслимой красоты (и с немыслимым количеством бриллиантов), они с Мосли наконец объяснились. При этом он тут же предупредил, что Симми никогда не бросит. Как бы Диана к этому ни отнеслась, это не побудило ее отказаться от Мосли. Этот заносчивый греховодник перевешивал в ее глазах мужа (который написал ей письмо, трогательно приглушая негодование и прося лишь прекратить «завтраки» с Мосли), обоих сыновей, идеальную жизнь. Наутро Мосли позвонил ей по телефону и, не вслушавшись в голос той, что сняла трубку, обратился к горничной: «Дорогая, когда я тебя увижу?»
В эту же судьбоносную пору — между июльским балом и созданием Союза британских фашистов в октябре — Гиннессы устроили в Биддсдене fête champêtre[16], Диана щеголяла в серебристом парике, сделанном Робертом Байроном, а Мосли был с ног до головы в черном (тут никаких неожиданностей). По свидетельству одного из гостей, «Диана всем твердила, какой Мосли потрясающий, словно девица, влюбленная в кинозвезду». Но ей ведь и правда было всего двадцать два года. Художнику Генри Лэму, который смотрел на Мосли косо, она сказала с характерной самоироничной улыбкой: «А вы все думаете, какой он пройдоха». Ни малейшей осторожности она не соблюдала: большую часть вечера провела с Мосли наедине в доме наверху. Симми, особенно кроткая в наряде пастушки, видимо, обо всем догадывалась: преданную жену, которая следовала за знаменами мужа словно овечка (только овечки и недоставало к ее костюму) и теперь стойко агитировала за БСФ, муж обманывал с хозяйкой дома, и присутствовавшие делали вид, будто ничего не замечают. О переживаниях Брайана можно только догадываться, но едва ли Диана застала его врасплох, когда в ноябре 1932 года выразила желание уйти. Другое дело, насколько он поверил, что она способна это сделать. Накануне Нового года Диана преспокойно явилась в компанию, собравшуюся у Мосли и Симми, где присутствовали и две другие сестры Керзон, более мстительно настроенные, чем законная жена. Поступок необычный, возможный лишь для той, кто была очень молода, невосприимчива к чужому мнению и вполне уверена в себе. На следующий день она сняла маленький дом на Итон-сквер, задешево, потому что дом был в плохом состоянии, зато располагался поблизости от квартиры Мосли, «чертовой проклятой богомерзкой Эбури», как назвала холостяцкое убежище Симми, которая, при всей своей святости, была не чужда страсти. «Как часто она появляется там?» — терзалась жена Мосли. Диана обосновалась в новом жилище с сыновьями и четырьмя служанками и в мгновение ока публично и без стыда сделалась «другой женщиной».
С этого начинается распад семейства Митфорд. Неслыханный мятеж Дианы скажется на Юнити и Джессике, а родители впадут в гнев, отчаяние и стыд. Диана встала на путь, который приведет к поношению, статусу парии и тюрьме Холлоуэй. Дни, когда главными причинами для тревоги служили Нэнси с ее дерзкими повестями и глупой безответной страстью да очередная потеря денег на затее с пластиковыми контейнерами для радиоприемников, остались в прошлом и казались порой безоблачного счастья. В 1935-м будет снята последняя, завершающая долгий ряд семейная фотография, и едва раздастся щелчок фотоаппарата, как все участники группового снимка разойдутся разными путями. «Я часто думаю, — напишет Нэнси в „В поисках любви“, — что нет ничего столь щемяще-грустного, как старые семейные снимки».
Родители пытались бороться за Диану. Зная, как ее это ранит, Сидни запретила Юнити, Джессике и Деборе общаться с сестрой. Дэвид вместе с отцом Брайана, к тому времени получившим титул лорда Мойна, решил наведаться к Мосли на Эбури-стрит. И вновь Мосли показал себя равным Диане: многих мужчин такой визит устрашил бы, а он ответил Рэндольфу Черчиллю, что будет надевать «на яйца защитный чехол», да и вообще отмахнулся: «Предоставьте Диане поступать так, как она хочет». Даже сегодня поступок Дианы кажется весьма рискованным: жить самостоятельно в качестве признанной любовницы самого злостного лондонского донжуана. Разве не безумие — уйти в полную неопределенность от обожавшего ее мужа, который готов был все положить к ее ногам? В 1932-м, когда развод все еще считался позором (и, что самое страшное, навеки лишал приглашения в королевскую ложу Аскота), открытый адюльтер был неслыханным скандалом. Так дела не делались. Тайные связи оставались тайными, а семья — неприкосновенной. Но радикализм Дианы, ее нежелание лгать инстинктивно прорастали и в личную жизнь.
«Ты еще СЛИШКОМ молода, чтобы впасть в немилость у света, если такое случится», — писала Нэнси с искренним состраданием и обещала всегда оставаться на стороне Дианы. Том Митфорд, чье мнение обычно считалась наиболее весомым, пришел в ужас, в том числе и потому, что дружил с Брайаном. Впоследствии он и его родители ругали Нэнси за то, что она поддержала Диану в желании развестись. Том также проницательно заметил, что содержание в 2500 фунтов в год, которое Брайан выделил жене, покажется ей ничтожным. Сумма — вообще-то довольно щедрая — действительно могла показаться ничтожной после привольных трат последних четырех лет, но Диане, кажется, нравилась мысль стать бедной. В этом было что-то новое, невинное.
Дом на Чейн-уок, совсем недавно приобретенный и с такой заботой обустроенный, пришлось продать. «Слуги обижены твоим уходом», — писал Брайан — жалкая попытка дать хоть какой-то выход своему гневу. Типично для Дианы: причинив мужу такое горе, она затем отыскала ему квартиру в Челси и полностью обставила. «Дорогая, ты очень добра, — писал он ей. — Я так тебя за это люблю. То есть любил бы, если бы ты позволила». Он, со своей стороны, передал ей обстановку Чейн-уок, в том числе два обюссоновских ковра, которые когда-то подарил ныне разъяренный свекор. От картины Стенли Спенсера, висевшей в Биддсдене, она отказалась и вернула семейные драгоценности Гиннессов. Лорд Мойн велел сыну быть мужчиной (как Мосли?) и сделать что-нибудь. Брайан продолжал писать свои безнадежные письма: «Уверена ли ты, что любишь Тома больше, чем меня… ты была моей единственной овечкой». Трудно отделаться от впечатления, что нежной печалью он пытался пробудить в ней чувство вины или даже раскаяние. А как же иначе? Ни один человек не способен на такое самозабвенное великодушие, это противоестественно, как Нэнси и намекала в письме Диане. Повидав Брайана в Лондоне, она отчитывалась: «На мой взгляд, он весь ощетинен, только и твердит, что я обязана каким-то образом тебя вернуть и прочий вздор». Нэнси есть Нэнси, нельзя доверять ей безоговорочно, однако хотелось бы думать, что под всей этой благопристойной писаниной Брайана скрывался неукротимый гнев.
Сидни Ридсдейл, при всей своей отстраненности вполне проницательная, сумела дать дочери отличный совет: «Я так рада была повидать тебя на днях и осмыслить, в чем все-таки дело: причина в той любви, которую ты, вопреки всему, питаешь к Брайану. Его худшая ошибка, по-видимому, заключается в излишней привязанности к тебе, а ты, со своей стороны, пожалуй, несколько нетерпелива. Прошу тебя, подумай хорошенько, прежде чем выбросить нечто ценное ради чего-то ничтожного и дурного».
Если Диану хоть что-то могло остановить, это письмо сработало бы. Но то упорство, которое она проявила, чтобы выйти замуж за Брайана, теперь вернулось удесятеренным, и стоило матери посоветовать не уходить от мужа, как решимость дочери лишь укрепилась. Позднее она писала: «Как ни странно, мы с Кроликом оба понимали, что это pour la vie[17], что мы всегда будем любить друг друга».
Она была права: они оставались вместе всю жизнь. Так ли уж трудно понять, почему она отдалась человеку, ворвавшемуся в ее жизнь хищным прыжком, словно волкодав Пилигрим?
А еще сказалась жажда свободы. Брайан был для нее идеальным мужем — и совершенно ей не подходил. Слишком легко Диана получала со всех сторон обожание, чтобы это ценить, а Мосли был первой реальной проблемой. Он ухаживал за ней, но не собирался пасть к ее ногам; он продолжал жить с женой и спать с сестрами Симми, — Диане, пытавшейся отбить Мосли у соперниц, хватало хлопот. Как те богатые аристократы, кому весь мир подавали на тарелочке севрского фарфора, а они тратили свое время и деньги на кровных скакунов, которые никогда не подчиняются до конца человеку, так и Диана до конца жизни будет разгадывать тайну своего возлюбленного. И он до конца будет возлюбленным: старый добрый секс играл в этой истории немалую роль. Брайан был очень красив, но робкие юноши из высшего класса не годятся в Казановы, а из Мосли через край била самоуверенность привыкшего к сексуальным победам самца. Должно быть, Диана и не сталкивалась прежде с подобным существом, пока Мосли не обрушил на нее включенную на полную мощность маскулинность. Отношения, начавшиеся с неодолимого сексуального притяжения, всегда сохраняют хотя бы частицу памяти о своем источнике (если только притяжение не сменится отвращением), и достаточно посмотреть на общие фотографии супругов Мосли в старости, чтобы понять: до последнего своего дня он вызывал у Дианы желание.
Груз истории делает это непонятным. Мосли стал фигурой демонической, страшным символом авторитаризма, каковым остался и после своей смерти в 1980 году. Даже поп-культура воспринимала его как символ политической жути. Первый альбом Элвиса Костелло, выпущенный в 1977 году, поминал «мистера Освальда с тату-свастикой»‹10›, что не совсем справедливо (нацистом Мосли не был никогда), однако свидетельствует о том, что и через сорок лет после того, как воплощенная в Мосли угроза была своевременно подавлена, он продолжал быть известным и «сильным» тотемом. «Он любил Британию и ждал, пока она его призовет, — писал в 1976 году Клайв Джеймс, — не понимая, что главная причина любить Британию в том и заключается, что она не станет призывать ни его, ни кого-либо в его духе».
В 1932 году фашизм ассоциировался с Муссолини и не слишком беспокоил англичан (чуть позже Муссолини финансово поддержит БСФ‹11›), и Мосли тоже воспринимался иначе. Миновали дни, когда в нем видели будущего премьер-министра (сначала от консерваторов, а потом от лейбористов), но и политическим парией он еще не стал. Он не приобрел огромного числа приверженцев, как рассчитывал, но имел солидную поддержку. «Британский союз фашистов, — писал он, — представлял собой группу чрезвычайного реагирования, которая должна была отстаивать практичную политику с экстренными мерами и конкретным планом по выведению Британии из кризиса». А кризис был реальный: финансовая паника, массовая безработица, коммунистическая угроза. Совсем не таким наивным, как это кажется задним числом, было беспокойство, устоит ли демократия.
Десять месяцев, от возникновения БСФ до августа 1933-го, ряды британских фашистов пополнялись столь стремительно, что пришлось обустраивать штаб-квартиру в просторном помещении на Кинг-роуд, Черный дом, который, как говорили, «был заполнен студентами, спешившими приобщиться к новому крестовому походу»‹12›. Партия вобрала в себя небольшие разрозненные группировки фашистов, в том числе тех, кто набрасывался на Мосли в 1927-м. А приманка фашизма была заброшена в страну еще в начале двадцатых. Даже ныне Британия, при всем ее врожденном здоровом скептицизме, питает слабость к сторонникам заведомо нереалистичных мер: мейнстрим замаран компромиссами, а маргиналы, чистые и честные, сверкают перед глазами публики главным инструментом гипнотизера — требованием «перемен». Само это слово по-прежнему сохраняет магическое очарование, а в ту пору никто не сулил перемены так уверенно, как Мосли. Лорд Ротермир и принадлежавшая ему «Дейли мейл» поддерживали БСФ вплоть до 1934-го — в январе того года газета вышла с шапкой «Ура чернорубашечникам». Союз фашистов воспринимали как партию «молодых». Иными словами, тут работал еще один политический лозунг — вдохновить молодежь, что всегда звучит хорошо, хотя и способно привести к кромешному идиотизму. Ллойд Джордж восклицал: «Сэр Освальд Мосли — чрезвычайно способный человек, и ему многое удается». Перед членами Фабианского общества — нечего сказать, удачный выбор аудитории — Бернард Шоу произнес речь, в которой утверждал: Мосли «пишет очень интересные вещи… вы инстинктивно ненавидите его, поскольку не знаете, куда он вас тащит, а он явно собирается выдрать некоторых из вас с корнями».
Такой радикализм импонировал завзятому агитатору Шоу, импонировал и Диане. Глубочайший парадокс этой натуры: женщина с самыми цивилизованными ценностями, прекрасным чувством юмора, жаждой личной свободы, желанием без смущения радоваться красоте жизни (да и сама — воплощение красоты) в тайниках своей души тянулась к чему-то темному, жестокому, диктаторскому, а главное — к тому, кто принимал себя сугубо всерьез. Как, спрашиваешь себя, митфордианский хохот не прорывался при виде Мосли, затянутого в черное, в высоких сапогах? Или как могла она слушать Гитлера, истошно вопившего чушь, и не поддаться семейной смешливости? Ну вот могла.
Диана, в отличие от мисс Джин Броди, не была «прирожденной фашисткой». Но ее воля, этот сильный, отзывающийся на вибрации стальной стержень внутри, тянулся к родственному свойству Мосли. За обедом, вспоминал сын Мосли Николас, его отец любил рассуждать о Ницше «и при этом проделывал глазами фокус: они то вспыхивали, то меркли, словно маяк»‹13›. Трудно удержаться от мысли, как глупо выглядело такое представление. Но, видимо, следовало там присутствовать, чтобы судить. Или же требовалась восприимчивость, полурелигиозная вера в то, что Мосли называл «волей к победе».
В поздних своих текстах — жестких, ригористичных и полных сильных доводов против неизбежности и справедливости войны с Германией — Диана ясно обнаруживает ту бескомпромиссность, которая потянулась к обещанной Мосли определенности во всем. В рецензии на книгу о британской политике перед Второй мировой войной она сухо замечает: «Для членов парламента война против Германии была ответом сразу на множество вопросов. Все запущенные проблемы — безработица, недостаток жилья, бедность — решились одним ударом… Освальда Мосли осуждают за то, что он пророчил „коллапс“, но он, к несчастью, оказался прав»‹14›.
В том-то и дело: Диана верила в Мосли. «Именно это, — утверждала она, — дало мне отвагу пережить остракизм, гнев родителей… всеобщее осуждение». Она полюбила мужчину, а не идеологию, но была покорена и его несравненной силой убеждения, и агрессией, в которой явно чувствовалось нечто сексуальное. Вещь достаточно известная: бледные, выросшие в полной безопасности девицы беззащитны перед мистическим мужским обаянием — про это твердят и мифы о вампирах, и романтическая поэзия, и рок-концерты во вспышках лазера. А Диана — еще раз напомним — была тогда совсем юной. Разумеется, она сохранила верность Мосли на всю жизнь, но если бы ей было к моменту их встречи на десять лет больше, может быть, она сумела бы устоять. «Только великие дела — и только на великий лад», — говорил он позже; для молодой женщины, считавшей демократию безнадежной системой, где никогда не наладится жизнь, это звучало как величественная и потрясающая вера. Величественным казался и мужчина, способный произнести такие слова.
Итак, она переехала в Итоньерку — так она прозвала домик на Итон-сквер — и восседала там блистательной богиней в ожидании Мосли, который выкраивал время для встреч между законной женой, двумя другими сестрами Керзон и битвой за политическое господство. Наверное, он был вполне доволен собой. Какого еще доказательства своей неотразимости желать, когда самая красивая женщина Лондона отказалась от всего ради него? Если Диана в какой-то момент и усомнилась в правильности своего решения, об этом никто так и не узнал. Еще в Париже Пол Сезар Эллё объяснил ей: женщина с такой внешностью сама устанавливает правила. Красота отменяет общепринятые законы. До сих пор ей сходили с рук любые сумасбродства и она получала все, чего хотела. Возможно, ей захотелось посмотреть, что произойдет, если она сдаст себе самые скверные, какие только сможет подобрать, карты.
5
Нэнси, удерживавшая свою неординарность внутри тех границ, которые Диана только что нарушила, оставалась верна сестре. Она заезжала в Итоньерку так часто, как только могла; наведывались и многие друзья, хотя светское общество ее отвергло и, само собой, пошли слухи (например, Генри Лэм — как галантно! — записал ей в любовники Рэндольфа Черчилля).
Там, на Итон-сквер, в июне 1933-го Нэнси застал телефонный звонок Хэмиша Сент-Клер-Эрскина: по его словам, он обручился с другой женщиной. Чуть раньше он предупредил Диану об этом звонке; в известии не было ни капли правды, но он считал, что только так можно положить конец отношениям, становившимся все более нелепыми. «Будь осторожен, — попросила его Диана, — она способна себя изувечить».
На самом деле Нэнси отреагировала, как свойственно женщинам ее типа: сначала рассердилась, потом взяла вину на себя. «Не могу уснуть, не сказав, что я так себя ругаю, так несчастна из-за того, что грубо с тобой говорила, — написала она в прощальном послании Хэмишу. — Я ведь знала, что ты не влюблен в меня». Однако прошло не так уж много лет, и судьба поквиталась за Нэнси именно в той форме, о какой обычно мечтают покинутые: Хэмиш чуть ли не на коленях приполз в парижскую квартиру, где она жила в элегантном достатке, и всячески собой обременял былую подругу («Очень беден и довольно жалок», — описывала его Нэнси Ивлину Во в 1951-м). Ближе к ее смерти он посмел сказать что-то вроде того, что они могли бы уже много лет состоять в браке. «Спасите!» — восклицала Нэнси в письме к Деборе.
Но тогда, в 1933-м, ее захлестнули горе, стыд и мучительная растерянность. Двадцать восемь лет — что же делать дальше? В ответ словно чудо: Питер Родд, красивый, умный, сделал ей предложение, и через месяц с небольшим Нэнси была помолвлена. «О счастье, — писала она в августе Марку Огилви-Гранту, — о боже милостивый, я и правда счастлива».
Наконец-то она опередила в гонке Диану, которая только что развелась. Хэмиш позвонил, когда Нэнси, Пэм и Юнити собрались у сестры поддержать ее накануне суда по делу о расторжении брака («истица миссис Диана Гиннесс, Итон-сквер, на основании супружеской неверности мистера Брайана Уолтера Гиннесса, имевшей место в марте сего года в отеле в Брайтоне с Изольдой Филд»). Перед слушаниями лорд Мойн («гори он в аду») натравил на Диану частных детективов, но (видимо, по настоянию Брайана) собранные ищейками улики не были использованы. Неведомая мисс Филд, разумеется, была одной из тех девушек, что за плату соглашались выступать в качестве разлучницы, когда мужчина хотел легким путем освободить жену от брака. Подобно Тони Ласту в «Пригоршне пыли», которого Ивлин Во провел через совсем уж комически-мрачную версию того же обряда, Брайан поступил как настоящий джентльмен (с присущим иногда этой породе налетом мазохизма). Его роман «Пение не в лад», опубликованный в 1933-м, также включает брайтонский ход и рассказ о браке, распавшемся, потому что красавица жена «обратилась в некую светскую ересь безлюбости». Прошу тебя, заклинал он Диану, объясняй всем, что этот сюжет — не про нас. Действительно, их история была иной, уникальной.
Внезапный поворот, от какого любой писатель отказался бы, как от заведомой натяжки: в мае 1933-го Симми Мосли умерла от перитонита. Ей было тридцать четыре года. Она почувствовала себя плохо в Сейвхее, семейной усадьбе в Бакингемшире, и как раз в пух и прах поругалась с Мосли из-за его измен. Осерчав, он уехал к Диане. Печальным эхом письма Нэнси к Хэмишу — при всей искренности, оно проистекало из отношений, которые Нэнси сама себе выдумала, — звучат слова, написанные Симми наутро мужу: «Сердце мое, я хотела бы извиниться за прошлый вечер. Я уже плохо себя чувствовала и оттого, наверное, поглупела». Ночью ее увезли в больницу: лопнул аппендикс. Мосли наведался к ней, потом отправился обедать с Дианой и у нее впервые встретил Юнити. Несколько дней спустя Симми умерла. «Господи, какой ужас для Тома [Мосли], — писала Ирэн Рейвенсдейл. — И подумать, что Сим умерла, а Гиннесс живехонька и свободна. О! где же справедливость!» Ирэн не на жизнь, а на смерть боролась с сестрой за внимание Мосли, но даже не замечала комичности собственного положения. И возможно, она имела право думать, что именно из-за Дианы Симми не стала цепляться за жизнь.
Мосли горевал отчаянно. Говорили, что он «похож на сумасшедшего»‹15›. После первой, типично эгоистической реакции на болезнь Симми далее он безотлучно оставался возле ее постели до самого конца. Он не собирался ее покидать: если Диана предпочла развестись, это касалось только ее. Диана и не просила Мосли расторгнуть брак, она готова была служить ему, как миссис Джордан королю Вильгельму IV. Но только социопат не почувствовал бы в такой ситуации испепеляющей вины; и Мосли и Диана ее глубоко переживали. Она держалась как могла, являлась на обеды с белым как мел лицом, но ее положение парии становилось уже безусловным, неотменимым. Не случайно и в старости эта женщина могла сказать: «Ты же знаешь, чужая ненависть для меня ничего не значит». У нее было достаточно практики. Покойная Симми, превозносимая всеми газетами, обожествляемая светом, сделалась куда более мрачной тенью между ней и Мосли, чем при жизни.
Однако вторжение реальности в то, что пока было светской и сексуальной игрой, пусть и по высоким ставкам, сделало и преданность Дианы ее Кролику более реальной. Раз все обернулось плохо, Диане было еще важнее найти оправдания для своего решения — соединить судьбу с превратным жребием этого человека.
Мосли страдал, но и страдания его не изменили. При всей привязанности к Диане, он по-прежнему гарцевал с сестрами покойной жены, и те, соперничая между собой, объединились против «этой Гиннесс». Александра поехала с Мосли отдыхать во Францию: как он сказал Диане, это лучший способ отвлечь внимание от их связи. На самом деле его отношения с невесткой вовсе не сводились к «прикрытию», о чем Диана, конечно, была осведомлена. Ирэн писала: «Молюсь, чтобы это увлечение полностью вытеснило Диану Гиннесс». Желая набить себе цену и вместе с тем защитить потомство Симми, Ирэн переехала в Сейвхей и взяла под опеку детей Мосли. Диана, у которой с отъездом возлюбленного высвободилось время, ненадолго заехала в Свинбрук, но отец отказался с ней разговаривать. Позднее в том же году и еще раз в 1935-м ей пришлось прерывать беременность — непростое дело даже для женщины со средствами, которой не было нужды обращаться к подпольным акушерам, но в тех обстоятельствах немыслимо было рожать ребенка от Мосли.
Грубость происходящего с ней поражает. Хочется вернуться вспять во времени и встряхнуть Диану: что же ты с собой сделала? И еще больше хочется это сделать в июле 1933-го, когда, явившись на коммунистическое собрание, она вскидывает руку в фашистском приветствии. Один из парней Мосли едва успел спасти ее от избиения. К тому моменту привлекательность БСФ для «молодежи» превратилась в нечто не столь невинное. Мосли окружил себя телохранителями, молодыми чернорубашечниками, которых тренировали на военный лад в Черном доме в Челси. Стало ясно, что молодые люди, искавшие выход для распиравшей их энергии, приходили к фашизму потому, что он сулил им, как теперь выразились бы, «идентичность». Некоторые из них были восторженными и вполне безвредными‹16›, но у многих кулаки так и чесались. Они мало чем отличались от футбольных фанатов, тех серьезных парней, кто организуется в «фирмы» и ездит на матчи с конкретной целью: задать противникам взбучку. А кто противник, не так уж важно, главное, чтоб был. В тот раз это был коммунизм. И евреи, разумеется.
«Годами красные хулиганы бушевали, распоясавшись, на политических собраниях», — писал корреспондент «Таймс», поддерживая, как и многие другие, утверждение Мосли, будто любая агрессия со стороны его людей — лишь акт возмездия. И опять-таки основной угрозой считался коммунизм. Фашисты — патриоты, коммунизм чужероден. Еще одно письмо, опубликованное после собрания 1934 гола в Олимпии, переросшего в массовое насилие, сообщало о «молодых людях, по большей части евреях», которые были «явно в боевом настроении и получили то, на что нарывались!». Антисемитизм выходит на первый план, хотя все еще принимает странные формы. Мосли, приглашавший друга Дианы, еврея Джона Сутро, баллотироваться от Новой партии, в 1933 заявил: «Нападки на евреев — величайшая ошибка Гитлера». Но, попытавшись таким образом дистанцироваться от этого аспекта немецкой политики, он в тот же год направил делегацию БСФ в Нюрнберг. Своей невестке Ирэн Мосли проговаривался о пользе евреев: каждому движению требуется козел отпущения (и ведь правда). Учитывая привязанность Ирэн к Мосли, занятно, что она участвовала в благотворительном спектакле 1934 года в пользу немецких евреев. Возможно, она поступила так назло Мосли, оскорбленная его продолжающейся связью с Дианой.
В том же году Мосли обрушился на консерваторов, которые «молятся на итальянского еврея» (то бишь Дизраэли), и произнес чудовищную речь на митинге в Манчестере, где поминал «подонков континентальных гетто на службе у еврейских финансистов». По его словам, за крупным капиталом стояли евреи и отсюда проистекала коррупция. «Возникало ощущение, что Сити копит богатства, а три миллиона безработных голодают», — вспоминала потом Диана. Однако в ту пору евреи отождествлялись и с коммунизмом, концепция «жидоболыневизма» насаждалась в Германии двадцатых годов, мы сталкиваемся с ней не только в Mein Kampf но и, к примеру, в популярном памфлете‹17› про коммунизм у Моисея. Теория заговора держится лишь благодаря желанию людей верить в нее, и Мосли явно затронул больное место, когда заявил, что его безупречно патриотическое движение подвергается нападкам евреев. Возникает неуютная параллель с современностью: сейчас распространяется ненависть к «банкирам», которых винят во всех проблемах нашей страны, и вновь возрождается антисемитизм, и пусть антисемиты не вполне понимают, что говорят, но опять уверены в каждом слове.
Много лет спустя Мосли все еще утверждал, что его последователи нападали на евреев только ради самозащиты. «Сэр Освальд никогда не признавался в антисемитизме, — писал Клайв Джеймс, — он всего лишь его воплощал»‹18›. А что касается Дианы, она унаследовала близость к немецкой философии и культуре в целом. Ее дед верил в господство тевтонов, ее брат преклонялся перед Вагнером и Гете, и она инстинктивно принимала мечту об арийской Европе, чистой и белой, воинственной и благородной. Фашизм затрагивал нечто глубинное, чуть ли не подсознательное в этой женщине, которая также чтила цивилизации Франции, Рима и Греции. Нацисты составляли черные списки людей, которых следовало «превентивно поместить под стражу» после захвата Британии. В этих списках наряду с Черчиллем, Иденом и прочими политиками значился Литтон Стрейчи (умерший в 1932 году): опасными казались его эстетство, его интеллектуальный мятеж, блумсберийское отношение к политике, а может быть, и гомосексуальность. А ведь этого человека Диана искренне любила — и все же хотя бы отчасти принимала нацистскую веру, требовавшую уничтожить ее друга. Через несколько лет после войны она писала, что одним из величайших удовольствий для нее стало чтение мемуаров Сен-Симона, все эти утонченные мелочи жизни при дворе Людовика XIV; но она присутствовала на собраниях БСФ, посреди агрессивного рева, эдакая Мона Лиза в Аптон-парке, и что она при этом думала — непроницаемая загадка.
Столкновения между фашистами и коммунистами происходили в 1934-м регулярно, однако митинг в Олимпии в июне того года стал кульминацией. «Таймс» описывает события в размеренном тоне, однако складывается впечатление полного безумия. Коммунисты были хорошо организованы, среди них был и будущий муж Джессики, Эсмонд Ромилли, в ту пору семнадцатилетний. Сторонники Мосли то и дело высматривали смутьянов, «зажимали приемом джиу-джитсу и тащили вон». Завязалась драка, причем дрались и молодые женщины; в ход шли ножи и кастеты. Большая часть двенадцатитысячной толпы, бедняки средних лет, взирали на происходящее в растерянности. После этого лорд Ротермир лишил БСФ поддержки своей газеты. Многие опасались, а кое-кто надеялся, что выборы 1935 года приведут к «диктаторскому правлению».
Перед митингом в Олимпии Диана устроила на Итон-сквер ужин и среди прочих гостей принимала фантазийного эстета лорда Бернерса, который заполнял свой мини-дворец голубями, раскрашенными, точно конфетти, — опять-таки как это было возможно? Пришла и Нэнси, которая потом отправится на митинг вместе с братом Томом. К этому ее опыт общения с БСФ не сводился: в ноябре 1933-го она вместе с новым женихом, Питером Роддом, посетила собрание в Оксфорде. Какими она при этом руководствовалась мотивами, неизвестно, вероятно, в основном любопытством. Питер, который, по словам Джессики, был «ближе к левым, что меня устраивало»‹19›, ненадолго увлекся надеждой, что фашизм сумеет решить социальные проблемы Британии. Ему, как Нэнси отчитывалась впоследствии Ивлину Во, «была очень к лицу черная рубашка. Но мы были молоды и восторженны; никто и не догадывался про Бухенвальд». Диане по поводу собрания Нэнси писала, что Мосли «привел с собой нескольких неандертальцев, и они набрасывались и буквально драли ногтями каждого, кто случайно скрипнет стулом или кашлянет». Это мало кому нравилось. Позднее Диана описывала телохранителей Мосли как «группу дисциплинированных людей, кому дозволялось пользоваться лишь голыми руками, выбрасывая смутьянов или отбивая нападение»‹20›.
Но худшее впереди: Нэнси (выкинув черную рубашку в мусорную корзину) написала сатиру на фашистское движение, «Чепчики в воздух», опубликованную в 1935 году Мосли превратился в «капитана Джека», главу движения Юнион-Джек (в честь британского флага), все члены которого облачались в одинаковые рубашки. А еще в этой книге рассыпаны довольно двусмысленные замечания насчет супружества. Свадьба с Питером Роддом (его прозвали у Митфордов «Прод») состоялась 4 декабря 1933-го в церкви Святого Иоанна на Смит-сквер. Нэнси благодаря щедрости Брайана Гиннесса нарядилась в очень милое белое платье из шифона. Одна из присутствовавших на свадьбе родственниц, Аделаида Лаббок (кузина со стороны Стэнли), через пять лет станет любовницей Питера. Он, в отличие от Хэмиша, был агрессивно гетеросексуален, и это тоже обернулось проблемой.
Решение Нэнси остановить свой выбор на Питере (который, согласно легенде, сделал предложение нескольким женщинам в тот вечер, когда Нэнси ответила ему согласием) оказалось ошибочным, и это выяснилось очень скоро. («Кошмар, чего только девушка не сделает, чтобы восстановить уверенность в себе», — говорит один из персонажей Нэнси.) Слишком долго она продолжала хранить мужу верность и делать хорошую мину при плохой игре, как было ей свойственно. Они выбрали своим домом Стрэнд-он-зе-Грин возле моста Кью, и Нэнси с удовольствием стала играть в жену и хозяйку: она унаследовала материнский талант обставлять дом, у нее было два французских бульдога, Милли и Лотти, и она избавилась наконец от клейма «засидевшейся». Ее супруг был ярко одарен, учился в Баллиоле, происходил из хорошей семьи: его отец, лорд Реннелл, некогда служил послом в Риме. (Со временем Нэнси превратит его в помпезного и пустого лорда Монтдора в «Любви в холодном климате» и с удовольствием позаимствует худшие черты свекрови для «волчицы» — леди Монтдор.) Но Питер был инфантилен и деструктивен. Плохим человеком его не назовешь, хотя Гарольд Эктон, полагавший, что он третирует Нэнси, именовал его «мошенником высшего класса»‹21›. Просто Питер безнадежно не умел жить так, как от него требовалось. Он, как и Дэвид Ридсдейл, вырос в тени образцового старшего брата, и это неизбежно подталкивало его к бунту. Питер ни за что не мог уцепиться, чудовищно обращался с деньгами. («Поневоле опасаешься за новобрачных, — тревожился лорд Реннелл, — я не уверен, насколько гигиеничен их дом, довольно ли у них еды, не мерзнут ли они».) Питер сразу же бросил работу, приносившую боо фунтов в год, и они жили на гонорары Нэнси и пособие от Реннеллов. 2500 фунтов в год, которые Диана получала от Брайана как «пострадавшая» сторона бракоразводного процесса, казались самой Диане весьма умеренным притязанием, а для Роддов, живших на пятую долю этой суммы, это стало бы несметным богатством.
К 1935 году Питер уже принялся ухаживать за другой женщиной, Мэри Сьюэлл, дочерью Эдвина Лютиенса. Затем настанет черед романа с Аделаидой Лаббок (в 1950-м Нэнси напишет, что Питер уже двенадцать лет «считает себя мужем этой женщины»). Наверняка были и другие. В свое время Питера выгнали из Оксфорда за то, что он принимал у себя в комнате девушку. В своевольной и разнузданной погоне за женщинами он мог бы сравняться с Мосли. Едва ли Нэнси хоть когда-то его любила, при всей его блондинистой красоте («угрюмый и надменный облик молодого Рембо», по описанию Ивлина Во). Главная беда — он был невыносимым занудой. Энциклопедический ум Родда хранил все факты о нормандских королевствах Сицилии и таможенной системе Англии и Уэллса (еще одно прозвище — Старый таможенник), но фильтра не существовало: все выливалось единым потоком, и трудно представить, чтобы Нэнси, с ее органическим неприятием «нудятины», спокойно такое слушала. Однако некоторым женщинам нравилось. Все это унижение убивало Нэнси еще и потому, что последовало почти сразу после мучительно публичного фиаско с Хэмишем. Она же не Диана, способная сидеть и молча улыбаться, дожидаясь, пока ее блудный пес набегается и вернется к ней после веселой ночки. Нэнси тоже держалась внешне как могла, но ее фасад быстро дал трещину: за партией в бридж с Сьюэллами она вдруг поднялась и упала в обморок. Отчаянная мольба положить конец невыносимой ситуации. «Внимание к себе привлекает», — только и сказал Питер, вынес жену из комнаты и вернулся к любовнице.
Неудивительно, что сатирический роман «Чепчики в воздух» исполнен сухого отказа от иллюзий, цинизма, который с некоторым усилием выжимался из разочарования. «Девушка должна однажды выйти замуж, — говорит персонаж этой книги. — Нельзя же всегда именоваться „мисс“, „старая мисс“ — это звучит идиотски. И все же брак — такая скука… Со временем он быстро изведет». «Время» наступило быстро: Нэнси взялась за роман через несколько месяцев после свадьбы. Главный герой, Джаспер Аспект, очень похож на Питера, которому посвящен роман. Возможно, Нэнси не предполагала, что персонаж выйдет настолько противным, но так уж получилось. Джаспер ворует деньги из дамских сумочек, в точности как Питер таскал у нее самой, а когда слышит, что жены не обязаны содержать мужей, превесело возражает: «Никогда не мог взять в толк, почему бы и нет. Это несправедливо!» Хотя книга получилась блистательной, как почти все творения Нэнси, в пассажах, касающихся Джаспера, ощущается специфический холодок, не совсем естественное напряжение, тем более необычное по сравнению с благожелательностью, свойственной ее следующим романам. Очевидно, эту книгу писала не слишком счастливая женщина, а воля к счастью была в Нэнси столь же сильна, как воля капитана Джека к победе, — только осуществилась для Нэнси не так скоро.
Итак, роман «Чепчики в воздух» не задуман всецело как сатира на британских фашистов. Парни, облаченные в рубашки с Юнион Джеком, составляют часть комического ландшафта, и это само по себе делает фашистов не столь грозными. И тем не менее сатира вполне удалась. Такое легкомысленное поддразнивание оказалось неприемлемо для Дианы, и с присущей ей ледяной и грозной решительностью она потребовала, чтобы Нэнси вычеркнула определенные главы. Неприкосновенный Мосли обнаружил в своем окружении врага, а это означало, что и Диана должна смотреть на сестру с подозрением. И хотя политическая идеология обычно рвется в бой, но чего она не любит, так это насмешек, — об этом нам напоминает современный век. С того момента, как в июне 1935-го была опубликована книга «Чепчики в воздух», отношения между Нэнси и Дианой переменились: разрыва не произошло, и со временем даже вернулась близость, но некоторая осмотрительность осталась. Помимо всего прочего, Диану должны были задеть рассыпанные мимоходом замечания вроде: «Знаете ли, обычно леди не разводятся». Это выглядело насмешкой над горестными месяцами на Итон-сквер, когда сестры в отчаянии искали друг у друга поддержку и Диана писала Нэнси: «Ты мой единственный союзник». «Боже мой, — вздыхала Нэнси, — мне бы следовало назвать этот роман „Мои нервы“, потому что всякий раз, как о нем подумаю, становится неловко».
Она явно чувствовала потребность иронизировать над темной полосой в жизни сестры. Но, как ни странно, роман не полностью отметает фашистское движение. Один из джек-юнионистов произносит речь против общества, «гниющего в пороке, эгоизме и безделье. Богачи предали наше доверие, предпочтя ядовитую атмосферу коктейль-баров и ночных клубов здоровой и полезной сельской жизни». Это отголосок известного лозунга Мосли: «Консерваторы стоят за финансиста, фашисты — за британского фермера». Однако он предвосхищает и ту инвективу, с которой Нэнси потом обрушится на капитализм («В поисках любви»). Возможно, в этом смысле она откликнулась на призыв БСФ. И возможно, ее нападки отчасти проистекали из ревности: она завидовала счастью сестры, нашедшей своего мужчину. Да, она видела Мосли насквозь, но видела она и взаимное притяжение его и Дианы, столь отличавшееся от ее собственной шаткой связи с Питером. И все же издевка ее неподдельна, когда, например, персонаж «Чепчиков» объясняет, что такое «неариец»:
«Промежуточное звено между человеком и животным. Это доказывается тем, что у животных, за исключением балтийских гусей, не бывает голубых глаз». — «А как же сиамские коты?» — возразил Джаспер. «Верно. Однако у сиамских котов в высокой степени развита нордическая добродетель верности…»
Молодая женщина, которая словно попугай твердит эту чушь, зовется Юджиния Малмейнс. Эта великолепная дщерь Глостершира одарена «глазами, точно огромные голубые фары» и «походкой торжествующей богини». Речи свои она произносит, взгромоздившись на перевернутую ванну посреди поля в Чалфорде. Она сурово обходится с молодым человеком, который в ответ на ее «Хайль!» отвечает «Снег!»[18] «Если будешь острить насчет нашего движения, мне придется унизить тебя перед товарищами. Я срежу все твои пуговицы моим кинжалом». Всерьез Юджинию никто не принимает. Она устраивает митинг джек-юнионистов в саду и пишет речь от имени Георга III со словами: «Хайль! Благодарим всех за добрые пожелания, мы счастливы присутствовать среди наших верных арийских подданных Чалфорда и окрестностей». Все это кажется просто дурачеством, заслуживающим снисхождения, так ведет себя по уши влюбленная школьница, и скоро, когда все опомнятся и придут в себя, с этим будет покончено.
Поскольку Юджиния — точный портрет Юнити, можно увидеть в этом и потребность Нэнси хотя бы мысленно исправить происходящее: ее желание во всем видеть смешное столкнулось с той реальностью, где шуткам места не было.
6
— Халло, фашистка!
Так приветствовал Юнити Митфорд Освальд Мосли, явившись на Итон-сквер к чаю накануне того дня, когда в суде слушалось дело о разводе Гиннессов. Он вручил девушке партийный значок. Принял ее в ряды БСФ.
Июнь 1933-го. В начале года Юнити училась в школе искусств и жила на Гровенор-стрит в доме, который родители сняли на сезон (особняк на Ратленд-гейт, как обычно, сдавался). Хотя ей было настрого запрещено бывать у жившей поблизости Дианы, Юнити этим приказом пренебрегала и таким образом познакомилась с Мосли. Она сблизилась с Дианой — та была на четыре года старше, но внешне они казались почти близнецами. Юнити любовалась своей замечательной сестрой, ее силой и целеустремленностью, преданностью великому человеку, произносившему блистательные речи и обладавшему самоуверенностью Митфордов в сочетании с неукротимым напором. Возможно, и она была чуточку влюблена в Мосли, это лишь предположение, однако не вовсе невероятное (годы спустя тетя Малютка утверждала, что Мосли пытался соблазнить Юнити, вот это уж совсем немыслимая история, исходившая, по словам Дианы, от самой Юнити, а потому ее следует сразу же сбросить со счетов). Само пребывание в запретной Итоньерке будоражило девушку Она встала на сторону творцов новой жизни, против реакционеров, и было бы удивительно, если при таком раскладе Юнити не обратилась бы в фашистскую веру За это Диана ответственности не несет, хотя ее влияние на младшую сестру, уже искавшую себе подвиг, но еще не определившуюся, было огромно, и она воздействовала на Юнити самим фактом своего существования, своими уникальными качествами, своей незаурядностью. Малютка впоследствии винила Диану, которая пробудила мятежниц и в Юнити, и в Джессике; тетя всегда относилась к этой племяннице недоброжелательно, однако в данном случае она, пожалуй, отчасти права.
Школа искусств утрачивала в глазах Юнити всякую привлекательность по мере того, как намечалась иная стезя, великолепная альтернатива миру белых платьиц и неуклюжих партнеров по танцам. Испытываешь даже шок, когда имя Юнити мелькает на страницах придворной хроники в связи с обычными для дебютанток хлопотами: вот она продает программки на благотворительном показе «Добрых товарищей», где присутствуют королевские особы; появляется на светских бракосочетаниях; едет в Аскот — за неделю до того, как вступит в ряды БСФ. Ее подруга Мэри Ормсби-Гор, тоже дебютировавшая в сезоне 1932-го, утверждала потом, что одержимость Юнити политикой развивалась на ее глазах. По словам Мэри, которая вскоре обручилась, Юнити раскритиковала ее жениха: сразу видна «китайская кровь». Митфорды, заявила Юнити, «чистокровные арийцы»‹22›. Перед этим разговором она успела побывать с Дианой в Германии, и ее участь была решена.
В подростковые годы в Свинбруке Юнити была из всех сестер особенно близка с Джессикой, и это тоже на свой манер приуготовило дальнейшие события. Обе девочки были вспыльчивы, их вечно что-то возмущало, Джессика быстро политизировалась и позднее говорила, что думала, примерно как Диана, о большом и страшном внешнем мире: «К моим тринадцати годам [1930] вокруг твердыни Свинбрука бушевал уже мощный ураган. Правительство объявляло обширные населенные местности „зоной бедствия“. Я читала в газетах о голодных походах, о великой депрессии, которая захватила в начале тридцатых страну, о том, как забастовщики сражались на улицах с полицией»‹23›. Чувствуется, что изолированное, само-себе-закон существование внутри английской сказки, — которое Нэнси положила в основу своих романов, — в Диане и Джессике пробудило тоску по всему, что вне этого круга, почти романтическую страсть к жестокой правде жизни, от которой они были ограждены. Эта страсть повела их в противоположные стороны, однако, по большому счету, сильно ли они отличались?
Но политический пыл Юнити — совершенно иного сорта. Здесь нет продуманности, это увлечение заполнило странную эмоциональную лакуну. Высказывалось предположение‹24›, что к фашизму она стала склоняться в 1930 году, в пятнадцать лет, прочитав «Еврея Зюсса» — роман, в котором еврейский финансист изображен настолько отталкивающе, что нацисты использовали его в пропаганде антисемитизма. Конечно, книга укладывалась в общую тенденцию семьи — любить тевтонов, восхищаться могучим Зигфридом, — но окончательный поворот, вероятно, произошел позднее. Согласно хронологии Джессики, ей самой было уже пятнадцать, а Юнити восемнадцать, когда они определились со своими (противоположными) политическими позициями. Пожалуй, чересчур великовозрастные для того, что они в результате проделали в своей общей комнате, ГИГ («Гостиная из гостиной») в Свинбруке.
В «Достопочтенных и мятежниках» повествуется, как ГИГ поделили надвое и Джессика посвятила свою половину коммунизму, а Юнити свою — фашизму Джессика склонна вносить в воспоминания о детстве многое постфактум, и картинка шизофренической ГИГ чересчур выразительна, но все же это очень в митфордианском духе и, скорее всего, близко к истине. Гостю Памелы, появившемуся в Свинбруке, задали вопрос, фашист он или коммунист. «Я демократ», — ответил он. «Размазня!» — прозвучал приговор под аккомпанемент громкого презрительного смеха. Здесь опять-таки вполне ощутима театральщина, показуха, но времена были такие, что бравада с легкостью проникала в реальность, стоило ей только разрешить.
Само собой, Юнити присутствовала на сборищах БСФ. Бывала там и Нэнси. В 1934-м Пэм сидела в первом ряду Альберт-холла, когда Мосли появился на сцене, маршируя под воинственную музыку. Едва ли это зрелище произвело на Пэм особое впечатление, хотя она и вышла два года спустя за симпатизировавшего фашистам ученого Дерека Джексона. Странный выбор для мирной и пассивной Пэм. «Быть замужем за Дереком — дело нелегкое», — писала Дебора, которая сама девочкой влюбилась в него (главным образом потому, что он великолепно держался в седле и, когда выезжал со сворой, пользовался короткими жокейскими стременами). Он был в разводе к тому времени, когда сделал Памеле предложение, и она вышла замуж в черном наряде с отделкой из каракуля. Всего у него было шесть жен, а также гомосексуальные связи. Приятного в нем было мало, разве что любовь к животным. Даже Дебора, вовсе не склонная к сенсационным сплетням, утверждала, что Дерек намеренно потащил Пэм в поездку по норвежскому бездорожью, когда та забеременела, и думала также, что нелюбовь сестры к детям связана с тем выкидышем.
Загадка Пэм усугубляется, когда представляешь ее рядом с этим невероятной энергии коротышкой. Дерек был блистательным физиком, профессором в Оксфорде, участником скачек Грэнд-Нэшнл, наследником News of the World, его эксцентричность выражалась в основном в заносчивости. Однажды, садясь с поезд вместе с Пэм, он не сумел открыть дверь купе первого класса. Тогда он вошел в вагон третьего класса, свирепо прошагал его насквозь и дернул за цепочку переговорного устройства; явившемуся на вызов проводнику он, не удостоив его ни словом, предъявил испачканную при соприкосновении с цепочкой перчатку и потребовал немедленно ее почистить. Такое поведение кажется забавным только задним числом. Диана считала, что Дерек был влюблен в нескольких Митфордов сразу, включая Тома. Эта «брайдсхедская» версия достаточно убедительна. «Да, влюбиться в семью, так оно в жизни и бывает, так случилось и в моей», — писала Нэнси Ивлину Во, прочитав его роман (возможно, думала она при этом и о Джеймсе Лиз-Милне). Вместе с Пэм Дерек взял за себя всех молодых Митфордов, кроме Нэнси, которую, говорят, недолюбливал‹25›. Он предпочитал, чтобы женщины обожали его без раздумий, — таков был и Мосли. У Дерека был брат-близнец Вивиан, очень им любимый (Нэнси посмела наречь его именем коня Юджинии Малмейн, героини «Чепчиков»). Известие о гибели Вивиана в аварии настигло Джексонов в Вене, куда они отправились в медовый месяц, и этим отчасти объясняется совсем уж outre[19] поведение супруга: такой человек только и мог выразить скорбь не прямо, а приступами ярости.
Пэм не противилась фашистским пристрастиям Дерека, в том числе дружбе с ближайшим в ту пору доверенным лицом Гитлера Путци Ханфштенглем, но нет и никаких доказательств того, что она их разделяла. Тем временем Дебору (и Сидни) одна родственница вроде бы водила на большое мероприятие Мосли в Лондоне‹26›, однако свидетельство этой кузины также ничем не подкреплено. Позицию Деборы наилучшим образом передает ее письмо Диане в 1933 году. Поблагодарив сестру за дорогую сумочку к вечернему платью, она легкомысленно заключает: «За это прощаю тебе твой фашизм».
Итак, сестры распределились: фашистки — 2, коммунистка — 1, нейтральны — 3. А еще имелся Том, который — в этом нет сомнений — отсалютовал Мосли на фашистский лад в Эрлс-корте. Том занимал сложную позицию, вполне типичную для этого сдержанного и замкнутого человека. Точно так же, как сестры спорили из-за матери, и конфликтующие мемуары все более превращались в разговор не о самой Сидни, а об их отношениях между собой, так они бились и за брата, задним числом выясняя его политическое кредо, и каждая сторона тянула его к себе. Уже не так казалось важно, во что на самом деле верил Том, главное, чего хотели сестры, — выяснить, как в его политических убеждениях выражалась лояльность по отношению к каждой из них.
В 1980-м сестры — их тогда оставалось четверо — приняли участие в документальном фильме ВВС, посвященном Нэнси‹27›. Джессика, увидев возможность «излить политическую желчь», как отозвалась Диана, согласилась участвовать лишь при условии, что ей дадут прочесть письмо от Нэнси, написанное в 1968-м. Изучив мемуары Мосли «Моя жизнь», Нэнси возмущалась: «Он утверждает, будто никогда не был антисемитом. Господи боже!.. И я на него очень рассержена за то, что он назвал Туда [Тома] фашистом, это же неправда, хотя, конечно, Туд тот еще притворщик и мог превращаться в фашиста рядом с Дианой». Джессика ответила: а с ней Том превращался в коммуниста, и ее первый муж, неистовый левый радикал Эсмонд Ромилли, его обожал.
Когда Джессика настояла на том, чтобы сделать это письмо публичным достоянием, она пробудила гигантского, свернувшегося кольцом, полузатопленного монстра прошлой жизни Митфордов. «Обнаружилась вся глубина ненависти Декки к нам», — писала Диана Деборе. Дебора, не столь лично затронутая, пыталась утешить и успокоить старшую сестру, одновременно пеняя Джессике: зачем же заявлять, будто Том ненавидел Мосли, ведь Мосли уже так стар и дряхл. И Диана и Джессика взывали к Пэм, требуя от нее поддержки, а самой виноватой таинственном образом оказалась Нэнси, ухитрившаяся продолжить агитацию даже из могилы.
Диана заведомо считала каждое слово Нэнси ложью. В этом она не права, однако по отношению к Тому Нэнси и впрямь случалось высказывать теории, никак не подкрепляемые фактами. Типично для Нэнси оправдывать или даже заново сочинять тех, кто ей нравился. Когда она превращает своего отца в бестрепетного, всегда верного себе, забавного, ненавидящего немцев дядюшку Мэтью, кажется, что она усилием воли заставляет Дэвида таким и быть — повернуться лучшей своей стороной. Так же обстоит дело и с Юджинией из «Чепчиков» — это очаровательная и никому не причиняющая вреда Юнити, какой она могла быть. Что же касается Тома, которого Нэнси так любила, с кем часто виделась во время войны, — совершенно естественно, что она хочет видеть его таким, каким он был с ней: скептически настроенным по отношению к Германии, критикующим роман Дианы и Мосли. Если он и вступил в БСФ («А он состоял в нем», — утверждает Диана‹28›), то это шутка, такой же ничего не значащий жест, как присутствие самой Нэнси в Олимпии, как его (разумеется, притворное) сочувствие к коммунизму в разговорах с Джессикой.
Том умел лавировать между крайностями сестер. Но действительно было бы несправедливо утверждать, что он ненавидел Мосли (он только огорчался из-за развода Дианы). Не были до конца притворными и его профашистские симпатии. По свидетельству Дианы, Том полностью разделял политические установки Мосли, но и это не совсем верно: Том категорически отвергал антисемитизм, а Мосли хоть и отвергал его на словах, но не так уж убедительно. Том действительно присутствовал на нескольких мероприятия БСФ. В 1935-м он ездил в Нюрнберг, в 1937-м побывал на съезде нацистов.
Он с детства любил Германию и передал эту любовь самой близкой из своих сестер — Диане. После Итона Том прожил какое-то время в Австрии у Яноша фон Алмаши, который позднее тесно общался с Юнити и был приверженцем наци. Уже в 1928-м, когда Том обосновался на некоторое время в Берлине, к нему туда приезжали Диана и Брайан. Том заговорил с ними о противостоянии коммунистов и фашистов в германской столице, о том напряжении, которое в итоге обратил себе на пользу Гитлер, и сказал, что коммунизм, с его точки зрения, абсолютно неприемлем. А потому, рассуждал он, родись он немцем, вероятно, примкнул бы к нацистам.
В такой форме поддержку нацизма никак нельзя назвать безусловной, в том числе и потому, что в 1928-м совсем не каждый нацист обязан был слепо ненавидеть евреев. Тем не менее свидетельство дружившего с Томом Джеймса Лиз-Милна заходит несколько дальше: в 1944-м они вместе обедали в Лондоне, и Джеймс спросил, сохранились ли у Тома симпатии к нацизму. «Он подчеркнуто ответил: „Да“»‹29›. Нацисты, сказал Том, лучшие из немцев. Трудно понять такое заявление из уст человека, сторонившегося расовой политики, однако так проявлялась вера Тома в германский идеал. Человек-загадка, и вместе с тем, как описывала Диана, «всегда действовавший крайне продуманно». В 1932-м он решил совместить с юридической карьерой службу в Территориальной армии, в 1938-м получил звание младшего лейтенанта и тяжело принял злополучный Мюнхенский договор. «Он был вне себя от горя, — вспоминал Джеймс Лиз-Милн, — опасался, что Англия утратит свое традиционное место в раскладе европейских сил. И с присущей ему последовательностью он душой и телом погрузился в новое для увлечение — в искусство и науку войны». Семейная любовь «брала верх над его принципами, даже если что-то в близких его возмущало»‹30›. И что это значит? Вероятно, то и значит, что ни одна из сестер, столь упорных в своих убеждениях — даже когда верили в несуществующие опции, — не понимала вполне, сколь амбивалентен был их Том.
7
Юнити, например, сомневалась, стоит ли знакомить Тома с Гитлером. Ей казалось, брат недостаточно проникся идеями нацизма, и в том смысле, в каком это понимала она сама, Юнити была права. Но все прошло как нельзя лучше. «Он в восторге от фюрера». Они дважды пообедали вместе. «Значит, ничего плохого из этого не вышло».
Это она писала Диане в июне 1935-го. К тому времени Юнити уже четыре месяца была знакома с Гитлером. А к началу войны — до нее оставалось чуть более четырех лет — с фюрером познакомятся все Митфорды за исключением только Нэнси и Джессики.
В сентябре 1933-го поездка в Германию выпала Юнити почти случайно. Вообще-то она планировала Францию, а Диана рада была поехать куда угодно, пока Мосли отсутствовал — отправился в автопробег с Баба Меткальф. Чуть раньше Диана познакомилась с Путци Ханфштенглем, верным другом Гитлера, который от имени фюрера взаимодействовал с британской прессой и претендовал на авторство клича «Зиг хайль». Этот Ханфштенгль — обходительный, со связями — пригласил Диану на партийный съезд в Нюрнберг, первое крупное мероприятие после прихода Гитлера к власти. Там она и ее сестра, два прекрасных образчика арийской женственности, имели шанс познакомиться лично с лидером новой Германии. Вероятно, Ханфштенгль рассчитывал на то, что рано или поздно они ему пригодятся.
Юнити страшно разволновалась, но в 1933-м ей так и не довелось встретиться с Гитлером, и ее увлечение фашизмом, вероятно, еще не вышло за пределы девичьей влюбленности, как и ее киномания, где таким же фюрером для нее был Эррол Флинн. Джессика (подумать только!) писала Диане после этой поездки в Нюрнберг в самом легкомысленном тоне, словно все это было для них обеих милой штукой, и посмеивалась над «полуроманом» Юнити с Ханфштенглем. Только родители разглядели угрозу. Дэвид, так и не снявший с Дианы опалу, писал ей: «Полагаю, ты и сама знаешь, с каким ужасом Муля и я думаем о том, что ты и Бобо пользовались в любой форме гостеприимством людей, которых мы считаем бандой убийц… Мы решительно намерены, и это в наших силах, уберечь от всего этого Бобо». Так Дэвид признался, что понимает, насколько внушаема его дочь, и фактически расписался в собственной беспомощности.
В 1937-м Юнити отчасти поспособствовала падению Ханфштенгля: в присущей ей порывистой и с виду непоследовательной манере она известила Гитлера о том, как Путци его критиковал. Многое изменилось тех пор, как четырьмя годами ранее она познакомилась с Путци в Лондоне: тогда все преимущество было на его стороне, и, по его словам, она «играла при своей сестре вторую скрипку, всюду увязывалась за ней»‹31›. А еще Путци был недоволен отношением британской прессы к режиму нацистов. «Гитлер построит великую, процветающую Германию для немцев, — разъяснял просвещенный посланец фюрера, — а если евреев это не устраивают, пусть выметаются». В том году уже был создан первый концлагерь в Дахау для социалистов и писателей, а также для евреев, но это еще не лагерь уничтожения. В ответ на слова Мосли, будто евреи в ту пору не подвергались серьезной опасности, Клайв Джеймс позднее напишет: «Очевидно, до войны Дахау был вроде Бутлинса»‹32›. На ключевой вопрос, как много знали тогда о новом режиме и чего могли опасаться, исчерпывающе ответила «Коричневая книга о поджоге Рейхстага и гитлеровском терроре», пророческий текст с описанием 250 убийств, совершенных нацистами после поджога Рейхстага (когда было объявлено чрезвычайное положение, а затем и диктатура). Эту книгу Джон Лейн опубликовал в Англии примерно тогда же, когда девочки Митфорд ездили в Нюрнберг. В 1935-м «Коричневую книгу» прочла Джессика. Диана потом скажет, что «не обратила особого внимания»: ей ничего не стоило отмахнуться от этой книги как от коммунистической пропаганды. Ведь в политике люди по большей части слышат только то, что хотят услышать. Джессика, со своей стороны, предпочитала ничего не знать о сталинских казнях.
Нюрнбергский съезд не стал для Дианы таким уж откровением — на нее откровение уже снизошло ранее, в бальном зале на Чейн-уок. Но все же увидеть, как четыреста тысяч человек маршируют, вопя «Зиг хайль», значило увидеть во плоти мечту фашистов: «демонстрацию новой надежды для нации, познавшей общее отчаяние». Из отчаяния, в которое ее поверг исход Первой мировой, Германия еще только выкарабкивалась: суровые требования Версальского договора словно кровоточащие раны, семь миллионов безработных, гражданская война на улицах — нетрудно понять, почему такой вождь, как Гитлер, смог всех объединить и возглавить. И на фоне коммунистической угрозы также понятно, почему некоторые члены британского истеблишмента мирволили Гитлеру или почему в результате затяжной депрессии в определенных слоях британского общества послышался припев «нам бы Хитлера»‹33›. Непостижимо, даже не в обратной перспективе, а тогда, как мог человек из другой страны любоваться квазирелигиозным зрелищем массового гипноза, внимать воплям Гитлера, бритвенному скрежету, предсмертному хрипу и находить в этом нечто величественное и даже прекрасное? Тем не менее Диана писала Юнити именно о таких ощущениях величественного и прекрасного, хотя подлинный интерес к Гитлеру у нее пробудился позже, при личной встрече, когда он вел себя совсем иначе. Но Юнити откликнулась на призыв, как истинная ученица. Хотя она тоже имела возможность свободно беседовать с фюрером, в его присутствии, отмечала Диана, «она тряслась всем телом». Ее поведение на съезде — когда она по приказу Ханфштенгля стирает помаду, потом исподтишка наносит ее снова — похоже на возбуждение школьницы, проникшей за кулисы. И в то же время кажется, что дремавшее в Гитлере безумие пробудило в Юнити нечто родственное.
Вернувшись в Англию, Юнити вела себя как одержимая «делом». Ее поведение в обществе становилось все более экстремальным. В ту пору появилась мода записывать свой голос на пластинку, и подруга Юнити Мэри Ормсби-Гор запомнила, как они проделывали это вместе в Селфридже. Юнити, по ее словам, напела гимн чернорубашечников: «Жиды, жиды, мы всех жидов погоним прочь». Неплохо для девушки, которая дебютанткой побывала на балу у своей тогдашней подруги Ники Ротшильд и радостно приняла приглашение Джона Сутро провести день на киностудии «Элстри». Видимо, продюсер попадал в категорию «евреев не люблю, но ты не такой». Юнити по-прежнему появлялась в аристократических домах Лондона, к примеру, на балу у Говарда де Вальденса на Белгрейв-сквер, который закончился предрассветной прогулкой по Ковент-гардену — с кем бы вы думали? Не с кем иным, как с Хэмишем Сент-Клер-Эрскином. Но другая дебютантка рассказывала, и, вероятно, правдиво, о том, как Юнити зачастила в Ист-Энд, где чернорубашечники устраивали марши по еврейским кварталам, как она играла в пинг-понг с «ребятами», то есть молодыми и мускулистыми телохранителями Мосли. Можно вообразить себе, как ей нравилось это ощущение de haut en has[20] переслоенное смутными предвестиями похоти. Если Диана поддалась более лакированной технике соблазнения, пущенной в ход Мосли, то Юнити всерьез увлеклась прямой и грубой мужской силой фашизма. «Все эти мужчины…» — вздыхала няня Блор — и как она была права! Особенности сексуального любопытства Юнити проступали в такие моменты, когда она планировала то, что называла «оргией» в доме Дианы на Итон-сквер. Разумеется, до особого разврата дело не дошло. «Всех тошнило, и успели хорошенько пообжиматься», — вот что услышала от нее постфактум приятельница по школе искусств. Даже это, скорее всего, преувеличение. Но сам факт, что Юнити позволяла себе так выражаться, отчасти искренне, а больше из желания шокировать, свидетельствует, как ее захватил роман сестры с Мосли и как по нраву ей было оказаться в центре внимания стольких затянутых в одинаковую форму молодцов.
Пока еще это были чернорубашечники, а не штурмовики. Позже возникнут чудовищные слухи о ритуализованных сексуальных игрищах с «миленькими штурми», но такого рода слухи возникают неизбежно из потребности как-то перевести мистическую страсть Юнити на общепонятный язык. Не доказана даже связь с другом Тома Яношом фон Алмаши, как и другой приписывавшийся ей роман — с офицером СС Эрихом Видеманом. В 1970-м Нэнси общалась с будущим биографом Юнити Дэвидом Прайс-Джонсом и якобы сообщила ему, что Гитлер подумывал жениться на Юнити, но та отпугнула его неразборчивыми забавами с эсэсовцами. Эта «информация» не попала в книгу. Если Нэнси и сказала нечто подобное, то в эту пору она уже умирала и от боли сделалась до крайности злобной. Единственное доказательство сексуальной активности Юнити, каким мы располагаем, — визит к врачу за советом, как предотвратить беременность‹34›. При этом Юнити выражала страстное желание иметь детей — ту жизнь, которая могла бы у нее быть! — но было в ней и нечто от Жанны д’Арк, девственное, нетронутое, и няня в ней это чувствовала.
В начале 1934-го осуществилась мечта Юнити: она поселилась в Мюнхене, в доме баронессы Ларош, принимавшей девушек-пансионерок. Невероятно, как Ридсдейлы решились ее отпустить? Она уже считалась вышедшей в свет и не нуждалась в «полировке» вроде той, какую проходили старшие сестры, а потом и Джессика в Париже. Недавний визит Юнити на партийный съезд родители восприняли с ужасом, так что трудно понять, в чем на этот раз заключался их план, разве что баронесса имела прекрасную репутацию, а Юнити своей настойчивостью замучила их настолько, что проще было позволить ей поступать как вздумается и надеяться, что постепенно дурь сама собой пройдет. Это ведь было девичье увлечение. Развеялось бы оно, если бы Ридсдейлы не отпустили ее во второй раз в Германию? Диана полагала, что запреты уже не помогли бы: «Юнити была революционеркой». А она знала свою сестру как никто. С другой стороны, кузина Климентина, которая приехала в Германию в 1937-м и тоже, хотя и в меньшей степени, подпала под обаяние нацизма, потом говорила: «Она вовсе не стремилась уйти от своих корней. Мне кажется, она бы всегда возвращалась домой»‹35›.
В 1934-м у Юнити была одна мечта — познакомиться с Гитлером. Но и в этом чувствуется нечто от девочки-старшеклассницы, которая надеется привлечь внимание того мужчины, чье избражение украшает стену в ее комнате. Нам трудно представить себе Гитлера в такой роли, но Юнити ощущала это именно так — до определенного момента. И еще один фактор: состязание с божественной Дианой. Старшая сестра покорила главного фашиста Британии, тот полыхал на нее глазами с другого конца стола и переходил на младенческий лепет, болтая с ней по телефону. Но Гитлер, неча спорить! Это посерьезнее будет. Человек, достигший реальной власти, пробивший себе путь наверх, покоривший всю Германию своими речами. Даже самые устойчивые англосаксы стремились встретиться с ним, когда приезжали в Мюнхен. Если Юнити получит возможность в письме сестре написать: «О, кстати говоря, Нард, ты не поверишь, с кем я тут познакомилась…» Да, в этом смысле понятно место, которое Гитлер занимал в воображении молоденькой девушки: тут и сердечное увлечение, и козырь в вечной игре Митфордов, сестринском висте. И прибавим еще один трудноисчислимый фактор, тот темный и тревожный прилив, который уже подхватил Гитлера, — на этот зов Юнити откликалась так, как Диана на марши Мосли. Они жили во времена ужаса, когда большинство людей предпочитало скрестить пальцы, закрыть глаза и молиться, чтобы все поскорее кончилось. По причинам, которые нам не дано до конца постичь, эти две молодые аристократки принимали свою эпоху с восторгом.
Итак, Юнити, запоем учившая немецкий, стала ходить в те рестораны, где появлялся Гитлер (в наше время ее бы арестовали за назойливое преследование, посмеивалась в конце жизни Дебора). Тут-то сыграла свою роль невероятная, божественная самоуверенность Митфордов. Юнити и не сомневалась, что сумеет привлечь внимание одного из главных политических игроков. Достаточно сидеть там за столиком в своей англо-арийской красе — фюрер сумеет ее оценить. Другие на ее месте (если бы кому-то еще захотелось познакомиться с Гитлером) беспокоились бы, как найти слова, как удержать его интерес, не показаться всего лишь фанаткой. Юнити подобные страхи неведомы. Она готова была болтать в стиле Митфордов и знала, что сумеет развлечь фюрера. И все сбылось. В июне 1934-го друг пригласил ее в чайную Карлтона, куда только что прибыла небольшая группа во главе с Гитлером. Юнити написала об этом событии Диане. Еще через месяц она писала Нэнси, требуя отказаться от публикации «Чепчиков». К тому времени ее тон, хотя все еще бодрый и бойкий, приобрел легкий призвук маниакальности. «Нет, я не барахталась с Ремом в Коричневом доме», — значится в постскриптуме. Речь идет об Эрнсте Реме, которого за пару недель до того, как было написано это письмо, вытащили посреди ночи из постели и застрелили по приказу Гитлера (Коричневый дом — штаб-квартира наци в Мюнхене). В Ночь длинных ножей погибло около ста офицеров-коричневорубашечников, и эта эффективная операция расчистила путь наверх сверхлояльным чернорубашечникам-эсэсовцам во главе с Гиммлером. Когда читаешь об этом событии в переложении на митфордианский язык, словно бьешься лбом о непроницаемую тайну этих сестер. «Мне так ужасно жаль фюрера, ты же знаешь, Рем был его старым товарищем и другом», — написала Юнити Диане.
В это время в Мюнхене побывали Сидни и, как ни странно, Джессика, то есть Юнити опять получила от семьи скорее поощрение, чем осуждение, и, похоже, к «банде убийц» ее родственники тоже смягчились. Либо так, либо Ридсдейлы попросту пытались присматривать за дочерью (Дэвид приезжал повидать ее в начале 1935-го). Сидни, приезжавшая в Австрию к Тому в 1927-м, решила, что Германия ей в целом нравится. Тем не менее истерическая манера дочери отдавать нацистский салют и так далее по-прежнему ее смущала. В письме Нэнси Юнити замечает, что мать «не в очень хорошем настроении. А я вполне».
Две сестры-фашистки вновь явились на партийный съезд в 1934-м, а затем Диана сняла на двоих квартиру в Мюнхене. Возможно, она специально решила подольше не возвращаться в Лондон, чтобы приструнить Мосли: он все еще продолжал свой роман с Баба Меткальф при полном поощрении Ирэн Рейвенсдейл. На нем также висело обвинение в «противозаконном и мятежном собрании» — в Вортинге — нашел тоже место! — с участием товарища по БСФ Уильяма Джойса, прозванного в войну Лордом Хо-Хо‹36›. В декабре обоих оправдали. В том же месяце в доме на Ратленд-гейт состоялись танцы в честь семнадцатилетней Джессики. Газеты преспокойно сообщали, что перед балом прошли обеды у миссис Уинстон Черчилль и миссис Сомерсет Моэм, у леди Кунард и у леди Реннел. Мир все еще вращался на привычной оси. В марте 1935-го Джессика была представлена ко двору в белом платье от парижского модельера Ворта, которое позднее, уже как беглая коммунистка, выкрасила пурпуром и продала, чтобы выручить хоть какие-то средства на жизнь. Воздавая честь своей любимой Буд, укравшей из дворца почтовую бумагу, Джессика прихватила и спрятала в букете несколько конфет. Такие вот достопочтенные мятежники. А любимая Буд к тому времени познакомилась с фюрером, впервые он заговорил с ней в мюнхенском ресторане «Остерия Бавария» 9 февраля.
8
Насчет сексуальности Гитлера было немало споров, но точно известно, что на женщин того типа, к которому принадлежала Юнити, он реагировал благосклонно. И хотя она продолжала использовать красную помаду, столь удручившую Путци Ханфштенгля, в остальном светловолосая, сильная, здоровая девушка в точности соответствовала идеалу. Он сказал ей, вспоминала Юнити, что у нее красивые ноги. Диана тоже привлекала Гитлера, но в более традиционном смысле: как почти все мужчины, он считал ее красивой и желанной, а она, в свою очередь, считала его отличным собеседником. Приходится напомнить, что в своем суждении она далеко не одинока. Гитлер был с женщинами обходителен — на старомодный лад, привычный для Митфордов, но еще и с тевтонскими усовершенствованиями, и он умел в себя влюблять, особенно юных и нестабильных существ. Ева Браун, постоянная его любовница с 1932-го, дважды покушалась на самоубийство; обожаемая племянница (дочь сводной сестры) Гели Раубаль покончила с собой. Годы спустя в документальном телефильме Уинифред Вагнер, невестка знаменитого композитора, во время войны занимавшая должность директора Байрейтского фестиваля, попытается объяснить свою дружбу с Гитлером («Волком»): он был добр к ее детям, он обладал «австрийским тактом и теплотой». Очевидно, для тех, кто был склонен видеть его в таком свете, Гитлер выделялся на общем нацистском фоне. «Я безусловно исключаю Гитлера из этой своры», — уточнила Уинифред, подразумевая под «сворой» в том числе Гиммлера. Он выдавал прямой поток высокооктанового обаяния, однако на самом деле темная аура нацистского окружения никуда не девалась, и в нем-то и заключался истинный секрет привлекательности. Говорить с фюрером как с мужчиной потому-то и было столь фантастично, что он — фюрер, он обладал двойной и нераздельной «природой», и нет более возбуждающего средства для восприимчивых душ, чем мужчина, который больше чем мужчина. Сколько бы он ни подшучивал над Юнити, эта пара состояла из дьявола и верной ученицы.
Почему он готов был шутить с ней — другой вопрос. «Бобо говорила все, что в голову взбредет, обращалась с ним как с равным, и ему это нравилось», — утверждала Климентина Митфорд, и по крайней мере отчасти это кажется справедливым. Гитлер умел включать шарм, но Митфорды были воплощением шарма, и Гитлеру, похоже, импонировала как раз версия Юнити. Их знакомство началось с того, что Гитлер через владельца ресторана пригласил Юнити за свой столик. Они проболтали полчаса — о Вагнере, Лондоне, фильмах (его любимым на тот момент была «Кавалькада»‹37›) и так далее. Можно вообразить притягательность такой девушки, говорившей «громко и напевно», как Нэнси характеризовала семейную манеру, бесстрашную перед лицом повелителя ужаса. Словно крупный львенок со светлой гривой в яме, полной черных мамб: она и сама имела некоторую склонность к жестокости, но без улыбчивого мерцания обдуманного умысла.
В следующие четыре с половиной года у нее будет примерно 140 встреч с Гитлером. Ее принимали как почетную гостью на партийных съездах, на таких мероприятиях, как берлинская Олимпиада-1936 и Байрейтский фестиваль, дважды она побывала и в личной резиденции Гитлера в Берхтесгадене (Еву Браун это не радовало. «Ее прозвали Валькирией, и заслуженно, — писала она. — Одни ноги чего стоят»). Фактически Юнити была допущена в ближний круг Гитлера. Любовниками они почти наверняка не были, хотя подобные слухи, само собой, возникали. Диана считала, что Юнити переспала бы с Гитлером, пожелай он того, но он воздержался. Позднее Диана пренебрежительно отмахнулась от книги, в которой утверждалось, будто горничная видела их вместе на диване в доме Вагнера в Байрейте «в компрометирующем положении», а Уинифред Вагнер однозначно утверждала, что в этом доме Юнити никогда не гостила‹38›.
Недавно возник сюжет о ребенке, якобы рожденном Юнити от фюрера‹39›, сюжет увлекательный, но фактами не подкрепленный. Скорее у Юнити было привилегированное положение даже по сравнению с любовницей — более надежное, поскольку ее отношения с Гитлером не зависели от плотской стороны. Она болтала без оглядки, чего любовница себе позволить не могла бы. Ее близость с Гитлером была иной природы: Юнити превратилась для него в отдушину, во что-то вроде сестренки, придворного шута и живого талисмана в одном лице. Вероятно, ему также нравилось дразнить своих подручных, которые предпочли бы не видеть все время Юнити, но сказать ничего не осмеливались. Гитлер восхищался Британией, сумевшей создать империю, и, как очень многим людям, ему импонировала британская аристократия. На свой лад, вероятно, он привязался и к самой Юнити. Ему просто приятно было общаться с ней, слышать, как она именует его «чудным фюрером» и хохочет, когда он изображает Муссолини. Вокруг Дианы Гитлер исполнял сложный танец полуфлирта, а она всегда соблюдала пристойность и воздавала фюреру должное уважение, отношения же с Юнити были гораздо более свободными. На фотографиях она принимает достаточно почтительный вид, но вместе с тем уверенно занимает место рядом с Гитлером. Однажды он дал волю гневу, и сцена была ужасной. Он «грохотал — знаешь, как он умеет, словно пулемет, — писала Юнити Диане. — Это было дииивно».
Словом, Юнити была одержима Гитлером и ей казалось чудом, что он принял ее в свою компанию. Но его компания была миром нацизма, и чууудный фюрер, отгрызавший кусок за куском от Восточной Европы, явно имел какие-то еще интересы, кроме общения со смазливой дебютанткой. Трудно удержаться от мысли, что Гитлер разрешал Юнити находиться рядом не только из-за того, какой она была, но и из-за того, кем она была, она открывала ему прямой доступ к правящей верхушке Англии, при ее-то связях. (А это не только Мосли и Черчилли. Например, вскоре после их знакомства Гитлер упомянул прогермански настроенных Реннелов и тут же выяснилось, что сестра Юнити Нэнси вышла замуж за их сына.) В болтовне Юнити попадалось немало ценного: фон Риббентроп не годится на должность посла в Лондоне; Лондондерри фюреру не следует приближать к себе, хозяйка политического салона леди Лондондерри только прикидывается его поклонницей, — и среди большого количества чепухи кое-что пригождалось. Разумеется, Гитлер пользовался и официальными каналами сбора информации, однако неосмотрительность Юнити была для него своеобразным подарком. Он признал это в беседе, которая осталась в записи: «Она и ее сестры знают все, они связаны с влиятельными людьми»‹40›.
И при этом она превращалась в потенциальную угрозу для обеих сторон. Хотя в ту пору Гитлер еще не считался противником Британии, тогдашний посол в Берлине сэр Невилл Хендерсон, присмотревшийся к Юнити на вечеринке у Гиммлера (в тот момент, когда ее знакомили с послом, «она заверещала „Хайль Гитлер“»), был прекрасно осведомлен о ее длинном языке. Он передавал в Лондон ее разговоры. «С определенными оговорками я не имею особых причин сомневаться в точности того, что она время от времени мне сообщает». Удивительно, что Лондон так мало этим обеспокоился. В окружении Гитлера с подозрением относились к обеим сестрам Митфорд, но сам Гитлер, похоже, никогда не остерегался Юнити. Обостренная интуиция помогла ему совершенно верно распознать ее лояльность и Германии и родине. В 1935-м Гитлер заключил с Британией морской договор и заявил: «Англо-Германский союз был бы сильнее всех прочих». На следующий год он обсудил такую возможность с Юнити. Как она докладывала Диане, «он сказал, что с немецкой армией и британским флотом мы бы правили миром. О, если бы нам это удалось…» Едва ли удивительно, что Юнити стала ощущать себя как фигуру определенной величины при этом режиме, той, кто поспособствует великому союзу обоих любимых ею народов.
В тот же год Гитлер воочию убедился во влиятельности Юнити. В 1935-м Дэвид Ридесдейл приехал к дочери в Мюнхен, и хотя сам не встречался с Гитлером, при чтении его неистово прогерманского письма в «Таймс», датированного мартом 1936-го, возникает ощущение, что за веревочки дергал опытный кукловод. «Если столь упорное и противное духу Англии третирование Германии проистекает из договоров и пактов, не пора ли нам от таких соглашений освободиться». Затем лорд Ридесдейл произнес в палате пэров речь, достойную доктора Геббельса. Анти-нацистская пропаганда, раздающаяся в Британии, просто абсурдна, заявил он, «в вопросе обращения наци с евреями допускаются грубейшие преувеличения». После чтения английских газет «уж и не ждешь увидеть там евреев, а ими все кишмя кишит». Они повсюду, утверждал Дэвид, и никто их не трогает, «лишь бы вели себя прилично и соблюдали правила, установленные для евреев». Поскольку Германия видит в евреях угрозу, немцы вправе принимать меры предосторожности. Гитлер победил коммунизм, восстановил самоуважение Германии и теперь желает только мира с соседями. После такой речи, после столь радикальной перемены позиции, неудивительно, что Дэвида и Сидни (а также Лондондерри) пригласили в отель «Дорчестер» на обед Англо-Германского союза. Они побывали и на приеме у Риббентропа, где лорд Лондондерри провозгласил, что Англо-Германский союз «вносит большой вклад в благое дело».
Тем временем Диана в апреле 1935-го привезла в Мюнхен и Мосли, а Гитлер пригласил его на довольно скучный обед. Годом позже Диана хлопотала о встрече Гитлера с Черчиллем — она была единственным в мире человеком, кто мог бы познакомить их «светски», и хотя Черчилль от такого знакомства отказался, в каком-то смысле он тоже воспринимал это как возможность (упущенную). Черчилль расспросил Диану о характере немецкого вождя, она сообщила, что Гитлер находит в демократии серьезный изъян: «Сегодня договариваешься с человеком, а завтра уже имеешь дело с его преемником». Тридцать лет спустя Бальдур фон Ширах, лидер гитлерюгенда, отбывавший срок в Шпандау, опубликовал воспоминания, в которых утверждал, что Диана и Юнити «укрепили веру Гитлера в существование двух элементов в Британии» — в одном господствовали евреи и сторонники парламентаризма, в другом признавали кровное родство с Германией. Хотя формула кажется идиотской, она не так уж далека от философии Хьюстона Стюарта Чемберлена, столь уважаемого и Гитлером, и дедушкой сестер Митфорд.
Министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому, казалось бы, следовало радоваться такому приобретению, как сестры Митфорд, отнесся к ним весьма подозрительно. Он упоминает о них в дневнике — жестко, с прищуром, ни капли очарованности, — и возникает мимолетное, однако вполне ясное впечатление странности и даже нелепости происходящего, как его воспринимали все вне круга ближайших посвященных (в том числе английская разведка), как дивились и перешептывались. «Снова у фюрера, — пишет Геббельс в 1936 году. — Миссис Генест [Гиннесс] там. Три коротких фильма о партии Мосли. Все еще только начинается, но может и сработать. Мы тоже начинали с этого». (Если Геббельс в это верил, то он не так уж умен.) Диана показывала эти фильмы в надежде выпросить деньги: Муссолини прекратил финансирование. Даже в лучший свой период, в середине тридцатых, БСФ был чудовищно убыточным, а в 1936-м банкротство приблизилось вплотную. Сам Мосли вложил в организацию 100 000 фунтов. Гитлер, видимо, распорядился помочь британским союзникам: Геббельс упоминает о том, что в декабре фюрер направил им некую сумму. Но в феврале 1937-го он возмущается: «Миссис Гиннест хочет еще денег. Они тратят состояние и ничего не достигают. Больше я с этим дела иметь не желаю».
Дерзость Дианы ошеломляет, но ей это, возможно, казалось в порядке вещей: она привыкла требовать и получать то, чего ей хотелось. Она, конечно, видела, что на Геббельса ее чары не действуют (большая редкость!), но это ее не беспокоило. Находиться в одном помещении с подобным человеком, чьи пустые глаза чревовещателя неотступно следили за каждым движением собеседников, вычисляя их суть, намного страшнее, чем общаться с внимательным, хорошо воспитанным Гитлером, хотя трудно себе представить, чтобы с Гитлером кто-то чувствовал себя легко. Разумеется, теперь мы судим задним числом, но к 1936-му нацистский режим успел многое продемонстрировать: оккупация Саара, Нюрнбергские законы, вписавшие преследование евреев в конституцию, и хотя первое Диана поддерживала, тяжелые последствия второго она отрицать не могла. Возможно, ее собеседники не казались ей зловещими. Геббельс, напишет она позднее, «был умен, с ним интересно было общаться, всегда наготове саркастическая шуточка». Гитлер был «исключительно обаятелен, умен и оригинален». В то же время возникает смутное, неотступное чувство, что ей нравилось заигрывать с силами тьмы. Некоторые женщины таковы и чаще всего женщины привилегированные: девушки из высших классов якшаются с гангстерами, идеалистки клянутся в верности отсиживающим пожизненный срок убийцам и так далее. Диане наскучил комфорт — если не физический, то душевный, интеллектуальный. При всей своей изысканной женственности она стремилась к чему-то большему, чем обычная доля светской дамы. Мосли открыл перед ней такие возможности, и еще большие возможности открывались ей в близости к верхам нацистов, и хотя она потом безоговорочно осуждала их жестокость, эти люди импонировали ей: они обладали властью.
К тому же она использовала этих людей в интересах Мосли, — возможно, чтобы продемонстрировать ему свои таланты, способность убеждать. Она обратилась к Герингу с вопросом, нельзя ли организовать коммерческий канал на том диапазоне волн, которым пользовалась Германия, чтобы передавать развлекательные программы и таким образом зарабатывать средства на политическую кампанию Мосли. В Британии весь диапазон радиоволн принадлежал Би-би-си, вот почему пришлось просить о помощи немцев. Радиореклама приносила огромные доходы, совокупная прибыль в 1938-го составила примерно i 700 000 фунтов. Это теоретически позволило бы Мосли содержать БСФ. Компанию уже создали, осмотрительно не включая в список официальных сподвижников Мосли, вели переговоры в том числе с братом министра иностранных дел (того самого сэра Сэмюэля Гора, который в 1930-м катался с Деборой на коньках и вскоре выступит одним из главных сторонников умиротворения Гитлера). MI5 никак не могла поверить, чтобы такая радиостанция не использовалась в целях пропаганды, и сомнения британской разведки вполне понятны. Труднее сказать, что думали по этому поводу немцы. Геринг в 1937-м отказал без дальнейших объяснений, однако Диана так просто не отступала, она обратилась с этим предложением к самому главному, и тот согласился его обсудить. Наконец в 1938 году решение было принято. Для этого Диана подолгу засиживалась вечерами с Гитлером, отстаивала перед ним дело Мосли, болтала, наслаждалась.
«Ничто, — писала она Деборе под конец жизни, — не заставит меня притворяться, будто я сожалею о выпавшем мне на долю уникальном опыте».
9
Что касается Юнити, обладавшей таким же бесстрашием и напором, но лишенной изощренности своей сестры, ее дружба с Гитлером была свободна от каких-либо дополнительных соображений: счастье в чистом виде. Сорок лет спустя Мосли скажет о Юнити, что это «простая и трагичная история девицы, влюбленной в сцену»‹41›. Отчасти это верно. Однако в Юнити было и безумие. Неуравновешенность, которая проявилась, когда Юнити покидала безопасное убежище дома, отправляясь в закрытую школу, обрела свой роковой идеал в глянцево-черном мире нацистской Германии.
В июне 1935-го Юнити написала по-немецки послание в «Штюрмер», газету неистового антисемита Юлиуса Штрейхера. «Если б у нас в Англии была такая газета! Англичане представления не имеют о еврейской угрозе. Об английских евреях всегда отзываются как о „приличных“. Наверное, в Англии евреи хитрее ведут пропаганду, чем в других странах. Не могу в точности сказать, но это факт, что наша борьба особенно трудна…» Письмо завершалось постскриптумом: «Если поместите это письмо в газете, пожалуйста, укажите мое имя полностью… Хочу, чтобы все знали: я ненавижу евреев». Трудно ответить, до какой степени Юнити была искренна в своей вере. К тому времени она уже полностью находилась во власти мощной истерии и более всего стремилась произвести впечатление на Гитлера. Но, возможно, сама она отвергла бы подобные оправдания; возможно, она в самом деле именно так думала и чувствовала.
А поскольку Штрейхер не только опубликовал письмо Юнити, но и предпослал ему информацию о ее родстве с Уинстоном Черчиллем, напрашивается предположение, что он как минимум видел ценность в этой девушке. Юнити пригласили выступить с речью на летнем фестивале в Хессельберге. «Разбуди меня на рассвете, мой Геринг, и я буду твоей королевой», — писала ей с насмешкой Нэнси. Однако митфордианские шуточки уже лишились своей магии. На фотографии с фестиваля у Юнити взгляд фанатички, пристальный и пустой. Новости о хессельбергской речи просочились в английскую прессу, и родители велели Юнити немедленно возвращаться домой. Но потом они снова отпустили ее в Германию. Они словно побаивались своей дочери или не понимали, что с ней делать, если она не вернется в Мюнхен. Джессика в «Достопочтенных и мятежниках» пишет, что в то лето Юнити пыталась прикнопить к стенке их детской фотографию Юлиуса Штрейхера (с автографом). Говорят также, что она отправилась в гости к друзьям и там в саду принялась стрелять из пистолета. Практиковалась убивать евреев, как она заявила. Пистолет у нее появился недавно, и происхождение его неизвестно.
Вернувшись в Германию, Юнити побывала в 1935-м на партийном съезде в Нюрнберге вместе с Дианой и Томом. К тому времени Сидни тоже познакомилась с Гитлером («он сказал, что хотел бы увидеть Мулю») — в апреле, в «Остерия Бавария». Юнити представила их друг другу, возбужденная, точно ребенок, предъявляющий матери своего первого приятеля по детской площадке, но была разочарована: мать не обратилась в ее веру. «Самое большее, что она признает, — что у него очень милое [sic] лицо», сообщала она Диане. Тем не менее Ридсдейлы сближались с пронацистской позицией, которую Дэвид в следующем году озвучит публично. Словно и родителей гипнотизировал тот Гитлер, который существовал в воображении Юнити.
Тем не менее, когда Сидни в 1936-м повезла Юнити, Джессику и Дебору в круиз, она, скорее всего, надеялась вернуть Юнити хоть каплю нормальности. Но круиз лишь предоставил ей очередную сцену для выступления. Она продолжала политические споры на борту корабля, а в Испании ее чуть не избили за значок со свастикой. Более реалистичной казалась задача развлечь Джессику, ее недовольство всем на свете становилось слишком уж очевидным. Дебора несколько демонстративно пишет об этой поездке как о непрерывной череде забав на пару с сестрой, а Джессика хладнокровно комментирует: «Насколько мне помнится, мы вовсе не были столь нежны»‹42›. Она только что вышла в свет, но первый сезон ничего ей не дал; она мечтала о чем-то другом — вроде того, что Юнити, на свой лад, уже нашла.
А еще круиз дал им шанс ускользнуть из Англии в тот самый момент, когда Дэвид, чья неукротимая финансовая некомпетентность достигла кульминации, продавал Свинбрук и 1500 акров драгоценной оксфордширской земли. Сначала имение сдавалось в аренду, а в 1938-м — типично для Дэвида, именно когда цены понизились, — пошло с молотка. Он продал паб «Лебедь», коттедж у мельницы, форелью заводь, схроны. Избавился от мебели. Диана, переезжавшая вместе с Мосли в красивый дом в Стратфордшире (Вутгон-лодж), спасла кое-что из обстановки: кровать в стиле Хепплуайт, буфет в стиле Шератон, купленные за несколько фунтов из денег Брайана Гиннесса. Никто в семье, за исключением разве Дэвида и Деборы, так и не полюбил Свинбрук, но утрата казалась символической. Хотя Митфорды еще удерживали коттедж в Хай-Уикоме, с того момента ужение голавля, охота, кладовая Цып будут жить лишь в романах Нэнси. Много лет спустя Дебора напишет Нэнси: расставание с домом, последняя поездка через лес «разбили мне сердце». Еще в 1935-м Юнити писала отцу: «Бедный старый Пуля, МНЕ ТАК жаль, что тебе пришлось покинуть Свинбрук… Понимаю, как тебе скверно». Вот подлинный голос их дочери — утраченной, как был утрачен и семейный дом.
После круиза Юнити возвратилась в Германию. Вместе с Дианой они присутствовали на печально известной берлинской Олимпиаде-1936 (как и Реннелы, их свойственники), а потом жили на берегу озера на вилле Геббельсов. Магда Геббельс подружилась с сестрами, хотя ее муж по-прежнему держался настороже: «Я поссорился с Магдой из-за этого визита». Тем не менее доктор Геббельс предоставил свою министерскую резиденцию в Берлине для бракосочетания Дианы и Освальда Мосли 6 октября 1936 года, и церемонию почтил присутствием Гитлер. «Мне все это не нравится, — выплескивает Геббельс на страницы дневника, — но так угодно фюреру». Диана известила родителей, которые были рады, что ее связь с Мосли наконец-то оформлена законно, сообщила также Тому. Юнити никто в известность не ставил: она не умела держать язык за зубами. Брак сохранялся в тайне до рождения сына Александра в ноябре 1938-го. Когда Мосли раскрыл этот секрет, газеты подхватили выдумку, будто шафером был самолично Гитлер, а две сестры Керзон, этот крошечный греческий хор, вечно присутствовавший на заднем плане в жизни Дианы, предрекая ей горе и злосчастье, объявили войну теперь и Мосли, неверному возлюбленному.
За два дня до свадьбы насилие, порожденное партией Мосли — теперь она именовалась Британский союз, — достигло апофеоза, вылившись в битву на Кэбл-стрит. Многолюдный марш двинулся через Ист-Энд во главе с самим Мосли. Нарядный двубортный пиджак — вылитый Эррол Флинн. Естественно, марш натолкнулся на сопротивление и был остановлен баррикадами на Кэбл-стрит. Власти направили к месту событий две тысячи полицейских, то есть практически столько же, сколько собралось чернорубашечников. Полицейских атаковали кирпичами, ножками стульев, молочными бутылками; под ноги лошадям бросали стеклянные шарики. Было арестовано 85 человек, по большей части антифашистов. Люди Мосли были в каком-то смысле невиновны, если не считать, что откровенная провокация делает их виновными. Остановив свой марш по требованию полиции, Мосли обратился к подтянутым чернорубашечникам: «Правительство капитулирует перед красным террором и еврейской коррупцией, но мы не сдадимся никогда… в нас пылает огонь, который осветит эту страну, а позднее и весь мир». Лондонский комитет коммунистической партии отвечал: «Это самое унизительное поражение, какое случалось потерпеть британскому политику».
Для тех, кто считал коммунизм главной угрозой того времени, сравнительная пассивность чернорубашечников перед лицом такой агрессии (они не отомстили, как в прошлый раз в Олимпии) стала дополнительным доказательством «красной угрозы». В то же время Мосли — «окруженный телохранителями, словно диктатор или гангстер», как его описывали члены парламента, — считался явным поджигателем раздора. Да и сам он впоследствии признавал, что не следовало одевать чернорубашечников на военный лад (новый закон об общественном порядке запретил эту униформу). Через неделю после инцидента на Кэбл-стрит группа фашистов прорвалась сквозь кварталы Ист-Энда, избивая на своем пути евреев. Британский союз открестился от их действий: якобы они поступили вопреки приказу. Здравым британцам все происходящее должно было казаться беспросветным ужасом.
А для Джессики Митфорд профашистские и пронацистские симпатии сестер послужили трамплином, с которого она соскочила на другую сторону. Говорили‹43›, что недовольство Джессики собственной привилегированной средой сформировалось во многом после того, как она с этой средой рассталась; и в целом она была жизнерадостной девушкой, пока не нашла себе Дело, требовавшее быть несчастной. В этом есть доля правды. Сколь бы ни тревожилась она о бурях за пределами Свинбрука и сколь бы ни мечтала о той идеальной школе, где сможет обмениваться неведомыми мыслями с просвещенными людьми, нарисованный в «Достопочтенных и мятежниках» образ активистки-одиночки среди светских снобов представляет собой литературный концепт, а не более сложную реальность.
Сами по себе симпатии Джессики к левым были, с такой оговоркой, вполне искренними. Став писательницей, она посвятила себя такой благородной цели, как движение за гражданские права в США; в 1961 году белые расисты подожгли в Алабаме ее автомобиль, чем она вполне могла гордиться. С некоторыми ее сестрами такое заведомо не могло случиться. К середине жизни Джессика перешла на позиции левых либералов, отчасти их разделяла и Нэнси (в 1967-м они обе подписали в «Таймс» петицию против войны во Вьетнаме). Однако не факт, что Джессика сама признавала такое сходство: Нэнси она именовала «голлисткой» (что, мол, не лучше «мослеистки»), а Дебору — «полисменом от консерваторов». А ведь обе эти сестры всего лишь не впадали в крайности — одна была чуть ближе к правым, другая к левым, — но именно подобную умеренность Джессика не переваривала. Она хотела быть радикальной, подобно Диане и Юнити, уравновесить их радикализм. В самом ли деле это соответствовало натуре Джессики — такой вопрос останется без ответа. Наверное, да, раз она всей душой приняла свой выбор; но трудно представить, чтобы она оказалась на это способна, если бы старшие не подали пример. Джессика была столь же подвержена влияниям, как и Юнити.
Избранная Джессикой крайность оказалась более приемлемой в глазах истории, чем путь ее сестер. Левым повезло. Тем не менее она состояла в коммунистической партии вплоть до 1958 года, когда уже нельзя было закрывать глаза на факт: советский режим при Сталине мало чем отличался от нацистского. Двумя годами ранее была опубликована речь Хрущева, признание в массовых убийствах, совершенных его предшественником, но Джессика еще какое-то время держалась. «В отличие от большинства товарищей я никогда не верила безусловно в непогрешимость Советов, — писала она, — и теперь, как ни ужасны эти обличения, мне кажется, сам факт, что Хрущев решился на такую откровенность перед всем миром, означает, что советское руководство встало на путь фундаментальных перемен»‹44›. Рассуждение вполне логичное, поскольку Хрущев действительно осуществлял десталинизацию. Однако позднее Джессика поняла, что напрасно ему доверилась. Что до Сталина, часто говорят, что он погубил больше людей, чем Гитлер, хотя последние исследования называют иные цифры. Гитлер виновен в смерти 11 миллионов мирных жителей, а Сталин — 6 миллионов‹45›. Впрочем, эти цифры, столь гротескно-небрежные на бумаге, обсуждать нет смысла, они не имеют значения, важен лишь факт, что оба вождя были губителями людей. Большой террор, советский вариант чисток, унес около 700 000 жизней в том самом 1937 году, когда Джессика окончательно связала свою судьбу с этим политическим движением. Справедливости ради следует сказать, что она была вовсе не одинока в таком выборе. Вера в коммунизм была распространенной, хотя многие левые восприняли заключенный в августе 1939-го пакт между Германией и Советским Союзом как предательство («Сьюзен — Сталин, как ты ему позволила?» — писала Нэнси Джессике; по неведомой причине они именовали друг друга «Сьюзен»). Когда этот пакт рассыпался в прах и Гитлер напал на Россию, Джордж Оруэлл, сражавшийся на стороне испанской Республики, записал в военном дневнике: «Прекраснейший пример моральной и эмоциональной выхолощенности нашего времени: все мы теперь сделались более или менее сталинистами. Этот омерзительный убийца сейчас на нашей стороне, и чистки и прочее внезапно забыты».
Разумеется, коммунизм и сталинизм не синонимы. Как говорила сама Джессика, она не была советским апостолом. Ее коммунизм был выражением естественных, интуитивных симпатий к левым и в этом смысле вполне достойным. Но обстоятельства толкали ее к экстремистским крайностям — обстоятельства эпохи и семейной динамики.
Нэнси — нонконформистка в силу чрезвычайного здравомыслия — верила в то, что сама же писала в «Чепчиках»: у женщин личное всегда стоит выше политического. С другой стороны, она для того это и утверждала, чтобы подразнить гусей. Как обычно, Нэнси пыталась легкомыслием рассеять мрак вокруг темных страстей, кипевших в тридцатые годы. И кое в чем была права. Мятеж Джессики, сбежавшей со своим кузеном-коммунистом Эсмондом Ромилли, был мотивирован идеологически и в то же время проистекал из предыстории «девочки Митфорд». Очевидным катализатором этого акта мятежа послужил переезд Юнити в Мюнхен. Как могла ее Буд столь дерзко спрыгнуть за борт и оставить свою Буд на палубе в белом атласном платье от Ворта? Дебора потом высказывала предположение, что Джессика ревновала к Юнити, завидовала тому вниманию и возбуждению, которое удалось вызвать сестре. Питер Родд — отнюдь не дурак, несмотря на склонность вести себя по-дурацки, — был в этом с ней согласен (он заявил «Дейли мейл», что Джессика вступила в коммунистическую партию, чтобы «поквитаться» с сестрой-фашисткой). Но Джессика, по ее собственному признанию, ревновала и к Деборе. К политике это не имело отношения, просто личная зависть к внешности сестры (Джессика была очень хороша собой, но считала Дебору «во много раз красивее»), а также к ее ровному характеру. (Дебора получила в семье привилегированный статус младшенькой любимицы, но утверждала, что Джессика была фаворитом няни Блор.) У Джессики в иерархии сестер положение оказалось не из простых: близко к самому «дну», но и там ее подпирала снизу Дебора. Джессика восхищалась Нэнси, ее легкостью, светскостью и сатирическим даром. Она поклонялась Диане — до такой степени, что потом на этой идеальной старшей сестре сосредоточился ее гнев против семьи (умеренных чувств Диана никогда и ни в ком не пробуждала). Вместе с Деборой Джессику относили к «малюткам», но их близость и цыпий язык в итоге обернулись странными разочарованиями. Гораздо интенсивнее и глубже была дружба с Юнити, с которой они общались на «будледидже». Юнити, в отличие от Дианы, Джессика прощала. Возможно, она считала, что многие поступки Юнити вдохновлены Дианой, и тут она в целом не ошибалась, хотя и Диана вправе была сложить с себя ответственность: не могла же она предвидеть, до какого неистовства дойдет Юнити в своем фанатизме. От таких ее поступков, как письмо в «Штюрмер», Диана старалась отмежеваться. Отметала и позднейшие обвинения Джессики, будто соучаствовала в махровом антисемитизме, а припадочного негодяя Штрейхера именовала «котенком». Чушь, отвечает на все это Диана, и мы склонны ей полностью верить. Она не была нацисткой. Она признавала, что новый режим сумел восстановить Германию; она разделяла закоснелые расовые взгляды, обусловленные и ее наследием, и верой в Мосли (и тем не менее позволявшие ей окружать себя еврейскими друзьями). И хотя Диана много лет отказывалась поверить в размах «Окончательного решения», она осуждала и его, и действия Гитлера — безоговорочно. Вот только Джессика не допускала в таких вопросах нюансов.
Нэнси угадала: личное и здесь оказалось на первом плане. Однако времена были таковы, что личное уже невозможно стало отличить от политики, и сама Нэнси не сумела бы проследить все связи между ними. Первый решительный поступок Дианы, которая хладнокровно стряхнула все условности и сделалась парией, объявив себя любовницей Мосли, привел эту цепочку событий в движение. Дальше конкуренция и борьба между сестрами будут развиваться своим путем, пока не исчерпаются все великие Дела и те трое, кто был от природы наиболее склонен к радикализму, не дойдут до пределов, к которым они бы не устремились без такой семейной динамики. А поскольку речь идет о молодых женщинах, разумеется, не обошлось и без мужчины. Об этом Нэнси рассуждает в романе «В поисках любви», когда ее героиня Линда принимает коммунистическую религию своего второго мужа Кристиана. «Линда всегда чувствовала потребность в Деле», — говорит кузина Линды Фанни, а рупор светского здравого смысла лорд Мерлин (его прототипом послужил Джеральд Бернере) отвечает: «Дорогая Фанни, ты смешиваешь причину со следствием. Конечно, Кристиан очень привлекателен…» Нэнси вроде бы попала в яблочко — но, возможно, не в то.
10
В случае Джессики мужчина звался Эсмонд Ромилли, Мосли под красным флагом. Диана, разумеется, такого сходства не замечала. Когда товарищ Ромилли Филип Тойнби написал воспоминания о себе и своем друге, Диана прокомментировала его в типичной суховато-насмешливой манере:
Они не сумели адаптироваться к жесткой дисциплине коммунистической партии, когда обратились в эту веру из отвращения к буржуазному обществу, и оказались неудобоваримы для партии, бесполезны для ее целей. По всей видимости, они сделались коммунистами не благодаря позитивному приятию коммунистической идеологии, а по той же причине, по какой воровали цилиндры итонцев, пока те находились в часовне: сделать назло, пусть попляшут…
Но для Джессики, дебютантки, вертевшейся в вихре балов, прелестной, как фарфоровая куколка, и усилием воли заставлявшей себя ненавидеть каждую минуту светского веселья, кузен Ромилли был самым подходящим божеством. «Она созрела для перемен, и так случилось, что перемены ей принес он, — писала впоследствии Диана, уточняя: — Это сильная личность, и главное, он выступал против ВСЕГО». Девочки Митфорд питали слабость к сильным мужчинам, а Эсмонд, среди прочего, против чего он выступал, был в особенности против фашизма. Вместе с Тойнби он протестовал на митингах Мосли (оставив у Дианы недобрые воспоминания). Он сбежал из Веллингтонского колледжа после попытки разжечь бунт, вместе с братом Джайлсом распространял пацифистскую литературу, отказался пойти на военный факультет и издавал левый журнал «Вне границ» (Out of Bounds). «Красная угроза в частных школах! Москва добралась до наших мальчиков» — этот заголовок одного из выпусков «Дейли мейл» в 1934 году наглядно свидетельствует об истерическом страхе перед коммунизмом. Ромилли ненадолго попал в исправительный дом, а затем написал книгу с тем же названием «Без границ», которая была довольно хорошо принята. Мать Эсмонда, Нелли Ромилли, махнула на него рукой, что, возможно, усилило его чувство одиночества, а в глазах Джессики сделало еще романтичнее (ранимость под броней вызова). В восемнадцать лет он вступил в интернациональные бригады, сражался при Боадилье-дель-Монте, вынужден был вернуться в Англию, заболев дизентерией. В 1937-м вышла вторая его книга, «Боадилья» (в 1970-м она была переиздана, о чем Джессика с гордостью сообщила Деборе). Так что если, с точки зрения Нэнси, это был «самый ужасный человек, какого я видела в жизни»‹46›, все же никто не мог отказать ему в отваге и силе характера.
Вторая мировая война оттеснила гражданскую войну в Испании на второй план. И все же битва между республиканцами — сторонниками демократии, однако получавшими помощь СССР, — и националистами генерала Франко казалась великим сражением коммунизма и фашизма во плоти, и немало этой плоти погибло и получило увечья. Общее число жертв оценивается примерно в полмиллиона; обе стороны (хотя намного чаще националисты) совершали расправы и казни. Подразделение Эсмонда за двенадцать дней боев потеряло две трети личного состава. США и Великобритания сохраняли нейтралитет вопреки требованиям наивной, быть может, но благонамеренной левой интеллигенции: Оруэлл, Хемингуэй и Лори Ли были среди тех, кто отправился в интернациональные бригады. В 1939-м Нэнси и ее муж Петер Родд приехали в Перпиньян помогать беженцам. Нэнси, державшаяся в стороне от любых политических философий своего времени, успела сделать на войне больше, чем все ее сестры, вместе взятые, и опыт Перпиньяна окончательно утвердил ее неприязнь к идеологии. «Как странно ведут себя высшие классы Испании, — рассуждает она устами Линды в „В поисках любви“. — Они пальцем не шевельнут, чтобы помочь своим соотечественникам, и предоставляют всю заботу о них чужакам вроде нас». Брат Линды, воевавший в Испании, как Эсмонд Ромилли, отвечает коротко: «Ты не знаешь фашистов».
На ужине в доме, где Эсмонда практически усыновили, Джессика в начале 1937-го познакомилась с этим закаленным битвами юношей. К тому моменту она была уже наполовину влюблена в него, пишет она, и это, вероятно, правда: именно так устроено девичье воображение. Он повел себя так же, как Кристиан в романе при виде Линды: «поставил на стол локоть, почти продравший рубашку», то есть отгородился от соседа по столу, чтобы полностью сосредоточить внимание на красивой девушке по другую руку. Эсмонд не был так хорош собой, как вымышленный Кристиан, — низкорослый, худой, со свирепым и неуступчивым «черчиллевским» лицом, — но его напор был убедителен и, вероятно, сексуален. Джессика тут же попросилась с ним в Испанию. Он согласился. И все было решено.
Это напоминает перевороты в жизни ее сестер, но Эсмонд, как считала Джессика, сражался на стороне ангелов. Собственно, на момент их встречи так и было. Она сказала ему, что накопила 50 фунтов, ее «капитал для бегства», как она пишет в «Достопочтенных и мятежниках». Эсмонд предложил ей поехать в качестве его секретарши. Вместе они составили письмо от имени друзей, якобы приглашавших Джессику в Дьепп. В Лондоне Джессика вскрыла это письмо в присутствии матери. Сидни вполне одобрила поездку и даже выделила 30 фунтов из суммы, отложенной на платья для кругосветного круиза, который она планировала совершить с Джессикой и Деборой. Круиз, по-видимому, был ее любимым способом решать все проблемы. Сидни видела, что роль дебютантки Джессике не по душе, и явно опасалась очередного мятежа. Какой бы холодной или неумелой ни оказывалась порой Сидни в качестве матери, невозможно не пожалеть ее, когда подумаешь, как она радовалась желанию дочери поехать отдыхать и как надеялась, что после поездки Джессика наконец будет счастлива. 7 февраля 1937 года они с Дэвидом отвезли Джессику на вокзал Виктория. Дэвид дал 10 фунтов на дорогу, родители помахали ей рукой, Эсмонд прятался где-то в тени. Больше Дэвид никогда не виделся с дочерью. Несколько лет спустя Юнити с присущей ей прямотой спросила отца, есть ли человек, которого он мечтал бы увидеть, — был бы счастлив, если бы этот человек вошел в комнату, — и Дэвид не задумываясь выпалил: «Декка».
Тяжело думать, через что пришлось пройти родителям, когда выяснилось, что Джессики нет в Дьеппе, да и вообще нигде. «Я чуть с ума не сошла, когда казалось, что ты вообще исчезла, — писала потом Сидни дочери. — Я видела, что ты несчастлива, но причины не могла постичь, разве что у тебя, как у большинства девушек, не было занятия. Мне следовало найти способ тебе помочь… Пуля теперь получше, но ужасно было видеть, как он сдал. Никогда его таким не знала». Действительно, с того времени красавец Дэвид, которому не было еще и шестидесяти, стал стариком.
«Ты первой в семье попала в объявления на столбах, — сообщала Нэнси сестре. — Буд обзавидовалась». Но прежде чем настало время шуток, пришлось пережить пору ледяного отчаяния, без малого две недели, пока Ридсдейлы сидели у телефона и ждали. «Мне кажется, она так и не поняла, как это отразилось на обитателях Ратленд-гейт, — писала Дебора Диане спустя 60 лет. — Словно кто-то вдруг умер молодым». Ей запомнилось, как смолк граммофон, прежде игравший день напролет. Она и шестьдесят лет спустя недоумевала, как Джессика могла на такое решиться и проделать это именно таким способом, — воспоминания явно угнетали младшую сестру и в старости. Сама Джессика спустя всего сорок лет после этих событий в письме к Деборе опровергала обвинение, будто она причинила родным такую уж боль: «Честно, мне кажется, ты сейчас выдумываешь»‹47›. Но выдумывать не в стиле Деборы. И уж точно не был преувеличением ее рассказ о мучительных днях ожидания.
Дебора полагала, что Эсмонд заманил Джессику в ловушку. Однако она сдалась ему добровольно. И (в точности как Диана, чего ни одна из них не признала бы) она решительно отстаивала свою правоту. В «Достопочтенных и мятежниках», более чем через двадцать лет, она описывала Эсмонда как прекрасного товарища по борьбе, «орхидею, выросшую на куче навоза» (вот уж выражение, которого Дебора никак не могла одобрить). Один из рецензентов отозвался на книгу формулой, которую сестры сочли более точной: он назвал Джессику и Эсмонда «опасной парочкой», сблизившейся на «общей аморальности, достигавшей порой степени блаженства»‹48›. Ивлин Во писал Нэнси, что Ромилли выглядит в этой книге «омерзительным» (чего еще и ждать от Ивлина, сказала бы на это Джессика): «Она ухитряется создать неприятное впечатление не только о людях, против которых затаила обиду, но даже о тех, кого якобы любит». Несомненно, взаимные чувства Джессики и Эсмонда были сильными: физическое влечение и общее дело создавали бешеную страсть. Да и возможность бросить вызов сыграла свою роль: кто знает, зашли бы Ромео и Джульетта столь далеко, если бы не разделявшая их семейная вражда? К страсти примешивалось и смутное желание отомстить — за что именно, возможно, и сама Джессика толком не знала. Вероятно, примерно такие же чувства пробудил в Диане ее первый муж, хотя в силу своего темперамента она выражала их иначе — не резким разрывом, а спокойным отстранением. Только у Юнити сложных чувств не имелось, в своем бунте она была проще и счастливее всех.
Прошло две недели, и мать Эсмонда получила от сына письмо: они с Джессикой на данный момент должны быть женаты, и любая попытка насильно вернуть ее в Лондон будет отомщена утечкой в газеты «правды» о Юнити и Гитлере. Вот это вполне для Эсмонда типично. Он уже показал себя Джессике во всей красе в Байонне, где они дожидались ее визы. Они сидели в кафе, и какие-то местные жители вздумали издеваться над собакой. Джессика горячо любила животных, как все Митфорды, и умоляла Эсмонда вмешаться. Он в праведном гневе ответил: «По какому праву ты навязываешь людям свою подлую аристократическую любовь к животным?» В Англии, продолжал он, собак откармливают вырезкой, а народ голодает. Верно, однако можно ли одной жестокостью извинить другую? Если в тот момент что-то еще могло заставить Джессику вернуться, то именно такое поведение возлюбленного, однако она осталась — видимо, решила, что политические убеждения должны быть сильнее личных пристрастий. Получив визу, она отплыла с Эсмондом в Бильбао. Там им дали журналистскую аккредитацию и жилье на некотором расстоянии от зоны боевых действий. Эсмонд составлял бюллетени для «Ньюс кроникл», а вскоре получил работу в «Рейтер». Он производил сильное впечатление и для девятнадцатилетнего юноши был действительно крайне незаурядным, но в его героизме было и нечто отталкивающее. Полная противоположность обаянию Митфордов — и казалось, ему это нравится. Когда Нэнси впоследствии говорила, что он переделал на свой лад Джессику и та, хотя и сохраняла привязанность к близким, по сути дела, на самом фундаментальном уровне повернулась к семье спиной, то понятно, о чем сокрушается Нэнси.
Либералкой в семье считалась Нэнси, ей и выпала задача уговаривать сестру вернуться. Сначала подумывали назначить на эту роль Юнити, которая в марте приехала из Мюнхена, однако тут же от этой идеи отказались. Письма Юнити Джессике той поры очень интересны: в них обнаруживается проницательность, сохранившаяся вопреки помешательству, и полное отсутствие переживаний в связи с тем, что сестра перешла на сторону врага. «Твое письмо уму непостижимо, — заявила она, — перечитав, еле могу поверить, что ты его написала сама, настолько непохоже на тебя». Впечатление Нэнси, но переданное словами Юнити. Далее Юнити сообщает, что «злая тетя Малютка» пожелала Джессике лучше умереть и что, скорее всего, тетя желает такой же участи и Диане. Заключительное, почти комическое сообщение: Юнити упросила Гитлера позаботиться о том, чтобы скандал не проник в немецкие газеты. Ведь пресса уже всерьез заинтересовалась «побегом» Джессики («еще одна анархистка в семье Митфорд» и т. д.). Черчилль задействовал свои связи, и министр иностранных дел Энтони Иден отправил телеграмму консулу в Бильбао. Вовлекли в эту историю и британского посла. Двое юных коммунистов, Джессика и Эсмонд, не были оставлены вниманием властей — ведь они принадлежали к аристократическому сословию.
В конечном итоге им пришлось вместе с 180 беженцами подняться на борт миноносца «Эхо»: посол сообразил сказать, что без них не эвакуируют беженцев и вина падет на них. «Таймс» 10 марта сообщила, что Джессику и Эсмонда «ждут в Лондоне сегодня вечером», источнику информации оптимизм помешал понять, с кем приходится иметь дело. В Сен-Жан-де-Люз (дальше Эсмонд путешествовать не пожелал) парочку встречали Нэнси и Питер; воссоединение семьи происходило на глазах целой толпы репортеров. «Мы увидели их возле трапа, — вспоминала Джессика в „Достопочтенных и мятежниках“. — Нэнси, высокая, красивая, махала нам перчатками…» Далее Джессика сообщает, что Нэнси заговорила с ней самым легкомысленным тоном, «она все повторяла: у вас же нет подходящей одежды для сражений», хотя в ту пору, в июле 1937-го, Джессика в одном из писем распекает Нэнси, посмевшую ей заметить, что сожительство с Ромилли нереспектабельно. Питер, считавший, что сумеет справиться с любой проблемой, добился лишь того, что Джессика еще более ожесточилась. «Он мечтал стать героическим братом, который ринулся (все расходы за счет Пули)… спасти тебя и вернуть», — усмехалась Юнити. Питер заявил Эсмонду: если они вернутся в Англию, Дэвид назначит дочери содержание. И действительно, Эсмонд нуждался в деньгах (не пройдет и двух месяцев, как молодые начнут клянчить у Сидни). Но такие вещи нельзя говорить в лицо юноше, изображающему презрение к низменным потребностям.
Решить этот спор удалось Сидни — увы, не так, как она хотела бы. Она приехала к Джессике — уже в Байонну, — и та призналась, что, вероятно, беременна (так оно и было). Теперь приходилось хлопотать уже не о возвращении в Англию, а о безотлагательной свадьбе. Молодые и сами хотели пожениться, но не имели возможности, поскольку оба не достигли еще совершеннолетия. Кроме того, Сидни обвиняла Эсмонда в трусости: ему следовало должным образом просить у Дэвида руки Джессики, но «чего и ждать от коммуниста». Эсмонд вроде спокойно ее выслушал, но ему была присуща мстительность. По возвращении в Англию Сидни получила целую пачку очень неприятных писем: сначала Эсмонд намекнул, что они с Джессикой передумали оформлять брак, потом пригрозил, что не пустит Сидни на церемонию бракосочетания, которую она же и готовила. Его неприязнь к Митфордам вскоре достигла степени недоговороспособной. Он убедил себя, что объясняется это просто: все они нацисты (свое мнение Эсмонд выражал и вслух). Однако, как часто бывает, имелась личная подоплека: ненависть к чужому обаянию, благопристойности, привилегиям. И то, что он причинил этой семье столько горя, тоже каким-то образом настраивало Ромилли против родных Джессики. Свадьба, состоявшаяся 18 мая 1937 в Байонне (обеих матерей все же допустили), Ридсдейлов не слишком утешила: Джессика была для них потеряна, и они это понимали.
Тем не менее Сидни храбрилась, описывая Деборе эту свадьбу: шелковое платье, купленное в «Харродсе» для Джессики, граммофон, подаренный Деборой и Юнити (можно представить, как Эсмонд отнесся к этим оскверненным дарам богачей и к ожерелью от Дианы). В итоге главной жертвой оказался Дэвид. Он не мог знать, что больше не увидит дочь, — хотя в тот момент не хотел ее видеть, — но на него обрушился спровоцированный поступками Джессики шум. Репортеры толпились на Ратленд-гейт и требовали от Дэвида заявления. «Дейли экспресс» выплеснула скандальный сюжет на первую полосу, назвав беглянку «достопочтенной Деборой Фримен-Митфорд». Дебора отсудила тысячу фунтов за репутационный ущерб (Том был одним из адвокатов на процессе). Однако при рассмотрении дела в Высоком суде в июне прозвучало, что Дэвид сообщил прессе «некую информацию», то есть болтал бессмысленно в надежде «уладить возникшую проблему. Он был тогда очень расстроен…». Так он угодил в липкое болото, и его имя чуть не каждый день мелькало в газетах. Сидни с подобными ситуациями справлялась намного лучше. Когда репортер из «Дейли экспресс» задал вопрос, может ли он поинтересоваться, получено ли согласие на брак, она ответила: интересоваться он может сколько угодно, однако она отвечать не станет. Дэвид, напротив, был лишен навыков обращения с подобной публикой. Он походил на старого медведя, которого кнутом и приманкой гонят из укрытия, применяя силу без малейшей деликатности. Он пытался жаловаться на навязчивость прессы, но жалобу отвергли под обычным предлогом «публичного интереса».
Как непохоже это на поведение дяди Мэтью («В поисках любви»): когда его дочь Джесси сбегает в Голливуд, он весело беседует с репортерами о ее мечте выйти замуж за кинозвезду Гэри Куна. Нэнси, как обычно, попыталась рассеять кошмар, сделав его смешным (и заодно частично использовала биографию Джессики, наделив Линду харизматичным и страшным мужем-коммунистом). На свой лад она возвращала отцу (вымышленному) его прежнюю величественную и неприступную стать, изображая, как журналисты пробираются в его дом, ускользая от ударов кнута, и дядя Мэтью, пролистывая очередную смехотворную статью, бормочет: «Этого, что ли, подонка, я нашел у себя под кроватью?» «Он наслаждался от души, — писала Нэнси и уточняла: — Казалось, он с большим удовольствием отыскивал свое имя в газетах, и мы все заподозрили у дядюшки Мэтью тайную страсть к публичности».
Как Нэнси прекрасно было известно, к ее отцу это «подозрение» не имело ни малейшего касательства — в особенности после того, как началась война.
11
В праве ли был Эсмонд объявить всех Митфордов нацистами? Если присмотреться к фактам его глазами, то, пожалуй, да.
Когда в 1934-м он и Филип Тойнби пытались сорвать митинг чернорубашечников в Олимпия-холле, среди присутствовавших находились Нэнси и Юнити. Когда с такими же протестами Ромилли и его товарищи врывались на митинг в Эрлс-корте в 1939-м, там были Диана, Юнити и Том, а возможно, также Дебора и Сидни, и Том отдавал фашистский салют. Роман Нэнси «Чепчики в воздух», поссоривший ее с сестрами «правого крыла», свидетельствовал о ее скептицизме, однако тон книги был настолько легкомысленным, что не позволял ей увернуться от символической казни.
В 1935-м, когда Юнити жила в Мюнхене, Том дважды обедал с ней и с Гитлером. В тот же год в гости к Юнити приезжала Памела (которая на следующий год выйдет за приверженца фашизма); Гитлер пообедал и с ней, восхищаясь ее чудесными голубыми глазами. Спокойный консерватизм Памелы — наилучшее противоядие от бессмысленного экстремизма, но Эсмонд смотрел на такие вещи иначе.
А сами Ридсдейлы? Факты вопиют против них. Сидни уже в 1935-м познакомилась с Гитлером. На следующий год ее муж начал выступать в палате пэров с прогерманских позиций. Супруги посещали обеды Англо-Германского общества дружбы, в число членов которого входили и герцог Веллингтон, и лорд Наффилд, старинный друг Дэвида, и Эдуард VIII, который вскоре отречется от престола, но симпатии к нацистам сохранит (в «Англо-германском обозрении» (Anglo-German Review) за декабрь 1936-го приводятся слова немецкого комментатора: «У вас замечательный король. Почему вы не выпустите его из клетки?»). В 1937-м Ридсдейлы присутствовали на приеме в немецком посольстве вместе с герцогом и герцогиней Кентскими, Черчиллями и Чемберленами. Нэнси отзывалась о посольстве Риббентропа как о самом элегантном в Лондоне (хотя тут она-то чиста. Питер Родд ответил на приглашение на идише). В свою очередь, Лондондерри устроили прием для посла, пригласив премьер-министра и снова Ридсдейлов. Этот факт более других подтверждает позднейшее свидетельство Нэнси: в немецкое посольство «ходили все, пусть они теперь и отрицают»‹49›. Историк Эндрю Робертс писал: «В Британии тридцатых хватало тех, кто отнесся бы к соглашению с Гитлером благосклонно, если не с энтузиазмом. Это настроение выходило далеко за пределы узкого круга фанатиков антисемитов…» Империалисты, консерваторы, газетные короли, бизнесмены — в каждом слое находились свои сторонники «умиротворения». «Пожалуй, интереснее всего, что значительная часть английской аристократии проявила сильные прогерманские и даже пронацистские настроения»‹50›. Риббентроп обаял множество людей, лорд Дерби приглашал Геринга к себе смотреть скачки Грэнд-Нэшнл.
В этом смысле Ридсдейлы не представляли собой такого уж исключения, хотя чаепитие на квартире у Гитлера летом 1937-го, куда Сидни привела и Дебору, выходило за рамки обычного. Джессике Сидни отчитывалась: «С ним очень легко, можно чувствовать себя раскованно, да и манеры у него прекрасные». Он спрашивал о «маленькой Декке». Может показаться, что мать пытается спровоцировать юную коммунистку, но тон письма не таков, скорее Сидни хочет все сгладить, указать на нелепость политических разногласий. Если так, это запредельная наивность. Дебора, пожалуй, справилась с задачей лучше, попытавшись вышутить весь инцидент. Она сообщила Джессике, что мать («убиться можно») спросила Гитлера, есть ли в Германии закон, регулирующий качество муки в выпечке. В семнадцать лет, в ожидании скачек в Аскоте, до которых оставалась всего неделя, Дебора склонна была воспринять эту встречу как потеху, а может, несерьезность была и сознательной. У нее обнаружился иммунитет, как у Памелы. О Юнити, которая «тряслась так, что едва могла идти», она пишет как о природном — и чуждом — явлении. О Гитлере она в дневнике замечает, что вживую он выглядел не столь суровым, как на фотографиях. Годы спустя она признавалась, что долго не могла взять в толк, как это он отложил выезд в Оберзальцберг, свою горную резиденцию в Берхтесгадене, только ради двухчасового разговора с ними.
Осенью 1937-го Ридсдейлы вместе с невесткой Дэвида Хелен (ее дочь Климентина в ту пору стала приверженкой Гитлера) присутствовали на ежегодном партийном съезде. Они снова побывают на съезде в 1938-м. «Лорд и леди Ридсдейл вернулись в Лондон из Нюрнберга», — тактично сообщала светская хроника «Таймс». Но прежде, в марте, Дэвид произнес еще одну сногсшибательную речь в палате пэров. Он выступил с многословной защитой аншлюса, аннексии Гитлером Австрии. Наивно думать, заявил он, что исступленный энтузиазм по этому поводу был фальшивым. Он, Ридсдейл, «твердо уверен, что произошедшая перемена соответствовала подлинным желаниям большей части австрийского народа», и выразил надежду, что Англия перейдет к дружеским переговорам с правительством Германии.
Это же аргументация немецких пропагандистов, возразил ему другой член палаты. Дэвид неплохо усвоил свое задание. Неудивительно, что в июне Диана сообщала Деборе: фюрер «много говорил о Пуле и его речи» и был очень ему благодарен. Более того, он «особо» пригласил Дебору на партийный съезд в этом году! «Какой добрый и милый». Но Дебора не воспользовалась приглашением.
Взгляды, высказанные Дэвидом в палате пэров, всецело принадлежали Юнити, которая и Черчиллю писала подробное письмо о том, какая славная вещь — аншлюс. Черчилль ответил со всей любезностью: «честный плебисцит» показал бы, что большинство австрийцев против нацистского правления. Но Юнити воочию наблюдала в Вене такие сцены, которые верующей нацистке казались подтверждением любви к Гитлеру, и словно одержимая писала Диане: австрийцы чуть ли не набожно просили у нее разрешения поцеловать руку, которой касался фюрер. Порой — неизбежно — Юнити вступала в соперничество с красавицей сестрой за близость к Гитлеру и старалась доказать свою избранность. «Подумать только, ты снова в Берлине, — без особой приветливости писала она в 1937-м. — А Гитлер, наверное, тоже там?» — словно речь шла о ненадежном возлюбленном. Диана, в свою очередь, тоже порой дразнила Юнити за слепую страсть. В том же 1937-м она подробно описывает вечер у Магды Геббельс: они играли в аналогии и решили, что, будь фюрер цветком, он был бы белой лилией. Заодно она описала фотографию Гитлера на съезде 1929 года: «Я готова плакать от злости, как подумаю, что мы жили в ту пору — и все упустили». Неужели она действительно так думала? Что ж, может быть.
В одном мы можем быть уверены: к 1938 году Сидни подпала под обаяние Гитлера, а не абстрактного «союза» (он стал «ее любимым зятем», по отзыву Нэнси). До некоторой степени это случилось и с Дэвидом. Ему довелось общаться с Гитлером, когда Юнити слегла в августе — как ни странно, после представления «Валькирий» в Байрейте, где она была почетным гостем. Энтузиазм неофитки погнал ее на торжественный марш в Бреслау с Гитлером — «я скорее умру, чем пропущу это», — и затем она вернулась в Байрейт на отдельном самолете, а не вместе с фюрером, чтобы не заразить его гриппом. Но у нее уже развилась пневмония. Гитлер попросил Уинифред Вагнер позаботиться о ней и в три часа ночи вызвал своего личного врача. «Фюрер — самый добрый человек на свете, правда же?» — писала Диана. Так и хочется спросить, в самом ли деле она это думала? И все же подобные поступки Гитлера повлияли на Дэвида больше, чем речи в Нюрнберге. Фюрер оплатил пребывание Юнити в больнице, но Дэвид, сменивший жену у постели больной дочери, настоял на том, чтобы вернуть эти деньги. При этом он несколько раз встречался с Гитлером лицом к лицу и счел, что к нему вполне можно отнестись с приязнью.
Под конец Нюрнбергского съезда в 1938-м Гитлер дал немцам, жившим в Судетах, обещания, равнявшиеся провокации и угрожавшие разрывом Версальского договора 1919 года. Судетские немцы мечтают присоединиться к фатерланду — кто смеет отказать им в этом праве? Три дня спустя премьер-министр Невилл Чемберлен вылетел в Мюнхен, спеша предотвратить войну, — тогда этого желало гораздо больше людей, чем впоследствии готово было это признать, — и чехов заставили передать Судеты Германии. Гитлер возвращал все новые территории, кусок за куском. После переговоров Чемберлен сказал своему статс-секретарю Алеку Дуглас-Хьюму, что Гитлер — сумасшедший.
Симптомы безумия проявляла и Юнити, разве что слепой мог этого не заметить. Ранее в том же году, после того как двое судетских немцев пострадали в Чехословакии в результате кабацкой драки, «Таймс» сообщала: «Мисс Юнити Митфорд, появлявшаяся в Праге со свастикой на пальто, сегодня была задержана на пути в Карлсбад, когда въехала на автомобиле в зону особого военного регулирования. Несколько часов спустя ее отпустили». Юнити самым наглым образом выставляла напоказ нацистский значок, но это не помешало ей жаловаться на жестокое обращение со стороны ненавистных чехов, которые придрались к ее манере носить с собой фотографию Гитлера. Ее поведение, все такое же девичье-истерическое, становилось опасным: дитя-переросток играло собачий вальс в опасной близости от ядерной кнопки.
Еще в 1934-м Питер Родд написал Дэвиду, настоятельно советуя ему забрать Юнити из Мюнхена. Похоже, у этого человека мозгов было побольше, чем у многих Митфордов, но, как запомнилось Нэнси, его письмо сочли «нахальством». Прошло четыре года, и тут уже оторопь берет: как это Ридсдейлы не заставили Юнити покинуть Германию вместе с ними? Конечно, они могли думать, что Чемберлену удалось достичь соглашения, которое Гитлер будет соблюдать. Но допускать, чтобы Юнити растворялась в поклонении фюреру — это за пределами наивности. И возникает сильное ощущение, что Дэвид совсем потерялся, не зная, что и думать. Он не хотел войны — да и кто хотел? А вдруг Юнити и «этот Мосли», как он его называл, правы и Англия подружится с Германией? Сидни была категорически настроена против войны, и ее позиция не изменилась за все шесть лет, что война шла. Как и ее политизированные дочери, раз придя к какому-то мнению, Сидни уже не способна была от него отказаться. Но дело не в этом.
Желание Ридсдейлов сохранить европейский мир не означало уверенности, что это удастся. Пожалуй, тут важнее другая причина: упустив двух дочерей, эту они отчаянно старались удержать — позволяя ей все что вздумается.
В Лондоне предстояло вывести в свет последнюю из шести сестер. Сидни покупала ткани у Джона Льюиса и шляпки для Аскота у мадам Риты на Беркли-стрит — и создавала видимость, будто мир не так уж изменился. Светская хроника поддерживала эту иллюзию. Все так же добросовестно газеты отражают дебютантский сезон Деборы: первый бал в особняке на Ратленд-гейт в марте (Памела давала ужин), бал на Итон-сквер, представление ко двору в мае, и на этот раз ни одного листочка почтовой бумаги не пропало, ни одной конфеты.
Возможно, нормальность Деборы была особой формой бунта. Не лучший ли способ показать нос своей фанатичной семейке, проведя конец августа 1939-го в гостях, на скачках в Йоркшире? А может, как Фанни из «В поисках любви», она от рождения была здравой. И, как божественно прекрасная Норти в романе «Не говорите Альфреду», была создана, чтобы очаровывать, — «неистовая маленькая обаятельница», прозвала ее Нэнси. Норти — довольно точный, хотя и не без преувеличений, портрет юной Деборы. У нее яркие голубые глаза, и она слегка изгибается, словно щенок, когда увлечена беседой. Животных обожает (ее любимый барсук строит нору на заднем дворе французского посольства). Почти на любой обращенный вопрос («Это барсучий домик?») отвечает: «О, какая вы умница». И при всем блеске и треске очень сообразительна. Дебора была вынуждена проявлять осторожность: сестры бросили тень на семейное имя. Хуже того, они обратили Митфордов в карикатуру, их воспринимали как достопочтенных мисс Кардашьян в черных рубашках под красным флагом. Саму Дебору «Дейли экспресс» спутал с Джессикой и приписал ей бегство с Ромилли, а опровержение подобных ошибок мало кто замечает — в отличие от самих ошибок. В апреле 1938 года, как раз между первым балом Деборы и представлением ко двору, Юнити подверглась нападению толпы в Гайд-парке. Одна газета написала об этом под заголовком: «И снова с нами безумные, безумные Митфорды».
В июне газеты снова взялись за Юнити, теперь из-за провокации в Праге. В то же время в другом мире Дебора побывала на балу в честь дочерей Джо Кеннеди, американского посла в Лондоне, подружилась со всей семьей. На балу у лорда Маунтбаттена она танцевала с Джеком Кеннеди, а спустя годы появится на его инаугурации. В дневнике Дебора отметила: «скучноват, но мил». Через две недели после первого выхода в свет она познакомилась со своим будущим мужем, Эндрю Кавендишем, вторым сыном герцога Девонширского. «Для меня все было решено», — писала она впоследствии. Дебора сразу узнала своего мужчину. Если она и воспринимала себя как идеальный товар, подпорченный чужими поступками, — захочет ли достойный жених войти в сумасшедшую семейку? что скажут его мамаша, викарий, няня? — вздоха облегчения при столь быстром появлении Прекрасного принца мы не услышим. Не тот у нее характер, чтобы выдать подобные опасения.
Эндрю, тогда еще учившийся в Кембридже, вроде бы не соответствовал типу, на какой обычно западали девочки Митфорд, и в этом, вероятно, состояла отчасти его привлекательность: в отличие от самовлюбленных и напористых самцов он был вяловатым, остроумным и самокритичным. Он обладал неистощимой способностью получать удовольствие от жизни, и его шарм не требовал проверки. Подростком Дебора была насмерть влюблена в Дерека Джексона, человека совсем иного стиля. (Разве что он, как и Эндрю, увлекался скачками. Эндрю был и изящно азартным игроком: «человек из букмекерской конторы гнался за ним на вокзале Виктория вдоль всего поезда»‹51›.) Но Дебора видела, как ее сестры пытаются ужиться с альфами, которые все на свете знают, а стоит им потерпеть неудачу — дуются, как маленькие мальчики. Позднее Эндрю признается, что хозяйка в доме — Дебора, «но мне это в женщине нравится». В августе 1938-го они оба вместе с другом заехали ненадолго в Вуттон (технически Деборе это было запрещено, пока брак Мосли и Дианы не был официально объявлен), где застали сэра Огра мирно удящим рыбу в окружении детей. Они провели там «буквально десять минут», писала Диана Юнити. Юноши ей «показались невероятными младенцами» (возникает ощущение, что Диана родилась взрослой). Конечно, восемнадцатилетний Эндрю выглядел застенчивым, неоперившимся юнцом на фоне окружавших Диану парней в сапогах. Нэнси сочла его «симпатичным малышом» (хотя Ивлину Во она позднее признавалась, что увидела сходство с ним в персонаже «Возвращения в Брайдсхед», лорде Себастьяне, что, вероятно, подразумевает небрежный аристократический шарм). И это опять-таки, несомненно, привлекало Дебору.
Поженились они только весной 1941-го. Эндрю хотя и не был красив, имел успех у женщин; ему было бы разумнее дождаться совершеннолетия, чтобы решиться на окончательный шаг. Сидни извелась: Эндрю казался ей легкомысленным, взять хотя бы тот случай, когда Дебора поехала в Оксфорд и там встречала поезд за поездом — Эндрю опоздал и на второй, и на третий. Тем не менее уже летом после выхода в свет Дебора считала себя помолвленной, пусть неофициально, и герцоги Девонширские пригласили ее к себе. Мать, все еще неуверенная и цепляющаяся за правила, написала дочери строгое письмо, требуя подтверждения, что приглашение исходит от самой герцогини, а не от молодого человека. Тут мы еще слышим голос прежней Сидни, той поры, когда ее власть еще не была ниспровергнута. С учетом остальных событий эти наставления кажутся нелепыми. И все же нельзя не восхититься стойкостью — почти трагической, — с какой Сидни пытается обеспечить счастливую развязку хотя бы для последней своей дочери.
Дебора повидалась и с Джессикой, которая вернулась в Лондон и родила дочку Джулию. Супруги Ромилли поселились в рабочем районе Ротерхайта, в ту пору застроенном трущобами, поблизости от доков, которые падут одной из первой жертв при налете люфтваффе. Джессика жизнерадостно сообщала сестре в декабре 1937-го, через два дня после рождения дочки, что младенец очень крепкий: «Ты бы могла повидать меня в любой момент, не будь ты носителем детской болезни» (Дебора переболела корью). На самом деле повидать Джессику родственникам было не так просто, поскольку Эсмонд запрещал визиты всех Митфордов, за исключением Тома. (Еще одно свидетельство присущего Тому умения быть всем для всех.) Когда Дебора наконец явилась в Ротерхайт и обнаружила Джулию в люльке, свисавшей из открытого окна, Эсмонд отсутствовал, но в дальнейшем несколько встреч — ужасных — все же произошло. По воспоминаниям Деборы, особенно мерзко он высказывался о ее матери. Вероятно, от него постарались скрыть, что посмотреть на внучку Сидни привезла Юнити и машина была забита вещичками для малютки, там было и платье от Дианы. Джессика поблагодарила сестру крайне холодным письмом и просила больше ничего не присылать, «потому что Эсмонду это не нравится». Тот факт, что Брайан Гиннесс, вступивший в новый брак, был в этом доме желанным гостем, говорит и об отношении четы к его первой жене, и о некоторых качествах самого Брайана. Нэнси стала персоной нон грата после «предательства» в Сен-Жан-де-Люз, Памела — поскольку вышла замуж за фашиста. И так далее. Жизнь устраивалась по евангелию от товарища Эсмонда.
Как на самом деле Джессика воспринимала реалии жизни рабочего класса тридцатых годов — этот мир цинковых ванночек, ночных горшков, дом, «где растрескавшиеся стены скреплялись слоями вздувшихся обоев»‹52›, — выяснить невозможно. Вместе с Эсмондом она работала в рекламном агентстве Уолтера Томпсона. Эсмонд был копирайтером (в отличие от Гордона Комстока из романа «Да будет фикус», он не считал эту работу службой у алтаря Господа Денег), она занималась исследованием рынка и впервые общалась с людьми, чье дело взялась отстаивать. Джессике хватило честности признать, что эти встречи вызывали амбивалентные чувства, как и знакомство с лейбористами, с которыми Эсмонд намеревался блокироваться; она привыкла к определенной утонченности поведения, и вне этих рамок ей становилось неуютно. Отчасти она всегда была защищена — самим фактом своего происхождения, как та девица в песенке «Простые люди», которая хочет жить с бедняком, но стоит ей позвонить папочке, и тот положит этому конец — и оставалась настолько Митфорд, что наняла служанку. И все же между Ратленд-гейт и Ротерхайт-стрит — пропасть. Что получила Джессика, совершив прыжок из квартала SW7 в SE16? Жизненный опыт, без сомнения, но едва ли кто-то жаждет опыта ради опыта. Она пыталась что-то доказать — но что именно? Автор рецензии на «Достопочтенных и мятежников» замечает: «Трогательна уверенность этих юных существ [Джессики и Эсмонда], что они служат миссионерами прогресса… В наши дни [1960] молодая женщина левых убеждений вполне может счесть эту книгу ничтожной — слишком много здесь семейных анекдотов, „птичьего языка“ и занятий, недоступных товарищам по партии»‹53›. Довольно-таки высокомерный разбор, но не в бровь, а в глаз: если бы не происхождение, против которого восставала Джессика, то в бунте не было бы смысла — а может быть, и в книге.
Так же и с Эсмондом. Два года спустя он скажет: «Я не был коммунистом, я сейчас не коммунист и никогда им не стану». Да, он оставался в неопределенности — даже для самого себя. Ему не нравился модный вариант коммунизма как абстрактной веры, и можно понять почему: большинство интеллигентов за всю жизнь не видели ни одного пролетария; Энтони Блант упал бы в обморок при одной мысли переехать в Ротерхайт и не любоваться Пуссеном. С другой стороны, трудно понять, что именно пытался доказать сам Эсмонд, кроме мужества осуществлять на практике — хотя бы временно — то, что он проповедовал в теории. Он тоже был защищен своим происхождением. Как холодно и уничтожающе замечала о его политической борьбе Диана, как оценивали его характер Дебора и Нэнси, как признавала и сама Джессика («одаренный ненавистник»), ему естественнее было выступать против, чем за. Он был анархистом по природе, а не левым идеалистом, как его жена. В этом есть своя слава (вспомните Рассела Брэнда), но такой путь ведет в тупик — подобный тому, каким баррикада на Кэбл-стрит стала для чернорубашечников Мосли. Эсмонд набрасывался на Джессику за любое проявление митфордианства, принадлежности к высшим классам — но куда ей было деваться от своего происхождения и в чем ее вина? Он ругал ее семью. Неужели эта новая жизнь — то, чего она хотела? Единственный возможный ответ — да; оставалось лишь мириться с ситуацией. Если Джессику и посещали сомнения вроде тех, которые могли тревожить Диану, когда та сидела в одиночестве на Итон-сквер, Джессика — и в этом схожая с сестрой, изгнанной из ее жизни, — раньше умерла бы, чем в этом призналась.
И все же, когда Джулия умерла, всего в пять месяцев, едва ли Джессика не призадумалась. Малышку убила корь, свирепствовавшая в Ротерхайте, — стоило уберегаться от заразной Деборы! Местный врач, уверенный, что Джессика, разумеется, переболела в детстве, сказал, что младенец получает иммунитет с материнским молоком и потому нет надобности в прививке. Корь перешла в пневмонию. Родители сидели возле кислородной палатки и беспомощно следили за тем, как в мучениях угасает жизнь их первенца.
Можно представить, какой шум поднялся в светском обществе, отвергнутом Ромилли. Молодую пару винили за то, что они сделали Джулию жертвой идеи, попытавшись воспитать беззащитное дитя в трущобах. Эсмонд отпугнул многих не только риторикой, но и повадками городского Робина Гуда: являлся вместе с Джессикой на ужин к людям, которых ненавидел, и громогласно обличал, и воровал из их домов. Без сомнения, Эсмонд считал аристократов фашистов законной добычей, и Джессика соглашалась. Но теперь общество отомстило им со всей жестокостью, до которой доходит сплетня.
Беда Джессики еще и в том, что в глубине души она, возможно, соглашалась со сплетниками. Ее мать с самого начала говорила, что девочка слабенькая, и даже Юнити сравнивала ножки Джулии с тонкими конечностями Марлен Дитрих. А уж представить, как люльку вывешивают за окно… Сидни предлагала прислать им в помощь Блор, которая любила и понимала детей, но Эсмонд отказался впустить в дом няню (хотя имел служанку). Он хотел, чтобы Джессика выживала и мыкалась, как простые женщины Ротерхайта. Но Джессика не была простой рабочей женой, не была готова к такой жизни. Она с удивительной силой воли старалась исполнять свою роль ради идеала, в который верила, но которому не могла вполне соответствовать. К тому же она оставалась в одиночестве. Никто из родных не присутствовал на похоронах малышки — и едва ли в глубине души она этого хотела. Смерть Джулии поднимала жестокие вопросы: почему жизнь ребенка следовало спасти, в то время как маленькие обитатели Ротерхайта мрут от болезни, — только потому, что у родителей Джулии имелись на то средства? И разве коммунист не обязан делить с рабочим классом все трудности, а не отвращать беду от себя с помощью прогнившего капитализма?
Ответом на эти неразрешимые вопросы стало бегство. Супруги уехали на Корсику, оставив огромные неоплаченные счета: Джессика считала, что электричество берется откуда-то само собой, по волшебству. По возвращении в Лондон они сняли комнату на Эджвер-роуд. Осенью 1938-го по неизвестным причинам (очевидно, это как-то связано со смертью Джулии) Джессика прервала вторую беременность; двадцать лет спустя она с отважной откровенностью опишет этот опыт и будет выступать за легализацию абортов. Затем в начале 1939 года оба Ромилли совершили весьма типичные для них поступки: Джессика съездила в Свинбрук повидаться с любимицей своих детских лет, теперь уже состарившейся овечкой Мирандой, та паслась с другими, но побежала через поле на зов хозяйки; Эсмонд съездил с Филипом Тойнби в Итон и вернулся с целой коллекцией краденых цилиндров. «Элегантные символы нашей ненависти к Итону, — писал Тойнби, — нашего бунта, нашей анархии»‹54›. Еще типичнее, что Эсмонд продал их и на вырученные деньги (плюс сто фунтов, полученных Джессикой к совершеннолетию) они отправились в Нью-Йорк.
12
Летом 1937-го, когда милитаризация Рейнской области все еще не удостаивалась внимания, будто личное дело Гитлера, Юнити написала письмо своей Буд — такое же дружелюбное и ласковое, как прежде. Словно они все еще жили в детской, продолжали свои глупства, а не воплощали полярно разошедшиеся убеждения. Юнити сообщила Джессике, что в Мюнхене жарко. Она рассказывала, как отправилась в Английский сад и совершила полуязыческий ритуал: раздевшись, принимала солнечные ванны полностью обнаженная. А потом задумалась, могла бы Сидни каким-то образом догадаться о ее занятиях («Я смеялась, пока живот не заболел, и случайный прохожий счел бы меня не только распущенной, но и безумной»).
Была ли она безумна? Да, конечно, хотя не была изначально обречена. Она стремилась к вниманию, эта дерзкая и уверенная девушка, почему-то воспринимавшая себя как неудачницу, не глупая, но не способная себя контролировать, — попавшая в дурную эпоху и в дурные руки. Ее раздирали мощные, неуправляемые страсти. «Бобо стала бы верующей, — рассуждала впоследствии подруга, — но нашла свою веру в нацизме»‹55›.
Не была она и чудовищем, хотя ее выступления против евреев чудовищны. Она была окружена злыми людьми, и ей важнее всего было их доброе мнение. Возможно, они пробуждали в ней и зло и безумие. Это что-то вроде folie à deux[21], когда сильный партнер внушает слабому желание убивать и наслаждаться убийством. Однако она умела пробуждать в людях симпатию и любовь. «Те, кто ее любил, не то чтобы прощали ей эти убеждения, — писала Дебора много лет спустя, — но любили ее вопреки им».
К 1939 году жизнь в Германии, доставившая ей счастье, к которому она так неуклюже стремилась, подходила к завершению. Подходили к завершению и другие истории. Нэнси съездила в Перпиньян вместе с мужем, это ненадолго возродило их брак: ей показалось, что она могла бы уважать Питера Родда, а она к этому стремилась. Однако выкидыш в конце 1938-го, после пяти лет безуспешных попыток забеременеть, стал катастрофой: брак еще не распался, но исчезла всякая надежда на благополучный конец. «Единственное, — напишет она в „В поисках любви“, — что может спасти брак без особой любви, это очень, очень большая порядочность — и безукоризненные манеры». И ведь до чего верно. Но это знание далось ей немалой ценой, поскольку именно таких качеств недоставало ее браку. Одно из достоинств романов Нэнси Митфорд, ключ к их неисчерпаемой утешительности, заключается в изяществе и легкости, с какой она делится мудростью, добытой в жестокой борьбе.
Перед войной она жила в доме на Бломфилд-роуд, в квартале Майда-Вейл, с Питером (по большей части) и любимыми французскими бульдожками Милли и Лотти — они рожали детей, к чему сама Нэнси оказалась непригодной.
Милли, уверяла она Роберта Байрона, «категорически против умиротворения». В эту пору Нэнси редактировала письма Стэнли из Олдерли, находя в здравой политике вигов и устойчивой системе представлений убежище и от современности, и от Питера. Первый том писем, «Леди из Олдерли» (1938), еще содержит посвящение — благодарность супругу, второй, «Стэнли из Олдерли» (1939), обошелся без него. Обе отлично составленные и тепло принятые книги послужили бальзамом для раненой гордости. Однако в целом жизнь мало что обещала Нэнси в ту пору. Война, по крайней мере, отвечала на вопрос, что будет дальше. О ситуации в мире, а тем самым и в собственной семье, Нэнси отзывалась со скукой, отчаянием и отстраненностью. «Между нацистами и большевиками разницы ни на волос, — писала она другу семьи Вайолет Хаммерсли. — Если ты еврей, предпочтешь большевиков, если аристократ — других. Вот и все, на мой взгляд. Бесы».
Свинбрук был продан, теперь пришел черед дома на Ратленд-гейт, Дэвид предполагал продать его или сдать с обстановкой. Все дочери вышли в свет, и в доме отпала нужда. Война отсрочит продажу, но к 1938-му основным жилищем Ридсдейлов сделался остров Инч-Кеннет, у западного побережья Малла. Там стояли единственный большой дом и часовня; имелся личный лодочник. Дэвид купил остров, пообщавшись в клубе с человеком, который подремонтировал и расширил дом. Это был типичный для него детский порыв, и в этом смысле он мало отличался от Юнити: опрометчивый, загоравшийся энтузиазмом, без особой оглядки на последствия. В доме, каким он был до новых переделок, некогда гостили доктор Джонсон и Сэмюэл Босуэлл. Босуэлл называл его «элегантным убежищем». Новое здание было уже не столь красиво («вроде особняка в центральных графствах»‹56›) и к тому же находилось страшно далеко.
Чтобы попасть туда, нужно было ехать ночь на поезде, потом долго плыть на пароме до Малла, дальше пятнадцать миль на машине и, наконец, переправляться на лодке — «худшее путешествие в мире», по отзыву Нэнси. Дебора позднее признавалась, что колебалась «между желанием прожить там всю жизнь и ненавистью». Все зависело от погоды: Инч-Кеннет прекрасен при солнце и мрачен в туман. Сидни, которая провела детство рядом с морем и на море, чувствовала родство с этим местом. В жилах Дэвида текла шотландская кровь (его мать из Эйрли), и, как большинство аристократов, он любил Шотландию. Однако он постепенно сдавал, как усталое старое животное. Знать бы, что думал он о своих удивительных девочках, которые скакали вокруг него, пока были маленькие, дразнили и подначивали, отводили ему главное место в своих фантазиях, набрасывали покров волшебных чар на вечные земли Оксфордшира.
Интересно также, что почувствовал Дэвид, когда Мюнхенское соглашение оказалось пустышкой, Гитлер двинулся на Прагу, а сам он вернулся — с некоторым облегчением, словно и не было гипнотического обращения в Нюрнберге, — к старинной ненависти к Германии. Между тем Сидни пуще прежнего выступала за Гитлера и категорически не желала войны. Однако 1939-й еще только начинался. Юнити переехала в другой дом. «Квартира принадлежит, — сообщала она, — молодой еврейской паре, которая уезжает за границу». Отвратительно? Еще бы. В марте она писала Диане так, словно ничего особенного не происходило. Фюрер был «в своем сладчайшем настроении», выражал сочувствие в связи с тем, что Британия и Германия становятся врагами. Летом Юнити приезжала в Лондон — и опять-таки почему ее отпустили в Мюнхен? Да еще и с целой машиной вещей, собранных Сидни для обстановки новой квартиры. Она побывала на митинге Мосли в Эрлс-корте. Когда она ласково прощалась возле дома на Ратленд-гейт с горничной Мейбл, та взмолилась: «Не произносите при мне имя Гитлера». — «Мейб, ты его не знаешь, он бы тебе понравился».
Но к июлю, писала она Диане, сладчайший фюрер был уже «в самом неприступном настроении, знаешь, весь такой озабоченный». Сестры вместе побывали в Байрейте, где Юнити вручили букет цветов, они посмотрели «Сумерки богов», пообедали с Гитлером. Разговор был сдержанным и взрослым — по крайней мере, разговор Дианы с фюрером. Она обещала, что Мосли будет бороться за мир, пока это не запрещено законом, но едва ли он тот человек, в чьих силах предотвратить войну. Гитлер сухо ответил, что такие усилия подвергают политика риску быть убитым. Он также сказал Диане по поводу британского ультиматума: «Боюсь, они твердо решились воевать».
После обеда Юнити сказала Диане: если Англия вступит в войну с Германией, она больше не станет жить. И в то же время приглашала сестру на очередной партийный съезд, словно это еще было возможно. Диана вернулась в Вуттон, готовилась к скорым родам — и к войне. Юнити еще дважды обедала с Гитлером. Вероятно, они обсуждали ситуацию, как и всегда в прошлом, и Юнити, должно быть, до последнего умоляла сохранить мир. Альберт Шпеер писал в мемуарах: «Леди Митфорд [так он ее называл] даже в годы возраставшего международного напряжения настойчиво вступалась за свою страну и часто просто умоляла Гитлера пойти на сделку с Британией. И хотя Гитлер нисколько ее в этом не поощрял, вопреки его сдержанности она не оставляла усилий во все эти годы». Друг Юнити Руди фон Симолин потом говорил: «Ее вознесли на пьедестал, а она вообразила, будто пользуется влиянием»‹57›.
Британский консул велел Юнити покинуть Германию, однако она ответила, что в этом нет необходимости, поскольку она состоит под покровительством Гитлера. Отец слал одну исступленную телеграмму за другой, но уговаривать Юнити было уже поздно. Последние дни августа Юнити проводила в одиночестве в своей квартире, хозяева которой уехали — кто знает куда. Она неотрывно слушала радио. Первого сентября она в последний раз обедала в «Остерии Бавария». На следующий день написала очередное письмо Диане, все в том же митфордианском духе, выразила пожелание, чтобы Чемберлена повесили. Она также беспокоилась о собаке, подарке сестры. «Боюсь, — писала она, — что больше не увижу фюрера».
На следующий день она пошла в Английский сад и пустила пулю себе в голову.
Часть III
Знаешь, теперь, когда
я выздоровела,
я не выношу жизнь;
я имею в виду эту войну!
Письмо Юнити Митфорд Диане Мосли 20 ноября 1941 года1
Гитлера ей все же увидеть довелось — в одной из мюнхенских больниц. Ее жизнь была кончена, однако Юнити не сумела от нее избавиться. Пуля из маленького «вальтера» засела в задней части головы, в таком месте, откуда ее опасно было извлекать. Там пуля оставалась, воздействуя на центральную нервную систему, так что настроения Юнити сделались совсем уж детскими, у нее нарушилась координация, и она страдала недержанием. Но она в целом оставалась сама собой. С преувеличениями, почти карикатурными, — однако и это было ей раньше свойственно.
То ли вина, то ли приязнь, а может, их сочетание побудило Гитлера взять на себя ответственность и оплатить лечение Юнити — очень похоже на человеческие эмоции. Ее нашли почти сразу после того, как она рухнула возле скамейки в парке. Судя по всему, очень многие знали, что она подумывает о самоубийстве, но никто не сумел помешать ей. Руди фон Симолину, который утром 4 сентября получит от Юнити письмо с сообщением, что к этому часу она должна быть мертва, Юнити демонстрировала свой пистолет. Дебора впоследствии писала, что о пистолете знала и семья. Тому и Диане Юнити некогда говорила, что при объявлении войны покончит с собой. Утром 3-го она явилась в кабинет гауляйтера Адольфа Вагнера и спросила, будет ли она интернирована, он ответил отрицательно, — но зачем она хотела это знать, если уже твердо решилась? Вагнера смутило ее поведение, и он отправил двух человек следить за ней. Вскоре Юнити возвратилась и передала ему конверт с прощальной запиской. К тому времени приставленные гауляйтером люди ненадолго потеряли ее след, однако гулявшая в Английском парке женщина слышала выстрел и видела, как Юнити увозили на казенной машине. Происшествие было засекречено, газетам запретили о нем писать.
Гитлер посетил Юнити 10 сентября (она его не узнала) и вторично 8 ноября. К тому времени она предприняла вторую попытку покончить с собой, проглотив свой значок-свастику. Однако теперь она узнала Гитлера и смогла ответить на его вопрос, предпочтет ли она остаться в Германии или вернуться в Англию. «Англия», — сказала она, и фюрер организовал ее переезд в нейтральную Швейцарию, откуда она могла добраться домой.
В момент объявления войны Ридсдейлы были на своем острове вместе с Нэнси и Деборой. Ситуация оказалась схожей с той, которую они пережили двумя с половиной годами ранее, после исчезновения Джессики. Разница была лишь в том, что они знали, где находится Юнити, — но подробности оставались неизвестными и пугающими. Через британского консула дошло письмо Юнити: «Я пишу, чтобы попрощаться… моя любовь с вами, особенно с моей Буд». Точных сведений не поступало. Ходили слухи об аресте Юнити, о том, что ее поместили в лагерь. «Своего рода поэтическая справедливость», — обронила Нэнси в разговоре с Вайолет Хаммерсли. Сама Нэнси вернулась в Лондон 3 сентября. По дороге на станцию она схлестнулась с матерью из-за Гитлера. Теперь, когда началась война, ее возмущение прогерманской частью семьи получило дополнительное обоснование. При этом, кажется, Нэнси смаковала ныне разоблаченные пристрастия: наконец-то полностью оправдана антипатия к матери, поддерживавшей нацистов. «Муля окончательно свихнулась», — писала она, и в ее словах слышится торжество. Она имела в виду, что Сидни все еще стояла за Гитлера. Так оно и было, но едва ли Нэнси могла не замечать, как мать с ума сходит от тревоги. По правде говоря, Нэнси и сама, вопреки отстраненно-осуждающей позе, делала попытки выяснить судьбу сестры, однако не способна была проявить элементарное сочувствие к Сидни, и мать, не склонная уступать, не облегчала ей эту задачу. Уехав с острова и благодаря в письме родителей за проведенное у них время, Нэнси тут же сообщила о своих трудах для войны: каждую ночь водит машину службы противовоздушной обороны, а скоро пойдет работать в медпункт у вокзала Паддингтон (там и возьмется в 1940-м за роман «Пирог с голубями»). Недвусмысленный намек матери: некоторые в семье поступают достойно.
В сентябре Ридсдейлы получили письмо от Ласло, брата Яноша фон Алмаши‹1›. Юнити, писал он, находится в больнице. Еще через месяц родителям сообщили то, что они наверняка уже знали: Юнити пыталась покончить с собой. К тому времени все выплеснулось в прессу. В октябре газета «Таймс» писала: «Лорд и леди Ридсдейл получили известие, что их дочь… находится в мюнхенской больнице в тяжелом состоянии». Однако большинство СМИ обходилось без подобной сдержанности. Какой-то журналист по телефону задал вопрос, не умерла ли еще Юнити. Сидни повесила трубку — но газеты вышли с заголовками, вопившими о смерти блудной дочери. Джессика, перебравшаяся в Вашингтон (где Эсмонд работал коммивояжером), слышала дикие слухи — например, Юнити якобы казнили по приказу Гиммлера. Только в декабре 1939-го, уже в Лондоне, Ридсдейлы дождались звонка Яноша фон Алмаши. Он передал трубку Юнити, которую к тому времени перевели в бернскую клинику Девушка попросила родителей забрать ее. Они все еще не знали, в каком она состоянии, хотя интонации и выражения Алмаши могли их отчасти предупредить.
Третьего января 1940-го сообщалось, что Юнити ожидают в Фолкстоне. Собрались газетчики, и произошло нечто, больше похожее на страшный сон.
Сидни поехала в Берн вместе с Деборой. Мучительный страх перед первой встречей с близким человеком в больнице всегда непременно сочетается с надеждой, но здесь сразу стало ясно, что уповать не на что: Юнити осталась жива, и только. К голове нельзя было притронуться, скальп налился кровью, лицо запало. Зубы, и так-то плохие, сделались оранжевыми. Однако паралич прошел, и, несмотря на сильное головокружение, Юнити могла передвигаться. Поэтому они отправились в нелегкий путь до Кале в специальном медицинском вагоне, прицепленном к поезду, который то и дело останавливался и снова трогался, и каждый толчок отзывался страшной болью в простреленной голове. Две ночи семья провела в отеле, осажденном журналистами. «Дейли экспресс» предлагала 5000 фунтов за интервью; «Ивнинг ньюс» сообщала, что спецвагон «предоставлен Гитлером». Дэвид три дня томился в ожидании в Фолкстоне, понятия не имея, что увидит, когда наконец ему привезут дочь.
«В порту предпринимаются чрезвычайные меры безопасности», — сообщала «Таймс». Действительно, появилась вооруженная охрана. К этому еще будут придираться, но пока имелась более актуальная тема. Когда Юнити вынесли с корабля на носилках, ее обступили фотографы. На снимке она пытается подтянуть одеяло к внезапно постаревшему лицу, взгляд отсутствующий и очень грустный, но волосы ей Сидни аккуратно причесала. Скорая, в которой семья выехала из порта, тут же сломалась, и им пришлось провести ночь в Фолкстоне; Дэвид вполне справедливо заподозрил злой умысел. Другая машина, куда погрузили 14 чемоданов Юнити, тщательно обысканных в Кале, тоже остановилась, пробив колесо. По мнению Нэнси‹2›, родители плохо справлялись с ситуацией, но что еще можно было предложить? За четыре дня они сумели доставить дочь из Берна в коттедж в Хай-Уикоме, а оттуда в Оксфорд, в больницу имени Рэдклиффа. Врачи одобрили лечение, которое Нэнси уже получила, а больше ничего сделать не могли. Мол, со временем ей станет лучше. Или хуже.
На самом деле произошло и то и другое: Юнити оправилась, но здоровье не вернулось. Однако газетные сообщения — «Мисс Митфорд в ближайшее время возвратится домой для полного излечения» — вызывали ощущение, будто случившееся несчастье лишь ненадолго прервало течение жизни, полной незаслуженных привилегий. Понятно, почему публика отозвалась неласково. Тем более речь шла о «девице, любившей Гитлера». Юнити давно уже сделалась знаковой фигурой в прессе, ходячим анекдотом, словно политик, неуклюже пытающийся хитрить. Англичане обожают такие вещи, но с Юнити выходила шутка дурного тона. Новости о ее участии в лондонских парадах и съездах были жареными и аппетитными. В 1938 году она подверглась нападению в Гайд-парк-Корнер, где Стэффорд Крисп произносил речь и началась очередная заварушка фашистов и коммунистов. Юнити всегда тянуло в самый центр насилия, и в этот раз она угодила в водоворот; с нее сорвали значок-свастику. Она дала сдачи, послышались лозунги против Гитлера, в ход пошли кулаки и камни, кто-то пригрозил утопить ее в Серпентайне. Полисмен с помощью двух мужчин сумел увести Юнити в автобус, который потом пытались взять штурмом. Такова была ее скандальная известность на тот момент, и она утверждала, что это доставляет ей удовольствие.
Вот почему, когда в январе 1940-го в новостных роликах перед показом кино мелькала Юнити — как отец помогает ей встать с носилок, — раздавались свист и ругань. Говорили, что вся история с самоубийством — выдумка с целью избежать ареста на родине‹3›, что за доставку Юнити домой уплачены огромные суммы. «Парамаунт ньюс» выпустила «фейковый» фильм, жестокую пародию в современном духе, где кадры возвращения Юнити сопровождались издевательскими стихами и пролетающими над головой эскадрильями в боевом порядке. Письмо в «Таймс» от вроде бы стороннего человека выражало протест против подобной «унизительной» кинопродукции. «Никого не пощадили, демонстрируют даже трагическое лицо леди Ридсдейл и крупным планом саму девушку, а комментатор отпускает скверные шутки». Вопрос о фильме и более острый вопрос о самой Юнити подняли в палате пэров. Критиковали «чрезвычайные меры безопасности» в Фолкстоне: откуда взялась вооруженная охрана? Последовал ответ: в порту всегда находилась охрана, и лорд Ридсдейл лишь попросил коменданта оградить его дочь от репортеров, которые пытались задавать ей вопросы. Лорды сочли ответ удовлетворительным, и все же потом снова слышались упреки, мол, люди со «штыками» ограждали от прессы ее законную жертву. Что же касается фильма «Парамаунт», лорд Денман сказал: «Превращать возвращение мисс Юнити Митфорд на родину в дело государственной важности, как выглядит оно в этом фильме, действительно абсурдно». И о комментаторе: «Учитывая тяжелое состояние, в котором она вернулась домой, издеваться над ней так, как это делают в фильме… несправедливо и невеликодушно. Насмешки над лордом Ридсдейлом, не знающие сочувствия к его тревоге и горю, столь же неуместны». Лорда Денмана поддержал маркиз Дафферин-Ава: «В садистской жестокости мало что сравнится с фильмом о Юнити Митфорд». Хотя можно себе представить, как по меньшей мере часть публики отреагировала на такие замечания: презренные богачи, старые фашисты, как всегда, цепляются друг за друга. А Юнити, как случалось с ней и прежде, оставалась загадкой, парадоксом: чего она заслуживает — жалости или позора? На этот вопрос до сих пор нет ответа.
В палате общин не утихал лейборист Герберт Моррисон. Он требовал у Невилла Чемберлена отчета: какие шаги предпринимало правительство «для возвращения в страну этой молодой леди, после того как она пособничала нацистскому режиму». Премьер-министр попытался отразить этот наскок, сообщив лишь, что американскому посольству был передан список находившихся в Германии британских подданных с просьбой помочь их эвакуации и список включал имя Юнити. К этому едва ли можно было придраться, однако премьер-министр явно уклонялся от прямого ответа. На самом деле Дэвид также заручился от военного министра гарантией, что Юнити не будет арестована по прибытии в Англию. Этот факт не упоминался.
И тут Моррисон решил добить свою жертву: «А для человека из рабочего класса тоже сделали бы так много?» Ответ понятен: едва ли. «Парамаунт ньюс» тем временем подливала масла в огонь. В письме в «Таймс» директор компании сообщал о широком одобрении фильма. Еще бы. Освальд Мосли был совершенно прав: козел отпущения — вещь полезная. По поводу пресловутой вооруженной охраны автор того же письма задавал вопрос: «Почему мисс Митфорд, видимо, предоставили военную защиту?» Слово «видимо» было лазейкой — наличие охраны, как бы плохо ни выглядело, оставалось без объяснений, — но автор беспощадно довел мысль до конца, укрывшись под броней своей отчасти лицемерной правоты: «Непредвзятые наблюдатели могли бы подумать, что правительству наиболее дороги те британцы, которые выражают глубочайшее восхищение Гитлером».
Парламентские запросы о Юнити продолжились в марте, когда родители попытались перевезти ее в свой дом на Инч-Кеннет. Отдаленные острова входили в запретную зону, и в палате общин заинтересовались, как это Юнити открыли туда доступ. «Известно ли министру внутренних дел, — поднимает тему в июле депутат от Шотландии, — что 2 июня отец мисс Митфорд встретил ее в Обане и доставил на этот остров? И мы в Шотландии обеспокоены тем, что известным фашистам [обратите внимание на множественное число] разрешен доступ на эти острова, в то время как совершенно лояльные люди не имеют возможности повидать родственников». Вполне естественное недовольство, и разумно было требовать, чтобы Юнити лишили такой привилегии. Среди «фашистов», недопущенных на Инч-Кеннет, оказалась Сидни, хотя по формулировке шотландского члена палаты общин можно подумать, что речь идет о Дэвиде. Но Дэвид, «покаявшийся словно Латимер» (по выражению Нэнси), уже не рассматривался как угроза безопасности. Это, правда, не убеждало тех, кто видел в Дэвиде «старого нацистского барона» (а это уже выражение Эсмонда Ромилли).
Юнити, впавшая в вечное детство, блаженно жила, не замечая всей этой суеты. «О, Буд, у меня есть Коза! — писала она Джессике в феврале. — О, Буд, мне ТАК жаль, что я пишу мало, скоро напишу еще!» Все-таки она догадывалась, что с ней что-то неладно. Думала, что врачи проделали дырку у нее в голове. «Я сошла с ума?» — спрашивала она то и дело, и жестокая насмешка Нэнси — «не более, чем обычно» — породила новые вопросы, на которые и вовсе не было ответа. Быть может, потенциально безумие присутствовало всегда и с каждым поворотом жизни развивалось все более.
Годы спустя Нэнси скажет: поведение Юнити «нас не смущало, а причиняло нам глубокое горе»‹4›. На вопрос Юнити: «Ты же не из тех, кто жестоко поступает с другими?» — Нэнси ласково отвечала, что всегда была против жестокости. Родные беспомощно следили за тем, как девочка-переросток носится по коттеджу в Хай-Уикоме (американский журнал назвал его «великолепным особняком»), неуклюжая и неконтролируемая, словно щенок волкодава, и то что-то выкрикивает, то выплевывает еду. Ей пришлось надевать башмаки Тома, потому что у нее все еще росли ноги.
Горничная Мейбл, поселившаяся в коттедже, чтобы вместе с Сидни присматривать за больной, вспоминала, как заставала Юнити в ванне, по шею в воде, неподвижной. «Ну-ка, со мной не шутите, говорила я и вытаскивала ее. О нет, бедняжка уже не была прежней»‹5›. Дебора, жившая в то время с родителями, написала письмо, выдававшее редкий для нее упадок духа. Положение «необычное и чудовищно ужасное», признавалась она Джессике.
И уж совсем невыносимо было все это для Дэвида — не только разрушение его дочери-валькирии, но и отвратительные нападки прессы. Под аристократической оболочкой прятался робкий и непубличный человек; он бродил по непонятному миру, едва различая его сквозь бельма на глазах. Дядюшка Мэтью, бранившийся с репортерами, втайне даже любивший публичность, — совсем другой типаж, и это прекрасно сознавала Нэнси, рисовавшая его сквозь легкомысленную призму своего воображения.
Ее персонаж сближается с реальным отцом в последнем романе, «Не говорите Альфреду», хотя и тут Нэнси не позволила дядюшке Мэтью пасть духом, как это случилось с ее отцом. И все же из-под панциря упорной бравады проступает усталость: «Он неважно сохранился. С молодости жил на одном легком… Мне запомнилось в детстве, как он порой задыхался, и это, конечно, плохо отражалось на сердце. И он познал скорбь, ничто так не старит человека. Похоронил троих детей, причем самых любимых». В 1940-м Дэвиду еще не пришлось хоронить детей, но Джессика ушла от них, Диану он не видел уже восемь лет, Юнити была потеряна… Да, прекрасные дочери Дэвида стали для него источником горя.
И вдобавок общая ненависть, обвинения в симпатиях к нацистам. В 1940-м министерство внутренних дел получило письмо: «Доколе мы будем кормить британской едой предателей вроде Мосли, Митфорда и Ридсдейла?» Такие вопросы вполне в духе Дэвида — не будь он сам замаран рукопожатиями с Гитлером. Несгибаемое сочувствие его жены нацистскому режиму, — из-за которого Юнити превратилась в слюнявую спотыкающуюся развалину, — выглядело немыслимым. Его возмущало, как Сидни чуть ли не симулянткой называет Юнити, утверждая, что та «прекрасно поправляется». По словам Нэнси, оксфордские врачи постаралась внушить Сидни каплю надежды, но Дэвида обманывать не стали‹6›. Это, вероятно, правда, но Сидни еще и защищала себя, публично утверждая, что Юнити становится лучше, — ей было необходимо в это верить. И ее верность Гитлеру, возможно, часть иллюзии: мол, если бы Англия сумела заключить мир, а не раздувала войну, с Юнити все было бы в порядке. Дэвид считал, что все наоборот.
Супруги ссорились из-за каждой сводки новостей. Не исключено, что подспудно Сидни радовалась возможности вступить в борьбу с супругом: длившийся тридцать шесть лет брак рушился. Так мало осталось от мужчины, за которого Сидни выходила замуж, — великолепное, звериное изящество, с каким он двигался в родной среде, скрывало полную неспособность существовать вне этих условий. Дэвид легко признал бы, что характер у Сидни сильнее. Если от него дочери получили несказанное очарование, то жесткость — дар матери. Он правил семьей на всем протяжении 1920-х годов, пока жизнь казалась игрой, — да, в делах оказался слаб, но это не так уж много значило, и после очередной неудачи он быстро восстанавливался. Но развод Дианы подточил его. Все, что он делал, показалось бессмысленным. Теперь бразды правления взяла Сидни, принимавшая каждый день без сожалений. Она ухаживала за Юнити с терпением святой: учила вязать, проводила часовые уроки, выводила под руку гулять, а Дэвид затуманенным взором следил за дочерью и не мог смириться с тем, что он видел. «Муля потрясающая, она посвятила ей жизнь, — писала Нэнси Джессике. — Пуля просто ужасен, почти не подходит к ней». Для Сидни он сделался бесполезным, просто жалким, но и она стала бесполезна для него, хотя и в ином смысле: от этой решительной и бесчувственной женщины он не мог ждать утешения. Символом их разрыва сделался не кто иной, как Адольф Гитлер.
В феврале 1940-го Дэвид сказал Нэнси, что больше не в состоянии жить с женой. Сидни вернулась в Свинбрук, в каменный коттедж у дороги в паб, рядом с хлопотливой мельницей, — красивое место, метафорическое возвращение в детство, где обитала теперь Юнити, совсем близко от кладбища, куда ее потом отнесут. Дэвид уединился на Инч-Кеннете, прихватив с собой горничную Маргарет Райт, с которой у него сложились близкие — возможно, и сексуальные — отношения. Она единственная относилась к нему так, словно он все еще что-то значил (больше ни от одной женщины Дэвид не мог этого добиться, а для него это было существенно). Он сохранил дружбу с Нэнси — возможно, догадываясь, что она отчасти разделяет его недовольство Сидни. «По личным и частным причинам» Дэвид уволился с должности директора Общенациональной ассоциации общего взаимного страхования работодателей, последнего поста в ряду его многих общественных должностей, но потом, как бы ради искупления, сумел собраться и вступить в лондонское ополчение. В марте он написал в «Таймс» длинное письмо: свою — ошеломленную — версию De Profundis[22].
В последние месяцы мне пришлось вынести такое количество публичного внимания к моей персоне в определенных видах прессы, неизбежно сопровождавшееся потоком анонимных оскорбительных писем, что я вынужден просить вас великодушно уделить немного места, где я мог бы высказаться.
Все это ныне оживилось вновь в связи с решением правительства Его Величества отказать мне в праве доставить дочь в мой дом в Шотландии… С моей стороны было бы неуместно ставить такое решение под вопрос. Тем не менее меня удручает очевидное влияние подозрительности и мстительности, порожденной публичным вниманием, о котором я и говорю…
Единственное мое преступление, если это считается преступлением, состоит, насколько мне известно, в том, что я, как и многие тысячи других людей в этой стране, полагал, что нашим интересам наилучшим образом соответствует дружественное взаимопонимание с Германией. Это мнение, пусть и ошибочное, разделяли достойные люди… многим в этой стране пришлось изменить свое отношение к данному вопросу с тех пор, как премьер-министр летал в Мюнхен. Не смею претендовать на то, что я когда-либо оказывал этой стране сколько-то значимые услуги, но моя совесть удовлетворена тем, что у меня нет причины стыдиться за годы, проведенные в армии, и ныне единственное мое желание — как можно скорее стать свидетелем победы союзников. И еще одно причиняет мне величайшее огорчение: меня постоянно именуют «фашистом». Но я не фашист, никогда не был и едва ли могу стать фашистом…
При чтении этого искреннего и безнадежного послания становится ясно, почему Нэнси, знавшая и порицавшая слабости отца, но помнившая о его сильных качествах, одарила его — в образе дяди Мэтью — неугасимой ненавистью к гуннам.
2
Если бы Юнити вернулась в Англию целой и невредимой, ее и в самом деле могли бы интернировать по положению «Об обороне». Трудно сказать, могло ли с ней случиться что-то худшее. Основные обвинения против нее — дружба с Гитлером, восхищение Третьим рейхом — не тянут на государственную измену. Однако Герберт Моррисон упомянул помощь врагу, и многие, несомненно, считали ее в той или иной мере агентом нацистов. А что еще мог думать рядовой англичанин в 1940 году? Скорее всего, именно это.
Насколько это мнение верно, трудно сказать. Именно этот нюанс, необходимость провести границу и отделить симпатии к нацистам от непатриотизма, желание мира с Германией от поддержки целей Германии, станет чрезвычайно мучительным, почти философским вопросом. Но время для таких тонкостей было неподходящее. Война не академический диспут. И вполне естественно было определять вину по прежним убеждениям. Другой вопрос, правосудно ли осуждать с ходу тех, чье поведение до начала войны оставалось формально законным, пусть и противным, а теперь вдруг сделалось опасным. Но война есть война. Каждый, кто до сих пор поддерживал врага, становится врагом.
В этом смысле Юнити несомненно была виновна, а особое положение превращало ее в потенциальный источник информации — как для Англии о немцах, так и для Германии об англичанах. Например, в 1937-м она походя выболтала английскому послу, что Гитлер недолюбливает Муссолини. Гитлер в сохранившейся беседе утверждал, что сестры Митфорд «знают многое, ибо связаны с влиятельными людьми». Упомянул и другое: однажды в 1939-м Юнити «воскликнула, что на весь Лондон имеется всего три зенитки». Диана, присутствовавшая при том разговоре, по словам Гитлера, «пригвоздила» Юнити взглядом. Она привыкла к взбалмошности сестры, но это выходило даже за ее обычные пределы. Позднее Диана попыталась доказать, что Юнити лишь повторяла газетные сплетни и никак не могла располагать в 1939-м секретной информацией. Тем не менее это восклицание граничит с государственной изменой. Британия действительно плохо подготовилась к войне. Тот факт, что Германия все равно это знала, едва ли служит оправданием для Юнити. Вероятно, она, как всегда, старалась сказать Гитлеру что-то приятное, не задумываясь о смысле и последствиях. По свидетельству Дианы, Юнити «была неспособна предать Англию»‹7›.
Однако в апреле 1941 года этот вопрос вновь был поднят в палате общин. В этом месяце Юнити видели на свадьбе Деборы, которая обвенчалась с лордом Эндрю Кавендишем в церкви Святого Варфоломея в Смитфилде. Некоторые семьи сочли бы неуместным ее появление на публике, но Митфорды (и Девонширы) были не из тех, кого волнует, «что люди скажут». Юнити — сестра Деборы, и обсуждать тут нечего. Вездесущие журналисты сразу приметили среди гостей женщину, прикрывавшую лицо маленькой сумочкой. Словно в дурном детективе, сумочка была украшена инициалами Ю.М. Понятно, что вновь поднялась шумиха.
Совершенно очевидно, что на свадебной фотографии, где Юнити стоит перед церковью рядом с давней подругой Мэри Ормсби-Гор, она выглядит почти как новенькая — намного лучше своего отца. Эта видимость благополучия обманчива, однако объясняет, почему члена парламента от лейбористов возмутило возвращение Юнити в свет. Раз уж она «вылечилась», не пора ли ее арестовать? Может быть, ее диагноз — «квислингит»‹8›, так от этого лучше всего лечат в лагере для интернированных на острове Мэн.
Герберт Моррисон, получивший должность министра внутренних дел в коалиционном правительстве Черчилля, явно лучше знал о состоянии Юнити и слегка смягчил свой подход. Если ее здоровье и положение изменятся, решительно заявил он, тогда можно будет и пересмотреть меры, но пока в этом необходимости нет. «Мой достопочтенный друг предлагает мне поместить под стражу людей, которые мне не нравятся, но я так поступить не могу». Когда консервативный член парламента невинно попросил уточнить, почему Моррисону не нравится Юнити, в ответ раздалось привычное лейбористское: «Она нравится Гитлеру».
Другой член парламента упомянул «общее ощущение» в народе, что Юнити удостоилась особых привилегий. На это Моррисон ответил: «Оставаться на свободе — для британского гражданина вовсе не особая привилегия».
Достойный ответ на фоне настойчивых требований воздать Юнити по заслугам. Но если бы она не изувечила себя, если бы не полюбила вместо Гитлера козу, удалось бы Моррисону соблюсти заявленный принцип? В начале войны Нэнси писала Деборе, что все вокруг интересуются, когда будут интернированы их родители. Типично для Нэнси, уверенной в своей правоте и подначивающей родных, хотя лорду Лондондерри, былому стороннику англо-германской дружбы, пришлось публично отрицать известие о своем аресте. Почти комично выглядят эти вчерашние умиротворители, которые носились теперь в смятении, спеша засвидетельствовать свой патриотизм. Но только не Сидни. Напротив. В октябре 1939-го она писала своему члену парламента, выражая возмущение нападками на Гитлера. «В прошлую войну она бы оказалась в тюрьме», — писала Нэнси Джессике. В данном случае сестер объединяли левые убеждения. В том же письме Нэнси утверждает, что другой фашист в их семье, Освальд Мосли, продолжает свою деятельность без помех.
С типичной митфордианской склонностью смешивать личные отношения и политику Нэнси, и так-то недолюбливавшая Мосли, теперь и вовсе записала его во враги. Не только из-за войны, хотя война удачно оправдывала любую вражду. Также Нэнси раздражала, но и смутно радовала внезапная близость между Сидни и Дианой (с этого момента между ними воцарятся взаимная привязанность и верность). Нэнси оказалась вне этого малого союза, ее отношения с матерью лучше не стали, и с Дианой после публикации «Чепчиков» примириться не удалось. Прежде она бы роптала, но война в каком-то смысле избавила ее от уз старых, надоевших семейных связей. Бунт против матери и ревность к Диане можно было обосновать тем, что обе они приверженки Гитлера. Нэнси лихорадило после бессонных ночей в медпункте, где она писала «Пирог с голубями»; разум ее преисполнялся радостной ярости против каждого, кто не был полностью и безусловно противником немцев. Собственного мужа в этот список Нэнси не включала: он сразу вступил в валлийское ополчение. Другое дело супруг Дианы, и об этом были вполне осведомлены власти.
Сэр Освальд Квислинг, как его теперь именовала Нэнси, все еще занимался обычными своими делами, но ему недолго оставалось пребывать на свободе. Британский союз от начала войны до мая 1940-го трижды участвовал в дополнительных выборах и почти не набирал голосов (партия Мосли надела «голубую ленточку лишившихся залога», ехидничала «Таймс»). Их время прошло — старый штаб в Челси подвергался нападениям, как и сам Мосли, — но вождь все еще не желал смириться с поражением. «Меня спрашивают, почему я не отказался от любой политической деятельности в грозный для нашей отчизны час, — писал он в мае, когда немцы продвигались к Парижу, а его соотечественники отступали к Дюнкерку. — Ответ прост: я изо всех сил стараюсь обеспечить наш народ альтернативой нынешнему правительству на тот случай, если народ пожелает заключить мир, сохранив Британскую империю и человеческие жизни». В тот самый момент, когда эта прокламация была опубликована в журнале БС, правительство собиралось усилить положение «Об обороне» с чрезвычайно широким спектром мер. По этому закону (статья 18В) правительство могло отправить в тюрьму «любое лицо, если сочтет это необходимым».
Естественно, Особая служба присматривалась к БС с самого начала войны, если не раньше. Выяснился ключевой факт: Мосли, чье имя не упоминалось в документах, был причастен к соглашению о радиовещании с помощью германской станции. Скорее всего, это было коммерческое предприятие, но выглядело крайне подозрительно и стало тем более подозрительно, когда известный член БС Уильям Джойс начал пропагандистское вещание на немецком радио под прозвищем Лорда Хо-Хо. В «Пироге с голубями», романе о «странной войне», Нэнси от души посмеялась над всем этим. Ее персонаж сэр Айвор Кинг, популярный старый певец, похищенный нацистами, вынужден вести передачи по их приказу («Доброй ночи, дорогие, — сказал старый Кинг. — Держите чушки на макушке. Кстати, где же наш „Арк Ройял“?») Власти, однако, взирали на деятельность Мосли без юмора. Наконец Особая служба доложила, что БС «не просто партия, агитирующая против войны и против правительства, но движение, ставящее себе целью всеми мерами помогать врагу».
Справедливо ли это обвинение? Или оно строилось на разрозненных косвенных уликах, которые лишь выглядели неопровержимыми? Мосли высказывался в пользу мирных переговоров. Задним числом, после того как мы видели снимки Освенцима, сама идея замирения кажется отвратительной. Однако в тот момент еще не все было однозначно. Гитлер несколько раз с октября 1939-го до июля 1940-го предлагал мир. Может быть, предлагал лицемерно. И все же он почему-то остановил продвижение своих войск по Франции, тем самым облегчив эвакуацию из Дюнкерка. В мае 1940-го даже Черчилль — к тому моменту премьер-министр — обсуждал с военным кабинетом возможность заключить мир (но эта дверь вскоре захлопнулась). Тем временем в поддержку мира выступали и такие известные люди, как Р. О. Батлер[23], позднее подружившийся с Сидни, и старые подозреваемые вроде Ллойд-Джорджа, который восхищался Гитлером не меньше, чем им восхищался Мосли, и сравнивал независимость Польши с попыткой вручить обезьяне карманные часы. Вплоть до 1942 года оставались ратовавшие за выход из схватки: пусть, мол, нацисты и коммунисты сами друг с другом разбираются ‹9›.
Итак, желание Мосли примириться с Германией не столь уж экзотично. И в мае 1940-го, пока он все еще отстаивал мир, он заявлял: «Пусть нынешнее правительство и прогнило и его политика нам омерзела, мы присоединимся к общему усилию единой нации и будем биться, пока последний чужак не будет изгнан с нашей земли». Многие члены БС даже вступили в армию, и одного из них арестуют потом на глазах у солдат во время парада. (А Эсмонда Ромилли родная мать клеймила как труса за побег в Америку: «Если ты по собственным убеждениям решил не возвращаться домой, мне больше нечего сказать, но если это Декка удерживает тебя вдали от родины в час тяжелейшего испытания, вспомни слова дяди Уинстона…») Мосли и сам попытался вернуться в свой старый полк. Он никогда не возражал против участия в войне — он возражал против самой войны, и в этом был не одинок. Трудно понять, как его напрямую обвиняли в недостатке патриотизма. С тем же успехом можно было обвинить Сидни Ридсдейл и интернировать ее тоже. Проблема, конечно, состояла не в том, что говорил Мосли, а в том, кем он был. Мосли утверждал, что БС — дисциплинированная дружина, которая подчинялась приказам полиции и никогда не была инициатором насилия, и это правда, если допустить, что любые проявления агрессии происходили вопреки официальным приказам Мосли. Тем не менее само существование этого союза было провокацией, вызовом демократии, и ничто так не разжигало конфликты, как риторика Мосли. Так что теперь его движение, пусть не вполне точно, зато вполне понятно приравнивалось к нацизму.
Однако можно ли задержать человека по статье 18В лишь потому, что он сэр Освальд Мосли? Угроза вторжения явно побуждала принять такое решение. Не станет ли он диктатором, марионеткой Гитлера, эдаким Квислингом в Уайтхолле? Может быть, он уже работает на них? Ирэн Рейвенс-дейл вызвали в министерство внутренних дел и спросили, располагает ли она доказательствами того, что Мосли состоит в пятой колонне. Двумя годами ранее, пока она не узнала о его тайном браке с Дианой, Ирэн сделала бы ради него все, но теперь личная обида взяла верх. После смерти первой жены Мосли в 1933-м Ирэн посвятила ему свою жизнь, она воспитывала троих осиротевших племянников и даже платила долю Мосли за поддержание семейного дома в Сейвхее, в Букингемшире, а он тем временем выбрасывал деньги на БС. Он выставил ее дурой, и она охотно это позволяла — но тем хуже. Так что стоило Ирэн услышать этот вопрос в министерстве внутренних дел, и она ответила, смертельно точно выбирая слова. Нет, доказательств у нее нет. Но если бы Мосли уверовал, что какой-то вариант национал-социализма в союзе с гитлеровским режимом будет Британии на пользу, он «мог бы пойти на все, особенно если бы разъярился и счел, что мы все испортили». «Он [ее собеседник] сказал, что я дала ему все необходимое», — записала Ирэн в дневнике.
И все же министр внутренних дел сэр Джон Андерсон, предшественник Моррисона, отчитался кабинету министров, что по статье 18В арестовать Мосли никак не может. Да, этот человек дважды встречался с Гитлером, и ходили упорные слухи, что БСФ получал деньги от Муссолини; был и неудобный факт с радиостанцией, которая более чем наполовину принадлежала Германии. На ту же чашу весов ложились и многочисленные речи Мосли. И все же Мосли «слишком умен, чтобы подставиться, давая изменнические приказы», заключил Андерсон, хотя на этом вопрос не был исчерпан: «Несмотря на отсутствие улик, мы не можем допустить в таком деле риск, даже самый незначительный». Иными словами, правила правилами, но их можно подправить. Статью 18В откорректировали таким образом, чтобы уловить в эту сеть и Мосли. Отныне правительство могло задерживать членов любых организаций, находящихся, по его мнению, «под иностранным влиянием или контролем», лидеры которых вступали в сношения «с любыми державами, с которыми Его Величество состоит в войне». БС отвергал подобные обвинения, и все же Мосли арестовали вместе с боо соратниками. За ним явились 23 мая в квартиру на Долфин-сквер, куда он недавно переехал с Дианой, и доставили в тюрьму Брикстон. «После Винчестера тюрьма — пустяки», — говорил он впоследствии с той поразительной бравадой, которая поневоле внушает уважение. Его сын Николас, не разделявший политических убеждений отца, позже писал: «Ему не свойственно было жаловаться». А чтобы еще больше раздразнить своих тюремщиков, Мосли решил потратить время в заключении (срок его не был определен, поскольку не было ни суда, ни приговора), изучая немецкий язык. Он также занялся психологией, но она его не убедила. «Мир — вот что такое характер», — заявил он‹10›.
«Сэр Джон Андерсон заверял нас, что людей не сажают в тюрьму за убеждения, — говорила потом Диана, — и мы поверили ему на слово»‹11›.
Сидни Ридсдейл позднее отважно написала в «Обсервер» — ее письмо не опубликовали, — что арест Мосли противоречит Великой хартии вольностей, запрещающей «держать англичанина в тюрьме без суда». Парадоксальным образом, отмечала она, Британия сражается за свободы, которыми сама же пренебрегла. Да, таков парадокс войны. «Сэр Освальд и его последователи оказались в тюрьме, потому что выступали против войны с Германией, за которую ратовали наши политики, и ни по какой иной причине»‹12›. Разумеется, другие причины были: когда грозило вторжение, напуганное и разъяренное общество не могло оставить Мосли на свободе. Да и сам БС был движением авторитарным и стремился к авторитарной власти. Тем не менее Сидни права: статья 18В принимала во внимание события прошлого и потенциальные возможности, репутацию и предположения, и не интересовалась юридически состоятельными доказательствами, как ожидалось бы в мирное время. Мосли совершенно точно угадал: всем требуется козел отпущения. Но теперь эта роль досталась ему.
А ведь крайне маловероятно, что немецкое вторжение в случае успеха обеспечило бы Мосли желанную власть. Его отношения с Гитлером были не так уж прочны, восхищался он главным образом Муссолини, хотя в мае Гитлер в последний раз выражал надежду, что «Мосли еще не сыграл до конца свою роль». Тем не менее, по замечанию историка Эндрю Робертса, «сомнительно, что Мосли назначили бы управлять Англией даже в том случае, если бы он согласился служить врагу (что едва ли правдоподобно, учитывая его призыв от 9 мая 1940-го сражаться, пока „последний чужак не будет изгнан с нашей земли“). Скверная политическая репутация, приобретенная БСФ в мирное время, означала, что власть чернорубашечников заведомо воспринималась бы как марионеточное правительство»‹13›. Через тридцать лет после войны Диана высказывала похожее мнение, однако со своей специфической точки зрения: «Что до оскорбительного предположения, будто Мосли что-либо выгадал бы от германской оккупации, достаточно напомнить, что с 1932-го он неустанно призывал нас вооружаться; зная его характер и всю его жизнь, невозможно вообразить его лакеем иностранной державы»‹14›.
Лояльность Дианы поразительна, если не сказать замечательна. Тем более если учесть, как сказался на ее судьбе брак с Мосли.
3
Как и ее муж, Диана оказалась в тюрьме из-за того, кем она была. Как и он, она стала жертвой предательства.
Бывший свекор лорд Мойн был очень привязан к невестке, пока продолжался ее брак с Брайаном Гиннессом. Он даже помогал ей после распада этого брака. В 1935-м Диана выехала к Мосли в Сейвхей (на следующий день после того, как этот дом покинула другая любовница, Александра Меткаф), и буквально через несколько минут езды в маленький вуазен Дианы врезался роллс-ройс, и она вылетела через ветровое стекло. Ее привезли в больницу Святого Георгия в Гайд-парке, и в полусознательном состоянии Диана все спрашивала, цел ли ее песик (он не пострадал). Раны зашили суровой ниткой. Любая женщина в такой ситуации думала бы о том, что станется с ее лицом, а сказочно красивая женщина сходила бы с ума от тревоги — но не Диана. Успокоившись насчет песика, она думала о Мосли. Опасаясь, как бы он не узнал об аварии из газет, она добилась возможности позвонить ему и сказать, что с ней все в порядке. Ее лицо спас лорд Мойн, тут же вызвавший известного пластического хирурга. В результате не осталось ни шрамика. Возможно, свекор не мог смириться с тем, что будет уничтожено достойное Кановы совершенство, а может, к нему обратился Брайан, но факт остается фактом: Мосли уехал на каникулы в Италию — вроде бы с детьми, — а бывшие родственники, брошенные Дианой, кинулись ее спасать.
Когда началась война, Брайан писал Диане: «Боюсь, тебе это время принесет больше трудностей и тревог, чем большинству людей… симпатия к немецкому режиму вступила в конфликт с той великой любовью, которую, я знаю, ты питаешь к родной стране». Брайан к тому времени состоял в счастливом браке с очень милой женщиной, Элизабет Нельсон, но сохранял близкие отношения с бывшей женой. Разумеется, у них было два сына, Джонатан и Десмонд, в совместной опеке, но великодушие Брайана по отношению к Диане — к примеру, он в письме поздравил ее с рождением первого сына от Мосли, Александра, — кажется просто невероятным. Гнев и боль, видимо, ушли, когда у него сложилась новая жизнь. И все же, встретив Диану через пятьдесят дет после развода, он сказал, что это первый раз, когда он смог увидеть ее — «и не заплакать»‹15›. Лорд Мойн прекрасно это понимал и потому, конечно, затаил обиду на женщину, которая причинила столько боли его добросердечному сыну. Трудно поверить, что лорд действовал не из соображений личной мести, когда вновь натравил на Диану шпиков. В 1932-м он платил частным детективам, а на этот раз поручил гувернантке Десмонда, Джин Джиллис, докладывать ему о малейших признаках симпатий к нацистам, какие она подметит у хозяйки дома.
В июне 1940-го Диана еженедельно приезжала к Мосли в Брикстон и планировала перебраться всей семьей к Пэм и Дереку Джексону в Ригнелл-хаус (Оксфордширд), разобравшись предварительно с запутанной ситуацией в БС — надо было выплатить зарплаты и т. д. Она пыталась издавать журнал этого движения, Action, но сдалась; как она потом писала, «стоило кому-нибудь взяться за это издание, и его отправляли в тюрьму». БС был уже объявлен вне закона — вполне разумное решение правительства.
Хотя членов БС арестовывали пачками, Диана словно бы не понимала, что сама находится под угрозой. Однако лорд Мойн написал председателю Управления обороны и безопасности, секретного органа, возглавляемого его другом лордом Суинтоном (как в истории с пластическим хирургом, Мойн пустил в ход свои связи). «Уже некоторое время мою совесть тревожит необходимость убедиться в том, — писал он, — что власти вполне осознают, какую опасность представляет собой моя бывшая невестка, ныне леди Мосли». Он подробно изложил собранные гувернанткой сведения. «Те, кто осведомлен о перемещениях леди Мосли, убеждены, что ее частые визиты в Германию имели целью получение средств от нацистского правительства [снова та роковая затея с радиостанцией]. Также прилагаю список дат этих визитов в Германию, которые гувернантка обнаружила в ее дневнике». Джин Джиллис, ценный секретный агент, передавала и содержание частных разговоров. Мосли, добросовестно уведомляла она своего нанимателя, говорил, что Гитлер имел право оккупировать Чехословакию. Когда была захвачена Бельгия, Диана «не делала секрета из своей радости по поводу происходящего».
Лорд Мойн, разумеется, был искренен в яростном выступлении против нацизма (какая мрачная ирония судьбы — четыре года спустя его убьют сионистские террористы из «Лехи»). Столь же искренна и его забота о национальной безопасности. Залпы артиллерии в Дюнкерке и Дьеппе отзывались дрожью на лужайках Сассекса. Шпионы мерещились всюду: нацисты в рясах монахинь и так далее. Некоей Олив Бейкер предъявили обвинение в «умысле способствовать врагу». Она рассылала открытки с пропагандистскими надписями, на одной из них значилось: «Так много англичан на стороне немцев!» (и подпись: «Юнити Митфорд». Подобное родство тоже не служило Диане во благо).
Итак, Мойн выполнял свой долг, как он его понимал. Но ощутима и личная ненависть к Диане. Едва ли можно считать достойной тактику, примененную против нее: в донесении чересчур многое основано на слухах. Изучив это письмо, министерство внутренних дел сочло достаточным вести наблюдение, не подвергая Диану аресту. Однако лорд Суинтон всех опередил и без колебаний добился ордера на арест. Один из сотрудников, подписавших ордер, сообщил в министерство: «Мне стало известно, что пребывание леди Мосли на свободе вызывает всеобщее недовольство… С учетом нынешней ситуации считаю безусловно необходимым как можно быстрее изолировать эту крайне опасную и злонамеренную молодую особу».
На такую формулировку возразить было нечего: Диана представала чудовищем. Бледные глаза фанатички, пугающая харизма. Она куда более, чем Мосли, способна была вызывать к себе обожание. А тот факт, что многие любили ее, ценили ум и юмор, доброту и терпимость, теплоту и очарование, которые сияли сквозь ее политические убеждения и вопреки им, — достаточно ли этого, чтобы ее оправдать?
У Дианы имелась собственная сложная система убеждений, выстроенная со своеобразной свирепой логикой и решительным отказом каяться. Это было совершенно бессмысленно — и в то же время было полно смысла. Так, она видела в Германии «историю успеха». Разумеется, в ту пору она об этом не говорила, поскольку не была публичным лицом, но позднее писала: «Экономическое возрождение Германии при национал-социалистах было стремительным и замечательным. Теория Гитлера, согласно которой богатство страны определяется качеством народа (Volk), позволила ему отвергнуть мысль, будто страна погублена… Своим трудом можно было вновь сделать ее богатой. Промышленность, сельское хозяйство и строительство современной инфраструктуры поглотили безработных, и Германия в удивительно короткий срок сделалась процветающей»‹16›. Вот что восхищало ее и в Гитлере, и в Третьем рейхе, и она верила — или хотела верить, — что Мосли сумеет воспроизвести это чудо в усталой, сбитой с толку, обанкротившейся Англии 1930-х годов. Она писала: «Общество внимательно вслушивалось в экономические и социальные предложения сэра Освальда Мосли — в глубоко больной стране было тогда более двух миллионов безработных»‹17›. Она презирала компромиссы демократии. После войны Диана выступала сторонником объединенной Европы. Кто знает, что она сказала бы, увидев нисхождение еврозоны в ад, мятежи в таких благородных странах, как Греция, — может, что во главе следовало поставить Мосли. Она верила в глобальные решения, великие планы, значительных людей. И ее вроде бы не тревожило, что подобные вещи неизбежно ведут к разрушению, в том числе цивилизаций, которые она всем сердцем любила. Какая-то ее часть тянулась к величию, и — будем откровенны — та самая часть, которая очаровывала тех, кто летел на ее огонь: они купались в свете и с удивлением присматривались к темноте.
Что в этом образе мыслей принадлежит Диане, а что Мосли? Верность Дианы была такова, что она продолжала поддерживать идеи мужа, когда уже давно стало ясно, что политической фигурой ему не бывать. Бессмысленно строить догадки, во что могла бы уверовать Диана, если бы любовь к Мосли не вошла в ее душу. Может быть, она бы все равно поверила в то же, но, более вероятно, иное. Другие элементы ее натуры толкали к скептицизму. Она слегка намекнула на это в 1966-м в письме к Деборе — с ней она всегда была наиболее откровенна, — дескать, верит в Мосли как «в замечательно умного человека, чьи идеи верны примерно на 80 %». Но тогда, в 1940-м, она не оставляла места для погрешности даже в 20 %. Слишком далеко она зашла, следуя за Мосли, и не могла теперь допустить мысль, будто отрезала себя от общества ради кучки безумцев в лакированных сапогах. Как и Юнити, она тоже в определенном смысле стала жертвой folie a deux.
И все же она вступила в общение с немецкими нацистами, и нельзя отрицать, что это общение было ей приятно. Она видела их зло и принципиально закрывала на него глаза, хотя сама не была злом. За это она все же принесет покаяние, хотя и недостаточно полное, недостаточно убедительное — мало кто поверит в ее искренность. Знакомство с Гитлером сломало ее жизнь, скажет она, и жизнь ее мужа. Трудно понять, как такая умная женщина могла не предвидеть это заранее. И совсем непонятно, каким она мыслила будущее: Германия не вступит в войну с Англией? Германия поможет карьере ее мужа? На свой лад, довольно похоже на Юнити, но без сумасшествия. Она отводила себе определенную роль в политике, старомодную женскую роль: что-то подсказывать, намекать, достигать своего лестью. И ей самой казались лестными то косвенное влияние, та власть, которой наделяли ее крупнейшие политики, — столь причудливое и увлекательное применение своей красоты, задававшей собственные правила. Едва ли она могла перед этим устоять.
Быть может, некий естественный закон предписывает появление злой волшебницы у колыбели той, кто наделен всеми дарами. Трудно подавить желание: ах, если бы все сложилось иначе и Диана направила то, чем обладала, в иную сторону! Издатель собрания ее трудов проницательно писал: «Если бы интеллектуалов так ценили в Англии, как во Франции, она могла бы стать одним из них»‹18›. Да, именно интеллектуалом, ибо при всем своем радикализме она такой и была по природе.
Если Диане и приходило в голову, что она выбрала неверный путь, вслух она этого не признавала. Ее выбор навлек на нее определенные последствия, и она разбиралась с ними так, как только мог такой человек, поскольку уникальна была во всем — и в хорошем, и в дурном.
В октябре 1940-го ее, как и других арестованных, допрашивал Совещательный комитет, заседавший в одном из отелей Аскота. Возглавлял комитет Норман Биркетт, под руководством которого Том Митфорд когда-то работал в качестве младшего адвоката. Один из членов комитета послал Диане бутылку кларета к обеду: при всех формальностях к Диане все же сохранялось особое отношение из-за того, кем она была — воплощением шарма, — вот только и под арестом она оказалась именно из-за того, кем была. По статье 18В арестовали и других женщин. Однако она оказалась самой известной, и это причинило ей немалые страдания. Хотим мы того или нет, женщина всегда подвергается большему осуждению, чем мужчина, за те же самые прегрешения, если только не добивается прощения, должным образом смирившись и унизившись. Так мир устроен, но Диана, внешне идеал женственности — ее красота вызывала сильную зависть, — брезговала вести себя в соответствии со своей внешностью. Она держалась жестко, замкнуто, «мужественно» и возбуждала в обществе такую ненависть, какую навлекает на себя только женщина. Это напоминало нынешнюю травлю в твиттере (#сдохнисукамосли). Совещательный комитет прекрасно отдавал себе отчет, что на свободе она может подвергнуться нападению. Домашний арест в Ригнелле показался бы публике чересчур мягкой мерой. Диана все это понимала.
Ее хладнокровные и мужественные ответы на затянувшемся допросе удивительны и странным образом напоминают поведение Анны Болейн четырьмя столетиями ранее, которую тоже признали виновной, умышленно подогнав обвинение так, чтобы не оставить ей шансов избежать приговора. Диана «не скрывала своего презрения», пишет Николас Мосли. В какой-то момент ее спросили, дружит ли она все еще с Гитлером. «Я давно его не видела», — ответила она.
— Разлука укрепляет чувства. Вы питаете к нему прежние чувства?
— Личной и частной дружбы? Да, безусловно.
— Слышали ночью бомбежку? Это ваш Гитлер, как мы понимаем. Неужели это для вас ничего не значит — убийство беспомощных людей?
— Это ужасно. Именно поэтому мы всегда отстаивали мир.
Ее спросили о планах насчет радиостанции, и ответы убедительно свидетельствуют, что затевалось чисто коммерческое предприятие. Тут комитет мог придраться лишь к причине, по которой немцы готовы были пойти Мосли навстречу, то есть опять-таки речь шла о близости с Гитлером.
— Вы давали ему понять, что во многом разделяете его позицию? — спросили ее.
— Да, я ее разделяла.
— Откровенный ответ. Значит, вы дали ему это понять?
— Полагаю, что да.
— Не означает ли это занять его сторону против своей страны?
— Нет. Разумеется, нет.
— Тем самым вы заявляли: «Моя страна не права».
— Не моя страна. Я принципиально различаю правительство и страну.
Незаурядная женщина! Как ни относись к ее словам, в отваге ей не откажешь. Так, и на вопрос, можно ли было доверяться Гитлеру, она ответила: «Не следует ставить себя в такое положение, когда приходится доверяться». Члены комитета, покоренные ею, как многие другие люди, вынуждены были признать: «Вы очень умно судите об этих вопросах… вы в самом подлинном смысле слова обладаете интеллектуальным взглядом на них». Конечно, они и ждали от Дианы бесстрашного поведения, обычного ее ледяного высокомерия. Но, видимо, она сумела их поразить и, быть может, укрепить во мнении, что она опасна. Вести себя иначе она не могла, не сумела бы отречься от того, что считала истиной. И кажется, даже получала удовольствие, усугубляя свое положение: при чтении материалов допроса чувствуется извращенный, смертоносный митфордианский юмор. Да, говорит она, Гиммлер ей по душе. Насчет сообщений о злодеяниях гестапо: «Я им не очень доверяла». Да, со Штрайхером знакома, «очень простой человечек… Не думаю, чтобы он был таким чудовищем, каким его выставляют». Нет, она «не питает симпатии к евреям». И это говорит женщина, имевшая среди евреев множество хороших знакомых! Разумеется, тогда она знать не знала, через что предстоит пройти евреям. Годы спустя она писала Деборе: Гитлер — «часть истории, ужасная часть, и тем не менее важная»‹19›. Но сказать подобное в 1940 году означало подписать себе приговор. Диана не могла отречься от этого в себе, как и мы не можем это ни объяснить, ни извинить.
Перед комитетом она упорно отстаивала раз навсегда заявленную позицию: Британии следует вступить в мирные переговоры с Германией, Гитлер был вправе вернуть Германии ее «колонии». На вопрос, зачем же он вторгся в Бельгию, она ответила — так и слышишь бестрепетный митфордианский голос: «Гитлеру Бельгия не нужна. Если вы бывали в Бельгии, сами знаете, какое это скверное место. Им просто понадобились гавани для ведения войны». После войны, утверждала она, Западная Европа вновь получит свободу. И верно угадала, что Восточная Европа достанется Советскому Союзу, — перспектива, саму Диану нисколько не радовавшая.
«Выиграть» при таком подходе к самозащите у Дианы шансов не было, но одну любопытную победу она одержала. Ее спросили, относится ли она к демократии «с глубоким презрением».
— Да.
— И Гитлер тоже?
— Да.
— Как же в таком случае вы утверждаете, будто он восхищается нашей страной — демократической страной?
— Он искренне восхищается фундаментальными качествами Англии.
— Но разве в нашей стране не установлена уже давно демократия?
— Не думаю, что наша страна была демократической, когда она была империей, да и позже. Мы не приходили к неграм со словами: «Послушайте, давайте вы будете голосованием выбирать себе правительство». Мы шли и забирали мир кусок за куском.
— Понимаю, о чем вы…
Так же прямо Диана высказала аргументы против своего ареста. Ее убеждения и убеждения ее мужа не имеют никакого отношения к делу. Теперь, когда БС запрещен, они оба лишены возможности вести пропаганду, а потому нет причины их изолировать. Они не желают немцам победы над Британией и никогда не станут им помогать: «Мой муж — великий патриот и очень любит свою страну, я чувствую это всей душой». И она была права, однако это ничего не меняло. То, что она олицетворяла, для Британии стало неприемлемо. Имелась также другая сторона вопроса — общественное мнение. Через два дня после допроса комитет вынес решение: Диана, «привлекательная и сильная личность» (весьма справедливо), «которая может представлять значительную угрозу, если останется на свободе» (а вот это вряд ли). Также высказывалась мысль, будто «представление Гитлера о британских государственных деятелях в некоторой степени окрашено мнениями, которые высказывала при нем леди Мосли». Диана признала, что обсуждала с Гитлером Черчилля (и с Черчиллем Гитлера), тем не менее едва ли можно приравнять к госизмене ее слова, мол, Черчилль «изо всех сил торопится вооружить армию».
Самый краткий и резкий ответ последовал на вопрос комитета, в чем она сама видит причину ареста. «В том, что я вышла замуж за сэра Освальда Мосли», — отрезала она.
Но позднее Диана поняла, что имелась и другая причина: она была сестрой Юнити Митфорд. Ее предъявляли обвинения, которые гораздо уместнее было предъявить Юнити; ей задавали вопросы, которые лучше было задать Юнити, — но Юнити, прежде более уязвимая, чем Диана, избежала публичного суда и приговора. Пришлось Диане принять весь удар на себя. Подтвердить это доказательствами невозможно, однако такое объяснение логично. Когда основной козел отпущения ускользает, на его место находят другого. Итак, Диану увезли из Аскота в тюрьму Холлоуэй — за то, кем она была, кем был ее муж, кем была ее сестра. «Дорогая Буд, — писала она Юнити в декабре, — нам только что сообщили, что к Рождеству дозволено написать одно дополнительное письмо, и, конечно, я использую эту льготу, чтобы написать тебе». Юнити ответила: «О, Нард, я так НАДЕЮСЬ, что у тебя было чудное и прекрасное Рождество, я ужас как много об этом молилась».
4
Диану отправили в Холлоуэй 29 июня — она едва успела распаковать вещи в Сейвхее, куда переехала вместе с Мосли, избавившись в конце 1939-го от Вуттона. Теперь Сейвхей реквизировали, дав им два дня на сборы, и она собиралась переселиться к Пэм. Она сидела в саду и читала рядом с коляской, где лежал ее трехмесячный сын Макс. Полицейские предложили ей взять Макса с собой в Холлоуэй, но Диана решила, что этого делать не стоит. Ей сказали, что задержат ее, по всей вероятности, на сорок восемь часов, — такое обещание слышали почти все арестованные по статье 18В. По пути в Лондон она попросила остановить машину: хотела купить молокоотсос, чтобы, вернувшись к ребенку, возобновить грудное вскармливание.
Холлоуэй — ужасное место для всякой женщины. Едва ли следует говорить, что Диане здесь было особенно плохо, потому что она привыкла к жизни в комфорте, чрезвычайной опрятности, к хорошей еде, красивым вещам, но шок, разумеется, был чудовищным: ее словно похитили. Первые четыре часа после доставки в тюрьму ее продержали в металлической клетке размером метр двадцать на метр двадцать с проволочным верхом. Потом заперли в темной камере, где единственное крошечное окно было заткнуто вонючими мешками с песком. Никакой кровати, лишь матрас с грязными одеялами.
В том же крыле Е находилось и помещение для казней. От сырости матрас промок насквозь, и Диана всю ночь просидела, прислонившись спиной к кирпичной стене. Она уже понимала, что на волю выйдет вовсе не через два дня.
Физические последствия разлуки, буквально разрыва с новорожденным ребенком стали внешним выражением душевного страдания: груди набухли и болели, а Диана боялась даже прикоснуться к ним, чтобы не занести грязь. Ей велели вымыть лестницу, но Диана не могла двинуть рукой. Другая заключенная взялась помочь. Ее статус с самого начала выделял Диану: в глазах женщин из БС, тоже попавших в эту тюрьму, она была героиней (такое же положение занял Мосли в Брикстоне). Некоторые надзирательницы пытались поставить ее на место: привыкайте, дамочка, небось такого вы прежде не знали? Все издевки она встречала митфордианской улыбкой, не ведавшей стыда.
Но внезапный ужас утраты свободы и понимание, что никто не знает, когда это все закончится, — вот что мы едва ли можем вообразить. Сама Диана потом писала: «Кто не бывал в тюрьме, едва ли может себе представить, как отвратительны там уборные, как несъедобна и омерзительна пища, как холодно зимой в камерах и как бессмысленны утверждения, будто заключенных учат ремеслу или каким-то еще способом готовят к жизни на свободе. Все, чего добиваются в тюрьме, — это разрушить тела, невыразимой скукой и депрессией подавить умы». Государство, как она убедилась, лгало самому себе насчет перевоспитания в тюрьме: «Громыхающий механизм английского лицемерия всегда пускают в ход, когда приходится обсуждать нечто „неприятное“, будь то секс, преступление, смертная казнь или хотя бы кормежка какого-нибудь злосчастного узника, отбывающего срок в одной из тюрем Его Величества»‹20›. Фраза, типичная для Дианы: присущая девочкам Митфорд ясность мысли сочетается с присущим только Диане ригоризмом. Когда читаешь такие ее строки, возникает желание, и даже страстное желание, чтобы она расходовала свой едкий, словно лимонная кислота, ум на такие тексты, а не на оправдание того, что было недостойно ее заступничества.
Санитарные условия в Холлоуэе действительно были немыслимыми: «уборная была постоянным кошмаром», писала потом Диана Деборе. Один из наружных сортиров, отмеченный красным крестом, предназначался для заключенных с венерическими заболеваниями; канализацию неоднократно прорывало, и все текло по каменному полу. Пудинг приносили на одной тарелке с основным блюдом; от рыбного пирога отказывались даже тюремные коты, зато солонину Диана сочла «упоительной». Жирную пленку из чашки с какао женщины использовали вместо крема для лица. Они также брали в библиотеке книги в казенных красных переплетах, терли красную обложку пальцами и красили губы. Эти небольшие ухищрения кокетства очень много значили. «Одно из самых печальных зрелищ в тюрьме, — писала Диана, — эти пегие головы, на которых несколько дюймов золотистых завитых локонов свисают среди черных, бурых или седых волос»‹21›.
Вскоре ее и других интернированных перевели в крыло F и жизнь несколько наладилась. Женщинам позволяли носить собственную одежду. Имелась маленькая кухня, где они жарили крошечные картофелины, собранные в огороде. Им также разрешалось получать небольшие передачи с продуктами, и в одном письме Диана, все такая же привередливая, просила Памелу прислать ей укроп. В камерах было очень темно, особенно во время воздушных налетов, и при выключенном свете читать не получалось. И все же книги служили большим утешением. В тюрьме, по словам Дианы, «возникает нужда в красоте, остроумии, изяществе или же в том, что немцы называют das Erhabene (более-менее точно мы переводим это как „возвышенное“)»‹22›. Пока другие искали бездумного забвения, Диана читала Расина. Мосли прислал ей головку стилтона, и она жила на нем несколько недель, запивая небольшим количеством портера. Раз в две недели к ней на полчаса пускали мать, позднее Сидни привозила с собой Дебору и детей Дианы. Сначала ее ограничили двумя письмами в неделю, и оба она получила от Мосли. Если он и чувствовал свою ответственность за участь, которая постигла его жену, он ни словом не давал этого понять, да она и не хотела — гораздо важнее было читать в его письмах ободряющие комплименты вроде: «Ты мой славный и отважный Першерон». (Имелась в виду першеронская порода. Мосли считал, что Диана похожа на этих великолепных белых лошадей, не только очень красивых, но и очень сильных.)
Одним из первых написал Джеральд Бернере. Тон его письма был идеален и легкостью, и преданностью — казалось, положение, в которое угодила Диана, его не смущает. Он шутливо спрашивал, не передать ли ей маленький напильник в персике. Министерство внутренних дел на месяцы задержало это послание.
В августе ограничение на переписку сняли, и Дебора, также не ведавшая стыда, сразу написала: «О, мне не терпится увидеть твою камеру». Дебора и сама пребывала в ином, пусть и не столь низком кругу ада, несмотря на помолвку с Эндрю Кавендишем. Дебора жила в Свинбруке, в коттедже вместе с Юнити, которая завладела малой гостиной и по каким-то иррациональным причинам воспылала неприязнью к младшей сестре («она так меня возненавидела»). Быть нормальным в подобной семье нелегко. И тем более удивителен светлый юмор писем Деборы, хотя впоследствии она упрекнет себя за эгоизм: в ту пору больше всего думала о своем Эндрю, и очень мало — о матери и сестре. Шестидесятилетняя Сидни носилась неустанно из Свинбрука в Холлоуэй, где кондуктор останавливал автобус криком: «Апартаменты леди Мосли» (старые добрые английские шутки, что с ними сравнится). Диана окончательно утвердилась в любви к матери и восхищении ею — теперь, когда раскрылся подлинный характер Сидни. Однажды леди Ридсдейл все же дрогнула — признала, что не понимает, как справиться с Юнити, «а ты, Диана, дорогая, могла бы с ней совладать, будь ты на свободе…» Но такую слабость она позволяла себе лишь на краткий момент, а все время была олицетворением силы — посылала Диане теплые вещи, клала деньги на ее счет в «Харродсе»: malgré tout[24] эти женщины оставались самими собой. Сидни многократно писала своему представителю в парламенте о том, что ее дочь находится в заключении без приговора суда. Нашлись отважные члены парламента, поднявшие в палате вопрос о применении статьи 18В. Забеспокоился и Черчилль: потребовал улучшить условия содержания для заключенных, а Диане велел организовать ежедневную ванну, но она лишь посмеялась над его наивностью. Ничего сверх еженедельной помывки в Холлоуэе невозможно было «организовать».
И самая мучительная пытка: не знать, на какой срок тебя арестовали, когда надеяться на освобождение. Надежда терзала ежедневно: вдруг сегодня? Или завтра? Но проходили дни, и надежда превращалась в издевку. Когда в 1941-м во время бомбежки Лондона 38 зажигательных бомб упали на территории Холлоуэя, Диана жаловалась только на шум, возможность погибнуть при воздушном налете ее не тревожила. Совещательному комитету она заявила, что женщину в ее положении немцы никогда бы не посадили в тюрьму Это была шутка дурного тона (что Диана и сама понимала), однако тираду она заключила пронзающими душу словами: «Они бы никогда не разлучили женщину с младенцем». Бесконечную разлуку не только с Максом, но и с тремя старшими детьми тем труднее было сносить, что остальных женщин из БС, имевших маленьких детей, отпустили к Рождеству 1940-го. Однажды ночью она извелась от ожидания в камере: как там Джонатан, которого увезли на скорой с аппендицитом? (Министерство отказало ей в праве повидать сына после операции.) Двухлетний Александр, когда его привозили на свидание, «вцеплялся в Диану так, что его приходилось отрывать силой, одежда на ней промокала от его слез»‹23›. После одного такого визита няня писала: Александр, «разумеется, был сегодня счастлив, но все прошло слишком быстро. Он все повторяет „мама, сегодня“». В чем бы ни была виновата Диана — а она была виновна лишь в том, кем она была, — разве такое обращение само по себе не злое дело? Дети бывали у Брайана в Биддсдене, а жили у Пэм, которая поселила их в своем доме вместе с няней. В письмах к сестре Диана передавала привет «мисс Джиллис».
Через полтора года няня вместе с мальчиками перебралась в Свинбрук-хаус, бывший дом Дианы. Там они жили на правах арендаторов. (Навещали и Дебору, причем Александр и Макс рекомендовали тете «не болтать за столом».) Диане этот переезд принес облегчение: годы спустя она признавалась Деборе, как ее мучили письма Пэм. Памела, казалось, не понимала, какие страдания испытывает мать, разлученная с детьми. Как-то раз она чуть ли не хвасталась тем, что водила Александра гулять на поле, заросшее чертополохом. «Она не виновата, просто не любит детей». Пэм также сообщала в письме, словно самые обыденные новости, что распорядилась усыпить любимую собаку Дианы и ее кобылу. «Было бы лучше не говорить мне об этих животных». Памела поступала так не из жестокости — она сама предлагала поселить в своем доме детей, и это было проявлением заботы. Она не была желчной и не метала дротики язвительных острот, как Нэнси или Джессика, хотя потом Диана говорила, что с Нэнси ее детям было бы лучше. Пэм недоставало воображения, в этом она разительно отличалась от сестер. Такая душевная глухота проявилась уже в детстве, очевидно, в связи с перенесенным полиомиелитом, но свою роль сыграла изводившая ее насмешками Нэнси. Эта особенность помогала Пэм выдержать жизнь с Дереком, а тот теперь записался в ВВС и с присущей ему эффективностью совершал ночные рейды над Германией («ведет себя точно во время скачек», отмечала Дебора). И это же качество мешало ей понять, какую боль она причиняет Диане. Понадобилось тридцать с лишним лет, чтобы Памела внезапно сказала сестре: «Боюсь, я не всегда была добра к няне и мальчикам».
Едва ли стоит говорить, что Диана мужественно вела себя в тюрьме, ведь у нее и не было другого выхода, кроме как пережить испытания, выпавшие на ее долю. Но дух ее оставался несгибаемым — митфордианское качество. Они все были отважными женщинами и после любых катастроф оставались самими собой. Каждая, даже Юнити, насколько это было в ее силах. Так проявлялось в них наследие Сидни — не Дэвида. Очарование сестер Митфорд во многом проистекает из этого неуничтожимого чувства своей единственности, которое они так легко несли по жизни. Даже в тюрьме образ Дианы не искажен унижением, уродством окружающей среды — все та же высокая, прямая, ничуть не убавившаяся в росте и силе, полыхающий гнев лишь красит ее.
На допросе в Совещательном комитете она отозвалась о Черчилле недобро («его больше интересует война, чем что-либо еще»), однако именно он более чем кто-либо хлопотал о ней. Александра Меткаф, все же не такая злобная, как ее сестра Ирэн, просила Черчилля смягчить участь Мосли, чье здоровье было подорвано заключением. Том Митфорд, записавшийся в Королевский стрелковый корпус, также обратился к Черчиллю через посредство его сына Рэндольфа. Том несколько раз навещал Диану в Холлоуэе и знал, что если уж она не может получить свободу, то самое ее заветное желание — оказаться в одной камере с мужем.
То ли из родственных чувств, то ли из чувства справедливости Черчилль в ноябре 1941-го написал Герберту Моррисону: «Статья 18В вызывает серьезные нарекания. Жена сэра Освальда Мосли провела уже полтора года в тюрьме, в разлуке с мужем, хотя против нее даже не пытались выдвинуть какое-либо обвинение». Моррисон не осмелился отпустить супругов Мосли на свободу, поскольку общество явно хотело видеть их в тюрьме, но он сделал то, что было в его силах: распорядился, чтобы пятнадцать супружеских пар, находившихся в заключении по статье 18В, перевели туда, где супруги могли проживать совместно.
Для трех пар, в том числе для супругов Мосли, подготовили специальный блок в Холлоуэе. Прежде здесь принимали посылки.
К Диане доставили ее мужа 20 декабря. Она писала потом: «Один из самых счастливых дней моей жизни я провела в тюрьме». Два года, которые они проживут вместе в доме для посылок, выращивая овощи и изредка принимая детей, скрепили их брак нерасторжимыми узами. На свободе Мосли был гулякой и хищником, но здесь, на крошечном островке домашней жизни в тюрьме, он целиком принадлежал Диане. Она обошла наконец всех соперников — и сестер Керзон, и армию чернорубашечников. Мосли стал ей хорошим товарищем, веселым и участливым к той, чью жизнь он так основательно испортил.
Хотя причины для ревности ранее давал он, неудивительно, что он же больше всего и выказывал ревность. Диане была чужда и мысль об измене, однако Мосли прекрасно понимал, как она действует на большинство мужчин, так что, пожалуй, он тоже был рад на какое-то время заполучить ее целиком. А после освобождения собственническое отношение усилилось. Это проявлялось уже раньше: много лет спустя Диана в письме признавалась Деборе, что муж, по всей вероятности, вздыхал с облегчением, когда она жила в Вуттоне, подальше от обожавших ее друзей. Состоявшийся в 1936 году переезд в Стаффордшир, хотя Диана и поселилась в очень красивом доме, означал окончательный разрыв с Лондоном (не с Германией). Но она так любила Мосли, что писала Деборе: «Я вспоминаю Вуттон, словно счастливый сон».
Это ведь и правда была великая любовь. Тюрьма сблизила двух ярких людей так, как редко удается сблизиться супругам: они были отрезаны от внешнего мира, они страдали вместе, они сознавали свое положение парий. Любовь Дианы к мужчине, который в своем падении увлек ее за собой, сделалась абсолютной. У нее теперь не оставалось альтернативы, даже если бы она захотела ее иметь. Женщина иного склада могла бы отступиться от любви, но Диана была не такой. Она поступила с точностью до наоборот, всецело посвятив себя мужу. И для Мосли стала величайшим триумфом столь полная, до растворения, подчиненность жены. Диана верила, что дело того стоило, — иначе зачем все это?
5
Диана тогда не знала — узнает лишь через сорок лет, — что властям на нее донес еще один человек, не только лорд Мойн.
Возможно, эти частные инициативы — как лорда Мойна — не так уж много значили. После ареста Мосли арест Дианы был, видимо, вопросом времени. И все же Нэнси не была в этом уверена, когда в мае 1940-го писала своему другу Марку Огилви-Гранту: «Я рада, что сэр Освальд Квислинг под замком, так же, как и вы, но считаю это бесполезным, пока леди К. остается на свободе».
И Нэнси, вмешавшись в борьбу за правое дело, тоже приложила руку к тому, чтобы Диану лишили свободы. Она обратилась к влиятельным друзьям, в том числе Глэдуину Джеббу из министерства иностранных дел. Когда сестру арестовали, Нэнси вполне могла приписать эту заслугу себе. На следующий день Джебб пригласил ее на беседу. Столкновение с реальностью могло бы побудить Нэнси дать отбой, высказаться в защиту сестры, но нет, она хлопотала о том, чтобы дело не свелось к краткосрочному заключению или домашнему аресту. Диана «чрезвычайно опасна», повторила она Джеббу, посоветовала «проверить ее паспорт» и убедиться, как часто ее сестра ездила в Германию. О поездках Дианы в Берлин Нэнси была осведомлена, о переговорах насчет радиостанции — нет, а если бы знала, то истолковала бы их в дурную сторону Легко себе представить эту сцену: достопочтенный представитель МИДа заседает в государственном, окутанном тайной кабинете, а напротив него элегантная леди в тщательно подобранном наряде отпивает глоточек за глоточком чай из «Краун дерби» и быстрой, легкой скороговоркой произносит убийственные слова. «Поступок не очень-то сестринский, — писала она Вайолет Хаммерсли, — но в такие времена это же мой долг?» Вопросительный знак выдает желание получить поддержку. Но сам факт, что Нэнси легко признавалась в содеянном, свидетельствует о ее уверенности в своей правоте. Весь мир страдал в ту пору от рук тех, чьей конфиденткой вздумалось стать Диане, — неужели ей не причитается законная доля страданий?
Нэнси выполнила угрозу, о которой писала матери, — «подыграть самому дьяволу, чтобы остановить распространение этой эпидемии [фашизма]». Значит, она руководствовалась высоким принципом? Таков был ее ответ сестрам, которые пали жертвами агрессивных идеологий, — с равным пылом противостоять любой идеологии и уничтожать тех, кто стал для нее личным врагом? Вполне возможно. Нэнси рекомендовала также вести наблюдение за Пэм и Дереком, учитывая их профашистские симпатии. Они, уведомила она Джебба, «антисемиты, противники демократии и пораженцы». В общем-то, чушь, если принять во внимание подвиги Дерека в ВВС и заведомую аполитичность Пэм, но Нэнси в это верила.
Сама она в этой войне была непримирима. «Бей гуннов», как говорит героиня «Пирога с голубями». Как все лондонцы, Нэнси оказалась в самой гуще событий; она пыталась смеяться над бомбежками, как бы они ни были тягостны, вносила свой вклад в оборону. Сначала работала в медпункте, потом подыскивала помещения для сотрудников противовоздушной обороны, наконец, сама служила наблюдателем на пожарной вышке. В октябре 1940-го она вернулась на Ратленд-гейт, к отцу — жилище Нэнси в Майда-вейл находилось слишком близко к одной из основных целей бомбардировщиков, вокзалу Паддингтон, — и взяла на себя заботу о группе польских евреев («мои милые беженцы»). Это ей было очень близко — и выводило из себя мать: Сидни, писала она Вайолетт Хаммерсли, отказалась жить в этом доме после того, как в нем селились эвакуированные евреи. «Преувеличение?» — пишет она. Конечно, да, — и преувеличивает сама Нэнси. Ее мать действительно жаловалась, что в Ратленд-гейт развели грязь. Эти сетования в условиях войны были нелепыми и несправедливыми. Но ведь и Сидни жила в постоянном, почти непереносимом напряжении. Как и все они. И если вспомнить, что Нэнси целый день выбивалась из сил, а ночами не могла спать («Ох, дорогая, снова сирены, какая ужасная настала жизнь»), если принять во внимание ее страх за Питера во Франции и Тома, товарища по боевой службе, сочувствие отцу, который не мог себе простить краткий союз с врагом, если добавить воспоминания Нэнси о несчастных беженцах-испанцах и милитаристском празднестве хаоса на митингах чернорубашечников в Олимпии, — если сложить все это воедино, вполне можно поверить, что она действовала по велению души, донося на сестер. Представьте в наше время человека, опасающегося, что кто-то из его близких склоняется к джихаду. Как следует поступить? Общество предполагает, что надо сообщить о своих подозрениях. Или остаться безупречным к родственникам — но виновным с политической точки зрения.
В некотором роде тот факт, что Нэнси донесла и на Джексонов, служит ей «оправданием» в неприятной истории с Дианой. В противном случае можно было бы заподозрить, что она действовала из чистой зависти и злобы. И подозрения возникают. Вероятно, этими доносами она пыталась обмануть собственную совесть. Джексонам арест не угрожал, а для Дианы последствия были ужасны, и Нэнси это понимала. Если бы она описывала себя в романе, она бы ясно дала понять, что, следуя принципу, человек редко оказывается столь благородным, каким себе видится, — взять хотя бы лорда Мойна, который напустил на невестку шпионку в обличье Джейн Эйр и задействовал высокопоставленных друзей. В романе Нэнси высмеяла бы и его и себя с деликатной и грустной иронией. Но жизнь редко наделяет нас такой ясностью зрения. Иначе Нэнси понимала бы: обычно люди так себя не ведут. Разве что Джессика — после того, как Диана прислала ее малышке нарядные вещи, она порвала с сестрой навсегда. И поскольку Нэнси поступила так именно с Дианой, а не с Юнити, мы опять убеждаемся, что на Диану обрушилась вся ненависть, в том числе предназначавшаяся Юнити. Просто потому, что она была неуязвимой, блистательной, вызывающей зависть. Эта история с Дианой — глубоко личная. Диана всегда вызывала у людей убийственно сильные эмоции. У Нэнси, «башни-близнеца» среди сестер Митфорд, эти чувства представляли собой пьянящую смесь близости, уважения, досады и более всего ревности. «Мне кажется, Нэнси всю жизнь завидовала Диане», — рассуждала Дебора‹24›. Они поссорились из-за «Чепчиков», и эта взаимная обида не вполне улеглась за пять лет. Диана требовала, чтобы сестра отказалась от книги (и от гонорара, в котором весьма нуждалась), потому что ее роман, дескать, мог задеть Вождя. Нэнси все ждала, что Диана опомнится и посмеется над ее шуточками, в том числе насчет разведенных женщин. Их реакция на этот разрыв тоже была типичной для обеих: Диана сразу же ушла в себя и оставалась недвижима, Нэнси проявляла не меньшее упрямство, но ее мучила тревога, прикрываемая оборонительными остротами («Видела на обеде Диану, — сообщала она Марку Огилви-Гранту в 1935-м, — она была холодна, однако сдержанна, так что я сохранила при себе все зубы, глаза и проч.»).
Но эта схватка гораздо больше изнуряла Нэнси, чем Диану Каково было расти и столько лет видеть за семейным столом прекрасное, спокойно улыбающееся, не знающее изменений лицо! Как трудно сосуществовать с такой сестрой! И пальцем не шелохнув Диана обеспечивала себе обожание всех тех, кого Нэнси хотела для себя, — Ивлина Во, Роберта Байрона. Были и другие моменты, даже более трудные. За несколько недель до рождения Александра у Нэнси случился выкидыш. Такое же злосчастное совпадение повторилось в 1940-м, когда родился Макс. Ей оставалось лишь ворковать над сыновьями Дианы (она и правда их обожала) в те самые дни, когда сама она оплакивала эти кровавые и безымянные маленькие смерти. «Какое счастье быть любимой тетушкой», — писала она Диане в Холлоуэй — поспособствовав разлуке любимых племянников с матерью. Даже роман Дианы с Мосли, хотя Нэнси его и высмеивала, разоблачал выморочность ее брака с Питером Роддом. Могла ли она удержаться от злорадства, когда Мосли низвергли с постамента, словно развенчанного диктатора, и в своем падении он увлек, на потеху вопящей толпе, и Диану? Конечно, попытаться можно было, но она предпочла не удерживаться.
Перетягивание каната между Нэнси и Дианой в значительной степени определяло динамику в семье Митфорд.
Донести на Диану значило одним быстрым и сильным ударом сравнять счет. Однако одного раза Нэнси было мало. В ноябре 1943-го, когда супругов Мосли выпустили из тюрьмы под домашний арест, Нэнси ворвалась в офис MI5 и сообщила свое мнение: министр внутренних дел принял неправильные меры. Диана стремилась к «падению Великобритании и демократии в целом», напомнила она. Немыслимо, чтобы Нэнси верила в это, пусть многие и верили. Общественная реакция на частичное освобождение супругов Мосли была не менее злобной, чем интриги Нэнси. На Трафальгарской площади собралась толпа, притащили повешенное на муляже виселицы чучело Мосли. К тому времени угроза вторжения давно миновала, люди руководствовались не оправданным страхом, а примитивной и грубой местью, а газеты ожесточали читателей нелепыми байками о личной служанке супругов Мосли, о том, как их приватно снабжают углем и устраивают ради одной Дианы показ мод. Однажды Мосли подал иск о клевете и выиграл дело (компенсация пошла на покупку шубы для Дианы, мерзнувшей в ледяном холоде Холлоуэя), но чаще довольствовался тем, что министерство внутренних дел опровергало выдумки. От опровержений пользы не было: общественное мнение уже сформировалось. Мосли оказались в ситуации сегодняшних героев «сексуальных скандалов»: ссылки на отсутствие доказательств и разную степень вины невозможны.
Общественное мнение, разумеется, не приняло на веру и основную причину освобождения Мосли — состояние здоровья. Мосли страдал от хронического флебита и, как ни старался поддержать форму, потерял в весе без малого двадцать килограммов. Диана превратилась в обтянутый бледной кожей скелет, с пониженной температурой и слабым пульсом. Она чувствовала себя настолько плохо, что не могла играть с детьми, когда их приводили. Однажды у нее случился мучительный и неисцелимый приступ какой-то желудочной инфекции, и другой заключенный, бывший член БС Мейджор де Лессоу, не нашел ничего лучше, как дать ей пилюлю опиума. Диана пролежала четыре или пять дней в глубокой коме («какой ужас это был бы для бедняжки Мейджора, случись кому-нибудь умереть»). Примите в следующий раз касторку, посоветовал тюремный врач. Но Черчилля смущало столь долгое пребывание арестованных в тюрьме без суда. Сидни обратилась к его жене Климентине (в другой жизни та была подружкой невесты на ее свадьбе с Дэвидом) с последней отчаянной мольбой. Вскоре министерство внутренних дел получило медицинский отчет: еще одна зима в тюрьме может убить Мосли и тем самым превратить его в мученика. Герберт Моррисон из опасения перед однопартийцами возражал против перевода Мосли под домашний арест. Однако Черчилль сумел убедить кабинет, прибегнув к обычной риторике: за что же Англия борется, если не за справедливость, даже для опозоривших себя? Правда, эти аргументы мало что значили для народа, пострадавшего от бомбежек и фронтовых потерь. Поражаешься отваге правительства, отпустившего эту чету из-под тюремного надзора. И опять-таки не будь оба супруга столь внешне великолепны, они бы не навлекли на себя такую ненависть. Они высились в коллективном воображении словно две восковые куклы: бледноглазая нацистская невеста и хищный Дракула. Думать о них без ярости можно было, только пока они оставались в камере. Стоило им покинуть тюрьму, и потоком обрушились гневные письма, протесты от профсоюзов, яростные дебаты в парламенте, открытое послание Джессики Черчиллю: «Освобождение сэра Освальда и леди Мосли — это пощечина антифашистам всех стран, очевидное предательство всех, кто погиб, сражаясь против фашизма». Нэнси, не чуждая лукавства, еще и упрекала Джессику за это письмо.
С учетом всего этого понятно, почему Диана прильнула к Мосли, своему сотоварищу в позоре, и почему преданность Сидни оказалась для нее столь бесценным сокровищем: верностью она с тех пор дорожила превыше всего. Никакой логики в том публичном бесчестье, которому они подверглись, не прослеживалось, речь шла просто о наказании во искупление. Англия тяжко страдала, и хотелось отвести душу на тех, кого сочли предателями: пусть тоже мучаются. Такова человеческая природа, и предательство Нэнси вполне укладывается в ту же схему. О Нэнси Диана спустя много лет скажет: «Это самый неверный человек, какого я знала»‹25›. В этом смысле трудно представить менее похожих друг на друга сестер. Но они признавали: между ними много общего. Нэнси, как и Диана, была способна на величайшую теплоту и доброту. У обеих в изобилии имелись юмор, ум и фантазия. Они чувствовали все глубже и сильнее, чем другие сестры (за исключением Юнити?), обладали страстной способностью переживать и не умели отгораживаться барьерами — или за это им приходилось дорого платить. Нэнси не столь таинственна, как Диана, — очень сложная, «весьма причудливый характер», как аттестовала ее мать, но ее поступки хоть как-то можно объяснить. Однако обе сестры совершали такое, что невозможно извинить.
В 1941-м они еще обменивались нежными письмами: Холлоуэй исцелил разрыв из-за «Чепчиков». Ревность Нэнси к Диане или ее ярость смягчились актом предательства (но его пришлось повторить, как только сестру выпустили из Холлоуэя). Диана посылала сестре деньги, чтобы та купила себе подарки — чулки, помаду от Герлена; «от этого слезы выступают на глазах», писала Нэнси (скорее всего, искренне). В ноябре 1941-го Диана распорядилась послать виноград в лондонскую больницу «Юниверсити-Колледж», куда Нэнси увезли с острой болью в животе от друзей, у которых она гостила в Оксфорде. Это была внематочная беременность. Состояние признали тяжелым, потребовалась неотложная операция. Нэнси умоляла хирурга сохранить ей способность иметь детей, но когда она проснулась после наркоза, ей сообщили, что пришлись удалить фаллопиевы трубы. «Следовательно, — писала она Диане, — ребенка у меня теперь никогда не будет».
Матери она признавалась, что ее удручает мысль об оставшемся после операции шраме. «Да кто же его увидит, дорогая?» — был ответ. Примерно в это время врач спросил Нэнси, не болела ли она сифилисом, и Сидни сообщила, что одно время нанимала няню, перенесшую это заболевание. Как всегда с Нэнси, трудно установить, насколько правдива исходящая от нее информация. Но в том, что мать не проявила достаточно сочувствия, мы можем быть уверены — такое Нэнси не могла выдумать целиком. И пусть это нелепо, все же не так уж непостижимо, что с тех пор вину за свою неспособность выносить ребенка Нэнси возлагала на мать.
Ребенка она ждала не от Питера Родда. Тот получил назначение в Аддис-Абебу, и как бы Нэнси объясняла эту беременность, если бы сумела ее сохранить, трудно себе представить. Как бы Нэнси ни старалась восхищаться своим мужем теперь, когда он сразу же отправился на войну, он не давал ей возможности для сближения. Приезжая в Лондон, он мимо жены устремлялся сразу на пост противовоздушной обороны, где командовала ее кузина Аделаида Лаббок. Этот роман, несомненно, продолжался и в 1940-м, когда Нэнси в последний раз забеременела от мужа, но Питеру жонглировать женщинами не составляло труда.
Нэнси верила в институт брака и всеми силами сохраняла веру в собственный брак, когда уже давно пора было махнуть на него рукой. Вайолет Хаммерсли она писала, что будет держаться за своего «жалкого» мужа, вопреки советам друзей, уговаривавших от него уйти. Питер сделал ее несчастной, ведь чтобы страдать от измен, необязательно любить. Она пыталась стать хорошей женой, однако ей недоставало холодной небрежности, которая помогла бы держать Питера в узде, а ее резкие, язвительные замечания редко нравились мужчинам — и муж тут не составлял исключения. В общем, Питер предал ее — жестоко, так, как она сама предала Диану. Он высосал ее и эмоционально, и финансово. Она снова впала в бедность, а Питер разбрасывал направо и налево те немногие деньги, что у них еще оставались. Пособие от Дэвида она перестала получать (он и сам был на грани банкротства), смерть свекра перекрыла еще один источник дохода, а от мужа деньги поступали далеко не регулярно. Нэнси и всегда-то была худой, теперь и вовсе стала тощей, живя главным образом на адреналине (истерического типа). «Волосы у меня совсем поседели, — писала она миссис Хаммерсли в конце 1940-го. В интонациях письма явственно слышна боль неудавшегося брака. — Я чувствую себя старой [это в тридцать шесть лет], молодость прошла окончательно, разве это не ужасно? Честно говоря, собственная жизнь уже не интересует меня, а это, должно быть, дурной признак».
Она достигла самой низкой точки в своей жизни. «Пирог с голубями» провалился: роман был задуман как сатира на «странную войну», которая успела закончиться прежде, чем разошелся тираж. К 1940-му уже никто не желал слышать, что «страны заигрались, как дети, принимая ту или иную сторону». А ведь это увлекательный роман: переходное звено между холодной и несколько вымученной сатирой первых трех книг и свободным, благотворным потоком последующих произведений начиная с «В поисках любви» (1945) — Тональность «Пирога» узнаваемо митфордианская: легкая, болтливая, ненапряженная. Героиня, леди София Гарфилд, великолепное создание, мечтает стать разведчицей, вот только темперамент подкачал: не в ее натуре покидать дом и отправляться на сверхсекретное задание, «когда она только что приняла ванну и переоделась». На подобные ремарки, с такой жизнерадостной и фривольной откровенностью, способна лишь Нэнси. Значительная часть ее дара заключалась в умении писать о том, что женщины думают, но не смеют или не желают высказать вслух. И, как и в других случаях, Нэнси использовала Софию в качестве рупора, чтобы высказать все те вроде бы несложные истины, которые с таким трудом давались ей самой. С очень непростым партнером (тот же Питер, разве что малость получше) София пускает в ход глубоко женственное спокойствие — в реальной жизни автора этого недоставало. Когда возлюбленный проявил интерес к другой женщине, «София поняла, что потребуется бдительность. Она прекрасно знала: если мужчина дурно отзывается о женщине и при этом охотно проводит с ней время, он почти наверняка нацелился на интрижку». Совершенно верно, увы. И София, раздосадованная, но несдающаяся, заявляет возлюбленному, что идет на ужин с другим: «пора его проучить». Вот бы какое искусство следовало освоить Нэнси, и она сама это понимала.
К тому времени, как эта книга бесславно канула, вроде бы утратила актуальность и маска Софии. Питер находился слишком далеко, чтобы его можно было перехитрить и прибрать к рукам, — да он и не желал даваться ей в руки. И все же кое-чему Нэнси «Пирог» научил, даже если сама она этого не осознавала. Она попробовала голос для новой задачи — воссоздать рухнувшее семейство Митфордов, вообразить такое прошлое, в котором у Митфордов появится будущее. И — это более тонкий момент — она наделила Софию философией, которая могли ее поддержать. «У Софии был счастливый характер, жизнь ее занимала» — простые слова, но они превратились в кредо Нэнси, в ее версию вольтеровского «Я решил быть счастливым, так полезнее для здоровья». Она вцепится в этот девиз так же упорно, как Диана и Джессика держались за свои идеологии. Пока еще было слишком рано, еще падали бомбы («десять часов сплошного шума и страха в полном одиночестве — это слишком долго»), и перед ее мысленным взором все еще вертелся Питер с миссис Лаббок, и терзали мысли о многообразных несчастьях семьи. Но скоро она утвердится в этой вере, хотя во многом жизнь к марту 1941-го станет еще хуже.
В марте 1941-го Нэнси писала Вайолет Хаммерсли, как бы между делом сообщая: друг из военного ведомства предложил ей внедриться в «Офицерский клуб вольных лягушатников» (так она выразилась) и собирать информацию. Офицеры из «Свободной Франции» во главе с де Голлем обосновались в Лондоне и боролись с режимом Виши, который нацисты установили в захваченной Франции (возглавлял марионеточное правительство маршал Петен). Нэнси докладывала, что, по слухам, клуб нашпигован шпионами; в Виши просочилась информация об одной операции в Африке. «Сложновато, как по-твоему? — писала она миссис Хаммерсли. — На самом деле я и не знаю, как справлюсь…» Вроде бы заманчивое приключение, однако Нэнси колебалась. В отличие от Софии она даже в мечтах не видела себя тайным агентом.
Однако по какой-то причине — возможно, из чувства долга — она все же использовала свои связи, чтобы проникнуть в клуб, и с этого момента все изменилось. «Я живу теперь в мире лягушатников, — сообщала она Джессике в июле. — Ты себе представить не можешь, какие они прекрасные — те, которые вольные». Впервые Нэнси оказалась в окружении мужчин, которые по-настоящему любили женщин, наслаждались их обществом и не то чтобы помогли ей снова почувствовать себя молодой — гораздо лучше: они показали ей, что молодость — преходящая пора, а женщина в полном расцвете ума и кокетства не менее желанна, чем юная девушка. А она и впрямь расцвела. Когда Нэнси чувствовала себя счастливой, она молодела на глазах, но дело было даже не в этом. Если бы она не узнала тогда характер французов, она бы не смогла создать в романе «Благословение» (1951) мадам де Роше-Иннуи, великолепную даму восьмидесяти лет, остроумную, одетую по последней моде, «источающую секс». В юности Нэнси влюбилась в Париж, стояла на авеню Анри-Мартен и плакала от почти невыносимой радости. Теперь она вложила всю свою уже взрослую способность быть счастливой в тот образ Франции, который отражался в этих храбрых, любезных, веселых офицерах. Она была готова к новому опыту, и постепенно стало ясно, что это опыт, о каком мечтает каждый человек: оказаться в мире, где его ценят за то, кто он есть. И в этот мир не было доступа ее родне, что тоже делалось необходимостью. Сестры и мать не пробуждали в ней лучшие стороны. Пусть забирают себе Германию. Ей — Франция.
В эту пору у нее завязался роман с привлекательным, образованным офицером по имени Руа Андре Деспла-Пильтер, попросту Андре Руа. Ребенка она ждала от него, но беременность привела к бесплодию. Гистерэктомию Нэнси пережила тяжело, но в определенном смысле и эта беда вела к освобождению.
6
Через тридцать лет после того, как было написано открытое письмо против супругов Мосли, Джессика сумела признать, что оно было «ханжеским и кондовым»‹26›. Написано оно было перед вступлением в Коммунистическую партию США. В анкете следовало указать род занятий отца. Изобретательная девушка вспомнила времена, когда он искал в Канаде золото, и написала: «Рудокоп»‹27›.
Хотя ей самой впоследствии не нравился тон, в каком она написала о Диане, Джессика так и не переменила отношение к сестре и после свадьбы с Эсмондом Ромилли видела ее всего один раз. Получается, что давнее разделение детской перешло на семейные отношения, противостояние фашистов и коммунистов поддерживается любой ценой? Или зацикленность Джессики на Диане проистекала из более темного и неблагородного источника?
В 1947 году она писала Нэнси, что Диана «сварила бы из нас всех мыло, попади мы ей в руки». Абсурдное заявление — тем более на фоне пожизненной симпатии, которую Джессика питала к истинной нацистке Юнити: «Она всегда была моей любимой сестрой»‹28›. Возможно, и к Юнити она бы стала относиться иначе, если бы та оставалась во время воины здоровой и крепкой, — и все же едва ли. Как ни странно, отчасти Джессика любила в Юнити как раз фанатизм: это их сближало. А Диану Джессика боготворила в детстве и, видимо, считала, что старшая сестра ее бросила, подвела, что это очередное предательство в семье. Возможно, отождествление Дианы с силами войны, потребность взвалить на нее вину было сублимацией, способом сделать Диану ответственной за то, что произошло с Юнити. Почему-то Джессика (и другие сестры) видели в Юнити невинность, какой никогда не обладала Диана.
Разумеется, не было никаких рациональных причин возненавидеть Диану еще сильнее после гибели Эсмонда в 1941-м. Но Джессика заняла такую позицию и с нее не сходила (по крайней мере, внешне). Типично для Митфордов.
Ромилли эмигрировали в Америку перед началом войны, они работали и все время переезжали. Джессика устраивалась продавщицей, Эсмонд коммивояжером. Среди знакомств, которые они свели за океаном благодаря английским рекомендациям (с членами рабочего класса такое произойти не могло), была и Кэтрин Грэм, чей отец, владелец «Вашингтон пост», одолжил Эсмонду деньги, чтобы открыть бар в Майами. Для американской прессы Эсмонд представлял некоторый интерес. В 1939 году он сказал в интервью журналу «Лайф»: «Если Англия будет втянута в войну, я вернусь и пойду на фронт… но я не питаю иллюзий, будто Англия станет сражаться за демократию». Война, по его словам, была конфликтом «империалистической Англии против империалистической Германии». И это означало (если Эсмонд вкладывал в свои слова хоть какой-то смысл), что он вступит в войну лишь на своих условиях. Нелли Ромилли несправедливо обвиняла сына в дезертирстве, но трусом он, разумеется, не был. В 1940-м Эсмонд записался в канадскую авиацию и добровольно попросился в Европу. «Вполне возможно, командовать мной будет кто-то из твоих мерзких родственничков», — сказал он Джессике. (Или из его. Во главе всего этого веселья находился теперь человек, которого Эсмонд не раз объявлял своим биологическим отцом.) Прослужив некоторое время рядовым, Эсмонд подал прошение о присвоении офицерского звания. Этим он косвенно признавал иерархическую классовую систему, но оправдывал свой поступок тем, что звания присваиваются больше по заслугам, чем по происхождению. Еще одно постоянное свойство Эсмонда — иметь на все готовый ответ.
Джессика поселилась в Вашингтоне на правах постоянной гостьи у Дэрров. Глава семьи занимал высокую должность на радио, но — к счастью для принципов, — вся семья голосовала за демократов. Круг общения у Джессики сделался космополитическим. Ее представляли как жену племянника Черчилля, что благосклонно встречалось и такими людьми, как Линдон Джонсон. Ее образ жизни мало походил на «коммунистический», и все же прямая американская манера общения нравилась Джессике больше, чем обтекаемое английское «так мило с вашей стороны». Впрочем, своим английским стилем она тоже не без выгоды пользовалась.
Если Джессика и скучала по родным, это ни из чего особенно не видно. Правда, она поддерживала общение усердной перепиской, тяжело переживала несчастье Юнити и ни за какие деньги не соглашалась говорить о ней с американскими газетами. Сидни сообщала о тяжелом положении Дианы; ответ Джессики на это письмо не сохранился (наверное, тем лучше). Дебора писала в привычном стиле «доброй старой Цыпы» и передавала из Свинбрука новости о Юнити: «Кажется, Бобо немного лучше, но точно не скажу». Памела отмечала, что голубая форма пилота подходит под цвет глаз Дерека — чем-то трогает это ее наблюдение, — «так что, думаю, Эсмонду она тоже к лицу». Часто и совсем другим тоном писала Нэнси, союзница по антигерманской лиге. Лаконично-ироничные и неформальные, эти письма показывают, что с Джессикой ей было комфортно: она с полуслова ловила шутки, и к ней Нэнси не питала опасно сильных чувств. Нэнси часто прохаживалась насчет политических убеждений матери («боюсь, у нее в душе что-то не так») и подчеркивала свой статус, которым явно гордилась, — она единственная среди сестер защищала страну («видишь, Я РАБОТАЮ, Сьюзен»). Хотя Нэнси всегда педалировала ненависть к Америке (много шуток на эту тему есть в «Благословении») и дразнила Джессику-американку, но все-таки, возможно, сочувствовала желанию сестры сбежать от Митфордов в другую страну. На самом деле Джессика собиралась возвратиться в Англию — интересно, как повернулась бы в этом случае ее жизнь, — но этот план не осуществился.
В феврале 1941 года Джессика родила дочь Констанцию, на этот раз — крепкую и здоровую девочку (к тому же очень красивую). Через три месяца Юнити поздравила ее, извинилась за отсрочку и пояснила, что пишет все еще очень медленно: «Знаешь, у меня голова прострелена». В июне Эсмонд заглянул на побывку и отплыл в Англию: ему предстояло участвовать в ночных операциях над Европой. Джессика снова забеременела. В августе у нее случился выкидыш, о чем она писала мужу: «Я больше не жалею об этом. Надеюсь, и ты тоже. Ослик [Констанция‹29›] — очень славная и общительная. Кроме нее мне больше никого не нужно». За исключением Эсмонда, разумеется. Она все еще была глубоко привязана к нему. Как и Диана с Мосли (от сходства с которыми супруги Ромилли возмущенно открестились бы), эти двое, вступив в брак, отрезали себя от всей прошлой жизни, а значит, вынуждены были держаться друг за друга. Их любовь была искренней, однако и обязательной.
Эсмонд тем временем был несчастлив и беспокоен — и с полным основанием. Его брат Джайлс, с кем он всегда дружил, товарищ по школьному мятежу, попал в плен в Дюнкерке, и его отправили в Кольдиц (Джайлс выжил, но в 1967-м покончил с собой). Ночные полеты выматывали нервы. Только человек вроде Дерека Джексона — который получал извращенное удовольствие, выкрикивая команды по-немецки, пока его самолет рассекал воздух, — мог наслаждаться такой жизнью. Джессика хотела попроситься на «ленд-лизный бомбардировщик», чтобы попасть в Англию, к Эсмонду, но сначала он ее отговаривал, будучи в тяжелом отчаянии после того, как потерял четырех ближайших друзей. Но к ноябрю 1941 года его настроение изменилось. Эсмонд послал жене доброе, умное и храброе письмо — намек на то, каким мужчиной он мог бы стать. Он понял, что Джессика мечтает вернуться на родину, и назвал себя эгоистом за то, что пытался отговорить ее, поддавшись собственным переживаниям. «Более всего на свете я хочу снова быть с тобой», — писал он. И продолжал:
Эта история вынудила меня глубоко осознать: все это гораздо тяжелее для жен и других близких, чем для самих солдат. Когда кто-то пропадает без вести, проходит долгое время, прежде чем об этом человеке придут сколько-нибудь надежные сведения: вдруг он сумел приземлиться или попал в плен. В очень многих случаях так оно и выходит… но первым делом, хотя это и совершенно иррационально, приходит на ум худшее.
Кстати, если когда-нибудь — вероятность такого, на мой взгляд, ничтожна — я окажусь в такой ситуации, я решительно настроен бежать так или иначе…
С огромной любовью, мой дорогой ангел.
Эсмонд.
Без сомнения, отважные зароки, звучавшие в этом письме, убедили Джессику не верить в «худшее», когда за три дня до намеченного отъезда в Англию она получила телеграмму: С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ… ВАШ МУЖ ОФИЦЕР АВИАЦИИ ЭСМОНД МАРК ДЭВИД РОМИЛЛИ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 30 НОЯБРЯ.
Черчилль, опять же верный семейным узам, во время визита к президенту Рузвельту попросил Джессику связаться с ним. Она позвонила в Белый дом, поговорила с женой Рузвельта, и ей назначили на следующий день аудиенцию. И Джессика, повторим еще раз, была тем, кем она была, даже если она против этого восставала. Черчилля она застала в постели, за работой. Она взяла с собой Констанцию и выглядела, как писал Черчилль Нелли Ромилли, «очень мило»: слишком, слишком юной для вдовы, а в том, что ее муж погиб, у него уже не было сомнений. По возможности мягко он объяснил Джессике, что надежды не осталось: Эсмонд утонул в суровом Северном море. Проводились поиски, но туман мешал, а в ледяной воде никто бы не смог долго продержаться. В качестве утешения он заговорил о Диане, думая, что Джессика будет рада услышать, насколько улучшились условия содержания в Холлоуэе: Диана теперь находится в одной камере с мужем. Джессика взорвалась словно петарда. Обоих Мосли поставить к стенке и расстрелять, заявила она. Быть может, именно в тот момент, когда Черчилль столь опрометчиво упомянул Диану, посреди ее величайшего горя, Джессика и ожесточилась навеки против сестры. Обескураженный собственным промахом — кто же знал, что Джессика ненавидит сестру, — Черчилль попытался его исправить и сделал только хуже. Он предложил Джессике должность секретарши при лорде Галифаксе, своем сопернике на пост премьера, теперь ставшем послом Британии в США. И это предложение Джессика тоже швырнула ему в лицо. В итоге он просто дал ей 500 фунтов. На эти деньги она купила пони для дочки Дэрров, у которых жила, а остаток пожертвовала компартии.
Дебора написала Джессике с искренней, величайшей добротой: мол, все время думает о ней. В разговоре с Дианой Дебора предпочла иной тон: «Слава богу, у нее есть этот поросенок» (то есть Констанция). «Для нее все в сто раз хуже, потому что она такая странная». Деборе, умудрившейся сохранить близость со всеми сестрами, приходилось так и эдак крутиться, продираясь в сложном хитросплетении взаимных (не)верностей. И при всем ее политическом консерватизме и явном желании, чтобы экстремисты любой масти вели себя как нормальные люди, чувствуется, что в наибольшей степени она может быть сама собой в письмах к Диане. Дебора не любила Эсмонда — оно и понятно, учитывая его упорную ненависть к Митфордам, — но спустя много лет выскажется в том духе, что, останься он в живых, этот брак сохранился бы, поскольку оба супруга прекрасно друг другу подходили. Это не подразумевало непременно сходство характеров, хотя упорная ненависть Джессики к Диане очень в духе ее мужа. Все же она обладала куда большим теплом, юмором и человечностью, чем Эсмонд успел проявить в своей прискорбно краткой жизни — он погиб в двадцать три года, — но он до некоторой степени изменил ее, а она, смягчаясь с годами, смогла бы повлиять на него. Смерть Эсмонда не была такой уж неожиданностью: Джессика знала, какой опасности он подвергался. И все же получить телеграмму перед самым путешествием через океан — словно Вера Бриттен, которая узнала о гибели жениха на Первой мировой войне из телефонного звонка в гостиницу, где она трепетно ждала его, живого, — это удар, от которого невозможно оправиться. И Джессика не желала смириться, как ни призывал ее к этому Черчилль. Как все Митфорды, она умела скрывать свои чувства под бодрой и жесткой улыбкой, но, отрекаясь от собственного прошлого, хранила верность Эсмонду (и в этом она тоже похожа на Диану, которая словно мученица служила у алтаря Мосли). Миссис Дэрр, милейшая женщина, тайно писала Сидни, что Джессике будет лучше дома: «Она до кончиков ногтей англичанка и так связана с Англией любовью, что ничем другим быть не может. Она глубоко страдает из-за утраты и собственной гордыни. И мне больно думать, что еще одну рану ей наносит мысль, будто она никому не нужна».
Сидни только о том и мечтала, чтобы Джессика вернулась, и сразу же написала ей, заклиная скорее приехать. Несомненно, искушение имело место. И подчас могло быть серьезным. У Джессики оставалось совсем немного денег — лишь пособие на шесть месяцев от канадского правительства, менее 400 долларов. Однако отказ от денег Черчилля символичен: она упрямо цеплялась за право жить по собственным правилам, а не по правилам своей семьи. Замечательная, пусть порой иррациональная решимость, которая давалась нелегко.
Джессика нашла работу на полставки в представительстве британских ВВС при посольстве (не так уж это отличалось от черчиллевского предложения). Тем самым самодовольное утверждение Нэнси — мол, она единственная из девочек Митфорд трудится на оборону — перестало быть истиной. А в середине 1942-го Джессика и вовсе отправилась в одиночный полет. Из уютного сельского дома Дэрров она перебралась в самый центр Вашингтона; Констанцию отдала на попечение соседки, а сама устроилась машинисткой в Управление по регулированию цен, которое занималось вопросами снабжения, контроля цен, расхода бензина и так далее. Дух там царил левацкий, идеалистический, как описывает будущий муж Джессики Роберт Трюхафт, юрист с гарвардским образованием, разрабатывавший нормы Управления во время войны: «Мы были обеими руками за тогдашнюю регулировку цен и потребления. Дж. К. Гэлбрейт, известный экономист, состоял тогда в руководстве. В Вашингтоне все еще помнили про „Новый путь“, сохранялся этот дух — очень сильно антифашистский, антигитлеровский. В Управлении было полным-полно молодых людей, и все мы были преданы своей работе»‹30›.
Для Джессики было блаженством оказаться в окружении людей, чьи взгляды формировались в условиях новой, чистой, эгалитарной системы убеждений. Вскоре, слегка подтасовав факты (она присвоила себе степень Сорбонского университета — это было преувеличением)[25], Джессика добилась повышения, ее перевели на исследовательскую работу. Теперь она стала самостоятельной, получала около 500 фунтов в год, если перевести на английские деньги, и Эсмонд, несомненно, одобрил бы ее образ жизни. Вероятно, она слышала, как он аплодирует ей с того света, когда писала матери: «Ты не можешь не понимать, что я никогда не смогу вернуться и жить с семьей. После того как мне однажды запретили возвращаться, пусть это и не твоя вина [роковые слова произнес отец в порыве горя, когда она сбежала с Эсмондом], этого достаточно, чтобы я никогда… Разумеется, я надеюсь однажды повидаться с теми членами семьи, с кем я поддерживаю отношения, — вероятно, после войны».
Для Сидни это письмо в ту пору, когда она кое-как справлялась с шатким грузом, в который превратилась Юнити, и с кошмаром «Остановка „Апартаменты леди Мосли“!» в каждой автобусной поездке до Холлоуэя, стало жестоким ударом. Но та гостиная-детская навеки была разделена, и, чтобы заполучить Джессику, Сидни пришлось бы отречься от Дианы.
Впоследствии Джессика отчасти извинилась за тон того письма. «Я правда не хотела обидеть тебя, когда писала, что меня извергли из семьи», — писала она матери в 1943 году. Несомненно, сложные чувства ко всем Митфордам по-прежнему обуревали ее, и этот мощный коктейль из вины, любви, гнева и скорби ей никак не удавалось проглотить. Джессика никогда больше не сможет жить в Англии: «Все наши идеалы настолько различны и противоположны, что было бы немыслимо вернуться к обычной семейной жизни»‹31›. К тому времени она вышла замуж во второй раз, о чем мать уведомила лишь постфактум. Роберт Трюхафт — тридцати одного года, низенький, смуглый, очень умный — позднее нарисовал ироничный портрет той уверенной и полной достоинства молодой женщины, с которой он познакомился годом раньше:
Она была в черном и казалась закрытой, но при этом была так красива, что я влюбился с первого взгляда. На следующий день я повел ее обедать в столовую… она съела немного салата и убрала пустую тарелку под прилавок, а к кассе направилась с чашкой кофе, за которую позволила мне заплатить — пять центов. Так она жила. Получала 1200 долларов в год, растила маленькую дочь и должна была иметь дома человека, который о ней бы заботился. Я подумал, такую экономию упускать нельзя — дешевле свидания и придумать невозможно‹32›.
Типично американский способ признаваться в любви, словно Вуди Аллен перед камерой, и довольно милый, хотя Нэнси потом отзывалась о Трюхафте: «Он мне вполне понравился, но уж эти американцы!» Это был неординарный человек, «цивилизованный», гораздо мягче Эсмонда Ромилли, но едва ли уступавший ему энергичностью. Как и Джессика, он мечтал вступить в компартию Америки, в ту пору привлекавшую новых членов из нижних слоев правительственных учреждений — верхи оставались консервативными, — в том числе немало ярких умов. При этом Роберт говорил: «Бессмыслицы в этом тоже было немало, ведь никто из нас не был пролетарием. По взглядам и образу жизни мы скорее принадлежали к среднему классу. У пролетария же ничего нет, кроме работы и одежды». Как раз этот парадокс изводил Ромилли: Эсмонд возмущался интеллектуалами из частных школ, которые читают Маркса в уютных гостиных родительских усадьб. Вместе с тем Трюхафт видел поддержку, оказанную коммунистами профсоюзам и в особенности возникшему движению за гражданские права: еще в 1930-е годы коммунисты организовывали пикеты на бейсбольных стадионах, куда не допускали чернокожих, а позднее Трюхафт вел множество дел о расовой дискриминации (в том числе в профсоюзах, которые тогда были сегрегированы). Он оказал на Джессику сильнейшее и совсем не митфордианское влияние, в целом благотворное. Теперь Джессика сражалась под его знаменем. В том числе Трюхафт помог ей вникнуть к коммерциализованное мошенничество погребального бизнеса, и в 1963 году Джессика написала знаменитую и нашумевшую книгу «Американский способ смерти». Ирония судьбы: эта книга, направленная на разоблачение корыстного бизнеса, обогатила своего автора.
Так что тон ее писем к Сидни едва ли удивителен: в ее новом мире митфордианские ценности и взгляды казались абсурдными и даже бессмысленными. Трюхафт, сообщая своей собственной матери об отношениях с Джессикой, торопливо упоминает ее сестер Юнити и Диану — до такой степени они сделались печально известными — и тут же просит не волноваться, поскольку семья отреклась от Джессики из-за ее радикальных убеждений. «Она не только красива, но и очень талантлива и сияет непримиримой честностью и отвагой». И это правда. Дебора взывала к Джессики иным языком, языком их детства: «Напиши же мне, твой мистер Трюхафт — Цып? Уверена, что да, — и еще какой!»
И даже лучше: он был еврей.
7
Гордое заявление Нэнси, что она единственная среди сестер труженица, всегда казалось капельку нелепым, ведь ни Юнити, ни Диана не имели возможности помогать обороне. На Памелу целиком легло попечение о детях Дианы, и она вернулась к привычной роли хозяйки фермы в Ригнелл-хаусе. Подскочившие цены на корма лишили ее возможности держать стадо абердинок, и она оплакивала смерть быка: «Бедняжка Черный Гусар!» Не те были времена, чтобы позволить себе роскошь оплакивать кобылу Дианы Эдну Мэй, — впрочем, едва ли Памела стала бы сентиментальничать и в мирное время. Джессику Нэнси тонко окарикатурила в «Пироге» — это Мэри Пенсилл, которая выступает с антинацистскими речами, но делать ничего не делает. Дальнейшая жизнь Джессики опровергла этот портрет, однако Нэнси всегда имела над сестрой превосходство: непосредственно, на месте, возилась с испанскими и еврейскими беженцами. Под беспощадный обстрел писательницы попала и Дебора, та, дескать, «развлекалась с молодыми новобранцами в Ритце и т. д.». В 1942-м Нэнси отвергла приглашение сестры на бал по той причине, что Том воевал в Ливии, а Питер Родд — в Эфиопии. На самом деле Дебора в 1940-м работала в военной столовой на вокзале Сент-Панкрас, а четыре года спустя в столовой — YMCA в Истборне, где все пародировали ее акцент. (Нэнси пережила подобное унижение, когда занималась поиском помещений: ее попросили воздержаться от лекций о пожарах, поскольку ее голос раздражал слушателей и «как бы они вас саму не подожгли»‹33›.) Дебора признавалась Диане, что столовую ненавидит: «У меня сейчас такая противная работа, пожалей меня!» Да и Нэнси особо не радовалась. «О Сьюзен, работа омерзительна», — писала она Джессике. Позднее Дебора будет преданно трудиться во благо Чэтсуорта, а Нэнси с головой погрузится в свои книги, но это другого рода работа.
Дебора получила отпуск от трудов на оборону, забеременев вскоре после свадьбы с Эндрю Кавендишем. «Либо женись на этой девушке, либо перестань приглашать ее к нам», — велела сыну герцогиня Девонширская в конце 1940-го. В марте 1941-го, за месяц до свадьбы, Дебора живо и весело писала Диане, явно стараясь вовлечь сестру в свою радость, не причинив ей при этом ненужных мучений. Она сообщала всякие подробности про свое платье, про юбку, «равных которой по размерам никто не видывал», и жаловалась, что Нэнси «цепляется» к ее кольцу. Двенадцатью годами ранее Нэнси сравнила обручальное кольцо Памелы от Оливера Уотни — то самое, которое в итоге досталось Гитлеру, — с куриным пометом‹34›. Нэнси есть Нэнси: всегда поддавалась соблазну поддразнить сестер.
Свадебный прием состоялся в особняке на Ратленд-гейт (беженцы к тому времени съехали). Двумя днями ранее бомба разрезала пополам два соседних дома, Дебора, спавшая «на конюшне», проснулась от толчка. «Бедный старый дом [№ 26], совсем пустой, окна бального зала вылетели… выглядит жалко», — писала Сидни Джессике, но тут же сообщала, что отведенные для праздника помещения были украшены и оживлены гигантскими красными камелиями, присланными герцогами Девонширскими «с дерева, которое Пакстон посадил 100 лет назад»‹35›. Джессика, не желающая уступать ни миллиметра, прислала кисловатую телеграмму: мол, Дебора заполучила «почти» герцога (Эндрю был вторым сыном). Юнити, не сознававшая, что пресса следит за каждым ее шагом, радостно писала старшей сестре: «Ну, Нард, Свадьба!!!! Ну, это прямо был рай… Только бедный старый Пуля выглядел плоховато, такой грустный». Дэвид, участник ополчения, явился в мундире, «тоже довольно мрачном, да еще и коротковатом. Ужас!!». О внешности отца Юнити судила вполне точно. Он выглядел точно приговоренный к смерти, с него можно было писать портрет Скорби. Но Дебора — «она выглядела ПОТРЯСАЮЩЕ» — была похожа на цветок, на камелии в ее большом венце, а изобилие белого тюля казалось морской пеной; это платье Виктор Стибл успел пошить за полтора месяца до введения карточек на ткань, иначе на него ушли бы все купоны на много лет вперед.
После медового месяца в одном из многочисленных домов Девонширов — в Комптон-плейс в Истборне — Эндрю перевели в Пятый батальон Колдстримского гвардейского полка, а Дебора переехала в Рукери, довольно темный и сырой дом в поместье Чэтсуорт. Позднее она писала: «Жизнью правили карточки и купоны». Она вспоминала, как просила у мясника язык — на требуху рационирование не распространялась, — и услышала в ответ, что она тридцать шестая в очереди. Солдат, вернувшийся из Италии, привез лимон, невероятную роскошь. Он выложил его на прилавок почты и брал по два пенса в пользу Красного Креста за право понюхать золотистый плод.
Дебора написала Диане отважное письмо, когда в ноябре ее первенец, недоношенный мальчик, умер сразу после рождения. Это было, по ее словам, не так ужасно, как потеря Джессикой Джулии: она, в отличие от Джессики, не успела привязаться к ребенку Она не призналась Диане, что сразу после родов акушерка рявкнула: «Даже не надейтесь, что он выживет». Сидни присутствовала при родах и держалась, по отзыву дочери, «изумительно». Нэнси в письме Диане охарактеризовала тем же словом поведение Сидни, когда та навещала ее в больнице после удаления матки: «Муля была изумительна». Вот только подразумевала Нэнси нечто иное — мать вела себя так странно, что в это с трудом верилось: в утешение дочери заявила, что шрам на животе никто не увидит, обмолвилась о няне-сифилитичке. Сидни поселилась на время в Свинбруке и выхаживала Дебору после неудачных родов, а Нэнси, выйдя из больницы, вернулась к своей лондонской жизни. Трудно разобраться, в ком причина взаимного отчуждения — в матери, не умевшей помочь, или в дочери, отвергавшей помощь. Наверное, и в той и в другой — эмоциональный пат.
Дебора в итоге родит трех здоровых детей — Эмму, Перегрина и Софию, у Джессики появятся два сына, Николас и Бенджамин (от Боба Трюхафта), но лишь Диана была по-настоящему плодовитой. Каждая беременность Деборы тянулась мучительно день изо дня, никто не отваживался заранее покупать детские вещи, четырежды отчаянная надежда стать матерью здорового ребенка погибала в зародыше. В 1945-м снова случился выкидыш, погиб один из пары близнецов, второго удалось доносить почти до срока, но через восемь часов после рождения у него случилось кровоизлияние в мозг. «Деревенская повитуха… именовала меня „миледи“ в самые непристойные моменты», — писала Дебора Диане, пытаясь сохранить митфордианскую легкость. Еще одного малыша она потеряла в 1953-м. Умерших детей крестила, дав им имена (втайне от Деборы), ее свекровь. Памела сделала в 1937-м операцию, которая должна была способствовать зачатию, но в тот же год у нее случился выкидыш, после того как Дерек повез ее в автомобильное путешествие по ухабистым дорогам Норвегии. Позднее Дебора и Диана обсуждали, не из этой ли неудачи проистекает нелюбовь Памелы к детям. На этот вопрос, как и на любой, касающийся лично Памелы, ответить непросто, но ее сестры вполне могут быть правы. Вопреки явному нежеланию своего мужа, она снова забеременела и за шесть месяцев до конца войны опять лишилась ребенка.
Юнити всегда хотела иметь семью, детей, не отказалась она от этой мечты и теперь. Подруга Нэнси Молли Фриз-Грин слышала от Юнити: «Вот выйду замуж, нарожу десятерых»‹36›. А еще Юнити, что тоже вполне естественно, обратилась к Богу. «Нард, я пою в Хоре!!» — писала она Диане в конце 1940-го. После конфирмации она побывала у сторонника «Христианской науки»; об этом прознала «Дейли экспресс» и не преминула напомнить читателям о связи этого движения с нацизмом. Затем Юнити попробует другие конфессии, а Молли скажет о мечте перейти в католичество.
Ее состояние несколько улучшилось, она пошла на поправку — по крайней мере, физически. В 1941-м она уже отправлялась в небольшие путешествия сама, ездила на автобусе в Оксфорд. Там она обедала в «Британском ресторане» — кафе военного времени, где порция стоила один шиллинг, — но не могла контролировать ни аппетит, ни манеры. Она просила добавки, но этого никому не полагалось (и уж тем более не Юнити Митфорд). Нэнси почти беззлобно замечала, что вторую тарелку супа можно было бы получить, выжав рукава Юнити. Недолгое время она поработала в столовой в Берфорде, но ее начальнице велели уволить Юнити: «Ей здесь не место». Но вот более занимательный факт. В министерстве внутренних дел хранится папка, посвященная Юнити, — засекреченная на сто лет, но открытая раньше времени — со сведениями о том, что у Юнити появился любовник, женатый летчик-испытатель, с которым она «встречалась» в ноябре 1941-го. Беда с такого рода информацией в том, что ее очень трудно проверить. От кого она исходит? Насколько надежен источник? Не свидетельствует ли упоминание о жене летчика, что информатор был недоброжелателен? И кто этот летчик, вздумавший гулять с подругой Гитлера, которая вышибла себе мозги? Нельзя полностью исключать, что Юнити пережила недолгий и странный роман, однако письма ее сестер — написанные в то время — рисуют существо, очень мало пригодное на роль соблазнительницы. Собственные письма Юнити заставляют еще более усомниться в правдоподобии такого сюжета.
Стоит прислушаться и к воспоминаниям Молли Фриз-Грин, которая работала вместе с Нэнси в книжном магазине Хейвуда Хилла на Керзон-стрит, куда Юнити порой наведывалась, когда вместе с матерью приезжала в Лондон. Нэнси взялась управлять этим магазином — по совету Джеймса Лиз-Милна — в марте 1942-го. Она все еще была худой и слабой после гистерэктомии, но эта работа стала для нее отрадой, и не только потому, что здесь она получала три с половиной фунта в неделю. Она подружилась с Хейвудом Хиллом и превратила магазин в подобие клуба. Чарующий интерьер заполнялся старыми друзьями Нэнси, членами этого «клуба», — тут бывали Ивлин Во, Сесил Битон, Гарольд Эктон, Джеральд Бернере, Ситуэллы. (Сюда, в этот магазин, вбежал Осберт Ситуэлл после объявления результатов всеобщих выборов 1945-го и, вцепившись в кассовый аппарат, завопил: «Отныне — лейбористы!») Этот магазин стал еще одним райским подарком для Нэнси наряду с открытием Франции и романом с капитаном Руа. Эктон позднее с восхищением описывал ее хрусткую, хлесткую силу — каждый день она являлась из Майда-вейл в магазин в Мэйфере пешком — и красоту, «достойную кисти Джошуа Рейнольдса». Она посылала Диане много книг и подробно описывала ей веселую светскую жизнь магазина. Возможно, то была запоздалая месть за годы, когда все друзья покинули Нэнси и припали к ногам юной миссис Гиннесс, хозяйки особняка на Букингем-стрит.
Молли Фриз-Грин, помогавшая Нэнси в магазине, позднее рассказывала, как однажды «явилась незнакомая мне женщина и сказала: „Как по-вашему, самоубийство — очень плохо?“ А я никогда и не думала об этом. Я предложила все обсудить». Так она познакомилась с Юнити, которая заглядывала в магазин между сеансами в кинотеатре «Керзон» через дорогу — она всегда любила кино. Добросердечная Молли просматривала вместе с Юнити «Матри-мониал таймс», газету брачных объявлений (приходишь такой с гвоздичкой на свидание, а там тебя ждет Юнити Митфорд), но это вовсе не означает, что у Юнити был настоящий роман. Показательна и интонация, с которой Нэнси ласково, но строго заявляла: «Довольно, мисс, ступайте и не мешайте нам работать». Как отмечала Молли, «так разговаривают с ребенком». Митфорды — типично для них — нисколько не стеснялись своей сестры, и в 1946-м, например, она встречала Рождество в Эденсор-хаус на земле Чэтсуорта. Только держали ее подальше от местного викария, поскольку (вспоминает Дебора) Юнити склонна была спрашивать священников, нравится ли им спать с женами. Публичное ее появление все еще могло спровоцировать неприятную реакцию. Даже после войны как-то раз толпа женщин возмущалась видом Юнити, идущей вразвалку по улице Лондона: «О! Это омерзительно!»
Другой непостижимый вопрос — насколько восстановилось сознание Юнити, вернулась ли к ней память о недавнем прошлом и как она его теперь воспринимала. Ее интеллектуальный уровень оценивали примерно на десять лет, и ее письма подтверждают, что писала она с трудом, однако своеобразный митфордианский юмор никуда не делся, судя по замечанию насчет коротковатого отцовского мундира (шуточка в духе Нэнси). Джеймс Лиз-Милн отмечал, что Юнити выражалась словно «утонченное дитя». Похоже, довольно многое она помнила. Еще в мае 1940-го Сидни и Дебора вдруг взяли ее с собой на чаепитие в Дитчли-парк (Оксфордшир), где Черчилль во время войны проводил секретные совещания. Среди гостей был Дафф Купер, один из главных противников примирения с Германией, который вышел в отставку после Мюнхенского договора. («То незначительное влияние, каким он пользовался в 1930-е годы, было опасным», — писала потом Диана. Она презирала Купера.) В письме к Джессике Дебора сообщала, что на миг испугалась — пожмет ли Юнити ему руку. «Кое-как она это сделала». Возможно, Дебора просто выражает озабоченность по поводу плохих манер сестры, но эта сцена явно указывает, что Юнити вспомнила и кто такой Дафф Купер, и на чьей он стороне.
В ноябре 1942-го Юнити побывала на другой вечеринке, на этот раз у Нэнси, вернувшейся в свой дом в Майда-вейл. Нэнси была к ней добра: ей легко давалась бескорыстная забота. Она «впихнула» сестру в одно из своих платьев — на спине оно не сошлось, но выручил накинутый сверху плащ. Краситься Юнити отказалась, но Андре Руа, — самый снисходительный мужчина из всех, с кем Нэнси довелось сблизиться, — сделал это за нее. «В итоге, — писала Нэнси Диане, — она выглядела ужас до чего хорошенькой». Правда, Осберт Ланкастер, которого Нэнси усадила рядом с Юнити (по другую руку от нее сидел Руа), сохранил иное впечатление: «Эта великанша Митфорд, агрессивная, ни с кем ее не спутаешь». Когда Руа вежливо предположил, что ее французский, наверное, лучше его английского, она выпалила: «Ни слова не знаю на этом мерзком наречии, слава богу»‹37›. Многим казалось, что Юнити сохраняет фанатичную привязанность к Германии, хотя и проявляет ее несколько сюрреалистическими способами. Билла Хэррод, подруга Нэнси, ставшая в «В поисках любви» рассказчицей — разумной, спокойной, справляющейся с жизнью Фанни, — услышала от Нэнси просьбу «быть поласковее с Бобо, а то она ко всем кидается, словно огромный пес, виляющий хвостом, а ее никто не привечает». Билле запомнилась в очередной раз высказанная мечта Юнити родить детей — «первенца назову Адольфом».
Диана, Дебора и Памела бурно протестовали, когда вышла биография Юнити с подобной информацией‹38›. Однако Джеймс Лиз-Милн, видевший Юнити в Свинбруке в 1944 году, отражает в своем дневнике схожее впечатление: он пишет, что Юнити «говорила о фюрере так, словно все еще восхищалась им». Повреждение мозга, видимо, не затронуло воспоминания о Германии и Гитлере. Что касается ее мнения обо всем этом, Мэри Ормсби-Гор она застала врасплох внезапным упреком: «Почему вы меня не остановили?» «Мы пытались», — честно ответила Мэри. Но кадры из освобожденного концлагеря Юнити, по-видимому, отвергла как пропаганду — очевидно, ей ничего не оставалось, кроме как защищать себя от избытка реальности. Диана отчасти поступала так же, но сообщения о Юнити достаточно путаные, поскольку ее разум всегда был загадкой, «внутреннюю Буд постичь невозможно», говорила Джессика‹39›. И уж вовсе непостижимой сделалась она теперь, когда, оставаясь все той же Юнити, была еще и разрушенной Юнити.
Лиз-Милн писал, что облик этой некрасивой и тяжеловесной молодой женщины производил бесконечно грустное впечатление, однако ему вроде бы не казалось, что сама Юнити чувствовала себя несчастной.
Что и побуждает нас вернуться к вопросу, который она задавала Молли Фриз-Грин: подразумевала ли Юнити уже совершенные попытки самоубийства, желая понять, были ли они дурными? И подумывала ли о новой попытке? Иными словами, насколько осознавала безнадежность своего положения? Временами она казалась вполне довольной жизнью, бродила там и сям своей странной неровной походкой, восторженно отзывалась на появление у сестер очередных детей, наслаждалась такими праздниками, как свадьба Деборы. Обратилась к церкви в поисках утешения, выхода для обуревавших ее эмоций. И все же пока Дебора жила с Юнити и матерью в Свинбруке, она не раз наблюдала сильнейшие вспышки раздражения и гнева. Поводы бывали самые разные, и, помимо прочего, Юнити невзлюбила младшую сестру. А когда Осберт Ланкастер признался ей, что пугается сирен воздушной тревоги, Юнити ответила: «Как странно. А я бы хотела умереть».
Юнити очень расстроилась, когда ей запретили посещать Диану в тюрьме, а когда в конце 1941-го это ограничение было отменено, выражала столь же безудержное ликование: «О, Нард! О, Нард!» Сохранился отчет об одном из визитов весной 1943-го, когда супруги Мосли уже находились вместе в бывшем «доме для посылок»: «Леди Мосли жаждала больше узнать о [своих детях], но мисс Митфорд не хотела говорить о них. Кто-то сказал ей, что она очень красива, но ей надо бы лучше подавать себя [неужто добросердечный Андре Руа?], и она стремилась узнать мнение леди Мосли на этот счет». Диана проявляла терпение и всячески подбадривала сестру, однако это причиняло ей боль, в особенности от сознания того, с чем ее мать имеет дело изо дня в день — эти настойчивые вопросы, бесконечная болтовня, неспособность сосредоточиться, иллюзорные мечтания о детях (и недержание каждую ночь). Примерно в то время Сидни все же призналась Диане, что близка к отчаянию: «Не знаю, что делать с ней».
С июля 1944-го, после десанта союзников в Нормандии, Сидни разрешалось выезжать с дочерью на Инч-Кеннет. Там они стали проводить по полгода. Сидни держала овец, шетландских пони, коз и, как и прежде, кур. Она изготавливала масло и сыр, а Юнити, обмотавшись простыней, изображающей рясу, проводила время в местной часовне. Мирное существование.
Но была и женщина, хорошо относившаяся к Юнити (родственники ее служили на почте на материке). Она потом вспоминала, что девушка выглядела несчастной. «По глазам можно было угадать. Мне часто казалось, она знала, что натворила». Прозрение задним числом? Это мнение подтверждается и письмом Юнити Диане в ноябре 1941, в котором Юнити описывает ситуацию настолько точно, насколько это возможно, сводя ее сложность к простоте. «Понимаешь, когда я вернулась, я думала, что смотрю пьесу. А теперь знаю, что мне отведена роль, и я не в силах ее играть!»
8
Мосли выпустили из Холлоуэя утром 20 ноября 1943 года, и они отправились к Джексонам в Ригнелл-хаус. Именно к ним и собиралась переселиться Диана три с лишним года назад, когда ее арестовали. Сейвхеем все еще распоряжалось государство, а в лондонской квартире им жить запретили. (К тому же Климентина Черчилль опасалась, что супругов линчуют на улице, если узнают. На это Сидни холодно ответили, что Диана и ее муж решились бы на такой риск.) Дерек к тому времени работал ведущим военным специалистом в генштабе истребительной авиации, дома он почти не появлялся, но Диана не хотела обременять своим присутствием человека, который, при всех своих фашистских идеалах, недолюбливал Мосли. Но Дерек показал себя с лучшей стороны: «Разумеется, пусть живут у нас». Прекрасно повела себя и Пэм. Она тоже не любила Мосли, но осуждение замерло у нее на устах при виде его больного лица. Не устрашили Джексона и мысль о навязчивой прессе, и толпа, собравшаяся у ворот Холлоуэя с плакатами. Так много гнева и так много гневающихся! Пока Десмонд Гиннесс старательно писал Диане из школы: «Дорогая мамочка, вот так Новость!» — Герберт Моррисон произносил публичную речь: «Эта проблема обнаружила конфликт между эмоциональными крайностями, властью толпы — и разумным уважением к закону и конституции». Джордж Бернард Шоу храбро и справедливо писал, что люди могут купить Mein Kampf в магазине и при этом лишают Мосли права защищаться. Министерство внутренних дел, перегруженное письмами с протестами, констатировало: «Освобождение леди Мосли вызвало едва ли не большее возмущение, чем освобождение ее супруга». Такова участь женщины.
«Ничего более прекрасного не видел человеческий глаз», — писала впоследствии Диана об осеннем пейзаже Оксфордшира. Ее и Мосли везли навстречу первому свободному вечеру в Ригнелле. Сидни, израсходовавшая месячный лимит бензина, ждала дочь там вместе с Деборой; Памела щедро сыпала в котел запасы угля; нашлись и вино, и чистые простыни. Увы, идиллия длилась недолго. Дом тут же оказался в осаде, телефон звонил непрерывно, репортеры прятались за каждым кустом. Когда Пэм выгуливала собак, за ней ходили по пятам и кричали на нее. Особняк, который Диана впоследствии описывала как «чуть хуже брокерского», пресса, разумеется, именовала роскошным обиталищем Мосли. «Женщина разит наповал», — писала Диана Нэнси, излагая, как Пэм выскакивала за дверь и сообщала репортерам: «Я вас терпеть не могу». Насчет демонстрации на Трафальгарской площади, где повесили чучело Мосли, Диана, в самом мистически-митфордианском стиле, отзывалась: «Жаль, я туда не доехала». Нэнси ответила, что ее подруга попала в толпу по пути в метро и ее отпустили лишь после исполнения общего припева: «Верните его в тюрьму».
Хладнокровие Дианы, конечно, явление исключительное, но ведь в ней было необычно все. А может, все затмевала радость освобождения.
Создается впечатление, что внешний мир утратил для нее значение. Ведь все самое страшное уже сбылось. Она твердила, словно мантру: «Их ненависть — ничто для меня». Если бы такие слова произнесла любая другая женщина, ей бы не поверили. Но Диана и впрямь достигла состояния, в котором легкомысленная уверенность Митфордов превратилась в неприступную твердыню. Ей было искренне безразлично, кто и что о ней думает, — почти уникальное отношение. Единственным исключением оставался, разумеется, Мосли. Его мнение она готова была принять, даже если пришлось бы поступиться своим. А что до всех остальных, она продолжала применять бессмертную магию «воплощения шарма». И пока ей позволяли так себя вести, ее чары сохраняли силу.
Дерек, — великолепный при всех своих странностях, по сути, ренегат такого же разлива, как Мосли, — боролся за своих гостей и после того, как министерство внутренних дел стало настаивать на их отъезде: Дерек имел допуск к секретной научной информации. А Мосли, хотя судьба Германии уже была решена, все еще считались угрозой безопасности. Заподозрив, что основная причина тут — казенная ненависть, Дерек позвонил в министерство и потребовал к телефону Герберта Моррисона (ему было известно, что в Первую мировую тот отказывался от участия в боевых действиях по соображениям совести). Как ни удивительно, его сразу соединили, и Дерек сказал Моррисону: «Сначала получи крест „За выдающиеся летные заслуги“, Крест ВВС и орден Британской империи за отвагу, потом будешь мне указывать». Душу он отвел, но вопрос был скорее практический: Мосли требовалось постоянное убежище, а найти в ту пору пустой дом было почти невозможно. Сидни предложила им перебраться в полуразрушенный отель возле Свинбрука под названием «Бритая макушка» (без сомнения, то, что многие хотели бы сделать с Дианой). Там они провели странное Рождество с четырьмя детьми Дианы, а потом она, в сопровождении полицейских и все еще очень ослабленная, отправилась на поиски жилья. Наконец остановились на Крукс Истоне возле Ньюбери — большой усадьбе с десятью спальнями, словно ничего и не изменилось.
Какие беды ни обрушивались на Мосли, у него оставалось достаточно денег, чтобы хорошо устроиться — он заплатил зооо фунтов за Крукс Истон — и нанять слуг. Диана проворно обустроила дом для своего короля, в штат прислуги приняли и замечательную кухарку, прежде готовившую Джеральду Бернерсу. Мосли купил корову. У них имелись собственные овощи и яйца от Сидни. Потянулись визитеры. Нэнси тут же попросилась погостить; Памела; Том после Италии; Дебора, вернувшаяся в Свинбрук (Эндрю был на военной службе); дети, включая троих отпрысков Мосли от первого брака. Приезжали и друзья, в том числе Осберт Ситуэл, — он писал: «Подвергаться несправедливым лишениям, как это случилось с вами, невыносимо» — и Бернере, который при виде полицейского эскорта Дианы пошутил, что только она в это время может себе позволить двух лакеев. Джон Бетжемен позднее нашел подготовительную школу, готовую принять двух мальчишек с фамилией самого дьявола. Они жили словно на острове, домашний арест сочетался с почти тотальным остракизмом. Мосли запретили иметь машину и отлучаться более чем на семь миль в любом направлении. И все же они вернулись, пусть в малых масштабах, к той космополитической, неузколобой цивилизации, которую Диана любила — отказываясь при этом отречься от идущих вразрез с этим укладом политических убеждений.
Это не просто парадокс, это явная бессмыслица, но Диана не собиралась меняться. Она бы и не смогла, даже если бы захотела, потому что Мосли был для нее всем. Из-за него в Крукс Истон не приглашали давнего друга Рэндольфа Черчилля. «С чего это они рады Бернерсу, а меня видеть не хотят?» — спрашивал он Нэнси. Ответ прост: отец Рэндольфа настоял на войне с Германией, Черчилля Мосли считал косвенной причиной своего и Дианы заключения, и, даже несмотря на дружбу с Климентиной, Сидни тоже считала Черчилля виновным. Нелепость, конечно. Это Рэндольф привез распоряжение поселить супругов Мосли вместе в Холлоуэе, а его отец вытащил их из тюрьмы. И все же Мосли так никогда и не простит Черчилля, в котором видел главного, дьявольского агента своего политического падения, а потому не прощала и Диана, к которой Черчилль всегда относился с большой нежностью. В 1940-м она тонко высмеяла его перед Совещательным комитетом: «Полагаю, по своему характеру он склонен к войне и всегда считал себя великим вождем». Ее мнение разделяли очень многие, и, возможно, оно не так уж далеко от истины. Но и через десять лет после войны, когда разорение значительной части Европы — как и предсказывал Мосли — было очевидным и на Востоке восторжествовал коммунизм, Диана воткнула в Черчилля нож со всей присущей ей изысканной яростью. В рецензии на его мемуары о войне она писала: «Он желает продемонстрировать миру, сколь великие усилия он приложил в последний год войны, чтобы избежать последствий собственных колоссальных ошибок». Она утверждала, что, сосредоточившись на единственной цели — одолеть Гитлера, Черчилль проморгал «намерения русских в Европе», что война за свободу Польши от нацистов означала передачу ее Советам‹40›. Это небессмысленное замечание. Но при этом Диана вынуждена была закрывать глаза на многие вопросы, не имеющие ответа.
Приходилось закрывать глаза и Сидни, которая так и не признала необходимость этой войны. Возможно, как и Диана, она считала, что слишком многое потеряет от такого признания. Какие бы конфликты ни происходили в семье, она старалась жить и верить, что родственные связи окажутся сильнее. В отчете Джессике о Рождестве 1943-го она ухитрилась избежать всякого упоминания о Мосли. Возможно, пытаясь подыграть дочери выражением эгалитарных взглядов, она мимоходом замечала, что мало кому захочется теперь вернуться в «дом, полный слуг». (На самом деле многие только об этом и мечтали, в том числе Диана, — да и послевоенные романы той же Агаты Кристи передают прямо-таки одержимое стремление найти хорошую прислугу.) «Носить уголь, топить камин и прочие повседневные домашние дела даются так легко и быстро», — писала Сидни и, вероятно, не кривила душой. Ей исполнилось шестьдесят три года, и она, казалось, была обречена на пожизненное заключение с Юнити. Однако погруженность в дела, сопряженная с войной, подходила ей. Такая талантливая женщина — пожалуй, брак с красивым, но странноватым Дэвидом был не самой удачной точкой приложения ее сил. Сегодня она стала бы гендиректором, хладнокровно решающим любые проблемы (в число которых едва ли попали бы семеро непростых детей).
И тем трогательнее — для такой необыкновенно сильной женщины — умоляющие письма к Джессике. Ей так важно было не отпустить эту дочь, не лишиться ее навеки, что она терпела и выпады против своей любимицы Дианы. Просто делала вид, будто ничего не заметила.
Возможно, это схоже с той позицией, которую она заняла, когда Юнити настояла на своем праве жить в Мюнхене: лучше благосклонно отпустить дочь и позволить ей поступать как пожелает, лишь бы ее не потерять. Сидни обычно придерживалась со своими девочками таких правил. Можно считать это уклончивостью и даже прямым отказом от конфронтации, а можно назвать иначе — отважной готовностью к трудным компромиссам. Так или иначе это отношение никогда не распространялось на Нэнси, трудную старшую дочь, которая ворвалась с криком в жизнь юной, не готовой к материнству Сидни и была сплошным искушением. Нэнси, конечно, преувеличивает, когда утверждает, будто мать ее недолюбливала. Однако представить, чтобы Сидни писала ей в том же духе, в каком она обращалась к Джессике, едва ли возможно, хотя Нэнси — мягкая под внешней металлической оболочкой — оказалась бы и более отзывчивой.
Джессика даже не ответила на рассказ о семейном Рождестве, и Сидни пришлось писать ей снова. На этот раз она получила ответ с сокрушительным итогом: «Я не стала тебе писать… потому что ты не сообщила мне о Мосли. Я прочла в газете, что теперь они живут в Шиптоне [там находилась „Бритая макушка“], и, полагаю, ты с ними видишься. Мне было противно, когда их отпустили… я считала предательством писать кому-либо, имевшему с ними дело. Правда, я понимаю, как тебе трудно, и это не твоя вина»‹41›. А это уже бред. Мосли не были виновниками этой войны. Да, они поддерживали до войны антисемитизм, что само по себе непростительно, однако в их личной жизни эти мрачные установки никак не реализовались. Компартия, в которую Джессика успела вступить, тоже убивала — от знания об этом Джессика не могла закрыться полностью — и имела авторитарные тенденции. Джессика не хуже Дианы умела оставлять без ответа самые трудные вопросы — лишь бы сохранить слепую веру. Поразительно сходство этих двух сестер, каждая из которых цеплялась за веру столь же иллюзорную, как богослужения Юнити в часовне на Инч-Кеннет. Разве что Диана в отличие от сестры умела прощать. Годы спустя она писала Деборе, что не забывает публичные заявления Джессики после освобождения Мосли — «в самом безумном кошмаре я не могла бы вообразить себя способной так высказаться о любом из ее мужей», — но у нее не было желания отомстить или как-то поквитаться.
Джессика понесла тяжелую утрату, Эсмонд погиб. Но мыслительный процесс, в результате которого она возложила вину на Диану, абсурден: по такой логике Нэнси могла бы упрекать Диану в 1941-м, когда обожаемый Роберт Байрон утонул вместе с торпедированным кораблем. Да, конечно, это не такая страшная потеря, хотя мать Байрона и писала Нэнси: «Тебя он любил больше всех». Но принцип тот же: если Диана символически ответственна за одну смерть, она ответственна и за все смерти, а также за то, что Марк Огилви-Грант томился в немецкой тюрьме, а Хэмиш Сент-Клер попал в плен под Тобруком. Насмешливые эстеты сделались воинами, и юноши, танцевавшие с Деборой, ушли на фронт. В 1944-м погибло четверо ее лучших друзей. В тот же год был убит брат ее мужа Билли Хартингтон — в двадцать шесть лет. Он участвовал в высадке союзников, во главе батальона пересек границу с Бельгией — и пал, сраженный пулей в сердце.
За четыре месяца до того Билли женился на Кэтлин Кеннеди (Кик), сестре Джека, подруге Деборы со времен ее дебюта в свете. Влюбленным пришлось бороться почти как Ромео и Джульетте за право быть вместе: Девонширы принадлежали к «черным протестантам», а Кеннеди — ирландские католики. В итоге пришли к соглашению: мальчики будут воспитаны в протестантской вере, а девочки в католической, и все же Роуз, мать Кик, крепкий орешек, до последнего сопротивлялась браку, сулившему ее дочери со временем титул герцогини Девонширской. Незадолго до свадьбы жених участвовал в дополнительных выборах — выдвигался в парламент от Дербишир-Уэста, округа, принадлежавшего семейству Кавендиш с XVI века. Однако, замечает Нэнси в «В поисках любви», землевладельцы с их верой в noblesse oblige уже утратили прежнее обаяние (только не в романах!). Лейбористы выиграли, что предвещало их победу на общих выборах через год. Дебора сокрушалась об этом, как и о смене правительства в 1945-м. Она подозрительно относилась к «любым социалистическим режимам и их претензиям» и не боялась заявлять об этом вслух. Поражение на выборах стало косвенной причиной смерти Билли. «Теперь я отправляюсь на фронт сражаться за вас!» — заявил он, когда огласили результаты, и женщина рядом с Деборой пробормотала: «Жаль его, такой высоченный парень. Готовая мишень». На самом деле превращению Билли в мишень способствовала дурацкая форма: светлые штаны и офицерская тросточка.
Эндрю, ставший наследником титула, в письме похвалил Дебору за то, что она вернулась в Рукери на землях Чэтсуорта вместе с Эммой (1943 г.р.) и новорожденным Перегрином (прозванным Кочегаром, и это имя так к нему и прилипло). Они станут величайшим утешением для его родителей, писал он. Дебора любила свекра и свекровь, хотя всегда почтительно именовала их герцогом и герцогиней. Однако удрученный горем герцог больше не приезжал в Чэтсуорт, появился только на свадьбе дочери. В том же письме Эндрю как бы между делом сообщает, что получил Военный крест — «совершенно незаслуженно». Типично для ее супруга, прокомментировала Дебора, он всегда преуменьшал собственные подвиги. Крест он получил за «бодрость духа и руководство людьми» в Италии, когда его рота пролежала тридцать шесть часов под обстрелом, не имея ни еды, ни питья.
С тех пор Дебора жила в постоянном страхе за Эндрю. «Знаешь, я теряю голову», — писала она Сидни, получив в декабре 1944-го известие, что он окончательно возвращается домой. За Питера Родда Нэнси переживала, хотя и не так сильно (следует помнить, что, являясь на побывку, он, как сообщал позднее Гарольд Эктон, «просил не говорить Нэнси о его пребывании в Лондоне»). В 1944-м он приезжал из Италии на Пасху. Там, сказал он Нэнси, «ад на земле». Джессике она писала обычным легкомысленным тоном, намекая на давнее семейное прозвище мужа: «Старый таможенник в действии».
Том Митфорд, сражавшийся в Ливии и Италии в составе Королевского стрелкового корпуса, вернулся в Англию в 1944-м майором. Он прошел обучение в армейском штабном колледже в Кэмберли, откуда ездил к Диане в Крукс Истон. В июле его отпустили в Лондон на побывку. Случайно они с Нэнси встретили у дверей Рица Джеймса Лиз-Милна. «Он чуть не обнял меня посреди улицы, — писал в дневнике Лиз-Милн, — назвал старым дорогим другом, самым старым и самым дорогим, очень нежно. Выглядит он моложе своих лет, исхудал, но все так же невероятно красив».
Именно тогда, за обедом с Лиз-Милном, Том признался в неугасших симпатиях к нацистским теориям. Он сказал, что лучшие из известных ему немцев — нацисты, и ему не хочется их убивать. При этом он не был (и не считался) антисемитом, скорее уж наоборот (как и его друг Янош фон Алмаши, нацист, но без всякой предвзятости по отношению к евреям). К тому времени русские успели освободить первые концлагеря, Собибор и Треблинку, так что парадокс признания, на которое Том решился под конец войны, можно объяснять только его глубокой любовью к Германии, к романтической идее германского духа, к Вагнеру более, чем к Гитлеру. И все равно это очень трудно понять. Непосредственный начальник, высоко ценивший Тома, признавал, что «иметь с ним дело было нелегко. У него были свои взгляды, которые он отстаивал умело и остроумно, и он терпеть не мог дураков». Возможно, именно эта твердость, сходная с качествами Дианы, неумолимо склоняла Тома к суровой вере. Лиз-Милн, любивший Митфордов, писал о Нэнси, которую любил меньше, чем других: «В ней есть черствость, доходящая до жестокости. — И добавлял: — Это общее у всех Митфордов, даже у Тома». И это правда, хотя при этом они были способны и на тепло, страсть, великодушие — все, что Джеймс обрел в любовнике своего отрочества; но была в них эта крепкая пружина, действовавшая на протяжении всей жизни. Она слышалась в их шутках и помогала выстоять под ударами, которые сокрушили бы всякого другого. У Нэнси это качество проявлялось очень ярко, хотя Лиз-Милн ошибался, полагая, что в ней его больше, чем в других, — это общее свойство всех Митфордов, только отец семейства был им обделен.
За ужином Том, сложный во всем, в том числе и в своей любовной жизни, сказал, что подумывает после войны жениться. Ведь он как-никак будущий лорд Ридсдейл, и, судя по состоянию его отца, этого будущего уже недолго ждать. Он перечислил всех своих женщин — с кем спал, кого мог бы полюбить и кто ему просто нравился — и просил у друга совета. «Будь я на месте одной из них и знай, как ты меня обсуждаешь, я бы не мечтал выходить за тебя замуж», — сказал ему Лиз-Милн. По его словам, Том «зашелся от смеха». И рядом с этой записью: «Грустно смотреть на Тома, он такой грустный!»
Том, предпочитавший драться с японцами, а не против немцев, отправился в конце 1944-го в Бирму. Он добился перевода из штаба в передовой батальон, писал домой веселые и полные решимости письма. В марте 1945-го он повел своих бойцов на небольшую группу японцев с пулеметами. Батальон пытался укрыться за какими-то листами ржавого железа, но такой защиты явно не было достаточно. Несколько пуль попали Тому в шею и плечи, но он оставался в сознании. Его успели доставить в полевой госпиталь. В нем, как и в Юнити, застряла пуля — в позвоночнике. Он был парализован, однако сохранялась надежда, что он останется в живых, и его перевели в другой госпиталь. Там он заболел пневмонией и умер 30 марта, тридцати шести лет.
Война все-таки нанесла Митфордам самый страшный удар.
9
Описывая Джессике Рождество 1943-го, Сидни заметила: «Ужасно быть в разлуке с Пулей. Очень надеюсь следующее Рождество провести с ним».
К 1944-му дела вроде бы пошли на лад. Диану выпустили из тюрьмы. Дэвиду сняли с глаз катаракты, операция прошла успешно, однако от очков с толстыми стеклами он не избавился (и выглядел, по отзыву Джеймса Лиз-Милна, «точно настройщик пианино»). Джессика вступила в новый удачный брак, получила американское гражданство и родила сына Николаса. Впервые за семь лет отец написал ей: «Просто хочу выразить тебе свою любовь и наилучшие пожелания ему и его будущему. Как-нибудь, когда все устроится, надеюсь увидеть вас всех. Судя по новостям и по тому, как обстоят дела, мне кажется, есть надежда, что столько я продержусь, — мне бы очень этого хотелось. С большой любовью, Пуля».
Сидни удалось хотя бы на время осуществить желание находиться рядом с мужем: Юнити допустили на Инч-Кеннет, и лето они провели на острове вместе. Но Дебора, приехавшая к ним в августе, аттестовала их отношения как «бедствие». Если Сидни и сожалела о крахе их долгого брака, то Дэвид — нисколько. Деборе показалось, что он возненавидел свою жену. Его экономка и «подруга» Маргарет заняла территорию столь же уверенно, как немцы оккупировали Францию. Занудная, неприветливая к сестрам Митфорд, она бралась разливать чай, демонстрируя Сидни, кто тут главный. Но сама ее заурядность и отсутствие политических взглядов были для Дэвида успокоительны. После ужина, за которым он сидел молча и угрюмо взирал на всех сквозь увеличивающие глаза линзы, а Маргарет изрекала банальности, эта пара удалялась на кухню вместе мыть посуду. Юнити вечно таскала мать и сестру в островную часовню, где вела службу, разыгрывая роль священника. Словно капризный ребенок, она обижалась и злилась, путаясь в словах Те Deum и Jubilate, и возвращалась домой одна, злобно топая ногами.
После этой попытки Сидни больше не приезжала на остров, пока там находился Дэвид, но они с Юнити как раз гостили там, когда от Дэвида из Лондона пришла телеграмма об опасном ранении Тома. Юнити утешалась мыслью, что брат сражается с японцами, не с немцами. Хотелось бы знать, обсуждали ли они с матерью происходящее в Германии, говорили ли о том, как Красная армия неумолимо приближается к Берлину, а дивный фюрер заперся в бункере… Бреслау был в осаде — тот самый город, где семь лет назад Юнити любовалась парадом, 150 000 человек, по ее подсчетам, прошли мимо трибун, славя своего вождя. («Я думала: едва ли мне выпадет еще когда-нибудь увидеть подобные сцены!» — писала она в экстазе Диане.) Что думала Сидни об уютном чаепитии на квартире у Гитлера — теперь, когда видела в документальной съемке дряблые, словно резиновые, трупы, штабелями лежащие в ямах? Она об этом никогда не заговаривала, насколько нам известно, — таков был ее способ самозащиты, подобно тому как Юнити наотрез отрицала саму возможность массовых убийств под руководством ее старого приятеля Гиммлера. Мы также не знаем, позволяла ли себе Сидни надеяться в марте, что Тома удастся спасти. Какое-то время после получения телеграммы она в это верила. «Проходили дни, — писала она Джессике, — и надежда крепла. Поэтому шок, когда все так обернулось, оказался столь ужасным, что я чуть с ума не сошла. — И добавила: — Мне пришлось учиться у тебя, дорогая. Твоя великая отвага могла бы послужить примером каждому, но ты всегда была храброй маленькой Ди».
Презрев правило, ограничивавшее ее перемещения семимильным радиусом с центром в Крукс Истон, Диана, едва получив известие о Томе, сразу наняла даймлер и вместе с Мосли поехала на Ратленд-гейт. (Полицейская охрана ехала следом.) Там она застала Нэнси с Питером, Дебору с Эндрю, Пэм, старую няню Блор и родителей — беда поневоле свела их. Диана тринадцать лет не виделась с отцом, но вошла в комнату — энергичная, уверенная, без смущения и колебания, — и он нежно ее приветствовал. По сообщению Джеймса Лиз-Милна (со слов Нэнси), она «сразу же, как прежняя Диана, завладела сценой и всеобщим вниманием». Если бы Нэнси в такой момент была способна ревновать, она бы ощутила знакомый укол в сердце, — но этого не произошло. Тома она обожала и писала Джессике: «Это невыносимо — о Туд! — если б ты знала, каким милым, добрым и веселым он был в последнее время и на последней побывке».
Он был необходим этой семье — державшийся в тени, однако самый устойчивый ее полюс. Каковы бы ни были прочие их чувства, все сестры объединялись в любви к Тому, который умел дружить и с Мосли, и с Ромилли и пользовался уважением их обоих. Он погиб менее чем за пять месяцев до конца бойни. Если бы он не выбрал себе в противники японцев вместо немцев, он мог бы уцелеть.
Как Юнити, он пал жертвой мистического родства. «Завидую Тому, — сказала Юнити в один из моментов странных своих озарений, — он сейчас ведет захватывающий спор с доктором Джонсоном».
Пытаясь утешить Джессику, Нэнси писала ей: «Муля и Пуля просто замечательные, намного лучше, чем мы поначалу опасались». Это была неправда. Той же дочери Сидни писала, что ее муж «сильно сдал», но и это было недоговоркой. В смерти сына она не могла найти утешения у своего мужа. Он окончательно забился в свое логово, перебрался в Ридсдейл-коттедж в Нортумберленде вместе с той злосчастной Маргарет, оставив Сидни в одиночку ухаживать за Юнити. Странный конец для пары, в чьей совместной жизни было столько чарующей красоты, особенно в мире Астхола — мире английский сказки, населенном веселым и задорным выводком детей. С 1932-го, когда Диана разрушила свой брак ради Мосли, жизнь ее родителей шла под гору, и вот падение завершилось. Но даже сейчас, когда он, вероятно, в этом нуждался, Дэвид не сумел полностью примириться с Дианой. Он настаивал на том, чтобы проводить ее до машины — манеры все еще оставались при нем, — и она мягко напомнила: «Пуля, „этот Мосли“ ждет меня в автомобиле». И с тем Дэвид ее отпустил. Разрывы между Митфордами, которые Тому удалось бы, возможно, преодолеть, останься он в живых, теперь сделались вечными и неотменными, словно Берлинская стена, которую еще предстояло возвести, — а иные из разделений окажутся более долговечными, чем стена.
И Джессика тоже отвергла протянутую отцом руку. При жизни Тома Дэвид передал ему Инч-Кеннет, но Том не составил завещания — возможно, давал судьбе знак, что намерен пройти войну и вернуться живым, — так что по шотландскому закону остров перешел его сестрам. Они все решили передать его матери до конца ее жизни. Все — за исключением Джессики, сообщившей в письме, что желает пожертвовать свою долю компартии Англии «во искупление хотя бы части того зла, что причинили члены нашей семьи, в особенности супруги Мосли и Пуля, пока заседал в палате лордов». Очередной приступ черствости, а учитывая обстоятельства, при которых Джессике досталась ее доля Инч-Кеннета, еще и жестокий поступок — мало кто на такое решился бы. Да и глупость невероятная. Дэвид постарался объяснить поверенному Джессики, что на таком маленьком острове «будет при таких обстоятельствах неуютно» и членам семьи, и коммунистам. Да и коммунисты не желали связываться и явно считали всю эту затею безумием. Но Джессика по самой своей природе не могла дать задний ход. Ее участок земли стоил 500 фунтов, и она требовала от матери эту сумму — а лучше больше, — потому что «деньги — важное политическое оружие… и я не знаю, убедили ли тебя события последних десяти лет, как преступно было поддерживать Гитлера и политику умиротворения». Джессика, получившая новую должность в Объединенном антифашистском комитете помощи беженцам, стояла — чистая и неистовая — на стороне праведных сил. Поведение Красной армии в Берлине служило доказательством — для того времени, — что зло таится не только внутри нацизма, но в самой человеческой природе. Однако никто не пытался доказывать это Джессике, поскольку в ту пору никто не хотел с ней разговоривать. Лишь мать продолжала писать ей письма, будто ничего не замечая, поддерживая отношения со своей «маленькой Ди». В конце концов было решено, что жить на острове будет одна только Сидни, однако Джессика из политического принципа сохранит за собой свою долю.
На одной шестой Инч-Кеннета, как где-то на дальней от него стороне Европы, развевался теперь красный флаг.
Часть IV
И вот они, застывшие
словно мухи в янтаре:
щелкает камера,
и продолжается жизнь.
Нэнси Митфорд. В поисках любви (1945)1
Настал черед Нэнси заново создавать семью, которая уже перестала существовать. И превращать ее в долговечный английский миф.
Сама она тоже обитала теперь в ином мире, так далеко от прежнего, что даже смерть Тома не разрушила ее новое счастье. Наконец-то Нэнси встретила мужчину, который изменил ее жизнь, помог уйти от Митфордов к пейзажам своей мечты — не только книжным, но и вполне реальным французским пейзажам. И хотя любовь к Гастону Палевски тоже стала для Нэнси своего рода вассальной зависимостью, он, как это ни парадоксально, распахнул перед ней дверь к славной свободе.
Это случилось в сентябре 1942-го в саду клуба союзников на Парк-лейн: Нэнси представили Палевски, в ту пору сорока одного года, полковника (она всегда будет звать его Полковником) «Свободной Франции», главу кабинета при Шарле де Голле. Они познакомились примерно в тех же обстоятельствах, в каких Грейс, героиня «Благословения» (1951), встретила своего француза: Палевски побывал в Эфиопии одновременно с Питером Роддом и доставил известия о нем. В «Благословении» Шарль-Эдуард де Валюбер, принесший известия о женихе Грейс, — высокий, темноволосый, невероятно элегантный виконт, разумеется, владелец особняков и усадьб, — вскоре заявляет: «Пожалуй, я на вас женюсь». Реальность во многом была противоположностью вымыслу: Палевски был низкорослым, с жидкими усиками, плохой кожей, лысеющий, происходил от польских эмигрантов. У него имелась квартира на рю Бонапарт — и все. И он не мог жениться на Нэнси, даже если бы захотел: она была hors de combat[26]. Но ее чувства к нему в точности совпадают с теми, которыми писательница наделила Грейс: «Влюблена как никогда в жизни».
Палевски был дамским угодником, славился искусством соблазнения и все не насыщался. (В одном анекдоте рассказывается, как он пригласил к себе домой замужнюю светскую даму, предложив ей пообедать вместе, и вышел ее встречать полностью обнаженным.) Ни перед одним смазливым личиком он не мог устоять, а Нэнси благодаря усилиям Андре Руа сделалась очень яркой и привлекательной. Его манера с ней разговаривать, ухаживать представляла собой квинтэссенцию — удесятеренную — всего того, что Нэнси насмотрелась среди «вольных лягушатников». В атмосфере смешливой и формальной лести офицерского клуба она расцвела, но Палевски обладал редкой способностью сосредотачиваться. Стоило ему бросить взгляд на вновь прибывшую, еще стоящую в дверях — и женщина уже чувствовала себя избранной, единственной. «Фабрис разговаривал с ней, о ней, только ради нее…» — так Нэнси описывает первого появившегося в ее романах француза, того самого француза, Фабриса де Советер из «В поисках любви». Мужчину, который ворвался в жизнь Линды Рэдлет с такой же стремительной силой, как Палевски — в жизнь самой Нэнси.
«Линда чувствовала то, чего никогда раньше не испытывала ни к одному из мужчин, — сокрушительное физическое влечение. От этого кружилась голова, становилось страшно». Фабрис, как и Палевски, изображен невысоким, коренастым, внешне он вроде бы ничего особенного из себя не представляет. Он к тому же оказался (воспоминание о Пемберли) богатым герцогом. Но задолго до того, как Линда это узнала, она уже пала его добычей, решительно и безвозвратно — в точности как создавшая ее писательница. После Питера Родда, красивого и капризного, словно маленький мальчик, с его оскорбительными, напоказ, интрижками — наконец-то мужчина, и даже его поразительно самоуверенное обращение с женщинами было для Нэнси чем-то новым. Никогда раньше она и думать не думала, что любовь — такое веселье. Палевски умел развлекать и сам развлекался; церемонная французская манера обращения на «вы», утонченное знание Пруста и фарфоровый сервиз прекрасно сочетались с анархическим духом, который требовал от Нэнси такой же легкости и преображал ее — почти пугающе — в небывало живую женщину.
И для него она была чем-то новым, несхожим с крошками «Верониками, Шейлами и Брендами» (по выражению Фабриса), которые и страшились его репутации, и были им околдованы, и жадно о нем шептались над бокалом джина с лаймом. Нэнси была умной, нервной, столь же отрадно и очаровательно английской, как веджвудский чайный сервиз, но при этом держалась в стороне от светского общества, которое слишком хорошо знала, — и она уже услышала сирен, певших «Марсельезу». Под ее глянцем скрывался живой энтузиазм. Она оставалась до странности невинной, несмотря на роман с Андре Руа. Впрочем, этот роман уже растворился в дымном военном воздухе, да и был он тонкий, изысканный. Обе стороны были очень добры друг к другу, и мысль о погубленных фаллопиевых трубах Нэнси не испортила их отношения — взрослые, а не безумноромантические. Но Палевски сбил ее с ног, и Нэнси словно вернулась в юность: при всей своей осторожности, она принялась похваляться, сообщала гостям за ужином, что провела с ним «всю ночь», и получала наслаждение от их ужаса и восторга. Она позволяла ему заглядывать в свое сердце, словно в открытые карты, и играть по собственным правилам. Это были очень взрослые отношения, и она была к ним готова, но вихрь эмоций, который подхватил Нэнси и бросил в постель Палевски, где она переживала неведомые прежде наслаждения, оказался слишком велик и великолепен, чтобы его скрывать.
Она все еще не стала Софией из «Пирога с голубями», способной хладнокровно сохранять контроль, но стремиться к полному удовлетворению со своим ловким и лукавым возлюбленным. Скорее она — Линда, которой необходимо «все сказать». Не сестрам, они лишь отчасти были в курсе, хотя Питер Родд явно что-то почуял: вернувшись в Англию в 1944-м, ворвался к Хейвуду Хиллу, кипя праведным гневом. Как многие серийные прелюбодеи, он весьма расстроился, когда былая жертва вдруг обошла его в той же игре. «Он доводит Нэнси до крайности, — писал Джеймс Лиз-Милн, пообедав с этой парой в „Кларидже“, — и вынуждает до нелепости тревожиться о том, как бы ему угодить. С какой стати муж налагает такие обязательства на жену?» Нэнси от природы не была склонна изменять: при всем ее митфордианском легкомыслии Нэнси имела сильное чувство вины и даже правильности. Кроме того, она боялась, что внезапно вспыхнувшее в Питере собственническое чувство уничтожит ее роман. Да и в целом непонятно было, как могут продолжаться эти отношения: Палевски вернулся во Францию, ненадолго наведался в Лондон в июне 1944-го и снова отправился освобождать родину бок о бок со своим победоносным генералом. «Да, без Полковника я грущу, — писала Нэнси Вайолетт Хаммерсли (которая сначала жалобно спрашивала: „А как же Руа?“ — а затем призывала к осмотрительности), — но не думаю, что мне придется целый год дожидаться новой встречи…» Ему она написала столько писем, что он именовал их charmante avalanche grise[27] (Нэнси покупала серые конверты в «Харродс»). Шуточка ее обидела, и Полковник постарался загладить свою грубость. Однако Нэнси понимала, что она-то буквально в поисках любви. В погоне за любовью она l’une qui aime, в то время как он l’un qui se laisse aimer[28]. Он был человеком, которому она все «сказала».
В самом начале игры она допустила неверный ход. Когда в биографии мадам де Помпадур Нэнси пишет, что для успеха романа в нем должен доминировать мужчина, по-видимому, она пытается себя уверить, что правильно поступила, наделив такой властью Палевски. Их любовь не была взаимной и равной: Нэнси вкладывала в эти отношения гораздо больше, чем Полковник, и он это, разумеется, знал. Однако благодаря светской смеси gentillesse, уклончивости и опыта он отыскал тот баланс, который поддерживал их колеблющиеся качели в движении. «Я люблю тебя, Полковник», — говорила она, и он отвечал: «Я знаю». Да, это была игра, хотя Нэнси и приходилось платить партнеру и противнику больше, чем он стоил.
И все было не так уж просто. После знакомства с Палевски Нэнси ни разу не посмотрела на другого мужчину: можно сказать, в каком-то смысле он стал ее жизнью. В сентябре 1944-го, когда Полковник был уже во Франции, она писала матери: «Я бы все отдала ради того, чтобы жить в Париже». Почти через год она это осуществила — как и Джессика, вырвалась из объятий прошлого и ринулась в неизвестное будущее, где, чистой силой воли, добыла себе счастье. Нашелся и предлог: обеспечить Хейвуду Хиллу связи в Париже («продать „Сельские прогулки“ Коббета французам», по выражению Ивлина Во). То была ее собственная инициатива — ради Палевски.
«Я не могу жить без моего офицера, — писала она Диане, признаваясь и в другой причине переезда: — Жизнь здесь приятнее».
Возможно, она бы все равно уехала. Что у нее оставалось в Англии? Убитые горем родители, безнадежный инвалид сестра, неверный муж, серые развалины разбомбленного Лондона и повседневная работа в книжном магазине — ее позвали в партнеры, но как же ей надоело отсиживать с девяти до пяти. Что ж удивительного, если она влюбилась не только в мужчину, но и в мечту, мираж Парижа. И если она писала об Эдуарде де Валюбере, что он «вмещал в себя сорок французских королей», то таким же королем над королями она видела и Палевски. Будь он англичанином, едва ли ее любовь разгорелась бы с такой силой. Он воплощал мир Фрагонара, изящества, красоты и любезности, мир, ушедший в прошлое, — однако Нэнси стремилась вернуться в него, ибо теперь понимала, что он создан для таких, как она. Франция, описанная ею в «Благословении», — это Франция роскошных приемов, красивых, не затронутых войной людей, одержимых placement, с домами, полными имущества, чудесным образом уцелевшего при немцах, — и она всей душой верила в такую Францию. И даже нашла для себя такую личную Францию — в золоченом посольстве, где царила ее подруга леди Диана Купер (ее муж Дафф после войны был назначен послом), в модных домах Диора и Ланвина, в текстах Вольтера и Сен-Симона. И неважно, что это не слишком соответствовало реалиям Парижа. Как и Диана, Нэнси умела зажмуриться и не видеть то, чего не хотела видеть: последствий оккупации, расправу над коллаборационистами, женщин с выбритыми головами. Самый мощный дар Нэнси — воображение, а потому для нее блистательная Франция, где она обитала, была не иллюзией, но абсолютной истиной. «Они были все в точности как ОДИН, это безусловная истина», — писала она о дворе Людовика XV. Теперь она укрывалась в XVIII веке — рациональном, цивилизованном, умеющем развлекаться. Правда, этот век оставлял невостребованной ту часть ее натуры, что сформировалась в детстве — романтическую, эмоциональную, до мозга костей английскую.
Ею двигала вера во Францию — столь же сильная, как вера ее сестер в идеологию, — и это была вера писателя. Лишившись надежды иметь детей, Нэнси все больше вкладывалась в творчество, к которому, вероятно, изначально была предназначена, и внутри этого творчества расцветало ее чувство к Палевски — сколь бы подлинным оно ни было, на самом деле Нэнси дорожила литературными вариациями на тему этого чувства, тем ароматом роз под небом Парижа, что окутывает роман и саму жизнь Линды Рэдлет. Любовь всегда в какой-то мере — иллюзия. Взять хотя бы Диану и ее Мосли. Ни разу Нэнси не выбрала мужчину, с которым могла бы рассчитывать на спокойную, «нормальную» жизнь. У нее был шанс выйти замуж за сэра Хью Смайли, здравомыслящего, последовательного, богатого, но нет, тогда она раздувала в себе страсть к открытому гомосексуалу Хэмишу Сент-Клер-Эскину, а затем приняла небрежно брошенное предложение совсем уж негодного в мужья Питера Родда. Теперь же — Палевски, такой же принципиальный противник верности, к тому же откровенно предупредивший Нэнси: если она и получит развод, они не смогут пожениться, поскольку генерал де Голль против.
Так что же, Нэнси просто не умела выбирать мужчин? Такое предположение часто высказывалось. Или же не бывает «не умеющих выбирать», каждый связывается с тем, с кем хочет, и если упорно отыскивает «неправильного» партнера, значит — по неведомой нам причине — в том-то и состоял умысел? Опять-таки посмотрите на Диану: без Мосли ее жизнь была бы совсем другой и, с точки зрения постороннего, стократ лучше. Но уж если кто имел свободу выбора, так это она, — и она предпочла именно Мосли. Нэнси, с ее чрезвычайно привлекательной внешностью, тоже могла сделать «лучший» выбор — например, полюбить кого-то вроде Андре Руа, человека, способного справиться с ее «неженственными» мозгами и при этом безупречно с ней обращавшегося. Еще один офицер «Свободной Франции», князь де Бово-Краон, не на шутку ею увлекся («думаете ли вы обо мне хоть немножко?»), но не вызвал ответного интереса. Как будто еще не раскрывшиеся таланты Нэнси подталкивали ее — хотя она сама не осознавала — к мужчинам, которые предоставят ей свободу. «Если бы мне такое писали, меня бы стошнило, — откровенно заметила она после публикации неистовой и обильной словами любовной переписки лорда Керзона‹1›. — Господи, насколько же лучше уважительность Полковника». И хотя она так долго билась за свой брак, амбивалентное отношение к беременности в 1938 году — «2 Питера Родда в 1 доме немыслимо» — свидетельствует, что в тайных глубинах души она отвращалась от «нормальной» женской судьбы.
«Faute de mieux»[29]‹2›, суховато заметила Дебора по поводу той жизни, которую Нэнси в итоге себе построила, то есть жизни чрезвычайно успешного писателя. Сама Дебора — «полностью женщина», как она о себе говорила, — выбрала мужа, который мог дать ей правильную, безопасную, семейную обстановку, где несчастья были бы случайностью, а не естественной необходимостью. Нэнси выбирала именно тех мужчин, страдания от которых были гарантированы. Никакой нужды в этом не было. Но страдания были реальными.
Она чуть не покончила с собой из-за Хэмиша, терзалась обидой на Питера, ради Палевски впоследствии прошла через огонь — зато полностью было удовлетворено романтическое воображение, та часть ее натуры, которой питался писательский талант.
— О, Фабрис, я чувствую — ну, я думаю, такое иногда переживают верующие.
Она уронила голову ему на плечо, и они долго сидели в молчании.
Еще в 1942-м, под бомбежками, Нэнси принялась писать то, что именовала «автобиографией». Роман «В поисках любви» посвящен Палевски, вдохновившему пронзительные поздние отрывки, но написан для него, а не из-за него. В октябре 1944-го ей предложили партнерство у Хейвуда Хилла, чем она затем воспользуется для поездки в Париж, но тогда Нэнси отмахнулась от предложения и предпочла подождать до конца войны. В тот момент ей важнее была собственная книга: «Пальцы так и тянутся к перу». Она взяла отпуск на три месяца — и роман целиком излился на бумагу. Тут, пожалуй, все-таки сказалось влияние Палевски. Он подсказал ей, как писать «В поисках любви», подсказал эту великолепную прямоту изложения. «Racontez — racontez»[30], — говорит Фабрис Линде, побуждая ее передавать семейные истории «напевной интонацией Рэдлетов». «Lafamille Mitfordfait majoie» [31], — говорил Палевски Нэнси, когда она, подобно Шахерезаде, чаровала его на первых стадиях сближения, в те вечера, что они проводили вдвоем в ее квартире в Майда-вейл, куда француз проникал через окно, насвистывая мелодии Курта Вайля. С необычайной и как бы детской ясностью, сорочьим инстинктом подбирать блестящие детали она создавала для снисходительного, ироничного, утомленного войной возлюбленного волшебную английскую сказку своего безвозвратного детства. И этот «сказ», прямое повествование от первого лица, стал тем ключом, что отомкнул двери ее таланта. Впервые Нэнси обошлась без особых приемов, за исключением писательского фокуса — подкорректировать факты, создав свою истину. Она рассказала собственную историю на свой особый лад, и силой искусства семья Митфорд сделалась бессмертной.
2
«Опять это семейство», — ворчала Сидни в письме к Джессике, ознакомившись с первыми главами «В поисках любви». Оптимизм Нэнси, рассчитывавшей на тысячу фунтов гонорара, она не разделяла. (На самом деле за первые же шесть месяцев книга принесла 7000 фунтов: «На меня пролился золотой дождь».)
Отец «плакал над концовкой», сообщала Нэнси Джону Бетжемену: «Когда-то он прочел грустную книгу под названием „Тэсс из рода Д’Эрбервиллей“ и надеялся, что никогда больше не придется читать подобного». Вероятно, тронул его сердце и прекрасный двойник, дядя Мэтью, человек, каким он отчасти был. И то чудо преображения, силой которого к Митфордам вернулась радость жизни, и они помчались, резвые, как зайцы, по землям, которыми Дэвид прежде владел.
Чего Сидни не видела — и не пыталась увидеть, — это что книга лучше всяких публичных выступлений смывала пятна с репутации семьи. По мере того как «В поисках любви» читали сотни тысяч читателей, где голос автора звучал столь же приятно-знакомо, как голос Ноэля Кауарда, имя «Митфорды» превращалось в символ «Мира, описанного Нэнси». Шарм, «сливочный английский шарм» (бессмертная фраза Во), восторжествует над политикой. Медленно, шаг за шагом, свастика Юнити низводилась до аристократической причуды, Диана изображалась загадочно-невозмутимой и образцово-стильной блондинкой, а Джессика, Роза Люксембург с хорошеньким девичьим личиком, проповедовала товарищам тоном капитана команды по лакроссу в Бенендене. Но «В поисках любви» — более глубокая книга, чем может показаться на первый взгляд. Рассказывая историю семьи, Нэнси также выстраивает и собственную жизненную философию. Среди фурора, последовавшего за публикацией в декабре 1945-го (говоря современным языком, книга сразу стала хитом), требовалась проницательность Джона Бетжемена, чтобы это увидеть: «Ого, а ты умна, старушенция!» Как полагается истинному искусству, эта книга содержит в своем средоточии парадокс, и рядом с преизобильной верой в радость тихо тлеет элегическая меланхолия. В этом и состояла религия Нэнси, отважное кредо: счастье мы выбираем сами. Это убеждение высказывалось почти легкомысленно, однако принималось всерьез.
В этом заключался ее великий дар семье: книга причащала Митфордов этой вере. Конечно, пришлось многое выпустить, например, роман «В поисках любви» обошелся без Юнити и без Дианы; война здесь присутствует, но шар-баба, раздробившая семью Нэнси в тридцатые, на Рэдлетов обрушивается не столь губительно. Мятеж против родителей изображается коллективным актом юной глупости. «В тот год родители наших сверстников утешались словами: „Это еще ничего. Вы посмотрите на бедняжек из Алконли“».
Один годик в аду? Если бы этим дело и ограничивалось. Последствия митфордианских мятежей все еще чувствовались, когда продолжалось послевоенное рационирование продуктов. Даже в 1947-м на двери лондонской квартиры Дианы на Долфин-сквер появлялись злобные надписи. Мосли предоставили горячую линию полиции на случай нападения. Оба они оставались париями. Ивлин Во, некогда благоговейно склонявшийся перед беременным животом Дианы Гиннесс, на тактичную попытку возобновить отношения ответил со всей вежливостью («как приятно получить от вас письмо, я часто о вас думаю»), но предпочел ограничить свой дружеский круг одной Нэнси. «Ты не должна говорить, что у тебя дурная слава и ты вышла из моды, мне тяжело это слышать, — писала Нэнси сестре. — Нет никого столь красивого и любимого».
Диана и правда сохраняла невозмутимость богини — только дорогой ценой. После гибели Тома она снова заболела. Сказывались последствия тюремного заключения, снились кошмары: будто ее вновь разлучали с сыновьями и бросали в Холлоуэй. Винить Мосли, как поступила бы почти всякая, было немыслимо. Вскоре начались мучительные мигрени, которые преследовали ее до конца жизни; каждая из них, конечно, была выражением подавленных и глубоко затаенных чувств. Мосли тем временем продал Сейвхей и прикупил дом в Уилтшире — Кровуд — с немалым количеством земли. Ради этой покупки он попросил Диану вернуть подаренные ей семейные драгоценности и выставил их на аукцион. Диана подчинилась даже без вздоха.
Но более всего Мосли жаждал вернуться в политику, и, что ни говори, остается лишь восхищаться его жизнестойкостью и энергией. Возможно, главный талант Мосли заключался в способности неизменно верить в собственную правоту относительно всего на свете. Его сын Макс позднее скажет, что Мосли после войны отрекся от фашизма‹3›, и у нас нет оснований сомневаться в искренности его слов:
Макс, как и его мать, от природы правдив. Кроме того, Макс Мосли — демократ, хотя в молодости и поддерживал отца в политике. Но у Мосли-старшего всегда была одна беда: хотя его голова была логичной — как видно из текстов и даже некоторых речей, — поступки оставались демонстративными, театрализованными и до крайности нетонкими. В ноябре 1947-го Мосли заявил о намерении основать новую партию, Юнионистское движение. Примерно за десять лет до Римского договора оно выступало за союз европейских народов. Но на этом Мосли не остановился и предложил выселить евреев, которые не успели пустить в Англии корни «скажем, в трех поколениях». Куда? Видимо, в только что созданное новое государство — Израиль.
В мае 1948-го Диана писала Нэнси, что побывала на собрании в тех местах, где Мосли устраивал заварушки до войны, — в лондонском Ист-Энде (ох, как же власти пожалели, что сняли с Мосли запрет удаляться от дома более чем на семь миль). Мероприятие охраняла полиция, но «мы то и дело чуть не попадали в пугающую процессию молодых и сильных на вид евреев, распевавших „Мосли долой“». В этом мероприятии вряд ли были какие-то отличия от прежних. Раньше сторонники из БС скакали вокруг мерцающего огня, хотя более всего звуками голоса Мосли упивался, конечно, он сам. Диана же вполне понимала, что время ее мужа в политике миновало безвозвратно. Тем не менее она крепко держалась за своего могучего Озиманда и в этих блистательных руинах почти полной изоляции.
В ту пору наиболее интенсивную переписку Диана вела с Нэнси. Их частые письма были полны доброжелательства и взаимной лести. Возможно, причина в том, что в кои-то веки преимущество было на стороне старшей сестры. После пары кочевых лет, когда она металась между Лондоном и съемными квартирами в Париже, она теперь — деньги существенно облегчили жизнь — поселилась в прелестной квартирке в Седьмом округе (рю Месье, 25 фунтов в неделю), красовалась в изысканных и новомодных нарядах, общалась с gratin[32] и с теми, кто стимулировал ее фантастическое остроумие (Куперы, Кокто, Кауард). «Она и впрямь краса Парижа», — великодушно передавала Диана сестре чей-то отзыв. У Дианы же Нэнси искала убежища на несколько месяцев в 1947-м, когда посвящение «В поисках любви» Палевски — а он сам недвусмысленно ее об этом просил — вдруг оказалось угрозой для его политической карьеры. Нэнси очень из-за этого переживала, тем более что не знала за собой никакой вины, однако не могла говорить об этом вслух.
Пусть несколько иначе, но и Диана занимала такое же зависимое положение в паре с Мосли: чего Мосли хотел, то и делалось. Она это так не воспринимала, поскольку сама выбрала эту роль. Готовность закрывать на все глаза и улыбаться — сквозь все капризы, и требования, и неверности мужа — было ее сознательным решением. За все приходится платить, но, по крайней мере, Диана всегда чувствовала себя любимой и необходимой, и это была правда. Вот почему отношения сестры с Палевски ей казались гораздо более трагическими, чем собственный брак. «Мне кажется, — говорила она потом, — он всегда чуть-чуть надеялся, что она вернется» (в Лондон)‹4›. Что касается скандала с посвящением, из-за которого покорная Нэнси покинула Париж и удалилась в недолгую ссылку, Диана была уверена, что Палевски наполовину выдумал эту проблему. Левая газета, собиравшаяся публиковать опасную статью под заголовком «Сестра любовницы Гитлера посвящает книгу Палевски», бастовала (о чем Палевски должен был знать), и статья так и не появилась. «Я ее не читала, — признавалась Нэнси Диане, — Полковник не позволил. Видимо, она слишком ужасна…» В данном случае она верила ему безоглядно. Другая женщина, более искушенная в любовных делах, могла бы что-то и заподозрить, когда Палевски выпроводил ее из страны, уверяя, что де Голль (выполнявший роль символического меча между ними) очень расстроен. Нэнси, похоже, полностью обманулась.
Но она сама выбирала себе роль, и можно утверждать, что при всех «ужасах любви» эти отношения причиняли ей меньше боли, чем Диане — зависимость от Мосли. Жизнь Нэнси волшебно преобразилась. «Встречает она тебя в платье от Диора, талия тонкая, того гляди, переломится» — так Ивлин Во описывал свою подругу и постоянную корреспондентку в декорациях рю Месье. «Осиная у нее только талия, в прочем — сплошной мед, счастье, легкость невыразимая»‹5›. Ее писательский статус укрепился в 1949-м с публикацией второго шедевра, «Любви в холодном климате», и достиг высот, о которых многие писатели могут только мечтать, когда любое произведение принимается с восторгом и провал уже немыслим. Ее светская жизнь — вихрь и блеск. Даже энергичные ежедневные прогулки по серым седым бульварам, когда Нэнси рассыпала всем встречным улыбки и бонжуры, доставляли ей искреннее удовольствие. «Я чувствую себя уж слишком победительницей», — писала она Диане в 1949-м. Неужто эту прекрасную жизнь мог испортить спотыкливый роман с Палевски?
Усложнило жизнь Нэнси угрюмое явление — вот уж кого не ждали — Питера Родда, который вздумал в 1948-м угнездиться в ее квартире — возможно, с расчетом, что жена откупится от него. Как-то вечером она ужинала с Роддом и его унылыми племянниками в ресторане и увидела за соседним столиком Палевски с какой-то дамой. Нэнси поддалась нетипичной для нее истерике: ей вздумалось, будто Палевски сделал спутнице предложение. Вернувшись домой, она кинулась ему звонить и на следующее утро усугубила ошибку, позвонив с извинениями. «Права страсти провозглашены Французской революцией», — ответил ее возлюбленный — добрый, взрослый ответ, разрядивший неловкую ситуацию, но в то же время спокойно и отстраненно подтвердивший, что на ее любовь он никогда не отвечал полной взаимностью. И Нэнси не была бы Нэнси, если бы не использовала эту фразу в «Благословении», где ее героиня Грэйс предъявляет примерно такой же счет неверному мужу, — хотя разница очевидна (муж есть муж). «Я бы не вынесла, если бы он женился на другой, — писала Нэнси Диане. — Он говорит, я отношусь к браку, словно романистка [так и было], что если он и женится, то лишь ради того, чтобы обзавестись детьми, а для нас это ничего не изменит».
Но здесь-то и коренилась еще одна проблема: Нэнси была бесплодна. Теоретически можно предположить, что будь она моложе и способна иметь детей — как королевская невеста, — Палевски мог бы подумать о браке с ней. (Он к тому же твердил, что де Голль против разводов, хотя и это, скорее всего, отговорка.) По правде говоря, маловероятно, чтобы Палевски сделал ее своей женой даже в этом случае, однако Нэнси много лет терзалась такими сожалениями.
Диана, однако, считала бесплодие сестры трагедией независимо от планов Палевски. Неожиданно традиционный взгляд для столь яростной радикалки, но такова была ее вера. Диана полагала, что воля Нэнси к счастью отважна, но не более чем витрина (не подлинная философия жизни). Неумолимый, едкий юмор сестры, требование шутить даже по пути на эшафот Диана считала «беспомощным»‹6›. Это яркий и тщательно отполированный панцирь, под которым, утверждала Диана, таились тьма, отчаяние и злоба — подлинная Нэнси. Так она воспринимала свою сестру вопреки семейным узам и даже прежде, чем ей стало известно, что во время войны та донесла на нее, — подозрительность Дианы пробудили уже «Чепчики». Эту книгу, с подачи Мосли, она рассматривала как предательство. Узнав о более серьезном предательстве, Диана, естественно, почувствовала себя вправе мстить. «Диана возненавидела Нэнси»‹7›, — отмечал один из близких ей людей под конец жизни Дианы. И это опять-таки правда, но не вся.
Нэнси в самом деле порой шипела и плевалась ядом, словно внутри нее свернулась клубком змея. «Моя мать говорила, что Нэнси втыкает в людей ножи»‹8›, — вспоминала Диана (выражение в духе Сидни; хотя если желчь Нэнси вызвана недостатком любви, то отчасти ответственность за это несет ее мать). Джеймс Лиз-Милн писал, что ее реплики содержали «маленькие и острые, почти нескрываемые шипы». Подчас можно было только диву даваться. Когда в 1946-м у Деборы после перелета случился выкидыш, Нэнси писала Диане: «Перелеты почти всегда этим заканчиваются, пора бы это знать, но, может, она того и добивалась». Даже в Диану, свою на тот момент самую любимую сестру, Нэнси вонзала ядовитые иглы. В 1947-м она осведомлялась, пройдет ли свадебная процессия будущей королевы Елизаветы, в ту пору еще принцессы, мимо ее дома или «там будет остановка 18В». Действительно, забавная шутка. Вот только недобрая.
И все же Нэнси бывала и доброй, и великодушной, и прощающей. Из всех сестер в ней «больше всего тепла», говорил Бетжемен, а с его суждением надо считаться. Она была очень добра к детям Дианы и Деборы. Сын Дианы, умный и проницательный Александр, запомнил ее как «замечательную тетю… замечательного в общении человека»‹9›. И к Палевски: «Я знаю, говорить это запрещено, и все же я тебя люблю». Она являла такую способность любить, на какую мало кто из мужчин мог бы ответить равным чувством. Дебора говорила о «величайшей отваге»‹10› сестры: она сумела сублимировать чувства, позволить романтическим грезам расцвести в воображении и в то же время вполне рационально искать самый прямой путь к счастью. Ее внезапные выплески желчи были побочным продуктом, а не главным свойством. Хотя Диана полагала, что это самое глубинное качество Нэнси, прикрытое слоями millefeuilles[33] изысканности. «Разумеется, — писала она Деборе, — мы понимаем, что это последствия ее несчастливой жизни, и я вовсе не виню…»‹11› Дебору эта тема не так сильно волновала, но в целом и она признавала внутреннюю пустоту старшей сестры. После смерти Нэнси она с горечью и гневом писала: «Думаю, у нее была СКВЕРНАЯ жизнь… Конечно, она добилась успеха в литературе, но что это по сравнению с такими вещами, как настоящий муж, возлюбленный и дети»‹12›.
Трудно сказать, сильно ли страдала сама Нэнси от того, что лишилась «женской» судьбы. Она была очень закрытой. И даже слова Полковнику о своей страсти отчасти были отвлекающим маневром. Поскольку в то время сестрам доверялось далеко не все — они знали о существовании Палевски, но не о подлинной, сложной сути их отношений, — они не могли и судить о чувствах Нэнси. Разумеется, со стороны это выглядело печально, но любовные романы других людей часто именно так и выглядят со стороны. Женщина сорока с лишним лет бессмысленно страдает по мужчине, который отводит ей небольшую щелочку между генералом де Голлем и всякой сочной грушей, разрешавшей себя пощупать? Как грустно, как глупо и как жалко! Но ведь это не вся правда. Нэнси в самом деле прошла через мучения недооцененной любви, но считала себя в выигрыше: Палевски доставлял ей несравненную радость и на свой лад любил. Он наслаждался общением с ней — нелегко было отыскать равную ей в этом смысле. Что же касается бездетности, мысли Нэнси на сей счет не были последовательными. Тут были и невыразимая боль, и огромное облегчение. Но очевидно, что привыкнуть и смириться она так и не смогла, и грубая шутка насчет очередного выкидыша Деборы свидетельствует о ее собственной незажившей ране. Ивлину Во она писала: «Не стоит колоть мне глаза бездетностью, это идея Бога, а не моя»‹13›. Однако из этого не следует, что жизнь, которую она себе построила, была всего лишь компенсацией; женщины с детьми порой склонны так думать, но они не всегда правы.
Возможно, сестры не осознавали принципиального отличия Нэнси: она была творческим человеком, писателем, то есть наиболее интенсивно жила в своей голове. «Н. целиком прожила свою жизнь в мире грез», — напишет потом Дебора Диане так, словно это довольно-таки печально. Однако плоды воображения Нэнси были для нее реальны — вот чего сестры не могли постичь. История любви Фабриса де Советер и Линды Рэдлет трогательна и сама по себе, и тем, как радикально отличается от своего прототипа. Нэнси, быть может, и печалилась об этом, и все же писательнице Фабрис и Линда доставили то удовлетворение, на которое невозможно рассчитывать в реальной жизни. Вероятно, она говорила правду, когда утверждала, что вполне счастлива, пусть со стороны это и казалось невозможным, но такова была сила иллюзии, которой Нэнси владела. Такова была воля к радости, и напрасно Диана не верила. Послевоенная переписка с Ивлином Во весьма показательна: трудно сказать, кто из них остроумнее, и все же Ивлин достигает сюрреалистических высот суховатого, депрессивного, насмешливого юмора, в то время как Нэнси мечет стрелы с такой воздушной легкостью и веселостью, которую невозможно подделать.
И с ее двумя изысканными романами дело обстоит точно так же. Хотя они с полной ясностью отражают мир, это уже не сатира, как первые четыре книги (в меньшей степени «Пирог с голубями»). По своему складу Нэнси не социальный критик, она ближе к Бенсону, чем к Ивлину Во, и в этих двух шедеврах оценка отсутствует полностью. Она не судит ни Боя Дагдейла, который относится к сексу примерно как к оригами, ни гомосексуала Седрика Хемптона, который не упустит свой шанс. Эти книги пронизаны радостным принятием, прямо-таки искрящимся восторгом от жизни. Это позитивные книги, несмотря на отдельные трагические повороты сюжета. Некоторые вещи писатель не в силах утаить: «Чепчики в воздух» выдают разочарование супружеством, — и мы видим, что в пору зрелости Нэнси обычно не чувствовала себя несчастной. «София находила жизнь довольно увлекательной», вот именно. Да, Нэнси мечтала о совместном блаженстве с Гастоном Палевски, но не в той форме, какую могли бы вообразить себе ее сестры. А вот Фанни, глядящая на жизнь глазами своей создательницы, в романе «В поисках любви» сравнивает счастливую семейную жизнь с «бесконечными булавочными уколами»: няни, дети, шум, скука, быт, капризы мужа. «Это непременные элементы брака, хлеб жизни из муки грубого помола — обыденный, простой, но питательный. Линда питалась манной небесной, но на такой диете долго не проживешь».
И не странно ли слышать от Дианы, что Нэнси была обделена? Разве — как и в случае Дианы и Джессики — сестры так уж сильно друг от друга отличались? «Я жертвую всем — семьей, друзьями, родиной», — крикнула Нэнси Палевски, на что он ответил взрывом смеха. И это чистая правда. Это следует сказать о Диане, и тут уж особо не посмеешься. Брак с Мосли навлек на нее осуждение общества, тюрьму, мучительную необходимость терпеть его интрижки, которые возобновились в 1950-е годы, — и вот это уже омерзительно. (С другой стороны, доказывает, что даже тогда Мосли покорял женщин.) Сыновья Дианы — бесценное сокровище, но за младших, особенно за Александра, пришлось биться с мужем, и это единственное, в чем она отказывалась ему покориться. Так была ли достаточной наградой за все, что Диана отдавала мужу, его любовь — глубокая, но и глубоко эгоистичная? Не проходят ли ее мучительные мигрени по тому же разряду, что внезапные вспышки злобы у Нэнси — неизбежные разрывы в ткани иллюзий? Не то чтобы иллюзия — непременно зло, но ее не всегда удается удержать. И Диана и Нэнси предпочитали жить именно так: ум отдельно, а сердце отдельно. И как раз из-за этого фундаментального сходства так явно выпирают различия: Диана всегда была верной, редко поддавалась злобе и при любых обстоятельствах себя контролировала.
Особо следует отметить, что Диана охотно прощала Джессике поведение, за которое проклинала Нэнси, — и это при том, что Джессика упорствовала в своем противостоянии сестре-фашистке. «Публичная Декка — существо до крайности черствое и жесткое, — писала Диана Деборе. Но уточняла: — А в личном общении Декка есть Декка». Поразительные слова, если учесть, как Джессика обходилась с Дианой. Полная противоположность суду над Нэнси, которую Диана считала приятной в общении — но с холодной, как у ящерицы, кровью. И пугающе схоже с тем, как Джессика прощала Юнити, но не могла то же самое простить Диане. Иными словами, две королевы среди сестер Митфорд подвергались суду сообразно своей доминации — с резкостью, которая не распространялась на прочих членов семьи.
В то же время — типично для сложной сестринской игры — Нэнси и Диана вступили в заговор против Джессики, дружно издеваясь над ее помпезной праведностью. А Джессика в 1947-м на полном серьезе писала Нэнси, как опасно прощать Диану. К тому времени она родила второго сына, Бенджамина, и жила под Сан-Франциско, с головой уйдя в работу недавно созданного Конгресса борьбы за гражданские права и в сбор денег для компартии США. Эдакая миссис Джеллиби, яростно сражавшаяся за Дело, а семья пусть выживает как сможет. Ее свекровь Аранка — нью-йоркская модистка, уроженка Венгрии — была недовольна таким отношением и не понимала, как можно выпускать детей играть на грязный задний двор. Однако Джессика прониклась к ней искренней любовью. Аранка была, как ей казалось, более сердечной, теплой, не то что Сидни. Однако Нэнси, познакомившись с Аранкой, злорадно сообщала Диане, что свекровь постоянно жалуется на невестку: «Мой Боб и не думал стать коммунистом, пока с ней не познакомился». Диана в ответ процитировала Мосли: дескать, с учетом всех обстоятельств только одна из Митфордов навредила еврею — «Декка». Сомнительная шуточка в духе скорее Нэнси.
В 1948-м Сидни, которой исполнилось уже 68 лет, вылетела в Калифорнию, чтобы повидать Джессику (один бог ведает, что Джессика наговорила детям — они боялись, что их заставят кланяться бабушке). Это был впечатляющий шаг навстречу дочери: желание залечить разрыв, причиной которого якобы стали профашистские симпатии Сидни, хотя на самом деле корни вражды уходили глубже, в сферу эмоций. Последнее проявилось, когда Джессика внезапно обрушилась на свою гостью — принялась орать на Сидни прямо в кухне. Вспомнилась одержимость желанием учиться в школе — почему, почему, вопила она, Сидни ее не отпустила? Эта скорбь сама по себе была символом — трудно сказать, символом чего именно, разве что общего ощущения, что Сидни оказалась плохой матерью и не сумела создать Джессике правильное детство. Не слишком-то симпатичны подобные истерики в исполнении взрослой женщины, тоже успевшей причинить немало горя своей семье. Вероятно, Сидни также увидела в этом нечто американское. Ведь Нэнси так себя не вела (опять-таки напрашивается вопрос, отреагировала бы Сидни столь смиренно на ее истерики). Джессику она всячески пыталась ублажить, даже познакомилась с ее друзьями-коммунистами (знали ли друзья, что эта рука пожимала руку Гитлеру?). Зять ей понравился — и оказался достаточно умен, чтобы самому определять собственные отношения с компартией. В этом смысле визит был успешным, что, однако, не помешало Джессике вернуться к вопросу о своем ужасном воспитании в «Достопочтенных и мятежниках», а в более поздние годы блокироваться с Нэнси против матери.
Разумеется, Диану это возмущало. Она любила Сидни, которая во время войны проявила столь доблестную верность, и считала своим долгом ее защищать. Ей было омерзительно стремление Джессики демонизировать мать — эту же склонность она замечала у Нэнси и строго судила старшую сестру. Но Джессика не так ее беспокоила. Когда Нэнси не выразила особого желания пуститься в нелегкий путь на Инч-Кеннет, Диана писала Деборе: «Кажется, ей недостает сердечности», но Джессика, никогда не навещавшая мать, таким нападкам не подвергалась. Нэнси укрылась во Франции, но не разорвала узы так решительно, как Джессика, вынудившая Сидни пересечь Атлантику с оливковой ветвью в стареющих руках.
Безоговорочная преданность Дианы Мосли означала, что она разделяла и его отношение к людям, а он недолюбливал Нэнси. Диана была бы рада повидаться с сестрой, но ей всегда приходилось помнить о злобной — до зубовного скрежета — неприязни мужа и вести себя соответственно. Но было, возможно, и нечто большее. Дело в сложных — у Митфордов особенно сложных — отношениях между сестрами. Нэнси, безусловно, испытывала ревность по отношению к Диане, однако не была ли ревность взаимной? Не завидовала ли Диана творческому дару, создавшему идеальный небольшой роман, в котором Нэнси использовала общее семейное прошлое — а слава досталась только ей? Не завидовала ли Диана и свободе богемной парижской жизни, тогда как сама была прикована к капризному супругу? Вполне вероятно. А дружба Нэнси с Ивлином Во, который некогда всецело принадлежал ей? Когда Диана писала рецензию на опубликованную переписку Нэнси и Ивлина, она поделилась с Деборой не слишком-то обоснованным впечатлением: Нэнси была задета тем, что на фурор по поводу «В» и «не-В» Ивлин Во откликнулся поддразнивающим «Открытым письмом». Похоже, Диана хотела в это верить. Ей непременно требовалось доказать, что последние письма Ивлина были обращены к ней. Обе девочки Митфорд были страстными женщинами, пусть одна и прятала бурю чувств под слегка потрескавшимся лаком, а вторая — более удачно под обликом улыбающейся Мадонны. Какие бы чувства ни питала Нэнси к Диане, та отвечала ей не менее сильными чувствами.
Когда Нэнси сделалась автором бестселлеров, четыре сестры сочли, что могут достичь не меньшего успеха — о книге подумывала даже Памела («там будет только Еда!»), — и каждая на свой лад присматривалась к возможности эксплуатировать ту славу, которую принес семье роман «В поисках любви». Они тоже, как читатели, купились на созданный Нэнси миф, пусть и с оговорками, с оглядкой на собственные интерпретации. По поводу «Достопочтенных и мятежников» Нэнси писала: «В некоторых отношениях она увидела нашу семью… глазами моих книг»‹14›, и в той или иной степени это касалось всех сестер. Как Диана повела войска во тьму битвы, перейдя в 1932-м на сторону фашистов, так Нэнси начала новый этап в истории семьи, выведя Митфордов на ясный солнечный свет публичного обожания. Диана превратила их в «безумных Митфордов», Нэнси сделала их — даже если они изо всех сил этому противились — «девочками Митфорд».
3
В начале мая 1948-го Сидни вернулась из Сан-Франциско. В Лондоне ее навестила Диана, которая затем писала Нэнси, что у матери опять трудности с Юнити: «Сначала она потратила гинею на увядшие розы для Мули, а потом вынула из нее душу, твердя как безумная, что у нее жар…»
Двойственное отношение Нэнси к матери — в глубине души она хотела любить Сидни — и прежде косвенно выражалось в искренней тревоге о том, как мать справляется с жизнью. Она предлагала Диане — и Деборе, согласившейся с этим планом, — сложиться и оплатить для Юнити специальное заведение, «с личной сиделкой и огромным запасом постельного белья», но не понимала, как заговорить об этом с Сидни: «О, будь с нами Том!»
А Сидни преследовал страх умереть раньше Юнити. Что станется тогда с ее девочкой? «Похоже, ей видится, — писала Нэнси, — как Буд бродит по улицам, точно злосчастная дворняга». Конечно, можно нанять сиделку и поселить Юнити поближе к одной из сестер (и ведь они тоже страшились этой перспективы), но где найти того, кто проявит немыслимое терпение Сидни? Физически Юнити оставалась сильной и к тому же была чрезвычайно раздражительна.
В 1947-м она устроилась на пол ставки в больницу Хай Уикома мыть посуду и подавать чай. Но пуля, засевшая в мозгу, была подобна одной из оставшихся после войны неразорвавшихся бомб: малейшее прикосновение могло ее активизировать. Возможно, жар, на который Юнити жаловалась, когда мать вернулась из Америки, не был вымыслом. Письмо Дианы датировано 2 мая, Юнити оставалось жить всего двадцать шесть дней.
Они с Сидни отправились в долгий путь в убежище на Инч-Кеннет, которое вот-вот вновь посетит беда (как со смертью Тома). Поначалу Юнити вроде бы чувствовала себя неплохо, но через две недели после прибытия на остров слегла с лихорадкой. С большой землей Сидни общалась не по телефону и не каким-то иным сколько-либо надежным способом, а вывешивая на дверь гаража большой черный диск — его можно было разглядеть в бинокль, и это служило сигналом, что требуется врач. Штормило, врач смог прибыть только через несколько дней. К тому времени висок у Юнити уже сильно выбухал, температура зашкаливала. «Я иду», — сказала она вдруг, и мать поняла, что дочь умирает.
И все же Юнити попытались лечить, диагноз был установлен: менингит, вызванный инфекцией от пули. Обеих, Сидни и Юнити, переправили на большую землю, в больницу Обана, Юнити кололи пенициллин. Планировали везти ее дальше, в специализированное отделение нейрохирургии, примерно так же, как восемь лет назад доставили ее из Фолкстона, но тут случился эпилептический припадок, после которого Юнити потеряла сознание. Она скончалась в тот же день, немного не дожив до тридцати четырех лет.
Смерть, сидевшая в прихожей с первого дня войны, наконец забрала эту громогласную великаншу, их Буд, которая проносилась по жизни подобно невинному щенку, но содержала в себе столь много непроницаемой тьмы. На свой странный лад она оказалась счастливейшей из сестер, вот только не имела навыка жить. Она была беспомощна перед своей неистовой способностью чувствовать страсть и искала для нее сосуд равной вместительности — и ей выпало несчастье найти такой сосуд, заплатив за это великую цену. Для Сидни, столько лет страдавшей рядом со своей дочерью, ее уход стал все же облегчением, в особенности потому, что теперь не приходилось страшиться за дальнейшую участь Юнити. Но более всего она горевала и оплакивала ту Юнити, какой ее дочь была до покушения на самоубийство — «какая жестокость, силой вернуть ее к жизни!», писала Диана‹15› — или даже до первой поездки в Мюнхен.
После смерти Юнити Диана писала Нэнси (та неожиданно для себя горько оплакивала сестру), что Сидни преследует оброненная Нэнси фраза: мол, не следовало увозить Юнити так далеко от больницы имени Рэдклиффа. Диана вовсе не упрекала сестру — тогда они были еще близки, — лишь хотела сказать, что вышло недоразумение, и пусть Нэнси что-то утешительное матери напишет. Нэнси возмутилась: ничего подобного она не говорила, разве что упомянула врачей. В данном случае есть основания верить Нэнси. Только против этой дочери Сидни могла выдвинуть подобное обвинение — а ведь Нэнси после смерти Юнити все же приехала к ней на Инч-Кеннет. Разумеется, Сидни была в страшном горе, и горе усугублялось мыслью, что и в самом деле не следовало везти дочь на остров. Если Нэнси хоть словом на этот счет обмолвилась, то затронула больное место, чувство вины. С другой стороны, сама Сидни отлично умела пробуждать такие же чувства в Нэнси. «Я не могу допустить, чтобы она приписывала мне мысль, будто можно было что-то изменить». Она написала матери и попыталась это объяснить, но их отношения так и не вышли из тупика.
Неизменным оставалось и желание сестер защищать Юнити — с их точки зрения, уязвимую и после смерти. Когда в 1976-м вышла ее биография, все остававшиеся налицо Митфорды вернулись к войне в типичной для них семейной манере. Мосли, который тогда в теледебатах назвал Юнити «милой девочкой, честной девочкой»‹16›, добивался конфискации тиража, как и Девонширы. Все они строго осуждали Джессику, согласившуюся на сотрудничество с Дэвидом Прайс-Джонсом, автором биографии. Дебора сокрушалась: ни один человек не мог бы создать портрет Юнити, если не знал ее близко, потому что ее характер был соткан из противоречий, а так «выходят сплошные нацисты». (И она добавляла: «Как бы я хотела, чтобы люди перестали писать книги».)
Диана получила эту книгу в верстке и отписала Деборе: «Она очень скверная». Ее возмутили интервью с Мэри Ормсби-Гор и особенно с бывшей горничной Митфордов Мейбл, которой уже исполнилось девяносто лет, — на взгляд Дианы, ее нельзя было считать надежным свидетелем. Так, Мейбл утверждала, будто Дэвид Ридсдейл сказал ей: «Я никогда больше не смогу высоко держать голову», но маловероятно, чтобы такие слова прозвучали из уст гордого и сдержанного мужчины. Также Диану огорчило обилие страниц, посвященных безумному антисемиту Юлиусу Штрейхеру. Кроме того, она усмотрела в книге и намеки на его особые отношения с Юнити. «Ростом чуть более двух футов и совершенно омерзительный внешне» (едва ли это главный его недостаток, если задуматься). Диана, по ее собственным словам, рвалась защитить Юнити, хотя и сознавала, что это почти невозможно. Как ни странно, больше всех рассердилась Памела — под ее пассивной внешней оболочкой скрывалась митфордианская сталь. Она обвинила Джессику в том, что та украла альбом с фотографиями и использовала их в книге. Джессика яростно отрицала обвинение в письме к Пэм, а также написала Деборе — это была странная смесь самообороны и попыток смягчить приговор. «Не могу же я с ней порвать», — удрученно подводила итоги Дебора, взывая к Диане. Жизнь перевалила за середину, а эти сестры все еще ссорилась навеки и заключали новые союзы. Разумеется, нападки на эту биографию были не вполне искренними, хотя некоторые из общавшихся с автором потом уверяли — уж не из страха ли перед фуриями Митфордами? — что их слова исказили. На самом деле книга основана на тщательном исследовании и стремится не осудить, но понять. К тому же факт остается фактом: Юнити и впрямь сотрудничала с нацистами. Неужели Митфорды верили, что все это — их частное дело, что после всего сказанного и сделанного Юнити лояльностью друзей можно управлять и не будет публичных последствий? Если так, их незаурядная уверенность в себе перешла все границы. Кажется, так оно и было.
Юнити похоронили в Свинбруке, в месте, которое она любила. Под конец жизни она развлекалась, тщательно продумывая обряд своих похорон, хотя строчку из Клафа для надписи на могильном камне выбрала Сидни: «Не называй борьбу бесплодной». На погребении присутствовали супруги Мосли, и хотя Дэвид не обменялся ни словом с мужем Дианы, затем он написал ей письмо с извинениями — так-де вышло неумышленно. При этом Дэвид вроде бы не собирался восстанавливать отношения с женой. Он приехал за ней в Обан, и они вместе везли оттуда в Свинбрук гроб с телом дочери. Но в июле, не прошло и шести недель после смерти Юнити, Нэнси случайно столкнулась с его экономкой Маргарет у Версальского дворца. В очередном письме Диане она описывала эту встречу По словам Маргарет, лорд Ридсдейл каждый день писал ей или звонил. В своей небрежной манере Нэнси обронила: рада за отца, что он нашел свою любовь. «Не скажешь же, чтобы он вдоволь получал ее от Мули, которая даже не слишком-то ему симпатизировала, — не стану осуждать ее за это». Не странно ли слышать такие слова от женщины, создавшей вечный союз дяди Мэтью и тети Сэди, эту необычную и в высшей степени удовлетворяющую обоих супругов конфигурацию? В тот самый момент, когда Нэнси позволила себе такой отзыв, она в очередной раз воспроизводила этот союз в романе «Любовь в холодном климате». Так верила ли она сама в то, что говорила? В каком-то смысле да, хотя желание отстраниться от семьи (и, наверное, вечное желание эпатировать) придало ее словам дополнительную резкость. Когда-то она любила отца и матерью восхищалась. Отец был, безусловно, более теплым человеком — но и гораздо более слабым. Мы видим намеки на это в романах Нэнси, где Сэди пребывает «на своем облаке», в то время как муж — который всегда теряется, если рядом нет супруги (или, на худой конец, любимого егеря), — выполняет почти все ее желания. Несмотря на драматические демонстрации дурного настроения, дети дяди Мэтью его не боятся, но им чрезвычайно важно сохранить доброе мнение матери. И когда Линда в «В поисках любви» совершает побег с гламурным коммунистом Кристианом, ее волнует и пробуждает в ней угрызения совести предполагаемая реакция матери. Но при всем том Нэнси укутывает воображаемый брак своих родителей покровом благожелательства. Ни на миг не возникает сомнения, что это счастливый союз до гроба. Если к моменту публикации романов это могло казаться горькой иронией, все же таким выглядело издали прошлое Ридсдейлов — жизнью, которую разрушили дочери.
Однако, несмотря на смерть Юнити, неприятное вторжение Питера Родда и ужасный вечер с ним в ресторане, когда за соседним столиком Полковник весело флиртовал с «другой женщиной», Нэнси писала Ивлину Во с характерным для нее задором: «Небесный 1948!» И тот отвечал в типичной для него манере: «Странное представление о небесах. В моей стране сейчас нет элегантной одежды, изысканной еды и маскарадов, которыми наполнены ваши дни».
Это правда: во Франции Нэнси вела жизнь, немыслимую для Англии. Ее тетя Айрис, сестра отца, написала довольно злобное письмо, упрекая племянницу в нежелании разделить трудности с соотечественниками. Кому, недоумевала Нэнси, кому всерьез нужно, чтобы она разделяла эти самые трудности? Однако Ивлин Во лишь отчасти шутил, когда напоминал ей, что она голосовала за правительство, которое ввело рационирование, — и скрылась во Франции от последствий этих законов.
После войны, когда налоги достигали 19 шиллингов и 6 пенсов на фунт, Дерек Джексон и Памела попросту снялись с места и перебрались в Ирландию. Они поселились в замке Тулламейн, в прекрасных охотничьих угодьях графства Типперери. При всей своей любви к лошадям — в 1946-м он участвовал в Грэнд-Нэшнл — Дерек вскоре заскучал без интеллектуальных стимулов и устроился на работу в научную лабораторию при Дублинском университете. Там он познакомился с молодой женщиной по имени Джанетта Ки и сделал ее своей третьей женой (всего их будет шесть). Для Памелы (хотя она по-прежнему оставалась закрытой книгой) это было, скорее всего, облегчением. Дебора осторожно замечала, что Дерек был «не как все». Возможно, Памела даже обрадовалась, особенно когда выяснилась сумма достававшейся ей при разводе компенсации. «Здорово, что Женщина теперь при деньгах», — писала Нэнси Диане в 1950-м. Многие могли бы и возмутиться незаслуженным богатством Памелы, однако Нэнси далеко не всегда поддавалась мелочной зависти — так, она вроде бы ничего не имела против, когда Джессика сделалась ее соперницей на писательском поприще (несмотря даже на очевидную подражательность «Достопочтенных и мятежников»). Более того, она говорила Ивлину Во, что мемуары Дианы, к которым та приступила в 1962-м, «блистательны и смешны до колик». Разумеется, под настроение она могла высказать и диаметрально противоположное суждение, ведь главное качество Нэнси — непредсказуемость. Например, что она думала, когда Дебора сделалась герцогиней Девонширской, хозяйкой замка, по сравнению с которым Бэтсфорд показался бы таким же новоделом, как «георгианские» особняки от компании «Баррат Хоумс»?
В 1946-м Эндрю и Дебора переехали в Эденсор, поближе к Чэтсуорту, откуда наконец выехали прожившие там войну триста учениц Пенрос-колледжа. В комнатах огромного дома гуляли сквозняки и эхо, вся мебель была убрана, картины старых мастеров лежали в ящиках, и только часы, заводившиеся раз в неделю, громко отсчитывали время в пустоте. Герцог Девонширский после гибели старшего сына почти утратил интерес к Чэтсуорту, хотя личный библиотекарь его убеждал, что замком следует управлять как настоящим бизнесом. Две сестры родом из Венгрии возглавляли небольшую команду беженок из Восточной Европы, которые вытирали пыль и поддерживали порядок в 178 комнатах. Герцог поселился в другом имении, в Комптон Плейс (Истборн), и там целыми днями пил и рубил дрова. Он передал большую часть достатка специально созданному фонду, и проживи он с момента подписания договора не менее пяти лет, потомкам не пришлось бы платить налог на наследство, — но в 1950-м, в пятьдесят пять лет, он умер от обширного инфаркта, не дотянув трех месяцев до необходимого срока. Свидетельство о смерти подписал доктор Джон Бодкин Адамс, прежде лечивший двух старших детей Деборы от коклюша. На следующий год этот врач был обвинен в убийстве пациента, а всего ему приписывали примерно 160 медицинских убийств.
Одиннадцатый герцог Девонширский и его герцогиня оказались в железных когтях послевоенной налоговой системы. Налоги на наследство достигали 80 % от стоимости бесспорно очень большого имущества: дом в лондонском Мэйфере (старый особняк на Пикадилли, где Сидни танцевала дебютанткой, давно продали), замок Лисмор в Ирландии, обширные земли в Дербишире и Шотландии, внушительный Чэтсуорт-хаус — со своим плоским, тусклого золота фасадом он словно парит в воздухе, похож на сказочное видение, — где галерея скульптур полна работ Кановы, сады спроектированы Пакстоном, а площадь одной только крыши составляет 1,3 акра. Но предстояло выплатить непосильные суммы, отдать четыре пятых имения, и это усилило — если еще что-то могло ее усилить — антипатию Деборы к социалистам. В 1945 году Эндрю выдвигался кандидатом от консерваторов по округу Честерфилд и проиграл сопернику более 12 000 голосов. Когда он выступал, его перебивали, даже плевали в него. Однажды машину, где вместе с мужем сидела Дебора, принялись раскачивать и чуть не перевернули. В отличие от некоторых своих сестер, Дебора не получала удовольствия от подобной политической активности: как и дядя Мэтью, она верила в общественный долг и святость прав на землю, а потому считала, что Эндрю является естественным хранителем своего наследия и лучше, чем государство, справится с такой ответственностью.
В этом смысле она была безусловным консерватором, и ее, наверное, удивило бы, что Нэнси одной рукой голосовала за Эттли, а другой в «В поисках любви» выражала ностальгическую тоску по таким же идеалам. (Да это и был парадокс, но для Митфордов уже привычный.)
Но Дебора не хуже Нэнси понимала, что время людей ее круга прошло. В первую очередь она была прагматиком. Эндрю поступал, как прежде ее отец: чтобы выжить, распродавал имущество, тысячи акров земли, великолепную мебель, частично картины, в том числе Рембрандта (потом это произведение признали «школы Рембрандта», а не самого мастера). В 1954-м, когда новый герцог все еще расплачивался с казначейством, Нэнси ядовито писала Ивлину Во: она бы посочувствовала Девонширам, если бы им было дело до своих безделушек (и намекнула Деборе, что при виде ящиков со старыми мастерами у той «руки чесались взяться за ластик»). Конечно, Дебора не считала себя эстетом, а шутка есть шутка, но в этой шутке посверкивает змеиная кожа. И ведь Нэнси смаковала то обстоятельство, что ее сестра — герцогиня, из самых заправских, то есть Митфорды поднялись до высшей аристократии, вошли в тот непроницаемый мир, который привлекал Нэнси не меньше, чем ее читателей. Более того, при всех своих социалистических симпатиях (которых подчас и не углядеть) Нэнси тоже полагала, что лучше всех с наследством Девонширов справились бы сами Девонширы. Налог им пришлось выплачивать до 1974 года. Деньги, которые могли бы восстановить Чэтсуорт для страны, вернулись к народу. Но работы в доме начались, и Дебора, прежде ненавидевшая любой труд, нашла в нем свое призвание.
В том же 1950-м, когда Дебора стала герцогиней, Диана и ее муж решили покинуть Англию. Скорее всего, это было неизбежно: хотя Мосли уже не находились в глухой изоляции, они стали чужими в собственной стране. Новая вера в европейские идеалы привела их во Францию (и к зимам в Ирландии, где их сын Макс любил охотиться). С присущим обоим супругам талантом отыскивать красивые дома — этот талант не изменял им даже в худшие дни — они отыскали полуразрушенный белый дом с палладианским фасадом, «храм Славы» в Орсэ, миниатюрный дворец. «Выглядит очаровательно, однако где же вы тут живете?» — недоумевала подруга Дианы (и такая же полуизгнанница) герцогиня Виндзор. Как Дебора в Дербишире, так Диана во Франции усердно занималась восстановлением дома, который словно специально был задуман архитектором в качестве идеальной сцены для демонстрации ее «мраморной» красоты — в сорок лет она выглядела ничуть не хуже, чем в юности, ее можно было бы поместить на одной из коринфских колонн «храма».
Сюда частенько наведывалась Нэнси из близлежащего Парижа. «Она то и дело появлялась у нас, — вспоминала потом Диана, и хотя Мосли „предпочел бы ее не видеть“, — я всегда была ей рада. Ради меня они кое-как ладили, но им обоим это давалось нелегко. Надо полагать — манеры!»‹17› По утрам сестры обязательно болтали по телефону, и можно себе представить, как Мосли расхаживал из угла в угол, прищелкивая языком, пока достигшие средних лет девочки Митфорд, охая и ахая, сплетничали. Диане, как всегда, приходилось разрываться, испытывать дискомфорт, ведя себя сдержанно с сестрой, ибо ревность мужа простиралась и на эти отношения. Чудовищно! Сколько бы Диана ни отдавала мужу, он всегда требовал большего. Безусловно, он любил ее, но каждый любит по-своему. Любовь Мосли была эгоистической, если не сказать садистской: ему нравилось повергать богиню к своим стопам. Какое упоение властью — тем более над женщиной, подобной Диане!
А поскольку Диана всегда умела сохранить достоинство, поскольку ее невозможно было унизить, Мосли бесконечно ее уважал, и многолетняя игра, попытки добиться от нее покорности, превращалась в неиссякающую забаву.
И у него были основания относиться к Нэнси с подозрением. Что бы Диана про нее ни думала, они были очень близки — с чувством взаимоуважения и равенства, — но близость означала, что затаившаяся в Нэнси ревность давала о себе знать. Если Диана рассчитывала, что сестра поможет ей войти в парижское общество, она ошибалась. Нэнси не слишком желала знакомить своих блестящих друзей с супругами Мосли. Она даже Палевски пыталась какое-то время держать от них подальше. Быть может, руководствовалась желанием сохранить личное пространство. Хотя, конечно, не очень стремилась и услышать из уст Полковника восторженную хвалу неувядающей красе своей сестры.
Мосли не принимали в посольстве, которое ныне возглавлял сэр Оливер Харви, хороший знакомый Нэнси (в последнем своем романе, «Не говорите Альфреду», она описала, как он сменил знаменитых Диану и Даффа Купер). Дипломатам запрещалось посещать «храм». Ротшильды, понятное дело, и сами туда не рвались. Поэтому Нэнси могла решить, что ей невыгодно вводить дьявола Мосли в свой круг, лучше самой порхать вокруг них в Орсэ и создавать для них во Франции что-то вроде прежнего семимильного радиуса. Хотя более вероятно, что повлияли воспоминания о 1929-м, когда ее любимые друзья-эстеты, «свинбрукские сточные трубы», переметнулись к Диане. Нэнси покорила Париж — неужто уступить кому-то свою победу?
4
Верность коммунистическим идеалам осложняла Джессике жизнь, хотя она, разумеется, радовалась таким трудностям — она всегда любила драку. В 1950-м она с мужем хотела съездить в Англию, но не получила паспорт. Зато в 1952 году в Штаты приехала Дебора и потом рассказывала Диане, как перед ней «явилась некая фигура — Декка, но совсем другая… Ох, Хонкс!» Верная себе Джессика объявила, что прекратила переписку с Нэнси, потому что та «живет с [sic] голлистом».
Политика давно уже стала для Джессики чем-то большим, чем подростковая поза, источник ссор с сестрами. Ее муж позднее рассказывал, что Конгресс борьбы за гражданские права захватил не только чернокожее население, но и…белых, придерживавшихся левых убеждений… моя жена заинтересовалась. Она заняла должность секретаря-казначея филиала в Восточном заливе [она жила там, под Сан-Франциско] и на десять лет с головой ушла в эту работу. Дело вполне серьезное для начинающей. Каждый искал себе точку приложения сил, «массовую организацию», и это оказалось ее массовой организацией. Из всех адвокатов Восточного залива только я и мой партнер брались за такие дела‹18›.
В 1951 году через мужа — и Конгресс борьбы за гражданские права, который взял на себя защиту, — Джессика включилась в дело Уилли Маги, чернокожего парня из штата Миссисипи, обвиненного в изнасиловании белой женщины. Вместе с тремя подругами Джессика отважно отправилась в марш до Джексона, где линчевать негров было обычным делом и многие жители состояли в Ку-клукс-клане, и организовала массовый протест. Она была не одинока в своем убеждении, что доказательств вины Маги нет и судят его по расовым мотивам. К международной кампании в защиту Маги присоединились Уильям Фолкнер, Альберт Эйнштейн и Пол Робсон. Но президент Трумен не пошел на уступки. Маги был казнен. В прощальном письме жене он просил: «Расскажи людям, что они отбирают у меня жизнь лишь затем, чтобы держать негров в унижении». Джессика осталась в том же положении, что и Линда в «В поисках любви», беспомощно оплакивавшая «парней из Скоттборо» (девятерых чернокожих, обвиненных в изнасиловании двух белых женщин): «Конечно же, их отправят на электрический стул…»
И все же поведение Джессики было благородно. Она проявила тот аристократический пыл, что присущ Юджинии Малмейнс в «Чепчиках» — она никого не боялась, — и в кои-то веки единственная из Митфордов взялась за безусловно правое дело. Хотя в прессе ее ругали. Америка тряслась от страха перед коммунизмом — как Англия в 1930-е, — и защитники Маги изображались бандой провокаторов. Страх перед коммунизмом («красные под кроватью») проявился еще во время войны, когда власти применили в Вашингтоне «программу лояльности» и был учрежден комитет Дайса, предтеча будущего Комитета по расследованию антиамериканской деятельности. А уж к 1950-м годам, в эпоху ядерной угрозы, началась настоящая истерия. У Трюхафтов прослушивался телефон. Оба супруга находились под наблюдением. В отчете от 3 октября 1950-го ФБР «рекомендовало включить в списки подозрительных лиц вышеупомянутую», Джессику. Ее муж получил «письменную анкету», которая, как он позднее пояснял, хотя и не предъявляла никаких обвинений, все же содержала явную угрозу:
«Мы располагаем информацией, согласно которой вы посещали мероприятия с участием коммунистов и других подрывных элементов. Верно ли, что вы подписаны на „Народный мир“ (Daily People's World)?.. Верно ли, что вы жертвовали деньги и собирали пожертвования для Совместного антифашистского комитета помощи беженцам?» Вот такую анкету я получил и швырнул ее им в лицо… Я не удовольствовался отрицанием: я подверг сомнению их право задавать подобные вопросы.
В 1951-м Комиссия штата Калифорния по борьбе с антиамериканской деятельностью вызвала Джессику для дачи показаний, и допрос был до странности похож на тот, которому Диана подверглась в Совещательном комитете в 1940-м. Джессику спрашивали, состояла ли она когда-либо в компартии, держала ли счет для Конгресса борьбы за гражданские права. Насмехаясь над ее акцентом, Джессику спросили, не записана ли она в теннисный клуб Беркли (все равно что спросить Эсмонда Ромилли, бывал ли он в Аскоте). На все вопросы, кроме этой последней издевки, она отвечала ссылкой на Пятую поправку. Как только допрос закончился и ее отпустили, она укрылась в безопасном убежище до самого конца слушаний. Страх перед повторными вызовами на допрос преследовал ее несколько лет. Опасность была вполне реальной, и Трюхафты жили в постоянной боевой готовности. За их передвижениями следили, любая их деятельность вызывала подозрения. Даже в 1971 году палата представителей включила имя Джессики в список «радикальных и/или революционных ораторов». Как в кривом зеркале, это отражало ситуацию Освальда Мосли, о котором Диана писала Деборе в 1966 году: «Он поставлен вне закона».
Благородная попытка Джессики спасти Уилли Маги заслуживала лучшей награды, чем та, которую ей припасла судьба, игравшая на стороне Трумена и подручных Маккарти. В 1955-м, вскоре после того как семья переехала в новый дом в Окленде (штат Калифорния), десятилетний Николас, сын Джессики, решил, как многие мальчишки его возраста, подработать разносчиком газет. Однажды он возвращался на велосипеде домой и попал под автобус. Констанция, вышедшая навстречу брату, услышала звук удара. Потом она стояла на коленях рядом с умирающим мальчиком, дожидаясь приезда скорой, а соседка говорила: может, ничего и не случилось бы, если бы мать уделяла больше внимания детям.
Вновь повторилась та ужасная история с Джулией, когда вокруг слышались мерзкие шепотки: не следовало Ромилли обзаводиться ребенком, раз они не умеют за ним смотреть. Говорить об этом было невозможно — Джессика и не говорила. Она не смогла упомянуть Николаса в автобиографических книгах, не брала в руки его фотографию. Она вела себя, как Нэнси, которая, настигнутая известием о смерти брата в гостях у Джеральда Бернерса, как ни в чем не бывало села со всеми за стол, — и Джессика улыбалась, носила маску, пока скорбь раздирала ее изнутри.
Ей наконец-то выдали паспорт, и она решила съездить в Европу с мужем и двумя остававшимися у нее детьми. Как ни странно, теперь она искала утешения среди Митфордов. Трюхафты навестили Сидни на Инч-Кеннете, потом отправились к Деборе в Эденсор-хаус. Дебора устроила для Джессики экскурсию по Чэтсуорту, но признавалась Нэнси, что удовольствия не получила: все время ощущала праведное негодование Джессики, ее «ханжеский либерализм», как она впоследствии это назвала, как будто сестра готова ухватить какой-нибудь бесценный экспонат и продать его в пользу коммунистов‹19›. И в самом деле, много ли общего между прекрасной молодой герцогиней Девонширской, словно сошедшей с портрета Ромни, и этой женщиной, которая в строгом брючном костюме и с короткой стрижкой участвовала в марше через Миссисипи? Только узы родства — уже хрупкие, натянутые до предела, но нерасторжимые. От Деборы Трюхафты двинулись в Париж, к стороннице де Голля. Прибыли, по договоренности, на рю Месье и не застали там Нэнси. Напуганная отчетами Деборы и вообразив нашествие воинственных американцев, пьющих кока-колу из хрустальных бокалов, она решила сама отправиться в гости — в Чэтсуорт. Ох уж эти Митфорды!
Да, Нэнси обошлась с Джессикой некрасиво, но Джессика была не из тех, кто ищет жалости. И трудно далось бы сострадание Нэнси — как и Джессике, человеку закрытому. Они общались охотно, резковато, чаще всего соблюдая дистанцию. «Я не помираю по ней так, как прикидываюсь», — признавалась потом Нэнси Ивлину Во, хотя в другой раз писала, что Джессика была «лапочкой». У них были свои узы, в особенности бунт против матери. Диана утверждала, что обе они оболгали Сидни, обе лгуньи от природы, и по одной и той же причине: не умели жить счастливо. Действительно, Джессику и Нэнси роднила ожесточенность, другим сестрам несвойственная. Правда и то, что Джессика перенесла в жизни много тяжелых ударов — со стальной отважной улыбкой, по меньшей мере равной стойкости Нэнси. И вместе с тем обе они обрели чувство глубокой реализованности, важнее всего для них была работа, в то время как другие сестры иначе расставляли приоритеты. Правда, Диана тоже взялась за перо: в 1953-м Мосли создал газету под названием «Европеец» (European), главным редактором назначив жену. Ее рецензии и дневник — холодные, строгие, высокого качества — оказались еще одной вариацией митфордианского голоса. Но для нее это не было жизнью, она занималась газетой ради Мосли. А для Джессики и в особенности для Нэнси все было иначе. Нefaute de mieux, а естественный способ жить.
В конце концов Нэнси — она всегда поддавалась чувству вины, если речь шла не о Диане — вернулась в Париж и застала Трюхафтов, спокойно разместившихся в ее квартире. Они вели себя как нормальные люди, даже не искали в «Монд» репортажи с бейсбольных матчей. Нэнси подарила сестре 50 фунтов, якобы плату за оставшиеся у нее старые книги Джессики. Книги стоили несколько шиллингов от силы. Типичный для Нэнси поступок, щедрость под маской, умело уклоняющаяся от благодарности. Все сестры, в том числе Диана при участии Сидни, платили небольшое пособие Трюхафтам, чьи принципы хотя и довели супругов до бедности, однако не требовали отказа от родственной помощи (а когда Джессика разбогатеет благодаря своим книгам, она и перед декадентской приманкой Диора не устоит).
50 фунтов — немаленькие деньги по меркам 1955 года, но к тому времени Нэнси находилась на гребне успеха. «Без мисс Митфорд мир стал бы скучен», — справедливо признавал «Обсервер». В 1950-м Лирический театр поставил чрезвычайно изысканную «Маленькую хижину» Андре Руссена в ее переводе. После 1200 спектаклей эта постановка отправилась в Нью-Йорк. (Чтобы не ехать на премьеру — Нэнси не скрывала антипатии к США, — она по совету Питера Родда заявила, что до войны состояла в компартии.) Третий роман, «Благословение» (1951), великолепно разыгрывал сюжет о супружеском союзе наивной англичанки и привлекательного, забавного, органически неспособного хранить верность француза. Как и прежде, Нэнси написала нечто вроде пособия по житейской мудрости для самой себя: поменьше романтики, побольше парижского духа; но, как ни старалась, ей не удавалось следовать этим инструкциям. Роман приняли не так тепло, как два предыдущих, что стало некоторой неожиданностью, но Ивлин Во, которому Нэнси посвятила книгу, справедливо советовал наплевать на критиков. Роман вышел мудрым, сильным, реалистичным до крайнего цинизма и подсвеченным романтическими представлениями о Франции — снова чудо, которое было по силам одной только Нэнси. «Они злятся, когда видят, как автор растет, — писал ей Во с щедростью писателя, полностью уверенного в своем таланте. — Все, кого я знаю, наслаждаются „Благословением“, и для меня посвящение к этой книге — источник неугасимой гордости».
Нэнси также вела регулярную колонку в «Санди Таймс», которую заказал ей «красавец Флеминг» — Ян Флеминг, — и в 1955-м опубликовала эссе «Английская аристократия», знаменитое разделение на «В» и «не-В». К сожалению, этот небольшой текст — как скучно, как несправедливо! — перевесил на все последующие годы другие ее достижения (и заслонил их даже в опубликованном «Таймс» некрологе). То была конструкция провокатора, решившего слегка подразнить читателей, — типичная Нэнси. Но ее восприняли как манифест сноба: вот женщина, воспевающая классовую структуру, на вершине которой находится по случайности рождения. Разумеется, Нэнси гораздо сложнее — во всех отношениях сложнее.
Гораздо лучше Нэнси раскрывается в своей блистательной книге «Мадам де Помпадур» (1954) — Каждое слово здесь сияет той ясностью понимания, что свойственна ее зрелой прозе. Она уверенно проникает в хитросплетения истории, инстинктивно угадывая человеческие мотивации. Некоторые историки (в особенности довольно грубый Алан Дж. Тэйлор)‹20› смотрели на эту книгу сквозь призму собственного снобизма — интеллектуальной его разновидности, — отказываясь признавать, что политика вертится вокруг личностей, но уж Митфорды-то это понимали. А главное, книга стала гимном всему, во что Нэнси верила, что для нее составляло счастливую жизнь, — культуре, красоте, этикету, юмору, любви с интенсивным ухаживанием, садам Версаля. И заканчивалась она тем, как на все это, волей исторических обстоятельств, надвинулась тень.
В 1957 году Гастон Палевски получил назначение в Рим главой посольства. Нэнси дала ему телеграмму из Венеции, где проводила уже не первое лето: ОТЧАЯНИЕ ГНЕВ ПОЗДРАВЛЕНИЯ НЭНСИ‹21›. Наконец-то полученный развод — угрюмое присутствие Питера Родда в ее парижской жизни было несносно, однако, вероятно, укрывало от сознания, что Палевски никогда и не подумает на ней жениться, — превратился в ненужный пустяк. Облегчение, не более того, и вместе с тем — печаль, поражение и вина. С этой минуты ей как никогда прежде понадобится воля к счастью, и Нэнси достанет на то силы воли. Но, как сказано в концовке «Мадам Помпадур» (эта фраза словно клинком разрубает страницу): «С той поры великая тоска окутала замок Версаль».
Великая тоска окутала почти двадцатью годами ранее жизнь Дэвида Ридсдейла, и теперь он, уже не сопротивляясь, ковылял навстречу смерти, поглотившей двух его детей. Под конец 1957-го Нэнси наведалась к нему в нортумберлендский коттедж, где он жил вместе с Маргарет Райт, в эдакую ледяную келью с горючими материалами внутри. «Ненавижу эти визиты, у меня от них нервы дергаются», — писала она Теодору Бестерману, ученому, с которым консультировалась в работе над очередной биографией, «Влюбленным Вольтером». И опять ее настигло чувство вины: «Надо же повидаться с родными, кто уже настолько стар, что не может сам приехать ко мне».
Незадолго до того Дэвид, возможно терзаясь мыслями об утраченном, написал несколько писем Джессике, но так и не получил прощения за свои (неизвестные ему) грехи. Зато ему удалось полностью примириться со своей обожаемой Дианой; к ней он приезжал в «храм Славы». Он послал ей чек на крупную сумму, чтобы Диана могла купить шторы на свои гигантские окна, — поступок в духе Нэнси, доброта без навязчивости. Он подружился наконец и с «этим Мосли», который мог быть чрезвычайно очаровательным, замечательным собеседником — иначе как бы он соблазнял малых сих? Мосли, скрывавший под вежливостью глубокое разочарование — родная страна так и не призвала его, — в 1956-м вновь нашел себе Дело. Юнионистское движение должно было регенерировать, как доктор Кто. На этот раз Мосли сосредоточился на иммигрантах из Вест-Индии, хлынувших в Британию после войны: он считал их главным фактором риска для экономики страны. «Отдайте ямайцам их страну, и пусть они предоставят нам нашу», — раздавался глас Мосли из-за новых занавесок «храма» в Орсэ.
Он принялся курсировать между соседними странами. Политика служила предлогом для интрижек на стороне — как это было еще в первом браке с Симми Керзон, — он ухаживал за женщинами и в Лондоне, и в Париже. «Никакая другая ревность не сравнится с сексуальной», — писала Диана подруге (и вновь нам слышится голос Нэнси). Она все еще была красива и могла уйти от Мосли, а вместо этого ринулась ему на помощь, когда он в начале 1958-го официально объявил о создании нового Юнионистского движения и выступил с разумной внешне речью перед толпой агрессивных юнцов, которым были неинтересны его идеи — они жаждали драки.
Потрепанному старому воину был уже 61 год. Сменились сторонники, сменились и козлы отпущения, но все остальное было в точности как прежде, даже вспышки насилия после митингов. Эти вспышки, хотя он их вслух осуждал, давали выход накопившейся в Мосли ярости. Даже если расовые волнения в Ноттинг-хилле не были напрямую организованы Юнионистским движением, Мосли безусловно пытался обратить их к своей выгоде. Это побоище открывало перед ним еще один шанс прорваться к политической славе. Не подумав о том, сколько времени и сил Диана посвятила газете, Мосли внезапно закрыл «Европейца» и потратил все деньги на избирательную кампанию: решил выдвигаться на общих выборах 1959 года от Ноттинг-хилла. Он верно угадал, что расовые волнения еще долго не улягутся (ему могли бы немало рассказать на эту тему Трюхафты). Экономические аргументы Мосли тоже не утратили свое жало (да и поныне эффективны, судя по количеству сторонников Партии независимости Соединенного Королевства). Итак, с присущей ему верой в себя Мосли пустился рассыпать листовки «Оставьте Британию белой» на улицах, где полвека спустя поселятся банкиры и звезды кино, но тогда царила послевоенная бедность и люди кое-как выживали под властью хозяина трущоб Питера Ракмана. Тем не менее на призыв Мосли откликались только самые недовольные: он набрал менее 3000 голосов, примерно 10 %.
Он и тут был верен себе до конца, намеревался подать иск и расследовать нарушения на выборах. Он не отчаивался. Мосли сохранял связи с крайне правыми на континенте, в том числе обсуждал возможность объединения Европы, о чем тогда еще только заговаривали. Разумеется, прошлое цеплялось за него своими щупальцами. В 1962-м Нэнси писала Диане — желая то ли помочь, то ли подколоть, — что французское радио сообщало о намерении Мосли «выслать из Англии всех евреев и ниггеров — и ни слова о создании Европы. Имеет ли ему смысл опровергать это?».
В том же году в Лондоне Мосли подвергся яростному нападению и его сын Макс был арестован при попытке защитить отца. Он оставался излюбленной мишенью, идеальным предметом ненависти, примерно как Маргарет Тэтчер двадцать лет спустя, только без власти. В 1966-м Мосли подал в суд на Би-би-си: мол, его все время ругают, а ответить не дают. В то же время на странный, очень английский манер он сделался и более приемлемой фигурой, эксцентричной деталью пейзажа, чем-то вроде Стоунхеджа. Однажды он встретился за ланчем с лордом Лонгфордом, который в 1936-м, еще когда учился в Оксфорде, пострадал, протестуя на митинге чернорубашечников‹22›. К ним приблизился Майкл Фут, кренившийся в политике влево так, что чуть не падал, и любезно приветствовал: «Приятно снова встретить вас, сэр Освальд». Интервью «Таймс», в котором Мосли объявил, что закончил черновую версию автобиографии‹23› объемом в 225 000 слов, подтвердило этот его двойственный статус. Мосли отстаивал веру в европейский союз как единственную возможность избавить Великобританию от финансового дефицита (тут он далек от Партии независимости). Его представляли как фигуру из прошлого, чьи великие идеи некогда привлекали внимание, но оставили только слабое воспоминание о некоем смутном зле.
«Из любимца он превратился в чудовище, — подводил итоги интервьюер, подразумевая политический путь от кандидата в премьер-министры до фашистской угрозы, — а теперь сделал маленький шажок или даже два в обратном направлении?» В 1966 году он в последний раз принял участие в выборах, на сей раз в Шордиче (опять ноги несли его в Ист-Энд). Диана признавалась Деборе, что ожидает исхода со страхом. Оказалось, что жители Ист-Энда ничего не забыли: Мосли набрал всего 1600 голосов, его политическая карьера давно завершилась, еще тридцать лет назад. «Боюсь, мой дорогой Кролик не выиграет, как ни старайся, — писала Диана. — Хоть бы он наконец и сам это понял». Вождь перестал быть вождем.
Но Мосли никогда бы не сказал, как Дэвид Ридсдейл перед смертью: «Из меня вышла вся ярость». Дэвид сказал эти слова жене. Между ними произошло нечто вроде примирения — они даже переписывались под конец долгой разлуки, — когда она приехала к нему в Ридсдейл-коттедж на восьмидесятилетие в марте 1958-го. Маргарет стала частью его настоящего, то есть несущественного — а на первый план вышло прошлое, то есть Сидни, Дебора и Диана, которая потом писала: «Никогда не забуду то выражение на лице Пули, когда Муля появилась у его изголовья, улыбку чистейшего счастья. Все их размолвки забыты, они оба словно вернулись на двадцать лет в прошлое, в счастливую пору до наших трагедий». Через три дня, когда жена и дочери отбыли, Дэвид умер. Его похоронили в Свинбруке, где уже был возведен памятник Тому и где покоилась в могиле Юнити. Нэнси писала Джессике о том, как их отец, некогда гигант, полный жизни, вернулся в эту церковь в маленькой коробчонке с прахом: «Такие свертки он привозил нам из Лондона, плотная коричневая бумага, немыслимой аккуратности узлы… увы, жизнь человеческая!»
Дэвид не оставил ничего Джессике, и об этом, как ни странно, писали газеты («Красная овца вычеркнута из завещания»). Она глубоко обидела его дурацкой попыткой пожертвовать свою долю Инч-Кеннета коммунистам. А сама вместе с мужем в 1958-м вышла из партии.
Нэнси, великодушная на свой колючий лад, уступила свою долю острова Джессике. Позднее, унаследовав кое-какие деньги со стороны Ромилли, Джессика выкупила остров целиком и отдала матери в пожизненное владение — так маленькая семейная история, которая, как многие истории в этой семье, причинила столько ненужных обид и страданий, описала полный круг и наконец исчерпалась.
Истинные причины, по которым Джессика не общалась с отцом с 1937 года и до самой его смерти, были не так просты. Она договорилась с матерью, что повидается с Дэвидом во время визита в Европу в 1955 году, но при этом шутливо и опять же типично для нее писала: пусть Дэвид не «рычит» на ее семейство. «С ним такое еще бывает?» И вдруг Сидни, так старавшаяся подольститься к Джессике, окуталась ледяным холодом: «Поскольку ты поставила условия, лучше тебе не видеться с Пулей». Потрясающий ответ женщине, которая только что потеряла сына, и кому, как не Сидни, это понимать. Быть может, она поддалась внезапному желанию отомстить за недостаток сочувствия, проявленный Джессикой в прошлом; быть может, хотела защитить мужа, к которому все еще питала добрые чувства, — тут, как всегда, все неоднозначно. Но этот ее поступок, возможно, помогает объяснить «Достопочтенных и мятежников».
Независимо от ситуации с Джессикой, Дэвид под конец жизни, кажется, чувствовал себя счастливее, чем на протяжении двадцати предшествующих лет. Он даже продолжал на прежний лад веселить женщин своей семьи. «Передай от меня привет портье», — крикнул он вслед Сидни, уезжавшей в отель «Обан». Примерно так же уходит в последнем романе Нэнси «Не говорите Альфреду» (1960) дядя Мэтью, прощаясь с Фанни у английского посольства в Париже.
— Утром я не стану беспокоить тебя, Фанни. Знаю, до семи утра ты не очухаешься, а мне в полшестого выезжать. Большое спасибо за все.
— Приезжай снова! — сказала я.
Но он ушел навсегда.
5
Через пять лет дочери, похоронившие в Свинбруке останки отца, собрались в том же составе на острове Инч-Кеннет.
Сидни, которую так трудно было любить и которой поневоле приходилось восхищаться, прожила последние годы с типичным для нее царственным стоицизмом. Призрак Юнити витал возле часовни рядом с козами, которых Сидни по-прежнему разводила. Тоска по сыну так и не отпустила ее. «Очень мило и внимательно с твоей стороны черкнуть мне словцо к дню рождения Тома, — писала она Диане в январе 1957-го. — Боюсь, я никогда не перестану горевать о нем». Она оплакивала и мужа — возможно, горестнее, чем он того заслуживал. Вовне Сидни чувства не проявляла, но они терзали ее изнутри, и в этом больше сходства с Нэнси, чем она готова была признать, — их общая беда.
Когда Джессика подписала договор на «Достопочтенных и мятежников» (1960), Сидни писала ей: «Замечательная новость… страницы, которые ты мне посылала, показались мне очень хорошими». Как это отличается от кислого «снова эта семейка», которым мать встретила издание «В поисках любви». Позже Сидни попросит вычеркнуть несколько второстепенных абзацев, а потом будет ругать Джессику за часть написанного. Однако она быстро смягчалась по отношению к этой дочери и гораздо жестче обращалась с Нэнси: ее эссе о детстве, «Блор» (1962), намного менее критическое, побудило Сидни удалиться в свою собственную ледяную келью. Она чувствовала, что смешливая Джессика внутри гораздо жестче сестры и с ней можно поссориться навсегда, — Нэнси, состоявшая из слоев колкости и ранимости, никогда бы на такое не пошла.
Как ни удивительно, сестра Сидни Малютка, не выносившая девочек Митфорд с их «тиранией» и весь митфордианский миф считавшая вздором — дескать, глупо выпендриваются и набивают себе цену! — набросилась на Джессику с критикой, рискованно близкой к истине: «Я лично никогда не забуду, с какой варварской жестокостью ты обошлась с родителями. А теперь, негодяйка подлая, ты явилась снова, написала кучу отвратительных гадостей о матери и из нее же сосешь соки». И это тоже отчасти правда — как желание правды есть в «Достопочтенных и мятежниках».
Нэнси, со своей стороны, писала старому другу Хейвуду Хиллу: «Диана в ярости и оскорблена за мать». Сидни, подчеркивала в письме Нэнси, «всегда и во всем» стояла за Джессику, но из книги это никак не следует. По правде говоря, «Достопочтенные и мятежники» не пришлись по вкусу всем сестрам, каждая в той или иной мере сочла это перелицовкой прошлого — и они были хотя бы отчасти правы. «Она бессознательно копировала мои книги, — поясняла Нэнси Хиллу, — а не реальную жизнь, и различные модификации правды, каких потребовала форма романа, теперь воспринимаются как истина». «Достопочтенные и мятежники» — произведение искусства, как и «В поисках любви». Джессика использовала книгу сестры как трамплин, с которого она смогла прыгнуть на сторону обиженных, и это стало возможным как раз потому, что Нэнси столь искусно пересоздала Митфордов и придала их юности новую цену То есть Джессика получила двойную выгоду — присвоила себе миф и им же возмутилась. Однако ее книга и сама по себе отлично написана и заслужила огромный успех. «Ох, милая, — писала Дебора Нэнси, — хорошо, что это скоро закончится». Но «это» никак не заканчивалось.
Джессика была не слишком одарена чувством вины — или, точнее сказать, это чувство подчинялось ее убеждениям. У Нэнси оно было намного сильнее. Последние годы перед смертью матери она обдумывала автобиографию, в которой рассказала бы все об отношениях с Сидни. Однако на нее нахлынули старые гнев и мука — как в детстве, когда она закатывала посреди улицы истерику, — стоило матери отреагировать на эссе «Блор»: «Пока я читала, у меня сложилось впечатление: все, что бы я ни пыталась сделать для каждой из вас, вышло неправильно, плохо, — это ужасная мысль, а теперь уже ничего не поправишь».
Трудно сказать, насколько искренней была в этот момент Сидни, однако ведь и правда многое из того, что она делала, вышло плохо, — а у кого бывает иначе? Такова природа семьи, но в семье Митфорд эта природа проявилась особенно драматично. В 1946-м Диана писала Нэнси, что видела «Дом Бернарды Альбы» Лорки, драму, где строгая мать управляет пятью дочерями, не отпуская их от себя: «В точности про Мулю и нас». Она шутила, но эта шутка — еще одна грань истины. Сидни действительно доминировала в семье. Дочери вырвались из-под ее власти, но ускользнуть от матери не могли. Тот образ, который сложился у Нэнси и Джессики, был правдой, но была права и Диана; доля истины была и в том, что каждая из сестер думала о других. Истолкования семейной драмы множились, и ни одно из них нельзя считать истиной в последней инстанции, хотя, если учесть характер девочек Мит-форд, — их способность к самоубеждению, — каждая, конечно, только себя считала правой. Они спорили до тех пор, пока из шести не осталась только одна, Дебора. Ее инстинктивная честность, несклонность усложнять и готовность принять сложности сестер, не искажая собственного здравого смысла и характера, обеспечили ей право на последнее слово. Впрочем, сама ее прямолинейность означала, что и это лишь одна из версий.
В 1959-м, когда Джессика встретилась в Лондоне с книгоиздателями и завершила оформление в собственность Инч-Кеннета (который она продаст через восемь лет), Сидни, по-прежнему зимовавшая в старых перестроенных конюшнях на Ратленд-гейт, обнаружила у себя симптомы болезни Паркинсона. Тем не менее она отважно вернулась на свой остров, где ей помогала супружеская пара Магилливри, подставила лицо соленым брызгам, как в юности учил ее отец. Ей было под восемьдесят, а дух оставался таким же неукротимым, как любимый ею шотландский ландшафт. Но через четыре года состояние Сидни сделалось критическим. В мае 1963-го вызвали дочерей. Величественный и грозный остров сыграл свою роль в ее последней болезни, как прежде в последней болезни Юнити: две сиделки ухаживали за Сидни, а врачу помешал вовремя прибыть разыгравшийся шторм. Возможно, ее это устраивало. «Так трудно умирать, — писала Дебора Джессике, — все равно что заново рождаться».
Умирание затянулось. Той же Джессике Нэнси писала: «Дважды казалось, что она отходит», и дважды Сидни возвращалась к жизни — она была крепкой. В привычном для ее отношений с матерью тоне Нэнси жаловалась, что Сидни бранит дочерей, «оттащивших ее от края могилы — и зачем?». «Но мы лишь дали ей попить, когда она просила, это же не значит вытащить из могилы!» И столь характерная для Нэнси смена интонации, внезапная нежность: «Как же она любит одежду, все красивое. Даже в этой ночи похвалила мой халат».
Сидни умерла 25 мая 1963 года. Одиннадцатью днями ранее она попрощалась с сидевшими вокруг нее дочерями и добавила: «Быть может, Том и Бобо — кто знает?» В тусклом свете Инч-Кеннета лица над ее последним ложем были прекрасны и неотличимы одно от другого — ее девочки Митфорд.
Послесловие
Нэнси
До конца жизни оставалась во Франции. После того как последний ее роман «Не говорите Альфреду» встретил в 1960 году неприветливый и довольно-таки несправедливый прием, она вернулась к исторической биографии и в 1966 году опубликовала посвященную Людовику XIV книгу «Король-Солнце». «По-моему, свет еще не видел такой читабельной книги!!!» — писала она Деборе. Изданная как подарочное издание, она хорошо раскупалась, и Нэнси стала богаче прежнего. В «Таймс» о ней отзывались как об одном из авторов, кто «повлиял на речь и манеры целого поколения». Поклонники были многочисленны и подчас неожиданны: Бертран Рассел (дальний родственник) неоднократно являлся на лондонские представления «Маленькой хижины»; Нэнси восхищался Бернард Монтгомери, фельдмаршал, виконт Аламейнский. «Полагаю, вы терпеть не можете Монти — а я его ЛЮБЛЮ», — писала она Ивлину Во. Смерть Ивлина в 1966-м лишила ее главного читателя — того, кто при всех собственных странностях истинно понимал, что более всего ценит в себе сама Нэнси.
В 1967-м Нэнси переехала с рю Месье в маленький дом в Версале. Ей нравилось жить возле дворца, и она лелеяла романтическую идею дикого сада, хотя сам по себе дом был малопривлекателен, и трудно понять, чем он ей приглянулся. Со своей атмосферой уединения и покоя он больше походил на последний приют тихой провинциальной вдовушки. Хотя карьера Нэнси была в тот момент на пике, она устала наконец от высшего света. Все еще энергичная и неумолимо элегантная, она подутратила радостный пыл, с каким осваивала Париж в двадцать лет. Многие друзья умерли — Ивлин Во, Марк Огилви-Грант, Виктор Кунард, бомонд ее славной зрелости. Гастон Палевски вернулся из Рима, но его отъезд, как Нэнси поняла еще в момент разлуки, навсегда изменил их отношения.
В 1968-м умер Питер Родд, сжимая в руке одно из писем Нэнси. И это, как ни странно, тоже причинило ей горе. «Падают с жердочки», — говорила тетя Сэди; а Нэнси говорила: «Еще один шаг к КОНЦУ». И для Нэнси конец был уже близок, хотя она еще дописывала наименее популярную, но в некоторых отношениях самую сильную книгу — «Фридриха Великого» (1970) — Это глубокое исследование — Нэнси объездила поля сражений в Потсдаме, Дрездене, под Прагой, пригласив с собой Пэм, — свидетельствует о том, какой путь она прошла от талантливой дебютантки до серьезного, хотя по-прежнему занимательного исследователя. Что бы там ни говорила Джессика, это хорошее свидетельство в пользу самообразования.
В конце 1968-го Нэнси впервые почувствовала боль в левой ноге. В начале следующего года здоровье стало ухудшаться. «Что бы это значило?» — писала она Диане в феврале 1969-го. В парижскую пору Нэнси наслаждалась отменным здоровьем, да и не в ее характере было верить в тяжелые болезни («это для прислуги», утверждала Диана Купер). Тем не менее она обратилась к врачу, а тот велел ей оставаться в постели в ожидании анализов. Тут-то ее навестил Палевски. «Привет, Полковник, а у меня рак», — сообщила она, застав его врасплох: он-то пришел сообщить, что собирается вступить в брак с получившей развод Виолеттой де Талейран-Перигор.
Так началась ее борьба — воля к счастью только окрепла в преддверии смерти. Но рассказывать об этих четырех годах нелегко. Один врач за другим, анализы, операции, и сквозь все это — воспоминания о Полковнике, его последнем, деликатно оформленном предательстве. Джессика настаивала, что Нэнси должна знать свой диагноз, — хотя он еще не был однозначно подтвержден, — но Диана справедливо считала, что старшая сестра жила иллюзиями и в эту пору нуждалась в них как никогда прежде. В 1972-м стало ясно: это лимфома Ходжкина, та разновидность рака, от которой все тело наполняется такой болью, что Нэнси могла, по словам Деборы, только «сидеть в постели и рыдать». По ночам, признавалась она Джеймсу Лиз-Милну, ей страшно не хватало Блор.
Палевски навещал ее, их дружба — тоже форма любви — не оскудевала. В 1972-м он добился для Нэнси ордена Почетного легиона — сбылась ее давняя мечта. Диана чуть ли не на себе снесла сестру вниз по лестнице, чтобы она могла предстать перед Полковником, и тот приколол орден к ее платью. Нэнси плакала. «Он славный старикан», — отозвалась Диана о Палевски. Затем Нэнси получила также орден Британской империи и призналась Диане, что главным образом ее тешит мысль, скольких людей ее награждение обозлит.
Как прежде они собирались у одра матери, так теперь сестры спешили к Нэнси. Более всего умирающая нуждалась в спокойном духе Памелы. Диана, вопреки сценам ревности, которые устраивал Мосли, приезжала ежедневно.
«Могу я хоть что-то для тебя сделать?» — окликала сестру Дебора, и Нэнси отвечала: «Ничего. Но я все бы отдала за один день на охоте». Подоспела из Калифорнии Джессика, они с Нэнси не виделись сорок лет. «Она выглядит как прекрасная обветшавшая статуя…. Боже, как это странно». Сестры были друг с другом вежливы, но не более того. Однако потом Джессика признавалась, что хранит короткое, ласковое письмо, присланное Дианой после смерти Нэнси: «Его было приятно получить».
Именно Джессика, на которую чаще всего обрушивались раздражение и отчаяние Нэнси — странный отзвук детских подначек, оказавшихся в итоге столь удивительно продуктивными, — расслышала, как Нэнси шептала врачу: «Je veux те depecher»[34]. И все же она чуть отсрочила уход: к ней спешил Полковник. Он явился в маленький домик вместе со своей собакой, взял Нэнси за руку. Она была почти без сознания, однако ему показалось, что она слегка улыбается:
«Oh! Fabrice — on vous attend si longtemps».
«Comme c’est gentiV»[35].
Она умерла в тот же день, 30 июня 1973 года, и похоронена в Свинбруке подле Юнити.
Памела
До 1960-го жила в замке Тулламейн после развода с Дереком Джексоном, сделавшего ее восхитительно богатой. С ней вместе жила другая любительница лошадей, Джудитта Томмаси, смешанного немецко-итальянско-швейцарского происхождения. Диана считала их отношения «своего рода браком», а Джессика, более прямая, констатировала, что сестра сделалась «сами-знаете-биянкой». Памела дружила и с Руди фон Симолином, который общался в Мюнхене с Юнити и знал о ее намерении покончить с собой. В 1958-м Диана сообщала Деборе, что Джудитта Томмаси хочет перебраться в Рим, но Памела «положила глаз на Баварию и Руди».
Но она оставалась до 1962 года в Ирландии вместе с Джудиттой, а затем они перебрались с любимыми таксами в Цюрих. Дебора впоследствии выражала недоумение, отчего сестра больше не выходила замуж. «Полагаю, на самом деле этому воспрепятствовала Джудитта», — решила она, однако так и не смогла до конца разобраться в тайне их отношений. Смерть Джудитты в 1992-м, по словам Деборы, Памела приняла «с изумительной невозмутимостью».
Памела, вероятно, была из них всех самой жесткой и лучше остальных умела скрывать чувства. Когда скончалась Нэнси, Памела сказала Диане: «Нард, что от себя скрывать: она загубила нам четыре года», подразумевая затянувшуюся и мучительную болезнь сестры. Столь шокирующе умела высказываться только Нэнси. Возможно, Памела оправдывала это воспоминаниями о бесконечных насмешках, которым подвергала ее сестра в детстве. Впрочем, когда дочь Джессики Констанция приехала к тетям в Чэтсуорт, у нее сложилось впечатление, что все они издеваются над Памелой. «Жестоко — словно она не ваша плоть и кровь», — подумала племянница. Да и внешне Памела казалась не их «плотью и кровью». Тем не менее ее спокойная, приглушенная манера держаться и внезапные высказывания вызывали у Дианы и Деборы искренний и незлой интерес («удивительно устроена Женщина»). Так же они воспринимали и ее одержимость едой. Пообедав с Гитлером, она главным образом запомнила вкус курятины.
Памела жила в Европе, пока живы были ее таксы; немецкому журналу она сообщила, что собакам больше нравится континент. Затем в 1972-м она вернулась к привычному образу жизни в сельской Англии — поселилась в деревне Кодл-грин в Глостершире. В ее распоряжении имелись Вудфилд-хаус, восемь акров, свинарники и конюшни, великолепный огород и черный лабрадор. Памела избиралась в приходской совет, являлась на совещания с «не-царапкой», как называла этот предмет Дебора (кожаный портфель, к которому она никому не разрешала притрагиваться). С Джессикой она полностью помирилась после ссоры из-за биографии Юнити (разрыв продолжался больше года). Она продолжала дружески относиться и к Дереку Джексону. «Привет, коняга», — сказала она ему, встретившись с ним в Чэтсуорте на свадьбе дочери Деборы Софии.
Постепенно Памела отступала в мир иных, многочисленных и безвестных Митфордов, которые жили в провинции и никогда не распушали перья — как ее дядя Бертрам, главный шериф Оксфордшира, который унаследовал от Дэвида титул лорда Ридсдейла и держал призовую отару гемпширдаунской породы. Памела обзавелась еще одним домом, коттеджем в Свинбруке, возле того, где жили во время войны Сидни и Юнити. Она разводила кур, как ее мать, и сделалась специалистом по птицеводству. В 1986-м приехавшая погостить в Свинбрук-коттедж Диана так замерзла, что оставалась в постели, читая Стриндберга, пока сестра пыталась справиться с норовистой плитой «Рейберн».
В старости сказались последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Памеле приходилось опираться на две палки при ходьбе. В 1994-м, в Лондоне, она упала и сломала ногу. Очнувшись после операции, спросила Дебору, кто выиграл кубок Грэнд-Нэшнл. Через три дня, 12 апреля, Дебору срочно вызвали в больницу: десятью минутами ранее у Памелы оторвался тромб и она умерла. «Цыпа. Вообрази себе», — написала Диана Джессике.
Утрата горестно отразилась на всех сестрах. Словно исчезло нечто, казавшееся вечным, как дождь. Пэм похоронена в Свинбруке, рядом лежат еще три сестры, но ее могила отделена от других.
Диана
Во время болезни Нэнси пережила свой период испытаний: почти ежедневно моталась из Орсэ в Версаль — при том, что и сама страдала от тяжелых мигреней. Диана посещала сестру с такой же верностью, как мать посещала саму Диану в Холлоуэе. Правда, чувство долга перед Нэнси вступало в противоречие с необходимостью находиться рядом с Мосли. «Я бы хотела остаться у нее, однако это было невозможно, — писала она в дневнике. — Если бы я не вернулась, он бы встретил свой день рождения в одиночестве».
В 1977-м Диана опубликовала автобиографию, «Жизнь в контрастах». Ее ожидал предсказуемый прием: стилем восхищались, содержание критиковали. После выхода книги Диана дала интервью в «Шоу Рассела Харти» на Би-би-си. К этому выступлению тоже отнеслись неоднозначно, однако саму Диану если что и смутило, то разве лишь звуки собственного голоса. «Возможно, ты бы померла со смеху», — предупреждала она Дебору, которая пропустила передачу. В 1980-м она опубликовала биографию герцогини Виндзор, с которой дружила. Мосли, который хотел распоряжаться даже временем Дианы, просил ее не тратиться еще на одну книгу, хотя она писала по ночам.
У Мосли к тому времени диагностировали болезнь Паркинсона. Тем не менее до конца 1980-го, до своего 84-летия, он был довольно крепок. Постепенно Диане приходилось помогать ему раздеваться, лечь в постель. В ночь на 3 декабря она просыпалась несколько раз и подходила к нему. В четыре часа утра она обнаружила его мертвым на полу. Сжимая мужа в объятиях, Диана звала: «Любимый, любимый, вернись к своему Першерону». Ее скорбь была столь же безмерной, как любовь, — любые чувства Дианы достигали размаха греческой трагедии. В 1981-м ее частично парализовало, словно от инсульта. Оказалось, что у нее в мозгу выросла большая доброкачественная опухоль — как считала сама Диана, из-за тяжелой утраты. И кто готов с этим спорить? Правда, едва ли можно согласиться с ее версией, будто сгубивший Нэнси рак спровоцирован недостатком любви и избытком злости, — к этому выводу Диана, разумеется, пришла, задним числом узнав о предательстве Нэнси во время войны.
От сложной операции Диана быстро оправилась (кто-то слышал, как при виде явившегося навестить ее лорда Лонгфорда она пробормотала: «Он принимает меня за Майру Хиндли»[36]). Но от депрессии ей так и не удалось избавиться. В декабре 1981-го она писала своему пасынку Николасу: «Дорогой Никки, сегодня первая годовщина, а для меня все еще длится та ночь, потому что это была ужасная ночь». Через год она разругает Николаса из-за первого тома его прекрасных взвешенных мемуаров о Мосли («Правила игры»). Любовь граничила у нее с безумием. Но есть нечто мучительное в ее письме к Деборе, предлагавшей сестре помощь во время болезни: «Мне нужен Кролик и больше никто, а он не придет».
Постепенно Диана вернулась к творчеству. «Любимые» (1985) — собрание портретов друзей и родных (и точный слепок времени, помимо прочего). Она писала рецензии для «Ивнинг стандард» и «Букс энд Букмен». Из-под ее пера не вышло ни единого лишнего или неверного слова; даже когда она отстаивала дело Мосли, ее аргументы оставались ясными и точными, словно геометрия. Джеймс Лиз-Милн ценил ее как писателя выше Нэнси. Без сомнения, она была более строгой и более изысканной, что ему, вероятно, нравилось (а может быть, ему нравилась сама Диана), однако в ее книгах недостает живого творческого огня — он весь ушел в жизнь.
В 1989-м Диану пригласили на «Диски необитаемого острова». Она поговорила там и о своей дружбе с Гитлером («не жалею об этом»), и о том, справедливо ли обвинять ее мужа в антисемитизме: «Он вовсе не был анти, знаете ли. Он бы не отличил еврея от нееврея. Но на него так часто набрасывались евреи… и он принял вызов». На вопрос о Холокосте она ответила: «Боюсь, что я не верю в убийство шести миллионов. Мне кажется, это немыслимо. Слишком большое число. Но с точки зрения морали шесть миллионов или один — не имеет значения. Это совершенно неправильно. Я считаю это ужасным дурным делом».
Такова была ее позиция. Диана категорически осуждала Окончательное решение, но не в той форме, которая удовлетворила бы публику. Она не сказала тех слов, которых от нее ждали: она продолжала действовать на своих условиях. За исключением отношений с Мосли, она делала все по-своему и на своих условиях. И каким-то образом ей удалось то, чего не достигла никакая другая женщина: этот принцип тоже стал элементом ее обаяния.
Диана покинула «храм Славы» в 1999-м, перебравшись в красивую, светлую квартиру на рю де л’Университе. К тому времени она почти полностью оглохла — визиты в оперу еще с 1965-го не доставляли ей удовольствия, — но у нее оставались книги, глубочайшая любовь к литературе и семья. На следующий год Диана отпраздновала девяностолетие в «Отеле Крийон», окруженная более чем сорока своими потомками.
И сохранялась митфордианская связь, соединявшая Диану с Деборой, — последняя пара и единственная, где сестры никогда не обманывали друг друга. Их взаимное обожание было подлинным и не остывало. Политических убеждений Дианы Дебора не разделяла и даже не понимала, но принимала их вместе с Дианой и считала, что во второй половине жизни Диана «приближалась к святости». Молча подразумевалось, что это поразительное великодушие служило своего рода искуплением за прошлое.
Они переписывались до самого конца. Основной темой оставалось митфордианское прошлое: «Боже, как все возвращается». Они общались детскими, девичьими голосами — в этом отношении обе так и не состарились. Не утратила Диана и красоту, неотъемлемую часть себя.
Переиздание «Жизни в контрастах» (2000) сделало ее модной публичной фигурой. Диана всегда возбуждала острый интерес, но, как и в случае с Мосли, желание осудить и унизить ее сменилось чем-то более честным — попыткой проникнуть в ее тайну. Сделать это было невозможно, но Диана заслуживала таких усилий.
В июле 2003-го у нее случился небольшой инсульт, от госпитализации она отказалась. Она умерла 11 августа, была кремирована на кладбище Пер-Лашез. Верующей она не была, ее богом стал Мосли. Прах Дианы упокоился рядом с Юнити возле церкви в Свинбруке.
Никто из тех, кто ее знал, не сумеет ее забыть.
Джессика
В 1963 году опубликовала «Американский способ смерти» о вопиющей коммерциализации похоронной отрасли. Книга стала бестселлером номер один, принесла за год примерно 115 000 долларов и положила начало литературной карьере, одно время не менее звездной, чем у Нэнси. Джессика нашла ремесло себе по руке — журналистику. Она была бесстрашна, обожала споры и публичность, чтение собственных рецензий и вырезок, обладала развитым общественным темпераментом. Впоследствии она написала «Американский способ рожать», а затем «Доброе и обычное наказание» (об американской тюремной системе). Сборник ее статьей был опубликован под названием «Разгребая грязь» — никто более из сестер Митфорд не думал о себе в таком ключе.
Публичной фигурой Джессика сделалась с немалым удовольствием. «Судя по шумихе, — писала „Таймс“ в статье 1965 года, посвященной „Американскому способу умирать“, — влияние мисс Митфорд на заокеанскую аудиторию немногим уступает успеху „Битлз“ и может оказаться существенно более продолжительным». В 1960-е и 1970-е она чаще прежнего приезжала в Европу. Позволила Нэнси таскать себя по модельным домам, где оставила немалую часть роялти. В Лондоне Джессика познакомилась с писательницей Майей Энджелоу, которая стала близким другом (фактически «сестрой», совсем не митфордианской по духу). Джессика ездила в разные города на презентации, появлялась на телевидении, читала блистательные лекции. Выкладывалась изо всех сил, работала, пожалуй, больше, чем Нэнси. Но про нее нельзя сказать, как говорили про Нэнси, что такая жизнь — «за неимением лучшего» (хотя трагедии ей выпали даже пострашнее). Она умела доводить сестер, но не переживала удары судьбы так глубоко, как Нэнси.
Изначально красивая, как все Митфорды, она единственная не смогла сохранить свою внешнюю привлекательность. Остальные, старея, не менялись, Джессика же растолстела, но чувствовала себя до нахальства удобно в этом облике, словно землевладелица из Котсуолда, прикинувшаяся американской туристкой, — да в общем, она такой и была.
Она продолжала политическую деятельность, и ее примеру последовала Констанция, участвуя в движении за равные права. Констанция родила двух сыновей от одного из лидеров экстремистского движения «Власть черных». Сестры немало заинтересовались тем фактом, что Джессика вроде как не одобряет этот роман, — неужто вернулась к корням?
В 1978-м она опубликовала второй том автобиографии («Добрый старый конфликт»). Памела откликнулась: ей очень понравилось, но зря Джессика утверждает, будто осталась в Америке из-за того, что вся ее семья держала сторону нацистов. «Это лишь твое мрачное воображение», — заключила она. Джессика обладала завидной способностью отмахиваться от подобных замечаний. Она также написала воспоминания о своем друге Филипе Тойнби под названием «Лица Филипа» и книгу о Грейс Дарлинг («Серой скворушке») «Английское сердце Грейс» — над этой работой она отчаянно скучала. Как и Диана, она принимала участие в «Дисках необитаемого острова».
В 1985-м Джессика узнала о романе мужа с давней подругой семьи. «Звучит очень скверно, бедная Декка», — писала Диана Деборе, но брак устоял. Диана сохранила привязанность к сестре, которая в детстве ее обожала, и всю жизнь носила брошь, которую Джессика отдала ей перед бегством с Ромилли. Джессика, со своей стороны, видимо, жалела о разрыве — под старость он превращался почти в нелепость, — но понимала, что зашла чересчур далеко и не сможет теперь восстановить отношения. После смерти Мосли она передавала соболезнования через Дебору с беспомощной припиской: «Ты же знаешь, как оно, Цыпа».
Единственная из сестер она курила и пила — как Хемингуэй. В середине 1990-х дочь, выучившаяся на медсестру, сказала Джессике, что она превращается в алкоголика. После этого разговора, писала Констанция Майе Энджелоу, Джессика завязала раз и навсегда, на одной силе воли, которой у нее всегда было в избытке. Это благотворно сказалось и на ее браке. Но привычка к никотину оказалась сильнее даже Джессики. В июне 1996-го у нее обнаружили рак легких, и развязка наступила очень быстро. Болезнь обошлась с ней намного милосерднее, чем с Нэнси, но отвагой Джессика не уступала сестре. Деборе она писала: «В том-то и суть, Цыпа: НАМНОГО лучше, чем просто попасть под машину или в авиакатастрофу». На последние дни ее отпустили домой. Метастазы ураганом распространялись по всему телу. Майя Энджелоу приехала и пела для нее. В ночь перед смертью, 22 июля, она поговорила по телефону со своей Цыпой. «Она понимала, что это я», — писала Дебора Диане.
После простой службы в одном из зданий Сан-Франциско ее прах был развеян над морем. Она не признавала американского способа смерти. И от английского ушла.
Дебора
На ее долю выпала, без сомнения, самая приятная участь из всех, какие достались девочкам Митфорд. Ей пришлось много трудиться в Чэтсуорте, но — боже, какая замечательная работа!
Как говорил Линде Фабрис де Советер в романе «В поисках любви»: «Словом, рад вам сообщить, мадам, что я — очень богатый герцог, а это самое приятное для человека положение, даже в наши дни». К тому времени как богатый герцог — супруг Деборы — унаследовал свой титул, «наши дни» сделались еще менее приятными, хотя все относительно. Посетив сестру в 1955-м, Джессика писала подруге: «Из-за налога на наследство бедняжки не могут позволить себе жить в „домике“ (который им принадлежит) в деревне (которая им принадлежит), и приходится пускать в усадьбу туристов…»
«Я не хочу, чтобы на мне все закончилось», — говорил муж Деборы. Разумеется, то была нелегкая борьба против новых времен — пытаться в послевоенную эпоху удержать имение таких размеров. В конце концов в 1957-м герцог с герцогиней перебрались в усадьбу и Дебора приняла предложение мистера Эттли сделать из Чэтсуорта коммерческое предприятие. Эндрю, далекий от снобизма, как и большинство подлинных аристократов, настаивал на том, чтобы впускать туристов с парадного входа, открыть для обзора больше помещений и предоставить людям возможность свободно гулять и устраивать пикники в садах (за исключением только Старого парка, где обитали олени). Все прочие детали он предоставил улаживать Деборе. Она, как и ее мать, обладала непревзойденным вкусом — и эффективностью просто фантастической.
Впоследствии Дебора писала, что декоратора не стала нанимать, поскупившись платить за то, что вполне могла сделать сама. «К тому же я наслаждалась каждой минутой»‹1›. Ее подруга Нэнси Ланкастер, чьи интерьеры Деборе очень нравились, комментировала: «Если б я сделала этот дом для тебя, тебе пришлось бы продать его, чтобы со мной расплатиться». Дебору часто спрашивали, как у нее такое получилось. Многие помогали, охотно отвечала она и всегда решительно отвергала популярную хвалу, что она «спасла» прекрасный старинный дом: «Это было решение Эндрю — сохранить Чэтсуорт». Однако никто не мог бы исполнить роль современной хозяйки замка лучше Деборы — той, в ком даже здравый смысл обладал каким-то неувядаемым обаянием.
В 1960-м Эндрю получил должность парламентского заместителя министра по делам Содружества, и герцоги Девонширские совершили официальные поездки в Африку и на Карибские острова. Через год их пригласили на инаугурацию давнего партнера Деборы по танцам — Джона Кеннеди. После гибели Кик, вдовы Билли Хартингтона, в авиакатастрофе в 1948-м Дебора поддерживала отношения с ее семьей, а оставшиеся в живых Кеннеди (Роуз, Бобби, Тедди, Джек) по очереди посещали могилу сестры и дочери в Эденсоре. Дебора успела очень привязаться к президенту незадолго до его убийства. Он был, по ее словам, редкостью среди политиков: умел и любил смеяться над собой. Дебора посредничала в отношениях между Кеннеди и тем, кого называла «дядей Гарольдом», — премьер-министром Макмилланом, женатым на дочери герцога Девонширского — и в 1962-м ее позвали в Вашингтон вместе с Макмилланом «для укрепления англо-американских отношений». В том же году, в разгар Карибского кризиса, Кеннеди побывал на выставке рисунков из Чэтсуорта в вашингтонской Национальной галере и после обеда в Белом доме предложил позвонить Джессике прямо из Овального кабинета. Он явно находился под обаянием этой женщины — перед аристократической уверенностью в себе он так же не мог устоять, как в свое время не устоял Гитлер. «Муля думает, ты с Кеннеди — в точности Пташка и Гитлер», — ехидничила Диана.
Вот только Дебора была еще и очень женственна и привлекательна. И если ее чары оказывались не столь мощными, как у Дианы, все же перед ними мало кто устоял. Нэнси только поспевала изумляться и дразнить Дебору ее друзьями: плейбой Али Хан (Джангл-Джим) подарил ей скакового коня, а уж Кеннеди! «Наша проворная сестренка махнула через океан и проводит тет-а-тет за тет-а-тетом, воркуя с главой твоей страны», — писала она в 1961-м Джессике. Это всегда было типично для Нэнси. Однако Диане, которая в 1963-м высказалась насчет бессмысленности брачных обетов, которые никто не соблюдает, — «все мы прелюбодеи и прелюбодейки» — Нэнси возразила: «Не совсем верно, ведь Дебо абсолютно чиста». (Диана призналась, что имела в виду себя, Нэнси и, как ни странно, Памелу.)
Брак Деборы тоже не был безоблачным: у Эндрю имелись проблемы с алкоголем, и об этом они говорили откровенно. Тем не менее они были счастливы в своем совместном деле — быть Девонширами. Впрочем, эта великолепная жизнь предъявляла свои требования: принимать членов королевской семьи, развлекать политиков, позировать Люсьену Фрейду — это был первый из гостей Чэтсуорта, кто нарисовал его обитателей; присутствовать на таких событиях, как свадьба принца Чарльза с леди Дианой Спенсер в 1981-м («она, разумеется, была сумасшедшей», писала Дебора сестре Диане после гибели принцессы). Семейная жизнь, имение Чэтсуорт, общая страсть к спорту и скачкам — Эндрю принадлежала одна из лучших кровных кобылиц нашего времени, Парк Топ, — все это складывалось в замечательно прочную и надежную жизнь, над которой свободно парил торжествующий митфордианский дух Деборы. «О блаженный край», — писала она Диане, побывав в 1997-м в доме своего любимого певца Элвиса Пресли.
Дебора написала историю Чэтсуорта («Дом», 1982) и несколько автобиографических сочинений. Ее язык всюду прост и упоителен, опровергая инфантильные дразнилки Нэнси (мол, младшенькая не умеет читать и писать). В поздние годы она словно магнитом притягивала прессу, журналисты не могли перед ней устоять. Например, в 2001-м она поделилась с «Индепендент» своим обожанием Элвиса и слухами о том, что его видели в разных уголках земли: «Вот бы и к нам на ферму завернул». Статья воздавала должное ее живому, бессмертному обаянию, ее изысканной («о, какая умница!») любезности. «Эти старомодные манеры, — писал покоренный ею интервьюер, — не сдаются, как их ни теснят. В какой-то момент я предложил ей обменяться на будущее лето домами… Она и глазом не моргнула: „Прекрасная мысль“»‹2›. Дебора справлялась со всем, что подсовывала ей судьба, и хотя легким взмахом руки отделывалась от большинства современных ортодоксий — терпеть не могла правительство лейбористов, запрет на охоту и правила охраны труда, — оставалась на удивление популярной. Бестрепетно шагала среди современного пейзажа, воплощая исчезнувшее прошлое. Очень по-митфордиански. И публика это ценила.
После смерти Эндрю в 2004-м овдовевшая герцогиня передала Чэтсуорт своему сыну, ставшему двенадцатым герцогом Девонширским. Сама она вернулась в Эденсор, где ее супружеская жизнь началась во время войны, где она платила два пенса за то, чтобы понюхать лимон на прилавке почты.
Двадцать четвертого сентября 2014 года в возрасте 94 лет, последняя из сестер Митфорд умерла.
Благодарности
Анализ «митфордианского феномена» в значительной степени опирается на книги, посвященные знаменитым сестрам. В особенности на меня повлияли четыре блистательные биографии: «Девочки Митфорд» (The Mitford Girls) Мэри Ловелл, «Юнити Митфорд: расследование» (Unity Milford: A Quest) Дэвида Прайс-Джонса, «Нэнси Митфорд» (Nancy Milford) Селины Хастингс и «Диана Мосли» (Diana Mosley) Анны де Курси. Я многим обязана Шарлотте Мосли, издателю великолепной переписки Митфордов, — без этого источника невозможно было бы написать мою книгу. Мне бы также хотелось отметить «В поисках смеха» (The Pursuit of Laughter) под редакцией Мартина Ринья — чарующее собрание трудов Дианы Мосли.
Я питаю благодарность к Диане Мосли и Деборе, герцогине Девонширской, последним из «девочек Митфорд», с кем я успела поговорить. Эти встречи останутся в моей памяти. Также большой радостью стало знакомство с сыном Дианы, покойным ныне Александром Мосли.
Спасибо агентству «Роджерс, Кольридж и Уайт», которое управляет наследием Нэнси Митфорд и Деборы Девоншир, особенно Джилл Кольридж и Рози Прайс, которые оказали мне большую помощь в получении доступа к фондам.
Сердечная благодарность Энтони Читэму, предложившему мне написать эту книгу, и всем в издательстве Head of Zeus, особенно Ричарду Милбэнку, Джорджине Блэкуэлл и Клэр Нозьерс и моему прекрасному агенту Джорджине Кейпел.
Наконец, благодарю тех, кто предоставил мне право использовать охраняемые копирайтом материалы, а именно:
наследников Нэнси Митфорд и Деборы, герцогини Девонширской, за цитаты из романов, статьей и писем Нэнси;
наследников Деборы, герцогини Девонширской, за цитаты из текстов Деборы;
Шарлотту Мосли и наследников Дианы Мосли за цитаты из статьей и писем Дианы, а также писем к ней леди Ридсдейл;
Бенджамина Уэбера, действующего от имени наследников Джессики Митфорд, за цитаты из писем и книг Джессики;
достопочтенную Розалин Мулджи за цитаты из писем ее отца, Брайана Гиннесса;
Ханну Гудмен и Orion Publishing Group за цитаты из книг «Юнити Митфорд: расследование» (Unity Mitford: A Quest), «Письма Ивлина Во» (The Letters of Evelyn Waugh) и «Достопочтенные и мятежники» (Hons and Rebels);
Джанни Кастелло-Лин и Тонью Старое, президентов исторического общества Беркли, за цитаты из интервью Роберта Трюхафта с Робертом Ларсоном.
Я предпринимала добросовестные усилия, чтобы получить разрешение на использование всех материалов в этой книге. Я приношу извинения за любые упущения и выражаю надежду, что владельцы прав свяжутся с издателем, чтобы исправить подобные ошибки в будущих изданиях.
Список иллюстраций
1. Лорд и леди Ридсдейл (Devonshire Collection, Чэтсворт. Воспроизводится с разрешения Chatsworth Settlement Trustees)
2. Берти Митфорд (© Mary Evans Picture Library)
3. Томас Боулз (Beresford/Getty Images)
4. Нэнси (National Portrait Gallery)
5. Памела (National Portrait Gallery)
6. Диана (Popperfoto/Getty Images)
7. Юнити (Illustrated London News Ltd/Mary Evans Picture Library)
8. Джессика (© Illustrated London News Ltd/Mary Evans Picture Library)
9. Дебора (National Portrait Gallery)
10. Бэтсфорд-парк (foto-zone/Alamy)
11. Свинбрук-хауз (Tim Graham/Getty Images)
12. Астхолл-манор (Country Life Picture Library)
13. Юные Юнити и Джессика (Illustrated London News Ltd/Bridgeman Images)
14. Диана и Брайан Гиннес (Lllustrated London News Ltd/Mary Evans Picture Library)
15. Диана и Нэнси (Illustrated London News Ltd/Mary Evans Picture Library)
16. Нэнси на обложке «Татлера» (Illustrated London News Ltd/Mary Evans Picture Library)
17. Шесть сестер и брат Митфорд (Illustrated London News Ltd/Bridgeman Images)
18. Дебора с подругами (Central Press/Getty Images)
19. Джессика и Эсмонд Ромилли (Keystone/Hutton Archive/Getty Images, p. 11)
20. Дебора в день свадьбы (Keystone/Hulton Archive/Getty Images, p. 12)
21. Дебора (Central Press/Getty Images, p. 9)
22. Освальд Мосли (Daily Herald Archive; Mary Evans Picture Library, p. 8)
23. Юнити в Мюнхене (Mary Evans/Sueddeutsche Zeitung Photo, p. 8)
24. Статья о Юнити в Partout (Roger-Viollet/Topfoto, p. 10)
25. Диана и Освальд Мосли под домашним арестом (Popperfoto/Getty Images р. 13)
26. Юнити, возвращение в Англию (Fred Ramage/Stringer/Getty Images p. 10)
27. Коттедж Юнити (Лора Томпсон, р. 13)
28. Нэнси в Париже (Philippe Le Tellier/Paris Match/Getty Images, p. 14)
29. Роберт Трюхафт и Джессика (Jon Brenneis/The LIFE Images Collection/Getty Images, p. 15)
30. Дебора в 1954-м (Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images, p. 15)
Фото нет
31. Юнити в 1938 году (Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
32. Кладбище в 1938-м в Свинбруке (Лора Томпсон, р. 16)
Примечания автора
Введение. Митфордианский феномен
‹1› На самом деле Женщина — Памела, Хонкс — Диана, Стабби, Стаблоу — Дебора, а Бобо — Юнити.
‹2› Пуля и Мулл — так девочки звали родителей. «Кладовка Цып» фигурирует в «В поисках любви»: огромная кладовка для белья в одном из митфордовских особняков служила детям надежным убежищем.
‹3› Письмо Ивлина Во к Нэнси Митфорд 5 марта 1957 года.
‹4› Сценарий Джулиана Слейда. Премьера состоялась в «Королевском театре» Бристоля в мае 1967-го, но Лондон покорить не удалось. За два года до того Нэнси, писавшая для этой постановки диалоги, но не либретто, сообщила Диане, что одна из песен, исполняемых отцом, начинается словами «Как я хочу, чтоб дочка была леди», но потом Нэнси переделала эту строку на «Я так хочу, чтоб дочка была дурой».
‹5› Это было удивительно. В 1971-м Нэнси одобрила в целом идею тогдашнего главы отдела комедии Би-би-си подготовить серию получасовых программ, основанных на судьбах Митфордов. В авторы намечался Берри Тук, который в ту пору писал ситкомы, а внутренняя рецензия со всей серьезностью утверждала, что Митфорды могут вызвать «не меньший интерес, чем „Сага о Форсайтах“». К счастью, права на «В поисках любви» все еще оставались за кинокомпанией согласно договору от 1946 года, а после смерти Нэнси в 1973-м эта чудовищная затея окончательно была забыта.
‹6› Дебора Росс в The Independent, 12 ноября 2001 года.
‹7› Эссе было заказано Стивеном Спендером и первоначально опубликовано в Encounter, а в 1956-м перепечатано в Noblesse Oblige вместе с ответом Ивлина Во под заголовком «Дост. миссис Питер Родд по очень важному вопросу». Нэнси утверждала, что на рассуждении о «В» и «не-В» настаивал Спендер.
‹8› Мэри Ловелл в The Mitford Girls (Little Brown, 2001).
‹9› Из статьи 1997 года в The Sunday Times.
‹10› Прозвище в рифму с «адюльтер», что почему-то казалось сестрам забавной идеей применительно к брату.
‹11› Автор этой шутки — Дебора, потом ее подхватила Диана, и с тех пор она часто мелькала в их переписке. В 1950-х Дебора побывала на свадьбе, и там, когда собрались резать торт, королева-мать выкрикнула: «Торт!»
‹12› От Smartyboots, «умник», так Нэнси и Ивлин Во аттестовали в письмах этого весьма эрудированного писателя и критика. По-видимому, первой это прозвище ему дала Вирджиния Вулф, но они его подхватили, и Нэнси как-то уверяла, что мадригал, в котором упоминались «славные блестящие бутсы», — тоже о Конноли.
‹13› Редкий случай — это прозвище дал Риббентропу Том Митфорд, почему-то вспомнивший малоизвестную средневековую песенку «Пойди к Джоан Гловер и скажи ей о моей любви».
‹14› Нэнси, во всеуслышание (и слегка лукавя) заявлявшая о своей нелюбви к Америке, издевалась над президентом Кеннеди (другом Деборы) по любому поводу и наградила его этим прозвищем после того, как президента угораздило сфотографироваться в купальном костюме с низким вырезом.
‹15› По мнению Ивлина Во, Нэнси использовала эту интонацию неразборчиво. Прочитав «Любовь в холодном климате», он в свойственной ему сухой манере возражал: Полли, героиня книги, еще может разговаривать, как девочки Рэдлет, но уж точно не сверхутонченный Седрик: «Он — парижский красавчик. Разве Оливер Мессел выражается, как Дебо?» Нэнси несколько откорректировала реплики Седрика, хотя, по правде говоря, из-под его митфордианских словоизвержений и так отчетливо проступает нота светскости.
‹16› В этом поразительном выпуске (2010) Рис Томас в роли журналиста Гэри Беллами имеет дело с различными персонажами, в том числе «сестрами Комб», призрачными версиями Джессики и Дианы, которых играют пропитанные латексом Рози Кавальеро и Люси Монтгомери.
‹17› Дебора сказала это в документальном фильме Би-би-си (1980, режиссер Джулиан Джебб): «Нэнси Митфорд — портрет, нарисованный сестрами». Замечательная передача, вот только она вновь оживила семейный раздор.
‹18› The Independent, 12 ноября 2001 года.
‹19› Диана участвовала в «Шоу Рассела Харти» в апреле 1977-го, когда вышла ее автобиография «Контрасты жизни». Как всегда, она вызвала некоторый фурор, хотя Диана более всего переживала (и то со смехом) насчет своего голоса «как у привидения».
‹20› Cм. рецензию в Books and Bookmen (1974) на книгу: Andrew Boyle. Poor, Dear Brendan: The Quest for Brendan Bracken.
‹21› Этот отрывок появился в снисходительно-развлекательном дневнике (аналоге современной газетной колонки) Дианы в «Европейце» (The European, 1953~1959) — ежемесячном издании, редактуру которого возложил на нее сэр Освальд Мосли, ее муж. Хотя журнал затевался ради политики — о ней Мосли анонимно писал сам, — дневник намного увлекательнее.
‹22› Письмо к Нэнси, 8 ноября 1949 года.
‹23› Как наставляла Диана Роберта Скидельского, биографа Мосли и друга их сына Макса: «Этому [сексу] учиться, все равно что учиться, как съесть батончик „Марс“».
Часть I
‹1› Нэнси перевела «Принцессу Клевскую» мадам де Лафайет (ее любимый роман) для издательства Мосли, Euphorion Books, в 1950 году В том же году Вест-Энд пришел в восторг от ее перевода пьесы Андре Руссена «Маленькая хижина». Диана для Euphorion перевела «Герцогиню де Ланже» Бальзака и «Кюре из Тура». Но самым удачным ее предприятием стал перевод «На рекорд» (1978), автобиографии гонщика Ники Лауды, с которым дружил ее сын Макс. (Макс впоследствии возглавил Международную организацию автоспорта.)
‹2› При чтении отчета о бракосочетании Митфорда и Фульд в «Таймс» возникает престранное ощущение. После свадьбы в Берлине, где давал представление Макс Рейнхардт, новоявленная миссис Митфорд (ее называли самой богатой невестой Германии) была представлена ко двору и побывала на всех светских вечерах в Лондоне. Однако в том же году брак был аннулирован в Германии, а Джек Митфорд подал в суд на свою жену, обвинявшую его в «противоестественном поведении». Сексуальные отклонения? Однако на процессе в 1923-м, призванном установить, аннулирован ли брак и в Британии, выяснилось, что Мари попрекала мужа «пристрастием к мужской праздности». Он в ответ обвинил ее в супружеской неверности. Неудивительно, что после такого опыта Джек предпочел привольную холостяцкую жизнь и больше в брак не вступал. В 1963-м, в 77 лет, он сделался четвертым лордом Ридсдейлом после своего брата Бертрама, который наследовал Дэвиду в 1958-м, но через год умер.
‹3› См.: Mary S. Lovell The Mitford Girls. Там в примечании указано: говорили, что Бланш Хозьер доверила «истину» о происхождении Климентины своей подруге леди Лондондерри.
‹4› См. рецензию: Philip Toynbee. Friends Apart (в The European, 1954).
‹5› Ее внучка Мадо Стюарт стала продюсером на Би-би-си и брала у Нэнси радиоинтервью в 1970-м. Отрывок их милой беседы был включен в фильм «Нэнси Митфорд — портрет, нарисованный сестрами». Нэнси описывает свое видение небес, где звучит «Последний аккорд», а «иногда и соловей… очень на это рассчитываю».
‹6› Нэнси писала Диане в марте 1931-го, что Джордж Боулз высказал такое мнение Сидни, однако выразил надежду, что книга будет неплохо продаваться.
‹7› Нэнси сказала это в интервью для программы «Темпо» на Эй-би-си в 1966 году.
‹8› В «Не говорите Альфреду». Это знаменитая резиденция Монтдоров, которая фигурирует в «Любви в холодном климате» (и обитающая в ней леди Монтдор сожалеет о беднягах, вынужденных жить в Челси).
‹9› См. статью Mothering the Mitfords (The Sunday Times, 1962). Перепечатана в сборнике The Water Beetle (1962) под названием «Блор».
‹10› Это замечание прозвучало в интервью для программы «Темпо» (1966).
‹11› Дэвида поддержал лорд Мойн, чей сын Брайан в 1928-м женился на Диане Митфорд. Оба отчаянно противились расторжению этого брака спустя всего четыре года после свадьбы — и тем не менее к 1937-му оба сочли необходимым облегчить процедуру развода.
‹12› См.: «Нэнси Митфорд — потрет, нарисованный сестрами». Слова Пэм приводятся не дословно, а в передаче чрезвычайно веселившейся по этому поводу Деборы, но смысл был, несомненно, именно таким.
‹13› См.: Counting Му Chickens (Long Barn Books, 2001).
‹14› Месторождение золота, как потом выяснилось, второе по величине в обеих Америках, досталось Гарри Оуксу. Он получил титул рыцаря, переехал на Багамы, чтобы избежать налогов, подружился с тогдашним губернатором герцогом Виндзором. Оукс был убит в 1943 году, и виновника так и не нашли.
‹15› Из «Блор».
‹16› В письме от 26 октября 1976 года Джессика с замечательной честностью признает, что главной причиной была красота Деборы.
‹17› В 1965-м Джессика сообщала Нэнси, что Памела, обнаружив, как две ее сестры разбогатели благодаря своим книгам, тоже задумала стать писательницей.
‹18› Так Диана отозвалась о сестре в разговоре с автором этой книги в 2001 году.
‹19› О своем опыте школьного обучения Дебора повествует в Wait for Me! (John Murray, 2010).
‹20› Мэри Ловелл пишет, что, повзрослев, Юнити говорила об этом подругам.
‹21› См. рецензию на Harold Acton. Nancy Mitford: A Memoir (Daily Mail, 2001).
‹22› The Sunday Times, 1997.
‹23› Из интервью 1966 года для программы «Темпо» (Эй-би-си).
‹24› Общенациональная родительская ассоциация образования (The Parents’ National Educational Union), имевшая хорошую репутацию, организовывала заочное образование (по переписке).
‹25› Мисс Хасси дала интервью для книги David Pry ce-Jones. Unity Mitford: A Quest (Weidenfeld & Nicolson, 1976).
‹26› В телепрограмме Nancy Milford — A Portrait by her Sisters (1980) слышно, как эти слова очень искренне и с полным великодушием произносит Нэнси.
‹27› В разговоре с автором в 2001 году.
‹28› Цитируется по: Anne de Courcy. Diana Mosley (Chatto & Windus, 2003).
‹29› «Достопочтенная мятежница» (The Honourable Rebel), телепрограмма 1977 года, посвященная Джессике.
‹30› Cлова Джессики, обращенные к Нэнси 16 ноября 1971 года.
‹31› The Times (26 апреля 1945 года).
‹32› Бисексуальность Тома (во взрослой жизни) обсуждается в сенсационной книге: David R. L. Litchfield. Hitler's Valkyrie: The Uncensored Biography of Unity Mitford (The History Press, 2014). Также говорили, что Юнити занималась ритуальным сексом со штурмовиками на постели, драпированной флагами со свастикой, устраивала оргии для Гитлера и — с одобрения Дианы — спала с Освальдом Мосли. Доказательств всего этого, мягко говоря, мало. Не исключено, однако, что у Юнити был роман с Алмаши. См.: Jonathan and Catherine Guinness. The House of Mitford (Hutchinson, 1984): некоторые члены семьи полагали, что недолгая связь имела место. Шарлотта Мосли, невестка Дианы, издавшая «Переписку шести сестер» (Letters Between Six Sisters. Fourth Estate, 2007), утверждала в этой книге, что роман с Алмаши — факт несомненный. Это убедительно, хотя большинство проинтервьюрированных для книги Unity Mitford: A Quest из числа тех, кто общался с Юнити в Германии, придерживаются мнения, что речь идет только о дружбе.
‹33› Миссис Раттенбери была оправдана, но ее любовник Джордж Стоунер был приговорен к смерти. Миссис Раттенбери покончила с собой, а Стоунера затем помиловали.
‹34› David Pryce-Jones. Unity Mitford: A Quest.
‹35› Sheilah Graham. Beloved Infidel (Cassell, 1933).
‹36› В разговоре с автором.
‹37› Из Wait for Me!
‹38› Дэвид называл их suar — это тамильское слово, обозначающее свинью, он подхватил на Цейлоне. Дочери расслышали suar как sewer. По точному замечанию Сидни, трудно сказать, какой вариант оскорбительнее.
‹39› Дебора описывает эту детскую привычку в автобиографии Wait for Me! Она также упоминает, что так поступал и ее близкий друг, известный путешественник и писатель Патрик Ли Фермор.
‹40› Из письма другу Генри Йорку (писавшему под псевдонимом Генри Грин) в сентябре 1929-го (The Letters of Evelyn Waugh, ed. Mark Amory. Weidenfeld & Nicolson, 1980).
‹41› Интервью для Эй-би-си (1966).
‹42› В радиобеседе для программы Би-би-си «Женский журнал» (1946).
‹43› The Sunday Times, 1997.
‹44› Бутби, успешный и умевший себя рекламировать политик, ставший в 1958-м пожизненным пэром, жил через дом от лорда Лукана на углу Итон-сквер. Он был дважды женат, и ему приписывалось трое незаконнорожденных детей. При этом он был открытым бисексуалом и добивался отмены законов против гомосексуалов. В Оксфорде он имел только гомосексуальные связи и прозвище Палладиум (в честь шоу, которое шло тогда «дважды в ночь»). В 1963-м он вступил в связь со взломщиком из Ист-Энда. Тот познакомил его с Ронни Крэем, также бисексуалом, который вместе с братом-близнецом Регги был одним из самых знаменитых гангстеров той эпохи (и в 1968-м схлопотал пожизненное). В дальнейшем выяснилось, что Крэй поставлял Бутби юношей в обмен на личные услуги.
‹45› См.: David Pryce-Jones. Unity Milford: A Quest.
‹46› В разговоре с автором.
‹47› Говард покончил с собой в 1958-м, после смерти своего любовника. Ему было 53 года.
‹48› См.: Evelyn Waugh. A Little Learning (Chapman Ь Hall 1964), первый том незаконченной автобиографии Во. Нэнси написала ему, что книга ей, «конечно же», понравилась и что Джессика, тоже превратившаяся в чрезвычайно успешную писательницу, получила предложение написать на нее американскую рецензию «то ли за тысячу, то ли за миллион долларов».
‹49› С 1933-го Брайан успел написать девять романов, шесть книг для детей, две пьесы и три тома воспоминаний. Были опубликованы и его стихи.
‹50› Cм.: Nicholas Mosley. Rules of the Game: Memoirs of Sir Oswald Mosley and Family (Seeker & Warburg, 1982).
Часть II
‹1› См. интервью для David Pryce-Jones. Unity Milford: A Quest. Ланкастер, талантливый дизайнер, наиболее известен карикатурами в «Дейли экспресс», высмеивающими даму из общества Моди Литтлхемптон. Он дружил с Нэнси и нарисовал иллюстрации к ее «Положение обязывает» (Noblesse Oblige) и к сборнику эссе «Водяной жук» (The Water Beetle), по поводу чего Ивлин Во колко замечал: «Эти грубые рисунки только портят ее текст».
‹2› Из письма Диане от 9 марта 1966 года, за месяц до смерти Ивлина Во.
‹3› В разговоре с автором.
‹4› См.: Unity Mitford: A Quest.
‹5› В 1983-м Диана писала Деборе, что случайно встретила Брайана в палате пэров. Она окликнула его, он подошел, поцеловал ее и спросил: «Ты которая из них?»
‹6› Нэнси — Бетжемену, 14 июня 1969 года.
‹7› Цитаты из очерка «Литгон Стрейчи и Кэррингтон» в Loved Ones (Sidgwiclc & Jackson, 1985). Среди других персонажей, воскрешаемых памятью Дианы — Ивлин Во и Джеральд Бернере.
‹8› Интервью в The Times 6 октября 1967.
‹9› Диана опубликовала в The European убийственную рецензию на Old Men Forget: The Autobiography of Duff Cooper (1953). Позднее в письме к Деборе она высказывала предположение, что злобные выпады Купера отчасти объяснялись романом, который его жена в ту пору завела с Мосли.
‹10› Из «Меньше нуля» (Less than Zero), альбом Му Aim is True (1977). Костелло признавал, что написал эту песню, «посмотрев интервью Би-би-си с отвратительным Освальдом Мосли. Былой лидер Британского союза фашистов так и не раскаялся в тех мерзких делах, которые творил в тридцатые. Моя песня — гневная фантазия, а не собрание логических доводов».
‹11› У Мосли сложились неплохие отношения с Бенито Муссолини, и в апреле 1933-го дуче даже выходил вместе с ним на балкон Палаццо Венеция в Риме. Однако Мосли всегда отрицал получение денег от Муссолини. Согласно отчету в The Times (13 ноября 1936), Мосли решительно отверг обвинения в иностранном финансировании, прозвучавшем в палате общин из уст министра внутренних дел сэра Джона Саймона («Мы требуем, чтобы сэр Джон Саймон предъявил доказательства в поддержку своего утверждения»). Тем не менее итальянские документы подтверждают информацию министра внутренних дел. Анна де Курси в биографии Дианы пишет, что Муссолини субсидировал английских фашистов с 1933 по 1935 год.
‹12› Из Nicholas Mosley. Beyond the Pale (Seeker D Warburg, 1983). Из Beyond the Pale by Nicholas Mosley (Seeker & Warburg, 1983).
‹13› Там же.
‹14› См. рецензию в Books and Bookmen (1975) на книгу М. Cowling. The Impact of Hitler: British Politics and British Policy 1933–1940.
‹15› Этот отзыв Элси Корриган, работавшей горничной в Сейв-хее, сельском доме Мосли, приведен в книге: Anne de Соигсу. Diane Mosley.
‹16› Интересное упоминание британского фашизма встретилось в детективе Агаты Кристи «Раз-два-три, туфлю застегни». Девушка описывает Эркюлю Пуаро своего возлюбленного, которого подозревают в покушении, как «одного из этих империал-рубашечников, знаете, которые маршируют со знаменами и отдают дурацкий салют». Организаторы этого движения, по ее словам, «заводят юнцов, совершенно безобидных, как Фрэнк, и те думают, будто участвуют в чем-то прекрасном и патриотическом».
‹17› Dietrich Eckart. Bolshevism from Moses to Lenin (1925).
‹18› Джеймс написал это с позиций не знающего себе равных телевизионного критика: он разбирал в «Обсервер» выпуск из телепрограммы Би-би-си «Сегодня вечером», в котором сэр Освальд Мосли и Дэвид Прайс-Джонс обсуждали написанную последним биографию Юнити.
‹19› Nancy Mitford — A Portrait by her Sisters.
‹20› Cм. рецензию Books and Bookmen (1978) на книгу Mary Craig. Longford: A Biographical Portrait. В 1936-м лорд Лонгфорд — в ту пору Фрэнк Пэкенхэм — присутствовал на бесславном собрании сторонников Мосли в Оксфорде, где ему нанесли тяжелую травму («кто-то наступил мне на почки»). Чернорубашечники набросились на своих противников, орудуя «стальным стульями и велосипедными цепями». Диана, достаточно расположенная к Лонгфорду, спокойно высказала сомнение в его версии событий («что еще за велосипедные цепи»), а присутствовавших там студентов, пытавших сорвать собрание, назвала «дурачками».
‹21› В: Nancy Mitford: A Memoir (Hamish Hamilton, 1975).
‹22› См.: David Pryce-Jones. Unity Mitford: A Quest.
‹23› Из неопубликованной рукописи, хранящейся вместе с бумагами Джессики в отделе редких книг и рукописей университета штата Огайо.
‹24› См.: David Pryce-Jones. Unity Mitford: A Quest. Он нашел экземпляр этого романа с автографом и датой, проставленной рукой Юнити, и, естественно, счел свою находку значимой. С другой стороны, Мэри Ловелл считает чтение Юнити в ту пору случайным, а не формирующим.
‹25› Диана в разговоре с автором этой книги заявила, что мужья всех сестер недолюбливали Нэнси. «Дерек Джексон просто ее ненавидел. А Кролик — ну-у…» (Мосли был известен как Том, но Диана предпочитала прозвище Кролик: все-таки Томом звали ее брата.) Отношения Нэнси с Эндрю Девонширом Диана в этом разговоре не затронула, но и они поссорились окончательно в 1967-м. Что же касается Эсмонда Ромилли, «это другое дело, он вообще никого не любил».
‹26› В Unity Mitford: A Quest приведены слова Тимоти Бейли, сына Малютки: «Я возил тетю Сидни с Дебо и Томом на один из последних больших митингов Мосли в Лондоне». Речь идет, возможно, о собрании в Эрлс-корте в 1939-м, где Том, несомненно, присутствовал. Однако Диана пишет о нем Деборе так, словно ее сестра там не была (и нет доказательств присутствия Деборы ни на одном из таких митингов).
‹27› См.: «Нэнси Митфорд — портрет, нарисованный сестрами».
‹28› В разговоре с автором.
‹29› См.: «Пророчество о мире: дневники 1944–1945» (Prophesying Peace: Diaries 1944–1945. Chatto & Windus, 1977).
‹30› The Times, 26 апреля 1945 года.
‹31› В Unity Mitford: A Quest.
‹32› См. рецензию Клайва Джеймса на передачу «Сегодня вечером» (The Observer, 1976).
‹33› Так говорит привратник выдуманного Дороти Сэйерс оксфордского колледжа в романе «Бурная ночь» (Gaudy Night).
‹34› В Unity Mitford: A Quest.
‹35› Там же.
‹36› Почти до конца Второй мировой войны Джойс вел на английском языке радиопередачи, заявленная и известная цель которых заключалась в подрыве боевого духа союзников. Передачи собирали огромную аудиторию, поскольку зачастую служили единственным источником информации о том, что происходило на вражеской стороне. Лорд Хо-Хо (прозвище, которого Джойс удостоился за доведенный до абсурда аристократический выговор) воспринимался более как шут, чем как грозная фигура. Он родился в Америке, вырос в Ирландии и принял гражданство Германии — что не помешало судить его в Олд-Бейли на том основании, что, когда он начинал вести передачи, он еще числился британским подданным. В январе 1946-го Лорда Хо-Хо повесили.
‹37› Яростно патриотическая пьеса Ноэля Кауарда, премьера которой состоялась в 1931-м, два года спустя легла в основу кинофильма. В ней отражена борьба англичан против немцев в Первую мировую войну.
‹38› Диана решительно — и убедительно — говорит об этом в рецензии в Books and Bookmen (1975) на книгу G. Infield. Eva and Adolf.
‹39› Это утверждалось в документальном телефильме «Британская девушка Гитлера» (Hitler's British Girl), показанном в 2007-м на Четвертом канале. Информацию предоставил журналист-расследователь Мартин Брайт. Двумя годами ранее он опубликовал в «Обсервер» статью, утверждавшую, что попытка самоубийства могла быть симуляцией с целью избежать ареста и обвинения в государственной измене по возвращении в 1940-м из Германии. Брайт опирался на только что рассекреченные документы, в том числе на дневник Гая Лиддела, который возглавлял британскую контрразведку во время войны. Лиддел писал: «У нас нет данных в пользу сообщаемых в газетах сведений, что ее здоровье сильно пострадало. Ее доставили на носилках, вполне возможно, затем, чтобы избежать публичности и неприятностей для семьи». В следующей статье Брайт ясно говорит, что Лиддел ошибался: Юнити действительно прострелила себе голову.
В декабре 2007-го в очередной статье о Юнити (для New Statesman) Брайт сообщил, что с ним связалась женщина, чья тетя во время войны заведовала родильным отделением оксфордской больницы, — там, по сведениям родственников его информантки, Юнити родила ребенка и отдала его на усыновление. И будто бы отцом был Гитлер. Брайт отнесся к этой истории скептически, однако поговорил с пожилой женщиной, которая высказала предположение, что Юнити действительно лежала в больнице, но с нервным срывом, — а эту версию, в свой черед, опровергает Дебора. Четвертый канал провел собственное расследование и обнаружил множество свидетельств о рождении, но ни один из новорожденных, которые появились на свет в этой больнице, не носил фамилию Митфорд (это не такая уж неожиданность).
‹40› Цитируется в «Застольных разговорах Гитлера» (Hitler's Table Talk, ed. Hugh Trevor-Roper, Weidenfeld & Nicolson, 1953).
‹41› Цитируется у Клайва Джеймса в рецензии на телевизионную программу Tonight (The Observer, 1976).
‹42› Джессика — Деборе, 26 октября 1976 года.
‹43› Это убедительно доказывается в книге: Mary S. Lovell. The Mitford Girls.
‹44› A Fine Old Conflict (Michael Joseph, 1977).
‹45› Этот расчет, основанный на серьезных научных трудах, но с неизбежностью приблизительный, приводит Тимоти Снайдер в The New York Review of Books, 27 января 2011 года.
‹46› Нэнси — Ивлину Во, 24 мая 1960 года.
‹47› Письмо от 26 октября 1976 года.
‹48› Daily Telegraph, 25 марта 1960 года.
‹49› В программе «Темпо» (Эй-би-сиддбо).
‹50› В статье «Англия при Гитлере: если бы Германия сумела оккупировать Британию в мае 1940?» (Hitler's England: What if Germany had invaded Britain in May 1940?), опубликованной в сборнике «Виртуальная история: альтернативы» (Virtual History: Alternatives and Counterfactuals, ed. Niall Ferguson. Picador, 1997).
‹51› Из Wait for Me!
‹52› Cm.: William Woodruff. Beyond Nab End (Little, Brown, 2003). Вудраф жил в Восточном Лондоне в 1930-х. Его домохозяйке, утверждал он, «пришлось бы сжечь дом», чтобы избавиться от вредителей.
‹53› The Times, 31 марта 1960 года.
‹54› См.: Friends Apart (MacGibbon & Кее, 1954).
‹55› См.: Unity Mitford: A Quest.
‹56› Там же.
‹57› Там же.
Часть III
‹1› Исследователь пустынь и авиатор Ласло (Тедди) Алмаши послужил прототипом для романа «Английский пациент», опубликованного Майклом Ондатже в 1992 году (затем по книге был снят оскароносный фильм).
‹2› Она с тревогой и грустью писала об этом Вайолетт Хаммерсли 7 января 1940 года.
‹3› См. примеч. 39 к части I.
‹4› Интервью «Темпо» в 1966 году.
‹5› См.: Unity Mitford: A Quest.
‹6› И снова в письме Вайолетт Хаммерсли 10 февраля 1940 года.
‹7› Диана сказала это Мэри Ловелл в 2000 году, цит. по: The Mitford Girls.
‹8› Имя норвежского фашиста Видкуна Квислинга стало синонимом коллаборационизма. С помощью нацистов он пришел к власти в 1940-м, когда в его страну вторглись немцы. С 1942 по 1945 год он возглавлял марионеточное правительство такого же сорта, как правительство Петена в Виши. Мосли подозревали в желании таким же способом получить власть в Англии. Квислинг был казнен в конце 1945 года.
‹9› Министр от партии тори Джон Мур-Брабазон вынужден был в том году подать в отставку после того, как вслух признался: «Нас бы устроила схватка Германии с Россией». И очень многие разделяли его мнение. Эндрю Робсон в статье «Англия под Гитлером» (см. примеч. 50 к части II) писал: «Такую же позицию занимал во время Ирано-иракской войны Генри Киссинджер: „Жаль, что не могут проиграть обе стороны“».
‹10› Cм. интервью The Times, 6 октября 1967 года.
‹11› Показания Совещательному комитету Диана давала 2 октября 1940-го. Допрос вел Норман Биркетг, позднее один из судей Нюрнбергского трибунала. Комитет был создан министерством внутренних дел для выяснения вопроса, кого из задержанных по статье 18В отпустить, а кого оставить под арестом..
‹12› Письмо воспроизведено в дневнике, который Диана публиковала в The European. Сидни холодно ответила на комментарий в The Observer, где утверждалось, будто с политическими заключенными военного времени, как Мосли, на редкость корректно обращались.
‹13› См. статью Эндрю Робертса (примеч. 9).
‹14› Из рецензии 1975 года в Books and Bookmen на книгу Каулинга The Impact of Hitler.
‹15› Брайан рассказывал Селине Гастингс, биографу Нэнси, как он повстречал Диану в 1983 году в палате пэров и спросил: «Ты которая из них?» Оба они посмеялись, но замечательно, что Брайан, уже семидесятивосьмилетний, так ясно сознавал влияние Дианы на свои чувства.
‹16› См. рецензию 1978 года в Books and Bookmen на изданные Хью Тревором-Ропером дневники Геббельса.
‹17› См. рецензию Books and Bookmen (1969) на книгу Robert Benewick. Political Violence and Public Order.
‹18› Мартин Ринья в примечании редактора к The Pursuit of Laughter (Gibson Square, 2009).
‹19› В письме от 23 ноября 2000 года.
‹20› Cм. рецензию The European (1955) на книгу Peter Wildehlood. Against the Law.
‹21› Из дневника для The European.
‹22› Там же.
‹23› См.: Jan Dailey. Diana Mosley (Faber and Faber, 2000).
‹24› В разговоре с автором, 2001 год.
‹25› В разговоре с автором.
‹26› В «Добром старом конфликте».
‹27› В телеинтервью 1966-го Нэнси утверждала, что сам Дэвид написал бы: «Профессия: достопочтенный».
‹28› «Достопочтенные и мятежники».
‹29› Констанция получила свое прозвище еще до рождения: Вирджиния Дурр, заметив яростные движения малышки в животе матери, пошутила, что это бьет копытцами ослик, символ Демократической партии США. Соответственно, Джессика начала называть будущего ребенка Донк, Ослик, а потом Динки, и это прозвище прилипло.
‹30› Из серии интервью (1988–1989) Роберту Ларсену для проекта Устная история Беркли (Историческое общество Беркли).
‹31› Письмо от 28 июня 1943 года.
‹32› Из интервью Историческому обществу Беркли.
‹33› Диана рассказала эту историю в Nancy Mitford — A Portrait by her Sisters.
‹34› Это описание было включено в «В поисках любви».
‹35› Сэр Джозеф Пакстон, архитектор Хрустального дворца в Лондоне, с 1826 года состоял главным садовником в Чэтсуорте при шестом герцоге Девонширском.
‹36› См.: Unity Mitford: A Quest.
‹37› Там же.
‹38› Три сестры обратились в «Таймс» с письмом (опубликовано 18 ноября 1976-го) по поводу книги Дэвида Прайс-Джонса, «которую мы не признаем достоверным портретом главной героини и нашей семьи. Мы располагаем письмами от многих людей, чьи слова приводятся в этой книге: они утверждают, что их высказывания были искажены. Часть этих писем была передана издателю до выхода книги, но оставлена без внимания».
‹39› Джессика — Деборе, 17 августа 1976 года.
‹40› Cм. рецензию The European (1954) на Winston Churchill The Second World War, vol. VI: Triumph and Tragedy. В этой рецензии Диана напоминала, что в результате войны число людей, находившихся под властью коммунистов, с 170 миллионов возросло до 770 миллионов.
‹41› Письмо от 27 марта 1944 года.
Часть IV
‹1› Так Нэнси писала Диане в 1962-м по поводу книги Leonard Mosley. Curzon: The End of an Epoch (1960), биографии первого тестя Мосли.
‹2› В разговоре с автором.
‹3› В автобиографии (Formula One and Beyond, Simon & Schuster, 2015) Макс Мосли писал об амбивалентности политических взглядов отца, осознать которую можно, лишь читая книги самого сэра Освальда. В интервью по случаю выхода книги (июнь 2015-го, прямой эфир «Радио-5» Би-би-си) он заявил, что его отец отказался от фашизма, доказавшего свою нежизнеспособность.
‹4› В разговоре с автором.
‹5› В портрете для Book of the Month Club News (1951).
‹6› В разговоре с автором.
‹7› Это тоже всплыло в разговоре с автором: друг Дианы, мужчина восьмидесяти с лишним лет, в свое время знавший также Нэнси, зайдя на чай, шепнул этот комментарий, когда Диана (практически глухая) отвернулась, чтобы поправить занавеску.
‹8› В разговоре с автором.
‹9› В разговоре с автором.
‹10› В разговоре с автором.
‹11› Письмо от 17 августа 1980 года.
‹12› Дебора — Джессике, 8 июля 1973 года.
‹13› Письмо от 11 января 1949 года.
‹14› Нэнси — Ивлину Во, 24 мая 1960 года.
‹15› Диана — Деборе, 21 марта 1976 года.
‹16› Дебаты с Дэвидом Прайс-Джонсом в программе Би-би-си «Сегодня вечером» (1976).
‹17› В разговоре с автором.
‹18› В интервью Историческому обществу Беркли (1988–1989).
‹19› Нэнси писала Ивлину Во (2 сентября 1955): дети Джессики были уверены, будто Эндрю (герцог Девонширский) зарабатывает на жизнь работорговлей. Дебора якобы ответила на это: «Будь у нас рабы, мы бы их ни за какие деньги не продали». Мы могли бы принять это за типичное для Нэнси преувеличение, если бы не тот факт, что дети в самом деле считали, что их заставят кланяться бабушке Сидни.
‹20› В Manchester Guardian Тейлор писал, что Нэнси попросту переместила семейство Митфорд в Версальский дворец. Это суждение многие сочли весьма проницательным, но такова лишь видимость: очевидно, что Тейлор отнесся к «Мадам Помпадур» предвзято. Нэнси, хотя и удерживала на лице сияющую улыбку, была задета и написала в «Гардиан» короткое письмо с указанием на ошибку в цитате. При этом она изо всех сил старалась соблюсти политес: «Прошу вас, не нужно отвечать и тем более беспокоить мистера Тейлора. Полагаю, меня главным образом расстроила такая выволочка от „М. Гардиан“, поскольку это единственная английская газета, которая попадается мне на глаза. Однако такие выволочки всегда заслужены, и их следует принимать без жалоб».
‹21› Нэнси пародировала первые слова монолога Дона Диего в «Сиде» Корнеля.
‹22› См. примеч. 20 к введению.
‹23› Му Life (Nelson, 1968).
Послесловие
‹1› Из Wait for Me!
‹2› В разговоре с Деборой Росс, The Independent, 12 ноября 2001 года.
Примечания
1
«Семьи! Ненавижу вас» (фр.).
Андре Жид. «Яства земные». — Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Она использовала французское слово, обозначавшее приверженок Робеспьера, которые устраивались со своим рукоделием поблизости от гильотины.
(обратно)3
Т.е. могла бы учиться в женском колледже Кембриджа, если бы это не считалось совершенно неуместным для девушки из хорошей семьи.
(обратно)4
«Они» (фр.) с определенным английским артиклем.
(обратно)5
Рефрен из популярной в Англии песни времен Первой мировой войны, в которой женщины обращаются к мужчинам с призывом идти на фронт.
(обратно)6
Любовной жизнью (фр.).
(обратно)7
Божественной красавицей (фр.).
(обратно)8
Ты самая желанная женщина, какую я когда-либо знал (фр.).
(обратно)9
Приличная, традиционная сторона (фр.).
(обратно)10
Этим термином (Bright Young Things) называют группу молодежи из привилегированных классов, блиставшую в 1920–1930-е годы.
(обратно)11
Vile age — «Мерзкий век», созвучно с village — деревня.
(обратно)12
Упоминаемая в «Мерзкой плоти» таблетка от головной боли.
(обратно)13
Тому, кто позволяет себя любить (фр.).
(обратно)14
Отступить для разбега (фр.).
(обратно)15
It — сексуальное притяжение, взаимная привлекательность.
(обратно)16
Сельский праздник (фр.).
(обратно)17
На всю жизнь (фр.).
(обратно)18
Немецкое приветствие Heil пишется так же, как английское слово heil («град»).
(обратно)19
За пределами (фр.).
(обратно)20
Из князи в грязи (фр.).
(обратно)21
Один психоз на двоих (фр.).
(обратно)22
De Profundis («Из бездны», лат.) — автобиографическая повесть Оскара Уальда о тюрьме.
(обратно)23
Заместитель генерального секретаря в министерстве иностранных дел
(обратно)24
Вопреки всему (фр.).
(обратно)25
В возрасте 16 лет Джессика закончила курс «Французская цивилизация».
(обратно)26
Вне битвы (фр.).
(обратно)27
Очаровательной серой метелью (фр.).
(обратно)28
Та, кто любит… тот, кто позволяет себя любить (фр.).
(обратно)29
За неимением лучшего (фр.).
(обратно)30
Рассказывайте — рассказывайте (фр.).
(обратно)31
«Семья Митфорда — моя услада» (фр.).
(обратно)32
Сливки общества (фр.).
(обратно)33
Многоцветной (фр.).
(обратно)34
Я хочу уйти (фр.).
(обратно)35
О! Фабрис, я так долго тебя ждала! — Как это мило! (фр.).
(обратно)36
Майра Хиндли участвовала в жестоких убийствах детей и была в 1965 г. приговорена к нескольким пожизненным срокам. В восьмидесятые годы Лонгфорд возглавлял кампанию за ее досрочное освобождение.
(обратно)



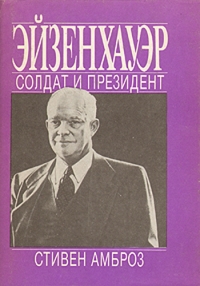

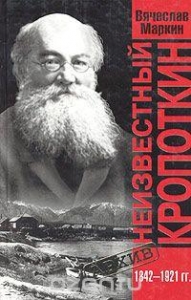

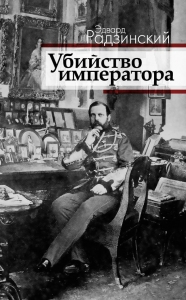


Комментарии к книге «Представьте 6 девочек», Лора Томпсон
Всего 0 комментариев