Габриэлла Эшсрорд
ХОДЖЕС
Раздираемый противоречиями, Франко с момента захвата власти сам занимался тем, что сеял семена раздора.
Историческая библиотека
Габриэлла Эшфорд ХОДЖЕС
ФРАНКО
Краткая биография
мдовкпо СРЛ\ЛК
Москва 2003
УДК 94(460)(092)
ББК 63.3(4Исп)-8 Х69
Серия основана в 2001 году
Gabrielle Ashford Hodges FRANCO 2000
Перевод с английского Г. М. Цареградского
Научный редактор Ю.Н. Гирин
Серийное оформление С.Е. Власова
Печатается с разрешения Weidenfeld and Nicolson Ltd, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd. и литературного агентства Synopsis.
Подписано в печать 18.06.03. Формат 84х1087з2.
Уел. печ. л. 20,16. Тираж 5 000 экз. Заказ № 1476.
Ходжес Г.Э.
Х69 Франко: Краткая биография / Г.Э. Ходжес; Пер. с англ. Г.М. Цареградского. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО Hi 111 «Ермак», 2003. — 382, [2] с.: 12 л. ил. — (Историческая библиотека).
ISBN 5-17-018761-0 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-9577-0128-9 (ЗАО НПП «Ермак»)
Генерал Франко.
Один из самых противоречивых политиков мировой истории XX века. Безжалостный «каудильо», душивший гражданские свободы Испании и бросивший за решетку цвет национальной интеллигенции, диктатор, неизменно находивший сторонников и имевший широкую поддержку в своей стране.
ЕДИНСТВЕННЫЙ из союзников Германии, не только избежавший наказания после Второй мировой войны, но и остававшийся на вершине власти до конца жизни. Тиран — и кумир...
КАКИМ ОН БЫЛ?
КАК жил, о чем думал, что пытался совершить?
Генерала Франко яростно ненавидели и столь же яростно поддерживали. Но теперь, когда он принадлежит истории, можно попытаться ЕГО ПОНЯТЬ...
УДК 94(460)(092) ББК 63.3(4Исп)-8
© Gabrielle Ashford Hodges, 2000 © Перевод. Г.М. Цареградский, 2003 © ООО «Издательство АСТ», 2003
Посвящается Полу
Введение ФРАНКО - ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ
Франко — это человек, обладающий завидной способностью верить в то, что нравится ему самому, и начисто забывать или отрицать все ему неприятное. Более того, он полон высокомерия, отравлен лестью и аплодисментами, он страдает головокружением от высоты, на которую оказался вознесен, он болен властью и полон решимости удерживать ее любой ценой, жертвуя всем и яростно защищая ее. Многие считают его злобным и порочным, но я не согласен с этим. Да, он хитер и коварен, но я полагаю, что он действует в полнейшем убеждении, что его судьба и судьба Испании единосущны и что Господь, позволив ему занять столь высокий пост, предназначил его для великих свершений.
Генерал Кинделан — дону Хуану де Бурбону
Генералиссимус Франко был одним из четырех диктаторов, изменивших облик Европы в двадцатом столетии. Ему, казалось, недоставало злого гения Гитлера, комичной харизмы Муссолини и жестокой паранойи Сталина, но он сумел удержать абсолютную власть со времени победы в гражданской войне в 1939 году вплоть до своей смерти в 1975-м. Франсиско Франко гордо выступал на подмостках международной сцены на протяжении значительного отрезка двадцатого столетия: он присутствовал на похоронах Георга V, братался с Гитлером и Муссолини, противостоял Черчиллю, Рузвельту и Трумэну, его обхаживали Эйзенхауэр, Никсон и Киссинджер. Но и поныне из всех европейских диктаторов фигура Франко остается самой неоднозначной и трудной для понимания.
Придирчивого, злобного и властного отца он попросту ненавидел, зато питал самые нежные чувства к набожной любящей матери. В результате он формировался как слабый, незащищенный индивидуум, пытающийся скрыть свою уязвимость и недостатки за суровым и невозмутимым фасадом. В нескладном, худом мальчике с большими ушами и огромными печальными глазами трудно было разглядеть предназначение к великим деяниям. В школе его насмешливо называли cerillito1, в Военной академии — уменьшительным Франкито и даже иногда — Generalito2, когда он уже стал бригадным генералом. Франко был невысок ростом — пять футов три дюйма3, с тучной фигурой, «женскими» руками и неожиданно высоким голосом. Даже в зрелом возрасте, отдавая команду, он иногда срывался на унизительный визг. По сравнению с речами Гитлера и Муссолини его публичные выступления казались бледными и невыразительными.
И тем не менее с момента поступления на военную службу в возрасте пятнадцати лет этот посредственный недомерок с головокружительной скоростью взлетел на вершины военной иерархии. В Африке он проявил себя бравым, инициативным офицером и в 1926 году, в тридцатитрехлетнем возрасте, получил звание генерала. Будучи ключевой фигурой в мятеже против Республики в июле 1936 года, Франко сумел за два с половиной месяца стать единственным командующим и главой государства в зоне, находившейся под контролем националистов. В апреле 1937 года он обошел всех своих военных и политических соперников, организовав принудительное объединение партий в Саламанке. Во время Второй мировой войны его настойчиво обхаживали как союзные державы, так и страны «оси». Накануне крушения фашизма он упрямо игнорирует давление Запада, требовавшего либерализации его авторитарного режима. Уверенный в одобрении католической церковью объявленного им «христианского крестового похода» против коммунизма, Франко с полным на то основанием полагал, что сможет прочно сидеть на своем месте, «пока остальной мир дерется, не трогая нас». Паранойя «холодной войны», охватившая западные державы, оправдала его неуступчивость. К 1953 году бывший поклонник Гитлера благополучно пережил международный остракизм, упрочил свою власть внутри Испании и по праву заявлял о себе как о ценном союзнике Соединенных Штатов. А когда так называемые технократы в его правительстве к концу пятидесятых годов осуществили план экономической стабилизации, что повысило жизненный уровень в Испании, народ стал благодарить Франко.
Так каким же образом этот холодный, зажатый, с не слишком впечатляющей внешностью человек, во многих отношениях противоположный сложившемуся стереотипу испанца, сумел навязывать свою волю традиционно анархичному и горячему народу на протяжении значительного отрезка двадцатого века? Пропагандистская машина, запущенная в годы гражданской войны и господствовавшая в жизни испанцев на протяжении почти четырех десятилетий, сотворила миф о каудильо, или короле-воине. Его изображали как всевидящего, святого отца нации, исполняющего промысел Божий — железной метлой выметающего коммунизм, сепаратизм и франкмасонство. На деле же власть Франко в значительной степени зиждилась на ловкости, с которой он манипулировал соперничающими, алчными и амбициозными группировками, четко сознававшими: поддерживая его, они сохраняли свое собственное политическое господство. Общая боязнь того, что любая попытка лишить Франко власти обернется новой гражданской войной, делала остальное. Людям постоянно и энергично напоминали об этом. Побежденным никогда не позволяли забыть, что они потерпели поражение в войне. У победителей были самые серьезные личные интересы, чтобы сохранять Франко у власти. В случае его падения им, несомненно, пришлось бы противостоять врагу, жаждавшему мести.
Несмотря на одержимость идеей самосохранения, Франко пребывал в глубоком убеждении, что он захватил власть только из бескорыстного тщания о благе народа. В декабре 1966 года, в канун национального референдума, каудильо скажет в обращении к испанскому народу: «У меня никогда не было стремления к власти. С ранней юности на меня был возложен груз ответственности, намного превышавший мой возраст и положение. Я хотел жить, как живут миллионы простых испанцев, но служение Родине отнимало у меня каждый час, каждое мгновение моей жизни».
Эта поразительная способность к самообману пронизывает все стороны жизни Франко. Напыщенный, раздувшийся от собственной убежденности в своем великом предназначении, уверенный, что его судьба и судьба Испании неразрывно переплетены Божьим промыслом, он умел быть робким, сдержанным и смиренным. Умело манипулируя слабостями и алчностью своих сторонников и поддерживая равновесие среди соперничающих фракций внутри режима, он заявлял, что его не интересовала политика. Суровый и беспощадный по отношению к испанскому народу, он был чрезвычайно снисходителен к членам семьи. Пугающе холодный и бесстрастный, он мог вдруг легко растрогаться до слез. С виду суровый и добродетельный моралист, он смотрел сквозь пальцы на коррупцию, пышным цветом распустившуюся при его режиме.
Неисправимый говорун, он в то же время был великим мастером нервирующего безмолвия. Хотя он похвалялся своей скромностью и требовал от принца Хуана Карлоса, которому покровительствовал, вести скромный образ жизни, на деле же сам держался наподобие короля и чрезвычайно любил восседать в креслах, в прежние времена предназначавшихся лишь для коронованных особ.
Будучи диктатором по натуре, он зачастую вел себя как обиженный ребенок. Уже являясь главой государства, мог пожаловаться, что ему недодают картошки и вообще недостаточно хорошо кормят.
Авторитарный и нетерпимый к оппозиции, Франко с возмущением отрицал все обвинения в диктаторстве. В 1947 году он негодовал: «Я отнюдь не свободен в своих действиях, как считают за границей». В июне 1958 года Франко говорил одному французскому журналисту, что «писать обо мне как о диктаторе просто глупо». Тем не менее из опасения, что его сместят, он почти до самой кончины упорно отказывается назначить своего преемника. Его свояк Серрано Суньер, автор книги о политике каудильо, писал: «Никогда, ни на единое мгновение, Франко не допускал и мысли, чтобы какой-либо институт власти с носителями истинно королевской крови мог затмить его собственный статус, в котором он сконцентрировал все рычаги государственной власти».
Раздираемый противоречиями, Франко с момента захвата власти сам занимался тем, что сеял семена раздора. Победоносный каудильо, который описывал гражданскую войну как «борьбу Родины против анти-Родины, единения против раскола, нравственности против преступности, духовности против материализма», сам будет править Испанией, раздираемой сектантством, захлестнутой материализмом и погрязшей в коррупции.
Объединитель, ратовавший за унитарную Испанию, Франко раскалывал страну и разжигал сепаратизм. Человек, который в автобиографическом сценарии фильма «Мы» («Raza») прочувствованно заявлял: «Как прекрасно быть испанцем... Испания — самая любимая Господом страна», тем не менее публично объявлял о своем намерении «скорее уничтожить Мадрид, чем оставить его марксистам». И хотя в 1946 году он утверждал, что «наше правосудие не может не быть взвешенным и благородным, его великодушие и бескорыстие основаны исключительно на высших интересах Родины», диктаторство Франко было жестоким, фанатичным и пронизанным коррупцией.
Ключом к противоречиям, присущим личности Франсиско Франко, может служить тот факт, что у него, как и у других европейских диктаторов, с раннего возраста проявлялись идеи и предрассудки, служившие ему своего рода шорами, которые Эрих Фромм считает свойственными садомазохистам, а также авторитарным личностям. Обширные исследования доказывают, что такие люди, как Франко, происходят из семей, где родители, стремясь поддержать свой статус в обществе, руководствуются жесткими и навязчивыми идеями и твердой рукой вколачивают эти «ценности» в собственных детей. У их невротического потомства зачастую проявляются симптомы нарциссизма и в качестве компенсаторной реакции на нанесенные в детстве сильные душевные раны развиваются преувеличенные представления о собственной персоне. Эти люди гневно реагируют на любые нападки на их гипертрофированный образ собственного Я. Они могут отождествлять себя с какой-то идеологизированной группой людей и осуждать, отвергать и карать любого, кто посягнет на жизненные ценности этой группы. По словам Нормана Диксона, «такие люди находят и преследуют в других то, чего они стали бояться в самих себе». Лишенные человеческого тепла и сочувствия, они озабочены только собственной персоной, своими мыслями, идеями и желаниями. Абсолютно не осознавая присущие им недостатки, они проявляют замкнутое, жесткое отношение к жизни одновременно с повышенной восприимчивостью к любой форме критики. Они верят в сверхъестественные силы, в Судьбу, Природу и Всевышнего как главные составные успеха. Пронизанные всеобъемлющим чувством собственной уникальности и одаренные поразительной способностью цинично лгать без зазрения совести, они освобождают своих последователей от всех запретов и табу на ранее недопустимое поведение. Ведомые эгоистическими и корыстными нуждами и желаниями, а не заботой об обществе, они руководят, не задумываясь о последствиях своих действий и жестко оберегая собственную власть. Они могут быть в высшей степени обходительными и любезными и внушать доверие самым социально задавленным представителям общества. Выказывая восхищение перед сильными и презрение к слабым, они добиваются власти над другими. Несомненно, все четыре европейских диктатора «чувствовали себя неловко в присутствии равных — или превосходящих их — в каком-либо отношении людей, как это зачастую бывает с самовлюбленными и авторитарными личностями» (Эрих Фромм).
По мнению Нормана Диксона, подобные люди часто делают успешную политическую карьеру и, при соответствующих обстоятельствах, становятся диктаторами. Но одно дело — иметь диктаторские наклонности, другое — стать диктатором и совсем иное — на протяжении долгого времени оставаться им. Эта книга и является исследованием политических, личных, психологических и социальных причин и обстоятельств, давших возможность Франко, человеку глубоко ущербному и испорченному, скрывать собственную сущность от самого себя и множества других людей на протяжении нескольких десятков лет.
Глава 1
ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ
Франко и его семья: 1892—1910
Отнюдь не те качества, что выделяли его из массы, а как раз те, что объединяли его с ней и образцовым носителем которых сам он являлся, лежали в основе его успехов.
Иоахим Фест об Адольфе Гитлере
Франсиско Франко Баамонде родился ранним утром 4 декабря 1892 года в Эль-Ферроле, маленьком порту в Галисии на северо-западе Испании. Крохотная община военных моряков, тесно связанных друг с другом благодаря своему географическому положению и образу жизни, была отрезана от остальной Испании: Америка считалась более доступной, чем Мадрид. Военные корабли на протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков уходили из порта Эль-Ферроль сражаться с врагами Испании, в частности с англичанами. Состояния богачей Эль-Ферроля возникали и рассыпались в результате имперских авантюр Испании. Ко времени рождения Франко порт опять, хотя и кратковременно, приобрел важное значение, являясь одной из трех баз на Атлантическом побережье, откуда Испания вела войну с еще остававшимися у нее колониями в Латинской Америке.
Предки Франко по отцовской линии впервые появились в Эль-Ферроле в 1737 году, тогда же было положено начало семейной традиции — служить в военно-морских административных учреждениях. Прадед Франко готовился отметить свой тридцатый день рождения, когда новость о «смертельном ударе», нанесенном испанскому флоту при Трафальгаре, достигла потрясенного населения Эль-Ферроля, родного гнезда многих из тысяч раненных и погибших в сражении моряков. Несмотря на уважаемое положение в обществе, которого достигли предки Франко, фактически кастовая система, существовавшая в среде местной морской элиты, не позволяла его семье близко общаться с «настоящими» офицерами флота, реально плававшими по морям и океанам. Ущербность своего социального статуса род Франко компенсировал плодовитостью и долголетием. Прадед будущего каудильо, Николас Мануэль Теодоро Франко-и-Сан-чес, прожил чрезвычайно долгую жизнь, был трижды женат и имел пятнадцать детей. Он тоже пошел по административно-морской линии, представив в 1794 году доказательства «чистоты своей крови, дворянского происхождения и имущественного положения», и дослужился до должности, эквивалентной званию подполковника в армии.
Один из его сыновей, дед Франко, Франсиско Франко Вьетти, добился еще большего, к моменту своей смерти в 1887 году став директором военно-морской администрации Эль-Ферроля. Он сумел приобрести дом в престижной части города, на Калье-де-Мария (где и родился Франко), но даже ему не удалось продвинуть семью в высший слой местного общества. У него было пять сыновей и две дочери. Старшему из них, Николасу Франко Сальгадо-Араухо, родившемуся в 1855 году, и было суждено стать отцом Франсиско Франко. Ни сам Николас, ни одна из его младших сестер, Эрмене-хильда, не прибавили славы доброму имени семейства. Первый, любитель женщин, карт и спиртного, наводил ужас на местных жителей своим поведением, а вторая шокировала родителей и соседей, страстно влюбившись в собственного кузена, с которым ей не было дозволено сочетаться законным браком. Переехав в Ла-Корунью, она, как и положено, стала крестной матерью среднему сыну своего заблудшего братца, Франсиско, который в детские годы будет регулярно гостить в ее доме. Хотя и в высшей степени образованная и принятая в лучших домах города, Эрменехильда, подобно ее старшему брату, в Эль-Ферроле считалась уж очень эксцентричной. Но в отличие от него она так никогда и не обзаведется семьей. Небольшого роста, тощая и поразительно жадная (каким, впрочем, был и Николас), она стрелой носилась по городским улицам, сопровождаемая маленьким старым слугой. Продолжая фамильную традицию долгожительства, «тетушка Хильда» достигла восьмидесятипятилетнего возраста, скончавшись в 1940 году. Ее брат умер двумя годами позже, в восемьдесят восемь лет. Да и сам Франсиско Франко проживет восемьдесят три года.
Несмотря на все свои дурные наклонности, Николас Франко, следуя семейной традиции, по достижении восемнадцатилетнего возраста поступил в Академию военно-морской администрации. И хотя со стороны казалось, что Николас больше жаждал красивой жизни и удовольствий, чем успехов на профессиональном поприще, на деле он оказался старательным и дисциплинированным трудягой, дослужившись в конечном счете до максимально возможного звания генерал-интенданта, или вице-адмирала. Впрочем, возможно, этим он был обязан скорее длительному сроку службы, чем своим профессиональным качествам. Молодым офицером в возрасте двадцати одного года его отправили служить на Кубу, где он в полной мере вкусил от разросшегося там древа плотских утех. Затем Николаса перевели на Филиппины, где он стал отцом незаконнорожденного ребенка от четырнадцатилетней девочки. Ему дали имя Эухенио Франко Пуэй. (Много лет спустя зять Эухенио, Иполито Эскобар, предстанет перед каудильо и получит быстрое повышение по службе, превратившись из скромного библиотекаря в маленьком городке в директора Национальной библиотеки.) С большой неохотой дон Николас вернется в родные пенаты — благопристойный Эль-Ферроль. Он так и не смог сблизиться с местной элитой, военно-морскими офицерами и капитанами дальнего плавания, и не пожелал проникаться местными заботами в виде выполнения рутинных обязанностей по службе и получения каждодневной порции сплетен. Скука стала совершенно невыносимой. Николасу срочно требовалось развеяться.
Возможно, именно поэтому 24 мая 1890 года, в возрасте тридцати пяти лет, он принял совершенно невероятное решение — жениться на глубоко набожной двадцатичетырехлетней Пилар Баамонде-и-Пардо де Андраде, дочери начальника портового арсенала. Поначалу Николаса, несомненно, привлекали в Пилар ее чистая, хрупкая красота, правильный овал лица и мечтательные, полные меланхолии глаза. Возможно, он нуждался в том, чтобы рядом находилась строгая, критичная личность, чтобы умерить его необузданные аппетиты. В социальном отношении это был удачный брак, и тот факт, что Николас добился руки одной из самых красивых и желанных женщин в Эль-Ферроле, конечно, льстил его тщеславию. С другой стороны, эгоистичный Николас в лице своей супруги не мог выбрать никого более склонного осуждать его поступки и образ жизни. О нем отзывались как о «беспечном светском щеголе», даже «повесе и распутнике» и «общительном гуляке, выпивохе и бабнике, совершенно не приспособленном к семейной жизни». За ним прочно закрепилась «репутация спешащего жить бонвивана-вольнодумца». Постоянно восставая против жестких нравственных требований жены, дон Николас так и не станет ни верным супругом, ни заботливым отцом.
У этой столь не подходящей друг другу четы в быстрой последовательности появились на свет пятеро детей: Николас родился 1 июля 1891 года, Франсиско — 4 декабря 1892, Пилар — 27 февраля 1895, Рамон — 2 апреля 1896 и Пас, младшая дочь, — 12 ноября 1898. Но родительская ответственность супругов не ограничилась этими пятью детьми. 25 апреля 1894 года скончалась тетка дона Николаса, оставив своего мужа с десятком детишек в возрасте от двух до шестнадцати лет. И тот назначил Николаса, своего племянника и ближайшего соседа, их опекуном. И, когда дядюшка, в свою очередь, почил в бозе, младшие дети нашли в донье Пилар вторую мать. Второй, самый младший из сыновей, Франсиско Франко Сальгадо-Араухо, или, как его прозвали, Пакон4, которому к моменту смерти матери было четыре года, стал любимцем доньи Пилар. Дневники и мемуары, в которых он вел хронологию их почти ежедневных контактов со своим младшим кузеном Франсиско вплоть до 1971 года, служат источником ценных сведений о раннем детстве, этапах военной и политической карьеры каудильо.
Сильнейшее влияние на юного Франсиско оказала мать. Основываясь на его собственных идеализированных воспоминаниях, а также на воспоминаниях Пакона, большинство биографов Франко изображают донью Пилар безупречной женщиной, сравнимой едва ли не с Богоматерью. Друг Франко и его первый биограф, Хоакин Аррарас, так описывает ее: «Она всегда владела собой, жила активной духовной жизнью, встречая невзгоды с безмятежностью и стойкостью, которые можно было бы назвать стоицизмом, если бы их более точно не охарактеризовали как христианскую добродетель». Гонсалес Дуро утверждает, что «ее спокойствие перед лицом несчастий вызывало восхищение так же, как и невозмутимая улыбка, с которой она принимала страдания». Пол Престон отзывается о ней как о «кроткой женщине с ясной душой, обладавшей непоказным чувством собственного достоинства и глубокой набожностью». А Пакон торжественно заявляет, что «ее пример и ее врожденная религиозность оказались самыми ценными в их воспитании».
В начале сороковых годов Франко написал причудливую историю своего детства, которая легла в основу автобиографического сценария для фильма под названием «Мы». В нем прослеживается история галисийской семьи начиная с 1897 года и кончая гражданской войной. Несмотря на то что в фильме в большей степени описываются сокровенные мечты Франко, нежели действительные события, сценарий невольно раскрывает глубинную психологическую мотивацию его поступков, истинное отношение к семье и то, каким образом все это формировало предрассудки и предубеждения каудильо.
В этом сценарии Франко под именем Исабель де Андраде изображает донью Пилар заботливой и сердечной матерью и утверждает, что «нет большей ценности в жизни, чем мать, заботящаяся о своих детях». Однако религиозные и общественные рамки, в которых жила донья Пилар, разочарования мужа и личные качества среднего сына заставляют сомневаться в том, что она была доброй и любящей женой или матерью. Даже Джордж Хилл, один из самых лицемерных биографов каудильо, вынужден согласиться, что «равнодушие и черствость Франко в зрелом возрасте, так часто отмечаемые людьми, служившими иод его началом, по всей вероятности, явились результатом взаимоотношений в семье, когда он был еще ребенком».
Так или иначе, со стороны донья Пилар казалась идеальной матерью. Она проводила много времени в молитвах. Ее дети были всегда прекрасно одеты, а дом сверкал чистотой. Интересен тот факт, что Франко в течение всей своей жизни будет одержимо подражать привычкам матери. Еще маленьким мальчиком Франсиско отличался чрезмерной разборчивостью в выборе одежды. Эта его манера изысканно одеваться будет в значительной степени способствовать созданию образа героического генерала.
Отношения Франсиско с отцом были совсем иными, хотя также оказали значительное влияние на его формирование. По словам Пакона, дон Николас являлся «очень умным человеком» и так же, как и его сестра Хильда, обладая «сильным и независимым характером, поступал, как ему вздумается, не заботясь о том, что скажут люди». Как и его средний сын, он был полон противоречий. Весельчак, привыкший потакать своим желаниям, и вольнодумец, открыто симпатизировавший масонам и ненавидевший религию, дон Николас был для собственных детей настоящим деспотом. И хотя Пакон с нежностью вспоминает долгие прогулки с братьями и кузенами под присмотром своего опекуна и воздушных змеев, которых они запускали над морем в Эль-Ферроле, он вынужден признать, что дон Николас «обладал исключительно суровым и жестким характером» и «никогда не гордился успехами собственных детей». Были ли его эгоизм и суровость по отношению к детям вызваны неудачным браком или же своеобразной реакцией на свое распутное поведение вне дома — трудно сказать. Однако не подлежит сомнению, что он отличался непредсказуемыми поступками и часто впадал в крайности.
Несмотря на то что супруги ссорились практически по любому поводу, они единодушно мечтали об одном — чтобы их сыновья, вырвавшись из круга простых, незнатных обывателей, поступили на «настоящую» службу в военно-морской флот и ходили на кораблях в море. Пакону особенно запомнились «великолепные лекции дона Николаса по истории морского флота в Эль-Ферроле», подробнейший анализ «атаки англичан и высадки их флота 28 августа 1800 года» и то, с какой настойчивостью он проверял, «хорошо ли дети усваивали морские термины». Но, несмотря на страстное желание Франсиско, или Пакито, как его частенько называли, угодить отцу и поступить на службу в военно-морской флот, эту мечту родителей смог осуществить только их старший сын Николас, ставший впоследствии морским инженером. Тем не менее страстная увлеченность дона Николаса историей испанского флота, его одержимость морем и военными кораблями в будущем окажет огромное влияние на жизнь Франсиско Франко — как, впрочем, и суровые методы воспитания отца.
Дон Николас регулярно поколачивал своих троих сыновей. Однако он никогда не осмеливался поднять руку на дочь, заявляя: «Я должен либо убить ее, либо не замечать. А так как убить ее я не могу, то просто ее игнорирую». Несмотря на это, Пилар (его дочь) позже утверждала, что он «управлял домом, как генерал». В своих противоречивых воспоминаниях Пилар бросается из одной крайности в другую. То она возмущается, что кто-то оправдывает телесные наказания, то делает заявления, что сама била своих детей и это пошло им на пользу, то с горечью вспоминает, как дон Николас жестоко наказывал ее братьев. Пакон признает, что его опекун был «всегда слишком требователен и суров» к своим детям и часто выходил из себя, когда ему в чем-либо противоречили. Как позже вспоминал Пакон, про взрывной характер дона Николаса ходило столько рассказов, что их хватило бы на целую книгу.
В 1985 году испанский драматург Хайме Салом написал пьесу о доне Николасе. Она называлась «Короткий полет петуха». Описываемые в ней события основывались на письменных и устных свидетельствах друзей и близких семьи. Хотя эта драма и является художественным произведением, в ней достаточно широко и достоверно раскрывается фигура отца Франко и его бурные взаимоотношения с женой и детьми.
Дон Николас предстает в пьесе человеком неординарным, не желающим мириться с жизнью в «заурядном провинциальном городишке, населенном скучными, лишенными воображения людьми». Его не устраивали и отношения с женой, предпочитавшей «читать молитвы за спасение душ в Чистилище и за ушедших в мир иной», а не проводить время с мужем. Супруга дона Николаса предстает в книге холодной, благонравной и ограниченной особой. Муж проклинает ее за то, что «в постели она холодна, как статуя», говорит, что ее «добродетель — это всего лишь один из способов показать свое превосходство над другими людьми», и с тоской признается: «Я бы отдал жизнь за твой поцелуй... Ах, если бы ты хоть раз поняла меня...»
Какова бы ни была правда, совершенно очевидно, что вместо решения супружеских проблем донья Пилар направляла всю свою энергию на то, чтобы скрыть от вездесущих глаз соседей нелегкое финансовое положение семьи — по слухам, для решения материальных проблем пришлось даже пустить в дом жильцов. Несмотря на безупречную репутацию святой, ничто, как ни странно, не говорит о том, что донья Пилар пыталась оградить детей от буйного нрава мужа. Считала ли эта женщина, что, меченные первородным грехом, они заслуживали страдания, или же, чувствуя собственное бессилие, она просто старалась не вмешиваться? Так или иначе, нежелание доньи Пилар защищать детей от физического воздействия со стороны супруга могло восприниматься ими как негласное одобрение матери его действий или же как пугающее доказательство ее беспомощности.
В семье в той или иной степени страдали все дети, но именно Франко, замкнутый и стеснительный, вызывал у отца наибольшее отвращение и самые жестокие насмешки. Его робкий характер не пробуждал отцовской гордости и любви, а также вряд ли мог соперничать с обаянием, общительностью и подлинно мужским поведением родных братьев. Возможно, и очередность рождения Франсиско осложнила ему поиски своего места среди остальных детей. Николас был старшим сыном, Рамон — младшим, и до того, как будущему диктатору исполнилось пять лет, Пилар оставалась единственной дочерью. Франсиско просто был еще одним мальчиком, да к тому же ничем не выдающимся. Его малый рост, худоба и слабость вкупе с визгливым голосом и огромными глазами, в которых застыла укоризна, явно нервировали отца. Дон Николас чувствовал себя намного свободнее с двумя другими сыновьями, которые во многом походили на него. Джордж Хилл, основываясь на интервью со старшими кузенами Франсиско Франко, описывает юного Николаса как «смышленого, но невнимательного ученика». Это был неугомонный и самоуверенный ребенок, который впоследствии вырос в обаятельного, но ненадежного человека, любящего повеселиться. Рамон — о котором с любовью вспоминают как о «непоседливом сорванце» — также отличался обаянием и непосредственностью, которые столь резко контрастировали со скованностью Франсиско. Один из соседей позже заметил, что «Рамон прекрасно ладил со всеми, чего нельзя было сказать об остальных членах его семьи. Они считали такое общение ниже своего достоинства». Другой сосед вспоминает, что Рамон был «самым смелым и дерзким» и «отец любил его больше всех». Открытая и прямая Пилар также сильно походила на отца. Ее постоянные заявления, что она «всегда делала, что хотела, делает, что хочет, и будет делать то, что захочет», заставляли родных думать — «из нее вышел бы прекрасный главнокомандующий, не будь она женщиной». Франсиско же, наоборот, обладал поразительно невзрачной внешностью и скучным характером. «Он отличался особой дотошностью, неплохо рисовал, но во всем остальном оставался совершенно обычным ребенком» (Джордж Хилл).
Однако матери Пакито был ближе двух других сыновей. У него такое же обманчиво кроткое и одновременно неодобрительное выражение лица, те же жесткие моралистические воззрения, та же склонность к слезам и тот же строгий, безжалостный взгляд. В пьесе Салома отец Франсиско, доведенный до белого каления, взрывается и говорит о сыне: «Он вечно цепляется за юбку матери! В конечном счете она сделает его похожим на гипсового святошу вроде его деда или того хуже». Николас также выговаривает жене: «Потаканием его слабостям и педантизмом ты превратила Франсиско в какого-то странного и стеснительного мальчика». Когда Пилар обвиняет мужа в том, что он ненавидит среднего сына, дон Николас с возмущением отрицает это, однако вынужден признаться: «Франсиско меня иногда пугает. Когда он смотрит на меня своими темными глазами с отрешенным взглядом, я не могу понять, выражают ли они презрение или безразличие». Какими бы ни были причины раздражающего поведения Франсиско, его отец «никогда не упускал случая выказать свою неприязнь ко второму сыну, который был так на него не похож». Неспособность Франко завоевать уважение и любовь отца будет мучить его на протяжении всей жизни.
Глубокие противоречия в характере Франсиско начали проявляться уже с раннего детства. Разрываясь между желанием скрыться от гневного ока отца и жаждой выделиться и добиться признания, он с самого начала вел себя как весьма непоследовательный и трудный ребенок. С одной стороны, его описывали веселым маленьким мальчиком, который любил удить рыбу, кататься на лодках и плотах и играть в пиратов. С другой стороны, он предстает сдержанным, нелюдимым и неприветливым ребенком. Его считали равнодушным и в то же время чувствительным, безучастным и одновременно расстраивающимся по любому поводу. Отчаянное желание производить на людей впечатление и получать их одобрение зачастую заставляли Франсиско действовать в обратном направлении — он упорно не хотел нравиться. Несмотря на то что Франсиско никогда не заводил близких друзей, он обожал играть в шумные уличные игры с пай-мальчиками и хулиганами, с вожаками и их прислужниками, на время забывая о своих слабостях. Один из учителей характеризовал его как «милого услужливого мальчика с веселым нравом», а его сестра вспоминает о нем больше как о «маленьком старичке».
Физически слабый, эмоционально не уравновешенный, он тем не менее без колебаний бросался с кулаками на своих значительно более крупных братьев, когда они уж очень досаждали ему. Франко с ранних лет старался не оставлять безнаказанной любую несправедливость, совершенную по отношению к нему. В своих мемуарах Пилар вспоминает, с какой горечью и гневом юный Пакито переживал обиду, кот*-рую нанес отец, несправедливо наказав его.
Однако, несмотря на обостренную обидчивость Франсиско, на деле больше всего страдать от вспышек ярости отца приходилось старшему брату, Николасу. И Пилар, и Пакон вспоминают, как однажды юному Николасу пришлось просидеть весь день под диваном в наказание за некий проступок. Но Франсиско, несомненно, замечал, что суровость отца к Николасу умерялась в то же время его уважением и привязанностью к старшему сыну. Наблюдая за отношениями отца и брата, зачастую слишком резкими, а иногда и чрезмерно сентиментальными, Пакито с ранних лет выказывал равнодушие к проявлениям насилия. Его сестра Пилар вспоминает, как однажды, когда ему было восемь с половиной лет, она докрасна нагрела длинную иголку и прижала ее к запястью брата. Вместо того чтобы закричать или ударить сестренку, Франсиско проявил клинический интерес к ощущению боли, ограничившись замечанием: «Надо же, как пахнет жженым мясом!» Возможно, любимчик матери Пакито именно у нее научился умению стоически переносить страдания. И если Фрейд прав, утверждая, что «у ребенка, который был любимцем матери, на всю жизнь сохраняется ощущение победителя», то становится очевидным, что отношения Франко с доньей Пилар оказали огромное влияние на всю его дальнейшую карьеру. Тем не менее он чувствовал себя уязвленным явным предпочтением, которое выказывал отец Рамону, и жесткое соперничество с младшим братом Франсиско продолжал на протяжении всей жизни.
Таким образом, дети Николаса и Пилар Франко росли в глубоко несчастной семье, где физически их подавлял либеральный отец, а морально — религиозная мать. Это наложило сильнейший отпечаток на всю их последующую жизнь. Несмотря на то что братья Франко были очень разными, все они выросли в высшей степени эгоистичными личностями, руководствовавшимися больше голыми своекорыстными интересами, чем чувством ответственности. В их характерах также прослеживается и деструктивное начало. Рамон давал выход своим саморазрушительным склонностям в многочисленных отчаянных воздушных приключениях, Франсиско отдавался героическим деяниям на поле брани, бросая вызов смерти, Николас же рисковал, участвуя в различных авантюрах сомнительного толка. В политическом отношении Рамон и Николас, как и их отец, являлись вольнодумцами, близкими к масонству. Франко же, подобно донье Пилар, был глубоко консервативен. Николас и Рамон и в бытовом плане пошли по стопам отца. Они стали закоренелыми женолюбами и гуляками и вообще мечтали о «сладкой жизни». Франсиско же, как и его мать, был сексуально заторможен, аскетичен и замкнут. Однако все три брата отличались чрезвычайной гибкостью при защите своих интересов. Несмотря на жесткие взгляды на жизнь, Франсиско выказывал необыкновенную терпимость, когда речь шла о сохранении его личной власти. Николас с чрезвычайной легкостью отрекся от своих политических убеждений для того, чтобы проложить крайне правому младшему братцу дорогу к абсолютной власти. На этом пути, получая огромные дивиденды от коррумпированного режима каудильо, он был зачинателем или участником целой серии финансовых скандалов. Рамон тоже, пусть и с некоторой неохотой, изменил свои политические склонности сразу после того, как Франсиско стал верховным правителем в стане националистов во время гражданской войны. Хотя Франко, покинув отчий дом, старался избегать младшей сестры, Пилар тоже вовсю использовала имя брата, когда тот пришел к власти. В мемуарах она признавала, что ее удачливость в делах в основном проистекала из того, «что моя фамилия открывала передо мной многие двери». Только их несговорчивый папаша отказался пойти на компромисс в своих политических — или личных — взглядах, чтобы получить какую-либо выгоду от высокого положения сына. Он оставался откровенным противником националистов во время гражданской войны, его глубоко оскорбило сближение Франсиско с Гитлером и потрясли репрессии и разгул коррупции при режиме каудильо. В сороковых годах дона Николаса регулярно арестовывали — а затем со смущенными физиономиями освобождали — в мадридских барах, где он всячески поносил своего сына.
Политика долгое время была источником конфликтов в трудных отношениях Франсиско с отцом. В свою очередь, семейные раздоры отразятся на политике самого Франко. Вернемся в 1890-е годы, когда дон Николас пытался утвердить свой авторитет в собственной семье, а испанское правительство боролось за сохранение власти над взбунтовавшимися американскими колониями. Эти колониальные войны, бушевавшие на протяжении почти всего девятнадцатого столетия, завершились уступкой Кубы Соединенным Штатам после жестокого поражения в морском сражении 3 июля 1898 года. Хотя вся Испания сильно переживала потерю последних остатков великой империи, удар по моральному состоянию жителей Эль-Ферроля оказался особенно ужасен. Множество моряков, участвовавших в той роковой битве, были из этого города. Потеря близких родственников и возвращение большого числа подавленных, раненых и искалеченных людей в Эль-Ферроль непосредственно отразились на жизни большей части его обитателей. Хотя в то время Франсиско было только пять лет от роду, это окажет огромное влияние на последующую политическую и военную карьеру Франко, возможно, еще и потому, что некоторые из возвращавшихся бойцов останавливались в доме на Калье-де-Мария. Много лет спустя, уже будучи генералиссимусом, Франко все еще «отлично помнил их имена».
Потеря Кубы и столь явное проявление слабости и уязвимости Испании произошли в решающий момент развития субтильного мальчика, страдавшего от рукоприкладства либерального папаши. Противоречие между эгалитарными взглядами Николаса и его авторитарным поведением в семье ассоциируется в голове Франсиско с гибельной имперской авантюрой Испании против американцев на Кубе, в особенности после развала семьи девять лет спустя, как раз во время поступления в военную академию. Там он получит воспитание, согласно которому в разложении института семьи будут считаться виновными либеральные политики. Хотя ребенком Франсиско вряд ли играл в «войну 1898 года», юноша постепенно должен был осознать и прийти к убеждению: он — как и сама Испания — постоянно страдает из-за чего-то такого, что связано с левацкими, антиклерикальными и франкмасонскими взглядами его отца.
В годы, последовавшие за крахом 1898 года, когда собственная семья Франко разваливалась из-за различий во взглядах родителей, в Испании трения между военными и гражданским обществом, а также трения в самом гражданском обществе резко обострились. На рубеже столетий все те элементы, которые неумолимо вели Испанию к гражданской войне 1936 года, уже прочно занимали свои места. Раскол в обществе имел глубокие корни в испанской истории. Принято считать, что монархия в каком-то смысле является матерью для народа, но Испании в этом отношении определенно не повезло. На протяжении всего бурного девятнадцатого столетия история страны напоминала то комическую оперу, то трагедию. Целую серию развращенных, коррумпированных и некомпетентных монархов и регентов регулярно сметала с трона кучка обозленных генералов, меняя одних неудачливых правителей на других, еще менее преуспевших на своем посту. Будучи каудильо, в 1946 году Франко представит свою версию того, что было неправильно в Испании на протяжении столетия, предшествующего позорной потери Кубы: «С марта 1814 по сентябрь 1833 года... мы жили в постоянной борьбе между абсолютистами и либералами: шесть лет абсолютизма с репрессиями против либералов, затем три года либерализма и жестоких преследований абсолютистов, десять лет умеренного абсолютизма до королевы-регента, шесть лет сплошных бунтов и восстаний; гражданская война, завершившаяся иностранной вооруженной интервенцией, утрата практически всех наших заморских владений и возникновение предпосылок для Карлистской войны».
Всего было три Карлистские войны. Первая, длившаяся с 1833 по 1840 год, довершила экономический крах Испании, начавшийся в период наполеоновских войн, и сделала армию арбитром в политической жизни. Как едко заметил Франко, дела от этого лучше не пошли: «С сентября 1833 по сентябрь 1868 года жизнь в Испании вряд ли могла быть более бурной. За тридцать пять лет сменилось сорок одно правительство, были две гражданские войны, первая из которых длилась шесть лет, два регентства и смещенная с трона королева, три новые конституции, пятнадцать военных переворотов, бесчисленные волнения и беспорядки, неоднократные убийства монахов, мародерство, репрессии и гонения, покушение на жизнь королевы и два восстания на Кубе. Настоящий рай!
С момента свержения Изабеллы II до вступления на трон Альфонса XIII, чуть больше, чем за тридцать четыре года, сменилось двадцать семь правительств, два года правил иностранный король, была республика, в которой за одиннадцать месяцев сменились четыре президента, семилетняя гражданская война [последняя Карл истекая война], несколько революций республиканского толка, восстания в провинциях; война с Соединенными Штатами и потеря последних остатков нашей колониальной империи, два убитых премьер-министра и две новые конституции».
Этот краткий и довольно тенденциозный пересказ испанской истории оставляет за рамками сложность политических и социальных проблем. С конца наполеоновских войн вплоть до гражданской войны 1936 года Испанию — как и саму семью Франко — раздирали силы, выступающие за реформы, и реакционные элементы, решительно боровшиеся против них. Сохранялась постоянная вражда между консерваторами, стремившимися сохранить абсолютистский режим с монархом во главе, и теми, кто хотел иметь форму правления с более широкой социальной базой. Происходили столкновения между каталонскими и баскскими сепаратистами и кастильскими сторонниками унитарного государства, а также между католической церковью и либералами. Отсутствие гибкой политической системы, способной адаптироваться к изменениям в обществе, привело к целым периодам реакционного правления корыстной политической элиты. За ними следовали взрывы насилия в слоях городского рабочего класса и обнищавшего сельского пролетариата, затем жестоко подавлявшиеся. К концу столетия религия столкнулась с идеологическими доктринами (либерализм, марксизм и анархизм), которые боролись с ней за душу народа.
Когда в 1876 году было, наконец, покончено с карлист-ским мятежом и состоялась реставрация Альфонса XII, измученный испанский народ надеялся, что он обеспечит некоторую стабильность. Даже реакционная католическая церковь, которая вела арьергардные бои против натиска современного мира и тесно связала себя с карлистским движением, для сохранения своего господства была вынуждена признать необходимость восстановления монархии Бурбонов. Хотя идея о свободных выборах в 1885 году все еще считалась слишком радикальной, либеральная и консервативная партии поочередно приходили к власти в рамках системы чрезвычайно ограниченного права голосования. Впрочем, выбор был не слишком большой, обе партии представляли интересы латифундистов, предпочитая использовать репрессивные меры против периодически возникающих проявлений общественного недовольства, зачастую с использованием армии. Выборы жестко контролировались региональными царьками, известными как касики. Постоянная фальсификация итогов голосования оставляла политически дискриминированным социальным слоям непростой выбор — либо выступать за сопротивление с применением насилия, либо пребывать в полной апатии. На исходе столетия они все больше склонялись к первому варианту.
Именно в этой ситуации в 1898 году Испания потеряла Кубу, и армия получила возможность поиграть мускулами как раз тогда, когда ее ряды увеличились за счет крайне правых карлистских офицеров после их поражения в гражданских войнах. Необходимость защищать заморские колонии и вести внешние войны отпала, задачей армии стало подавление социальных волнений в самой Испании и защита национального единства от регионализма. Армейские офицеры оправдывали свою новую роль с помощью пышной патриотической риторики и демонстрировали полное неприятие гражданской критики. Они призвали к радикальному обновлению страны, ища пути к нему в славном прошлом Испании. Эта идея найдет сочувствие и понимание у взрослого Франко.
Еще ребенком он, конечно, знал, что многие его школьные друзья — в том числе и Алонсо Вега, с которым Франко поддерживал дружеские отношения всю жизнь, — потеряли своих отцов и братьев в морском сражении в 1898 году, закончившемся унизительным поражением испанцев. Он, вероятно, жалел, что не потерял там собственного отца. Франко исправляет эту ситуацию в сценарии фильма «Мы», где описывает образцовую семью, а затем всех скопом убивает. Но прежде, чем сделать это, он подправляет все недостатки и изъяны собственного детства. Вместо скромного дома в Эль-Ферроле придуманная им семья обитает в pazo, элегантной усадьбе. Беспутный дон Николас заменен бравым морским офицером, преданным мужем и любящим отцом, капитаном Педро Чуррукой (так звали одного из самых знаменитых адмиралов в истории Испании и героя Трафальгарского сражения). Его жена, Исабель де Андраде, которая недвусмысленно отождествляется с Девой Марией, — нежная, ласковая мать. В самом начале сценария, ожидая возвращения мужа из плавания, она очень серьезно наставляет своих детей, говоря им: «Вы даже не представляете себе, как вы счастливы, имея такого отца, как ваш». Главный герой Хосе (сам Франко) все знает о достоинствах отца. Сам он изображен как уважительный и прилежный сын. Исабелита, единственная дочь, — в явном контрасте с самоуверенной и своевольной Пилар — выигрышное сочетание ее матери и святой Терезы, тогда как младший сын, Хайме, является приглушенным отражением Хосе. Старший сын, Педро, — в нем объединены черты реальных отца и братьев Франсиско Франко и черты его самого, в которых он не хотел признаваться, — ребенок с садистскими наклонностями, внушающий страх слабым и хрупким созданиям, одержим деньгами. Педро лжет матери и выказывает явное пренебрежение к морским доблестям отца. Когда мать торжественно заявляет ему, что, как старший сын, он является «любимцем отца», тот презрительно фыркает: «И все мы тоже возлюбили папочку, потому что сегодня не пойдем в школу». Когда капитан Чуррука возвращается из плавания, груженный щедрыми подарками для своего отпрыска, нехороший Педро проявляет редкостное отсутствие интереса к его историям о славном прошлом Испании. Он с оскорбительным скепсисом относится к рассказу о «прекрасной героической смерти» какого-то их предка в сражении при Трафальгаре и абсолютно не способен проникнуться отцовскими взглядами на то, как важно умереть за Родину, желательно облаченным в парадный морской мундир.
С другой стороны, чувствительный Хосе как зачарованный слушает отцовские истории и чрезвычайно благодарен папочке, когда тот дает ему бумагу для рисования. (В действительности же дон Николас никогда не проявлял особого интереса к художественным способностям Франсиско.) Детишки окружают папу, восторгаясь книжкой о Христофоре Колумбе. «Как это прекрасно, — кричит Хосе, — я этого никогда не забуду!» «Как он молод!» — восклицает Исабелита. «Ну и богат же он!» — замечает Педро. В резком контрасте с мнением дона Николаса по поводу способностей Франсиско капитан Чуррука любовно предсказывает, что
Хосе станет «либо великим солдатом, либо святым», и предрекает Педро карьеру «большого морского офицера». В фильме «Мы» Чуррука выказывает такую политическую ориентацию, которая совершенно не соответствует взглядам настоящего отца Франсиско. Перед уходом в роковое плавание на Кубу капитан с горечью говорит об «иностранных интригах и, что еще хуже, о распространении франкмасонства» на Кубе и Филиппинах и заявляет: «Все, что у нас осталось, — это самоуважение, понятие долга». Окруженный американскими кораблями у берегов Кубы, он призывает свой экипаж героически сражаться, заявляя, что «перед долгом исчезают все разумные аргументы» и «не существует такого понятия, как напрасная жертва». Приказав поднять флаг на мачте («он либо будет увенчан победой, либо утонет с нами»), капитан погибает смертью героя. Победившие, но униженные американцы полны восхищения перед «морскими офицерами, достойными лучшей судьбы». В сценарии Франко, когда корабль получил пробоины и начал тонуть, Чуррука стоит на капитанском мостике в парадной форме, восклицая: «Испания! Испания! Испания!», в самом же фильме, смертельно раненный, он падает на палубу, целуя медальон, который перед отплытием дала ему жена.
А в Эль-Ферроле Исабель де Андраде, вдова капитана, выражает не слишком утешительную надежду, что «дети будут достойны его жертвы». Излишне говорить, что Педро эту надежду не оправдал. То, что именно ему предназначено предать память отца, становится ясно, когда Хосе и его сестрица Исабелита клеймят старшего братца как «бунтовщика» и «масона» в сценах, рисующих столкновения испанских патриотов с инсургентами. Затем семья переезжает в Мадрид, где Исабель де Андраде ревностно блюдет ее финансовое и социальное положение. Но в этой похвальной задаче старший сын ей не помощник. Если по ходу развития саги Хосе проявляет непоколебимую заинтересованность в «духовности и героизме» и — как и предсказывал его отец — делает впечатляющую карьеру в армии, бездельник Педро ведет себя все хуже и хуже. Мало того, что его выгоняют из Воен-но-морской академии, он к тому же поступает в университет — «место, где, по словам его отца, зарождаются и культивируются все пороки и беды Испании», — а затем становится адвокатом, либералом, франкмасоном и сторонником республики. Подобно дону Николасу, он стал гулякой и распутником, а его антиклерикальные и республиканские увлечения навлекли несчастья на страну и преждевременно свели мать в могилу, когда на нее напали молодые поджигатели церкви в мае 1931 года под носом у республиканских гвардейцев. Но вот разразилась гражданская война, и «христоподобный» Хосе — жаждавший лично рассчитаться с «коррумпированными старцами-материалистами, правившими республикой», — решает отомстить за смерть матери. Это чрезвычайно опасная и трудная задача. В самом начале войны Хосе, находясь в рядах повстанцев, застрянет в одном из осажденных гарнизонов в Мадриде. Когда он пытается бежать, переодевшись рабочим, чтобы передать послание генералу Фан-хулю, трусливые красные стреляют ему в спину, захватывают в плен, судят и «казнят». Возвращенный к жизни поцелуем его непорочной подруги, Хосе во главе батальона идет к победе в сражении за Бильбао. Это чудесное воскрешение носит библейский характер, выражая уверенность самого Франко в своем мессианском предназначении и его слепую веру в Божественное провидение.
Братьям Хосе везет меньше. Педро предает мать, присоединившись к республиканцам в начале гражданской войны, которые затем расстреливают его опять-таки за предательство их великого дела. Но он успевает «искупить» свою вину перед самой смертью, признав, что националисты «создадут достойную Испанию, а мы [республиканцы] создаем Испанию преступников и убийц». Хайме бросает флот, становится монахом, и в конце концов его расстреливает республиканский отряд. Лучший друг Хосе и муж Исабелиты, трусливый Луис убит при позорных обстоятельствах во время гражданской войны. Сам Хосе выживает лишь для того, чтобы утешить свою сестру и восхищаться всеведущим и всевидящим каудильо. Из всей семьи лишь Хосе и его безу-питывала в них тетка Пакона, аббатиса городского монастыря, которую мальчики навещали почти ежедневно, чтобы получить «благочестивые наставления и вкусные лакомства». Их приверженность монархии еще более возросла в 1906 году, когда они прочли о покушении на короля Альфонса XIII и королеву. Оба мальчика пришли в ужас.
Дела семьи Франко резко ухудшились, когда в 1903 году умерла Пас после четырехмесячной болезни, диагноз которой так и не был установлен. Ее преждевременная смерть оказалась самым настоящим шоком для обоих родителей. Хотя высокая детская смертность в те времена и не была таким уж непривычным явлением, совершенно очевидно, что уход из жизни Пас сильнейшим образом отразился на всей семье. Обезумевшая от горя Пилар еще больше погрузилась в себя и в религию. В постоянном смятении и слезах, она пыталась заменить возлюбленную дочь, перенеся все свои ласки и горячую любовь на изнеженного одиннадцатилетнего Франко — такого доброго, такого тихого, такого привязанного к ней. Николас также очень тяжело переживал утрату Пас. В пьесе Салома он жалуется: «Конечно же, я вспоминаю этого ангелочка... Она была самой нежной, самой любимой из моих детей, единственная, которая никогда бы не оставила меня, которая скрасила бы мою старость». После смерти дочери Николас попытался утопить горе в пьянстве, азартных играх и разврате. Соседи вспоминали, что он, не скрываясь, завел роман с владелицей табачной лавки в Эль-Ферроле, не брезговал дон Николас и проститутками. Франсиско, конечно, страдал от того, что поведение отца выставляло семью на посмешище и порицание окружающих, но втайне он, по-видимо-му, был доволен устранением Пас как потенциальной соперницы за материнскую благосклонность.
В подобном поведении в общем-то нет ничего необычного. По словам психоаналитика Мелани Клейн, дети часто жаждут смерти единоутробных братьев и сестер, но, когда такое случается, чувствуют себя лично ответственными за это. Если Клейн права, вполне возможно, что после смерти маленькой сестренки Франсиско, торжествуя, что он выжил сам и стал у матери фаворитом, одновременно чувствовал вину за то, что «убил» свою «соперницу», и опасался от обезумевших от горя родителей сурового наказания. В результате сработал комплекс психологической защиты и произошел перенос всех его дурных чувств и инстинктов на окружающих. Вполне вероятно, что вся дальнейшая карьера Франко развивалась под сильнейшим импульсом «трансфера» внутреннего чувства ненависти на внешний окружающий мир и Франсиско чувствовал себя угнетенным им. Смерть Пас, похоже, пробудила у Франко еще один распространенный вид психологической защиты, а именно: маниакальную убежденность в том, что его собственное выживание означает, будто он сам избран роком или судьбой для некоей особой цели, высшего предназначения. Есть свидетельство, что мать Гитлера в какой-то момент якобы призвала сына прийти к ней на помощь, выступая при этом в роли символа угнетенной Германии. А племянница Франко, Хараис, станет позже утверждать, что после смерти дочери донья Пилар стала связывать все свои надежды на лучшее будущее со средним сыном, вознося молитвы «за спасение слабогрудого короля-дитяти, который сможет спасти страну, находящуюся в опасности».
Но в 1903 году столь блистательная перспектива выглядела крайне маловероятной. И все же для семейства Франко, пребывавшего в чрезвычайно угнетенном состоянии духа, большим облегчением оказалось то, что, успешно сдав все экзамены, Франсиско и Пакон смогли присоединиться к Николасу в Военно-морской подготовительной школе в Эль-Ферроле. В возрасте двенадцати лет Франко оказался самым юным ее учеником. Хотя Пакон вспоминает, что «благодаря своей великолепной памяти» его младший кузен был способен «хорошо учиться, не слишком напрягаясь», Франсиско все еще испытывал трудности, пробивая собственную социальную нишу в обществе. Нередко находясь «в состоянии меланхолии или чрезмерной серьезности, он полностью замкнулся в себе, постоянно ощущая свою мнимую неполноцен-2* ность, но всегда готовый, если ему бросали вызов, проявить почти агрессивное упрямство». Хотя Франсиско без колебаний мог прибегнуть к помощи заметно более крепких братьев, в школе он и сам яростно защищался, когда на него нападали. А учитывая повышенную обидчивость и чувствительность будущего диктатора, это вовсе не было чем-то необычным в его жизни.
Надеждам Франсиско последовать за братом Николасом в Военно-морскую академию был нанесен жестокий удар в 1907 году, когда правительство, обанкротившееся, кроме всего прочего, еще и из-за своих колониальных войн, отменило новый набор, еще более усилив в сознании Франко связь между поражением 1898 года и собственной судьбой. Восприняв национальную катастрофу как личное оскорбление, он на протяжении всей жизни таил обиду на гражданское правительство, которое, по глубокому убеждению Франко, безжалостно разрушило его шансы на продолжении карьеры на флоте. Более философски настроенный Пакон констатировал: «Тем из нас, кто жаждал попасть на флот, не оставалось другого выбора, кроме как пойти в армию».
И в конечном счете в 1907 году юный Франсиско отправился в Толедо для сдачи вступительных экзаменов в военную академию. Хотя до этого далекого, запыленного, исключительно сухопутного города предстоял долгий путь от Эль-Ферроля, как говорилось в пьесе Салома, дон Николас очень хотел вытащить Франсиско из семейного дома. Озабоченный тем, что «сын постоянно держится за юбку матери», он, обращаясь к жене, говорил: «Ему будет лучше вдали от нас, поверь мне». Отец сопровождал Франсиско в жаркой двухдневной поездке по пыльной дороге до Толедо и обратно. Франсиско, выросший из не слишком симпатичного ребенка в неуклюжего нескладного подростка, в четырнадцать лет был не более расположен к своему родителю, чем в четыре года. Дон Николас не воспользовался возможностью наладить более тесные отношения со средним сыном, который позднее будет вспоминать, что на протяжении всей поездки его отец оставался «строгим и жестким, сухим и не располагающим к общению человеком».
Несмотря на все объективные трудности, Франсиско с блеском сдал экзамены. После получения официального уведомления о своем успехе он провел остаток лета в Эль-Ферроле, расхаживая по улицам в кителе, красных брюках и с саблей пехотинца (предел мечтаний для четырнадцатилетнего мальчишки), отрабатывая военную выправку и военное приветствие. Он поступил в академию 29 августа 1907 года вмедте с еще 381 абитуриентом, включая его друга детства Алонсо Вегу. Пакон, проваливший экзамен по черчению, присоединится к нему годом позже.
Отъезд Франсиско из дома на Калье-де-Мария совпал с разладом в семье. Всегда считалось, что к тому времени дон Николас получил продвижение по службе и отправился в Мадрид. Однако, согласно различным свидетельствам, которые представил Франсиско Мартинес Лопес, похоже, что поначалу дон Николас был переведен в Кадис. Однако куда бы ни перевели по службе дона Николаса, его жена и дети оставались в Эль-Ферроле. Принято считать — и сам Франко подтверждал это, — что он запрещал донье Пилар сопровождать его. Но супруга Пакона, Пилар де ла Роча, на которой он женился в январе 1942 года, позднее вспоминала, что семейная «проблема возникла, когда дон Николас получил назначение в Кадис, а его жена не захотела поехать с ним». В пьесе Салома тоже говорится, что донья Пилар отказалась покинуть Эль-Ферроль после того, как муж сказал ей следующую фразу: «В любом другом месте земли ты всегда будешь бедной необразованной провинциалкой, выставляющей напоказ свою набожность».
Какова бы ни была правда, вся семья пришла в ужас, когда дон Николас в конце концов уехал в Мадрид и связался назло всем и, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь с привлекательной, чувственной и общительной молодой женщиной, Агустиной Альданой. Освободившись от вечно упрекающего взгляда вечно недовольной жены, дон Николас, похоже, оставил свое наиболее жесткое Я в Эль-Ферроле, возможно, потому, что его новая подруга — «девушка из народа» с прогрессивными взглядами на жизнь — была во всех смыслах абсолютно не похожа на донью Пилар. Хотя дон Николас еще продолжал выпивать и иногда раздражался и кричал на окружающих, он оставался верным Агустине до самой смерти, наступившей в 1942 году. У них появился ребенок — жена Пакона замечает, что «девочка считалась их племянницей, но все знали, что это их дочь», — к которому оба они были очень привязаны. (Возможно, Николас видел в ней замену Пас.,)
Донья Пилар упорно отказывалась от советов друзей отправиться в Мадрид и противостоять любовнице мужа, она предпочла роль покинутой жены. Всегда в черном и вечно со слезами на глазах, она в беседах с детьми постоянно сокрушалась «по поводу их отсутствующего отца» и настаивала, чтобы, будучи в Мадриде, они всегда навещали его, «выказывая должное уважение», вероятно, чтобы избежать большего скандала. Но если Николас, Рамон и Пилар регулярно посещали дом своего родителя, то суровый и непрощающий Франсиско — возможно, винящий отца, кроме всего прочего, и за собственное отлучение от семейного очага — решительно отказывался исполнять ее указания.
Мнение Франсиско Франко по поводу неортодоксального решения отцом семейных проблем можно понять из его позднейших грозных обличений всех и всяческих либералов и вольнодумцев, которых он называл пьянчугами и развратниками.
Рамон, главный соперник Франсиско, продолжал жить дома вместе с ожесточившейся матерью и младшей сестрой. Даже Николас регулярно посещал семейный очаг, сбегая из Военно-морской школы и поражая соседей блестящей морской формой. И только Франсиско был отправлен из родных пенат в далекий и суровый город, в крепость, словно сошедшую с мрачных религиозных полотен Эль Греко. Жаркий и сухой, отстоящий на много миль от моря, Толедо был совсем не похож на утопающий в зелени морской порт Эль-Ферроль, где «просторные пляжи с темным песком омывали стелящиеся барашки нежных волн», а «раскаленное лето» овевал легкий бриз, как проникновенно писал Франко в своем киносценарии.
Уход отца из семьи и отъезд Франсиско в Толедо, где он сразу оказался лишенным материнского тепла, попав в сугубо мужское окружение, — все это случилось в крайне не подходящий для чувствительного и робкого подростка момент. Охваченный пронзительной тоской по отчему дому, Франсиско еще более замкнулся в себе. Испытывая ненависть к отцу и ко всему, что стояло за ним, он стал искать некую душевную опору в крайне правых взглядах. Как и его учителя в Толедо, Франко проявлял злобную враждебность к гуманизму, либерализму и терпимости, которые ассоциировались в его глазах с доном Николасом. Подобно тому как Франко винил отца во всех несчастьях и унижениях своего детства, крайне правые офицеры винили в унизительной- потере Испанией имперского статуса некомпетентность гражданского правительства, которое забыло традиционные испанские ценности, такие как «единство, иерархия и воинствующий католицизм». На фоне раскола в его семье твердая приверженность армии к моральному единению Родины нашла в душе Франсиско благодарный отклик. Более того, военная академия давала возможность превратить детские мечты Франко о своем будущем вкладе в возрождение великой Испании в реальность. Уже в преклонном возрасте каудильо вспоминал «невыразимое волнение», охватившее его, когда он впервые ступил на «грандиозную» полковую площадь, над которой возвышалась статуя Карла V с надписью: «Либо я погибну в Африке, либо войду в Тунис победителем». Академия стала мостиком между детскими играми в Эль-Ферроле, которые помогали ему избавляться от ощущения собственной неполноценности, и ролью «солдата-героя» в Марокко.
Впрочем, поначалу его учеба в академии отнюдь не предвещала будущей славы. В то время как все юные кадеты проходили «суровый крестный путь novatadas» (жестокий и унизительный ритуал посвящения, которому старшие кадеты подвергали вновь прибывших), заторможенный и замкнутый Франсиско, обладавший не слишком впечатляющими физическими данными, стал посмешищем для остальных учащихся. Годы спустя он будет с горечью вспоминать «об ужасающем приеме, устроенном тем из нас, кто пришел полный иллюзий и надежд, чтобы влиться в большую военную семью». Его писклявый голос стал вечным источником для насмешек. И особенно обидно было, что в стрессовом состоянии он в любой момент мог сорваться на визгливый фальцет. Ко всем прочим проблемам добавилось еще и то, что по причине малого роста для каждодневных строевых занятий ему были сделаны некоторые послабления. Так, несмотря на яростные протесты и утверждения Франсиско типа: «Я могу сделать все, что сделает самый сильный кадет взвода», его сочли неспособным управляться с оружием стандартного размера и выдали винтовку с укороченным на пятнадцать сантиметров стволом.
Тем не менее Франсиско стоически выносил все тяготы казарменной жизни, подсознательно сублимируя суровую каждодневную реальность в некий фантастический проект выдающегося военного будущего. Скорее всего он даже получал определенное удовлетворение от жесткой структуры военной иерархии и — подобно многим юным кадетам того времени — чувствовал облегчение, обнаружив, что впервые в жизни не зависит от произвольных условий бытия, а подчиняется единому для всех закону. Подавление индивидуальности в академии, строгое чувство порядка, послушание и исполнение долга — все это стало для Франсиско вполне естественным. Возможно, его также обнадеживала перспектива добиться в армии уважения, чего он так и не дождался от своего отца.
В Толедо — в отличие от Эль-Ферроля — дружба перестала быть приоритетной ценностью для Франсиско. Упрямо отказываясь завоевать популярность, он держался на холодном и презрительном расстоянии от сокурсников. По своим моральным устоям не склонный к совместным кутежам и загульным вылазкам в город, так некстати напоминавшим и отцовское поведение, он стремился вызвать одобрение начальства, погрузившись в изучение военной литературы. Хотя Франко производил впечатление совершенно беззащитной личности, он, когда считал, что с ним обходятся несправедливо, вел себя с крайней агрессивностью. Однажды некий старший кадет сильно разозлил его, дважды подряд запрятав книги Франсиско. Тогда будущий каудильо в ярости запустил подсвечником обидчику в голову, спровоцировав грандиозную драку, во время которой в ход пошли книги, подушки и кулаки. Категорический отказ Франко назвать имена других участников потасовки, несмотря на строжайший приказ командира, обеспечил ему недоброжелательное, смешанное с завистью восхищение некоторых сокурсников, в том числе Хуана Ягуэ и Эмилио Эстебана Инфантеса, которые позднее будут играть важные роли в гражданской войне. И все же, хотя многие кадеты признали, что «он вел себя должным образом, отказавшись раскрыть имена своих мучителей», у Франко с однокашниками так и не возникло теплых отношений.
Впрочем, этот инцидент можно считать исключением, поскольку Франсиско постоянно стремился заслужить расположение старших офицеров. Но это отнюдь не всегда приносило ему дивиденды, что выяснилось в день прибытия Па-кона в Толедо в 1908 году, когда тот вдруг узнал, что его юному кузену было запрещено покидать казарму за «разговоры в строю». В радостном неведении относительно суровых правил, царивших в академии, Пакон бросился к командиру с просьбой перенести наказание Франсиско на другой день, поскольку их обоих пригласил на обед дядюшка, специально приехавший навестить их из Мадрида. Однако не только наказание не было перенесено, но и самого Пакона немедленно подверг аресту и заключил в казарму пребывавший в дурном расположении духа командир за то, что юноша «осмелился войти к нему одетым в черный плащ, вместо того чтобы держать его сложенным на руке, как того требовал устав». «Это был, — записал Пакон в дневнике, — последний и единственный раз, когда дядюшка посетил наше военное заведение».
Пакона выводили из себя мелочные заботы и придирки командиров по поводу того, «какую часть формы следует надевать в зависимости от местонахождения», а вот Франсиско охотно впитывал в себя суровую дисциплину и досконально изучал военную историю, которую им в академии энергично преподавали — пытаясь, вероятно, компенсировать в умах кадетов реальную слабость Испании в военном отношении. Но даже Франко называл эту систему преподавания занудством, «методом, в котором главным была зубрежка». Пытаясь задним числом объяснить свои более чем скромные успехи в академии, он рассказывал, как однажды его отчаянная попытка отойти от механического воспроизведения заданного текста завершилась очередным унижением. Когда Франсиско попытался поразить класс красноречивыми и оригинальными рассуждениями на тему сооружения фортификаций, преподаватель, далекий от того, чтобы восхититься его эрудицией, бросил презрительно: «Вы здесь не в Атенеуме!» (популярное в Мадриде место для дебатов) — и вкатил Франко «трояк».
День за днем в головы юных и впечатлительных кадетов вколачивалась концепция девятнадцатого века о праве армии вмешиваться в испанскую политику и быть готовой в любой момент свергнуть гражданское правительство, руководствуясь собственными понятиями о национальных интересах. Рассказы о славных сражениях прошлого изобиловали примерами мужества и стойкости, ценившихся больше, чем познания в тактике и стратегии. Во время обучения не поощрялись коллективные действия: личная слава ценилась превыше всего. С гордостью утверждая, что личной доблести «нас обучали больше, чем любому другому предмету», Франко с удовольствием вспоминал о «славных шрамах», оставшихся на голове у одного из преподавателей после схватки на ножах в Марокко. Геройство, лихая бравада и презрение к смерти считались отличительными чертами хорошего солдата..Как и в немецких академиях, с первых дней обучения юным кадетам вбивалось в голову, как важно научиться умирать. Это было весьма по душе Франко, внутренне всемогущему и уничтожающему самого себя, жаждавшему добиться либо ощущения полной неуязвимости, либо ранней смерти.
А вот уровень преподавания военных дисциплин в Толедо был весьма низким. Хотя фиаско на Кубе предопределили прежде всего достижения Соединенных Штатов в воен-но-морской тактике и стратегии, офицеры академии упрямо верили в традиционную военную доктрину. Они считали главным оружием давно устаревшую фронтальную атаку развернутыми взводами в пешем строю, а не умение использовать особенности местности. И если отдельные аспекты испанской военной подготовки — владение саблей, верховая езда и стрельба из винтовки — имели что-то общее с программой Сандхерста5, в остальном существовала огромная разница. Относительная молодость и почти монастырское отлучение кадетов от гражданского общества (за исключением их диких вылазок в город) резко контрастировали с британским военным образованием. Испанские кадеты получали теоретические познания в топографии, тактике и элементарной полевой инженерии главным образом в классах, а не на местности. Генерал Мола, ключевая фигура во время гражданской войны, позднее будет горько жаловаться, что в результате этой подготовки кадеты были воспитаны в непреклонном германском духе и убеждении в том, что они могли бы разгромить целые армии, а на практике не умели командовать взводом. От офицеров требовались энциклопедические, но не критические знания основных испанских военных деяний и бездумное исполнение любых решений, принятых генералами. И Франко построит всю свою военную и политическую карьеру на непоколебимой вере в военный устав и глубоком убеждении, что только абсолютное подчинение и верность старшим по званию должно быть главным в жизни, в том числе и для гражданских лиц.
Пока Франко учился в Толедо, консервативные силы армии попытались компенсировать потерю Кубы и восстановить имперское величие посредством расширения и укрепления испанских позиций на севере Африки. Положение в Марокко никогда не было простым. Вплоть до начала XX века там правил властный султан. Два крупных восстания местного населения против него открыли англичанам и французам дорогу для расширения своего влияния в этой зоне. В качестве побочного эффекта от англо-французского соперничества Испании в виде протектората достался регион северного Марокко, который было практически невозможно контролировать. Султан сохранял номинальную власть над обширной французской зоной, а один из его приближенных попытался стать правителем в испанской зоне. Это не устроило ни арабское население, ни оккупантов из Мадрида. Хотя свирепые местные племена, кабилы, и ненавидели своих испанских хозяев, армейские офицеры считали, что все их проблемы в Марокко вызваны колониальными амбициями Франции и Великобритании, а также слабостью испанских политиков. Эту точку зрения энергично поддерживали в толедской военной академии. Ее офицеры страстно желали, чтобы правительство сделало что-нибудь «смелое» в Африке.
Однако, к пущему разочарованию армии, государственная власть после кубинского фиаско не проявляла ни малейшего интереса к сохранению или расширению имперских владений в Африке. Вместе с тем испанские промышленники, добившиеся благоприятных для себя условий эксплуатации шахт в Марокко, были чрезвычайно озабочены, поскольку восстание местных племен против султана начало угрожать интересам владельцев рудников в районе города Мелильи. Они немедленно объединили свои усилия с армейскими офицерами, близкими к королю Альфонсу XIII, для давления на правительство Антонио Мауры с тем, чтобы оно защитило контролируемые ими горные разработки. В июне 1909 года Маура в конце концов уступил и отдал приказ армии взять под охрану испанские шахты в Марокко.
Однако, несмотря на весь энтузиазм, с которым армия жаждала ввязаться в эту авантюру, на деле она оказалась абсолютно не готова для сколь-нибудь значительных военных действий. Пришлось призвать резервистов, многие из которых были давно женаты, имели детей. Решение Мауры направить на войну собранный на скорую руку, расхлябанный экспедиционный корпус обернулось бойней для испанских сил. Только 27 июня свыше пятисот испанцев было убито и несколько тысяч ранено.
То, что тысячи простых тружеников заплатили жизнью за кровавую авантюру, предпринятую некомпетентным правительством для защиты экономических интересов горнорудных компаний, отнюдь не способствовало снижению социальной напряженности в Испании. 12 июля 1909 года одна монархистская газета гневно писала: «Если бы страна знала, что хоть какая-нибудь проблема в Марокко будет разрешена, то стерпела бы самую империалистическую политику. Но, поскольку стало ясно, что в Марокко никто не знает, что и как следует делать, она не поддержит эту авантюру... Там мы только понапрасну проливаем кровь наших солдат и тратим деньги налогоплательщиков». В местах, где призывали резервистов и откуда они отправлялись на непопулярную войну, начались спонтанные антимилитаристские демонстрации, которые быстро распространялись по стране. Масла в огонь подлила всеобщая забастовка в Барселоне, организованная анархистами и социалистами. Чрезвычайное положение, объявленное командующим военным округом, спровоцировало взрыв антиклерикальных выступлений, несколько церквей было сожжено.
29 июля 1909 года правительство Антонио Мауры приказало давно жаждавшей пострелять армии навести порядок в Барселоне. Это событие известно в истории как «Semana tragica» («Трагическая неделя»). Офицеры, убежденные, что социальное брожение и марокканский провал оказались следствием антимилитаризма, антиклерикализма и каталонского сепаратизма, без колебаний расстреливали баррикады прямой наводкой из тяжелой артиллерии. Множество бунтовщиков было арестовано, тысяча семьсот двадцать пять человек предстали перед полевыми судами, пятерых приговорили к смертной казни.
Пока стачка в Барселоне перерастала в вооруженные столкновения, марокканцы под стенами Мелильи перешли в наступление. Армию эти события еще больше укрепили во мнении, что некомпетентная и беспомощная центральная власть не способна сдержать антипатриотические выступления. В Толедо, «где главной темой наших разговоров были политические и военные события, разворачивавшиеся в Испании, мы, молодые кадеты, были возмущены происходящим» (Пакон). В военной академии считали, что пацифисты и революционеры провоцировали гражданские волнения, пока испанская армия исполняла свою благородную имперскую миссию в Марокко.
Но юному Франко пошли на пользу военные неудачи в Африке, ибо обидное ощущение личной и социальной неполноценности обернулось достойным похвалы чувством досады и возмущения за оскорбленную страну. Его желание отомстить за собственные унижения, которые он терпел от отца, смешивалось сейчас с решимостью защитить Родину, сделав одновременно славную военную карьеру. Тем не менее, когда в июне 1910 года Франсиско завершил учебу в академии, его героическое будущее отнюдь не выглядело очень уж вероятным: восемнадцатилетний кадет оказался лишь на двести пятьдесят первом месте среди трехсот двенадцати выпускников. В своем фильме Франко пытается объяснить не слишком многообещающее начало военной карьеры. На выпускном вечере в академии наш герой Хосе многословно разглагольствует на тему славного прошлого Испании, богатой истории Толедо и вклада Сервантеса в испанскую культуру. Хосе говорит, что он истратил недельное жалованье, чтобы купить шесть экземпляров «Высокородной судомойки», не самого популярного произведения Сервантеса, чтобы повысить культурный уровень своих товарищей. Когда книжки попали в руки преподавателя, кадета подвергли аресту. Его восторженный друг Луис, считая, что «Хосе большему научился от камней Толедо, чем от книг», вскричал: «Вы только посмотрите на это безумство! Да по своим способностям и отношению к нему учителей Хосе мог бы быть первым среди нас, а он все пренебрегает этим ради красивого жеста!» На что Хосе отвечает нравоучительной сентенцией: «Я ни за что не променяю мои душевные устремления на первые места в классе». В действительности же Франко будет поразительно гибким и покладистым в своем стремлении к власти.
Желанию Франсиско проявить себя на полях сражений в Африке препятствовало его высокое звание младшего лейтенанта, которое не позволяло ему просить назначения на службу в Марокко. В результате Франсиско и Пакона направили в небольшую воинскую часть, базирующуюся в Эль-Ферроле. К тому времени на Калье-де-Мария мало что изменилось. Несчастная донья Пилар по-прежнему жила со своим престарелым отцом. Вечно в черном, она проводила дни в молитвах, а ночи в слезах. Как водится, Франко убегал из казармы домой почти ежедневно. Хотя вдали от родного очага юный Франсиско обнаружил в себе глубоко укоренившееся неприятие церкви — в период службы в Африке он слыл «человеком без страха, баб и мессы... лишенным пристрастий и дурных привычек, не относящихся к службе» (Пол Престон), — в Эль-Ферроле молодой офицер попытался ублажить мать религиозным рвением. Он дошел до того, что вступил в общество милосердия «Адорасьон Ноктурна». Однако ни присутствие рядом любимого сына, ни его показные проявления набожности не слишком облегчали мрачное состояние доньи Пилар.
Служба в гарнизоне маленького провинциального городка не открывала вдохновляющих перспектив для молодых кадетов, полных воинственного задора и огня. Оба они чувствовали себя обманутыми и разочарованными, узнав, что их рота насчитывала всего пятьдесят человек вместо двухсот сорока, что было нормой в африканских частях. А невезучий Пакон по-прежнему пытался усвоить занудные сложности армейского протокола. Когда он впервые появился в штабе полка, командир отказался принять его на том основании, что «черные перчатки, надетые на вас, не положено носить в служебное время». Пакону было вежливо рекомендовано: «Выйдите отсюда и возвращайтесь в перчатках орехового цвета, положенных по уставу». «И вот для этого, — говорил он себе, — я провел три года, изучая кампании Ганнибала и Наполеона?»
Хотя Франко наверняка одобрял педантичности полкового начальства относительно ношения формы, военная жизнь в Эль-Ферроле несколько отличалась от образа жизни, который он себе представлял. Дни проходили в муштре, изучении устава и верховой езде. Вечерами, страстно желая ни в чем не уступить разнаряженному братцу Николасу, далекий от еще совсем юного брата Рамона, он с товарищами фланировал по улице Реал, демонстрируя военный мундир, замечательные усы и небрежно сдвинутую на затылок форменную фуражку. Но, увы, какие-либо надежды перехватить восхищенный взгляд городских красавиц, прогуливавшихся под неусыпным надзором дуэний, оказались напрасными. Армейская форма не шла ни в какое сравнение с морской, и чаяния Франсиско преодолеть свою физическую неполноценность и холодность к нему видных семейств в Эль-Ферроле были весьма призрачными. Скоротечные и болезненные увлечения подружками сестры — в особенности высокими стройными брюнетками, не без сходства с его матерью, — никогда не заходили дальше нежных взглядов и мучительных поэтических излияний, над которыми насмешница Пилар издевалась вместе с подругами.
И потому Франко с большим облегчением встретил известие о том, что его, Камило Алонсо Вегу и Пакона отправляют наконец в Марокко, где перспектива быстрого продвижения по службе или скорой смерти была бесконечно привлекательней одуряющего существования в Эль-Ферроле. Хотя сотни офицеров и тысячи солдат уже нашли свою гибель в Марокко, нет никаких свидетельств того, чтобы донья Пилар пыталась отговорить Франсиско, а позднее и его брата Рамона, от участия в военных действиях в Африке. (В пьесе Салома либерал дон Николас выражает недовольство тем, с какой быстротой «наших сыновей отправили отвоевывать несколько бесполезных скал, которые даже не принадлежат нам».)
17 февраля 1912 года трое юношей прибыли в Мелилью, дурно пахнущий, нездоровый городишко, состоящий из лачуг и халуп, населенный сбродом, который, словно мухи, слетается на запах войны. Франко к тому времени исполнилось девятнадцать лет. И хотя, по словам Пакона, они «были в восторге от этого города» и находились «в высоком боевом духе», все трое очень скоро обнаружили, что реалии войны сильно отличались от очаровательных россказней о ней, которыми их кормили в Толедо. Плохо вооруженная и оснащенная испанская армия, задавленная и униженная тупой бюрократией и сбитая с толку разбродом в правительстве, была вынуждена бросать в бой малообученных новобранцев и призывников, не имевших должной мотивации, против воинственно настроенного врага, который досконально знал окружавшую их пустынную, дикую местность. Даже сам Франко много позже признавал: он больше всего боялся, что его люди выступят против своего командира, вместо того чтобы сражаться с марокканцами.
Франко по-прежнему не поддерживал товарищеские отношения в армейской жизни, а, как ребенок за материнскую грудь, ухватился за военную этику, предписывавшую абсолютное повиновение, и за риторику, превозносящую патриотизм, героизм и честь. В Африке был строго регламентирован военным уставом каждый момент его жизни. В ней не только не оставалось места для какой-либо неопределенности, двойственности, но к тому же война давала Франко внешне четкое и пристойное объяснение его постоянному ожиданию угрозы и унижения. В гневе Франсиско против бессильного и беспомощного правительства ощущались отголоски детских обид на отца.
Франко также с энтузиазмом воспринял антифеминистские настроения, исповедуемые частью офицеров, которые — как и он — стремились убежать от всего, что напоминало об их эмоциональной зависимости от матерей. Подобное поведение отнюдь не было необычным в те времена среди молодых солдат, склонных к фашистскому мировоззрению. В своем признанном классическим труде о германском фашизме «Мужские фантазии» Клаус Тевеляйт анализирует более двухсот пятидесяти рассказов и воспоминаний, написанных после Первой мировой войны членами так называемых Freikorps (добровольческих отрядов), многие из которых впоследствии вольются в ударные части Гитлера. Он рассматривает целый ряд тем, которые фигурируют и в киносценарии «Мы», в том числе и ярко выраженную тенденцию идеализировать матерей и морально уничтожать отцов. Бывает, что уничтожают также и матерей, и тогда, как в фильме, предметом желаний становится идеализированная сестра. Из этого Тевеляйт делает вывод, что этими людьми руководит не столько эдипов комплекс, сколько стремление избежать связи с их матерями, в которых «защитница и жертва объединены в одном лице». Подобно их сыновьям, даже эти идеализированные матери страдают раздвоением. Внешне «любящие и заботливые заступницы», они оказываются «железными матерями», которые и глазом не моргнут при известии о смерти своих сыновей, хотя они многим пожертвовали, чтобы их вырастить.
Какими бы ни были внутренние психологические мотивации Франко, действуя по приказу начальства, выполняя, по его мнению, историческую миссию, он проявил себя поразительно эффективным солдатом. Видимо, прав Эрих Фромм, утверждая, что «авторитарные характеры любят ситуации, в которых свобода действий ограничена, любят подчиняться судьбе. Солдат с удовольствием подчиняется прихоти или воле командира». Кроме того, как замечает Норман Диксон, армия является «чрезвычайно благоприятной средой для людей с недостаточным внутренним самоконтролем». На них армейская служба действует в высшей степени успокаивающе, поскольку заменяет непрогнозируемые случайности жизни определенными штампами, а «тревога перед пугающей неопределенностью сведена до минимума». Действительно похоже, что Франко с облегчением перекладывал личную ответственность на своих командиров. И, став политическим лидером, он по-прежнему не любил оказываться в положении, когда его можно было бы обвинить за собственные действия и поступки. Он просто убедил себя, что действует по указаниям высшей власти — Бога.
Отупляющая обстановка и условия действующей армии превратили некоторые психологические тенденции в характере Франко в необратимые черты его натуры. Оторванный от континентальной Испании и ядра испанской армии, равнодушный к культуре страны, в которой он воевал, и не любивший контактировать с окружающими, Франко не мог найти ничего, что умерило бы его склонность к жестокости, эмоциональному уединению и фантастическим мечтаниям. И хотя все эти устремления вряд ли являлись очень уж оригинальными, то, каким образом они смешивались с подсознательными желаниями Франко, было чрезвычайно своеобразным. Как и в случае с Гитлером, война превратила в реальность мир юношеских фантазий. Оставив в прошлом неуклюжего мальчика, робкого школьника и посредственного кадета, Франко решительно смотрел в славное будущее. Но все же, хотя мысли его витали в облаках, ногами он твердо стоял на земле.
Глава 2
СТАНОВЛЕНИЕ ГЕРОЯ
Африка: 1910—1931
Годы, проведенные в Африке, продолжают жить во мне с невыразимой силой. Там зародилась возможность вернуть Испании ее былое величие. Там были заложены идеалы, которые сейчас спасают нас. Без Африки едва ли я смог бы постичь самого себя и раскрыться до конца перед моими товарищами по оружию.
Франсиско Франко
Девятнадцатилетний Франко получил звание младшего лейтенанта в июне 1912 года, это было единственное звание, которое он получил просто за прохождение службы. Прибыв в Марокко, молодой офицер принял участие в рутинных военных операциях, имевших целью установить оборонительные связи между крупными городами. Вскоре он подал заявление о переводе его в части местной полиции — так называемые «регуларес», незадолго до этого созданные Дамасо Беренгером, которые состояли из свирепых мавританских наемников. «Регуларес» предоставят молодому офицеру массу возможностей для героических подвигов и быстрого продвижения по службе. Оказалось, что Франко гораздо лучше удается командовать мавританскими, а не испанскими частями. Возможно, что, будучи европейцем, он считал себя выше местных арабов в социальном и интеллектуальном отношении и выступал в роли некой отеческой фигуры, в чем-то подражая сумасбродному дону Николасу.
В декабре 1912 года, получив первое увольнение, Франко провел Рождество в Мелилье, где страстно влюбился в Софию Субиран, дочь полковника Субирана, зятя верховного комиссара Марокко. Пылкие чувства Франко были заведомо обречены на неудачу из-за очевидного превосходства Софии в социальном положении. И, хотя девушка устояла перед его шармом, позже она признается, что ей были очень приятны ухаживания Франсиско, поскольку он к ней «обращался словно к неземному существу». С б января по 5 июня 1913 года Франко писал ей почти ежедневно, иногда даже по четыре-пять открыток в день. Причем ассортимент этих открыток был чрезвычайно своеобразным для молодого солдата, упивающегося своей мужественностью. Он варьировался от фотографий девиц, обнимающих друг друга, до малолеток, застенчиво, но призывно глядящих в камеру. Их нарождающаяся сексуальность угадывалась в скандально выставленных напоказ голых плечиках. Иногда это были более статные величавые дамы, сидящие у лампы с книгой в руках, а также юные девушки, обвивающие руками шею коня или играющие с пушистым котенком. Материнский комплекс Франко проявился в серии открыток, где, например, молодая женщина нежно смотрит на нечто, покоящееся у нее на руках и долженствующее изображать ее дитя. Эта странная подборка открыток, скорее подходящая переписке юной романтичной девушки с подружкой, чем бравого солдата со своей возлюбленной, была полна высокопарных заверений в неизменной преданности, изложенных аккуратным, четким почерком. Жесткий, правильный и последовательный Франко лишь мимолетно касается в них тягот и ужасов службы в зоне боевых действий. Кажется, 9 марта, явно не удовлетворенный неким ответом Софии, Франко пишет ей: «Е1 que espera desespera, Sofia, у yo espero» («Ожидающий теряет надежду, София, но я жду»). 5 июня он вынужден признать, что «Вы все еще не любите меня», но снисходительно добавляет при этом, «хотя я полагаю, что Вы сами заблуждаетесь». Самоуверенность, с которой Франко не приемлет сдержанность Софии, считая такое отношение к нему глупым и абсурдным, ясно указывает на то, что его способность к трезвой самооценке уже серьезно поколеблена.
Уязвленный в любви, Франко бросился в сражения с безрассудным, едва ли не самоубийственным рвением. После обороны военной базы в Сеуте молодого офицера направили в гарнизон Тетуана, где он и отличился, проявив себя исключительно отважным бойцом. С 14 августа по 27 сентября 1913 года молодой офицер участвовал в нескольких операциях, получив 12 октября 1913 года крест «За боевые заслуги» первого класса за свои действия на поле брани. 1 февраля 1914 года в двадцать один год Франко присвоили звание капитана «за боевые заслуги». Его визгливые команды и малый рост компенсировались отвагой в бою и полнейшим пренебрежением к опасности, что принесло ему если не любовь, то по меньшей мере уважение и преданность солдат. Невероятная беспечность Франко под огнем скоро стала легендарной. Рассказывают, как однажды крышка от фляжки, из которой он пил, была выбита пулей у него из руки. Все-таки допив флягу, он крикнул в сторону противника: «В следующий раз стреляйте пометче!» Смешивая фантазии с реальностью, Франко вдруг появлялся на поле боя на белом коне. Наконец-то он стал героем, воплотив в жизнь свои детские мечты. Возможно, Франко переполняла уверенность в собственной неуязвимости. А может, он был убежден, что его смерть — единственный способ привлечь внимание Софии или своих собственных родителей. С другой стороны, ему сопутствовало необычайное везение. За какие-то тридцать месяцев тридцать пять из сорока одного офицера «регуларес», в рядах которых сражался Франсиско Франко, оказались убиты или ранены, но его серьезно ранили только однажды. Мавры были убеждены, что он отмечен знаком Baraka — божественной защитой, делавшей его неуязвимым. Между прочим, размышления о связи между смертью и сексом Франко изложил в своем киносценарии. Единственная физическая встреча, несущая сексуальную нагрузку, между Хосе (Франко) и его прекрасной и непорочной подругой Марисоль имеет место, когда она приходит забрать «тело мученика», застреленного республиканцами. Охваченная волнением, девушка срывает платок с лица Хосе и совершает то, что Рамон Губерн в психоаналитическом исследовании фильма по методу Адлера называет «телесным контактом с некрофиль-ным оттенком», то есть Марисоль прикасается щекой к лицу по всем признакам мертвого солдата. Искупление через наказание и благородство смерти — основные темы фильма, — словно наваждение, будут преследовать Франко на протяжении всей жизни. Когда Франсиско объявит себя каудильо, он будет давать выход своим деструктивным и сексуальным импульсам в охоте. Начиная с войны в Африке убийство станет составной частью его бытия.
Франко был не единственным бойцом, готовым принести в жертву себя и других. Еще один из отборных офицеров Беренгера вызывал восхищение своей отвагой. У него, например, любимой привычкой было усаживаться на бруствер и дразнить противника под градом свистящих вокруг пуль. На пять лет старше Франко, шести футов ростом6, долговязый Эмилио Мола резко отличался от невысокого новичка «регуларес». Однако это не мешало двум бойцам относиться с уважением друг к другу и питать глубокую ненависть и недоверие к гражданским политикам. Подобно остальным убежденным «африканцам», оба считали, что участие в славной марокканской кампании дает им, и только им, право спасти Родину от некомпетентности гражданского правительства и козней левых пацифистов. Любой, кто по каким-либо причинам выступал против них, рассматривался как угроза Родине и армии. Оба эти человека сыграют решающую роль в военном мятеже 1936 года.
В 1916 году Франко был серьезно ранен в бою под Эль-Бьютцем, в первый и единственный раз в жизни. Пакон, которого 30 октября 1912 года переведут обратно в Галисию, вспоминает с некоторым удивлением: получив «печальное известие... что его сын ранен в живот, дон Николас вместе с бывшей женой поспешил к нему в Тетуан». В пьесе о доне Николасе Салом, правда, утверждает, что они приехали к нему в госпиталь после его перевода в Севилью. Во время поездки к «умирающему» сыну несгибаемая донья Пилар воздает хвалу Франсиско за героизм, проявленный им при защите Испании. «Какой Испании, — гневно вопрошает ее муж, — твоей или моей? — И добавляет: — Не понимаю, как ты можешь с таким смирением и даже с гордостью относиться к тому, что твой сын погибнет?» Неожиданный совместный приезд родителей, вероятно, укрепил Франко в убеждении, что лишь ранняя смерть — подобно смерти Пас — могла пробудить их привязанность. В конечном счете, несмотря на самые мрачные прогнозы, он не умер, хотя, как вспоминает Пакон, это было «настоящим чудом, что у него не развился перитонит, а пуля не затронула сколько-нибудь важный орган». Хотя это чудесное спасение и не поколебало растущую веру Франко в собственную неуязвимость, возникшие слухи о том, что в результате ранения он стал импотентом, отнюдь не уменьшили его подсознательные ощущения своей мужской неполноценности.
Может быть, поэтому он так резко реагировал, когда военное министерство отвергло рекомендацию верховного комиссара о присвоении ему звания майора и представлении к самой высокой награде — большому кресту «Сан-Фернандо» с лавровым венком — за его подвиги под Эль-Бьютцем. Оскорбленный двадцатитрехлетний юноша без колебаний обратился прямо к верховному главнокомандующему, королю Альфонсу XIII. Этот отчаянный ход, явное свидетельство того, что он больше не признает собственную незначительность, стал первым очевидным симптомом разочарования Франко в политиках, которые, как и отец, не желали признавать его достижений. Король был немало удивлен, а правительство раздражено. И хотя Альфонс XIII и удовлетворил ходатайство Франко о повышении в звании, правительство отказалось наградить его Лавровым Венком. Этот отказ постоянно оставался незаживающей раной, пока в конце концов он не наградил им себя сам к послевоенному параду победы 19 мая 1939 года. Звание майора было присвоено Франко 19 июня 1916 года. В двадцать три года он слыл в
Испании самым молодым майором в Европе, но это кажется не слишком достоверным. Наверняка более молодые майоры имелись в Великобритании во время Первой мировой войны. Тем не менее даже в чрезвычайных условиях африканской войны это был головокружительный взлет по иерархической лестнице.
В Марокко, однако, не нашлось вакантной должности для звания майора, что положило скорый конец подвигам Франко в Африке. Весной 1917 года его перевели в Овьедо, где годом позже к нему присоединились Пакон и Камило Алонсо Вега. Там же ему встретился Хоакин Аррарас, который позже составит фантастическое жизнеописание Франко, заканчивавшееся победой в гражданской войне. Однако в то время, вместо восхищения его подвигами, местная элита дала ему прозвище El Comandantino7. Он оказался предметом насмешек местных снобов. Капитаны и майоры, многие из которых были вдвое старше Франсиско, лишь холодно пожимали плечами в его присутствии. Франко вполне мог почувствовать себя так, словно он вернулся в родной город. Коллеги вспоминают, что Франсиско «никогда не ходил с нами в увольнительные, а всегда шел домой. Он оказался в добровольной самоизоляции». И все же, хотя в Овьедо, как и в Эль-Ферроле, существовало сильное социальное расслоение, будучи молодым армейским офицером, Франко находился в относительно привилегированном положении и мог — пусть не совсем на равных — общаться с местной знатью. И именно в этот период он перенес свои страстные чувства с Софии на стройную темноволосую пятнадцатилетию девушку, воспитанницу женского монастыря из семьи с высоким социальным статусом. Подобно Софии, Мария дель Кармен Поло-и-Мартинес Вальдес привлекала Франсиско внешни'м сходством с его матерью, престижным происхождением и ярко выраженной приверженностью католицизму. Несмотря на социальное неравенство между ними, юная пара испытала в жизни схожие потрясения. Если Франко пережил эмоциональный стресс, вплоть до депрессии, от расставания с матерью, то у Кармен мать умерла, а ее воспитанием занималась честолюбивая, принадлежащая к элите общества тетя Исабель.
Франко был столь же упорным в ухаживании за Кармен, как до этого с Софией. Он засовывал записки для нее за ленту на шляпе у общих друзей и оставлял послания в карманах ее плаща в кафе. Молодой майор пошел даже на то, что стал посещать ежедневную мессу — занятие, к которому он питал глубокое отвращение с тех пор, как оставил отчий дом, — и все только для того, чтобы посмотреть на девушку сквозь кованую решетку изгороди. И хотя в конце концов его настойчивость и высекла искру интереса у юной Кармен, ее отец пришел в неописуемый ужас при мысли, что дочь соединит судьбу с почти нищим, стоящим ниже в социальном отношении молодым офицером, шансы которого на выживание могли быть сравнимы лишь с шансами матадора. Непреклонная настойчивость претендента столкнулась с жестким сопротивлением семьи этому социально и экономически не выгодному союзу.
В самом Овьедо замшелый, несокрушимый традиционализм, в какой-то степени воплощаемый семьей Кармен, столкнулся с воинственностью местного пролетариата, ведомого Социалистической партией, рабочие выходили на демонстрации, протестуя против быстро ухудшающегося уровня жизни и «преступной войны в Марокко». Армию, недовольную очевидным бессилием власти перед лицом общественных волнений, подтачивали внутренние разногласия. Офицеры, не воевавшие в Марокко и крайне раздраженные быстрым продвижением по службе, ореолом славы и более высокими окладами «африканцев», образовали так называемые «советы обороны», чтобы сохранить систему строгого продвижения по выслуге лет, а не за военные подвиги.
Этот ожесточенный конфликт привел к раздорам в национальном масштабе. Армия к тому же столкнулась с правительством по вопросу: должна ли Испания участвовать в Первой мировой войне? К неудовольствию некоторых генералов, по экономическим причинам Испания была вынуждена занять позицию нейтралитета. Это дало возможность экспорта товаров обеим противоборствующим сторонам, что вызвало промышленный бум в северных провинциях. Однако влияние аграрного, латифундистского сектора оставалось первостепенным из-за системы неравного, выгодного ему налогообложения. Это заставило почувствовавшую свою силу, недовольную промышленную буржуазию выступить с требованиями политической модернизации общества. Армия играла активную, но противоречивую роль в этой неустойчивой ситуации. Хотя средние чины офицерского состава тоже страдали из-за низкого денежного содержания, анахроничной системы продвижения по службе и присвоения званий и выступали против политической коррупции, они испугались, когда баскские и каталонские промышленники, вознамерившиеся получить свою долю военных прибылей, стали финансировать националистические движения. В то же время среди активйой части сельских и городских трудящихся происходили волнения, вызванные трудностями военного времени и инфляцией. В этой ситуации социалистические профсоюзы, объединенные во Всеобщий союз трудящихся (ВСТ), и их соперник, анархо-синдикалистская Национальная конфедерация труда (НКТ), объединились в надежде, что совместная всеобщая забастовка может привести к свободным выборам и реформам.
В 1917 году армейские офицеры, возглавлявшие внешне реформистские «советы обороны», на какое-то неправдоподобно короткое время объединились с рабочими и капиталистами в требовании покончить с продажной системой ка-сикизма. Накануне военной катастрофы 1898 года среди промышленников, интеллектуалов и буржуазии также была распространена поддержка какой-либо формы национального возрождения. Однако суждения левых о том, что в стране плохо: «отсталая идеология правящего класса, продажность и коррупция политической системы, апатия масс», и о методах решения этих проблем: «полномасштабная программа модернизации, основанная на европейских моделях», абсолютно не совпадали с мнением военных. Для левых обновление страны означало замену коррумпированной системы касикизма посредством демократических реформ; правые для уничтожения этой системы хотели использовать армию в качестве «стального хирурга»; промышленники же искали нечто среднее. Левые склонялись в пользу региональной автономии, в то время как армия, одержимая идеей целостности страны, выступала против дальнейших имперских потерь национальных территориальных образований. Понятие о нации как о «заболевшем теле», которое страдает от «расчленения», или потери территорий, ставшее важным элементом франкистской пропаганды, в то время было составной частью идеологии правых.
«Обновленческая» риторика лишь слегка маскировала взаимоисключающие программы всех этих политических сил. Консервативный премьер-министр Эдуардо Дато ловко использовал несовместимые требования трудящихся, промышленников и армейских офицеров для упрочения власти окопавшейся латифундистской олигархии. Он подкупил армию экономическими уступками, спровоцировал преждевременный призыв социалистов к всеобщей забастовке 10 августа 1917 года, к которой еще не была готова НКТ, а затем использовал армию для разгрома забастовщиков. В результате — убито восемьдесят, ранено сто пятьдесят и арестовано свыше двух тысяч рабочих. Юный майор Франко оказался одним из «ответственных за восстановление порядка» среди мирных забастовщиков на шахтах Астурии, где его «африканская ярость» выплеснулась на мирные селения, породив оргии насилия, грабежи, избиения и пытки. Это был первый раз, когда Франко направил колониальную жестокость, обычно практиковавшуюся в войне с марокканскими племенами, против рабочего класса Испании. И это будет не в последний раз.
Несмотря на успешное подавление рабочих волнений, правительство начало понимать, что общественное мнение нельзя умиротворить только переходом армии к оборонительной стратегии в Марокко и сокращением военных расходов. Эта политика не удовлетворяла и «африканцев», но Франко, проявив корыстный прагматизм, которым он вскоре будет славиться, публично не поддержал их, не решившись подвергать опасности свое положение среди военных в Овьедо. Стремясь расположить к себе коллег в континентальной Испании, он политически ориентировался на «советы обороны», хотя их цели вряд ли совпадали с его долгосрочными интересами.
На личном фронте у Франко произошли изменения. Оставив попытки добиться благосклонности Кармен, он страстно влюбляется в другую юную девушку во время приезда на побывку в Эль-Ферроль. Очень красивая Мария де лос Анхелес Баркон и де Фурундарена, избранная королевой красоты в Эль-Ферроле в 1919 году, была из чрезвычайно богатой семьи с аристократическими связями. На нее произвели сильное впечатление «концентрированная серьезность» молодого офицера и деликатное обращение. Позднее она будет вспоминать, что Франко обычно имел «таинственный вид, словно какая-то высшая, навязчивая идея заставляла его сосредотачивать все свои мысли на этой идее. Он говорил мало и всегда к месту. Я обратила внимание, что его руки никогда не были теплыми». Этот мимолетный роман насильственно прервал отец девушки, который узнал о связи дочери с неимущим молодым офицером, по ее словам, «влепил мне самую большую пощечину, которую я когда-либо получала». Она не сказала Франсиско, что произошло, но вынуждена была отказаться от встреч с ним. Франко воспринял неудачу с привычным для него хладнокровием и быстро оправился от нее, но продолжал слать любимой девушке почтовые открытки. А когда он стал главой государства, то всегда был готов ей помочь, и если для нее требовалось что-то сделать, это исполнялось немедленно.
Отвергнутый, но ни в коей мере не безутешный любовник вернулся в Овьедо, где, не переводя дыхания, возобновил свои усилия по завоеванию руки юной Кармен Поло, которая, к ужасу ее семьи, в конце концов согласилась выйти за него замуж. Именно во время этой романтической интерлюдии Франко встретился армейский офицер с родственным ему образом мыслей, Хосе Мильян Астрай. Это знакомство окажется чрезвычайно важным для обоих. Хотя эксцентричный Мильян Астрай — который из-за многочисленных ранений, полученных на поле боя, по его словам, был буквально «вновь собран по частям из крючков, деревяшек, проволоки и стекла» — резко отличался от хладнокровного и расчетливого молодого майора Франко, между ними возникла глубокая и взаимная привязанность. Обоих отличали безумная храбрость в бою, детская одержимость героическими легендами и болезненно-гипнотическое восприятие смерти. Ни один из них никогда не предавал и не предаст свою мать независимо от того, жили они полноценной сексуальной жизнью с женами или оставляли их. Между прочим, когда супруга Мильяна Астрая в их первую брачную ночь сделала неожиданное заявление, что она приняла пожизненный обет целомудрия, Мильян с готовностью согласился поддерживать с ней только «братские» отношения. По словам Пола Престона, «одержимость обоих мужчин показной отвагой типа «плюнуть и растереть» может являться попыткой смыть грязное пятно с имени семьи, оставленной отцом». Подобно дону Николасу, отец Мильяна легкомысленным поведением покрыл фамильное имя позором и навлек всеобщее осуждение. Будучи начальником тюрьмы, он брал взятки от заключенных, взамен отпуская их на побывку домой. И когда один из его подопечных, оказавшись таким вот образом временно на свободе, совершил гнусное убийство, отец Мильяна сам вскоре оказался в тюрьме.
На момент знакомства с Франко Мильян энергично продвигал идею об организации в Испании корпуса наемников наподобие французского Иностранного легиона. Это был ответ на враждебное отношение общественного мнения к обязательной военной службе, которое чрезвычайно плохо отразилось на войне в Африке. 28 января 1920 года Мильян получил звание подполковника и был назначен главой только что сформированного испанского Иностранного легиона. Он тут же предложил своему единомышленнику майору Франко пост заместителя командира. Хотя это означало, что Франсиско придется оставить страждущую и преисполненную печали юную невесту дома, спора между войной и сердечной привязанностью не было. Он без оглядки отправился в Африку.
Хотя Франко провел много времени в Марокко, и Арра-рас романтично описывал, как «зов Африки эхом отдавался в его душе... коварно завлекая в свои смертельные объятия», он так никогда и не выучился говорить по-арабски и не выказывал ни малейшего интереса к обычаям местных племен. Тем не менее Франко был убежден, как он это высказал Мануэлю Аснару 31 декабря 1938 года, что «Испания является страной, которая действительно, на деле, понимает мусульман и знает, как добиться взаимопонимания с ними». Его искренняя вера в то, что «марокканцы любят нас» и «благодарны нам за наше отношение, которое они всегда чувствовали», показывает, до какой степени он находится в плену иллюзий. Марокканцы ненавидели своих испанских господ.
Африка, в которую Франко вернулся, очень сильно отличалась от той, что он покинул три года назад. В 1919 году генерал Дамасо Беренгер был назначен верховным комиссаром Марокканского протектората, власти надеялись, что он сумеет стабилизировать тамошнюю ситуацию. Однако очень быстро возникли личные и стратегические разногласия между ним и генералом Мануэлем Фернандесом Сильвестре, военным комендантом Сеуты. Оба они были фаворитами короля Альфонса XIII, но Беренгер выступал за мирное управление местными племенами, в то время как Сильвестре склонялся к демонстрации военного превосходства и активным операциям на вражеской территории. Такова была ситуация, с которой столкнулся Франко по возвращении в Африку 10 октября 1920 года.
Став командиром первого батальона легиона, молодой майор должен был создать боеспособную единицу из обычных преступников, отбросов общества, неудачников и изгоев, которых он привез с собой из Испании. Когда несчастные новобранцы Франко прибыли в Сеуту, их приветствовал возбужденный, почти на грани истерики, Мильян Аст-рай, который тут же возопил во всю мочь: «Вы вырвались из лап смерти и помните, что вы уже были мертвецами, ваша жизнь была кончена. Вы приехали сюда, чтобы начать новую жизнь, которую вы должны оплатить смертью. Вы приехали сюда, чтобы умереть! Viva la Muerte!8» За этим не слишком оптимистичным приветствием последовало суровое напоминание: «С того момента, как вы пересекли Гибралтарский пролив, у вас больше нет ни матери, ни подружки, ни семьи. С сегодняшнего дня всех их вам заменит легион». Но вместо того чтобы запугать этих людей, мрачные слова Мильяна, похоже, вдохнули в их опустошенные души новую энергию. Ближайшей ночью в «обрученных со смертью» словно вселился дьявол: наутро нашли убитыми проститутку и гвардейца-капрала.
Среди этого быстро нарастающего, разрушительного безумия Мильян и его безжалостный заместитель установили жестокую, чтобы не сказать варварскую, дисциплину. После того, как они высвободили неконтролируемую ярость и агрессивность легионеров, требовались значительные усилия, чтобы направить их против врага, а не старших офицеров. Мильян неистово набрасывался на любого солдата, который, по его мнению, не выказйвал должного почтения. В день их прибытия он какого-то наглого мулата «оторвал от земли, швырнул в центр круга и кулаками превратил его лицо в кровавое месиво» (Пакон). В 1941 году писатель Артуро Бареа, служивший в африканском корпусе в двадцатые годы, описывал, как командиры легиона обращались со своими людьми: «Все тело Мильяна билось в истерике. Его голос срывался на вопли и завывания. Он бросал в лицо этим людям всю грязь, мерзость и непристойность их жизни, их позор и преступления, а затем в фанатической ярости пробуждал в них чувство рыцарства и благородства, призывая оставить всякую мечту, кроме как о героической смерти, которая смоет их позорное прошлое». Как весело подчеркивает Пакон, «возможно, что потеря руки, одного глаза и многочисленные увечья подорвали его чувство юмора».
И тем не менее именно хладнокровный Франко, а не горячий и вспыльчивый Мильян, настоял на введении смертной казни для поддержания дисциплины среди персонала. Однажды он без колебаний приказал расстрелять на месте легионера, который бросил в лицо офицеру тарелку с несъедобным блюдом, а затем приказал пораженным товарищам убитого солдата маршировать вслед за его телом. Когда один из офицеров, учившийся вместе с Франко в Толедо, высказал свои сомнения по поводу столь крайних мер, будущий каудильо отрезал: «Вы себе представить не можете, что это за люди. Если я не наведу порядок железной рукой, здесь воцарится полнейший хаос». Даже недоброй памяти генерал Гонсало Кейпо де Льяно, позднее прославившийся предельной жестокостью во время гражданской войны, ужасался при виде хладнокровия, с которым Франко наблюдал за физической расправой в своих мавританских частях.
Ни Мильян, ни его заместитель не пытались хоть как-то ограничить зверства легионеров против местного населения, даже когда те отрезали головы у пленных и выставляли их напоказ в качестве трофея. Хотя Франко и не выказывал открытого удовольствия при виде варварских крайностей соотечественников, он явно получал садистское удовлетворение от этого. В 1922 году Франко высокопарно описывает собственные подвиги в Африке — «Марокко: дневник батальона» показывает две крайности его души. По напыщенному, возвышенному стилю и форме эти мемуары напоминают и прозу его почтовых открыток, и фильм «Мы». Лишенный подлинных чувств, Франко перемежает сентиментальные сцены и бесстрастные описания распущенности, порочности и безнравственности своих героев, одновременно извергая пламенные диатрибы о равнодушии испанского народа к героизму и патриотизму солдат, воюющих в Африке. В том же году он опубликовал вымышленную историю о трогательной встрече бравого молодого офицера и «седовласого сол-дата-ветерана», который окажется давно пропавшим, но достойным восхищения отцом этого офицера. Стремление к отеческому признанию у Франко соседствует с леденящими душу рассказами о деяниях его людей. Он с гордостью описывает, как «однажды малыш Шарло, взломщик-грабитель, принес ему отрезанное ухо мавра». Та же странная связь меж-
3 Ходжес Г. Э.
ду крайней жестокостью и гипертрофированной сентиментальностью была продемонстрирована в 1922 году, когда герцогиня дела Виктория, организовавшая отряд медсестер, в букете роз, присланном ей от имени легиона, обнаружила две отрезанные головы мавров.
Тот факт, что Франко, который посылал женщинам открытки с изображением невинных юных дев и кошечек, был способен на такие явно садистские проявления, выявляет глубокую расщепленность его личности. Ужасающе трудные условия в Африке отлично подходили к быстро отклоняющимся от нормы эмоциональным потребностям Франко. С одной стороны, они давали вполне приемлемый, и даже оправданный и почетный, выход его подавляемым садистским наклонностям, с другой — предоставляли героическую маску, которой можно было скрыть этот аспект его личности, причем от себя самого тоже. Данный случай не является каким-то необычным. Эрих Фромм пишет: «Человек может быть полностью охвачен садистскими устремлениями и в то же время полагать, что его поступки обусловлены только чувством долга». И вряд ли стоит удивляться тому, что, снедаемый с раннего детства чувством неполноценности, бессилия и личной незначительности, Франко был склонен полностью идентифицировать себя с сильной испанской армией.
Иллюзорная вера молодого майора в ее мощь и в свои ратные подвиги вскоре подвергнутся серьезному испытанию, когда разногласия по поводу военных приоритетов между генералами Беренгером и Сильвестре приведут к катастрофе. 21 июля 1921 года самоуверенный Сильвестре начал безрассудное, неподготовленное наступление на территорию противника за испанским фортом Мелилья. Там они столкнулись с Абд-аль-Керимом, новым свирепым вождем риф-ских берберов, воины которого нанесли сокрушительное поражение испанским войскам у местечка Аннуаль. Разбитые части в беспорядке бежали обратно к стенам Мелильи. В течение нескольких часов тысячи солдат были убиты и свыше пяти тысяч квадратных километров территории потеряны.
Массовая резня произошла в ряде приграничных городков, в том числе в Дар-Дрюсе и Надоре.
Столь яркое и дорогостоящее проявление всех слабостей непобедимой испанской колониальной армии — перекликающееся с катастрофой 1898 года — должно было начисто развеять возвышенные понятия Франко об авторитете власти. Но в этот раз он сам имел возможность отомстить за унижение. Подчиненные Франко армейские части отправились морем на помощь защитникам Мелильи, куда они и прибыли 23 июля 1921 года. Страстная просьба к командованию отправить его на выручку последних остатков гарнизона в Надоре, к великому неудовольствию Франко, была отвергнута, но личное мужество и стремление использовать не самые ортодоксальные методы ведения войны скоро принесли ему заслуженную славу. В то же время беспомощное армейское командование было подвергнуто строгому разбору, когда генералу Хосе Пикассо приказали представить подробный отчет о разгроме при Аннуале.
Франко особенно отличился при последовавшей затем защите Мелильи от мародерствовавших племен кабилов. Пакон вспоминает, как однажды обозленный Франсиско набросился с упреками на старшего по званию офицера, подвергнувшего опасности своих людей. «Вы разве не видите, что этот участок простреливается с высот, занятых врагом? — кричал он. — Разве не понятно, что мы несем потери, которых можно избежать? Кто вам дал приказ занять эту дурацкую позицию?» Ошеломленный подполковник рассыпался в извинениях и бросился исполнять резкий приказ Франко: «Да не стойте же, убирайте людей с этой позиции!» Когда Пакон, едва не потеряв дар речи, поразился столь грубому нарушению субординации, Франко небрежно парировал: «Я не заметил, что у него две звезды на погонах, а его офицеры и солдаты еще скажут огромное спасибо за мое неуставное вмешательство, благодаря которому многие из них не погибнут, не будут ранены или не попадут в плен».
Пакон вспоминает и другой случай, когда Франко носился с одного края поля боя на другой, подбадривая отражаю-
з* щих атаку противника солдат и руководя их действиями. Сначала он успокоил Пакона, заявив, что уже запросил помощи, и потребовав, чтобы Пакон продолжал удерживать позицию. «Прикрой фланги и не поддавайся панике, как бы яростно ни атаковал противник. Отступать будешь только по моему приказу, причем выполнишь это с максимальным спокойствием и уверенностью в успехе... Ни один человек не должен быть брошен, это главное кредо легиона». Тут же он галопом помчался к расположенной в некотором отдалении небольшой возвышенности, где не только остановил отступление местной полиции, охваченной паникой, но и сумел убедить ее вернуться и вновь захватить брошенную позицию. Когда пораженный Пакон позднее спросил его, как он смог отреагировать так быстро, Франко ответил — он увидел в бинокль, что командир отряда полиции ранен. Поскольку это могло вызвать «общее паническое бегство, потерю важной позиции, которую тут же займет противник», ему пришлось срочно принимать меры.
По словам Пакона, хотя Франко и держал в страхе своих людей, они чувствовали себя спокойней, видя, с каким самообладанием он принимал решения на поле боя, под пулями, среди страшного кровопролития. Его подчиненные всегда испытывали облегчение, когда Франко возвращался из увольнения или отпуска, и, если он возглавлял боевую операцию, в войсках ощущалась «уверенность в победе... не было вытянутых лиц и вопросительных взглядов». И тем не менее, несмотря на все его мужество на поле боя и тогда, и позднее, ходило много сплетен о сексуальной ориентации Франко. Полковник Висенте Гуарнер, служивший вместе с Франко в Африке, позднее рассказывал: «Поскольку Франко никогда не выказывал влечения к девушкам и не был замечен ни в одном любовном приключении, ходили слухи о его гомосексуализме». Гуарнер как-то говорил на эту тему со вторым адъютантом легиона Фермином Галаном, и тот признался, что подобные подозрения возникли, когда Франко отказался разделить общую палатку для офицеров корпуса. Вместо этого он установил еще две палатки: одну для себя и молодого немецкого легионера, а другую — для двух своих адъютантов. Галан рассказывал, что «Франко всегда питал склонность к хорошо одетым лицам мужского пола... Суд» по голосу и поведению, он выглядел самовлюбленным женоподобным нарциссом, хотя это и не является доказательством гомосексуализма».
Впрочем, какова бы ни была его скрытая сексуальная ориентация, Франко решил перемежать подвиги на поле брани с периодическими поездками в Овьедо, чтобы видеться с Кармен Поло. К тому же в этом городе, по утверждениям все более льстивой прессы, местная аристократия стала настойчиво обхаживать его. Нет ничего удивительного, что уверенность Франко в себе теперь заметно выросла. Обычно столь почтительный со старшими по званию, ныне он был готов противостоять даже внушающему всем ужас командиру легиона. Однажды, когда Мильян только что повысил в звании своего личного секретаря, но отказал Франко в ходатайстве о продвижении одного из его унтер-офицеров, молодой майор с нескрываемой иронией спросил, не вызвано ли это тем, «что его унтер-офицер плохо печатает на пишущей машинке». Люди Франко были в восторге от этого выпада против Мильяна. Пакон вспоминает, что по мере восхождения Франсиско по иерархической лестнице он «предоставлял нам, своим подчиненным, все больше инициативы при выполнении приказов. То есть он не донимал нас незначительными деталями и оставался всегда спокойным». Такой подход, по-видимому, был полезен на полях сражений в Марокко, но оказался заметно менее эффективным, когда Франко вступил в мир большой политики. Уже будучи верховным главнокомандующим и политическим лидером, он руководствовался скорее необходимостью распределять «вину» среди максимального количества подчиненных, чем желанием добиться у них большего чувства ответственности.
В сентябре 1921 года во время одной из контратак Мильян Астрай был тяжело ранен в грудь. Рухнув на землю, исходя кровью и находясь на грани смерти (о которой он с некоторого времени мечтал), командир легиона катался по земле и кричал: «Меня убили! Меня убили!» Но затем, придя в себя настолько, чтобы сесть, он возопил: «Да здравствует король!
Да здравствует Испания! Да здравствует легион!», после чего его унесли на носилках. Командование Мильян передал своему заместителю. Через шесть недель Франко во главе отряда вошел наконец в Надор, где, по его словам, он обнаружил «огромное кладбище» разложившихся тел своих товарищей. В Монте-Арруите тоже, как описывает Франко, «ужасающая картина предстала перед глазами. Большинство трупов [испанских солдат] было осквернено или варварски изуродовано... Уходя, мы уносили в наших сердцах страстное желание мести, желание такой кары, что осталась бы в памяти поколений».
Достоин упоминания тот факт, что Франко, решив в 1942 году напечатать сценарий фильма «Мы», создал новое издательство и назвал его «Нумансия» в память об исторической осаде этого испанского города. Целых десять лет — с 143 по 133 годы до н.э. — римляне осаждали Нумансию. И, когда она в конце концов пала, ее немногочисленные защитники, которые не были убиты или не умерли от голода, покончили с собой. Стремление Франко освобождать осажденных перекликается с поведением добровольцев из Freikorps, которые, по утверждению Тевеляйта, относились к осажденной крепости как к «матери знатного происхождения». Отсюда и осада для них символизирует тело достойной уважения матери, оскверненное ордами нападающих. Но отношение Франко и его людей к местным или «незнатным» женщинам было не столь романтическим или же просто снисходительным. Когда однажды офицер приказал солдатам прекратить огонь, поскольку они целились в женщин, какой-то легионер процедил сквозь зубы: «Но ведь это же фабрики по производству маленьких мавров!» «Мы все засмеялись, — пишет Франко, — но тут же вспомнили, что во время последнего разгрома [при Мелилье] именно женщины проявляли особую жестокость — добивая раненых, стаскивали с них одежду, расплачиваясь таким образом за блага, которые дала им цивилизация». Эти разлагающие душу события в Марокко оказали огромное эмоциональное воздействие на Франко, развивая в нем кровожадность, паранойю и мстительность, а также навязчивую идею военной и политической осады, которая будет определять его действия как командующего на протяжении всей гражданской войны. В сороковых годах моральная и политическая изоляция режима Франко приведет к тому, что и вся Испания окажется в своего рода осаде.
Между тем Франко продолжал совершать военные подвиги. К началу 1922 года Испания смогла вернуть значительную часть утраченных территорий и стабилизировать положение в Африке. А когда один из блокгаузов неподалеку от Дар-Дрюса подвергся нападению кабилов и защищавшие его легионеры послали отчаянный призыв о помощи, Франко всего с дюжиной людей немедленно отправился к ним на выручку. Они вернулись спустя несколько часов, измазанные кровью, причем у каждого к поясу была привязана отрезанная голова мавра. Впрочем, это был единственный известный случай, когда Франко лично участвовал в зверской расправе. Галисийская пресса восторженно писала о «хладнокровии, бесстрашии и презрении к смерти нашего дорогого Пако Франко», но все же общий образ вырисовывался пока не столь четко.
Дорогостоящие и не всегда удачные действия армии в Марокко еще больше подстегнули левых и дискредитировали короля, который лично был причастен к провальному наступлению генерала Сильвестре. Разоблачая коррупцию, которая способствовала поражению армии, лидер социалистов Индалесио Прието потребовал закрытия военных академий и изгнания из африканской армии всех старших офицеров.
В результате «доклада Пикассо» о разгроме при Аннуа-ле, затребованного правительством, последовала вынужденная отставка тридцати девяти офицеров, включая самого верховного комиссара Беренгера. Доклад был представлен на рассмотрение кортесам9 для определения политической вины за военную катастрофу. Однако сам Франко оказался демонстративно поощрен за его роль в событиях при Аннуа-ле. В 1922 году он был представлен Альфонсу XIII, который ласково обнял майора и похвалил за отвагу, с которой тот действовал после ранения Мильяна. И непривычно скромный Франко заявил в прессе: «Все, что пишут обо мне, несколько преувеличено. Я просто выполнял свой долг». Его командир во время обороны Мелильи, бригадный генерал Хосе Санхурхо, — который будет во главе военного мятежа в 1936 году, — ходатайствовал о произведении Франко в подполковники. Однако из-за проводившегося расследования событий при Аннуале ходатайство было отклонено. И хотя Мильяна Астрая произвели в полковники, а Санхурхо присвоили звание дивизионного генерала, Франко оказался всего лишь награжден медалью «За боевые заслуги», но остался майором.
Мильян вскоре сумел испортить свою карьеру, когда 7 ноября выступил с открытым письмом королю, в котором в резких тонах угрожал подать в отставку в качестве протеста против возросшего влияния Совета национальной обороны. К его вящему огорчению, влиятельные члены Совета убедили колебавшегося короля принять отставку. И 13 ноября 1922 года Мильяна отстранили от командования легионом в связи с ухудшением состояния здоровья. Было также решено, что его заместитель еще не соответствует этому высокому посту, и командиром легиона стал подполковник Рафаэль де Валенсуэла. Франко, с горечью отметив: «Здесь теперь не стреляют... Все мы влачим растительное существование», попросил назначение в Испанию. 12 января 1923 года он вернулся на родину, получив свою медаль «За боевые заслуги» и назначение в элитную группу придворных военных.
Ни сурового «африканца», которым он был, ни лишенного харизмы генерала или властного каудильо, которым он станет, нельзя было угадать в любезном и обходительном офицере, вернувшемся в Испанию. Один каталонский литератор в то время так описывал молодого майора: «Смуглое, обожженное солнцем лицо, блестящие черные глаза, курчавые волосы, некоторая сдержанность в словах и жестикуляции, легкая и открытая улыбка делают его похожим на ребенка. Когда его хвалят, Франко краснеет, как девушка, которой сделали комплимент». Давая интервью, наш скромный герой отметает лестные комментарии: «Да я же ничего особого не сделал!» И превозносит до небес мужество своих людей: «Даже раненый, истекающий кровью, он ползет и кричит: «Да здравствует Легион!..» Это так мужественно, так трогательно, я едва не задохнулся от волнения». А когда говорили, что он бесстрашно стоит под огнем с улыбкой на губах, Франко отвечал: «Я не знаю... и никто не знает, что такое смелость или страх. У солдата все это определяется иначе: понятием долга и патриотизма». А на вопрос: «Вы, случайно, не влюблены, Франко?» — он реагировал с усмешкой: «Да вы что! Я же как раз еду в Овьедо жениться!» Нисето Алькала Самора, военный министр в годы правления При-мо де Риверы, а затем президент Республики, писал позже, что во Франко ему нравилась «внешняя скромность, с утратой которой, став генералом, он много проиграл».
Блестящая карьера Франко, его быстрое продвижение и королевское одобрение вызвали взрыв энтузиазма в Овьедо, когда он вернулся туда 21 марта 1923 года. Восторженные жители вручили ему золотой ключ от города, а местная верхушка воздавала пылкие почести молодому и романтичному герою. Это благоговейное, почти мифологическое отношение к Франко, безусловно, способствовало его искаженному, преувеличенному восприятию собственной персоны.
Между тем в Африке легионеры, без подстегивавшего их безумного энтузиазма Мильяна и железной руки Франко, быстро утратили боевой дух и кровожадность. И, когда Абд-аль-Керим, который так опозорил испанцев при Аннуале, предпринял новое наступление на их оборонительные рубежи в окрестностях Мелильи, а подполковник Валенсуэла погиб в бою 5 июня 1923 года, было решено, что командование легионом должен принять на себя именно Франсиско Франко. Для этого потребовалось присвоить ему задним числом звание подполковника. Новое назначение вызвало в прессе очередной взрыв пылких панегириков скромному герою. На пышных официальных банкетах в честь Франко все единодушно превозносили его личное мужество. Даже легионеры оказались втянуты в эту эйфорию. Продвижение Франко означало, что ему вновь придется оставить безутешную невесту, пока он будет подвергать свою жизнь смертельной опасности на поле брани.
Но если благородные заявления Франко о том, что для него долг солдата превыше «любых чувств, даже тех, что пустили глубокие корни в его душе», следует воспринимать с определенной сдержанностью, то его утверждение: «Когда Родина позовет, у нас найдется лишь один быстрый и краткий ответ: “Есть!”» — действительно шло прямо из сердца. О чувствах Кармен можно было только догадываться.
В Сеуте Франко очень скоро вновь пришлось проявлять чудеса храбрости. Развивая успех, Абд-аль-Керим предпринял крупное наступление на Тифаруин, пограничное местечко к западу от Мелильи. 22 августа две бандеры (роты) легиона под командованием Франко отбросили почти девять тысяч человек, осаждавших Тифаруин. Однако по возвращении на континент растущая напряженность между армией и новобранцами, отправлявшимися в Африку, вызвала вспышку насилия в Малаге, завершившуюся смертью унтер-офицера. Обвиненный в убийстве капрал Санчес Барросо был немедленно арестован и приговорен к смерти военным трибуналом. Встревоженное возможными народными волнениями, гражданское правительство запросило и получило королевское помилование. Это наряду с расследованием «ответственности» за крах при Аннуале вызвало такую ярость у армии, что 13 сентября генерал Мигель Примо де Ривера, близкий друг генерала Санхурхо, совершил государственный переворот. Причем король, как позднее окажется, роковым образом уступил свою роль конституционного монарха военной диктатуре Примо. Впрочем, на тот момент широкие круги испанского общества, похоже, были склонны дать возможность проявить себя новому режиму.
Члены легиона двойственно относились к произошедшим событиям. Большинство офицеров, поддержавших Примо, были членами «советов обороны», да и сам Примо выражал обеспокоенность ростом социальной и экономической цены, которую приходилось платить Испании за сохранение протектората над Испанским Марокко. С другой стороны, Франко, удовлетворенный тем, что армия вырвала власть из рук некомпетентного гражданского правительства, и не слишком склонный бросать вызов старшему по званию, склонил голову. В любом случае в тот момент его личная жизнь стояла на первом месте. 22 октября 1923 года он вернулся в Овьедо, чтобы жениться на Марии дель Кармен Поло двадцати одного года от роду, причем в качестве крестного выступил король Альфонс XIII, которого представлял военный губернатор Овьедо.
Публичная свадьба почти столь же эффективна, как и внешняя война, чтобы отвлечь недовольное общественное мнение. Жители Овьедо разглядывали юную пару и старались забыть о личных проблемах и национальной несостоятельности испанского правительства. Огромные толпы собрались, чтобы увидеть, как их герой входит в церковь под королевским балдахином, и встречали молодых оглушительными аплодисментами. Юная романтичная невеста Франко, ошеломленная таким публичным приемом и заваленная телеграммами членов легиона, которые приветствовали ее как их новую мать, вспоминала в восхищении: «Мне казалось, что я вижу фантастический сон... или читаю прекрасный роман... о себе самой». Но если мать Франсиско Франко, вся сияющая от распиравшей ее гордости, присутствовала на церемонии, то его отца на свадьбе не было. То ли Франко не захотел давать повод злобным столпам светского общества Овьедо почесать языки по поводу семейных проблем его родителей, то ли сам дон Николас отказался прийти. Так или иначе, это лишний раз подчеркнуло пропасть между обоими мужчинами. Некоторое утешение Франко нашел, когда одна мадридская газета поместила статью под эпохальным заголовком: «Свадьба героического каудильо». Тогда молодого командира впервые назвали «королем-вои-телем». И это будет отнюдь не в последний раз.
Несмотря на обнадеживавшие рассуждения местной прессы насчет того, что «галантные и нежные фразы, которые благородный воин нашептывал на ухо прекрасной возлюбленной во время перерыва в военных действиях, нашли в конце концов свое божественное освящение», романтическим идеям Кармен не суждено было долго жить. Хотя их брак и оказался более долговечным, чем супружество родителей Франко, никогда с самого начала в нем не имелось и признаков страсти или большой любви. Как только отпала необходимость играть роль галантного рыцаря и соискателя ее милостей, Франко превратился в холодного, физически заторможенного мужчину. Более привычный добиваться расположения женщин, чем пользоваться их милостями, он совершенно очевидно предпочитал поле боя супружескому ложу. С годами их союз становился все более формальным, причем Пакон говорил, что Франко всегда становился особенно молчаливым и сдержанным в обществе своей жены. Фотографии четы только подтверждают это мнение.
После медового месяца молодожены поехали в Мадрид, где их ожидал прием у короля, прежде чем отправиться на постоянное жительство в Сеуту. Хотя королеве Франсиско запомнился как «молчаливый и робкий молодой офицер», сам Франко позднее будет утверждать, что во время обеда с королем и пребывавшим в чрезвычайно веселом настроении Примо де Риверой он смело изложил свои сокровенные планы по сохранению и укреплению испанских позиций в Марокко. Действительно ли Франко набрался храбрости, чтобы сделать это, или нет, ясно, что данную проблему он принимал очень близко к сердцу. Одна из его многочисленных статей, которые публиковались в военной газете, была озаглавлена «Пассивность и бездействие». В ней он обличал «пародию на протекторат» и заявлял, что слабость Испании провоцирует волнения среди туземных племен.
В 1924 году, когда Франко вернулся в Сеуту, Абд-аль-Керим называл себя «рифским эмиром», отказывался признавать королевскую власть и пытался добиться признания Лигой Наций независимого марокканского государства. Контролируя небольшую зону вокруг Мелильи, испанцы были заперты в городах Сеута, Тетуан, Лараче и Ксауэн. Слухи о том, что Примо де Ривера рассматривал возможность полного ухода испанцев из Марокко, вызвали массовое дезертирство из марокканских частей, которые не желали в одиночку противостоять мстительным врагам. Однако многие легионеры твердо заявляли, что они останутся на боевых постах, что бы ни произошло. Франко занимал более гибкую позицию. Не желая «светиться» в подстрекательских и мятежных дискуссиях со своими сотоварищами, он тем не менее выступил с гневной публичной речью против намерений оставить Марокко, когда сам диктатор решил посетить испанскую военную базу в 1924 году. Рассуждения Примо по поводу стоимости сохранения и укрепления колонии явно пришлись не по душе многим офицерам. Недовольство бурлило на грани открытого бунта, и Франко, испугавшийся собственной смелости, сразу после собрания устремился вслед за Примо, чтобы извиниться и предложить свою отставку, которая, к его вящему облегчению, была с улыбкой отвергнута.
Тем временем недовольство военных достигло точки кипения, когда в октябре 1924 года Примо передумал оставлять колонию, назначил сам себя верховным комиссаром Марокко и мужественно взял на себя всю ответственность за вывод войск из Ксауэна. Франко же — и это будет линией поведения на всю последующую жизнь — занял две несовместимые позиции, продолжая шарахаться от одной к другой. Громогласно заявив, что скорее уйдет в отставку, чем согласится на отвод испанских войск, он смиренно подчинился приказу Примо прикрыть во главе своих легионеров эвакуацию измученного и деморализованного гражданского населения городка Ксауэн после нового наступления Абд-эль-Керима. Несмотря на огромное нежелание уступить ни пяди земли врагу — эта его черта с особой силой проявится во время гражданской войны, — Франко на протяжении четырех недель с завидным мужеством и умением прикрывал вывод населения из города. За этот подвиг он был награжден еще одной медалью «За боевые заслуги», а в феврале произведен в полковники. В марте 1925 года Примо передал польщенному Франко пламенное свидетельство благодарного короля, заверявшего, что «прекрасная история, которую вы пишете вашими жизнями и кровью, является непреходящим примером того, что могут сотворить настоящие мужчины, жертвующие всем во имя исполнения долга».
В июне 1925 года в результате договоренности между Примо де Риверой и командующим французскими войсками в Африке Филиппом Петеном была проведена совместная войсковая операция, в которой были задействованы семьдесят пять тысяч испанских солдат в Аль-Усемасе под общим командованием генерала Санхурхо. Полковнику Франко поручили командование передовой группой, которая должна была захватить плацдарм. Плохая организация и убогое стратегическое планирование Санхурхо привели к полной неразберихе и хаосу, кульминацией которых стал приказ к отходу испанских войск. Однако Франко, опасаясь, что это приведет к полной деморализации и панике в его частях, немедленно отменил данный приказ и, вопреки всему, сумел захватить и долго удерживать плацдарм. Если бы не его инициативные действия, вряд ли испанским войскам удалось бы встретиться с французами, наступавшими с юга. Потом Франко нервно пытался оправдать свое поведение перед самим собой и перед начальством, цитируя военный устав, позволявший офицерам в определенных условиях игнорировать приказ, но именно тогда он проявил недюжинные воображение и изобретательность боевого командира, которые начисто покинули его, когда он стал верховным главнокомандующим во время гражданской войны. Во многом благодаря усилиям Франко 26 мая 1926 года Абд-аль-Керим сдался французским войскам.
Несколько ранее, 3 февраля 1926 года, в возрасте тридцати четырех лет Франко был произведен в бригадные генералы. Согласно одному из самых устойчивых мифов о Франко, он стал самым молодым генералом в Европе после Наполеона. В действительности же в 1880-х годах по меньшей мере трех испанских офицеров произвели в генералы в более раннем возрасте, в британской армии в Первую мировую войну также имелось немало молодых бригадных генералов. Тем не менее Франко являлся первым выпускником академии в Толедо, достигшим столь головокружительных высот. Его отозвали из Африки и зачислили в самое престижное армейское соединение: Первую бригаду Первой Мадридской дивизии. Отец даже не поздравил сына с повышением. Отношение дона Николаса к достижениям Франсиско может характеризоваться историей, которую рассказал его внук,
Николас Франко де Побиль. Однажды, когда Франсиско был уже генералом, во время семейного обеда «после какого-то спора отец задал ему такую трепку, что разбил свою трость о его спину». Отсюда понятно, почему Франко так отчаянно жаждал славы, известности и общественного признания.
Но он был в этом не одинок. 3 февраля 1926 года, в день производства Франко в бригадные генералы, его экстравагантный младший брат Рамон пересек Атлантический океан на гидросамолете, построенном в Испании по лицензии. Отношения между ними всегда были достаточно напряженными. Бесшабашный Рамон, столь непохожий на выдержанного и сознательного старшего брата, оставался его тенью на протяжении всей военной карьеры Франсиско. В бытность свою летчиком в Африке, Рамон проявлял себя таким же смельчаком, как и брат, однако несколько неосмотрительным. Больше того, говорили, что «он был просто чокнутым и вел разгульный образ жизни». Живший с ним в одной квартире в Тетуане товарищ горько жаловался на неисправимого Рамона и рассказывал: «Он хватал мои вещи без разбору, вплоть до носков и трусов. Носки, говорил ему я, бери, черт с тобой, но трусами я потом брезговал». Наплевательское отношение Рамона к личной гигиене и его пристрастие к хождению по шлюхам резко контрастировало со строгими, почти пуританскими взглядами на жизнь Франсиско. Тот пришел в ужас, когда в 1924 году Рамон нарушил протокол, женившись на Кармен Диас, не попросив предварительно разрешения у короля. Тем не менее триумфальней перелет Рамона, можно сказать, Христофора Колумба нового времени, давший новый импульс находившейся в зачаточном состоянии испанской авиации, служил престижу короля и страны и заставил Франсиско сдерживать недовольство братом и ревность к нему. Он стал демонстрировать эдакое патерналистское отношение к Рамону — отношение отца, гордящегося сыном. И это выводило младшего брата из себя.
Их соперничество не угасло и после того, как на доме семьи Франко в Эль-Ферроле была открыта памятная доска в честь обоих братьев, «вписавших героические страницы в национальную историю». Можно только строить предположения о том, что думал отец о таком успехе своих сыновей. Например, Салом указывает, что он очень гордился Рамоном. А донья Пилар Баамонде, по-видимому, была просто счастлива. В Эль-Ферроле для толп зевак пылали фейерверки, завывали сирены на лодках в бухте, на земле гремели военные оркестры в честь великих свершений братьев Франко, а 12 февраля 1926 года был объявлен нерабочим днем.
В том же месяце кадеты, учившиеся вместе с Франсиско в Толедо, собрались, чтобы воздать почести первому из их выпуска, кто получил звание генерала. Их пылкие и почтительные излияния могли вскружить голову любому, а уж тем более человеку, столь склонному к самолюбованию, как Франко. Ему были вручены почетная шпага и грамота, в которой заявлялось, что «имена самых выдающихся вождей покроются славой, а над ними будет сиять имя триумфатора — генерала Франсиско Франко Баамонде». Словно льстивые придворные, сражающиеся за королевские милости, прежде надменные и презрительные, бывшие кадеты теперь лезли из кожи вон, чтобы продемонстрировать «восторг и восхищение доблестным патриотом».
Рождение дочери Франсиско — и, что весьма необычно для плодовитого семейства Франко, единственной дочери — 14 сентября 1926 года в Овьедо внесло необычную ноту в жизнь генерала. Позже он будет вспоминать: «Когда родилась Карменсита, я думал, что сойду с ума от радости». Поскольку не было заметно никаких признаков беременности у доньи Кармен, ходили упорные слухи, что дитя приемное и является плодом очередного сексуального похождения Рамона. Так или иначе, но рождение Кармен открыло еще один выход эмоциям для зажатого генерала, который проводил больше времени с темноволосой дочуркой, чем с женой, склонившись над колыбелькой и постоянно напевая ей песенки. Быть может, он наконец нашел того, кого смог любить сам и кто любил его без всяких условий.
По возвращении в Мадрид с новым полком и с верным Паконом в качестве адъютанта Франко усвоил своеобразный, почти шизофренический стиль руководства, который будет характерен и для его режима в целом, когда он придет к власти. Хотя суровые дисциплинарные меры по отношению к солдатам оставались нормой, своим полковникам он позволял вести дела, как им вздумается. Вдали от полей сражений его энтузиазм по отношению к тяжелому военному труду быстро испарился. Подобно Гитлеру и Сталину, он скоро пристрастился к кинематографу, забросив повседневные служебные дела. Франко обожал проводить время за беседой с коллегами и каждый день встречался с гарнизонными генералами в престижном клубе. И все же лучше всего он себя чувствовал с близкими по духу «африканцами», такими как генералы Мильян Астрай, Варела, Оргас и Мола, а также с важными лицами из Толедо — Ягуэ, Монастерио и Винсенте Рохо. Последний, к пущей ярости Франко, позднее будет командовать республиканской армией в Мадриде. Пакон рассказывает, что на этих встречах Франко всегда говорил на военные темы и никогда не обсуждал ведущих политиков того времени. «Он вообще не критиковал старших по званию, даже когда заходил разговор о разгроме при Аннуале». Франко любил рассказывать случаи из своей богатой на события жизни в Марокко, причем «повторял их каждый раз абсолютно одинаково, как будто читал по писаному».
В 1926 году у Франко состоялась знаменательная встреча с художником Луисом Кинтанильей, другом полковника Альфредо Кинделана, основателя испанских военно-воздушных сил, которыми он же и командовал. Много позже, уже после того, как Франко стал каудильо, художник вспоминал о споре между Франсиско и Кинделаном по поводу какого-то французского выражения. Когда спор решился в пользу Кинделана, будущий диктатор продолжал упрямо и нудно защищать свою позицию, пока выведенный из себя художник не заявил, что раз уж Франко больше всех об этом говорит, то, наверное, он и прав. Не поняв иронии, Франко, похоже, был удовлетворен.
То, что генерал способен при необходимости избавляться от занудных и жестких черт своего характера, выяснилось, когда он снялся в эпизоде вместе с Мильяном Астраем в фильме «Невезучая новобрачная», который поставил его друг Наталио Ривас. Франко сыграл роль армейского офицера, вернувшегося с войны в Африке. Молодой остроумный и общительный генерал из фильма, смачно пьющий вино и оглушительно хохочущий над шутками товарищей, имел мало общего с тем чванливым, напыщенным Франко, которого описывали Пакон и Луис Кинтанилья. Поэтому нет ничего удивительного, что Франко, когда ему потребовалось показать себя в идеализированном виде, обращался к кино.
Реальная военная ситуация в Африке несколько отличалась от показанной в фильме Риваса, однако успехи при Аль-Усемасе значительно улучшили взаимоотношения между правительством Примо де Риверы и «африканцами». Но не все военные были этим улучшением довольны. Увеличение количественного состава армии в Марокко и расходов на ее содержание, а также решение Примо вернуться к системе продвижения по службе за военные заслуги пришлись не по вкусу офицерам, служившим в Испании, где такие карьерные возможности были ничтожны и представлялись чрезвычайно редко. Ставка Примо де Риверы на свою партию спровоцировала попытку переворота 24 июня 1924 года и привела на грань мятежа артиллерийские казармы по всей стране.
Парадоксально, что у генерала Франко, сыгравшего ключевую роль в восстании 1936 года, вызвали такой гнев взбунтовавшиеся артиллеристы. По словам Рамона Серрано, блестящего молодого адвоката, который позднее женится на красавице Зите, младшей сестре Кармен, и сыграет решающую роль в консолидации политической власти Франсиско Франко, «реакция Франко была не просто горячей, а яростной. Любые предлагаемые меры казались ему слабыми, а наказания недостаточными». Он вспоминал, что наиболее часто употребляемая генералом фраза была: «Их всех следует расстрелять!»
Хотя казалось, что Примо держит ситуацию под контролем, трещина между военными постепенно нарастала, пока не превратилась в пропасть. Часть офицерского корпуса примкнула к республиканскому движению, в то время как остальные — главным образом «африканцы» — сохраняли верность режиму. То, что республиканские офицеры не выступили в защиту ни Примо де Риверы, ни самого короля, способствовало установлению Республики в апреле 1931 года. Отказ «африканцев» принять Республику подготовил почву для гражданской войны 1936 года.
По крайней мере на людях Франко старался политически ничем не выделяться, что принесло свои плоды — Примо назначил его на престижную должность директора Военной академии генштаба в Сарагосе.
Примо де Ривера основал ее в 1928 году, объединив пехотную академию в Толедо, артиллерийскую — в Сеговии, кавалерийскую — в Вальядолиде и инженерную — в Гвадалахаре. Добившись значительного поста, Франко, казалось, не хотел нести за него никакой серьезной ответственности. Готовность смотреть сквозь пальцы на слабости своих подчиненных станет основным методом его руководства. И в качестве главы государства он создаст режим, который станет точной копией Третьего рейха: абсолютная власть без личной ответственности. Снисходительность Франко оказалась очень кстати для ряда кадетов, первый прием которых состоялся в октябре 1928 года. Так, он потребовал послаблений на вступительных экзаменах для детей офицеров, погибших на войне. Правда, он слегка испортил свой образ попечителя сирот, прямо объявив им, что поступлением в академию они больше обязаны смерти отцов, чем собственным заслугам.
Романтическая вера Франко в превосходство личного мужества перед численным преобладанием и более передовой техникой и тактикой привела к тому, что современным методам ведения войны уделялось в Сарагосе так же мало внимания, как и в Толедо. Он вдалбливал в головы юных и впечатлительных кадетов свои «десять заповедей», позаимствованные из речей Мильяна Астрая о патриотизме, верности королю, самопожертвовании и храбрости. Всяческое поношение политики демократов являлось составной частью подготовки. Кадетам также внушали постулаты, которым юный Франсиско научился еще на коленях у своей матери, такие, например, как «кто страдает, тот побеждает». Воспитанников академии призывали быть готовыми «добровольно пойти на любое самопожертвование в экстремальных ситуациях». От них требовалось проявлять «ревностную заботу о своей репутаций». Поскольку директору нравилось захватывать врасплох юных кадетов, он устраивал засады в дверях магазинов и лавок в надежде, что его питомцы пройдут мимо, не заметив генерала и не отдав чести. Тогда он выскакивал на улицу, высокомерным голосом приказывал им вернуться и выговаривал за несоблюдение субординации. Генерал-моралист, похоже, получал своеобразное удовольствие, следя за сексуальной жизнью своих юных подопечных. Под предлогом искоренения сифилиса среди кадетов он останавливал их на городских улицах и проверял, имеют ли они при себе презерватив. Отсутствие этого предохранительного снаряжения как следствие вызывало суровое наказание.
Каждодневное пичканье романтической мифологией, дисциплинарная муштра и идеологическая обработка дали соответствующий эффект — большинство кадетов, став офицерами, в 1936 году примкнули к националистам. Преподаватели подбирались прежде всего из тех военных, кто должным образом зарекомендовал себя в африканской кампании и разделял жесткие идеологические взгляды Франко, знание передовых технологий, стратегии и тактики отходило на второй план. Почти все эти офицеры сыграют решающую роль в мятеже 1936 года. Многие из них вступят в фашистскую партию, Испанскую фалангу, которую 29 октября 1933 года создаст сын главы режима Хосе Антонио Примо де Ривера. И нет ничего странного, что те годы, когда Франко был директором Военной академии, называют периодом торжества «африканцев» и настоящим бедствием для левых и либеральных офицеров. А Рамон презрительно называл старшего брата «троглодитом», утверждая, что его выпускники будут плохими гражданами своей страны.
Хотя Франко и добился в Сарагосе повышения социального статуса, чего не сумел сделать в Эль-Ферроле, он не чувствовал себя своим среди местных сановников и знатных семейств, которые его обхаживали. И все же именно тогда у него завязались знакомства, которые впоследствии приобретут историческое значение. На свадьбе Серрано Суньера со свояченицей Франко, Зитой, свидетелем жениха выступал Хосе Антонио Примо де Ривера.
Годы спустя, когда Франко попытается внести некоторую рациональную связность в историю своей карьеры, он скажет, что именно тогда осознал, что «в силу моего опыта и престижа я призван совершить великие дела на службе Родине». Однако, прежде чем превратиться из представителя правящего класса в мятежника, ему предстоял долгий и извилистый путь. Истинная его суть в какой-то степени проявилась в интервью, которое он и Кармен дали газете «Эстампа», предшественнице известного журнала «Ола». И хотя Франко здесь настойчиво утверждает, что он «простой военный... который всегда хочет оставаться незаметным...», в интервью явно проскальзывает скрытая дилемма, которая будет преследовать его на протяжении всей политической и военной карьеры. Поскольку он разрывался между желанием иметь «отца-покровителя» — будь то главнокомандующий, диктатор или король, — который похвалит и порадуется его успехам, и непреклонной решимостью достичь власти, устремления Франко отнюдь не всегда были связными и последовательными. В интервью генерал отдает дань ханжеской риторике: «Испания обретет былое величие», а сам он довольствуется «бескорыстной службой Родине», но вместе с тем утверждает, что поступил в Военную академию в Толедо «против воли своего отца», из чего можно понять — у него уже тогда были свои тайные планы. (На самом деле именно дон Николас посоветовал ему поступить в эту академию.) Возможно, бросив вызов отцу в 1929 году, он подсознательно расчистил себе путь к мятежу против законного правительства в 1936-м. А из его странного заявления: «Что касается моей карьеры — моим настоящим призванием была живопись» — можно сделать вывод, что собственные политические амбиции он скрывал даже от самого себя. И в этом Франко в своей семье был не один. Донья Кармен, по описанию «Эстампы», «прекрасная спутница жизни генерала, демонстрирует стройную фигуру, едва угадывающуюся за дымчатым одеянием из черного газа, которое нежно ласкает дорогое манто», со смущением рассказывает об их романе (оба они солгали о своем возрасте, когда познакомились: Кармен прибавила год, а Франко отнял). И тут же молодая женщина застенчиво признается, что единственными недостатками ее супруга — которые в то же время считались наибольшими достоинствами в глазах его восторженных поклонников — являются «чрезмерная любовь к Африке и чтение книг, в которых она ничего не понимает». Как и у матери Франко, за жертвенным обликом Кармен скрывались стальная решимость и серьезные амбиции.
Карьерные устремления Франко стали расти одновременно с его животом. Меняя внешность, энергичный, привлекательный и мечтательный — хотя и безжалостный — солдат постепенно превращался в осторожного и во всем сомневающегося командира времен гражданской войны. Он никогда больше не будет лично вести людей в атаку. Если бы Франко уже обеспечил себе надежное положение в военной иерархии, то, вероятно, чувствовал бы себя более уверенно. Но все было не так. Африканская война предлагала приемлемое объяснение тому, что он постоянно ощущал нависшую над ним опасность, и давала выход агрессивности, а тогдашняя гражданская жизнь такой возможности не предоставляла. Ему требовался новый внешний враг, которого нужно было бы ненавидеть и подчинять своей воле. И в качестве замены рифским маврам Франко ухватился за угрозу коммунизма, чтобы оправдать собственные параноидальные страхи и приверженность ко все более авторитарной политике.
В этом смысле он не был исключением для той эпохи. В своем анализе испанского фашизма историк мировой культуры Джо Лабаньи доказывает, что начиная с конца XIX века «страх мужчины перед женщиной и страх буржуа перед народными массами стали практически неразличимы». И действительно, Гитлер регулярно будет выступать перед толпой, словно перед женщинами, непостоянными и не заслуживающими доверия. Но сейчас уже ясно, что, хотя параноидальное восприятие генералом Франко коммунизма отнюдь не было исключением, оно больше раскрывает нам его внутренние страхи, чем страхи перед реальным миром. Франко подписался на радикальный антикоммунистический журнал, издаваемый в Женеве, «Международная Антанта против Третьего Интернационала», и чтение этого издания еще больше подпитывало его фобию.
Будучи в Дрездене, он посетил академию германской армии и вернулся в Испанию с горящими от восхищения глазами и в полном восторге от вермахта, а также со жгучим ощущением несправедливости Версальского договора. Это положило начало его роману с Германией, который продлится вплоть до 1945 года.
Режим Примо де Риверы пал 30 декабря 1930 года. За время нахождения у власти Примо сумел настроить против себя буквально все общественные слои государства. Значительный бюджетный дефицит, плохой урожай и депрессия нанесли серьезный урон испанской экономике. Армия переживала жестокий раскол. Альфонс XIII, который отвратил от себя старую монархическую элиту, фактически отдав власть Примо де Ривере в 1923 году, сейчас вызвал ярость генерала Санхурхо, командовавшего Гражданской гвардией. Тот лишил своей поддержки Примо, который в результате удалился в Париж, где и умер 16 марта 1930 года. Ввиду невозможности возврата к конституционной монархии 1923 года, которую он так опрометчиво бросил к ногам Примо де Риверы, король избрал генерала Беренгера в качестве нового диктатора. Этой диктатуре противостояли враждебно настроенные каталонские промышленники, окончательно расколотая армия и все более радикальный рабочий класс.
И хотя в мае 1946 года Франко с романтической ностальгией вспоминал рухнувший режим как «уникальный период мира, порядка и прогресса», в тот момент он без видимой печали воспринял отстранение Примо де Риверы от власти. Возможно, генерал действительно чувствовал удовлетворение от свержения этой авторитетной фигуры или же хотел дистанцироваться от неудач и провалов диктатуры. Так или иначе, то, что король сделал Франко своим фаворитом, помогло ему смириться с уходом Примо. 4 июня 1929 года Альфонс XIII лично прикрепил на грудь Франко медаль «За боевые заслуги», которой он был удостоен еще в 1925 году. Спустя год, 8 июня 1930-го, генерал шел во главе колоссального шествия, в котором участвовал весь кадетский корпус, привезенный Франко из Сарагосы для участия в принятии присяги на знамени мадридского гарнизона. 6 июня он появился на балконе королевского дворца рядом с Альфонсом XIII.
Рамон, выведенный из себя победным шествием брата и предпочтением, которое ему оказывал король, решил вступить с ним в соперничество, чтобы тоже привлечь внимание к своей особе. Летом 1929 года он предпринял еще одну попытку полета над северной Атлантикой, завершившуюся полным провалом. Мало того, что поиски пилота и его экипажа оказались весьма дорогостоящими. Выяснилось также, что Рамон заменил гидросамолет, построенный в Испании, на аэроплан германского производства, к тому же, по-видимому, получив за это солидную взятку. Возмущенный командующий военно-воздушными силами полковник Альфредо Кинделан немедленно выгнал его из военной авиации. «Подвиг» Рамона не только подрывал доверие к испанскому воздушному флоту и явился оскорблением короля и Родины, но также опорочил честное имя семьи. Отношение Франсиско к Рамону как к капризному ребенку перекликалось со страдальческим смирением матери перед бестактным и хамским поведением отца и доводило до бешенства младшего брата. Лицемерно-жалостливая просьба Франко к нему с уважением воспринять «негодование матушки, которое мы все разделяем», вызвало молниеносную отповедь. Авиатор попросил директора академии «не лезть с никчемными буржуазными советами», а также предложил ему «спуститься со своего генеральского трончика» и перестать вбивать в головы кадетам Сарагосы дешевые банальности. Рамон немедленно сделал крутой поворот влево, по уши погряз в анархосиндикалистских заговорах, направленных на свержение монархии, и сделал весьма провокационный шаг — стал масоном. И хотя мотивы поступков Рамона скорее всего имели своей основой его раздоры со старшим братом и мстительное отношение к властям, а не проницательный политический анализ, в отличие от Франсиско он остро сознавал всю слабость положения как диктатуры генерала Беренгера, так и самого короля.
В середине августа 1930 года был образован широкий фронт социалистов, республиканцев среднего класса, баскских и каталонских националистов и большого числа влиятельных монархистов, отошедших от короля в результате его ошибок и ставших консервативными республиканцами, которые подписали совместный пакт в Сан-Себастьяне. Они учредили временное правительство, имевшее своей целью устранить короля. Мола, как генеральный директор службы безопасности, сообщил Франко, что Рамон серьезно замешан во всех этих делах. Он посоветовал Франко отговорить брата от оппозиционной деятельности. Франко предпринял такую попытку, но она оказалась безрезультатной, и власти были вынуждены отправить Рамона в военную тюрьму. Франсиско однажды посетил брата в тюрьме и предупредил, что против него готовится целая коллекция обвинений, в том числе в контрабанде оружия и попытках организовать производство бомб и покушения на монарха. Новые уговоры образумиться опять ничего не дали. Рамон бежал из тюрьмы, затем вместе с генералом Кейпо де Льяно участвовал в подготовке плана всеобщей стачки и военного переворота с целью свержения монархии и установления Республики под руководством временного правительства в Сан-Себастьяне. А потом он улетел в Париж.
В ноябре 1930 года Франко отправился во Францию, в Версаль, для прохождения курсов подготовки высшего генералитета. Там он встретился с Рамоном. Наплевав на мрачные политические предсказания брата насчет неминуемого краха диктатуры и монархии, Франсиско вернулся в Сарагосу в полнейшей убежденности, что «испанский народ не бросится очертя голову в пустоту, которая может обернуться реками крови» (Пакон).
Но тут самому Франко, который, как утверждал Кейпо де Льяно, предлагал ему возглавить переворот в сентябре 1924 года, поступило предложение от Алехандро Лерруса, циничного шефа радикальной партии и наиболее значительной фигуры сан-себастьянского пакта, присоединиться к республиканскому заговору. Как вспоминает Серрано Суньер, Франко отреагировал с уже ставшей для него характерной нерешительностью. До того он настаивал на расстреле всех бунтовщиков, но теперь вежливо выслушал, когда ему предложили присоединиться к ним, и намекнул, что, быть может, сделает это, если Родина окажется в опасности. Однако, как только «бунтовщики» ушли, он, разозлившись, «что не выбросил их с балкона», тут же снова захотел, чтобы заговорщиков расстреляли. Окончательно его позиция проявилась после 12 декабря, когда республиканец Сантьяго Касарес Ки-рога поднял мятеж гарнизона города Хака на севере Арагона, после чего он попытался направиться на юг, чтобы зажечь искру прореспубликанского движения в гарнизонах Уэски, Сарагосы и Лериды. Но эта преждевременная акция лишь насторожила власти и послужила поводом для введения чрезвычайного положения в арагонском военном округе. И когда вспыхнула очередная всеобщая стачка в Сарагосе, Франко твердо встал на сторону короля, приведя академию в состояние боевой тревоги и вооружив кадетов.
Мятеж в Хаке был легко подавлен, его главарей, капитанов Фермина Галана (который в бытность свою адъютантом Франко в легионе рассуждал о его гомосексуализме) и Ан-хеля Гарсиа Эрнандеса, расстреляли 14 декабря. Несмотря на заявление Франко, что «моего братца Рамона тоже следовало бы расстрелять», он вместе с остальными высшими офицерами удовлетворился скорым и жестоким разгромом мятежа. Однако оба казненных офицера прослыли в народе мучениками за Родину, что нанесло монархии больший вред, чем сама попытка мятежа.
15 декабря беглый Рамон (посвятивший свою автобиографию «мученикам Галану и Гарсиа Эрнандесу»), по-видимому, полностью потеряв представление о реальности, решил пролететь над Восточным дворцом в Мадриде и сбросить на него бомбы, чтобы убить короля. Однако, тронутый зрелищем гулявших по саду женщин и детей, Рамон вместо бомб разбросал листовки с призывом к всеобщей забастовке, а затем снова улетел во Францию. В ответ на эти листовки немедленно появились другие неизвестного происхождения, в которых Рамона разоблачали как «незаконнорожденного, опьяненного жаждой крови». Франко, по-видимому, больше раздраженный тем, что задета честь его матери, чем самой попыткой Рамона убить короля, тут же помчался в Мадрид, чтобы потребовать официального объяснения от главных подозреваемых в этом оскорблении — генералов Беренгера, главы правительства, Молы и Федерико Берен-гера, командующего мадридским военным округом, — которые нервно отрицали любую причастность к публичной клевете на семью директора Военной академии. Из чувства семейной солидарности Франко послал Рамону в Париж большую сумму денег и выразил надежду, что, «отгородившись от ненависти и страстей окружающих», он снова увидит свет истины и «начнет новую жизнь, отдалившись от этой бесплодной борьбы, которая приносит Испании одни лишь беды».
Франко пришел в ужас, когда в результате общественного возмущения, вызванного казнью Галана и Гарсиа Эрнандеса, наиболее либеральные члены правительства отказали в поддержке генералу Беренгеру, вынудив его 14 февраля подать в отставку. Генерала заменил адмирал Хуан Баутиста Аснар. Муниципальные выборы были назначены на апрель 1931 года. Суд военного трибунала над офицерами, участвовавшими в мятеже, состоялся в период предвыборной кампании, ознаменовавшейся вспышкой всеобщего гнева, последовавшей за казнью обоих офицеров. Будучи одним из главных членов трибунала, Франко неумолимо настаивал на том, что «военные преступления, совершенные военными, должны быть судимы тоже военными, имеющими опыт командования». Отказавшись прислушаться к общественному мнению, трибунал вынес, кроме смертных приговоров, пять пожизненных заключений и множество других, менее значительных наказаний мятежникам. Позднее большинство этих приговоров было смягчено.
Ограниченный армейскими представлениями о жизни, Франко грубо ошибается в оценке политической ситуации, и последующие события в стране стали для него полной неожиданностью. На муниципальных выборах 12 апреля 1931 года народ высказался против короля и диктатуры. Во избежание массового кровопролития генерал Санхурхо, командовавший Гражданской гвардией, отказал в поддержке шатающейся монархии. Когда генерал Беренгер также приказал начальникам военных округов избегать актов насилия, которые могли бы помешать тому, чтобы «судьбы Родины следовали курсом, определенным волеизъявлением народа», судьба Альфонса XIII была решена. Король без лишнего шума покинул Испанию, открыв дорогу для установления Республики. В пространном заявлении главе своего правительства, адмиралу Аснару, опубликованном в газете «АВС», он признал: «Состоявшиеся в воскресенье выборы показали мне, что я больше не пользуюсь любовью своего народа... Король может ошибаться, и я, несомненно, иногда совершал ошибки... Я — король всех испанцев и сам испанец. Я мог бы найти массу действенных средств для сохранения своих королевских прерогатив, чтобы отразить нападки тех, кто на них покушается. Но я со всей решительностью хочу избежать любых действий, которые могли бы восстановить соотечественников друг против друга, спровоцировав братоубийственную гражданскую войну. Я не отрекаюсь ни от единого из моих прав... но, повинуясь воле нации, сознательно приостанавливаю исполнение моих королевских обязанностей и удаляюсь из Испании».
Бегство короля оказалось ужасным потрясением для генерала Франко, которое в определенном смысле могло сравниться с уходом отца из семьи. Это событие серьезно омрачило его отношение к монархии. И когда он придет к власти, то сделает все от него зависящее, чтобы воспрепятствовать возвращению короля на испанский трон. Коронация внука Альфонса XIII, Хуана Карлоса, состоялась лишь в 1975 году.
Глава 3
УГОВОРЫ И КОЛЕБАНИЯ
На пути к восстанию: 1931—1936
Наш маленький Франко - большой хитрец, он во всем ищет свою выгоду.
Генерал Санхурхо, 1933
Хотя муниципальные выборы 12 апреля 1931 года и завершились полным провалом для монархистов, в провинции латифундисты-касики оставались неоспоримыми хозяевами. Временное правительство страны, состав которого был определен в августе сан-себастьянским пактом, возглавил Ни-сето Алькала Самора, латифундист и консервативный католик, который в прошлом являлся министром при короле; однако преобладали в правительстве социалисты, а также умеренные и левые республиканцы, приверженцы решительных реформ.
Франко в полной растерянности следил за ситуацией из Сарагосы. Он с горечью обвинял Беренгера, Санхурхо и Гражданскую гвардию в том, что они не сумели защитить монархию от «республиканцев, франкмасонов, сепаратистов и социалистов». Тем не менее он выполнил указание нового правительства поднять республиканский флаг над академией и с явной неохотой отдал приказ кадетам «беспрекословно нести службу и поддерживать дисциплину, принося в жертву свои мысли и идеалы ради блага и спокойствия Родины». Резонное мнение Франко и многих других офицеров, что защита монархии армией в декабре 1931 года являлась вполне законной, вошло в противоречие с основным идеологическим постулатом новой республики, по которому режим 1923—1930 годов считался нелегитимным, а его поддержка была объявлена неконституционной. Понятно, что Франко затаил обиду на власть, поскольку вероломные офицеры, организовавшие заговор против диктатора, в том числе генералы Гонсало Кейпо де Льяно, Эдуардо Лопес Очоа и Мигель Кабанельяс, получили в награду престижные должности, в то время как законопослушные и компетентные военные, которые просто исполняли приказы, подвергались несправедливым гонениям. Однако в отличие от многих Франко не был готов поставить под удар карьеру и социальный статус — все то, за что он столько боролся со времен Военной академии в Толедо, — выступая с необдуманными заявлениями.
Но ни врожденный прагматизм, ни ставшая привычной осторожность в публичном поведении будущего каудильо не могли скрыть личную враждебность, возникшую между ним и Мануэлем Асаньей, новым блестящим военным министром. Хотя эти одинокие фигуры находились на противоположных концах социального и политического спектра, их обоих отличали надменность и колоссальное самомнение. Но Асанья смотрел с надеждой на будущее испанского народа, а Франко все больше погружался в придуманное им самим прошлое. Асанью вдохновляли возвышенные, хотя и не слишком реалистичные, мечты о прекрасной республиканской утопии, в то время как директор Военной академии, который к подобным идеям относился с лютой ненавистью, полагал, что Асанья руководствовался в своих действиях личной неприязнью к нему. Решимость Асаньи искоренить милитаризм в Испании, который он называл «дребезжащим и расхлябанным препятствием на пути рациональной государственной политики», ставила крест на всем, что было близко и дорого самому Франко и большинству «африканцев».
Но в конечном счете главным для Франко в политике Асаньи оказалось другое. 14 октября 1931 года Асанья стал главой правительства, а в 1936 году и президентом страны, и Франко, видя в нем «отца Республики», будет ждать от руководителя государства признания и уважения, которого, по мнению Франсиско, он заслуживал. Однако Асанья, столь же тесно идентифицировавший себя с Республикой, сколь Франко — с Родиной, этого не сделал. Асанья оказался недостаточно гибким и расчетливым, чтобы привлечь на свою сторону жадного до похвал генерала, опираясь на его сильно развитое чувство долга и врожденное нежелание идти против власти. В результате он создал себе непримиримого личного врага вместо верного правительству офицера. С Франко обращались как с упрямым ребенком. Он был лишен всего, чего добился на военном поприще, лояльность генерала не была учтена, а безответственного Рамона встретили как героя, когда он вернулся из изгнания в 1931 году, и новая власть назначила его генеральным директором воздушного флота. Асанья* устремив свой взор в светлое будущее и оставляя без внимания обидчивость военных, вскоре создаст себе массу врагов. В конечном счете результатом его военных реформ окажется отставка от половины до двух третей офицерского корпуса.
Поначалу негативное отношение Франко к Республике уравновешивалось стремлением добиться в ней достойного положения. Он всегда был готов поступиться убеждениями ради карьеры. Однако когда его не назначили, как предполагалось, верховным комиссаром Марокко, Франко начал испытывать личную враждебность к режиму. К его вящему недовольству, этот пост отдали генералу Санхурхо, которого, как считал Франко, таким образом вознаградили за отказ использовать Гражданскую гвардию для спасения монархии. И хотя Франко лицемерно заявил в письме правой газете «АВС», что он все равно отказался бы от данной должности, поскольку ее принятие являлось бы предательством по отношению к монархии, совершенно очевидно, что он был очень обижен и раздражен. Высокий пост осчастливил бы Франко при любом режиме.
К личной обиде добавилось политическое негодование, когда 17 апреля Асанья арестовал генералов Дамасо Берен-гера и Эмилио Молу и отдал их под суд за якобы совершенные ими преступления в Африке и за их роль в судебном процессе и казни Галана и Гарсиа Эрнандеса. Этот его шаг, ставший постоянной темой жарких общественных споров, в которых вина за разгром при Аннуале приписывалась то вмешательству королевской власти, то некомпетентности армейского руководства, то слабости правительства, испугал многих военных. Однако если выдвинутое 2 апреля Асаньей требование, согласно которому армейские офицеры должны были дать обещание «служить Республике верой и правдой, подчиняться ее законам и защищать ее с оружием в руках», стало для некоторых убежденных монархистов настоящей жизненной дилеммой, то Франко это не слишком затронуло. В нем победил прагматизм. В то время как генерал Кин-делан, ярый приверженец монархии, предпочел отправиться в изгнание, чем жить при Республике, Франко и ряд его сотоварищей из правых, в их числе Луис Оргас, Мануэль Годед, Хоакин Фанхуль и Эмилио Мола, подчинились директиве Асаньи. Но для многих из них такой шаг оказался мучительным. Позже Фанхуль говорил, насколько болезненным было «это унижение ради Отечества». Франко, пытаясь сохранить лицо и оправдать свое решение присягнуть на верность Республике, ханжески разглагольствовал: «Тем из нас, кто решил остаться, придется тяжело... Но я думаю, что, оставшись, мы сможем гораздо больше сделать для предотвращения того, чего ни вы, ни я не хотите, чтобы произошло, нежели, собрав чемоданы, просто разъехаться по домам».
Не прошло и трех дней, как особо впечатлительным правым был нанесен еще один удар, когда Асанья издал новый закон о сокращении раздутого офицерского корпуса. Согласно данному юридическому акту, известному как «Закон Асаньи», офицерам, которых сочтут излишними, предлагалось уйти в отставку с полной выплатой пенсионного пособия. В нем также говорилось, что не подчинившиеся этому закону в течение тридцати дней лишатся своих пособий без всякой компенсации. Новая попытка реорганизации армии вызвала яростные нападки со стороны правых в адрес правительства, которое превращало доблестных офицеров в бедных безработных или изгнанников только потому, что они не поддерживали Республику.
Взбешенный всем происходящим, 1 мая Франко навестил Беренгера в его камере в мадридской тюрьме. Он осуждал Беренгера за нежелание поддержать монархию, а главное, за то, что бывший глава правительства не сдержал данное в 1930 году обещание произвести Франко в генерал-майоры, однако будущий диктатор согласился выступать в роли его защитника на суде. Но Асанья под предлогом, что Франко служил не в том округе, где шел суд, не допустил этого, чем нанес ему новое оскорбление. Вызывали раздражение Франко и дальнейшие действия республиканской власти. Так, Асанья заменил восемь исторически сложившихся военных округов на «естественные территории» под командованием генерал-майоров, не имевших юридической власти над гражданским населением, и вновь ввел систему продвижения по службе, основанную только на выслуге лет.
Даже политическая гибкость Франко дошла до предела, когда в июле 1931 года Асанья решил закрыть Военную академию в Сарагосе. Хотя этот шаг и являлся частью общего плана модернизации армии, Франко был уверен, что данное решение продиктовано завистью к его впечатляющему послужному списку и просто личной неприязнью. Санхурхо высокомерно отклонил эмоциональную просьбу уволенного генерала походатайствовать за него перед Асаньей, заявив, что Франко ведет себя «как ребенок, у которого отобрали игрушку». Будущий каудильо никогда не простит этого им обоим.
И тем не менее Франко переполняли противоречивые чувства: испытывая к Республике злобу и ярость, он в то же время отчаянно пытался найти в ней свое место. 14 июля, перед тем как собрать чемоданы и отправиться на жительство в загородный дом жены в Овьедо, Франко произнес перед кадетами в Сарагосе пламенную прощальную речь. Он говорил о том, как трудно выполнять приказы, если «все внутри восстает против них, поскольку ты знаешь, что высшая власть совершает ошибку и творит произвол» — и это очень похоже на горькие воспоминания о собственном детстве. Его речь изобиловала гневными обличениями офице-ров-«разрушителей», предавших монархию и получивших в
4 Ходжес Г. Э.
награду посты в правительстве Асаньи. Возможно, эти события вновь всколыхнули глубоко скрываемую ненависть Франко к братьям, ходившим в любимчиках у его безответственного отца, тогда как он сам был предан матери.
Какими бы мотивами ни руководствовался Франко, Асанья воспринял его выступление всерьез. В своем дневнике он отметил, что «неосторожные выпады Франко против высших чинов» могли бы послужить основанием для «его немедленной отставки, если бы он все равно сегодня не должен был освободить занимаемый пост». 23 июля Франко узнал, что его безупречный послужной список оказался серьезно подпорчен официальным выговором, требующим от него «сдержанного поведения и соблюдения элементарных правил дисциплины». Хотя Франко и направил министру обороны «сожаления по поводу ошибочного истолкования мыслей, высказанных в его речи», и выразил готовность в соответствующих обстоятельствах поднимать республиканский флаг, а также исполнять республиканский гимн, продемонстрировав таким образом верность режиму, выговор так и остался в силе. Этот случай, наряду с восьмимесячным изгнанием в полуотставку (хотя и с сохранением восьмидесяти процентов жалованья), вызвал у Франко ощущение глубокой несправедливости, которое к 1936 году превратилось в жгучее желание мести.
Озлобление Франко было подогрето целой серией поджогов церквей, совершенных анархистами. Они выступали против тесного союза церкви с коррумпированной системой касикизма. Хотя впоследствии Франко и использует эти поджоги как подтверждение своих слов, мол, Родина-Мать (его мать) подвергается постоянному насилию со стороны Республики, вполне вероятно, что в первую очередь генерала разъярили слухи о младшем брате, который якобы снабжал анархистов авиационным горючим. Безусловно, ликование Рамона по поводу «выступления людей, которые захотели освободиться от клерикального обскурантизма», пришлось ему не по вкусу. В киносценарии Франко на Исабель де Андраде — такую же ярую католичку, как и донья Пилар, — в мае 1931 года напали молодые поджигатели церквей, когда
она пыталась увещевать их. Республиканские охранники все видели, но предпочли остаться в стороне. Когда в конце концов старший сын Педро соизволил навестить умирающую мать, ему сообщили, что она вряд ли переживет «шок и позор», которым республиканский режим подвергал ее Родину. И только если в стране установятся «мир и спокойствие», она сможет выжить. Однако политические взгляды сбившегося с пути Педро и сама Республика никак ле способствовали выздоровлению Исабель, в результате «в один из осенних вечеров Господь послал ей утешение, о котором она так часто молилась: не видеть, как погибнет ее Родина». Спустя тридцать лет Франко будет по-прежнему с яростью говорить о сожженных храмах, утверждая, что поджоги выражали самую суть ненавистной им Республики. По иронии судьбы, горько обвиняя Республику в уничтожении Родины, именно сам Франко, развернув в 1936 году против своей страны настоящие военные действия, на деле погубил ее.
Вынужденный отпуск в Овьедо предоставил генералу массу свободного времени, для того чтобы копить свою ненависть к Асанье и вообще ко всему миру. Даже то небольшое удовлетворение, которое он мог бы получить от изгнания младшего брата из правительства из-за его участия в тайных заговорах анархистов против Республики, сошло на нет, когда масонские друзья спасли Рамона от очередного приговора и обеспечили ему в парламенте место депутата от Барселоны. Тот факт, что именно масоны, между прочим, трижды отвергавшие прошения Франко о принятии в свои ряды, помогали опальному Рамону, еще больше укореняло генерала в мысли, что с ним поступают несправедливо. Ненависть Франко к масонам и брату становилась все сильнее, постепенно сливаясь с навязчивой идеей о других врагах — коммунистах. В то время как озлобленная неудачами мужа донья Кармен источала яд в адрес Республики, он с жадностью поглощал антикоммунистическую пропаганду, маниакально распространяемую «Международной Антантой» наряду с ежедневными репортажами в правой прессе, обвиняющей новый режим в эскалации насилия и антиклерикализме.
В то лето участившиеся вспышки насилия и забастовки, организованные анархо-синдикалистами НКТ в Барселоне и Севилье, усилили в армии ощущение анархии и кризиса. Поползли слухи о надвигающемся перевороте. Под домашний арест были посажены генералы Эмилио Баррера и Луис Оргас, как и большинство подобных лидеров. Позже Оргаса выслали на Канарские острова. Уверенный в том, что Франко был «единственным человеком, которого стоило опасаться», Асанья велел установить за ним слежку. Враждебность между ними вспыхнула с новой силой на встрече, состоявшейся 20 августа 1931 года, когда Асанья в достаточно покровительственной манере предупредил Франко, чтобы тот не очень полагался на своих друзей и почитателей. Его осторожное замечание, что он был бы рад воспользоваться услугами генерала, заставило раздраженного Франко резко отреагировать: «И для того, чтобы воспользоваться моими услугами... ко мне приставили полицейскую машину, чтобы следить за мной!» Тем не менее Франко торжественно заявил о своей верности и в то же время признал, что монархисты, враги Республики, поддерживали с ним отношения. Позже Асанья говорил о Франко, что тот пытался «казаться честным, но выглядело это лицемерием». Однако слежку он все-таки снял.
Отношение Франко к Республике не улучшилось, когда 26 августа послабления парламентской Комиссии по ответственности распространились на лиц, причастных к перевороту 1923 года и к диктаторскому режиму, а также на членов военного трибунала в Хаке. Хотя Асанья и пытался успокоить армию, освободив Молу и аннулировав ордер на арест Беренгера, его усилия оказались напрасными на фоне провокационного решения Комиссии арестовать нескольких пожилых генералов, сотрудничавших с диктатурой. Несмотря на то что в результате против них не было предпринято практически никаких действий, это решение стало гибельным для правящего режима. Яростный спор по поводу новой конституции, произошедший между серединой августа и концом года, окончательно восстановил Франко и остальных офицеров против Республики. Выражая мнение большинства правых, Хименес Кабальеро, испанский сюрреалист и один из отцов-основателей испанского фашизма, с горечью говорил о том, что Республика «разрушила саму основу нашего существования... Католическая Испания потеряла своего Бога. Монархия — короля. Аристократы — титулы. А солдаты — мечи».
Когда в декабре Комиссия по ответственности вызвала Франко в качестве свидетеля, он выступил с речью, в которой осторожно маскировал свою политическую позицию заверениями в уважении к парламенту и принятым им законам. Тем не менее он ясно дал понять, что, не являясь военной организацией, Комиссия не имела права принимать решения о трибунале в Хаке. В то время как Рамон и ему подобные считали Галана и Гарсиа Эрнандеса «мучениками за свободу», Франко и его армейские товарищи упорно настаивали, что оба этих человека совершили военное преступление, за которое и понесли справедливое наказание.
Несмотря на молчаливое неприятие режима, Франко в то время был еще далек от мысли присоединиться к открытому восстанию против Республики. Его личная враждебность к ней в какой-то мере оказалась смягчена в феврале 1932 года, когда его назначили командиром XV Галисийской пехотной бригады и военным губернатором Ла-Коруньи. Пакон сопровождал генерала в качестве адъютанта — должность, которую он будет занимать в течение многих лет. Большую роль в этом назначении сыграло потепление в отношениях между Асаньей и Франко, благодаря которому последний не подпал под действие изданного месяцем позже указа, предписывающего офицерам, остававшимся более шести месяцев без должности, подать рапорт об отставке. Однако если Асанья и надеялся заслужить благодарность Франко, то его ждало разочарование. Несмотря на полученный пост и очевидную радость, которую Франко испытал, вернувшись на первые страницы льстивых местных газет, превозносивших «Caudillo dei Tercio»10, он по-прежнему не доверял Аса-нье. Мстительный, непреклонный Франко не умел прощать своих обидчиков.
Пока новый военный губернатор обживался в Ла-Корунье, политическая температура быстро поднималась. Правые развязали истерическую кампанию против правительственных мер, призванных облегчить проведение аграрной реформы, а также активно поливали грязью законопроект о предоставлении автономии Каталонии, который с большим трудом пробивался в кортесах. Многие правые деятели, в частности армейские офицеры, утверждали, что любая утрата «испанской» территории — будь то результат катастрофы 1898 года, политические уступки в Марокко или региональная автономия — является не только покушением на Родину, но даже, по словам Хименеса Кабальеро, «потерей потенции» и «кастрацией» как самой Испании, так и всех живущих в ней. Тем самым в решимости Республики предоставить автономию Каталонии усматривалось моральное оскорбление, равносильное разрешению на «развод с Испанией». Однако не только Родина оказывалась под угрозой со стороны Рес-публйки, но также и святость брака, и мужское население вообще. Правые пришли в ужас, когда по новому республиканскому закону о разводе «уже не только мужчины уходили от женщин, но и женщины могли уходить от мужей». Новое законодательство, вероятно, морально травмировало генерала Франко, поскольку облегчало возможность развода между его родителями, который, впрочем, так и не произошел.
Тем временем огромная пропасть между правыми и левыми все возрастала. Склонность Гражданской гвардии жестоко подавлять недовольство и волнения обнищавших земледельцев в сельских областях только увеличивала этот раскол. 31 декабря 1931 года мирная демонстрация и забастовка обедневших рабочих в маленьком городке Кастильбланко в Эстремадуре вызвала жестокую реакцию. Гражданская гвардия открыла огонь, убив одного и ранив двух мужчин. Десятилетиями угнетавшиеся местные жители в этот раз набросились на гвардейцев с ножами и камнями, забив их до смерти. Правая пресса накинулась на Асанью и правительство социалистов, обвиняя их в подстрекательстве к подобным действиям.
Командующий Гражданской гвардией генерал Санхур-хо прибыл в Кастильбланко. Там он обвинил рабочий класс в непатриотичности, сравнив убийство гвардейцев со зверствами мавританских племен, совершенными против испанских солдат, и возложив ответственность за этот инцидент на Маргариту Нелькен, депутата крайне левого крыла социалистов от Бадахоса. В течение недели Гражданская гвардия осуществляла акцию мести. В результате ряда инцидентов на юге страны восемь человек были убиты и множество ранено. 5 января 1932 года гвардейцы расстреляли мирный митинг в поселке Арнедо на севере Испании, убив четырех женщин, ребенка и рабочего, а также ранив тридцать случайных прохожих. Тогда Асанья решился на замену Санхурхо генералом Мигелем Кабанельясом, несмотря на ожидаемую гневную реакцию правых. И действительно, те немедленно возвели Санхурхо в ранг героя, многие офицеры выступили с протестом против его отставки, но Франко этого не сделал.
Алехандро Леррус, основатель радикальной партии, «простолюдин с вечно вымазанными землей руками» (Пол Престон), который, по-видимому, убедил Санхурхо не защищать короля в 1931 году, сейчас подбивал его отстранить от власти левую коалицию республиканцев и социалистов. Санхурхо, который уже высказывался в том духе, что генерал Франко «вряд ли тянет на Наполеона, но, учитывая, на что похожи остальные...», понимал: поддержка военным губернатором Ла-Коруньи возможного мятежа была бы очень кстати.
А Франко тем временем вел довольно легкомысленный образ жизни. Многочисленные светские обязанности и увлечение прогулками под парусом оставляли ему мало времени для каких-то серьезных дел и тем более — для военного мятежа. По выходным он посещал мать, по-видимому, возобновил тесные отношения с «тетушкой Хильдой» и полностью отдался своей страсти к рыбной ловле. Именно тогда он завел себе одного-единственного друга из гражданских, Макса Боррелла, предпринимателя, который прежде жил в Латинской Америке, где был похищен и зверским образом кастрирован. Он стал постоянным спутником Франко на охоте и рыбалке после войны и оставался близким другом вплоть до своей последней болезни. И весьма знаменательно, что Франко, покинув раздираемое войной Марокко, был вынужден удовлетворять свои сексуальные потребности и агрессивные импульсы, убивая зверей на охоте, избрал себе в сотоварищи человека, который подвергся насильственной кастрации.
Несмотря на видимое отсутствие интереса Франко к планам готовящегося путча, мятежные офицеры очень хотели знать, какую позицию он займет. Как всегда, Франко попытался уйти от окончательного решения. Сначала он намекнул Санхурхо, что не прочь принять участие в путче, а затем гневно отрицал это. Его колебания были вызваны и боязнью выступать против власти, и личной неприязнью к Санхурхо, и озабоченностью недостаточной подготовкой к перевороту, неудачный исход которого, как он опасался, «откроет двери коммунистам». Его нерешительность тем не менее была истолкована как поддержка мятежа, и когда Франко приехал в Мадрид, чтобы выбрать себе нового коня, то вдруг узнал, что здесь ходят слухи о его участии в будущем путче. И хотя генерал резко заявил заговорщикам, что, если они «продолжат распространять подобную клевету», он будет вынужден «принять энергичные меры», обеспокоенное правительство решило установить за ним постоянную полицейскую слежку. Агентов полиции, по словам Пакона, временами «выводила из себя» неспособность Франко положить конец досужим полуночным разговорам и отправиться спать.
В день мятежа Санхурхо, 10 августа 1932 года, Франко, вернувшийся в Ла-Корунью, должен был уйти в отпуск. Однако командующий военным округом генерал Вера попросил Франко отложить отпуск и заменить его, Веру, во время официального визита адмирала испанского флота, флагманский корабль которого бросил якорь в порту Ла-Коруньи. И в тот момент, когда сторонники Санхурхо выступили против правительства, Франко принимал официальные почести и слушал орудийный салют из пятнадцати залпов на борту флагмана военно-морского флота. Когда на следующий день после попытки переворота взбешенный Асанья связался с генералом Верой, чтобы выяснить местонахождение
Франко, он почувствовал огромное облегчение, узнав, что тот «мирно исполнял обязанности на своем посту». Если бы Франко ушел в отпуск в намеченное время, Асанья, вероятно, пребывал бы в значительно менее радужном настроении.
Как и предсказывал Франко, попытка мятежа Санхурхо оказалась беспорядочной, неорганизованной авантюрой, но послужила хорошим уроком. В дальнейшем правые больше не будут спешить с переворотом без соответствующей подготовки и поддержки полиции и Гражданской гвардии. Многие старшие офицеры считали, что отказ Франко участвовать в мятеже стал решающим фактором его провала. Убедившись в своей правоте, генерал сообщил Мильяну Астраю, что выступит против Республики только в случае, если правительство попытается распустить армию или Гражданскую гвардию, а также «если ясно увидит, что пробил час коммунизма». А Пакону Франко заявил, что «никогда не верил в успех мятежа, поскольку в нем не участвовала значительная часть марокканской армии». В результате, благодаря своей хитроумной, двусмысленной и неопределенной позиции во время путча, он остался в хороших отношениях с обеими сторонами политического спектра. Генерал сохранил доверие правых, убедив их, что, считая преждевременным военное выступление, он с уважением относится к взглядам его участников. Но Франко не дискредитировал себя и перед правительством, оставшись на своем посту. Правда, разгневанный Санхурхо опровергал доводы «маленького Франко», назвав его «лукавым хитрецом, который всегда думает только о своей выгоде».
На следующий день после провала переворота был создан комитет заговорщиков для лучшей подготовки будущего антиправительственного выступления. Нравственная законность военного восстания активно пропагандировалась газетой «Аксьон эспаньола», которую Франко выписывал с выхода ее первого номера в декабре 1931 года. Заговорщики собирали средства для приобретения оружия, провоцировали политическую нестабильность и создавали «подрывные ячейки» в войсках под тайным руководством подполковника Валентина Галарсы, который был замешан в неудавшем-ся перевороте. Асанья сохранял сильные подозрения насчет «чрезвычайно умного» и опасного Галарсы, которого он считал «скользким и... явно находившимся по ту сторону», но следствие не нашло против него компрометирующих фактов. И Асанье ничего не оставалось делать, кроме как уволить его со службы. Галарса же использовал вынужденное безделье для того, чтобы обеспечить будущему восстанию поддержку самых влиятельных генералов, включая своего друга Франко, во многом столь похожего на него.
Впрочем, пока военный губернатор Ла-Коруньи вел себя лояльно по отношению к власти. Он отказался примкнуть к подпольной монархистской организации Испанский военный союз, которая поддерживала тесные связи с Галарсой, и холодно отверг просьбу Санхурхо представлять его на суде, заявив: «Я полагаю справедливым, что, подняв и провалив мятеж, вы заслужили свое право на смерть». Совершенно очевидно, что раздражал Франко не столько сам путч, сколько его неудача. И к тому же он не мог простить Санхурхо неприятные для Франко высказывания. Асанья был менее мстительным. Его нежелание последовать совету президента Мексики: «Расстрелять Санхурхо, дабы избежать большого кровопролития и сохранить Республику» — окажется роковым. После небольшого пребывания в тюрьме Санхурхо бежал в Португалию, потом он станет одной из ключевых фигур в мятеже 1936 года.
Надежды Асаньи на то, что «лояльность» Франко во время попытки переворота свидетельствует об изменении в их отношениях в лучшую сторону, скоро будут вдребезги разбиты. В начале 1933 года Франко вдруг обнаружит, что в результате пересмотра Асаньей очередности присвоения званий в армии он с первого номера в списке бригадных генералов стал двадцать четвертым из тридцати шести. Реакция Франко была бурной. Пройдет много лет, а он все еще будет возмущаться тем, что Республика «украла» у него законное воинское звание. Опасаясь мстительного генерала, Асанья решил, что было бы разумной предосторожностью сплавить его на Балеарские острова в качестве командующего военным округом, убив тем самым двух зайцев: с одной стороны, ублажить Франко высокой должностью, с другой, как он надеялся, «лишить его всяческих соблазнов». Хотя Франко поспешил заявить своим правым друзьям, что не примет этот в высшей степени престижный пост, устоять он не смог. Все же генерал попытался убедить себя, что поддержал собственное реноме, нанеся чрезвычайно холодный и оскорбительно поздний обязательный прощальный визит Асанье 1 марта.
Вскоре после провалившегося путча законы об автономии Каталонии и об аграрной реформе были проведены в кортесах. Они вызвали особенно яростную реакцию правых, которым удалось в 1933 году практически парализовать деятельность правительства Асаньи целенаправленной обструкционистской кампанией. Когда 11 января силы правопорядка расстреляли двадцать четыре анархо-синдикалиста в местечке Касас-Вьехас в провинции Кадис, правые мягко перешли от восторга от этой репрессивной акции к самой циничной демагогии по ее поводу. В прессе и парламенте была развязана клеветническая кампания, обвиняющая правительство в зверской расправе и клеймящая его политику как жестокую и несправедливую. Этот инцидент, который еще раз подчеркнул неспособность кабинета Асаньи решить аграрную проблему, вызвал охлаждение его отношений с социалистами. Убедившись, что единственной возможностью для проведения в жизнь реформ является образование собственного правительства, социалисты решили выйти из коалиции, которая привела их к власти на выборах в 1931 году. В результате лидер радикальной партии Леррус был призван сформировать чисто республиканский кабинет министров 12 сентября 1933 года. Он предложил Франко пост военного министра, но тот отклонил предложение, поскольку подозревал Лерруса в тайных связях с Рамоном, а главное— был уверен, что этот кабинет долго не продержится. И он оказался прав. Президент Алькала Самора был вынужден назначить всеобщие выборы на ноябрь 1933 года.
Раскол в рядах левых и отсутствие воздержавшихся анархистов привели к тому, что правые одержали победу на выборах. И хотя сильная авторитарная католическая партия, Испанская конфедерация автономных правых (СЭДА), за которую голосовал Франко, была представлена крупнейшей фракцией в кортесах, президент Алькала Самора, не доверяя ее лидеру Хосе Мариа Хилю Роблесу, предложил ненасытному Леррусу вновь возглавить правительство. Зависящие от голосов «автономных правых», все более продажные радикалы повели жесткую социальную политику, на которой настаивали состоятельные сторонники СЭДА. Политическая ситуация быстро поляризовалась. В то время как правительство урезало зарплаты, увольняло членов профсоюзов, выселяло из квартир должников и увеличивало квартирную и арендную плату, лидеры социалистов ударились во все более зажигательную революционную риторику в несбыточной надежде, что обеспокоенные правые умерят свой пыл, а президент назначит новые выборы. На деле же это вызвало лишь очередные репрессии правительства и убедило армейское командование, что только мощный авторитарный ответ сможет сдержать социалистическую анархию.
Тем временем Франко думал совсем о другом. В конце 1933 года он перевез свою семью в Мадрид, где собирался вылечиться от болей, которыми мучился после ранения. Он также решил разыскать отца. Возможно, Франко встревожило его намерение развестись с доньей Пилар. А может, за неимением короля, диктатора или президента, которые должны были восхищаться его достижениями, он хотел дать дону Николасу еще один шанс. Так или иначе, но, став генералом, он, похоже, столь же мало впечатлил отца, как и будучи ребенком. Ханжеские увещевания Франсиско типа: «Брось этот образ жизни и вернись к семье. Давай забудем прошлое» и его предупреждение: «Если не сделаешь этого, то потеряешь сына» — пришлись не по вкусу вспыльчивому дону Николасу. Франсиско поклялся — как потом оказалось, напрасно, — что он слова больше не скажет отцу.
В январе 1934 года крупное восстание анархистов в Арагоне вызвало еще большую тревогу у правых. Для его подавления армейским частям, подкрепленным танками, потребовалось четыре дня. В результате последовал ряд отставок в правительстве. 23 января 1934 года военным министром стал Диего Идальго. Когда Франко посетил его с визитом вежливости, тот уделил бывшему «африканцу» повышенное внимание. Вскоре после этого министр произвел его из бригадного генерала в генерал-майоры. Франко, которому исполнилось сорок два года, считал, что это было самое меньшее, что могла сделать Республика после унижений, которые он претерпел от нее. Когда Идальго прибыл с визитом на Балеарские острова, его шокировал отказ Франко освободить хотя бы одного заключенного, как обычно делалось в таких случаях. Генерал объяснил, что единственный имеющийся в наличии заключенный — офицер, который дал пощечину солдату, а это, мол, наихудшее преступление из всех возможных. Франко, видимо, забыл о своем указании избивать и расстреливать собственных солдат в Африке за малейший проступок, зато привел в трепет своими благородными доводами министра, и тот предложил ему участвовать в качестве советника в предстоящих военных маневрах.
28 февраля 1934 года в возрасте шестидесяти шести лет мать Франко заболела воспалением легких и скончалась как раз перед посадкой на пароход, чтобы отправиться в паломничество в Рим. Ее смерть, несомненно, оказала огромное психологическое воздействие на Франко, но он не выказывал внешних признаков печали. Поселившись с семьей в большой квартире в Мадриде, генерал с головой погрузился в круговерть светской жизни, поддерживая отношения с важными правыми политиками, аристократами и членами высшего общества Овьедо, когда те приезжали в столицу. Стараясь избегать политических и военных дел, он отвлекался от грустных воспоминаний об ушедшей матери походами в кино, а также помогая донье Кармен прочесывать местный «блошиный рынок» в поисках антиквариата.
В последний раз Франко встретился с отцом, когда вся семья собралась для чтения завещания. Дон Николас приехал с опозданием, неряшливо одетый. На протяжении всей процедуры он отказывался снять шляпу. Полный решимости вновь завладеть семейным домом в Эль-Ферроле, агрессивно настроенный, дон Николас с трудом заставил себя поговорить с каждым из своих детей. Не испугавшись неприличных манер отца, Франко вполне дружелюбно попытался представить его свояку, Серрано Суньеру, который присутствовал на оглашении завещания в качестве адвоката. К ужасу Франко и немалому изумлению Серрано Суньера, дон Николас, едва взглянув в сторону последнего, отказался протянуть ему руку и небрежно бросил: «Тоже мне адвокат! Больше смахивает на афериста!» Последовавшее затем вызывающее решение дона Николаса провести лето в семейном доме на Калье-де-Мария вместе с Агустиной и их «приемной дочерью» вызвало у шокированных соседей массу сплетен, от которых наверняка донья Пилар не раз перевернулась в гробу. Дон Николас обычно отвечал на них грубыми жестами и первыми пришедшими на ум непристойностями. Вскоре он оформил гражданский брак с Агустиной в соответствии с новым республиканским законодательством. О взглядах Франко на данную ситуацию можно судить по его декрету, изданному в 1938 году, согласно которому были признаны незаконными все браки, заключенные в период Республики. Этим актом личной мести вполне объясняется ярко выраженная агрессивность дона Николаса, постоянно им проявлявшаяся по отношению к каудильо. Он никогда больше не увидит Франсиско.
Несмотря на внешнюю беззаботность Франко, утрата матери и трудная встреча с отцом оживили в его памяти воспоминания о тяжелом детстве. Его новый параноидальный приступ по поводу коммунизма случился именно в тот период. 16 мая 1934 года он написал письмо секретарю «Международной Антанты против Третьего Интернационала», в котором выражал похвалу за «большую работу, которую вы осуществляете для защиты всех народов от коммунизма». И хотя ранее Республика в течение трех лет оплачивала его подписку на данный журнал, теперь Франко, не желая ничего оставлять на волю случая, решил лично подписаться на это злобное антикоммунистическое издание, которое поддерживало его убежденность в том, что он и Родина подверглись нападению злобных марксистских сил. Такие вот мрачные и абсолютно иррациональные опасения и страхи перед «красными» отчасти объясняют мстительность его дальнейшего поведения и жестокие расправы, которые Франко учинял сначала над «большевистскими» шахтерами в Астурии, затем над республиканцами во время гражданской войны и в конце концов над рабочим классом после победы в этой войне.
К сожалению, воздействие окружающей реальности усилило невротические взгляды Франко на жизнь, в которой левые рассматривали все сделанное правыми как свидетельство их фашистских амбиций, а правые считали любую инициативу левых равносильной коммунистическому мятежу. И пока правительство радикалов под оппортунистическим руководством Лерруса и при активной закулисной деятельности Хиля Роблеса скатывалось вправо, отчаявшиеся социалисты начали считать революционное восстание единственной возможностью для сохранения Республики. Ситуация резко поляризовалась весной и летом 1934 года, когда радикальный министр внутренних дел Рафаэль Салазар Алонсо спровоцировал несколько социалистических профсоюзов на ряд самоубийственных забастовок. Сознавая, что левые считают СЭДА профашистской организацией и не потерпят участия ее представителей в правительстве, в сентябре 1934 года Хиль Роблес лишил его молчаливой поддержки своей партии, вынудив тем самым Лерруса сформировать новый кабинет, в который вошли три министра от СЭДА. Как он и предсказывал, это спровоцировало левых на объявление 4 октября всеобщей революционной стачки, которая сопровождалась недолговременным объявлением независимости Каталонии. Хотя большая часть забастовок была немедленно подавлена, одна из них, наиболее решительная и лучше подготовленная, которую организовали ВСТ (Всеобщий союз трудящихся), НКТ (Национальная конфедерация труда) и едва оперившаяся Коммунистическая партия, прошла среди шахтеров Астурии. В результате гражданского губернатора там заменили военным командующим, а также ввели чрезвычайное положение.
За несколько недель до этого, как было условлено, Франко вернулся в столицу, чтобы вместе с военным министром Диего Идальго принять участие в маневрах. Они проходили под командованием генерала Эдуардо Лопеса Очоа в провинции Леон, которая по своим природным условиям была весьма похожа на Астурию. Было ли решение Идальго пригласить Франко чисто случайным или являлось заранее обдуманным ходом, чтобы обеспечить его приезд в Мадрид и использовать при подавлении ожидаемых революционных волнений, присутствие будущего каудильо окажет решающее воздействие на исход предстоящих событий.
Президент Алькала Самора назначил Лопеса Очоа командовать войсковой операцией против шахтеров в явной надежде, что репутация этого генерала как верного республиканца и франкмасона поможет тому обойтись без кровопролития. Требование Идальго и министров от СЭДА заменить его на Франко было отклонено, однако военный министр все равно поручил Франко командование всеми репрессивными операциями в Астурии и Каталонии, так сказать, на неформальной основе. Введение военного положения дало Франко исключительные полномочия в этом районе, даже в ущерб власти Идальго. Это не только предоставило генералу своевременный выход клокочущих в нем ненависти и агрессии, вызванными смертью матери, но также дало ему почувствовать отравляющий вкус беспрецедентной военно-политической власти.
В то время в Испании было еще очень мало коммунистов, однако с помощью параноидальной «Международной Антанты» Франко быстро убедился, что акция шахтеров была «преднамеренно подготовлена агентами Москвы», а социалисты, выполняя «технические инструкции коммунистов», хотели установить диктатуру. Убедив самого себя, что, представлявшие опасность для Родины левые испанцы были вовсе не испанцами, Франко смог действовать так же жестоко против своих соотечественников, как он это делал в Африке против мавров. Описывая конфликт в Астурии как войну против «социализма, коммунизма и всех прочих «измов», которые напали на цивилизацию с целью заменить ее варварством», Франко использует колониальную риторику в обращении к народу Испании. В действительности, как очень скоро выяснилось, Франко был склонен не столько защищать цивилизацию от варварства, сколько использовать варварские методы, чтобы превратить ни во что требования шахтеров обращаться с ними как с человеческими существами.
Опасаясь колебаний и сомнений со стороны некоторых более либеральных офицеров, Франко постарался, чтобы операцию проводили его единомышленники. Он послал туда мавританских наемников, поскольку знал, что они без колебаний будут стрелять в испанских рабочих. Командование африканскими частями принял на себя Хуан Ягуэ, «африканец», учившийся вместе с Франко в Толедо. Кузен Франсиско и друг детства, майор Рикардо де ла Пуэнте Баамонде, был заменен на посту командира военно-воздушной базы в Леоне, поскольку подозревали, что он отдал приказ пилотам не открывать огонь против забастовщиков в Овьедо. Как и в Марокко, сам Франко смог^дистанцироваться от реального насилия — и от своих садистских импульсов, — руководя гигантской операцией из телеграфного центра военного министерства в Мадриде с помощью Пакона и двух морских офицеров. Франко без колебаний отдал приказ подвергнуть бомбардировкам рабочие районы в шахтерских городах, а армии — стрелять в шахтеров без разбору. Во время обедов в министерстве генерал оживленно болтал с Паконом и Идальго, обсуждая новости, которые потоком шли с фронта военных действий. Однако когда министр разрешил ему говорить о чем угодно, «о женщинах, театре, литературе, но только не о революционном движении», он тут же замолк.
Мнение Франко, что без помощи «африканцев» армия, расквартированная в самой Испании «неукомплектованными и ослабленными частями и не имеющая достаточной боевой подготовки, не сможет восстановить закон и порядок», сражаясь против практически безоружных революционеров, отражает скорее его собственный настрой, чем реальное положение вещей. Его убежденность, что подавление гражданского населения в Испании ничем не отличается от войны в Марокко, за исключением разве что некоторого «налета романтики реконкисты», разделялась отнюдь не всеми военными. Однажды несколько генералов и офицеров министерства с раздражением заявили Пакону, что «его генерал окончательно свихнулся», вызвав войска из Африки. И тем не менее тактика военного террора, подобная той, что с успехом применялась Франко в Марокко и предвосхищала ту, что будет использоваться в гражданской войне, оказалась в высшей степени эффективной. Огромное число погибших среди женщин и детей и зверства, совершенные марокканскими частями Ягуэ, полностью деморализовали восставших рабочих.
Однако Франко решил, что дело нельзя считать законченным, пока все участники антиправительственных выступлений не будут арестованы и наказаны. Он выбрал своего однокашника по Толедо, свирепого майора Лисардо Доваля, заняться этим нудным и кровавым делом. Карательные акции майора, не обставленные излишними юридическими премудростями, немедленно вызвали бурные международные протесты. Однако в самой Испании правая пресса превозносила Франко как «человека, спасшего Испанию от анархии и большевизма». А вот военного министра она обходила молчанием. Позднее он с горечью жаловался, что «все те, кто... оценивал столь похвальную и эффективную деятельность этого генерала, не нашли ни единого доброго слова для генерала, который назначил его... А ведь если бы я его не назначил, — продолжал чрезвычайно обиженный Идальго, — ваш генерал Франко, со всеми своими военными познаниями и достойными восхищения качествами, следил бы за событиями в Астурии по газетам с далеких Балеарских островов».
Правая пресса ликовала, однако раны 1934 года были слишком глубоки, и ничего не делалось, чтобы залечить их. С большой неохотой Леррус и Хиль Роблес, опасаясь, что, в случае вынесения смертных приговоров революционерам в Астурии и офицерам, защищавшим эфемерную Каталонскую республику, президент Алькала Самора отправит их в отставку, высказались за милосердие по отношению к восставшим, однако дали понять, что они не против военного переворота. Франко, наоборот, не желал немедленного переворота, но, подобно другим военным, считал, что, если «бунтовщики» останутся без «примерного наказания, это будет означать попрание законных прав военных». В действительности именно его мстительность по отношению к восставшим и спровоцировала то, чего он больше всего опасался: волну симпатий к коммунизму. Мало того, разбитые и напуганные жестокими репрессиями левые решили никогда больше не допускать раскола — ни в революционных действиях, ни на выборах. Как умеренные, так и крайне левые в избирательной кампании 1936 года дружно пойдут за Народным фронтом.
Восстание в Астурии разожгло экстремизм правых и породило большую обеспокоенность у среднего и высшего класса общества. Робкие и неискренние попытки СЭДА для предотвращения социальной революции провести весьма ограниченную аграрную реформу неоднократно блокировались крайне правыми. А тем временем тысячи политических заключенных оставались в тюрьмах, автономия Каталонии была отменена, а против Асаньи правые развязали яростную кампанию, в результате которой его незаконно арестовали и бросили в тюрьму. (Он никогда не простит президенту Алькале Саморе, что тот не предотвратил этого.) Находясь в заключении, Асанья стал символическим героем разгромленных левых. Франко же, награжденный большим крестом «За боевые заслуги», стал любимцем правых. Когда в феврале 1935 года страшно подозрительный президент Алькала Самора отклонил ходатайство Лерруса о назначении Франко на пост верховного комиссара Марокко, похоже, что генерал и не был особенно огорчен отказом. Точно так же Франко оставался невозмутимым, когда его главного покровителя Идальго на посту военного министра сменил премьер-министр Леррус, который совмещал обе должности с ноября 1934 по апрель 1935 года.
Но не все военные были столь флегматичны. Хорхе Ви-гон вкупе с полковником Валентином Галарсой решили, что настал момент предпринять еще одну попытку переворота под руководством Санхурхо, однако они не поленились узнать мнение Франко. И, когда тот заявил, что еще «не настало время действовать», этого оказалось достаточно, чтобы переубедить их. Сам факт, что столь высокопоставленные офицеры сейчас интересовались позицией Франко, чего они не делали в 1932 году, показывает, до какой степени события в Астурии подняли престиж генерала в глазах правых кругов в армии. Но, удовлетворив свою жажду крови и власти и став фаворитом правительства, Франко в тот момент не имел серьезных мотивов, чтобы замышлять государственный переворот против Республики. Однако были и другие офицеры и политики из правых, настроенные весьма решительно и готовые пойти на самые радикальные меры для «завоевания государства». К таким деятелям, получавшим поддержку от Муссолини деньгами и оружием, принадлежали карлисты, группа экстремистски настроенных диссидентов-монархис-тов, фашистская Испанская фаланга под руководством Хосе Антонио Примо де Риверы и влиятельные богатые «альфон-систы», которые поддерживали Альфонса XIII, а ранее генерала Примо де Риверу. «Альфонсистов» возглавлял хариз-матичный Хосе Кальво Сотело, который вернулся после майской амнистии 1934 года, предоставленной всем подвергнувшимся чистке во время «кампании по ответственности» в 1931 году.
6 мая 1935 года пятеро членов СЭДА, в том числе и сам Хиль Роблес, получивший портфель военного министра, сформировали новый правительственный кабинет, который опять возглавил Леррус. Идя наперекор пожеланиям президента Алькалы Саморы, который предупреждал, что «молодые генералы жаждут стать фашистскими каудильо», они позвали Франко в Мадрид и предложили ему пост начальника генерального штаба. Нескольких генералов вызволили из опалы. Годед стал генеральным инспектором и главой военно-воздушных сил, Фанхуль был назначен заместителем военного министра, Эмилио Молу сделали командующим гарнизоном в Мелилье, африканского приятеля Франко, Хосе Энрике Варелу, отличившегося во время попытки переворота Санхурхо, произвели в генералы.
То, что вооруженное восстание на этом этапе не входило в планы Франко, находит свое подтверждение в нескольких неопубликованных заметках, написанных Хилем Роблесом в 1970 году. Новый военный министр описывает начальника генерального штаба как человека сдержанного, осторожного и осмотрительного, старающегося избежать принятия любых военных решений, которые могли бы спровоцировать президента Республики или вызвать ненужные «политические баталии в кортесах». Так, будучи ребенком, Франко старался избегать столкновений с отцом. Алькала Самора, который с горечью жаловался на то, что Годед «выжил из ума, а Фанхуль — просто злобный ублюдок, который постоянно преследует офицеров-республиканцев, налагая на них взыскания за малейшую провинность» и одновременно продвигая сторонников монархии или диктатуры, считал Франко «самым профессиональным и лояльным военным».
Генерал между тем жаждал использовать свое новое и влиятельное положение, чтобы «скорректировать реформы Асаньи и вернуть военным ту внутреннюю удовлетворенность, которой они лишились с установлением Республики». По его предложению в армии ввели систему продвижения по службе и присвоения званий за заслуги, а не просто за выслугу лет, а также осуществили перевооружение, чтобы противостоять будущим беспорядкам, спровоцированным левыми. По словам Хиля Роблеса (который в семидесятые годы отнюдь не был большим почитателем каудильо), Франко был готов проводить долгие часы в беседах с ним, поскольку «понимал, что политика, которую я проводил, была в интересах армии и страны».
Франко также страстно желал, чтобы эта политика оказалась и в интересах семьи. Он попросил Хиля Роблеса, чтобы тот назначил его старшего брата Николаса, морского инженера, государственным представителем в морской компании, которой военное министерство собиралось дать крупные заказы. Зная о темных делишках Николаса в мире кораблестроения, военный министр тактично отказал генералу, однако все равно его братцу досталась, как полагают, не без помощи Франко, высокая должность генерального директора рыболовной флотилии торгового флота Испании. К младшему брату Франке был не столь добр. Когда Леррус назначил Рамона военно-воздушным атташе в Вашингтоне, это, похоже, вызвало раздражение Франсиско. И, хотя в отношениях с Хилем Роблесом он старательно избегал всего личного, генерал не смог удержаться от гневных высказываний по поводу «нарушений дисциплины и политического экстремизма» Рамона.
Младший брат оказался не единственной проблемой Франко. Сразу после своего освобождения из тюрьмы Аса-нья пронесся по стране с пламенными речами перед огромными толпами. Его выступления способствовали созданию Народного фронта. По сути, это было возрождение республиканско-социалистической коалиции 1931 года с добавлением крошечной Коммунистической партии Испании. Чрезвычайно обеспокоенный таким развитием событий, Франко через Валентина Галарсу летом 1935 года решил завязать отношения с Испанским военным союзом. С тех пор генерала постоянно информировали о всех планах вооруженного восстания военных и, по крайней мере он так утверждал, использовали его влияние, дабы предотвратить «преждевременный путч в духе военных переворотов девятнадцатого века».
На протяжении последнего периода времени последовательно сменявшиеся правительства радикалов оказались замешаны в крупных финансовых скандалах, в результате чего президент Алькала Самора снял Лерруса с поста премьер-министра и назначил на его место аскетичного консерватора Хоакина Чапаприэту. 9 декабря Хиль Роблес спровоцировал отставку нового премьер-министра в надежде, что ему самому будет поручено формирование кабинета. Однако президент Алькала Самора, заподозривший лидера СЭДА в стремлении продлить сроки службы антиреспубликански настроенных офицеров и передать контроль над Гражданской гвардией и полицией от министерства внутренних дел военному министерству, решил 11 декабря провести новые выборы. Испугавшись, что это может быть началом конца политической власти СЭДА, Хиль Роблес стал энергично призывать недовольных генералов устроить путч, дабы предотвратить роспуск кортесов. Генералы Фанхуль и Варела склонялись к этой мысли, но Франко и другие его единомышленники считали, что без поддержки Гражданской гвардии и полиции переворот может потерпеть неудачу. В результате 12 декабря было создано Временное правительство, которое возглавил Мануэль Портела Вальядарес. Портела, близкий друг Алькалы Саморы, оперативно заменил Хиля Роблеса на посту военного министра на генерала Николаса Мо-леро. В трогательной прощальной речи Франко заявил, что «армия никогда не имела лучшего руководства, чем за этот период», а сам он был вполне доволен тем, что остался начальником генерального штаба.
Создание этого несколько более либерального правительства вызвало к жизни целую серию планов мятежа. Пока Кальво Сотело призывал Франко, Годеда и Фанхуля немедленно совершить переворот, Хосе Антонио Примо де Ривера передал совершенно безрассудное предложение начать мятеж приятелю Франко, простодушному и недалекому полковнику Хосе Москардо, военному губернатору Толедо. Согласно его рекомендациям, фалангисты и кадеты военной академии в Толедо должны были, по примеру марша на Рим Муссолини, организовать марш на Мадрид в качестве первого шага к полномасштабному фалангистскому мятежу. Это предложение пришлось не по душе генералу Франко. На первый взгляд, его возмущало то, что простые штатские использовали «самых выдающихся офицеров» для собственных политических целей. Но скорее всего его сдержанное отношение к инициативе аристократичного и обладавшего определенной харизмой сына последнего диктатора вызывалось и духом соперничества, и идеологическими разногласиями с ним. Однако, как всегда, личная неприязнь и политический прагматизм у Франко шли рука об руку. Он вполне резонно полагал, что преждевременный мятеж обречен на провал и на тот момент просто не нужен. А если бы все же переворот произошел, Франко надеялся не допустить, чтобы этот успех считался заслугой Хосе Антонио.
Несмотря на всю осторожность Франко, слухи о том, что он замешан в планах переворота, продолжали носиться по коридорам власти. И тогда генерал твердо заверил Портеле: «Я не приму участия ни в каких акциях против власти, пока нет угрозы коммунизма в Испании». Впрочем, победа Народного фронта вполне могла быть приравнена к коммунистической революции.
Назначенные на февраль 1936 года выборы прошли в атмосфере взаимного недоверия и ожесточенной полемики в прессе и по радио. СЭДА развернула активную пропагандистскую кампанию, повсюду заявляя, что речь идет о жизни и смерти, о выживании или полном уничтожении нации. Народный фронт в гораздо менее драматической форме говорил об угрозе фашизма и необходимости амнистировать политических заключенных. Во время этих бурных выборов Франко пытался, хотя и оставаясь в стороне, поддерживать связи с монархистскими заговорщиками и зарождающимися фашистскими группировками, в которые входили молодежное движение Хиля Роблеса, «Молодежь народного действия» и фаланга.
После поездки в Великобританию в качестве испанского представителя на похоронах короля Георга V Франко вернулся в Испанию 5 февраля и с большой неохотой согласился на встречу с Хосе Антонио Примо де Риверой, который настаивал на немедленном восстании. Испытывая недоверие и антипатию, которые вызывал в нем глава фаланги, Франко отвечал со свойственной ему уклончивостью, не обещая ничего определенного. Антипатия была взаимной. После безрезультатной встречи недовольный Хосе Антонио заметил: «Мой отец, при всех его недостатках, был совсем не таким. В нем хотя бы присутствовали человечность, решительность и благородство. Но эти людишки...»
Двойственное отношение Франко к возможному военному перевороту отчасти изменилось, когда 16 февраля Народный фронт одержал победу на выборах с небольшим перевесом, но получив при этом огромное количество мест в кортесах. Для Франко ликующие толпы, заполнившие улицы, означали победу коммунизма и анархии в Испании. Для генерального директора Гражданской гвардии генерала Себастьяна Посаса — старого «африканца», который, по-видимому, в порядке исключения остался верным Республике — это было «законным выражением радости республиканцев». Франко пытался убедить премьер-министра Портелу, чтобы тот оставался у власти и вывел на улицу войска или же передал бы Гражданскую гвардию и ударные части полиции под его личное командование, пока не подойдут армейские части для восстановления порядка. Однако все было напрасно ч Тем не менее, уступая его яростному напору, военный министр Николас Молеро сумел убедить осаждаемого со всех сторон президента созвать правительство для обсуждения вопроса о введении чрезвычайного положения. Портела согласился объявить его на восемь дней. Президент издал декрет, по которому Портела получал полномочия для отмены конституционных гарантий и введения чрезвычайного положения, когда тот сочтет это необходимым.
Через несколько минут после объявления решения правительства Франко предпринял абсолютно незаконный шаг, попытавшись ввести чрезвычайное положение без санкции Портелы и Посаса. Это было в первый раз в жизни, когда он пошел против закона. Но отнюдь не последний. Возможно, ему очень захотелось снова ощутить вкус неограниченной власти, который Франко почувствовал во время подавления восстания в Астурии. А может, он убедил себя, что армия имела моральное право идти на любые шаги, чтобы аннулировать результаты выборов. В любом случае его незаконные действия не получили поддержки ни со стороны Гражданской гвардии, ни полиции, которые отказались выступить без непосредственных приказов Посаса. Инициатива Франко завершилась ничем. Во время этого кризиса он находился ближе, чем когда-либо, от вооруженного восстания. Генерал разрывался между убежденностью, что армия имеет данное Всевышним право вмешиваться в гражданские дела, и врожденным нежеланием бросать вызов высшей власти, а также нервирующим страхом перед провалом. Испуганный тем, как близко он подошел к краю пропасти, Франко поспешил заверить Портелу, что не замешан в каком-либо военном заговоре, поскольку «армия... не обладает моральным единством, необходимым для предприятия такого масштаба». Косвенным образом он давал понять, что был бы счастлив предоставить армию в полное распоряжение премьер-министра, если тот пожелает прибегнуть к «неограниченным средствам государства» для аннулирования результатов выборов. Портела этого не сделал.
По мере того как приближался момент передачи власти Народному фронту, возникала масса новых безумных планов военного восстания. 17 февраля генерал Годед в Мадриде предпринял попытку вывести войска на улицы, однако По-сас приказал Гражданской гвардии окружить все казармы. 18 февраля Хосе Кальво Сотело посетил Портелу с целью убедить его, чтобы тот использовал Франко, мадридский гарнизон и Гражданскую гвардию для наведения порядка. Однако это предложение, как и схожие с ним обращения к премьеру Хиля Роблеса и Франко, приняты не были. Временное правительство подало в отставку утром 19 февраля. В тот же вечер власть была передана воспрянувшему духом Асанье. Его трогательное обращение к нации — «пробил час, когда испанцы перестали расстреливать друг друга», — не нашло отголоска у обиженных генералов. Незамедлительное смещение Франко с должности начальника генерального штаба еще больше усилило его личную ненависть к Асанье и способствовало превращению сомнений и страхов перед вооруженным восстанием в пламенное желание уничтожить Народный фронт любой ценой.
Новое правительство сразу же рассредоточило неблагонадежных офицеров по разным уголкам страны. Годеда назначили генерал-капитаном Балеарских островов, Молу сделали военным губернатором Памплоны, а Франко, несмотря на его горячие заверения, что «в Мадриде он более полезен армии и нужен для сохранения спокойствия в Испании», отправили на Канарские острова в должности командующего военным округом. И хотя это был важный пост, он воспринял новое назначение как ссылку. Во время прощального визита у президента Алькалы Саморы генерал пообещал: «Что бы ни случилось, там, где буду я, не будет коммунизма».
Озлобление Франко против Республики еще более усилилось, когда Народный фронт отдал приказ армии не предпринимать никаких действий по предотвращению поджогов церквей и монастырей, которыми занимались мелкие группы анархистов-антиклерикалов. «Столь недостойные приказы, — заявил он, — не должен выполнять ни один офицер нашей армии». Для Франко нападения левых, которых он идентифицировал со своим отцом, на католическую церковь, которую он отождествлял с самим собой и со своей матерью, были просто-напросто борьбой добра против зла. Генерал не сумел понять размах, глубину и всесторонность поддержки левыми Народного фронта. Все они казались ему членами некоего антиклерикального болыпевистско-жидо-масонско-го заговора и являлись воплощением зла. Впрочем, отвращение и неприятие было взаимным. Во время его отъезда на Канарские острова обозленная толпа освистала в порту «астурийского мясника».
По прибытии на Канары Франко быстро задавил любую деятельность левых на островах, а затем стал вести привольную жизнь. Его, как всегда, сопровождал Пакон, который рассказывал, что Франко не пропускал ни одной партии в гольф и регулярно посещал Морской клуб, чтобы поболтать с друзьями. Он даже начал учить английский язык. Вместе с доньей Кармен они принимали участие во всех светских мероприятиях на островах. Однако Франко все же чувствовал себя отверженным и испытывал жгучую ненависть к Народному фронту. Раздраженный постоянным надзором над своей деятельностью со стороны губернатора, он неоднократно резко и полемично высказывался насчет Республики. Его неумеренный энтузиазм по отношению к Италии, возглавляемой Муссолини, и высказывания о «новой, молодой, сильной власти, утверждающейся в Средиземном море, которое до сих пор было чем-то вроде британского озера», привели в восторг итальянского консула и возмутили английского. На приеме, устроенном в честь адмирала флота и его штаба, Франко произнес прочувствованный тост «за величие Испании и ее военно-морской флот». По ходу события все громче раздавались крики: «Да здравствует Испания!», «Вместе с нашим генералом — на континент!», «Спасем Испанию от анархии!». Даже были попытки поднять дородного довольного генерала на плечи молодых морских офицеров. Гражданские власти пришли в неописуемый ужас.
Обеспокоенность левых политическими устремлениями Франко отнюдь не уменьшилась, когда Серрано Суньер включил его в список для согласования — причем незаконно — в качестве кандидата от правых сил на повторные выборы в провинции Куэнка, где результаты предыдущих выборов были аннулированы из-за фальсификации голосов. Хосе Антонио Примо де Ривера, который томился в заключении за свою антиреспубликанскую деятельность, также выдвинулся здесь кандидатом в надежде, что победа в Куэнке принесет ему свободу. Раздраженный неожиданным размножением кандидатов от правых и справедливо полагая, что это негативно отразится на его собственных шансах на успех в выборах, Хосе Антонио гневно потребовал, чтобы имя Франко было немедленно вычеркнуто. Серрано Суньер в полном замешательстве отправился на Канары, чтобы лично разъяснить ситуацию весьма щепетильному генералу Франко.
И хотя в конечном счете ни один из них не смог участвовать в выборах, поскольку, согласно регламенту, быть избранными имели право только уроженцы этой провинции, Франко в тот момент пришлось уступить дорогу своему «закадычному» сопернику, с которым ему придется конкурировать на протяжении всей жизни. Бзбешенный высокомерным отношением к нему Хосе Антонио и наверняка обеспокоенный тем, что игры в политику могут нанести ущерб его авторитету и доверию среди военных, Франко принялся объяснять причины этого провала самому себе и окружающим. Его объяснения, жалобные и пронизанные обидой, каждый раз все более походили на оправдания мальчика, не сделавшего домашнее задание, перед рассерженным отцом. В 1937 году Франко безоговорочно утверждал, что сам «публично отверг» предложение правых выдвинуть его кандидатуру, поскольку был занят организацией «обороны Испании», и что он никогда не позволил бы себе запятнать свою репутацию, участвуя в демократических институтах власти. В 1940 году он терпеливо разъяснял, будто отошел в сторону из опасения, что его кандидатура вызвала бы «искаженные толкования». Одно время Франко даже утверждал, что его фамилия была потеряна, поскольку список «сгорел» во время какого-то несчастного случая. В конце концов генерал сделал крутой поворот и снова вернулся к самому впечатляющему объяснению — он снял свою кандидатуру, «потому что предпочел исполнять воинский долг, считая, что таким образом будет лучше служить национальным интересам». Каждый раз Франко замысловатым образом переписывает эту историю заново, пытаясь объяснить собственную неудачу то с точки зрения обиженного ребенка, то сердитого отца, то мудрого политика или благородного воина, пекущегося о благе отечества. И всю оставшуюся жизнь он будет уходить и возвращаться к этим столь разным ролям.
Несмотря на все более разнузданную критику Республики, Франко до сих пор мучительно боялся связать свою судьбу с военным переворотом, который замышляли недоброжелательно относящиеся к нему генералы, все без исключения считавшие, что возглавлять его должен находящийся в изгнании генерал Санхурхо. Не имевшие представления о терзаниях Франко, левые, по словам Индалесио Прието, были убеждены, что именно этот генерал «благодаря своей молодости, своим способностям, массе дружеских связей в армии является тем человеком, который может с наибольшей вероятностью» возглавить мятеж. Независимо от того, дошло или нет до ушей Франко это мнение, все более возрастающий страх левых, что Республика фактически обречена, несомненно, способствовал разжиганию его амбиций. После вынесения 7 апреля вотума недоверия президенту Алькале Саморе за то, что он дважды превысил конституционные полномочия, распустив кортесы до истечения срока своего мандата, президентом стал Асанья. Однако, несмотря на обнадеживающую убежденность Асаньи, что он будет «управлять по закону и справедливости. И тот, кто преступит закон, теряет право на справедливость», продолжающиеся поджоги церквей и нападения на правых погрузили его в «черное отчаяние», из которого он уже больше не выйдет.
Безработица увеличивалась одновременно с растущими ожиданиями сельских и городских трудящихся. Упорное нежелание лидера социалистов Ларго Кабальеро разрешить членам своей партии участвовать в республиканском правительстве в неоправдавшейся надежде, что это либо вызовет его падение, либо спровоцирует попытку фашистского переворота, которая затем будет подавлена революционным подъемом народных масс, подорвало силы кабинета министров и кредит доверия к нему. В результате такой политики наивного обструкционизма вместо динамичного социалиста Индалесио Прието премьер-министром был назначен больной туберкулезом Касарес Кирога. Несмотря на настойчивые слухи о неминуемом перевороте, недужный и слабовольный премьер оставил всех потенциальных заговорщиков на властных постах.
По мере того как Испания, шарахаясь из стороны в сторону, шла к гражданской войне, растущая истерия с обеих сторон политического спектра способствовала эскалации нестабильности и насилия. Со стороны правых нагнетали напряженность пламенные выступления в парламенте Хиля Роблеса и Кальво Сотело, крикливая пресса и террористические акции фалангистских эскадронов. Со стороны левых Ларго Кабальеро — «испанский Ленин» — на волне популизма произносил яростные и неосторожные речи о надвигающейся революции перед ликующими толпами трудящихся. Первомайские демонстрации, приветствия вскинутой рукой, сжатой в кулак, и едкие нападки на Прието убедили средний класс, что единственной силой, способной спасти Испанию от атеистической коммунистической революции, была армия. Богатые латифундисты, напуганные новым и решительным духом радикализма, появившимся у боязливых и услужливых до сих пор крестьян, открыто поощряли заговоры правых против Республики.
Среди оппозиционных военных было большое число старших офицеров всех родов войск, а также полувоенные формирования карлистов и фаланги. Пока еще они не могли рассчитывать на Франко. Хотя Галарса постоянно держал его в курсе планов, которые строил генерал Мола, участие Франко в подготовке мятежа на тот момент было минимальным. Именно генерал Мола, а не Франко заявил со своей базы в Памплоне в апреле 1936 года, что «акция будет в высшей степени насильственной, чтобы как можно скорее уничтожить мощного и хорошо организованного врага». Именно Мола пообещал, что «будут посажены в тюрьму все руководители политических партий, обществ и профсоюзов, не принадлежащих к нашему движению, причем все они будут подвергнуты примерному наказанию, дабы задушить бунтарские выступления и забастовки». А Франко в то время с горечью жаловался Пакону, что «Оргас торопит меня, требуя поднимать восстание как можно скорее, и уверяет, что успех обеспечен», ведь сам генерал был убежден, и не без оснований, что «предприятие предстоит в высшей степени трудное и кровавое». Конечно же, его тревожило, что восстание могло закончиться провалом. «Ты должен понять, — говорил он с беспокойством Пакону, — что на нашей стороне только армия, что выступление Гражданской гвардии находится под большим вопросом, а среди генералов, начальников и офицеров многие останутся на стороне конституционной власти, одни — потому, что им так удобнее, другие — по идейным убеждениям». И кроме того, восстать против правительства Асаньи, фигуры ненавистной, но обладавшей законной — отеческой — властью, было для комплексующего Франко делом психологически нелегким. Измученный сомнениями, генерал никак не мог решиться ступить на политически заминированную почву. Его власть и статус все еще полностью зависели от правительства. Когда оно уйдет, кто станет главой? Кто вновь подтвердит его властные полномочия? В случае успеха переворота главой государства станет Санхурхо, а Мола будет играть при нем решающую роль. Харизматичные и популярные Хосе Антонио Примо де Ривера и Кальво Сотело станут главными политическими фигурами. А какая ниша найдется для него? Хотя, когда Франко спросили, на какое вознаграждение он надеется, если присоединится к восстанию, тот скромно попросил пост верховного комиссара Марокко. Но разве этого было достаточно, чтобы пожертвовать всем, что он уже имел? Хотя Франко и презирал неуправляемую «чернь», к мятежникам он также не питал симпатий, да и не доверял никому из них. К тому же, как сказал ему Оргас: «Никто не должен забывать... что военный, восставший против законной власти, уже не может повернуть назад или сдаться. В любом случае он будет расстрелян без малейшего снисхождения».
Но не все военные оказались столь боязливы. Некоторые офицеры, бывшие в фаворе у Республики, отвернулись от нее после триумфа Народного фронта и согласились участвовать в восстании. Среди них — генералы Мигель Каба-нельяс, Фанхуль, Годед и Кейпо де Льяно. Пока неутомимый Ягуэ готовил марокканские гарнизоны к восстанию, было условлено, что мятежные африканские части должны дождаться прибытия «авторитетного генерала» прежде, чем выступить открыто.
Видимо, устав терзаться жуткой дилеммой, Франко решился на нечто конкретное. Он направил нервное и довольно путаное письмо премьер-министру, в котором пытался определить свою позицию, избавившись от присущей ему двойственности. Генерал старательно разъяснял, что недовольство в армии не являлось актом неверности Республике, но было следствием ее морального долга сохранять общественный порядок и благополучие Родины. В письме проскальзывала мысль, что если он получит полномочия для наведения порядка в народе, как это было в Астурии, то поддержит Республику, а необходимость переворота отпадет сама собой. Тот факт, что Касарес даже не узнает о существовании письма, обернется самыми ужасными последствиями.
А тем временем африканские коллеги Франко, выведенные из себя осторожностью «отважного героя», издевательски прозвали генерала «мисс Канары-1936», а Ягуэ ругал последними словами «его мелочную осмотрительность и нежелание подвергаться малейшему риску». Но, хотя Санхурхо громогласно заявил, что «Франко не сделает ничего, что могло бы его скомпрометировать, а будет держаться в тени, потому что он игрок и шулер», и сам Санхурхо, и Мола зависели от Франко, являвшегося своего рода «светофором военной политики», который должен дать зеленый свет для сомневающихся офицеров. Когда Франко стал зондировать настроение армейских коллег, то выяснилось, что, как он и опасался, одни были вполне восприимчивы к идее переворота, другие демонстрировали непоколебимую верность Республике. И это отнюдь не помогло генералу принять окончательное решение.
Потерявший терпение Мола решил в конце концов обеспечить участие Франко в заговоре. Он арендовал в Англии
самолет, укомплектовав его пилотом и «британскими туристами». Этот самолет должен был прибыть на Канары 11 июля, чтобы доставить Франко в Марокко, где он возглавит руководство восстанием. В это же время Франко, одержимый воспоминаниями о провалившемся путче 1932 года, лихорадочно бросался из одной крайности в другую. 12 июля он уведомил Молу, что не присоединится к восстанию, а затем, спустя два дня, гарантировал свое участие. Конец его всем осточертевшей нерешительности положило убийство Каль-во Сотело 13 июля, совершенное в отместку за смерть некоего офицера, сторонника левых, от руки фалангиста. Этот ответ на провокационную экстремистскую кампанию против прореспубликанских офицеров убедил многих военных в том, что армия должна вмешаться для спасения Родины от тотальной анархии. То был сигнал судьбы, которого ждал Франко. Он выступил с гневным заявлением, где, в частности, говорилось: «Еще один мученик отдал жизнь за Родину. Больше ждать нельзя». Кроме того, благодаря этой случайности со сцены был убран один из его самых важных политических соперников. Сознавая, что убийство Кальво Сотело дает военным необходимый повод для восстания, Прието отчаянно просил Касареса, чтобы тот разрешил вооружить рабочих, пока не произошел переворот. Премьер на такой шаг не пошел.
А тем временем британский пилот арендованного Молой самолета, капитан Уильям Бебб, с нетерпением ожидал инструкций от неизвестного гонца, который должен прибыть на остров Гран-Канария. Франко ночь на 13 июля провел в Тенерифе, сражаясь со своими внутренними демонами. На следующее утро он приказал наконец Пакону достать пропуск для жены и дочери, чтобы они вылетели с Канарских островов в Гавр 19 июля, на следующий день после начала предполагаемого восстания. По словам его преподавателя английского языка, это решение «заставило Франко постареть на десять лет... Он как будто утратил свой железный самоконтроль и неизменное спокойствие». Преодолев наконец серьезный психологический барьер, который не позволял ему присоединиться к мятежникам, генерал занялся теперь
5 Ходжес Г. Э.
практической стороной дела. Как ему добраться до острова Гран-Канария из казармы в Санта-Крус-де-Тенерифе, а затем прилететь в Марокко к началу восстания 18 июля? Он не мог покинуть остров без специального разрешения военного министра, которое, с учетом всех обстоятельств, вряд ли ему будет дано. Эта проблема была разрешена странным и чрезвычайно подозрительным образом, когда военный комендант острова Гран-Канария умудрился пустить себе пулю в живот как раз 16 июля. Эта столь своевременная кончина дала Франко необходимый повод. Теперь его семья и целая группа высокопоставленных офицеров могли прибыть в Лас-Пальмас 17 июля, чтобы присутствовать на похоронах коменданта.
Хотя по плану выступления мятежников должны были начаться одновременно по всей стране 18 июля, в Марокко они произошли вечером 17 июля, поскольку возникла угроза, что заговорщики могут быть арестованы. Пока Франко спал, восстали гарнизоны в Мелилье, Тетуане и Сеуте. Об успешном начале генералу сообщили в четыре часа утра. Это вызвало у Франко прилив адреналина и заставило его наконец почувствовать себя самим собой. Он шлет приветственное послание другим заговорщикам: «Слава африканской армии! Испания превыше всего... Верю в нашу победу. Да здравствует Испания, сохранившая честь! Генерал Франко». Это триумфальное послание не только поставило его во главу восстания, но и подвигло многих офицеров присоединиться к мятежникам. Он немедленно объявил чрезвычайное положение на Канарах и выпустил воззвание, которое должно было быть передано по радио в Лас-Пальмасе. В тексте имелась приписка от руки: «Да будут прокляты те, кто вместо того, чтобы выполнять свой долг, предает Испанию! Генерал Франко». Он благополучно забыл уточнить, какую власть следовало поддерживать, избегая упоминать и Республику, и монархию, заявляя только, что армия спасает Родину от хаоса и анархии, а переворот стал необходим из-за вакуума власти в Мадриде. По его словам, правительство не сумело ни защитить границы Испании, ни дать достойный отпор «иностранным радиостанциям, которые проповедуют разрушение и раздел нашей земли». Парадоксально, но Франко обещал объявить «беспощадную войну эксплуататорам от политики и обманщикам честных трудящихся». Эти обвинения вполне могли прозвучать и в его адрес.
Пока Франко был занят тем, что на всех углах с большой помпой оглашал причины, по которым он должен узурпировать власть законно учрежденной Республики, сам генерал вместе с группой бунтовщиков неожиданно оказался в довольно опасной ситуации, поскольку местный глава Гражданской гвардии еще не определился, поддерживать ли ему мятежников. Пакону даже пришлось применить артиллерию, чтобы помешать группе воинственно настроенных рабочих присоединиться к отряду Гражданской гвардии. Когда между двумя противоборствующими сторонами завязалась перестрелка, Франко передал командование Оргасу, послал жену Кармен и дочь Ненуку в порт дожидаться посадки на пароход в Гавр, а сам отправился в аэропорт, где его ждал самолет. Поездка оказалась весьма рискованной. Поскольку все шоссе были заняты сторонниками Народного фронта, ему пришлось плыть вокруг острова на морском буксире. В конце концов самолет Франко поднялся в воздух 18 июля в 14.05. Как и о многих эпизодах его жизни, об этом полете ходила целая серия самых невероятных и романтических рассказов. Генералу приписывали множество нарядов, в которые он якобы переоделся, — от темно-серого костюма дипломата до арабского балахона, к последнему одеянию один вдохновенный писатель добавил тюрбан. Утверждение Пакона, что на них были белые летние костюмы, а военную форму они якобы выкинули в окно, кажется маловероятным хотя бы потому, что оба офицера оказались именно в военной форме по прибытии в Африку. Также имелось много версий насчет того, где и когда генерал сбрил свои знаменитые усы: единственную жертву, как ехидно заметил Кейпо де Льяно, которую Франко принес во имя Испании.
Впрочем, каким бы ни был их наряд, тяжелое, напряженное путешествие с одной краткой остановкой для дозаправки в Агадире и ночь, проведенная в Касабланке из-за неполадки в посадочных огнях, подействовали словно электро-5* шок на осторожного генерала. Проведя почти без сна несколько суток, Франко, как только они пересекли африканскую границу, вновь обрел вид решительного героя, победителя мавров. Поскольку точно не было известно, кто командует в Тетуане, самолет сначала сделал несколько кругов над аэродромом, пока Франко, разглядев старого однополчани-на-«африканца», не закричал: «Можем садиться, я видел нашего рыжего!» После приземления он оказался в окружении старых товарищей и легионеров, которые засыпали его вышибающими слезу похвалами. Передавая генералу командование, растроганный Ягуэ, забыв свои презрительные высказывания в его адрес, заявил: «Ты, Франко, который столько раз водил нас к победе, веди нас снова в бой за честь Испании!» — а сам будущий каудильо расплакался. Взволнованный такой встречей, Франко немедленно увеличил жалованье легионерам на одну песету в день. Однако он твердо стоял ногами на земле. Отдавая себе отчет в острой нехватке самолетов и другого современного вооружения у восставших, он отправляет Луиса Болина, корреспондента «АВС», который арендовал самолет в Лондоне, и Бебба в Лиссабон с отчетом для Санхурхо, а затем в Рим просить срочной помощи для мятежников у Муссолини.
По возвращении в Африку Франко не имел нужды отчитываться ни перед гражданской, ни перед военной властью. Своевременный уход со сцены Кальво Сотело открыл перед ним такие горизонты в политике, о которых прежде можно было только мечтать. Головокружительная скорость, с какой другие соперники устранялись с его пути, утвердила генерала в убеждении, что ему помогает Божественное провидение. С того момента, как он решился разделить участь восставших, Франко не будет брать в расчет возможность серьезной оппозиции ни со стороны своих сторонников, ни противников, ни даже внутри самого себя. Его бодрый клич «Испания спасена!» и требование «слепо верить, никогда не сомневаться, быть энергичным и решительным, потому что этого требует Родина», звучат как предупреждением сомневающейся части его Я, так и посланием надежды для повстанцев. Это было победным завершением диалога, который он
вел с самим собой на протяжении весны 1936 года, а можетг и всей жизни. В сценарии фильма «Мы» Франко проецирует свою двойственность по отношению к восстанию на Луиса Эчеверрию, лучшего друга Хосе и мужа Исабелиты. Когда Луис выражает сомнение насчет восстания, Хосе, главный герой, твердо заявляет: «Мы должны идти дорогой чести. И если мы не можем найти ее, значит, должны делать то, что более всего причиняет нам боль, с уверенностью в правильности такого пути. Именно в этом я вижу наш долг». Является ли сие, как отмечает Губерн в своем анализе сценария, колебаниями мазохистского Я, самоистязанием или нет, эти чувства отражают суть измученного разума Франко. Гитлер написал по поводу Второй мировой войны: «Я глубоко убежден, что эта борьба ни на йоту не отличается от той битвы, которую я когда-то начал вести внутри себя самого». Его слова вполне можно отнести и к Франко, и к гражданской войне в Испании.
Глава 4
МОЕ, ВСЕ МОЕ!
Франко и гражданская война: июль 1936 — март 1937
В Марокко война собрала осколки боевого духа армии в крепко сжатый кулак и занесла его для удара.
Ортега-и-Гассет
Лидер найдется среди личностей, обладающих наименьшей способностью к сопротивлению, наименьшим чувством ответственности и, в силу своей неполноценности, наибольшим стремлением к власти. Он отпустит вожжи, все сдерживающие центры, и толпа последует за ним неудержимой лавиной.
Карл Юнг
Лишенный Республикой воинского звания 19 июля, посте начала мятежа, Франко оказался в числе всего лишь четырех генералов из двадцати одного, находившихся на действительной службе, которые заявили о своем неподчинении правительству. Остальные были Кейпо, Годед и Кабанель-яс. Законное правительство пользовалось поддержкой некоторых подразделений Гражданской гвардии и большой части армии (ее лояльность оно не решилось проверить на мятежниках). Многие офицеры выступили против власти под лозунгом: «Франко с нами. Мы победим!» — но это были в основном средние чины. Старшие армейские офицеры в большинстве своем не хотели рисковать ни пенсиями, ни жизнями, как это было раньше. Даже не все «африканцы» с энтузиазмом восприняли мятеж. Как отмечает Рэймонд Карр, «если бы все офицеры присоединились к мятежу, их победа была бы делом буквально нескольких дней». На деле Франко добился лишь локального успеха. По словам Ронал-да Фрэзера: «Мятеж вызвал трещины в здании Республики, но не сокрушил ее. В этом смысле он потерпел неудачу».
Хотя во многом худшие опасения Франко оправдались, внешне он выражал абсолютную убежденность в благородстве и правоте дела мятежников и полное презрение к военной силе и моральному состоянию противника. (Вероятно, самый тяжелый удар Франко получил от лондонской «Таймс», написавшей о нем как «о брате известного авиатора».) Для поднятия духа мятежников он подкреплял свои речи угрозами «примерного наказания» сторонников Народного фронта и заверениями, что «не будет прощения» тем, кто продолжает оказывать сопротивление восставшим. Его «железная воля» и неистощимый оптимизм, который так контрастировал с самоубийственным пессимизмом Молы, придали новый импульс мятежу. Руководя операциями из своего главного штаба, устроенного в верховном комиссариате в Тетуане, генерал вскоре ни у кого не оставил сомнений насчет того, сколь жестоким и неумолимым он собирался быть. Его кузена, майора Рикардо де ла Пуэнте Баамонде, взяли в плен, когда тот пытался удержать аэропорт Тетуана в руках республиканцев. К несчастью для Рикардо, с раннего детства они с Франсиско были близки, как родные братья. Однако, как и в случае с Рамоном, у них начались идеологические разногласия. Как-то во время спора Франсиско даже бросил ему: «Когда-нибудь мне придется расстрелять тебя!» И он сдержал слово. Франко и пальцем не пошевелил для спасения кузена, когда мятежники арестовали, судили и расстреляли его. Но семья Франко оказалась отнюдь не единственной, разорванной мятежом. Декларируя свое стремление захватить власть, в том числе и для того, чтобы противостоять разрушению семьи, вызванному реформами Республики, на деле мятежники способствовали раздору среди ближайших родственников по всей Испании.
В Мадриде премьер Касарес был вынужден подать в отставку. И хотя деморализованный Асанья считал, что «слишком поздно делать что-либо», он вместе с остатками кабинета министров сформировал переходное правительство, которое возглавил Диего Мартинес Баррио. Попытка нового премьера умиротворить восставших, пообещав принять немедленные и энергичные меры против добровольческой Народной милиции и запретить забастовки, лишь укрепила уверенность мятежников в своих силах. У них кровь играла в жилах, самомнение все возрастало, и они не собирались соглашаться ни на компромиссные решения, ни на предложения высоких постов со стороны дискредитировавшего себя правительства.
Беспомощного Мартинеса Баррио буквально через несколько часов сменил профессор Хосе Хираль. Последователь Асаньи, Хираль, скрепя сердце сделал решающий шаг, вооружив рабочих. Вакуум власти в центре означал, что революционные комитеты в данной ситуации могли захватить политическую инициативу, позволив части экстремистских элементов в своей среде ответить зверствами на десятилетия угнетения, политической изоляции и жестокости со стороны правых. Революционное рвение и допущенные левыми крайности предоставили восставшим военным столь необходимую возможность задним числом оправдать мятеж. Не имея сколько-нибудь связного политического плана, заменяемого расплывчатыми лозунгами типа «восстановим порядок и спасем Испанию от анархии», мятежники ухватились за призрак «коммунистической революции» — которой не существовало, пока они ее сами не спровоцировали, — чтобы пропагандистски обосновать необходимость и неизбежность восстания. Но разгромить республиканских добровольцев оказалось не так просто, как ожидал Франко.
Не нюхавшая пороха, совершенно не опытная Народная милиция на голом энтузиазме одержала несколько неожиданных побед, которые поставили крест на намерении Молы пройтись маршем с севера прямо на Мадрид. А взбунтовавшиеся против офицеров нижние чины сохранили Республике военно-морской флот, который держал под контролем
Гибралтарский пролив. И хотя с помощью нескольких небольших судов через пролив все же было переправлено достаточно «африканцев», чтобы обеспечить успех восстания в Кадисе, Альхесирасе и Ла-Линеа, Франко и основные силы его армии самым позорным образом застряли в Марокко. И если бы Республике удалось удержать их там, мятежники наверняка проиграли бы войну.
А в самой стране традиционно правые регионы — города и сельские районы, где духовенство обладало большим влиянием, — склонялись на сторону мятежников, в большей же части деревень Андалусии власть, при горячей поддержке безземельных крестьян, захватили левые. Пока республиканское правительство в бессилии разводило руками, народные силы заложили основы автономного управления в крупных городских и промышленных центрах, включая Мадрид, Валенсию, Барселону, Малагу и Бильбао. В результате противоречий и разброда в офицерском корпусе в Мадриде Республика сохранила столицу. Генерал Фанхуль был арестован республиканской милицией. Вдохновленные успехом в столице, группы Народной милиции волнами направились на юг, в направлении Толедо, и на северо-восток, в Гвадалахару, где на время верх одержали мятежники. В Толедо полковник Хосе Москардо, собрав около тысячи карлистов и фалангистов, укрылся в Алькасаре, дворце-крепости, возвышавшейся над городом и рекой Тахо, предварительно взяв в заложники гражданского губернатора, а также жен и детей нескольких известных левых деятелей. В то же время Гвадалахара была легко отвоевана частями Народной милиции.
В Гранаде заместитель Франко в Сарагосе, полковник Мигель Кампинс, поначалу отказался ввести военное положение и в течение двух дней раздумывал, прежде чем присоединился к восставшим. И хотя затем он все же это сделал, полковник был осужден за «мятеж» и расстрелян 16 августа неумолимым Кейпо де Льяно, который решительно отверг настоятельные просьбы Франко о помиловании. Кроме Кам-пинса, к ужасу генерала Посаса, весь офицерский корпус гарнизона Гранады и гражданские гвардейцы присоединились к восставшим. После нескольких дней боев город был взят.
Пока республиканцы изыскивали возможности для организации сопротивления в Валенсии, Севилья была занята Кейпо де Льяно, выступившим по радио с решительным заявлением: «Мы пойдем до конца и будем защищать наше правое дело до тех пор, пока в Испании останется хоть один марксист». Захват аэропорта оказал неоценимую услугу делу мятежников. Однако Франко был отнюдь не в восторге от того, как резво действовал Кейпо де Льяно, заложивший основу для установления личной власти в Севилье, где вскоре его портреты украсили город.
В Басконии роль Гражданской гвардии оказалась решающей, как и предсказывал Франко. В районах, где она осталась верной Республике, восстание было истреблено на корню. Там же, где Гражданская гвардия уклонялась от исполнения долга или активно поддерживала мятежников, Народный фронт терпел поражение.
В Галисии Ла-Корунья была взята путчистами 20 июля, после чего они захватили и всю провинцию. В тот же день в Эль-Ферроле бой между республиканскими военными моряками и восставшими сухопутными войсками завершился захватом последними нескольких боевых кораблей и главной морской верфи. Отец Франко, который проводил лето в родном доме с Агустиной, застрянет в Эль-Ферроле до конца войны.
Провинция Леон также попала в руки восставших. Однако к тому времени, как генерал Годед дошел до Барселоны, мятеж там уже был подавлен анархистами и членами Гражданской гвардии, оставшимися верными Республике. Поражение Годеда оказалось серьезным ударом для повстанцев и обеспечило верность Республике всей Каталонии. В Барселоне революционные толпы маршировали по улицам, чтобы продемонстрировать, по словам одного молодого социалиста, «власть и силу масс». Как без обиняков выразился Джон Уитекер из чикагской «Дейли ньюс»: «Если бы мне пришлось в нескольких словах резюмировать социальную политику националистов, это было бы чрезвычайно просто: массы превосходили националистов в количестве, последних пугала перспектива того, что им придется перевоспитывать и учить эти массы, и потому они задались целью уменьшить их количество».
В результате трех дней борьбы Испания оказалась разделена волнистой линией, идущей от верхней половины испано-португальской границы в северо-восточном направлении вплоть до испано-французской границы примерно в трехстах километрах от Средиземного моря. За исключением прибрежной полосы, охватывавшей Астурию, Сантандер и две прибрежные баскские провинции, все, что находилось к северу и западу от этой линии, оказалось в руках националистов (а также Марокко, Канарские и Балеарские острова, за исключением Менорки). Территории к югу и востоку, кроме Севильи, Гранады, Кордовы, Кадиса и Альхесираса, оставались под контролем Республики.
В Испании восставшие с нетерпением ожидали прибытия генерала Санхурхо из Португалии, куда был послан транспортный самолет «Быстрый дракон», чтобы переправить генерала через границу, после чего он смог бы повести войска на штурм столицы. Но Санхурхо — «рифский лев» — пришел в восторг от знаменитого воздушного аса, Хуана Антонио Ансальдо, который прибыл, чтобы засвидетельствовать свое глубочайшее почтение новому «главе испанского государства». Взволнованный и польщенный генерал предпочел лететь на небольшом самолетике Ансальдо «Ночной мотылек». Вполне возможно, что комбинация из тяжеловесного генерала и его чемоданов, набитых под завязку парадной формой, орденами и медалями, заготовленными для триумфального въезда в столицу, не позволила самолетику набрать высоту — он зацепился за верхушки деревьев. Генерал Санхурхо погиб мгновенно. Это случилось 20 июля. У Франко теперь осталось только два потенциальных соперника: Мола, «дирижер» восстания, и Хосе Антонио Примо де Ривера, отбывавший заключение в тюрьме в Аликанте. Поскольку Франко с африканскими частями застрял в Марокко, переворотом непосредственно в Испании руководил Мола.
Объявив о введении военного положения в Памплоне, 23 июля в Бургосе Мола создал Хунту национальной обороны из семи членов под номинальным руководством генерала Кабанельяса при некоторой поддержке гражданской монархической группы «Испанское обновление». Франко был назначен главой вооруженных сил Хунты на южном фронте. Поскольку на деле умеренный Кабанельяс являлся подставной фигурой, не обладавшей никакой властью, оставалось неясным, к кому из Хунты следовало обращаться по серьезным вопросам. И между главными фигурами, в частности Франко и Кейпо де Льяно, вскоре вспыхнула вражда.
Через десять дней после начала противозаконного восстания его лидеры объявили защиту Республики преступлением — «военным мятежом», караемым смертью. Поначалу, чтобы расстрелять человека, не устраивали официальные суды, но со временем учредили военные трибуналы специально для того, чтобы отправить на смерть огромное количество людей за подобного рода «преступления». Только за первые шесть месяцев были казнены свыше пятидесяти тысяч испанцев. Наиболее печально известным и лишенным всякой логики стал расстрел Гарсии Лорки, находившегося в то время на пике своей поэтической славы.
По словам Хью Томаса, репрессии «являлись политическим актом, на который решилась группа отчаявшихся людей, которые поняли, что их первоначальный план провалился». «Нам необходимо, — громогласно объявил все более терявший голову Мола, — создать повсеместно атмосферу террора. Мы должны всем показать, что именно мы являемся хозяевами положения... Любой, кто тайно или явно поддерживает Народный фронт, должен быть расстрелян». В деревнях и поселках по всей Испании группы фалангисгских экстремистов, обычно по ночам, вытаскивали людей из домов — зачастую соседей или родственников, расстреливали их большими группами и поспешно закапывали в общих могилах. Все пути были отрезаны. Когда в конце июля 1936 года французская пресса заговорила о мирных инициативах Прието, чтобы положить конец бойне, генерал Мола взревел: «Переговоры? Никогда! Эта война должна закончиться полным уничтожением врагов Испании».
Стремление Франко обеспечить себе главную политическую и военную роль в то время серьезно ограничивалось невозможностью перевезти его войска на материк, прорвав республиканскую блокаду. Эта проблема была решена лишь частично, когда генерал Кинделан — бывший начальник Рамона в военно-воздушных силах Испании, — которого Франко назначил главой своего весьма хилого воздушного флота, предложил перевозить войска в Севилью на имевшихся в его распоряжении четырех самолетах. Дело оказалось очень трудным и продвигалось страшно медленно. Франко четко сознавал, что для перевозки всех его частей через Гибралтарский пролив решающим фактором могла стать иностранная помощь.
И он, и Мола принялись обхаживать фашистские державы. Но просьба последнего о поставке патронов для винтовок впечатлила немцев гораздо меньше, чем нахальные требования Франко к тем же немцам и итальянцам предоставить ему самолеты для перевозки африканских войск на Пиренейский полуостров. Когда итальянцы убедились, что французы не будут поддерживать Республику, они предоставили в распоряжение Франко двенадцать бомбардировщиков. Правда, два из них разбились по пути, а один сбился с курса из-за сильного ветра. Франко предпринял также дерзкую попытку добиться помощи от немцев, направив своих эмиссаров к самому фюреру в Байрейт. 25 июля они передали ему письмо, в котором в нескольких строках просили винтовки, боевые и транспортные самолеты, а также зенитную артиллерию для дела националистов. Разгоряченный просмотром вагнеровской оперы и сам взвинченный неистовым антибольшевизмом, Гитлер отбросил всякую дипломатическую осторожность. Вопреки мнению своих советников, которые опасались, что вмешательство в испанские дела приведет к конфликту с Великобританией, он согласился послать Франко двенадцать самолетов. Секретная операция получила название «Волшебный огонь». Как писал Хью Томас, почти все немцы, отправившиеся в Испанию, были молодыми нацистами, считавшими, что «нашими врагами являются красные и вообще все большевики в мире».
Ободренный положительной реакцией немцев, 27 июля Франко радостно заявил одному американскому репортеру: «Я возьму столицу и избавлю Испанию от марксизма во что бы то ни стало». А когда ужаснувшийся репортер заметил, что для этого придется «расстрелять половину Испании», Франко холодно повторил: «Я же сказал, любой ценой». К тому моменту тринадцать миллионов испанцев находилось в республиканской зоне и одиннадцать миллионов — в зоне, контролируемой мятежниками. Цена была действительно высокой
Даже с фашистской помощью переброска войск по воздуху заняла довольно много времени. К ужасу своих советников, 5 августа Франко решил отправить часть африканских войск морем из Сеуты, придав им, правда, воздушное сопровождение и назвав все это «победоносным конвоем». Франко вполне оправданно посчитал, что, не располагая опытными офицерами, республиканские корабельные экипажи не выдержат атак с воздуха. Начиная с этого момента контроль националистов над проливом обеспечат восставшим регулярные поставки оружия и боеприпасов от Гитлера и Муссолини. Передав Оргасу командование в Марокко, полный энтузиазма Франко 6 августа прилетел в Севилью, где и развернул свой штаб в великолепном дворце. К нему присоединились Пакон, генерал Кинделан и генерал Мильян Астрай, который, узнав о восстании, немедленно прилетел из Аргентины. Обустроив свой генеральный штаб, Франко занялся изучением военной ситуации.
Положение республиканцев стало выглядеть тревожным после опубликованного 9 августа коммюнике, в котором главные европейские державы заявили о политике «невмешательства», в результате которой запрещался экспорт в Испанию любых военных материалов. Когда потенциальные союзники законного испанского правительства, Франция и Советский Союз, поставили свои подписи под этим документом вместе с другими европейскими странами, включая Великобританию и Португалию, судьба Республики была предрешена. Гитлер и Муссолини также подписали договор, но ни один из них не чувствовал себя обязанным выполнять его условия. И в то время как помощь Франции Республике практически прекратилась, военные поставки стран «оси» превратили не слишком успешный переворот в затяжную и опустошительную гражданскую войну.
Адмирал Канарис, глава немецкой военной разведки, кстати, бегло говоривший по-испански, и генерал Марио Роатта, возглавлявший итальянскую военную разведку, координировали помощь мятежникам. К концу августа они договорились, что все поставки будут направляться исключительно Франко. Став единственным лидером националистов, пользующимся международной поддержкой, он сумел перехватить у Молы политическую инициативу. Франко также возглавил общее руководство военными действиями, периодически прилетая на линию фронта, а также навещая Молу на «Дугласе» DC-2. Но, хотя успехи Франко в Марокко и поддержка карлистами Молы в Наварре, на севере Испании, и открыли возможность националистам для марша с севера и с юга на Мадрид, с самого начала их военные усилия наталкивались на значительные трудности.
Вскоре стало ясно, что лидеры восставших расходились не только в долгосрочном политическом видении и военных приоритетах на ближайшее будущее, но и в стиле общения с людьми. Если Мола и Кейпо де Льяно руководили из своих плоХо организованных, содержавшихся в полнейшем беспорядке штабов в Бургосе и Севилье, в которых весело толпились посетители, то Франко с самого начала окружил себя телохранителями, которые подвергали тщательному осмотру каждого визитера. Чем большей власти он добивался, тем больше проникался убеждением, что его персона становилась главной мишенью для потенциальных убийц. Хотя в начале августа два его главных политических соперника, генерал Годед в Барселоне и генерал Фанхуль в Мадриде, были расстреляны республиканцами, что вполне могло дать новый импульс амбициям Франко, это отнюдь не принесло ему душевного успокоения. Даже журналисты подвергались тщательному надзору во время интервью, который осуществлялся гвардейцами через открытую дверь при помощи специально установленного зеркала. И когда в конце концов посетитель получал доступ к Франко лично, то вместо ужасного воителя перед визитером оказывался некто, похожий на «волшебника из страны Оз»: человечек довольно малого роста, с блестящими глазами, большим животом, курьезно женоподобный и, по выражению Джона Уитекера, «обезоруживающе невыразительный». Вот как его описывал этот журналист: «У него почти женская рука, постоянно влажная от пота. Чрезвычайно робок... Голос у него высокий и визгливый, приводящий собеседника в некоторое замешательство, ибо говорит он очень тихо, почти шепотом. И хотя Франко — чрезвычайно приятный собеседник, ни на один мой вопрос он не ответил откровенно. Я видел, что он прекрасно понимал все, даже самые завуалированные нюансы вопроса. Я никогда не встречал более уклончивого собеседника».
Однако сколько бы личных недостатков ни было у Франко, прибытие в Испанию страшных африканских войск нанесло роковой удар боевому духу республиканцев и придало огромную уверенность в своих силах мятежникам. А после использования мавританских частей в Астурии против гражданского населения Франко для себя в уме уже превратил испанских рабочих в «неиспанцев». Когда он говорил о Родине, то имел в виду группу своих правых сторонников, главным образом состоятельных католиков. Это не касалось приверженцев Народного фронта, либералов и рабочего класса. Его поведение не предвещало ничего хорошего испанскому народу. Ударные африканские части численностью в восемь тысяч человек находились под командованием подполковника Ягуэ. Его подчиненные, подполковники Асенсио, Дельгадо Серрано, Баррон и Телья, а также майор Кастехон, все ветераны марокканской кампании, возглавляли отдельные бандеры легионеров и части «регуларес». Поддерживаемые с воздуха немцами и итальянцами, мавры и легионеры прочесывали территорию страны к северу от Севильи в направлении Мадрида, сметая все на своем пути, расстреливая пленных, насилуя женщин, причем мавры зверски уродовали трупы. Меньше чем за неделю они покрыли свыше двухсот километров, гоня перед собой волну перепуганных беженцев. И хотя такие жесточайшие методы были вызваны скорее психологическими, чем военными соображениями, они оказались чрезвычайно эффективными. С их помощью оказалась не только удовлетворена жажда крови африканских бойцов и уничтожено огромное количество врагов и потенциальных свидетелей, но и посеяны ужас и паника в рядах противника. Как писал Джон Уитекер: «Использование мавров и массовые казни пленных и гражданского населения оказались козырными картами» мятежников.
Вполне понятно, для чего Франко нужны были марокканцы. Но вот почему они сражались за него, понять сложнее. Трудно согласиться с мифом националистов, будто мусульманские части охотно рисковали своими жизнями ради спасения испанского христианства. Гораздо более вероятным представляется другое объяснение: марокканские солдаты сражались не за генерала Франко (который, кстати, уничтожил большое количество их мусульманских собратьев) и не за христианские идеалы, а просто за деньги и трофеи, а также — по слухам — за купоны на «насилие над женщинами». Возможно также, что приманкой для марокканцев стало обещание автономии, пробудившее, в свою очередь, самый живой интерес у немцев, давно жаждавших иметь собственный форпост в Средиземноморье. Тогда получается, что Республика, не сумев ответить на готовность марокканских националистов к сближению, сама и подтолкнула их на установление тесных связей с Франко. В результате, каковы бы ни были их мотивы, именно эти мусульмане и сыграют решающую роль в «христианском крестовом походе» против законной власти.
Хотя отряды рабочей милиции из Мадрида и задержали северную армию генерала Молы, не нашлось никого, кто смог бы остановить африканские части. 10 августа Ягуэ взял Мериду, важный коммуникационный центр между Севильей и Португалией. Однако вместо того, чтобы продолжать наступление на Мадрид, Франко приказал вновь повернуть на северо-запад в сторону Португалии и взять Бадахос, главный город Эстремадуры. Франко настаивал на необходимости этого маневра, чтобы встретиться с силами генерала Молы, объединить обе контролируемые националистами территории и освободить доступ к границе с Португалией, где в то время правил Салазар. Однако тем самым он дал правительству время для организации обороны Мадрида.
Когда националисты 14 августа подошли к Бадахосу, плохо организованные рабочие, оборонявшие город едва ли не серпами и охотничьими ружьями, оказали неожиданно серьезный отпор. Их сопротивление вызвало особую ярость у марокканских частей. Легионеры и мавры согнали на стадион для корриды свыше двух тысяч пленных и «под горячую руку» всех расстреляли. Казни продолжались несколько недель, улицы были завалены трупами. Когда Уитекер спросил Ягуэ, почему он расстрелял пленных, тот резко ответил: «Вы что думали, я захвачу с собой четыре тысячи пленных, когда моя колонна быстрым маршем идет на Мадрид? Или оставлю их на свободе у себя в тылу и позволю, чтобы Бада-хос снова стал красным?»
В этом дорогостоящем маневре, распылявшем силы и мало способствовавшем общему успеху, проявились как механизмы психологической защиты Франко, так и его военные приоритеты. Навязчивое стремление генерала уничтожить любые очаги сопротивления в «оккупированных зонах», даже если из-за этого зачастую отвлекались силы от Мадрида, а война без нужды затягивалась, имеет скорее психологическое обоснование, чем политическое. Возможно, проецируя на врага свои собственные качества, внушавшие ему отвращение — ощущение беспомощности, мстительность и ненависть, — он пытался их уничтожить. Быть может, Франко ненавидел слабых и обездоленных, потому что они напоминали бессильную часть его Я, которую ему все больше хотелось забыть.
Так или иначе, чем больше людей Франко убивал, тем больше становился его страх перед наказанием и возмездием и тем больше свидетелей должно было умереть. Его террор имел и практическую выгоду — как выразился Муссолини, «мертвецы не любят болтать». К тому же массовая бойня в Бадахосе — первая из многих — стала недвусмысленным посланием населению Мадрида относительно последствий сопротивления. И кроме того, своими жестокими действиями Франко и националисты заработали большое уважение в нацистской Германии, где его покровители жаждали, чтобы «генералы обеспечили гарантии победы не только на военном фронте, но и устроили тотальную чистку по всей стране».
Националисты, подобно немецким нацистам, творчески использовали дарвинистские аргументы, чтобы оправдать свою мстительность, и представляли ее похвальным желанием очистить Родину-мать от красных «носителей заразы», которые принесли в страну «чуждые, вредные элементы... Испания сама должна очиститься от этой заразы в крови». Убивая простых испанцев, они утверждали, что сделают все возможное, чтобы очищенная страна «вышла новой и сильной из этого испытания». У Франко здесь имелась своя выгода: его жажда разрушения становилась защитным механизмом, превращала желание умереть в стремление жить.
Эти биологические императивы тем не менее не могли замаскировать личные зависть и соперничество, которые разгорелись в зоне, контролируемой националистами. В глазах монархистов Мола уже посадил жирную кляксу на свой политический портрет. Он приказал выслать дона Хуана из Испании, который вернулся в страну, чтобы сражаться на стороне националистов. Дон Хуан де Бурбон — третий сын Альфонса XIII, стал наследником испанского трона в 1933 году после того, как два его старших брата отреклись от прав на престол. Несправедливое решение Молы привело в ярость офицеров-монархистов, которые немедленно и, как потом окажется, не слишком умно перевели стрелки своей политической лояльности на Франко. Тот не преминул воспользоваться их поддержкой. В Севилье он взволнованно возвестил собравшейся толпе о своем личном решении сражаться под монархистским красно-желто-красным знаменем: «Вот оно, это знамя, оно ваше; нас хотели его лишить... Это наше истинное знамя, которому все мы присягали, за которое умирали наши отцы, знамя, многократно покрытое славой». И хотя этот жест был вдохновлен как личной неприязнью к Кейпо де Льяно, убежденному антимонархисту, так и политической проницательностью, он обеспечил Франко огромную поддержку консерваторов. Двумя неделями позже монархистское знамя было принято в качестве официального на всей контролируемой националистами территории.
Когда 16 августа Франко прилетел в Бургос, чтобы обсудить с Молой ход военных действий, местное население оказало ему восторженный прием. Оба генерала осознавали необходимость иметь единое военное командование, поддерживаемое централизованным дипломатическим и политическим аппаратом, но в тот момент не было принято никакого решения. Тем не менее монополия Франко на зарубежные военные поставки и активная деятельность его пресс-центра давали все основания для того, чтобы иностранная пресса, симпатизирующая националистам, называла его «верховным главнокомандующим» и «главой испанского государства».
К концу августа 1936 года тяжелые нагрузки, растущая ответственность и угнетающе действовавшее сопротивление Республики произвели свой эффект — Франко перестал выглядеть харизматичным героем. Он вдруг как-то быстро постарел. Изменилось и его поведение. Отсутствие какой-либо законной, юридически оправданной власти на территории, контролируемой националистами, означало, что не было никого, чьим приказам он мог бы повиноваться, никого, кто милостиво улыбнулся бы его успехам и похвалил бы за исполнительность. И это явно тревожило Франко. Приезд в Испанию жены и дочери после двух месяцев пребывания во Франции не слишком повлиял на его расположение духа. Чтобы развеяться и не видеть перед собой язвительного и высокомерного Кейпо де Льяно, с которым он постоянно вступал в перепалки на повышенных тонах, Франко 26 августа решил перевести свой штаб из Севильи в Касерес, в элегантный дворец XVI века. Возвышенный, почти королевский образ жизни в нем резко контрастировал с хаосом и кровопролитием на поле боя.
Несмотря на пессимизм Франко, мятежники значительно упрочили свое положение. После падения Бадахоса войска под командованием Ягуэ тремя колоннами устремились в направлении Толедо и Мадрида. 27 августа они соединились у последнего значительного города на пути к столице, Талавера-де-ла-Рейны. После недели тяжелых боев 3 сентября город был взят, что ознаменовалось еще одной кровавой бойней. Как позже вспоминал Джон Уитекер: «Казалось, что убийства простых рабочих и крестьян никогда не кончатся». Чтобы стать жертвой, мятежников, «достаточно было иметь профсоюзный билет, слыть масоном или даже просто голосовать за Республику». Да и выяснять политические взгляды противника оказалось совсем не обязательно. Печально известный капитан Гонсало де Агилера писал приятелю: «К примеру, тип, вставший перед тобой на колени у кафе, чтобы почистить тебе сапоги, по определению должен быть коммунистом. Так почему бы просто не влепить ему пулю, и дело с концом? Никакой суд тут не нужен, его вина очевидна из его профессии».
На юге генерал Хосе Энрике Варела сумел установить линию связи между Севильей, Гранадой, Кадисом и Альхесирасом. Однако ему пришлось прервать наступление на Малагу, чтобы заняться обороной Кордовы. А тем временем недавно сформированный корпус под командованием подполковника Дельгадо Серрано расчищал север и, двигаясь к югу от Авилы, впервые установил оперативный контакт с находящимися южнее частями северной армии генерала Молы. Между тем сам Мола предпринял наступление на баскскую провинцию Гипускоа (ключевую аграрно-промышленную зону), задавшись целью изолировать ее от Франции. Решение итальянцев и немцев увеличить помощь националистам привело в начале сентября к падению Ируна и Сан-Себастьяна, что перекрыло баскам доступ к французской границе по западным склонам Пиренеев. Территория, контролируемая националистами, теперь представляла собой единый блок от Пиренеев, включая Кастилию и восточную Испанию, до самого юга. В результате этих поражений республиканцев беспомощное правительство Хираля было заменено новым, но вряд ли намного более эффективным кабинетом, возглавляемым Ларго Кабальеро.
Однако наступление националистов из Талаверы сдерживалось политикой самого Франко, старавшегося тщательно очистить от левых каждый квадратный метр территории. От этого своего метода генерал не отступал. Подобно Гитлеру, он считал отступление признаком женской слабости. Отчаянные контратаки республиканской милиции вызывали особенно злобную реакцию африканских частей. Именно тогда Джон Уитекер впервые стал свидетелем массовой бойни. Стоя на главной улице городка Санта-Олалья в долине реки Тахо, он видел, как на семи грузовиках привезли около шестисот республиканцев, изможденных, безразличных к своей судьбе, некоторые еще сжимали в руках жалкие белые флажки, символы сдачи в плен. И пока некоторые офицеры-франкисты протягивали пленным сигареты, пара мавританских кавалеристов устанавливала два пулемета. Уитекер с содроганием вспоминает: «Пленники увидели пулеметы. И я их увидел. Людей сотрясла одна общая судорога, стоявшие в первых рядах, онемев от страха, отшатнулись назад с искаженными лицами и широко открытыми от ужаса глазами». Словно в кошмарном предвосхищении того, что затем будет происходить при нацистах, какой-то мавр, давясь от смеха, наяривал на старой пианоле мелодию «Сан-Франциско», когда «внезапно оба пулемета застрочили стаккато короткими неторопливыми очередями по десять—двенадцать выстрелов, прерываемыми мертвой тишиной». Застывший от ужаса журналист так и не смог понять ни тогда, ни много позже, «почему пленники, не пошевельнувшись, приняли это. Я всегда думал, что они могли бы ринуться на пулеметы, попытаться сделать что-нибудь, хоть что-то, в конце концов. Мне кажется, в момент сдачи в плен они теряют последние остатки воли к сопротивлению».
Вскоре после этого расстрела Питер Кемп, молодой выпускник Кембриджа, вступивший в армию на стороне националистов, попал на службу в Санта-Олалью. Его тоже поразила рутинная жестокость, ставшая обычным явлением в африканских частях. Однажды, обнаружив, что двое из его людей упились вдрызг, командир части лейтенант Карлос Льянсиа («своеобразная смесь любезности и жестокости») взревел: «Хватит с меня пьянок в этом эскадроне! Я этого больше не потерплю, вот увидите». И тут же свалил одного из пьяных солдат ударом кулака, выбив большую часть передних зубов. Затем повернулся ко второму и отстегал его хлыстом до полусмерти. Вернувшись к первой жертве, одним рывком поднял солдата на ноги и, не обращая внимания на вопли несчастного, принялся стегать его стеком по лицу, пока тот не упал без сознания рядом с товарищем... Обоих виновников затем пинками подняли на ноги и заставили выпить по пол-литра касторового масла».
Македа, соседний с Санта-Олальей городок, пал под натиском частей Ягуэ 21 сентября. На северо-восток от них открывался путь к Мадриду, Толедо оставался восточнее. И хотя войска под командованием Молы, испытывавшие большие трудности на мадридском фронте, с нетерпением ожидали прибытия африканских частей, Франко преследует навязчивая мысль об осажденных гарнизонах Толедо и Санта-Мария-де-ла-Кабесы. Эмоциональное значение, которое имело для Франко освобождение осажденных, широко проявилось еще в марокканской кампании. Возможно, как подсказывает Тевеляйт, замок в Толедо (и все замки вообще) у Франко ассоциировался с «женщиной высокого происхождения с безупречной репутацией». Подобные ассоциации прослеживаются и в фильме «Мы», когда Хосе замечает матери, что камни Толедо «не только говорят о военных эпизодах и религиозных событиях, но также о женских радостях и муках». Он рассказывает историю о том, как жена короля Альфонса XI в страхе смотрит с башни на приближающуюся арабскую армию. И, хотя «даму охраняли всего несколько рыцарей», арабское войско только отсалютовало «беззащитной даме» и проследовало мимо. Хосе также вспоминает случай, когда жена Педро I Кастильского (его мать) сидела в темнице, пока «король [его отец] занимался нечестивой любовью с доньей Марией де Падилья». Однако, какими бы ни были психологические мотивации Франко, в политическом отношении он твердо стоял на земле.
В военном плане ни для мятежников, ни для республиканцев осада замка Алькасар в Толедо не имела особого значения, но она превратилась в могучий символ героизма националистов. Вопреки настойчивым советам большинства своих офицеров Франко все-таки принял неожиданное решение повернуть войска с пути на слабо защищенную столицу, чтобы разблокировать осажденный гарнизон в Толедо. Перед началом наступления Франко освободил от командования Ягуэ под предлогом болезни и усталости последнего, а скорее по иной причине. Или потому, что подполковник ранее противился неудачному маневру Франко, рассеивавшему основные силы, или же генералу более требовалась политическая поддержка Ягуэ в предстоящей попытке стать генералиссимусом. Тот факт, что Ягуэ был произведен в полковники и возвращен в штаб Франко в Касересе, как будто подтверждает вторую версию. Из Андалусии вызвали Варелу, на которого и возложили непосредственное командование.
Хотя непредсказуемые и зачастую путаные решения Франко и вызывали замешательство у военных — особенно в Германии, — в политическом отношении они оказывались оправданными. По самым разным, едва ли не взаимоисключающим причинам Кинделан, Николас Франко, Оргас, Ягуэ и Мильян Астрай решили сформировать своего рода политическую команду, поставившую целью объявить Франсиско Франко верховным главнокомандующим, а затем и главой государства. Мильян верил в военную диктатуру, Ягуэ ожидал создания фашистского государства, Кинделан рассчитывал на реставрацию монархии, а Николаса — фигуру, прямо скажем, отнюдь не бескорыстную, подстегивали немцы, сделавшие политическую ставку на его брата. 21 сентября, пока брали Македу, Хунта национальной обороны и группа высших офицеров провели историческую встречу, на которой была обсуждена организация власти на территории, контролируемой националистами. Все генералы, кроме Ка-банельяса, были сторонниками единого командования, но старые офицеры постепенно отходили в тень. И, когда настал момент голосовать за избрание генералиссимуса, Кинделан предложил кандидатуру Франко, против которой никто не возражал: Мола и Кейпо де Льяно по политической наивности сочли это временной договоренностью, только на тот срок, пока шла война. Хунта, однако, публично не объявила о своем выборе, что указывает на отсутствие всеобщего энтузиазма по этому поводу.
Возможно, надеясь, что быстрая военная победа развеет все сомнения на его счет, три дня спустя Франко отдал приказ трем марокканским колоннам под командованием генерала Варелы круто повернуть и идти на восток, в направлении Толедо. Войска двинулись на юг во главе с Асенсио, Ка-стехоном и Барроном. Разочарованные тем, что их свернули с дороги на Мадрид, и разъяренные растущим сопротивлением уже гораздо лучше организованной республиканской милиции, солдаты африканских частей находились в особенно мстительном расположении духа. И то, что на время последнего штурма Алькасара не были допущены корреспонденты, которым до этого разрешалось свидетельствовать о самых кровавых военных событиях, не предвещало ничего хорошего жителям Толедо.
И 27 сентября состоялась ужасающая бойня, во время которой улицы оказались в буквальном смысле залиты кровью. По кровавым отпечаткам сапог можно было проследить развитие резни. Улицы усеяли обезглавленные трупы. По словам Уитекера, «националисты хвалились тем, сколько гранат было брошено против двух сотен беззащитных людей» в госпитале Сан-Хуан-Баутиста. Оправдывая зверства националистов перед пришедшим в ужас американским журналистом Уэббом Миллером, один офицер-франкист непринужденно объяснял ему: «Мы боремся с идеей. А идея находится в мозгу, и чтобы убить идею, надо убить самого человека. Потому нам приходится убивать любого, в ком засела эта «красная» идея». Еще очень много крови будет пролито для достижения данной цели.
Каким бы ни было решение Франко повернуть на Толедо — политическим или в основном эмоциональным, — с военной точки зрения оно обернулось потерей двух недель перед наступлением на Мадрид. Это позволило республиканцам реорганизовать оборону столицы и превратило простую для мятежников операцию в длительную и дорогостоящую осаду. Возможно, Франко мучило чувство раздвоенности, и, подобно Гитлеру во время Второй мировой войны, он находился в постоянном душевном напряжении, снедаемый жаждой победы и подсознательным стремлением к поражению. Впрочем, какими бы ни были психологические мотивы, у Франко имелась и политическая цель. Хотя и не слишком полезный для военной кампании, толедский маневр дал ему время, чтобы разрешить пикантный вопрос о единовластии в зоне националистов, а заодно сыграл и важную пропагандистскую роль.
27 сентября Франко, Ягуэ и Мильян Астрай приветствовали восторженную толпу с балкона Паласьо-де-лос-Голь-финес в Касересе. Высокий, тонкий голос Франко уносился ветром, но Ягуэ и Астрай громогласно и с пафосом объявили: «Наш народ, наша армия под руководством Франко идут к победе». Ликующая толпа хором скандировала: «Франко! Франко!» Эти сцены народного неистовства, широко освещаемые националистической прессой, несколько смягчили раздражение немцев, вызванное «необъяснимым» и «неоправданным» промедлением, которое дало передышку республиканскому правительству. Немцы поставили условие: «Все должно быть сконцентрировано в руках Франко, чтобы был один руководитель, держащий все под контролем».
В шаге от вожделенной короны их протеже, однако, стал неожиданно колебаться. 27 сентября Ягуэ бросил с раздражением: если Франко не поспешит взять все под свой контроль, легион будет искать другого кандидата. Франко же, нервируя своих сторонников, то требовал от Берлина, «чтобы его считали спасителем не только Испании, но и всей Европы от наступления коммунизма», то заявлял, что не хочет вмешиваться в большую политику. Страстно желая добиться расположения Гитлера, он в то же время постоянно оскорбляет Берлин, полностью игнорируя немецкие заявления.
К счастью для Франко, его «группа поддержки» действовала более целеустремленно. Когда 28 сентября в Саламанке была созвана вторая встреча руководителей восстания, чтобы утвердить новый статус Франко, сторонники выставили для него символический почетный караул. К тому времени пост генералиссимуса приверженцами Франко стал трактоваться значительно шире. Кинделан хотел, чтобы не только армия, флот и военно-воздушные силы подчинялись единому командующему, он настаивал также, что этот пост должен включать в себя и функции главы государства на весь период, «пока продолжается война». Тем самым Хунта национальной обороны, в сущности, подлежала ликвидации. В конце концов члены Хунты с большой неохотой одобрили декрет, согласно которому Франко «получает все полномочия главы нового государства». По его настоянию, в нем не было упоминания о каком-либо ограничении по срокам. И пока ликующий Франко отмечал «самый важный момент в своей жизни», раздраженный Кейпо, высказав нечто «непечатное» на его счет, заключил без энтузиазма: «Придется плясать под его дудку, пока мы его сами не остановим». С другой стороны, отчаявшийся Кабанельяс заявил: «Вы не подозреваете, что вы сами сотворили, потому что не знаете его так, как я, еще с тех пор, когда он был под моим командованием в африканской армии... И, если вы, как того желаете, отдадите ему Испанию, он будет считать ее своей собственностью и не позволит никому заменить его ни во время войны, ни потом до самой смерти». Как много позже подытожил Висенте Гуарнер, однокашник генералиссимуса по Толедо и тоже «африканец»: «Франко занял высшую позицию в стране, и, поскольку над ним нет старшего по званию, он с нее не сдвинется».
Но к несчастью для националистов, качества, которые сделали из Франко превосходного солдата и вознесли на головокружительную высоту в военной иерархии — повиновение, гибкость и безрассудная, саморазрушительная отвага под огнем, — превратят его в верховного главнокомандующего, намного менее впечатляющего. Как утверждает Норман Диксон, высококлассный командир должен генерировать необычные идеи, не искать одобрения своих действий у других лиц, печься о благе своих людей и уважать врага. Генерал Франко проявит полное отсутствие всех и каждого из этих качеств. Как обычно бывает с авторитарными личностями, подавленный страхом перед неудачей и постоянной тревогой, что его могут обвинить за любой промах, он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке под грузом огромной ответственности, присущей абсолютной власти.
Впрочем, в политическом отношении Франко был более проницательным. Как он скорее всего предвидел, решение повернуть армию на Алькасар принесло ему огромные дивиденды. В кинотеатрах всего мира зрители смотрели на экранах представление, где Франко изображал из себя воинственного героя средневековой Испании, осматривая место «славного освобождения». 30 сентября епископ Саламанки в своем выступлении обрисовал Республику как земную юдоль, полную ненависти, анархии и коммунизма, а территорию, контролируемую националистами, — как место на небесах, полное любви к Богу, где обитают герои и мученики за веру. И хотя защита церкви не являлась главной задачей, заявленной в первоначальной «Декларации о намерениях» восставших в 1936 году, с того момента, как стало очевидно, что война затянется, принятие христианской риторики было сочтено делом чрезвычайной важности. Похвалы церкви помогли националистам превратить братоубийственную войну в «христианский крестовый поход». Ватикан, возглавляемый папой Пием XII, с удовольствием оказывал в этом всяческую помощь. Благословив тех, кто защищал «честь и достоинство Господа от неистового взрыва диких сил, жестокость которых неподвластна разуму», он открыто противопоставил христианский героизм националистов варварскому атеизму Республики. Это предоставляло Франко столь необходимое для него одобрение высшей инстанции и помогало получить международную поддержку. В Великобритании многие консервативные члены парламента, убежденные, что католик Франко был «галантным христианским рыцарем», оказывали значительное давление на правительство, чтобы оно изменило британскую политику в пользу националистов. Да и в самой Испании тот факт, что священники появлялись на балконах рядом с генералами, способствовал превращению беспорядочного мятежа, цели которого сами восставшие декларировали в туманных и неконструктивных терминах (против коммунизма и против анти-Испа-нии), в политический и идеологический монолит.
Теперь, когда Франко представлял себя защитником не только Испании, но и веры во всем мире, пропагандистский штаб националистов стал разрабатывать церемонию его инаугурации в качестве главы государства. Она состоялась в Саламанке 1 октября 1936 года. Организованная фалангистами, стремившимися во всем подражать нацистской пропаганде, и жаждавшими власти политическими угодниками, это была чрезвычайно роскошная, триумфальная церемония. Причем проводили ее в самом начале раздиравшей страну на части гражданской войны, исход которой выглядел абсолютно неясным. Почетная гвардия и ликующие, выкрикивающие приветствия толпы выстроились вдоль улиц. В присутствии итальянских, немецких и португальских дипломатов Кабанельяс официально объявил Франко «главой испанского государства» и — с явной неохотой — вручил ему «символы абсолютной государственной власти». Благополучно оставляя без внимания тот факт, что три пятых Испании все еще оставались в руках республиканцев, возбужденный Франко обратился к толпе, встретившей его вскинутыми в фашистском приветствии руками: «Вы можете гордиться — вы получили расколотую Испанию, а сейчас вручаете мне Испанию, объединенную грандиозным и единодушным идеалом». Он заверил их, правда, несколько преувеличенно, учитывая его дальнейшее поведение: «Мой пульс будет ровным, моя рука не дрогнет...». И дальше — еще более лживо: «Мы позаботимся, чтобы в каждом доме был свет и у каждого испанца — кусок хлеба». Вечером того же дня он твердо заявил, что «государственные дела будут поручены экспертам, а не политикам».
Одной из первых политических акций Франко в качестве главы государства было укрепление связи с Гитлером, который немедленно послал своего эмиссара, чтобы поздравить генералиссимуса и прокомментировать нежелание фюрера признать правительство националистов до того, пока они не возьмут Мадрид. По возвращении в Берлин немецкий представитель с воодушевлением рассказал, «с какой сердечностью Франко выражал свое уважение к Гитлеру... о его симпатиях к Германии и.теплом приеме, который был оказан фашистскому эмиссару».
Но похоже, лидер националистов не очень себе представлял, что делать с полученной властью. И, поскольку гораздо проще было создать ее внешние признаки, чем фундаментальные основы государства, Франко перевел свой генеральный штаб в огромный епископский дворец в Саламанке. Богато украшенные мавританские гвардейцы, подобно римским статуям, охраняли покой своего шефа. Посетители должны были являться исключительно в парадной форме. На всю мощь заработала монументальная пропаганда, по образцу фашистской, изображавшая Франко как мудрого политика и гениального полководца. Был принят также термин «кауди-льо», испанский эквивалент немецкого — «фюрер» и итальянского — «дуче», то есть «вождь». Националистические газеты выходили под лозунгом — «Одна Родина, одно Государство, один Каудильо» (калька с немецкого — «Ein Volk, ein Reich, ein Fiihrer»). Повсюду появлялось изображение Франко — на экранах кинотеатров, на стенах магазинов, учреждений и школ.
Франко, как и остальным фашистским лидерам, эта внушительная пропагандистская машина помогала добиться в политическом отношении того, чего он страстно желал в личном плане: полного подавления своих тревог и сомнений, ощущения всемогущества. Раз уж он не мог приспособить внутреннее Я к требованиям реальности, то нужно было переписать реальность в соответствии со своими потребностями. Всеобщее публичное угодничество, в том числе и введение фашистского приветствия, одной из самых наглядных форм подчинения вождю, видимо, еще больше распалило у Франко чувство собственного предназначения. Однако, как и в случае со Сталиным, героизация себя самого шла рука об руку с шельмованием врага. Чем выше возносился Франко, с тем большей силой он должен был проецировать чувство собственной неполноценности и ненависти на врага, еще безжалостнее карать его. Как и у немецкого фюрера, у генералиссимуса появилась масса приспешников, жаждавших заниматься исполнением наказаний, позволяя ему лично дистанцироваться от убийств. Соучастие в преступлениях связывало их судьбы: если он терял власть, им пришлось бы отвечать перед несметным числом обвинителей.
Сразу же после церемонии в Саламанке ряд генералов, соратников Франко, получили новые назначения. Оргас стал верховным комиссаром Марокко, Мола — командующим вновь образованной северной армией, в которую влились африканские части, а Кабанельясу досталась не столь значительная должность всеармейского инспектора. Кейпо де Льяно продолжал командовать южной армией. В выборе политических советников в это время Франко был гораздо менее удачлив. Как и внутри у него самого, под внешней помпезностью и демонстративной мощью в политической машине националистов царил полнейший хаос.
Несмотря на декларируемые суровые взгляды на дисциплину, Франко с самого начала смотрел сквозь пальцы на опасные выходки своих назначенцев. И в этом не было ничего удивительного: хотя имелось предостаточно экстремистов в обоих участвовавших в гражданской войне лагерях, у националистов они стояли во главе режима. Франко не слишком угадал, поручив своему не отличавшемуся трудолюбием брату Николасу заниматься созданием государственной инфраструктуры и политической партии франкистов, которая должна была существовать отдельно от фаланги. Он обычно поздно заявлялся на работу, любил долго обедать и устраивать затяжные ужины с обильными возлияниями, заставлял посетителей часами дожидаться приема, что выводило из себя пунктуальных немцев. Расслабленный образ жизни Николаса резко контрастировал с тем, за который ратовал Ми-льян Астрай — его Франко по неосторожности назначил главой прессы и пропаганды. Этот самонадеянный генерал не слишком вдавался в профессиональные нюансы своей новой должности, что ярко проявилось в мае 1938 года, когда он по-детски похвастался перед Чиано, итальянским министром иностранных дел: «Наш каудильо по четырнадцать часов проводит за рабочим столом, не выходя даже пописать». В своем офисе он завел те же порядки, что и в Испанском легионе, вызывая несчастных журналистов по свистку, разражаясь истерическими воплями при малейшей промашке, грозясь расстрелять любого иностранного корреспондента, допустившего критику в адрес режима. Отличительными качествами, благодаря которым Мильян удостоился этой роли, были раболепная лесть Франко, «величайшему стратегу столетия» (генерал благоговейно предупреждал посетителей перед входом в кабинет каудильо, что они сейчас услышат «глас Божий») и демонстративное обожание смерти. Впрочем, то, что он находился под магией смерти, никого не удивляло в националистической Испании, где, по словам Джона Уитекера, «испанцы при Франко говорили о смерти любовно, лаская само слово, словно женщину, отталкивающую, но соблазнительную».
Помощники Мильяна его, мягко говоря, не выручали. Журналист Болин — которого в награду за то, что он в свое время смог арендовать в Лондоне самолет для Санхурко, сделали «почетным капитаном» — стал ответственным за корпус иностранной прессы. Гордо прохаживаясь в бриджах и высоких сапогах, похлопывая по винтовке, которую Болин не умел даже заряжать, он ворчал на запуганных журналистов, поплевывал на трупы казненных пленников и грозился расстрелять любого, чьи репортажи не были на достойном уровне. Один из его помощников, Игнасио Росалес, очень доходчиво разъяснял представителям прессы, ужасавшимся зверствам националистов, что «массы невозможно чему-либо научить... им нужна только плеть, ибо они подобны собачьей своре, которая слушается только плети».
Связи с прессой на севере оказались в руках печально известного капитана Гонсало де Агилеры, жуткие заявления которого (впрочем, вполне искренние) типа: «Мы будем убивать, убивать и убивать» — не прибавляли симпатии к националистам в корпусе иностранных журналистов. Корреспонденты предполагали, что его бесконечные, исполненные нетерпимости речи, произносимые на очень пристойном английском языке (он получил образование в Стоунихерсте), являлись выражением личной точки зрения капитана, на самом деле они отражали убеждения его шефа. Агилера заинтриговал иностранных репортеров своей оригинальной мыслью, будто война началась из-за наличия канализации, «не будь которой все эти красные главари передохли бы в детстве и не могли бы возбуждать чернь и проливать кровь достойных испанцев». Агилера агитировал за возврат к «эпохе, более здоровой духовно, когда моровая язва и чума косили народ», и выражал твердое убеждение, что возрождение Испании требовало уничтожения «трети мужского населения» страны. Такие взгляды отнюдь не были чем-то необычным во франкистской среде, как, впрочем, и отношение капитана Агилеры к женщинам. Говоря откровенно, от всего сердца, он утверждал: «Мы покончим с этой глупостью, именуемой женским равноправием... Если жена не верна мужу, почему бы не влепить ей пулю, как собаке».
Ненормальная природа самого режима нашла свое символическое отражение в том, что новое бюро прессы и пропаганды делило здание с индийцем-алхимиком, который объявился в Саламанке и пообещал сделать столько золота, сколько потребуется Франко, чтобы выиграть войну. После разоблачения мошенник был вынужден бежать из страны.
Но даже в этих условиях крайней вседозволенности Мильян Астрай умудрился зарваться. 12 октября 1936 года состоялась церемония в честь Дня испанской нации, годовщины открытия Америки Христофором Колумбом. После положенного богослужения высокопоставленные политические, военные и церковные сановники перебрались в университет в Саламанке, где, в отсутствие Франко, председательствовал ректор университета, престарелый философ Мигель де Унамуно. Потрясенный до глубины души арестами и убийствами друзей и знакомых, Унамуно пришел в ужас, когда, вдохновленный одним особенно пылким националистическим выступлением, какой-то легионер возопил диким голосом: «Да здравствует смерть!» Тут же вскочил на ноги Мильян и вместе с легионерами из сопровождения, заявившимися на мероприятие с автоматами, немедленно организовал хоровое пение гимнов во славу войны. В ответ почтенный философ назвал войну «нецивилизованным, варварским актом» и заявил: «Вы можете победить, но не можете убедить. Никого нельзя убедить при помощи ненависти, которая не ос-
6 Ходжес Г. Э.
тавляет места состраданию». Распаленный Мильян набросился на него с воплем: «Смерть интеллектуалам!» В качестве представителя Франко супруга каудильо увела Унамуно от этой банды убийц, но вскоре престарелый философ был смещен с поста ректора университета. Он умер в декабре, продолжая протестовать против «коллективного безумия и морального самоубийства Испании». Несмотря на то что Франко полностью одобрил выступление Мильяна против Унамуно, — возможно, с подачи нового советника каудильо, эксцентричного сюрреалиста Эрнесто Хименеса Кабальеро, одного из идеологических творцов фалангизма, — в 1937 году цензура перешла в ведение отдела прессы и пропаганды в Бургосе, под начало фалангистов. И хотя Мильян продолжал оставаться пылким пропагандистом режима, всю свою энергию он направил на создание «Tercio de Mutilados»11, организации, прославляющей тех, кто, подобно ему самому, был покалечен на войне.
Более или менее стабилизировав политическую ситуацию, Франко вновь занялся семейными делами. К вящему удивлению Кинделана и его офицеров, он решил отправить брата Рамона командовать авиацией националистов на Мальорке. Остается только гадать, было ли это решение вызвано тем, что с высоты достигнутого им положения Франко мог позволить себе быть великодушным, или он лелеял надежду, что самоубийственные порывы Рамона навлекут на нелюбимого братца смертельную опасность. Так или иначе, но, как позднее заметит их сестра Пилар, стремление Рамона лично вылетать на самые опасные задания вскоре развеяло недовольство ряда офицеров по поводу его назначения и привело брата к ранней гибели.
Завершение строительства нового крейсера «Канариас» оказалось очень большим подспорьем для националистов. И, поскольку с фашистской помощью они также доминировали в воздухе, похоже было, что война шла к скорому концу. 6 октября Франко оптимистически объявил журналистам о неминуемом штурме столицы. Наступление Молы двумя фронтами, спланированное совместно с Франко, началось
на следующий день. Четыре колонны измотанной африканской армии под командованием безупречно одетого Варелы (который, по слухам, не снимал ни перчаток, ни медалей даже в кровати) и его заместителя Ягуэ начали движение к северу, чтобы встретиться с частями Молы, направлявшимися на юг. Несмотря на оптимистичные прогнозы Франко насчет марша на Мадрид, похоже, что его больше привлекал прорыв осады Овьедо, которую организовали астурийские шахтеры, чем наступление на Мадрид. Между 4 и б ноября продвижение националистов к столице заметно застопорилось. Нерешительность Франко на мадридском фронте — проистекавшая, возможно, из опасения, что Моле достанется вся слава, а также из подсознательной тревоги, что Мадрид был домом не только для законного правительства и изгнанного короля, но также и его отца, когда тот не жил в Эль-Ферроле, — не осталась незамеченной в Германии. И пока Франко вел напряженные дискуссии со своими военными советниками по поводу дальнейших действий, в Саламанку были направлены адмирал Кана-рис и генерал У го Шперрле с предупреждением, что ожидаемые немецкие подкрепления будут находиться под командованием только немецкого офицера и должны быть использованы «для более систематического и активного ведения военных действий» на мадридском фронте.
Несмотря на некоторые проблемы в стане националистов, никто в общем-то не сомневался, даже республиканское правительство, оставившее Валенсию б октября, что Мадрид быстро падет. Кое-кто из иностранных журналистов, обеспечивая себе свободный вечер, заранее поспешил составить репортаж о параде победы, который, согласно программе, был намечен на 7 ноября. Распушивший перья Агилера предсказывал: «В Мадриде мы расстреляем тысяч пятьдесят. И куда бы ни спрятались Асанья, Ларго Кабальеро и вся их свора, мы их все равно разыщем и расстреляем всех, до последнего человека». Однако 15 октября республиканцы получили из Советского Союза первый груз оружия и техники, и выяснилось, что начинается совсем другая война. Танки и самолеты оказались весьма действенным средством против африканских частей.
Хотя Сталин с заметным облегчением и подписался под абсурдной политикой «невмешательства» в испанском конфликте, его поведение изменилось, когда итальянские бомбардировщики появились в испанском Марокко. Выяснилось, что подписавшие соглашение фашистские страны отнюдь не чувствовали себя обязанными соблюдать его условия. Не желая видеть Испанию ни фашистской, оказывающей давление на Францию, ни коммунистической, что неизбежно вызвало бы враждебность англичан и французов, Сталин отправил помощь в объеме, по его мнению, достаточном, чтобы сохранить Республику живой, но не более того. К тому же он со свойственным ему цинизмом запросил непомерную цену. «Революция» в Испании в конечном счете будет раздавлена, а республиканскому правительству придется отдать практически весь золотой запас, чтобы оплатить советские поставки. Сталин даже ловчил на курсе обмена валют, чтобы заставить осажденных республиканцев переплачивать за советскую военную технику, которая зачастую была устаревшей и низкого качества. И тем не менее без помощи Советского Союза Республика рухнула бы уже в первые месяцы войны. Кроме того, Коминтерн, зная, с какими болью и страстью трудящиеся Европы и Соединенных Штатов следят за событиями в Испании, начал рекрутировать и отправлять добровольцев, чтобы сражаться против националистов. Охваченные ненавистью к фашизму и готовые рисковать жизнью в борьбе с ним, волонтеры начали приезжать в Испанию с октября 1936 года. Их прибытие резко подняло моральный дух и динамизировало военные усилия республиканцев. Как выразился Джон Уитекер: «Республиканцы, которых расстреливали и резали мавританские наемники и бомбили иностранные самолеты, вдруг почувствовали, что Республика больше не одинока... и поверили, что умереть сейчас — значит умереть не напрасно».
Наступление националистов на Мадрид в сочетании с хвастливыми заявлениями Молы о том, что «пятая колонна» сторонников Франко в самой столице встретит четыре колонны, которые двигаются на город, вызвала вспышку актов насилия против пленных националистов, которых вытаскивали из мадридских тюрем и убивали на месте. Фалангисты запаниковали по поводу судьбы своего лидера, Хосе Антонио Примо де Риверы, все еще находившегося в республиканской тюрьме в Аликанте. Вряд ли разделяя их озабоченность, генералиссимус оказал на редкость невразумительное, чтобы не сказать обструкционистское, содействие в попытках фалангистов освободить его из заключения. И, несмотря на все усилия своих сторонников, Хосе Антонио предстал перед судом и 20 ноября 1936 года был расстрелян. Франко по вполне понятным причинам неохотно поделился этой новостью с активистами партии, но обнаружил глубоко затаенную недоброжелательность к вождю фалангистов, когда в 1937 году сообщил Серрано Суньеру, что Хосе Антонио «отдали русским, и, вероятно, они его кастрировали», — быть может, выражая собственное пожелание. И, хотя в политическом отношении Франко был лично заинтересован в увековечении идеологического наследия Хосе Антонио, он с глубокой ревностью относился к сердечному влечению, которое романтичный и привлекательный вождь внушал своим верным сторонникам.
Между тем Франко усугубил ошибочный маневр с Толедо, потеряв два дня на обсуждение дальнейших действий с генералом Вильгельмом Фаупелем, вновь прибывшим германским временным поверенным, и ожидание поставок пулеметов, бомбардировщиков и танков. Республиканцы хорошо использовали это время. Оборона столицы была поручена генералу Хосе Миахе. Франко с презрением говорил о его некомпетентности, а Кейпо де Льяно называл этого генерала тупым и неспособным трусом, но, так или иначе, в окружении Миахи были высокопрофессиональные помощники, в том числе его выдающийся начальник штаба, подполковник Винсенте Рохо, в прошлом коллега Франко, который, к ярости генералиссимуса, остался верным Республике. Решение Варелы дать передохнуть войскам и тем самым отложить штурм столицы дало Миахе и Рохо еще один шанс. Им удалось в захваченном у националистов танке обнаружить подробный план предстоящего боя, разработанный Варелой. Эту информацию они с большой для себя пользой использовали во время сражения, а ранее, в течение тихой ночи 7 ноября, сумели создать из простых жителей Мадрида вполне боеспособную силу.
Хотя африканские части не испытывали затруднений во фронтальных атаках на слабозащищенные городки и деревни в сельской местности, они не были готовы вести боевые действия в городских условиях против врага совсем другого типа. Во главе с хорошо организованным Пятым коммунистическим полком и при поддержке тысячи девятисот бойцов Седьмой интернациональной бригады жители Мадрида героически сражались за свой город.
Защищая каждый дом, вооруженные первым, что попалось под руку, отряды рабочей милиции сумели нанести жестокие потери африканским частям. Прибытие в Мадрид легендарного Дуррути, железнодорожника из Леона, чьи отряды добровольцев-анархистов помогли удержать Барселону, еще больше подняло боевой дух республиканцев, хотя сам он и был убит в бою 20 ноября при неясных обстоятельствах.
Хотя признание режима Франко Италией и Германией 18 ноября на какое-то время приободрило националистов, военная ситуация оказалась далека от благополучной. И пока каудильо заверял приветствующие его толпы в том, что нацистская Германия и фашистская Италия являются «оплотом культуры, цивилизации и христианства в Европе», Муссолини презрительно высказывался об отсутствии боевого духа и мужества у франкистов. Он также заявил, что подкрепления будут посланы только в том случае, если испанская политика в Средиземноморье окажется «в гармонии с политикой Италии». Он желал видеть Испанию фашистской, дабы оказывать давление на Францию.
Тем временем на мадридском фронте даже легион «Кондор» — свыше четырех тысяч человек и сотня самолетов, поддержанные зенитными и противотанковыми частями, под командованием генерал-майора фон Шперрле и полковника фон Рихтгофена — не смог спасти положение.
Несмотря на систематические яростные налеты немецкой авиации, проводившей бомбардировки устрашения, а также некоторые успехи Молы вокруг Университетского городка, к 22 ноября штурм националистов был отражен. Как бесстрастно писал Джон Уитекер: «Упорное и несгибаемое сопротивление республиканцев заморозило части Франко... Мавры тысячами умирали в наспех выкопанных окопах». В распоряжении Франко оставалась малочисленная армия. Капитан Роланд фон Штрунк, специальный агент Гитлера в Испании, объявил, что «Франко пришел конец», а обескураженный майор Кастехон в глубоком унынии заявил: «Мы сами подняли это восстание, и вот теперь мы разбиты». Без крупномасштабного вливания иностранной помощи и прибытия дополнительных многотысячных мавританских частей Франко должен был проиграть войну.
Зная, как он боялся неудачи, можно себе представить чувства Франко, когда стало ясно, что ему придется отказаться от штурма столицы. Самые худшие кошмары стали реальностью. Он бросил вызов сердцу отчизны и потерпел провал. Взбешенный и униженный этой неудачей, Франко отказывался отвести войска, находившиеся всего в нескольких километрах от столицы, и приказал Асенсио укреплять его позиции в Университетском городке. Он не желал допускать мысли о малейшем отступлении, даже чтобы высвободить войска для других фронтов.
Фаупель отправил отчаянную телеграмму в Берлин: «Мы стоим перед решением: либо оставить Испанию на произвол судьбы, либо направить в нее дополнительные силы». Как подчеркивал американский посол в Берлине: «Признав Франко победителем, когда ему это еще предстояло доказать, Муссолини и Гитлер должны привести его к успеху, либо их имена должны были ассоциироваться с провалом». Державы «оси» решили предоставить националистам дополнительную помощь, причем основной груз ответственности выпало нести Италии, поскольку Берлин опасался, что германское вмешательство может поставить под угрозу его планы перевооружения. Генералу Роатте поручили командование всеми итальянскими военно-воздушными силами, как уже находящимися в Испании, так и теми, которые должны были вскоре прибыть, а также поддерживать постоянную связь с Франко и Фаупелем с целью создать объединенный главный штаб.
За массивной итальянской помощью в виде офицеров, сержантов, танковых экипажей, радиооператоров, артиллеристов и специалистов инженерных войск, которые вошли в состав смешанных испанско-итальянских частей, последовало прибытие в декабре 1936 года двух контингентов из трех тысяч чернорубашечников, укомплектованных собственными офицерами, артиллерией и транспортом. Разочарованный устаревшей военной тактикой Франко, Муссолини настоял, чтобы вновь прибывшие держались отдельно от смешанных бригад. Хотя каудильо был до глубины души обижен таким решением, в январе 1937 года ему пришлось проглотить обиду и запросить еще девять тысяч чернорубашечников. К середине февраля 1937 года он получил в свое распоряжение около пятидесяти тысяч человек фашистской милиции и регулярных частей под видом добровольцев. Немцы согласились предоставить помощь оружием, самолетами и снаряжением в количестве достаточном, дабы гарантировать, что Франко не потерпит поражения. Парадоксально, но именно недостатки генералиссимуса как военного руководителя вынудили державы «оси» оказать столь мощную поддержку, которая и помогла ему выиграть войну. Немцы так же сумели убедить Франко, что для превращения вооруженных отрядов националистов в полномасштабную современную армию необходим массовый призыв на воинскую службу, и генералиссимус приказал Оргасу осуществить эту операцию.
Бессильный на военном фронте и переполненный параноидальными страхами после поражения под Мадридом, Франко решил предпринять шаги по укреплению своего политического положения. В националистической Испании в армии существовало соперничество между фалангой, карли-стами, монархистами и их оппонентами. Поскольку фаланга была дезориентирована вуалью секретности, которой Франко окружил гибель их вождя, генералиссимус нанес удар по карлистам, которые, с позволения Молы, учредили свою военную академию для технической и идеологической подготовки офицеров-карлистов. Заявив, что это равносильно государственному перевороту, Франко дал их лидеру, Мануэлю Фалю Конде, сорок восемь часов, чтобы покинуть зону националистов или предстать перед военным трибуналом.
Однако самая большая угроза по-прежнему исходила от монархии, к которой Франко всегда испытывал сложные чувства. Он видит в короле Альфонсе XIII отчасти идеализированную отеческую фигуру, любимым сыном которого Франко одно время был, и отчасти безответственного родителя, который бросил испанский народ и его самого. Такое расколотое восприятие вызвало у Франко поток прочувствованных, но в то же время противоречивых заявлений о монархии. Раздираемый между подлинной приверженностью к абстрактному понятию короля и яростной личной ревностью к своему сопернику дону Хуану, Франко был способен уверить людей, принадлежащих к самым разным лагерям, что он энергично выступает на их стороне. Генералиссимус сумел убедить монархистов, что его основным приоритетом остается реставрация монархии, а фалангистов — что, являясь борцом за их революцию, он полон решимости всеми силами воспрепятствовать возвращению короля на трон. Когда в декабре 1936 года дон Хуан возобновил попытки присоединиться к войне на стороне националистов, он тут же получил хитроумно-двусмысленное послание Франко, в котором тот заявлял, что ни в интересах наследника трона, ни в интересах Родины нельзя допустить, чтобы он рисковал собственной жизнью. Затем Франко заверил страждущих монархистов, что в глубине души он заботится только о доне Хуане и потому возвращающийся монарх должен «появиться как миротворец, и не должен оказаться среди победителей».
На деле же Франко скорее предпочел бы, чтобы легитимность его власти подтвердил папа, а не испанский король, который мог бы завоевать сердца людей и заменить генералиссимуса в качестве предполагаемого морального и духовного лидера Испании. Прибытие 22 декабря кардинала Гомы из Рима в должности конфиденциального временного поверенного в делах Ватикана — первый шаг к полному дипломатическому признанию католической церковью Франко как руководителя государства — встретило у него радушный прием. Усилия Франко, дабы упрочить свое положение на военном фронте, оказались менее успешными. Наступление на
Мадрид возобновить не удалось. Франко в лихорадочной спешке приказал Оргасу принять командование на мадридском фронте, а Моле — на севере. Варела руководил сухопутными частями. Хотя потрепанные республиканские войска основательно окопались, к счастью для генералиссимуса, они были не способны развить контрнаступление против серьезно растянутой линии фронта националистов. После долгих увиливаний и колебаний и все еще отказываясь согласиться на тактический отход, Франко в конце концов позволил себя убедить в необходимости воспользоваться планом, который предложил генерал Саликет еще в ноябре ушедшего года. По нему осуществлялась операция по завершению окружения Мадрида: перерезалось шоссе Мадрид — JIa-Корунья на северо-западе с одновременным двойным ударом с юго-запада и северо-востока. После нескольких кровавых боев и замены раненого Варелы на Оргаса к 15 ноября положение националистов стабилизировалось. Потери с обеих сторон в результате этой операции составили пятнадцать тысяч человек.
Тем временем Муссолини, раздраженный тупиковой ситуацией вокруг столицы и желая ухватить кусочек славы для самого себя, настаивал на скорейшем наступлении на Малагу. Обеспокоенный стремлением дуче к личным лаврам, Франко неохотно согласился на комбинированный штурм Малаги, причем Роатта должен был наступать по суше, а Кейпо руководить бомбардиров*$ой города с линкора «Канари-ас». Пораженный наивностью Франко в отношении планов Муссолини, полковник Вольфрам фон Рихтгофен, командир легиона «Кондор», писал в своем дневнике, что, если Франко «надеялся разделить лавры победы за взятие Малаги», ему следовало бы разузнать сначала, что замышляли итальянцы. Франко, больше жаждавший триумфа в Мадриде, в начале февраля наконец посетил фронт. Убежденный, что Малага будет взята без серьезного сопротивления, он вернулся в Саламанку, чтобы оттуда следить за новым наступлением на столицу. 6 февраля 1937 года армия численностью до шестидесяти тысяч вооруженных до зубов солдат под командованием генерала Оргаса предприняла массированное наступление в направлении шоссе Мадрид — Валенсия к востоку от столицы.
Битва за Малагу, начавшаяся тремя днями ранее, оказалась недолгой и жестокой. Иностранные журналисты не были допущены к месту сражения, что не предвещало ничего хорошего. Вошедшие в Малагу первыми 8 февраля, итальянцы некоторое время единолично управляли городом, прежде чем торжественно передать его Кейпо де Льяно. Желая лишний раз подчеркнуть, что они заняли город раньше франкистов, генерал Роатта направил каудильо телеграмму, подтверждая, что «войска под моим командованием имеют честь передать город Малагу Вашему превосходительству». В Малаге ни итальянские войска, ни националисты не проявили ни малейшей жалости и милосердия по отношению к деморализованным и обескровленным республиканцам. Четыре тысячи защитников города расстреляли только в течение первой недели. Многочисленные убийства продолжались несколько месяцев.
Франко был взбешен тем, что итальянцы приписывали себе все заслуги за эту победу. Восторгавшемуся ею Милья-ну он резко напомнил, что «Главный приз еще надо завоевать!». Пока Франко пребывал в меланхолии по поводу успеха итальянцев, а Муссолини радовался подавляющему превосходству своих войск, в националистической прессе появились сообщения о том, что победа была одержана не итальянцами, не Кейпо де Льяно, а лишь благодаря прямому вмешательству святой Тересы из Авилы, рука которой — как лживо утверждалось — была найдена в багаже командира разбитого гарнизона Малаги. Это было самым приемлемым объяснением для генералиссимуса. Со святой Тересой и другими святыми на своей стороне Франко вновь воспрянул духом. Решив обуздать растущие амбиции как итальянцев, так и Кейпо, он запретил дальнейшее наступление в Андалусии под тем предлогом, что следовало сконцентрировать войска на мадридском направлении. По мнению Хью Томаса, это было крупнейшей тактической ошибкой, поскольку остальная восточная Андалусия, включая Альмерию, могла бы с легкостью достаться националистам.
Желая затмить итальянский триумф в Малаге собственной победой в столице, Франко не слишком ласково воспринял сообщение заместителя Роатты, полковника Эмилио Фалделлы, что итальянцы собираются использовать свой Corpo di Truppe Volontieri12 для скорейшего взятия Валенсии. В ответ Фалделла выслушал пространную лекцию от каудильо о том, что «постепенное занятие территории с последующей чисткой предпочтительней быстрого разгрома армии противника, в результате которого остается территория, наводненная врагами». Затем начальник генерального штаба Франко, подполковник Антонио Барросо, холодно напомнил итальянцу, что «престиж генералиссимуса является самым главным на войне... и вообще совершенно неприемлемо, чтобы Валенсия, резиденция республиканского правительства, была захвачена иностранными войсками». А когда Фалделла заявил, что главный удар должен быть направлен из Сигуэнсы на Гвадалахару под командованием генерала Роатты, дабы замкнуть кольцо вокруг Мадрида, Франко уклончиво сообщил ему, что он использует итальянские части «сразу на нескольких фронтах». Желая кристально четко выказать свое неудовольствие итальянцами, каудильо заставил нового итальянского посла, Роберто Канталупо, ждать несколько дней, прежде чем принять его. 17 февраля не верящий глазам своим посол доносил итальянскому министру иностранных дел, графу Галеаццо Чиано, что «здесь монета благодарности явно не в ходу».
Крайне обозленный Муссолини пригрозил полностью отозвать свою помощь, однако затем ограничился тем, что перевел двадцать самолетов, обещанных Франко, в прямое подчинение итальянскому командованию в Испании. Итальянские воздушные части, ранее поднимавшиеся в воздух по приказам генералиссимуса, теперь подчинялись директивам из Рима. А тем временем наступление националистов захлебнулось в крови Харамы, где республиканские части, усиленные добровольцами из Интернациональных бригад, завязали одно из самых жестоких сражений гражданской войны. Десять тысяч республиканцев, включая многих наиболее опытных английских и американских членов бригад, и около семи тысяч националистов расстались здесь с жизнью. И хотя Оргас и Варела сумели удержать ненадежную линию фронта в районе Харамы, наступление на Мадрид вновь провалилось.
19 февраля Франко был вынужден самым позорным образом умолять в этот раз особенно неуступчивого Фалделлу начать столь презираемое ранее генералиссимусом наступление на Гвадалахару, чтобы дать необходимую передышку измотанным частям националистов. Но на тот момент ни Фалделла, ни Роатта не были склонны бросаться на выручку каудильо. Видя, что итальянцы тормозят дело, Франко решил, что, возможно, имеет смысл организовать пышную встречу новому итальянскому послу. 1 марта в окружении офицеров при полном параде генералиссимус возглавил церемонию с военными оркестрами и красивыми шествиями специально для Роберто Канталупо, а также устроил ему роскошный прием. Однако не слишком впечатленный посол доносил в Рим, что когда каудильо приветствовал вопящую толпу с балкона, то «оказался не способен сказать что-либо путное аплодировавшим и ждущим от него прочувствованной речи людям; он стоял с застывшим невыразительным взглядом и выглядел холодным и женоподобным».
Пропасть между проявлениями королевской пышности в Саламанке и безжалостной, безудержной бойней на захваченных территориях, казалось, отражала мучительные процессы, происходившие в душе Франко. Итальянцы ужасались, получая сообщения итальянского консула из Малаги, где деятельность Карлоса Ариаса Наварро — которого много лет спустя франкисты будут поносить как слишком умеренного премьер-министра — принесет ему прозвище «палача Малаги». Заверив итальянцев, что массовые казни совершались «неконтролируемыми элементами», Франко приказал, чтобы произвольные убийства были заменены на расстрелы, осуществляемые по решению военных трибуналов. Он с большой неохотой согласился подчиниться кодексу военного законодательства, по которому все смертные приговоры должны были подписываться лично им самим (на деле этой операцией занималось достаточно много других лиц). Небрежно роясь в горе бумаг, он проявлял то завораживающую беспечность, то жгучую мстительность в зависимости от настроения. Как и Гитлер, каудильо особенно склонялся к казни посредством гарроты (удавки). (В июле 1944 года Гитлер прикажет, чтобы генералов, участвовавших в заговоре против него, «подвесили на крюках для мясных туш и медленно душили фортецьянными струнами, периодически ослабляя натяжение, чтобы удлинить смертельную агонию». Он снял этот процесс на кинопленку и затем многократно смотрел.) Жизнерадостно заверив Рэндолфа Черчилля, что основными чертами его политики остаются «гуманное и равное для всех милосердие», Франко вновь обратил свой взор к военным делам.
После многих затяжек и проволочек итальянцев Франко в конце концов собрал три мощные, оснащенные тяжелым вооружением итальянские дивизии для наступления на Гвадалахару под общим руководством Роатты, которые с флангов должны были поддерживать две испанские бригады под командованием генерала Москардо. Франко заверил Роатту, что с северо-востока для его поддержки Оргас нанесет удар из района Харамы. К великому удивлению итальянцев, их наступление было отражено республиканцами, которые перебросили значительные части как раз со странно спокойного фронта в районе Харамы. То, что Франко не сумел организовать поддерживающий удар Оргаса и Варелы, оставило растянутые коммуникации итальянцев незащищенными. Но даже в этом случае итальянцы не ожидали столь серьезного отпора со стороны республиканцев. Франко же не только не выполнил свое обещание нанести поддерживающий удар, но и отказался сменить изрядно поколоченные части Роатты. Вполне возможно, он хотел, чтобы итальянцы приняли на себя главный удар, пока его войска использовали столь необходимую передышку, или же каудильо всерьез полагал, после всех хвастливых заявлений представителей Муссолини, что непобедимые части дуче без труда разберутся с республиканцами. Однако трудно все же избежать заключения, что главным образом генералиссимусом руководило задетое самолюбие. Франко упрямо отказывался удовлетворить отчаянные просьбы Роатты, чтобы ему было позволено вывести свои сильно потрепанные и полностью деморализованные части из района военных действий. Утверждая, что Республика находится «на грани военного и политического краха», неумолимый каудильо настаивал на том, чтобы итальянцы 19 марта возобновили наступление на Гвадалахару.
По мере приближения назначенной даты едва не свихнувшийся Роатта мотался туда и обратно между линией фронта и Саламанкой, пытаясь убедить генералиссимуса изменить свое мнение. За день до намеченного срока, когда оба деятеля в Саламанке вели жаркие дискуссии на эту тему, республиканцы предприняли мощное наступление на слабые укрепления итальянцев по всей линии фронта. Франко и его националисты восприняли известие об этом военном поражении со смешанными чувствами. Явно наслаждаясь унижением чванливых итальянцев, они не могли игнорировать масштабы разгрома. Генерал Роатта, не желая признавать собственные ошибки во время этой операции, возложил всю ответственность за поражение на Франко. Хотя недостатки итальянских войск сыграли в данной ситуации значительную роль, похоже, основная проблема была действительно в каудильо. Несмотря на самодовольную уверенность Франко в том, что «в конечном счете успех достигается там, где наличествуют умный и опытный командир, бравые солдаты и вера», его недостатки как генерала со всей серьезностью проявились во время этой кампании. Он недооценил противника, не сумел воплотить в жизнь заранее согласованный план действий, выказал наплевательское отношение к потерям своих союзников, а затем, пытаясь свалить с себя вину за все происшедшее, стал искать козлов отпущения среди подчиненных. По мнению Нормана Диксона, подобное поведение является наглядным подтверждением военной некомпетентности. Неудивительно, как замечает Джон Уитекер, что «среди офицеров, командовавших его колоннами на поле боя, он не пользовался ни популярностью, ни доверием».
Размышляя о своих военных перспективах, генералиссимус находился не в самом лучшем расположении духа, когда статья в «Дейли экспресс», озаглавленная «Очередной разгром итальянцев в Испании», привлекла его внимание. Ноэл Монке, журналист, нарушивший строжайшее требование цензуры, запрещающее любое упоминание об итальянских или немецких войсках в Испании, не говоря уже о военных неудачах, был вытащен гражданскими гвардейцами прямо из кинотеатра и волоком доставлен пред светлые очи самого каудильо, чтобы ответить за свои пакостные действия. Позже он вспоминал: Уже тогда, когда я стоял перед ним в тот мартовский день 1937 года, у него было заметное брюшко. Для вождя военного восстания, которое продолжалось вот уже почти девять месяцев, он выглядел самым невоенным человеком, которого я когда-либо видел. Казалось, его подавлял массивный письменный стол, за которым он сидел. У него было дряблое лицо, а глаза, уставившиеся в мои, вполне могли бы подойти для игры в шарики, такими они казались твердыми».
Поначалу генералиссимус пригрозил Ноэлу Монксу поставить его к стенке, однако из опасения, что это вызовет международный скандал, Франко просто выслал его из зоны националистов. Об этом своем решении каудильо скоро горько пожалеет. Монке стал слать репортажи из республиканской зоны и был одним из четырех иностранных журналистов, которые прибыли в еще горящую Гернику сразу после бомбардировки, где они собирали информацию выживших в этом аду людей.
Франко все же извлек определенную выгоду из фиаско при Гвадалахаре (или, как позже это назовет Чиано, «худший день в моей жизни»). Хотя Муссолини и не убедили хилые оправдания каудильо, он вынужден был признать, что его фашистские части не оказались столь уж непобедимыми, как дуче считал ранее. Полный решимости не оставлять Испанию, пока он не восстановит свое военное реноме и не смоет унижение, Муссолини с неохотой согласился с тем, что итальянские силы будут распределены по испанским частям и станут находиться под командованием генералов Франко.
«Избавившись от ночных кошмаров», в полной эйфории каудильо направил послание дуче, полное выражений «радости от того, что его наконец поняли и оценили».
А тем временем начальник главного штаба Молы, полковник Хуан Вигон Суэродиас, направил письмо Киндела-ну с просьбой убедить Франко обратить внимание на север страны, где захват запасов угля, чугуна и стали, а также заводов по производству вооружения в баскских провинциях мог бы принести неоценимую пользу националистам. Данный аргумент был поддержан командиром легиона «Кондор» генералом Уго Шперрле, который ратовал за скоординированную операцию на земле и в воздухе в этом регионе. Это смещение акцентов «представляло сухую констатацию того, что Мадрид не мог быть взят немедленно, а война не могла быть быстро выиграна» (Хью Томас). Впрочем, Франко и не хотел быстрого конца войны, если при этом он не убьет последнего «красного» в Испании.
Глава 5
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗДВОЕННОСТЬ, ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Март 1937 — март 1939
Любой испанский националист предпочтет скорее умереть, чем еще раз отдать судьбу Испании в руки красных или демократического правительства.
Франко — Фаупелю
Люди верят в истинность всего того, во что кто-то верит по-настоящему... Всех великих лжецов... спасает их вера в самих себя, и именно эта их вера говорит за них столь убедительно, с такой чудодейственной силой.
Ален Баллок
23 марта 1937 года Франко вызвал Молу в Саламанку, чтобы обсудить детали операции по штурму Бильбао. Главным образом это были предложения, которые представили начальник генерального штаба Молы, полковник Хуан Ви-гон Суэродиас, и генерал Уго Шперрле, командир легиона «Кондор». Договорились, что во время штурма «гражданское население не будет приниматься во внимание». Поддержку с воздуха мощной армии Молы обеспечат легион «Кондор» и части итальянского корпуса волонтеров, которые успешно влились в испанские войска сразу после того, как Роатта и
Фалделла в апреле были заменены генералом Этторе Басти-ко и полковником Гастоне Гамбарой. Хотя легион «Кондор» подчинялся непосредственно Франко, того настолько впечатлили уважительные манеры Шперрле, что он решил позволить немецкому генералу установить непосредственную связь с Молой и Вигоном. Между штабом наземных сил Молы и легионом «Кондор» будет поддерживаться постоянная оперативная координация.
Мола начал наступление 31 марта. Поскольку он был убежден, что вся Испания находится под сильным воздействием «отравленной красной заразой» промышленности Каталонии и Басконии, то решил полностью разрушить ее, а заодно уничтожить, сколько удастся, строптивых рабочих-бунтарей. Генерал засыпал измученное местное население листовками и радиопередачами, угрожая «стереть Бискайю с лица земли, начиная с предприятий, производящих военное оборудование». Эти угрозы ввели в полное замешательство немцев, которые по наивности предполагали, что главной целью операции был захват промышленных объектов, чтобы использовать их для нужд страны. Пораженный начальник генерального штаба легиона «Кондор» Вольфрам фон Рихтгофен выразился, возможно, не лучшим образом, учитывая будущую политику «выжженной земли» Гитлера: «Никогда не слышал большей глупости».
Уверенность Франко и Молы, что через три недели весь север Испании будет лежать у их ног, оказалась абсолютно необоснованной: они серьезно недооценили боевой настрой басков, которые нанесли серьезные потери наступающим войскам. Немцы, стремившиеся показать свое военное преимущество перед итальянцами, старались координировать удары на земле и в воздухе, но были глубоко разочарованы медлительностью армии националистов. Тем не менее со временем страх перед артобстрелами и бомбардировками с воздуха, а также хаос, вызванный внутренними распрями в стане республиканцев, начали подтачивать волю басков к сопротивлению.
Вернувшись в Саламанку в первые дни наступления, Франко, шарахаясь из одной крайности в другую под гнетом растущего эмоционального напряжения, попытался задавить внутренний страх перед возможным военным крахом все более помпезной и кричащей демонстрацией своей власти. Судорожные попытки каудильо оправдать медленное и неуверенное продвижение националистов перед итальянским послом Канталупо демонстрируют скорее его собственное состояние ума, чем состояние военных дел. Находясь в невротическом диалоге с самим собой, Франко уверяет изумленного представителя дуче, что, руководствуясь заботой о благе Родины, он «не должен... разрушать города, пашни и промышленные предприятия». И потому каудильо «не спешит». Тем самым он неожиданно выдал свою скрытую от чужих глаз программу, признав, что готов замедлить военную операцию, ибо главным является «искупление и умиротворение», и пусть «это принесет мне меньше славы, но принесет больше мира стране». В нервной попытке оправдать эту войну на уничтожение против басков-католиков он заявил, что «Франко не воюет в Испании, но просто осуществляет освобождение Испании». Его путаная проповедь, предназначенная прежде всего самому себе, завершилась утверждением, что «в конечном счете я должен не завоевывать, а освобождать, а это означает также искупать вину». К несчастью для басков, идея искупления у генералиссимуса родилась из ненависти и разрушения, а не из христианской любви и милосердия: каудильо знал, что они никогда не смогут простить его. И потому он должен был убить их.
Как это уже много раз случалось, душевные метания Франко парадоксальным образом содействовали достижению определенной политической цели. Ему так или иначе было необходимо притормозить стремление итальянцев к быстрой победе — чтобы выиграть время для упрочения собственной власти после войны. И потому он решил «завоевывать Испанию город за городом, деревню за деревней, станцию за станцией» и не «укорачивать войну ни на один день». Похожие мысли Франко высказывал и ранее, когда открыто признал: «Для меня может быть даже опасно войти в Мадрид при помощи сложной военной операции. Я не возьму
Мадрид ни часом раньше, чем это необходимо: сначала я должен убедиться, что смогу установить новый режим».
Во время встречи с Канталупо Франко обнаружил глубокое ощущение вины и панический страх перед наказанием. Возможно, эти чувства возникли или обострились оттого, что он напал на истовых католиков: ведь и его мать была католичкой, и, вероятно, он просто боялся понести заслуженное наказание свыше. Его старания убедить самого себя и окружающих, что, имея на своей стороне Господа и папу римского, он в принципе не может быть в чем-либо виноват, в Басконии оказались подвержены сильнейшему испытанию.
И если, как в нашем случае, Франко отождествлял Родину (или, как он обычно говорил, Родину-Мать) с собственной матерью, его желание физически слиться с ней и в то же время уничтожить ее никогда не проявлялось более очевидно. Гитлер, по всей видимости, путал германскую нацию с пораженным раком телом своей матери, а себя самого — с хирургом, который должен «прижигать на живой плоти язвы», и каудильо рассуждал схожим образом. Многие из его сторонников также поддались этой сильно отдающей инцестом фантазии. Хименес Кабальеро (проповедовавший националистические идеи) сравнил Франко с «фаллосом, пронзающим Испанию», который «глубоко проник во внутренности Испании... до такой степени, что сейчас невозможно понять, то ли Испания — это Франко или Франко — это сама Испания». В 1938 году Кабальеро написал: «Мы видели, как он [Франко] склонился над картой Испании и делал операцию на живом теле Испании с тщанием и трагедией хирурга, который оперирует свою собственную дочь, свою собственную мать, свою любимую супругу». И трогательно продолжал: «Мы сами видели, как слезы Франко капали на тело этой матери... каковой является Испания, а по рукам его текла кровь и боль этого святого тела, бьющегося в судорогах». Последствия той хирургической операции оказались опустошительными.
Было ясно, что немцы хотят получить свою долю от этой хирургии. Установив блокаду с моря, легион «Кондор» обрушил град бомб на город Дуранго, стоящий на шоссе между
Бильбао и фронтом. 24 апреля безжалостные бомбардировки и артиллерийские обстрелы вынудили басков начать беспорядочное отступление. Поддерживавшие постоянную связь полковник Вольфрам фон Рихтгофен и Вигон договорились загнать в котел отходящие части басков между Герникой и Маркиной. Они пунктуально информировали Франко об этой операции. Рихтгофен предпринял целую серию воздушных налетов на отступающие силы басков, кульминацией которых стала массированная бомбардировка Герники. С притоком беженцев и крестьян в рыночный день население городка достигло порядка десяти тысяч человек. 26 апреля с 16.40 до 19.45 маленький беззащитный городок оказался практически стерт с лица земли. Тысяча шестьсот сорок пять человек были убиты и около тысячи ранены. Полное разрушение древней столицы басков позднее увековечил в своей картине Пикассо.
После взрыва международного возмущения Франко в очень агрессивной форме дал путаные и противоречивые объяснения происшедшего. Ни одно из них не совпадало с рассказами местных жителей и иностранных журналистов, прибывших вскоре после бомбардировки. Поначалу он дал строгое указание своей пресс-службе полностью отрицать, что бомбардировка вообще имела место, а также утверждать, что немецкие самолеты не участвуют в боевых действиях в Испании. Затем, все же признав, что Герника была разрушена, каудильо заявил: «Красные воспользовались [немецкой и итальянской] бомбардировкой, чтобы поджечь город». В конце концов признав и то, что немцы уничтожили Гернику, Франко дал понять, что это произошло без его ведома. Но его решительное одобрение всех боевых операций Шперрле и Рихтгофена, отказ предпринять детальное расследование варварской акции и тот факт, что он не настаивал на отзыве в Берлин немецких командиров, как обязательно бы поступил в случае их самовольных действий, доказывает соучастие каудильо в этом преступлении.
После того как Герника была превращена в груду развалин, а репутация Франко оказалась окончательно подорвана в глазах мировой общественности, он обратил внимание на сохранение своих политических позиций в Испании. Хотя именно в политическом отношении националисты выглядели более монолитно, чем республиканцы, ситуация в лагере каудильо была не слишком ясной. Оптимистические предположения Франко и его брата Николаса, что по прошествии времени и после военной победы, которая на этом этапе отнюдь не казалась гарантированной, власть генералиссимуса будет укреплена, начинали выглядеть несколько наивными. Пока Николас, правда кое-как, контролировал международные связи националистов, но юг страны оставался практически исключительной вотчиной Кейпо де Льяно, а также поползли слухи, что Мола стремится возглавить правительство, оставив Франко только руководство военными действиями. Стало достоянием общественности и политическое соперничество между основными партиями — фалангой, «Испанским обновлением», карлистами и СЭДА. И хотя все они принимали участие в военном заговоре, каждая из них имела собственные, ярко выраженные интересы и свои виды на характер будущего государства. Монархисты жаждали восстановления военной монархии, подобной той, что существовала при режиме Примо де Риверы. Карлисты мечтали о теократическом государстве под руководством их собственного претендента на трон. Фалангисты склонялись к испанскому эквиваленту Третьего рейха. С учетом того, что в армию националистов вливалась масса новобранцев из различных, зачастую антагонистически настроенных политических групп и верность Франко вряд ли являлась их главным приоритетом, необходимо было что-то делать для усиления личных позиций каудильо.
И тогда среди его сторонников возникла идея объединить различные политические силы в лагере националистов в единую партию фашистского толка с Франко в качестве авторитарного лидера. Очевидно, что лишить политического влияния различные партии, объединив их в монолитную структуру под руководством каудильо, и не вызвать при этом волнений среди их сторонников, было весьма трудной задачей. Но, обладающий качествами хамелеона, Франсиско Франко с помощью острого ума и юридических познаний Серрано Суньера сумел провести в жизнь эту весьма сложную политическую комбинацию.
«Своевременная» смерть или уход с политической сцены лидеров основных партий уже способствовали началу создания националистической коалиции. Кальво Сотело, влиятельный монархистский политик, был убит за пять дней до начала восстания. Хосе Антонио Примо де Ривера, харизма-тичный лидер фаланги, казнен Республикой 20 ноября 1936 года. Все более прохладным становилось отношение испанских националистов к Хилю Роблесу, лидеру СЭДА, которому ставили в вину его тактику законного завоевания власти до начала вооруженного восстания. Для Франко он был абсолютно неприемлем, поскольку когда-то являлся его непосредственным начальником. Так как каудильо уже нанес удар карлистам, изгнав их лидера Мануэля Фаля Конде, самую большую политическую угрозу его планам представляла фаланга.
После смерти ее вождя фаланга раскололась на две группы: тех, кто поддерживал нового лидера, назначенного партией, Мануэля Эдилью, и тех, кто последовал за группой легитимистов, главным образом друзей и сторонников Хосе Антонио, которую возглавляли Агустин Аснар и Санчо Давила. Но неосторожная фраза Эдильи, что он предпочел бы «раскаявшихся марксистов» «хитроумным правым, развращенным политикой и касикизмом», не добавило ему популярности. А его хвастливое заявление перед итальянцами и немцами, что фаланга будет терпеть Франко в качестве главы государства, только пока идет война, быстро дошло до ушей каудильо. Трудно было сказать про генералиссимуса нечто более для него обидное, ведь дискредитировался образ Франко как всемогущего правителя.
В результате Серрано Суньер и Франко легко переиграли наивного Эдилью, безвольного и умеренного графа де Ро-десно, нового лидера карлистов, и многочисленных пользующихся известностью монархистов, убеждая каждого из них, что тот будет на первых ролях в единой партии, если только поддержит каудильо. После предварительных переговоров с различными представителями лагеря националистов Франко отошел от непосредственных контактов, предоставив каждому из этих политических лидеров нервно строить догадки насчет их собственного будущего. Он продолжал участвовать во всех политических событиях, но охотно позволил Серрано Суньеру быть главным архитектором единой партии, а затем и франкистского государства, использовав своего родственника в качестве громоотвода для соперников и недовольных. И тот, понимая, что личная власть Франко должна опираться на официальную государственную структуру, подпитываемую политической поддержкой народа, немедленно взялся за дело. Заодно он попытался обучить обладающего политическим инстинктом, но не слишком изобретательного в интригах каудильо тонкому искусству политики. На самом же деле крестьянская скрытность и элементы психопатии в характере Франко гораздо больше соответствовали менталитету националистов, чем интеллектуальная изощренность Серрано Суньера, зачастую внушавшего как личное, так и политическое недоверие многим сторонникам генералиссимуса.
Но на текущий момент Франко сознавал, что для упрочения власти ему необходим этот деятель с хорошо подвешенным языком, и каудильо обращался к нему за поддержкой и советами. Впрочем, вскоре возобладает его личная подозрительность к Серрано Суньеру. Относясь чрезвычайно ревниво к его высокому происхождению, приятной внешности и светским манерам, Франко готов был отставить своего родственника в сторону, как только тот перестанет быть полезным в политическом отношении. Однако здесь ему приходилось действовать с осторожностью. Жена каудильо, донья Кармен, была очень счастлива, когда ее привлекательный зять оказался в фаворитах у мужа, заменив в этом качестве бездарного Николаса.
Между тем разгорелась настоящая война между двумя группами фалангистов. Обе стороны вооружили своих сторонников, пытаясь захватить главенство в партии, что предоставило штабу Франко превосходный предлог для вооруженного вмешательства и передачи всей полноты власти генералиссимусу. Все началось 16 апреля в Саламанке, когда легитимисты, возглавляемые Аснаром, отстранили Эдилью от руководства партией. В отместку тот отправил группу своих людей с целью захватить штаб партии и арестовать самого Аснара и его сторонников. В последовавшей затем перестрелке были убиты два фалангиста. 18 апреля Эдилью избрали главой фаланги, и он счел себя победителем, но его ликование оказалось недолгим. Когда Эдилья бросился к Франко, чтобы сообщить каудильо радостную новость, тот вытолкал его на балкон, где триумфально объявил о слиянии фаланги и партии карлистов перед весьма своевременно собравшейся толпой и микрофонами многочисленных радиостанций. Сжав лидера фаланги в горячем объятии, он создал у всех присутствующих впечатление, что Эдилья передает руководство своей партией Франко.
19 апреля политический триумф каудильо был освящен официальным декретом об объединении, согласно которому фаланга, карлисты, СЭДА и «Испанское обновление» сливались в одну партию с непомерно длинным названием — «Испанская фаланга традиционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления». Очень скоро эта партия стала именоваться попроще — «Движение» (позднее «Национальное движение»), а иногда — «фаланга». Франко стал ее единым лидером. Армейские офицеры ясно заявили, что все политические партии теперь подпадают под контроль военных, а «Движение» находится под полной властью генералиссимуса. Местным отделениям как фаланги, так и карлистов было Приказано «ориентировать свою текущую пропаганду на интеграцию «Движения» и на прославление каудильо». Став генералиссимусом, то есть верховным главнокомандующим всеми вооруженными силами, главой государства, главой правительства и национальным лидером вновь созданной единой партии фаланги, Франко получил власть, сравнимую со статусом Гитлера и намного превышающую полномочия Муссолини.
Слишком поздно осознав смысл всего происшедшего, Эдилья отказался от предложенной ему утешительной премии в виде членства в исполнительном комитете новой партии, политической хунте, и попытался мобилизовать свои быстро уменьшающиеся силы, чтобы выступить против каудильо. Франко среагировал немедленно. 27 апреля по его приказу Эдилью арестовали, судили за целую серию разнообразных преступлений и приговорили к смерти. А когда верный сторонник фаланги Дионисио Ридруэхо пришел к каудильо, чтобы возразить против смертной казни, Франко удивился: «Неужели они арестовали Эдилью? Мне еще не доложили об этом... Несомненно, они нашли что-нибудь криминальное против него». Являлось ли это чисто политической уловкой или же Франко действительно сумел убедить самого себя, что отправление правосудия принадлежало благородной и непогрешимой военной власти, на которую он не мог напрямую воздействовать, но такая позиция была очень удобной. Как-то во время войны его друг детства, Алонсо Вега, спросил Франко, что случилось с одним их общим приятелем, и каудильо коротко ответил: «Его расстреляли националисты», словно он не имел к ним никакого отношения. За Эдилью хлопотала и Пилар Примо де Ривера (сестра Хосе Антонио), умоляя донью Кармен вступиться за него перед своим мужем, но тот с каменным выражением лица заявил жене, что «решил пресекать на корню любые действия, направленные против него или его правительства, расстреливая всех виновных». И только когда брат Николас заметил, что в политическом отношении было бы вредно «сделать мученика из ничтожества», Франко согласился, чтобы смертную казнь заменили на тюремное заключение. Проведя в камере четыре года, Эдилья так и не был осужден за вменяемые ему преступления вплоть до мая 1947 года.
Суровая реакция Франко на непокорность Эдильи эффективно покончила с любым сопротивлением его плану — стать абсолютным правителем в зоне, контролируемой националистами. Хотя яростные идеологические споры продолжались, нижние чины, уставшие от бесконечных дрязг и соперничества между различными политическими группами, приветствовали объединение. Даже карлисты, получившие большие налоговые льготы в Наварре, скорее готовы были смириться с неизбежным, чем ввязываться в открытый вооруженный конфликт или потерять полученные привилегии.
Вскоре после объединения сформировался чрезмерный, продажный и дорогостоящий двор, ядро которого составила разросшаяся и хорошо оплачиваемая бюрократия. Франко мастерски разыгрывал свою партию, разжигая ревность между основными группами, входящими в «Движение», и позволяя им нейтрализовать друг друга в попытках выйти на первые роли. Инстинктивное осознание своих недостатков и собственная неуемная жадность помогали ему адекватно использовать чужие слабости, в частности корыстолюбие политических конкурентов. Подобно крестному отцу мафии, он покупал потенциальных соперников, предлагая им должности, милости или оказывая услуги — все, что требовалось, чтобы обеспечить их лояльность — и вплетая тем самым этих людей в ткань своего режима. Для самых твердокаменных фалангистов не потребовалось слишком много времени, чтобы понять — сотрудничество с Франко приносит значительные дивиденды.
Каудильо перенес собственный военный опыт в Африке на националистическую Испанию, где он утвердился в качестве авторитарной патерналистской фигуры, а различные группы стали частью своего рода братства, в рамках которого они спорили и состязались между собой. Любые лица, решившиеся бросить вызов отеческой власти Франко, тут же рисковали вызвать гнев других членов «братства». Слабые личности, осознавая относительную 6e3orfacHocTb и надежность предлагаемой каудильо структуры, охотно подчинялись ее законам и с удовольствием подписывались под неясными и путаными фантазиями своего лидера. Другие же просто делали вид, что во всем согласны с каудильо, цинично признавая получаемые от этого выгоды. Раздавая милости и карая, Франко сумел полностью обезопасить себя, поддерживая соперничающие группировки в состоянии постоянной напряженности, когда они были готовы в любой момент вцепиться друг другу в глотку.
Подобно фашистам в Германии, националистическая Испания предоставила массе самых обычных, ординарных людей законную возможность для в общем-то криминального поведения. Франко дал будоражащий выход ранее подавляемым импульсам и инстинктам, он, по сути, отменил индивидуальную мораль — как предполагалось, ради «блага» его «команды», а тех, у кого и ранее отсутствовали этические нормы, освободил от страха перед наказанием. Убийства, пытки, насилие и грабеж стали нормальным явлением и даже поощрялись, если они совершались во имя высшей, идеализированной «власти». Франко также как бы открыл клапан для выплеска ненависти к женщинам и страха перед ними — чувства, которые ярко проявились у него самого в Африке. То, что соратники каудильо испытывали постоянный страх перед властными, политизированными представительницами враждебного им лагеря, стало ясно из отравленной националистической прессы, которая заклеймила социалистку Маргариту Нелькен, поскольку она «не женщина, а отвратительная помесь, образчик гермафродита» и потаскуха, использующая «свою женскую часть для предоставления платных любовных утех». Лидера коммунистов Долорес Ибаррури, Пасионарию, которая воплощала все, чего эти люди боялись и ненавидели, обвинили в том, что она — «бывшая монашенка, ставшая знаменитой после того, как однажды на улице набросилась на несчастного монаха и зубами прокусила ему яремную вену». Франко, конечно, возмущался, ознакомившись в 1938 году с таким сообщением: «Если вы поедете в Астурию, то встретите там пятнадцати- и шестнадцатилетних, а то и более юных девочек, изнасилованных и беременных. Вы найдете там массу примеров различных надругательств, множество девочек, которые были реквизированы для того или иного русского офицера, и бессчетное количество других доказательств варварства». Но на самом деле в националистической Испании насилие над женщинами и девочками считалось не только приемлемым, но и являлось составной частью франкистского режима. По словам Артура Кестлера, генерал Кейпо де Льяно «описывал сцены насилия с непристойным удовольствием, что само по себе было косвенным подстрекательством к повторению подобных сцен». Как выяснится уже в мирное время, эта ненависть к женщинам и эта «сексуальная психопатология» не ограничатся только годами войны.
И, как уже много раз было, невротические страхи Франко принесли ему значительные политические дивиденды. Призывая своих сторонников терроризировать и искоренять левых, он закладывал основы режима, которому впоследствии никто не сможет всерьез угрожать. Именно поэтому Франко отверг целый ряд международных мирных инициатив и продолжал бороться за безусловную сдачу республиканцев. Единственным среди националистов человеком, обладавшим значительной властью, который еще мог представлять какую-то угрозу положению Франко, оставался Мола. Каудильо не мог без жгучей ревности относиться к тому факту, что Мола сыграл ключевую роль в подготовке восстания, к которому сам Франко изначально относился прохладно, боясь бесславного поражения. Оба лидера не всегда сходились в оценке военной ситуации, но резко отличало их совсем другое. Известный своим почти маниакальным аскетизмом, Мола был в ужасе от разбухших сетей коррупции, в которые Франко, завладев абсолютной властью, завлекал подчиненных. С этой точки зрения симпатии генерала могли привлечь республиканцы, которые устанавливали парламентское правление, а не авторитарный режим. Трудно сказать, как повел бы себя далее Мола, но 3 июня 1937 года его самолет разбился на пути из Памплоны в Виторию, причем все находившиеся на борту погибли. Чтобы сообщить каудильо ужасную новость, послали страшно нервничавшего начальника главного штаба военно-морского флота. Когда после долгих колебаний и околичностей он все же выговорил, что Мола погиб, Франко весьма холодно ответил: «Только и всего. А то я уже боялся, вы мне скажете, что потоплен крейсер “Канариас”». Когда гроб с телом Молы спускали по трапу самолета у штаба дивизии, генералиссимус, к тому времени ставший довольно тучным, вскинул руку в фашистском приветствии. В этот момент его форма лопнула под мышкой, что вызвало приглушенные смешки в свите каудильо. Сам же он, наоборот, не выказал никаких эмоций во время похорон. И хотя вскоре открыли памятник Моле, Франко очень хотел, чтобы память о нем похоронили вместе с телом. Личные бумаги Молы немедленно изъяли, а его ведущая роль в восстании и военных действиях была умело смягчена, так, чтобы удовлетворить ненасытную потребность Франко во всем ощущать свое превосходство. Его усилия не помешали Гитлеру годы спустя заявить: «Подлинной трагедией для Испании оказалась смерть Молы; это был настоящий мозг, настоящий лидер». И хотя устранение еще одного соперника только утвердило веру Франко в собственное бессмертие, он отнюдь не был расположен оставлять что-либо на волю случая. С этого времени он перестает летать на фронт на самолете, повсюду разъезжая на автомобиле.
Почувствовав себя гораздо уверенней в политическом и психологическом плане после кончины Молы, Франко стал проявлять значительно больший интерес к войне. Он лично обсудил тактику дальнейших боевых действий с полковником Барросо, своим начальником генерального штаба, и генералом Кинделаном. 11 июня северная армия, теперь уже под командованием не вышедшего ростом, но зато преданного ему генерала Фиделя Давилы, возобновила свой марш на Бильбао, прорвав оборону города 12 июня. Деморализованные баски, напуганные бомбардировками Дуранго и Герники и убежденные в том, что республиканское правительство забыло про них, в своем большинстве бежали из города, оставив нетронутыми предприятия тяжелой промышленности. Стремясь избежать еще одной гневной международной реакции, Франко отдал приказ, чтобы в город вошла пока только небольшая часть войск. 13 июня он выступил по радио с обращением к жителям Бильбао, которые все еще продолжали оказывать сопротивление: «То, что вы называли железным кольцом, было прорвано нашими войсками. Ничто не может остановить победное, все сметающее на своем пути наступление националистической армии. С минуты на минуту Бильбао окажется под нашим огнем и всякое сопротивление будет бесполезным. Если вы хотите избежать разрушения остальной Бискайи и военных действий в столице, сложите оружие». Он также объявил баскам, что «вам нечего бояться, если вы не совешпили ничего серьезного». Но эти слова не слишком успокоили республиканцев, которые очень хорошо знали, что сам факт принадлежности к противной стороне считался достаточным основанием для расстрела. И действительно, обещание Франко: «Если вы намерены сдаться, воспользуйтесь еще оставшимися у вас мгновениями» — оказалось банальной ложью. Националисты вошли в Бильбао 19 июня, практически не встретив никакого сопротивления. Несмотря на то что они сдались без боя, поддавшись заверениям каудильо, тысячи басков были казнены или брошены в тюрьмы.
«Восторженные приветствия» Гитлеру, где Франко благодарил его за оказанную помощь, и письмо, в котором каудильо хвалил генерала Шперрле за «эффективные и прекрасные» действия немецкой авиации, безошибочно указывают на отношение генералиссимуса к событиям в Гернике. Но его угодливые излияния резко контрастировали с уничтожающими донесениями в Берлин генерала Вильгельма Фаупеля о затянувшихся военных действиях.
То, что смерть Молы, а также насмешки немцев, могли вызвать у Франко ощущение беспокойства и одновременно чувство собственного всесилия, явственно проявилось в его автобиографическом киносценарии «Мы». В эпизоде, не вошедшем в фильм, близкий друг Хосе и его зять Луис, сражающийся на фронте в Бильбао, теряет присутствие духа, когда республиканцам удается потопить крейсер. Призыв некоего офицера: «Мы должны верить в победу. Сегодня утром к нам приезжал генералиссимус, и он был совершенно спокоен» — не возымел должного эффекта. И в то время как бравый старый вояка (очень уж смахивающий на «убеленного сединами ветерана» из марокканского дневника Франко) хочет вступить в армию, поскольку у него убили двух сыновей, Луис дезертирует и возвращается к жене и семье. Возмущенная Исабель обзывает его предателем и выгоняет из дома. По замыслу Франко, Луис (который, по-видимому, воплощает его второе Я, страдающее комплексом вины), затем погибает, когда пытается перейти линию фронта, возвращаясь в Бильбао. А в это время Хосе героически ведет батальон на штурм города. Утешая рыдающую сестру, Хосе сове-
Франсиско — кадет Военной академии в Толедо. Его брат Николас (сидит) — кадет Военно-морской академиии. 1907 г.
Дон Николас и донья Пиларна на крещении Франсиско Франко.
17 декабря 1892 г
Младший лейтенант Франсиско Франко мечтает о будущем. Сентябрь 1910 г.
Одна из множества открыток, которые Франко посылал Софии Субиран из Марокко с 6 января по 5 июня 1913 г.
*
Всегда в военной форме. Подполковник Франко женится на Марии дель Кармен Поло. Овьедо, 22 декабря 1923 г.
Товарищи по оружию: Франсиско Франко и Мильян Астрай в Дар-Риффьене. Марокко, февраль 1926 г.
Гражданская война: генерал Франко обдумывает военную операцию в Теруэле. Декабрь 1937 г
Ради спасения родины от анархии Франко превращает ее в руины. Мадрид, 1938 г.
Церковные иерархи празднуют «католическую победу» Франко. Каудильо — под королевским балдахином, привилегия, которой ранее удостаивались лишь короли Испании.
Франко и Гитлер во время знаменательной встречи в Андае. Франция, 23 октября 1940 г.
«Крестный отец». Каудильо в окружении военных. Его сопровождают (слева направо): донья Кармен, генерал Москардо, Ненука и Пакон. Октябрь 1949 г.
$
Донья Кармен наблюдает, как Франко приветствует Эвиту. Июнь 1947 г.
Прошлое и будущее. Каудильо с доньей Кармен, Хуаном Карлосом и принцессой Софией на праздновании 36-й годовщины вооруженного восстания. 18 июля 1972 г.
Начало конца. Генералиссимус после убийства генерала Карреро Бланко. Декабрь 1973 г.
тует ей помнить лишь о героизме Луиса, а не о его «предательстве».
После падения Бильбао, по-видимому, стремясь заглушить собственные «предательские» тревоги и «пораженческие» настроения, Франко перевел свою штаб-квартиру из Саламанки в аристократический дворец Мугиро в Бургосе, где он собирался отпраздновать победу. Война против католиков в Басконии еще больше убедила Франко в необходимости добиться официального признания папы римского. Он жаждал получить личное одобрение папой своих действий не только по невротическим причинам. Расположение Ватикана было необходимо каудильо для легализации его политической власти и воздействия на католическую общественность в демократических странах, чтобы уменьшить международную враждебность к его режиму, вспыхнувшую после бомбардировки Герники. Кардинал Гома помог Франко и Ватикану разрешить очень неприятную проблему — гибель тысяч баскских католиков: их он заклеймил как коммунистов и язычников. В организованном кардиналом коллективном обращении «К епископам всего мира», опубликованном 1 июля 1937 года, военный мятеж признавался законным, а также полностью отметалось обвинение националистов в фашизме. Хотя два епископа и отказались подписать его из боязни спровоцировать репрессии против католиков на республиканской территории, оно оказало огромную услугу Франко. Тем не менее продолжающиеся колебания Ватикана в вопросе о полном признании режима каудильо и твердая позиция Рима, желавшего сохранить за собой право назначать епископов, вызывали раздражение у «блудного сына». Явно не собираясь делать разницу между самим собой и королями-во-ителями из славного прошлого Испании, — а возможно, в мыслях путая папу со своим прижимистым отцом, — Франко упрямо требовал, чтобы за ним признавались те королевские привилегии, которые были источником стольких конфликтов между монархом и церковью в прошлом.
А тем временем, к великому огорчению Кинделана, силы националистов потеряли три недели на перегруппировку, прежде чем продолжить наступление на Сантандер через
7 Ходжес Г. Э.
Бискайю. В 1941 году он писал: «Противник был разбит, но не было предпринято его преследование; успех не был развит, и отступление врага не завершилось его полным разгромом». Эта передышка позволила Рохо предпринять неожиданное наступление у селения Брунете, в двадцати пяти километрах к западу от Мадрида. Взбешенный Франко со словами: «Они же обрушили мадридский фронт» тут же бросил к столице две бригады вместе с легионом «Кондор» и итальянской авиацией под общим командованием Варелы. В невыносимую жару и полнейшей неразберихе на мадридском фронте, когда обе стороны регулярно бомбардировали и обстреливали собственные части, националисты постепенно оттеснили республиканцев на исходные позиции. По мере отступления противника настроение у Франко поднималось. Во время этого сражения, одного из самых кровопролитных за всю войну, республиканцы потеряли свыше двадцати тысяч бойцов из своих лучших частей. Абсолютно безразличный к разрушениям и человеческим потерям, приободрившийся генералиссимус с головой погрузился в решение каждодневных вопросов в своем временном штабе неподалеку от Мадрида.
18 июля обескураженный Асанья говорил: «Никакая политика не может основываться на решимости полностью уничтожить противника». А ликующий, бесчувственный Франко, не страдавший подобными комплексами, превозносил свои победы над «бандой убийц», «преступниками и ворами». В разгар бойни на мадридском фронте он нашел время, чтобы вернуться в Саламанку и отпраздновать первую годовщину своего «Движения». Окончательно уверившись, что Всевышний, История и Справедливость на его стороне, каудильо похвалялся тем, что спас от анархии «имперскую Испанию, которая была матерью наций и диктовала законы всему миру». Когда 25 июля кровавое сражение в пригородах Мадрида наконец прекратилось, как раз в день святого Иакова, Сантьяго, покровителя Испании, генералиссимус, восприняв это как знак свыше о признании его личных заслуг, заявил: «Апостол даровал мне победу в день своего праздника».
Вместо того чтобы преследовать республиканцев до самого Мадрида, Франко принял поразительное решение: он вернул наваррские бригады на север, чтобы возобновить наступление на Сантандер. То ли он не хотел, чтобы столица пала до того, как баски будут полностью разгромлены, то ли необходимость штурмовать сердце Родины вызывала у него глубоко затаенные тревоги, но этим решением он без нужды затянул войну. 14 августа войска генерала Давилы двинулись на запад, в направлении Сантандера. Опасаясь еще одной бойни, Муссолини стал поспешно убеждать Франко: если впервые за время войны удастся договориться о сдаче защитников города без боя, это стало бы крупной пропагандистской победой в католическом мире. Поверив обещанию Николаса Франко, что капитулировавшие политические и военные лидеры будут вывезены в безопасное место, 23 августа баски сдались итальянцам в городке Сантонья, между Бильбао и Сантандером. Опьяненные победой итальянцы маршировали по улицам Сантандера с гигантскими портретами Муссолини в руках. Согласно договоренности, баскских политических деятелей погрузили на два британских торговых судна, которые должны были вывезти их в безопасное место под охраной итальянцев. Это оказалось больше, чем мог стерпеть каудильо. Глубоко оскорбленный триумфальным поведением итальянцев, в ужасе от одной мысли, что его враги могут избежать кары, мстительный Франко немедленно приказал заблокировать порт и потребовал от итальянцев выдачи баскских беженцев. Опасаясь наихудшего, итальянцы упирались в течение четырех дней, но затем все же неохотно уступили, получив заверения, что условия сдачи будут соблюдены. Франко же немедленно организовал военные трибуналы, которые вынесли сотни смертных приговоров, игнорировав жалобы итальянцев, которых он скомпрометировал своим бесчестным поведением.
Разгром басков Франко посчитал большой военной победой, но идеологическая ненависть к врагу лишила его политического благоразумия. Подобно тому, как безудержное стремление Гитлера к мести на Boctqhhom фронте превратило потенциальных сторонников нацизма в его неумолимых противников и способствовало поражению во Второй мировой войне, так и Франко шел на поводу у собственной беспредельной жестокости. Веди он себя иначе, мог бы привлечь на сторону националистов баскских католиков, которые в основном были консервативны, и таким образом нейтрализовать многих противников своего режима. К тому же генералиссимус, который проявлял столько красноречия, восхваляя отвагу в бою, и с презрением относившийся к численному или техническому превосходству противника, ни разу за те же достоинства не отдал должное ни одному республиканцу. В результате он не только не привлек тысячи мужественных басков на свою сторону, но и сделал их самыми злейшими и бескомпромиссными врагами его диктатуры в последующие годы.
24 августа, пока Сантандер еще держался, центр военных действий сместился на запад, когда республиканцы предприняли еще одно отвлекающее наступление в Бельчите, намереваясь взять в кольцо Сарагосу. Хотя Франко и послал туда несколько дополнительных частей с мадридского фронта, его удалось убедить не поддаваться на отвлекающий маневр Рохо и отложить намеченный бросок на Астурию. Это был первый и единственный раз за всю гражданскую войну, когда, уступив давлению своих военных советников, он стерпел продвижение республиканцев по территории националистов. И хотя это решение было полностью оправданно с военной точки зрения, оно шло вразрез с чисто эмоциональными приоритетами Франко. С тех пор он решительно отказывался от какой-либо уступки территории, чего бы это ни стоило националистам.
Военный план франкистов осуществлялся довольно легко. Беспрепятственно продвигаясь к северу, уже 2 сентября националисты были готовы начать наступление на Астурию сразу с трех сторон. Блокированные с моря, подвергавшиеся постоянным воздушным бомбардировкам и комбинированным обстрелам с применением новейшей немецкой техники, обороняющиеся республиканцы окончательно пали духом. Хихон и Авилес пали 21 октября. Тем самым Республика потеряла угледобывающую промышленность и северную армию. Националисты теперь получили возможность объединить железорудное производство Басконии с угольными шахтами Астурии. Поскольку все порты северной Испании находились в руках Франко, флот националистов мог сконцентрироваться на Средиземном море, единственном морском пути для поставок продовольствия ^ оружия. А у армии националистов оказались развязаны руки для действий в центре и на юге страны. Постыдный переезд неудачливого республиканского правительства из Валенсии в Барселону якобы в целях лучшей мобилизации каталонских ресурсов для военных нужд — и в то же время чтобы находиться поближе к французской границе на случай поражения — еще больше способствовал укреплению морального настроя националистов.
После этих военных успехов Франко вновь обратил внимание на упрочение своей власти на территории, контролируемой националистами. Была запущена гигантская пропагандистская машина, чтобы изобразить Франко как последнего короля-воина нашего времени. Оставляя без внимания коррупцию, аморальность и прочие деструктивные составляющие режима, не говоря уже об очевидной неполноценности самого героического вождя, эта кампания сумела убедить Франко и многих других в том, что он возглавлял высоконравственный и суровый крестовый поход против орд безбожников. Непрекращающаяся пропаганда не только способствовала промыванию мозгов испанцев, но и помогала генералиссимусу находить утешение в массовых проявлениях безудержной лести именно в те моменты, когда его собственное Я проявляло признаки слабости. Поставленная на поток дезинформация позволяла постоянно интерпретировать окружающую реальность и очевидные факты так, чтобы удовлетворить личные фантазии каудильо и подавить его страхи, а также соответствовать политическим представлениям националистов. Причем эти представления вскоре полностью смешались с эмоциональными приоритетами генералиссимуса. Таким образом, политические структуры режима Франко отражали внутреннее функционирование его психики.
Устав новой фаланги, составленный Серрано Суньером и подписанный Франко 4 августа 1937 года, предоставлял каудильо абсолютную власть. Высший орган этой объединенной партии — Национальный совет, учрежденный на хорошо срежиссированной церемонии 19 октября 1937 года, — стал главным местом для выражения различных устремлений нескольких групп, входивших в националистическую коалицию. Члены его исполнительного органа, Политической хунты, должны были назначаться самим каудильо. Как, несомненно, и задумывал Франко, кадровый состав и идеологический спектр Национального совета делали его неспособным к выражению потенциального недовольства. Недостаток политической остроты заменялся традиционной помпезностью и хорошо вознаграждавшимися синекурами для его членов.
Франко, сам старательно изображавший из себя средневекового короля, постепенно отказывался от мысли посадить на испанский престол какого-либо другого монарха, например Альфонса XIII или дона Хуана. Хотя он и обеспечил себе постоянную поддержку монархистов, пообещав им реставрацию, с каждым днем это становилось для него все менее желательным. Явно забыв свой прежний гнев на офицеров за то, что они не поддержали свергнутого короля в 1931 году, 4 декабря 1937 года Франко направил письмо Альфонсу XIII, где упрекал его за «компромисс с либеральной и конституционной Испанией», которой тот в свое время правил, что делало короля абсолютно неприемлемым для «новой Испании». Каудильо высокомерно указал ему готовить своего наследника для «цели, которую мы предчувствуем, но которая, однако, столь далека, что пока трудно о ней судить конкретно». Пройдет несколько десятилетий, пока она наконец прояснится.
Почувствовав еще большую силу после того, как бросил открытый вызов королевской власти, генералиссимус занял более неуступчивую позицию и по отношению к своим фашистским друзьям. Ободренный военными успехами на севере, но обозленный помощью итальянцев баскским беженцам, каудильо написал «неприятное письмо» Муссолини, потребовав немедленной замены генерала Бастико. На смену ему прибыл генерал Марио Берти. С Берлином у каудильо в октябре 1937 года также возникли трения. Они обострялись на протяжении уже некоторого времени, так как Франко обиделся на Гитлера за его посягательства на испанские полезные ископаемые. Франко требования фюрера платить за оказываемую помощь считал оскорбительными, ибо каудильо вел войну, которая шла на пользу фашизму. Раздраженный Франко, в нарушение условий заключенного с немцами в июле 1937 года соглашения о привилегированных торговых отношениях для расплаты за помощь националистам, объявил все ранее выданные иностранным компаниям документы на право собственности на шахты или на право их разработки аннулированными. Очень скоро он пожалел о содеянном и нервно попытался убедить нового посла Германии, барона Эберхарда фон Шторера, что этот жест не был направлен против немцев. Тем не менее в ноябре 1937 года каудильо отдал распоряжение националистической прессе поумерить пыл в кампании против Великобритании и ее «продажной демократии». Немцы были поражены. И хотя этот ход Франко — скорее результат личной пикировки со странами «оси», чем проявление симпатии к Великобритании, он принес некоторые дипломатические дивиденды. 16 декабря Великобритания объявила о своем признании Франко де-факто, назначив сэра Роберта Ходсона своим представителем в националистической Испании.
Бросив вызов королю и фюреру и укрепив личное политическое положение, Франко вновь обратился к военным делам. Обретя уверенность, он опять — вопреки советам своих офицеров, которые предлагали наступать на Валенсию или прочесать Каталонию, — решил идти на столицу. Став на некоторое время менее уступчивым к союзникам из стран «оси», генералиссимус решил добиться успеха там, где провалились итальянцы девять месяцев назад — на гвадалахарском фронте. В свою очередь, республиканское правительство торопило генерала Рохо, требуя, чтобы тот опередил Франко, нанеся отвлекающий удар по Теруэлю, столице одной из арагонских провинций. Что он и сделал 15 декабря, причем довольно успешно. Застав врасплох противника, республиканцы, впервые за всю войну, вошли в столицу провинции, находившейся под властью националистов, окружив их гарнизон.
Итальянские и немецкие советники, а также члены его генерального штаба настоятельно советовали Франко не отклоняться от ранее разработанного плана, но тот факт, что военный губернатор националистов оказался в окружении, был слишком сильным раздражителем для генералиссимуса. 20 декабря он бросил на Теруэль целый корпус под командованием Варелы. Республиканцы отчаянно дрались за каждую улицу. Националистам, пока не подошли подкрепления с мадридского фронта, пришлось использовать ручные гранаты и огнеметы. Сражение проходило в разгар суровой зимы, когда температура падала до двадцати градусов ниже нуля. С обеих сторон солдаты гибли от обморожения. 8 января 1938 года окруженный гарнизон националистов сдался республиканцам. В приступе безудержной ярости Франко назвал военного губернатора гнусным предателем и объявил его единственным виновником поражения. На деле же в очередной раз стали очевидными ошибки каудильо как командующего: он не использовал тактические преимущества под Мадридом, с поразительной, хотя и свойственной ему расточительностью отнесся к потерям собственных войск и, как обычно, во всем обвинил своих подчиненных. Подобно Гитлеру, Франко не умел отступать, когда это было необходимо, и использовал лучшие воинские части не в том месте и не в то время.
18 января прибыли подкрепления под командованием Аранды вместе с марокканским корпусом Ягуэ. С переменным успехом ожесточенное сражение продолжалось до 7 февраля, когда националисты в конце концов прорвали оборону противника, вернув Теруэль и захватив большую территорию, порядка пятнадцати тысяч пленных и тонны ценного военного снаряжения. Не обращая внимания на собственные потери и не отметив мужество оборонявшихся, генералиссимус проявил неприличное ликование по поводу того, что в результате этого кровопролитного сражения были физически истреблены лучшие части республиканской армии. И хотя, как пишет Норман Диксон, «отсутствие гуманности способствует военной некомпетентности», к счастью для Франко, этот его недостаток постоянно компенсировался помощью держав «оси» и политикой «невмешательства». Республиканцы не имели возможности восстановить свои разбитые войска, пока французская граница оставалась закрытой. Это поражение стало поворотным пунктом в войне.
Победа под Теруэлем вызвала у Франко новый приступ мании величия. Несмотря на взволнованные послания дуче, в которых тот требовал начать крупномасштабное, окончательное наступление на Республику, угрожая в противном случае отозвать итальянские части, каудильо не сразу и с большой неохотой решился связаться с Римом. Он послал Муссолини не слишком вразумительное письмо, в котором вроде бы соглашался с требованием дуче, вместе с тем давая понять, что прекращение помощи могло быть расценено как проявление трусости с итальянской стороны, а в завершение нагло предлагал эту помощь, наоборот, увеличить. И хотя Чиано жаловался: «Мы проливаем нашу кровь за Испанию, чего они еще хотят?» — это путаное, непоследовательное послание заставило растерянного Муссолини согласиться, чтобы корпус итальянских волонтеров был использован «в славном, решающем сражении».
Иногда не соглашаясь с Гитлером и Муссолини по не слишком принципиальным вопросам, Франко всегда стремился продемонстрировать им фашистский характер своего режима. Когда 30 января 1938 года каудильо сформировал первый кабинет министров с участием штатских, он заявил, что это правительство будет вести Испанию по тоталитарному пути, уничтожив классовую борьбу, политические партии и выборную практику либеральных демократий. В качестве министра внутренних дел Серрано Суньер полностью контролировал комитет по делам прессы и пропаганды, в компетенцию которого теперь входило и радио. Закон о прессе от 1938 года (действовавший до 1966 года) ставил средства массовой информации «на службу государству». Все печатные публикации, визуальные материалы и радиопередачи до выпуска в свет должны были проходить предварительную цензуру. Немецкие журналисты от этого освобождались.
Из генералов в состав кабинета вошли только достаточно старые или достаточно лояльные к Франко военные: Кей-по де Льяно не подходил ни под одну из этих категорий. Генерал Франсиско Гомес Хордана стал министром иностранных дел, а генерал Фидель Давила — министром обороны. Новый министр общественного порядка, престарелый генерал Севериано Мартинес Анидо, усилил чистки от левых на захваченной территории. Остальные назначения отражали попытку установить равновесие между соперничающими в движении националистов силами. Монархисты, карлисты, фалангисты, все они вознаграждались больше за верность Франко, чем за знания или опыт в какой-либо области. Не доверяя никому, каудильо умудрился внушить каждому из них, что именно он является его любимчиком. Ветеран-фалангист, Раймундо Фернандес Куэста, стал генеральным секретарем «Движения», а затем министром сельского хозяйства. Серрано Суньер убедил Франко (который неохотно согласился) не назначать своего брата Николаса, совершенно погрязшего в коррупции, министром промышленности и торговли под тем предлогом, что было бы «слишком много семейственности». Вместо этого генералиссимус отправил Николаса послом в Лиссабон, где тот станет полезным посредником между Франко и доном Хуаном де Бурбоном.
На следующий день после объявления состава нового правительства Франко начал принимать иностранных дипломатов в Саламанке. Ожидая встретить некоего патологического безумца, многие из них были поражены обходительными манерами каудильо. Его умение казаться полной противоположностью тому, каким он был на самом деле, вполне может являться следствием психогенного реактивного состояния, когда человек — даже не вполне осознанно — выдает себя за другого. Так или иначе, но это срабатывало. Во французской прессе произвел фурор взгляд каудильо, «незабываемый, присущий только выдающимся личностям, тревожный и трепетный, исполненный мягкости, завлекающий и таинственный. Просто чудо душевной теплоты и энергии... Но самое восхитительное во Франко — это его чистота». Подобно тому, как французский посол называл Гитлера «человеком уравновешенным, многоопытным и мудрым», так и британский представитель, сэр Роберт Ходсон, был тронут скромностью генералиссимуса. Отмечая «мягкий голос» каудильо и манеру говорить, утонченную, хотя и быструю, он признался, что больше всего во Франко его привлекали неотразимые глаза, «карие с желтизной, умные, живые, выражающие неизъяснимую доброту». (Как указывает Эрих Фромм, не всегда можно «заметить разницу в выражении взгляда человека очень набожного, почти святого, и человека крайне самовлюбленного, иногда полубезумного».)
Отношения с Ходсоном стали настолько теплыми, что, как бы забыв о профашистских идеях, высказанных им буквально накануне, Франко заявил, что его новый кабинет министров будет действовать «в гармонии с английскими идеалами». Это, впрочем, не помешало ему тут же подтвердить свою решимость крепить отношения Испании с «теми, кто был ее другом в дни испытаний, когда над ней нависла коммунистическая угроза»: с ее союзниками, державами «оси». «Хартия труда» каудильо, несколько расплывчатая «конституция», основой которой послужила итальянская Carta del Lavoro, вполне отвечала этой цели. Задуманная как подачка фаланге, она должна была представлять собой нечто среднее между «либеральным капитализмом» и «марксистским материализмом», выражая расплывчатые революционные идеи — так, испанцам будут гарантированы «Родина, хлеб и справедливость». В сороковые годы Франко со всей очевидностью продемонстрировал, что ни в малейшей степени не чувствует себя обязанным придерживаться этих идеалов, особенно насчет «хлеба и справедливости».
А на военном фронте крах республиканцев под Теруэлем открывал прямую дорогу для полной победы националистов. 9 марта 1938 года Франко предпринял массированное наступление в соответствии с планами, составленными генералом Хуаном Вигоном. Фронтом шириной в двести шестьдесят километров войска двинулись на восток, в направлении долины реки Эбро, совершая вылазки в северный Арагон, к Пиренеям, а на юге — в направлении Валенсии. Силы националистов почти не встречали сопротивления измотанных и деморализованных частей республиканцев, которые, недооценив масштаб наступления Франко, не захотели отвлекать войска от Мадрида. Под общим командованием генерала Давилы двести тысяч солдат, включая марокканский армейский корпус Ягуэ и корпус итальянских добровольцев под командованием генерала Марио Берти, при поддержке легиона «Кондор», обладавшего колоссальной огневой мощью, прорвали слабо оборудованную, растянутую линию обороны республиканцев. И хотя каудильо основательно расстроился, когда 6 марта был потоплен крейсер «Балеа-рес», быстрое и успешное наступление националистов скоро вернуло ему присутствие духа.
Вот только инструкции, получаемые из Италии и Берлина, периодически вызывали у каудильо приступы дурного настроения и вносили путаницу в военные планы. Приказ Муссолини итальянским летчикам подвергнуть массированным бомбардировкам жилые районы Барселоны раздраженный Франко отменил, поскольку не желал лишаться удовольствия самому отдать подобный приказ. Кроме того, дуче вторгся в сферу его суверенных прав, чего каудильо потерпеть не мог. 10 марта неудержимый Ягуэ занял руины Бельчите. 23 марта он форсировал Эбро вблизи городка Кин-то, наваррская армия под командованием Сольчаги достигла Пиренеев, а итало-испанские части прочесали юг Арагона. В начале апреля каталонский город Лерида сдался Ягуэ. Казалось, что националисты вот-вот уничтожат остатки республиканской армии и займут всю Каталонию.
Однако Франко, обеспокоенный тем, что его полная победа в Каталонии может побудить французов вступить в войну на стороне республиканцев, решил, к удивлению своих советников, повернуть войска на юг и начать наступление на Валенсию. Его медлительность в ведении военных действий вызвала уже привычный взрыв насмешек в Италии. Как позднее писал Винсенте Рохо, «приложив гораздо меньше усилий и затратив гораздо меньше времени, он мог уже в мае 1938 года добиться успеха, которого достиг лишь в феврале 1939 года». Ягуэ, измотанный и взбешенный бесполезным маневром, а также недовольный репрессиями каудильо, разразился пространной тирадой по поводу манеры Франко воевать. Мало того, он высказался о необходимости залечить раны, по достоинству оценил мужество республиканцев и в довершение всего потребовал помиловать Эдилью и его последователей. Кому другому это стоило бы строжайшего наказания, но поскольку речь шла о героическом лидере африканской армии, верном соратнике, помогавшем Франко прийти к власти, и офицере, на поддержку которого он всегда мог рассчитывать, каудильо обошелся без крайних мер. Посчитав его выходку временным затмением, вызванным чрезмерным напряжением и усталостью от войны, а не политическими амбициями, Франко отозвал Ягуэ в Саламанку на время, достаточное, чтобы «перевоспитать» его, а затем вновь поставил во главе марокканского армейского корпуса.
Тем временем войска Франко продвигались вниз по долине реки Эбро, отрезав Каталонию от остальной Республики и выйдя к морю у Виньяроса, к северу от Кастельона, в Страстную Пятницу, 15 апреля 1938 года. Пресса националистов с ликованием объявила, что «меч Франко расколол на две части Испанию, еще остававшуюся в руках красных». Генералиссимус, предвкушая скорую победу и полагая, что после нее итальянцы и немцы потребуют свою долю, забросил удочку на предмет возможности вывода их войск. Однако его эйфория оказалась недолговечной. Франция ненадолго открыла границу, и новые поставки оружия и боеприпасов вдохнули ощутимый заряд энергии в республиканскую армию. Предпринятое националистами наступление на Валенсию с целью расширить выход к Средиземноморью встретило ожесточенное сопротивление и позорно захлебнулось. Муссолини пришлось направить в июне — июле солидные подкрепления в Испанию, а Франко был вынужден восстановить права Германии на шахты в Испании, чтобы обеспечить непрерывные поставки немецкой помощи.
Наступление на Валенсию оказалось для националистов мероприятием медленным и дорогостоящим. Тогда Франко распорядился, чтобы немцы и итальянцы подвергли жестоким бомбардировкам прибрежные города и торговые корабли Республики в этой зоне. В результате были потоплены несколько английских судов. Немцы, опасаясь реакции Великобритании, попытались убедить Франко, чтобы тот приказал прекратить налеты, а итальянцы, широко открыв глаза, принялись энергично утверждать, что они к этим налетам не имели никакого отношения. Франко, однако, отменил бомбардировки только тогда, когда поползли слухи о возможной отставке английского премьера Чемберлена. Он не хотел, чтобы место Чемберлена занял убежденный антифашист Антони Иден, который подал в отставку с поста министра иностранных дел в знак протеста против политики умиротворения фашистских держав, проводимой консервативным правительством Великобритании.
Передышка оказалась слишком короткой для Республики. 13 июня новое французское правительство закрыло границу с Испанией, в то время как Чемберлен, готовый пойти на все, чтобы успокоить державы «оси», с удовольствием согласился с Франко, утверждавшим, что он ведет христианскую войну против «антихриста». 18 июля, во время празднования второй годовщины начала военного мятежа, правительство националистов воздало почести в пространном послании «тому, кто Божественным промыслом, возложив на себя высшую ответственность перед народом и перед Историей, исполнился вдохновения, мужества и силы, чтобы поднять истинную Испанию против врагов Родины, и с тех пор лично ведет с непревзойденным искусством одну из самых тяжелых войн в Истории».
На не слишком своевременной церемонии факельные шествия фалангистов смешались с пышностью средневековой коронации. Франко был утвержден в «качестве генерал-капитана армии и флота, главы государства, генералиссимуса сухопутных войск, военно-морских и воздушных сил и национального главы Испанской фаланги». Ранг генерал-капитана ранее оставался привилегией королей Испании. Таким образом, Франко осуществил две свои мечты — получить королевское звание и право носить форму адмирала флота, привилегию, которой он с тех пор пользовался при любой возможности. (Если Франсиско Франко надеялся, что это произведет впечатление на его отца, то он глубоко заблуждался.)
Пока шли все эти победные празднества, части республиканской армии произвели перегруппировку сил, и в ночь с 24 на 25 июля, застав Ягуэ врасплох, сумели захватить плацдарм за рекой Эбро. Спустя неделю они продвинулись на сорок километров, но застряли под Гандесой. К ужасу генерального штаба, вместо того чтобы организовать наступление на других, более важных и относительно слабо обороняемых фронтах включая барселонский, генералиссимус приказал ответить массированной, дорого обошедшейся контратакой в районе Эбро. Муссолини, который никак не мог этого понять, раздраженно протестовал против «неумелого ведения военных действий», заявив: «Я предсказываю поражение Франко. Этот человек либо не умеет, либо не хочет воевать». Решение каудильо вызвало также ожесточенные разногласия между ним и его генералами и даже вылилось в открытый конфликт — в первый и единственный раз. Пакон свидетельствует, что советники Франко буквально стонали от досады, а сам он вопил, что генералы не исполняют его приказания.
28 августа Франко получил известие, что его младший брат Рамон пропал без вести — предположительно погиб, — вылетев на бомбардировку морских доков в Валенсии. Невозмутимо заметив, что это честь для брата — «отдать жизнь за Родину», Франко распорядился устроить Рамону пышные похороны на Мальорке, однако сам на них не приехал. Его представлял Николас. Смерть Рамона обросла самыми невероятными версиями. Говорили, что его самолет был испорчен либо неким обиженным коллегой националистом, либо масонами. Сестра Рамона Пилар больше склонялась именно к последней версии на том основании, что брат писал книгу, где раскрывал деятельность некоей масонской организации, к верхушке которой он, по ее мнению, принадлежал. Решение Франсиско Франко немедленно опечатать квартиру Рамона после его смерти, как считала Пилар, подтверждает это. Впрочем, по ее словам, рукописи там к тому времени уже не было. Республиканцы же утверждали, что Рамон пытался перелететь на самолете на их сторону, чтобы участвовать в борьбе против националистов, но его сбил итальянский истребитель. Какова бы ни была истинная причина гибели Рамона, вполне возможно, что Франсиско Франко его смерть могла показаться вполне подходящим завершением их соперничества, продолжавшегося на протяжении всей жизни. По мнению Мелани Клейн, детское желание гибели родителей и братьев со смертью кого-нибудь из них пропадает. Такая смерть может вызвать прилив победных настроений, повышенного страха перед наказанием и развить тенденцию к агрессивности, маниакальному стремлению подчинять всех себе. Поскольку все это и так проявлялось на протяжении всей предыдущей жизни Франко, смерть Рамона не предвещала испанцам ничего хорошего.
Когда в конце сентября Гитлер оккупировал Чехословакию, каудильо вынужден был признать, что дело испанских националистов для фюрера не является главным приоритетом во внешней политике. Это событие одновременно увеличило слабые надежды премьер-министра республиканцев Хуана Негрина на то, что западные демократии в конце концов поймут, что в борьбе против фашизма их место на стороне его правительства. В случае изоляции националистической Испании западными демократиями была бы значительно облегчена доставка помощи республиканцам, а всем надеждам на победу Франко пришел бы конец.
Но каудильо, как обычно, помог раскол в собственной психике, оказавшийся очень полезным в его дипломатических маневрах в Европе. После Мюнхена Франко поспешил похвалить Чемберлена за «блистательные усилия для сохранения мира в Европе», а Гитлера — за удачное решение «проблемы судетских немцев». Англичанам Франко говорил, что, хотя его симпатии целиком и полностью находились на их стороне, он вынужден занимать строго нейтральный подход в вопросе о всеобщей войне, и тут же сообщал немцам о своем намерении присоединиться к ним сразу, как только покончит с республиканцами. Его ловкому дипломатическому дриблингу очень помогал Чемберлен — не самая подходящая персона для переговоров с европейскими диктаторами. Детские переживания английского премьера во многом походили на те, что пережили они. В шестилетнем возрасте Невилл Чемберлен потерял мать, его воспитывал властный отец, который больше любил старшего сына. Незрелый, чрезвычайно чувствительный, замкнутый, легко впадающий в депрессию, он, по словам Нормана Диксона, «ни в малейшей степени не обладал качествами, необходимыми, чтобы противостоять нацистам». Как и каудильо, Чемберлен, отчаянно жаждавший добиться признания и одобрения Гитлера, сумел убедить себя, что фюрер — человек, в высшей степени достойный доверия, и проникся к нему особой симпатией. Принятое им 29 сентября решение отдать Гитлеру Чехословакию и тем самым, по словам Уинстона Черчилля, «добиться поражения без войны» не только сделало большую европейскую бойню неизбежной, но и оказалось последним гвоздем, вколоченным в гроб Республики. На пораженческую акцию Чемберлена Гитлер откликнулся репликой: «Трусы! Они уступают всем нашим требованиям!» — а Франко развернул яростную антиамериканскую кампанию и предоставил дополнительные концессии Германии в горнорудных разработках как в Испании, так и в Марокко.
Изматывающее сражение на Эбро продолжалось с середины жаркого лета до поздней осени. Открыв дамбы на пиренейски* притоках Эбро, националисты сумели отрезать силы противника от источников подкреплений и поставок боеприпасов. Несмотря на это, республиканцы не желали отступать и буквально зарылись в землю, чтобы укрыться от артобстрелов и воздушных налетов. 30 ноября 1938 года каудильо предпринял массированное наступление, в котором участвовали тридцать тысяч свежих бойцов, вооруженных новейшей немецкой техникой. И только теперь, после четырех месяцев тяжелых боев, националистам удалось вернуть территории, которые республиканцы в июле сумели захватить за неделю. И хотя генералы, подсчитав потери, пришли в ужас, Франко это не взволновало. Еще меньше его волновали огромные потери со стороны республиканцев. Можно считать фрейдистским сдвигом то, что он отвергал амнистию или любые переговоры по сохранению жизни пленным, поскольку «преступники и их жертвы не могут жить бок о бок». Но возможно, каудильо опасался, что, если сохранить пленным республиканцам жизнь, то они все равно потом покарают его за множество совершенных преступлений. И хотя Франко согласился обменять сотню англичан, захваченных националистами, на столько же итальянцев, сдавшихся республиканцам, его отношение к остальным пленникам было отмечено особой жестокостью. Глава английской комиссии по наблюдению за процессом обмена доносил, что Франко «хуже красных, и мне не удалось добиться прекращения расстрелов несчастных пленных». Отъезд Интернациональных бригад 29 октября 1938 года после волнующей прощальной церемонии, во время которой харизматический лидер республиканцев Долорес Ибаррури, Пасионария, выразила им благодарность за «образец героической солидарности демократов всего мира», укрепил ощущение неизбежности поражения. Однако разбитые республиканцы продолжали сражаться, не имея другого выбора: они не строили иллюзий насчет того, что их ожидало в случае победы Франко.
А его победа становилась все более осязаемой, но генералиссимус вновь проявил медлительность. Пока на линии фронта, проходившей по Каталонии, накапливалась внушительная армия, он избегал принимать серьезные решения. Вместо этого Франко отправился в Ла-Корунью, чтобы вступить во владение огромным имением, купленным на деньги, собранные городскими властями по подписке. Население было вынуждено доказывать свою лояльность посредством откупа. Гражданский губернатор города в качестве вознаграждения получил дополнительно несколько чрезвычайно доходных должностей. Гораздо менее великодушным Франко оказался по отношению к собственной племяннице с больным ребенком, освобожденным из тюрьмы, где они провели два года за родственные узы с генералиссимусом. Племянница на крыльях счастья понеслась в Бургос к своим возлюбленным дядюшке и тетушке и была поражена и уязвлена — те встретили ее крайне холодно, по-видимому, сочтя бедную родственницу инфицированной республиканской заразой.
Каудильо никак не мог решить — возобновить ли ему наступление на Мадрид, попытаться захватить Валенсию или нанести смертельный удар Республике в Каталонии. Тогда 23 декабря итальянский генерал Гастоне Гамбара надавил на Франко, чтобы тот остановился на последнем варианте. Стремясь самостоятельно добиться полной победы в Каталонии, итальянцы, как стало привычным, первыми начали наступление. Испанским частям Франко приказал продвигаться осмотрительно, чтобы не спровоцировать французов на помощь Республике. В ответ на бросок итальянцев французы действительно приоткрыли границу, но после воинственного заявления Муссолини, что он без колебаний начнет войну с Францией на испанской территории, поставки помощи республиканцам практически прекратились.
Находясь под впечатлением демонстрации силы со стороны дуче и исполненный презрения к Франции, 31 декабря Франко в беседе с Аснаром открыто проявил свою затаенную гигантоманию. В очередной раз подчеркнув личные симпатии к воинственным режимам в Европе, а не к хилым демократиям, он дал волю экспансионистским фантазиям. Словно забыв о своих деликатных политических переговорах с Великобританией, генералиссимус прямо заявил, что победа в гражданской войне будет всего лишь первым шагом к восстановлению имперской мощи испанского государства, а «любые попытки обречь Испанию на роль рабыни в Средиземноморье только вынудят меня вступить в войну». Установив воображаемые связи с империалистическими державами «оси», он заверил, что новые величественные амбиции Испании будут опираться на «мощную индустриальную базу». По вопросам внутренней политики Франко также высказал несколько знаменательных суждений, временами демонстрируя свою уникальную способность совмещать самые противоречивые точки зрения: «Наше правосудие не может быть более взвешенным и благородным, поскольку оно служит защите высших интересов Родины. И никакое посредничество не может его сделать более добрым и милосердным». И далее: «Нельзя, не приняв меры предосторожности, вернуть в общество... вредные, развращенные элементы, политически и нравственно отравленные, поскольку... это будет представлять опасность для окружающих. Как я понимаю, в настоящее время в Испании существуют два типа преступников — тех, кто не поддается исправлению в рамках обычного образа жизни, и тех, кто способен на искреннее раскаяние, готов искупить свою вину и адаптироваться к патриотической жизни общества». Причем он убежден, что в обоих случаях для окончательного исправления требуется высокий уровень суровости. И тут же Франко добавляет: «Я не стремлюсь только победить, но жажду убедить».
По описанию английского студента Питера Кемпа, который в конце ноября 1938 года видел каудильо, тот выглядел так: «Приземистый пухлый человечек, казавшийся еще меньше благодаря широкой алой ленте и висячим золотым генеральским кисточкам», он «говорил едва слышным голосом в течение получаса, практически без перерыва».
26 января 1939 года войска националистов вошли в Барселону. И в то время как Луис Болин, ужасаясь «количеству мусора, который красные оставляли после себя в каждом занятом городе», набирал команду помощников, чтобы очистить от пыли и грязи отель «Риц», полмиллиона беженцев устремились на север, в направлении Франции. К 10 февраля Каталония была занята полностью. Услужливый сюрреалист Хименес Кабальеро оставил превосходный образчик франкистского мышления, когда самым гнусным образом заверил каталонцев, что националисты любят их «с такой же страстью, как мужчина любит женщину». А страсть, как известно, может довести и до смертоубийства, подобные преступления так и называют — «совершенные в порыве страсти». И подобно тому, как «ревнивый муж наказывает неверную жену», националисты решили сурово наказать Каталонию, прежде чем вернуть ее в матримониальное «лоно» Испании.
Республиканское правительство бежало на север, сначала в Жерону, затем в Фигерас, вблизи французской границы. Президент Республики, Мануэль Асанья, отправился в изгнание б февраля. Тремя днями позже за ним последовали Негрин и генерал Рохо. Диего Мартинес Баррио, назначенный преемником Негрина, так и не вернулся в Испанию. Командовать оставшимися республиканскими частями стал генерал Миаха. И хотя тридцать процентов испанской территории еще находилось под властью Республики, военное сопротивление уже было невозможным. Слабые надежды на урегулирование путем переговоров оказались развеяны, когда по Закону об ответственности, которому Франко придал обратную силу действия с октября 1934 года, его противники объявлялись виновными в поддержке «незаконной» Республики, принадлежности к левым политическим партиям или масонским ложам и даже в проявлении «преступной пассивности». Таким образом, под статьи этого закона подпадали все без исключения граждане Республики. Франко действовал в том же духе, что и тоталитарные режимы в нацистской Германии и в фашистской Италии. Он стремился запугать и ликвидировать любую группу граждан, не принявшую идеологию и политическую практику националистов. И это будет продолжаться много позже после окончания войны.
Признание режима Франко Великобританией и Францией поставило под сомнение легитимность республиканского правительства и развязало ожесточенное сражение внутри его. В результате республиканцы оказались расколоты. Коммунисты собирались сражаться с националистами до конца, другие же члены правительства хотели добиться мирного соглашения с Франко, чтобы прекратить бессмысленную бойню. Когда резко антикоммунистическая Хунта национальной обороны, созданная полковником Касадо, сумела убедить генерала Миаху взять ее сторону и произвести аресты коммунистов в Мадриде, в столице завязался яростный бой между самими республиканцами. Эта гражданская война среди гражданской войны сделала то, чего не смог добиться Франко, — она покончила с политическим господством коммунистов и, по сути, подготовила Мадрид к сдаче. Однако надежды Касадо на то, что его попытки «спасти Испанию от коммунизма» будут способствовать заключению с Франко мира, оказались обманутыми. Генералиссимус просто пренебрег соглашательской Хунтой. Как выразился Серрано Суньер, после столь обильного кровопролития мир не мог быть достигнут ценой компромисса.
Деморализованные республиканские войска стали разбегаться по морским портам, сдаваться или расходиться по домам. Небольшая их часть укрылась в горах, откуда повела ожесточенную партизанскую борьбу. 26 марта было предпринято общее наступление националистов на практически брошенную республиканцами территорию, завершившееся вступлением в «притихший, призрачный Мадрид», «дурно пахнувший и грязный», как ехидно выразился Луис Болин. В качестве обязательной предосторожности был отдан приказ сделать прививки против тифа всем офицерам, которые вступали на территорию красных, кишащую заразными болезнями. Как писал в своем дневнике Чиано, итальянский министр иностранных дел: «Мадрид пал, а вместе с ним пали все остальные города красной Испании... Война закончилась. Это была еще одна великолепная победа для фашизма, возможно, самая важная до сих пор».
Двойственное отношение Франко к захвату сердца Испании, родного дома его отца, центра законного республиканского правительства и резиденции законного короля Испании проявилось со всей очевидностью. Он серьезно заболел. Прикованный к постели тяжелой формой гриппа с высокой температурой, каудильо мог только слушать сообщения о том, как республиканцы без боя один за другим сдавали города. К 31 марта вся Испания находилась в руках националистов. Франко после каждой победы слал телеграммы Альфонсу XIII, чего не сделал после взятия Мадрида. Возмущенный король воспринял это как ясное указание на то, что реставрация монархии не была приоритетом для генералиссимуса. Он с горечью вспоминал: «Я выбрал Франко, когда он был никем. Он меня обманывал и предавал на каждом шагу. Его поведение подтверждает правоту испанской поговорки: не следует доверять никому, кто родом из Галисии». Зато папа направил Франко послание, в котором благодарил его за «католическую победу» Испании.
Военный триумф националистов вызвал массовое бегство напуганных республиканцев в сторону французской границы, где, как они предполагали, их встретят с распростертыми объятиями. Вместо этого они вдруг открыли для себя — по словам одного немецкого комиссара-коммуниста, — что «грязное шоссе, по которому они шагали, было не только границей между двумя странами, но и пропастью между двумя мирами». Их не только не называли героями, но и относились к ним как к бродягам. У них отбирали все личные вещи и полуразбитые винтовки и выбрасывали в канавы с негашеной известью. Тот же комиссар рассказывал: «Никогда больше я не видел таких глаз, полных бессильной ярости, как у тех испанцев».
В самой Испании дела шли все хуже и хуже. Долорес Ибаррури в отчаянии писала: «Мы до хрипоты кричали и бились в двери стран, называвших себя демократическими, объясняя им, что значила наша борьба, но нас не слушали». Европейским державам скоро придется дорого заплатить за невнимание к ее устрашающему предупреждению: «И не забывайте, пусть никто не забудет, что... борьба с фашистской агрессией не кончается в Испании. Сегодня это мы; но, если будет позволено разгромить испанский народ, на очереди будете вы, вся Европа».
Полковник Франко после успешной высадки десанта в Аль-Усемасе. Марокко, июнь 1925 г
Начальник генерального штаба генерал Франко на военных маневрах. 1935 г
Глава 6 ХОЧЕШЬ БЫТЬ В МОЕЙ БАНДЕ?
Франко — победитель: апрель 1939 — декабрь 1940
По-моему, он просто обалдел от доставшейся ему личной власти. Из всех членов испанского правительства он говорит мне самые странные вещи, причем на языке, близком к тому, на котором говорят страны «оси».
Португальский посол Педру Теотониу Перейра
Говорят, что генерал Франко в одном из своих знаменитых выступлений... заявил: «Испанцы! В 1939 году наша страна находилась на краю пропасти. Однако сейчас, благодаря тому, что я мужественно взял на себя бремя лидерства, мы сделали гигантский шаг вперед!»
Уксио Валентин
Парадоксальным образом победа в гражданской войне отнюдь не укрепила внутреннюю уверенность Франко. Не сделала она каудильо и более человечным. Его убежденность в том, что «нет искупления без крови, и да будет тысячу раз благословенна кровь, что принесла нам наше искупление», позволила ему продолжать насилие и террор долгое время и после победы. Обнадеживающее послание Асаньи: «Подумайте о мертвых и прислушайтесь к их предупреждению... Не надо больше ненависти и затаенных обид... Вечная Родина-мать говорит всем своим детям: Мир, Милосердие и Прощение» не было услышано Франко. Каудильо и его сторонники рассматривали успех в гражданской войне как «триумф вечных и чистых принципов над выродками и антииспанцами». Их переполняло патологическое желание очистить родную землю (или себя самих) от всего «бесполезного», «чуждого» и «болезненного», понимая под этим любого человека или идею, связанных с Республикой. (Возможно, стоит упомянуть, что как раз в то время была опубликована огромным тиражом биография каудильо, автором которой являлся Хоакин Аррарас, под названием «Франко. Специальное издание, предназначенное исключительно для продажи в тюрьмах».)
Декларируя не слишком убедительную идею, будто победившие националисты являются не только патриотами, но и носителями самых благородных человеческих качеств и тем самым освобождаются от любой ответственности за содеянное, Франко приписывал побежденным темные, порочные, низменные черты собственной психики. Поэтому он был лично заинтересован в том, чтобы удерживать своих противников на позорно низком уровне жизни. Обращаясь с левыми так же, как в свое время с арабским населением Марокко, Франко повсеместно превратил рабочие районы испанских городов в грязные трущобы, подобные тем, какие он когда-то видел в Мелилье. Умирающие от голода испанцы рылись на свалках и в мусорных ящиках в поисках пропитания, а сам генералиссимус и его сторонники наслаждались жизнью в роскоши и изобилии. У Франко была своя политическая, а также психологическая цель. Сделав республиканцев козлами отпущения за все беды Испании, он предоставил своим сторонникам конкретного, вполне очевидного и в значительной степени беззащитного врага, на котором можно было вымещать собственные страхи и агрессивные импульсы. Возможно, как уже говорилось о других деспотах-параноиках, у Франко чувство вины проявлялось в том, что он постоянно искал для себя врагов, находя радость и удовольствие в их смерти. Как, возможно, и Гитлер «проявлял чувство вины, перекладывая ее на других людей, которых убивал затем миллионами, демонстрируя тем самым свои особые отношения со смертью и свою власть над ней» (Роберт Уэйт).
Политика Франко имела ужасающие последствия для рабочего класса Испании. Уже после войны десятки тысяч людей были казнены. Верность Республике официально приравняли к «военному мятежу», и подобными «преступлениями» занялись свирепые военные трибуналы. Даже Чиано пришел в ужас от условий, в которых заставляли работать заключенных. Как он язвительно заметил: «Это не военнопленные, это военные рабы» и с негодованием говорил о «каудильо, сидящем в своем дворце в Айете в окружении мавританских гвардейцев и заваленным делами заключенных, приговоренных к смертной казни... Он не может рассмотреть больше трех дел в день, поскольку после обеда устраивает себе сиесту». Резко возросло количество самоубийств. Между 1939 и 1942 годами от недоедания умерло на двести тысяч человек больше по сравнению с уровнем смертности в довоенные годы. Только в одном 1940 году сто тысяч детей младше девяти лет погибли от голода и инфекционных болезней, вызванных нищенскими условиями жизни, — туберкулеза, тифа и малярии. Огромное количество умерло от дизентерии и гастроэнтерита. В августе 1941 года даже чиновники собственного медицинского ведомства предсказывали, что в ближайшую зиму от голода и болезней умрут от миллиона семисот тысяч до двух миллионов человек.
Жестокие репрессии против республиканцев не уменьшили паранойю Франко. Его недоброжелательство по отношению к франкмасонам переросло в ярко выраженную ненависть, очень напоминавшую антисемитизм Гитлера. И так же, как ненависть фюрера к евреям ртчасти происходила от подозрения, что в жилах его отца была еврейская кровь, так иррациональная ненависть Франко к масонам, по-видимо-му, обострилась из-за симпатий, которые питал к ним его отец. Да и тот факт, что Рамон являлся когда-то членом этой тайной секты для избранных, обязанных помогать друг другу, а просьбы самого Франко о вступлении в нее трижды отвергались, усугублял ситуацию. Как у Гитлера по отношению к евреям, мелочная зависть к франкмасонам превратилась в патологическую ненависть, которую он оправдывал высокими политическими мотивами. Для Франко масоны стояли у истоков всего, что он презирал и ненавидел. Из-за них в Испании упала мораль и произошел закат империи. В сущности, их он винил вообще во всех бедах — от вторжения Наполеона в Испанию до военной катастрофы 1898 года, от международных усилий воспрепятствовать его победе в гражданской войне до международного остракизма, которому он подвергся после ее окончания. Каудильо был глубоко убежден, что либеральные демократы в Великобритании и Франции заражены масонскими идеями. А самое главное, как он считал, — масоны организуют коварные заговоры с целью разрушить католическую церковь. И хотя масоны выступали против реакционного политического влияния церкви, а не против самой религии как таковой, Франко не усматривал в этом различий. По его мнению, для сохранения господства католицизма в Испании любые антикатолические секты, будь то масонство или иудаизм, следовало уничтожить.
В своей ненависти к масонам, таййой секте, которая с момента прибытия в Гибралтар в 1726 году ассоциировалась с духом братства и идеализма, он был не одинок. С того времени принадлежность к масонству становилась проблемой, все более раскалывающей армию, в особенности в XIX веке. В 1936 году, в начале гражданской войны, большинство — но далеко не все — офицеров-масонов встали на сторону законной власти. В 1937 году Франко, убежденный, что его опала в период Республики была вызвана масонским заговором, выгнал из армии националистов всех имеющихся в ней масонов. Его невротические намерения с особой четкостью проявились в Бургосе 12 октября 1937 года, когда он громогласно объявил, что «франкмасоны и члены [левого] Интернационала не являются детьми Родины. А те, кто поддерживает их, не являются законнорожденными детьми Испании». А для бастардов в франкистской Испании не было места.
Безумные речи священника Хуана Тускетса, которому Франко приказал начать масштабную «охоту на ведьм», — против масонов, оживили его страхи. Еще до окончания войны были составлены списки испанцев, подозреваемых в масонстве. Несмотря на то что из десяти тысяч масонов, проживавших в Испании до войны, выжили не больше тысячи, в архивах каудильо фигурировало больше восьмидесяти тысяч имен. В сороковые годы под прикрытием недоброй памяти Закона о подавлении масонства и коммунизма было проведено немало соответствующих названию этого закона чисток, однако каудильо они так и не успокоили. 18 июля 1943 года он заявил: «С конца XIII века... в нашей стране не было ни одного бунта или попытки предательства Родины, которые не замышлялись бы в тени масонских лож». 11 сентября 1945 года он высказал убеждение, что «над государствами, над их правительствами существует супергосударство — это масонское супергосударство, которое диктует свои законы его членам, отправляя им приказы и лозунги». Собрав целый подвал масонских материалов и публикаций, в начале пятидесятых годов Франко издал свои параноидальные размышления на эту тему под псевдонимом Хаким Бур.
Похоже, верным является утверждение, что иррациональное поведение Франко по отношению к масонам находилось в определенной связи с его отцом и братьями, а жгучую ненависть к коммунизму каким-то образом вызвали его специфические отношения с матерью. Призывный клич Франко к объединению на борьбу с коммунизмом в значительной степени был связан с культом «Успения», согласно которому Дева Мария, обретшая святость и славу, вознеслась на небеса, где она восседает, как царица, над всеми святыми и ангелами. Возвышенное желание защитить Деву Марию, «совершенную» мать, от «красных орд», возможно, является проекцией искаженного видения Франко женского естества вкупе с его собственной мстительностью и неполноценностью.
Но, откуда бы ни возникла ненависть Франко к коммунизму, верно то, что после победы потребность делить женщин на хороших и плохих — так хорошо проиллюстрированная в сценарии фильма «Мы» — всегда ощущалась в политике его режима. В националистической Испании женщин рассматривали либо как проституток, которые предоставляли выход врожденной развращенности мужчин, либо как незапятнанных, чистых мадонн, напоминающих донью Пилар, хранительниц морали, рожденных для страданий и самопожертвования. Пуританское понятие женщины активно пропагандировалось «Католическим действием», светской организацией, зависевшей от церкви, а также «Женской секцией фаланги». Эта «секция» была создана в 1934 году, и возглавила ее Пилар, сестра Хосе Антонио Примо де Риверы. Как сама Пилар, так и «Женская секция» выражали, в духе матери Франко, морализаторское и сексуально подавленное отношение к жизни. К несчастью для испанских женщин, этой организации поставили задачу «воспитывать» их. Была принята целая серия законов против абортов, адюльтера и разводов, а также по «защите уровня рождаемости». Все это — для сохранения чистоты идеализированной матери.
Но и хорошая мать, согласно Франко, может быть подвергнута наказанию. «Без согласия мужа жена не должна заниматься никакой деятельностью вне дома. Она не может искать работу, заводить свое дело, даже открыть счет в банке или отправиться в относительно длительную поездку без разрешения супруга». Испанские женщины не имели реальных прав на своих детей. Кроме того, что у них активно отбивали охоту находить сексуальное удовлетворение с собственным мужем, им энергично запрещалось искать удовольствие на стороне. И хотя адюльтер карался тюремным заключением от шести месяцев до шести лет как для мужчин, так и для женщин, закон всегда был более суров к последним. Мужчины считались виновными только в случае, если адюльтер произошел в семейном доме, если мужчина жил с любовницей или же его непристойное поведение становилось достоянием общественности. Любопытно, что отец Франко, дон Николас, соответствовал всем этим условиям в целом и каждому в отдельности. Да и вся политика по отношению к испанским мужчинам, взятая на вооружение режимом Франко, активно подбивала их вести себя так, как это делал дон Николас, — предаваться пьянству и таскаться по шлюхам, в то время как покорные супруги, вроде доньи Пилар, терпеливо и безропотно дожидались их дома. (Звучит насмешкой, когда в пьесе Салома дон Николас говорит с горечью: «В семье я был блудным сыном, а сейчас я остался единственным, у кого еще хватает достоинства, чтобы не переспать с первой встречной. Может, я и не святой, но достаточно нравственен, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо».)
Превратив брак в совершенно безнадежное и невыгодное дело, режим позаботился и о том, чтобы у несчастной семейной пары не имелось возможности разойтись. Республиканский закон, легализовавший развод, был отменен в 1938 году. Единственной возможностью освободиться от неудачного брака стала его аннуляция по законам католической церкви. Не стоит и говорить, что проблема обычно решалась посредством хорошей взятки Ватикану. Те, у кого не было денег или знакомств, оказывались в ловушке.
Чтобы поддержать жизнеспособность «хорошей матери», Франко должен был давать выход своей ненависти к «дурным» женщинам как к источнику заразы и зла вообще, что он и продемонстрировал во внутренней политике. Миф о традиционной франкистской семье не доходил до женщин из рабочего класса. Как отмечает историк Хелен Грэхем: «Какой бы силой убеждения ни обладали кадры «Женской секции», они не могли убедить их в радостях материнства с большим потомством». Отчаявшимся женщинам, мужья которых были убиты или сидели в тюрьмах националистов, пришлось идти на улицу, чтобы прокормить себя и детей. По иронии судьбы, одним из следствий «католической победы» Франко стал резкий рост проституции и числа абортов. Те, у кого не было денег, не могли ни выйти замуж, ни крестить детей. (В 1949 году за заключение брака необходимо было заплатить двести песет.) Женщины из разрушенных националистами рабочих семей не имели возможности искать прибежище в религии, как это делала мать Франко. Одетые в лохмотья, они не могли должным образом прикрыть свое тело, и соответственно им был закрыт вход в церковь. Вынужденные вести образ жизни, который полностью противоречил их религиозным убеждениям, многие женщины из семей республиканцев оказались деморализованными до такой степени, что начинали считать себя действительно распутными.
Раздавив врага в своем доме, Франко стал проявлять живой интерес к политическим и военным событиям, происходившим в Европе. Он был полон решимости войти в полноценный союз с фашистскими режимами в Европе и в то же время опасался спровоцировать французскую армию и британский флот на военную акцию против себя. Ему приходилось разыгрывать свою карту с великой осторожностью. Здесь сказались и особенности натуры Франко. Хотя он убежденно заявлял: «Я ни минуты не колебался. Я избрал свой путь и должен пройти его до конца», смесь эмоциональной уязвимости, прагматизма и растущего высокомерия в его характере вынуждала каудильо петлять и спотыкаться на дипломатической стезе. Не в силах скрыть презрения, которое у него вызывали западные демократии, он неоднократно терял с таким трудом добытые у этих стран политические выгоды из-за своих необдуманных, надменных и вызывающих поступков. Его переговоры с державами «оси» также проходили не лучшим образом. Громкие заявления о солидарности с «фашистскими героями» перемежались с жалкими просьбами о финансовой помощи взамен на вступление Испании в мировую войну, требованиями признания своих имперских амбиций Гитлером и Муссолини и приступами возмущения и обиды на требование Германии оплатить всю, до последней марки, помощь, предоставленную во время гражданской войны.
В первый момент, однако, забыв о необходимости обеспечить официальное признание своего режима Великобританией и Францией, Франко недолго колебался перед тем, как подписать антикоминтерновский пакт вместе с Гитлером и Муссолини 27 марта 1939 года. Обвинив в медлительности своего министра иностранных дел Хордану, он поспешил заверить союзников из держав «оси», что участвует в этом антисоветском и антикоммунистическом мероприятии «по зову сердца». На случай, если эта «прозрачная заявка на будущую политику» оставит какие-либо сомнения, Франко подписал 31 марта испано-германский договор о дружбе, 8 мая заявил о выходе Испании из Лиги Наций и, бросив вызов англичанам и французам, послал войска к Гибралтару и на испано-французскую границу, когда в конце мая 1939 года Гитлер и Муссолини заключили так называемый «Стальной пакт». Это, впрочем, не помешало ему произнести теплую приветственную речь по случаю прибытия нового британского посла, сэра Мориса Драммонда Петерсона. Франция, озабоченная профашистской активностью каудильо, несмотря на протесты социалиста Леона Блюма, говорившего, что «слишком уж много внимания уделяется этому “ученику диктатора”», послала в Мадрид достопочтенного маршала Филиппа Петена с целью направить в нужную сторону дипломатическую деятельность каудильо. Но французов генералиссимус в то время всерьез не воспринимал.
Хотя профашистская позиция Франко вызывала нешуточную озабоченность у западных демократий, она отнюдь не мешала его взаимоотношениям с церковью. 19 марта папа Пий XII послал свои благословения Франко, восхваляя его «католическую победу». 1 апреля, конечно же, позабыв две основные заповеди церкви — «Возлюби ближнего своего» и «Не убий», — он бурно приветствовал «благородные и христианские чувства» каудильо, а также передал по радио «с невыразимым ликованием» свое очередное благословение. С учетом того, что в результате восстания 1936 года полмиллиона людей погибли, многие из которых были баскскими католиками, трудно понять, какую «католическую победу» имел в виду папа. Именно этим вопросом начал задаваться в тот момент кардинал Гома. В августе он, придя в ужас от не-прекращающихся репрессий против побежденных, опубликовал пасторское послание, в котором взывал о милости к побежденным. Оно подверглось жестокой цензуре. Но все же в то время отношения между Франко и церковью не могли быть более сердечными.
Переговоры с Берлином были временно прерваны в начале мая, когда Франко приступил к проведению целой серии праздничных мероприятий, посвященных своей победе. При этом он постоянно подчеркивал фашистский характер режима, его неразрывную связь с имперским прошлым Испании и лишний раз старался унизить измученных республиканцев. Во всех столицах главных провинций состоялись эффектные празднества, кульминацией которых стала церемония торжественного вступления Франко в Мадрид 18 мая. Как с горечью отмечал один каталонский консервативный политик: «Словно не чувствуя и не понимая нищенское, отчаянное положение, в котором находилась Испания, и не думая ни о чем, кроме своей победы, он решил отправиться в праздничное турне по стране, подобно тому, как матадор после удачной корриды делает круг по арене, чтобы собрать аплодисменты». 19 мая прошел парад победы, растянувшийся на двадцать пять километров. Двести тысяч солдат, а также итальянские танки и кавалеристы, легион «Кондор» Гитлера, фалангисты, карлисты, легионеры, мавританские наемники, португальские добровольцы и конная милиция анда-лусийских латифундистов в триумфальном марше волнами прошли по разрушенным войной улицам и перед каудильо. В своей речи Франко поклялся уничтожить политические силы, которые потерпели поражение, добавив в качестве реверанса в сторону Гитлера, что всегда будет выступать против «иудейского духа, который способствовал созданию альянса крупного капитала с марксизмом».
28 мая Франко присутствовал на благодарственном богослужении в честь его победы. Это было эффектное театральное представление, напоминавшее о тесных узах, связывавших средневековую церковь с великими королями-во-инами прошлого. Каудильо мечтал о таком же тесном сотрудничестве со своими союзниками из «оси». 23 мая он очень эмоционально выразил «непреходящую благодарность Испании» легиону «Кондор» по случаю его отъезда из страны. Серрано Суньер отправился вместе с итальянскими подразделениями в Рим для участия в грандиозном праздновании победы, где оптимистически заявил, что через год-другой «Испания будет в составе “оси”».
Победа Франко тем не менее не сделала его более великодушным по отношению к собственному отцу. В пьесе Са-лома дон Николас отмечает, что Франсиско «постоянно находился в окружении епископов, позировал во всех соборах... но никогда даже не упоминал, что у него была семья». Наблюдая парад, посвященный победе своего сына, литературный дон Николас, вернувшийся в Мадрид в конце войны, говорит: «Сегодня твой день, который ты ждал с детских лет, день, который твои пустые темные глаза всегда видели в бу-
8 Ходжес г. Э.
дущем... Все подчиняются тебе и повинуются тебе... Все боятся тебя, все, кроме меня!»
В действительности же никакой внешний лоск и великолепие не могли скрыть тот факт, что Испания была не в состоянии участвовать в европейской войне, ни тем более проводить дорогостоящую экспансионистскую политику. Экономика лежала в руинах, а сильно сокращенная армия (но все равно непропорционально большая) не могла играть сколь-нибудь значительную роль в Европе. Отнюдь не смущенный подобными соображениями, Франко затеял игру, дипломатически опасную, но психологически полезную, объявив, что установил связь между «фальшивыми демократиями» и международным масонством и коммунизмом. Республиканцы окончательно раздавлены, теперь ему был необходим новый враг, и каудильо стал изливать свою ненависть на «коварный Альбион». Даже Гитлера, который считал, что было бы неразумным «и для Испании, и для нас, если испанское правительство заранее раскроет свои карты в отношении позиции, которую оно займет в возможной войне», поразила воинственность Франко. Фюрер, естественно, не желал, чтобы Испания создавала себе и ему трудности, в то время как сам он делал все возможное, чтобы удержать англичан и французов в стороне «от проблем, которые не были в его компетенции».
5 июля даже фанфарон Франко вынужденно признал, что, хотя «Испании трудно оставаться в стороне от конфликта», стране необходим «спокойный период для внутреннего восстановления». Тем не менее он поспешил заверить Берлин, что Испания будет сохранять большую армию, чтобы противостоять «притязаниям» англичан и французов. Немцы, успокоенные поведением Франко, с удовлетворением сделали вывод, что он будет занимать позицию «бдительного нейтралитета».
Но нейтралитет каудильо оказался не столь бдительным в самой Испании, где ситуация не находилась под полным контролем. Разрозненные остатки республиканской армии вели партизанскую войну против режима в горах Астурии, трения между фалангистами и карлистами переросли в открытое противостояние, а генерал Кейпо де Льяно, царствовавший в своей полунезависимой вотчине Андалусии, относился с открытым пренебрежением к «толстячку Пакито». Конечно, Франко не собирался терпеть подобное неподчинение, но он не хотел и ввязываться в личные конфликты с военными. Возможно, каудильо опасался, что выяснение отношений может вызвать вооруженный мятеж. Руководствуясь хорошо развитым инстинктом самосохранения, в конце июля он сумел решить эту проблему, вызвав Кейпо в Бургос для «консультаций». Затем Франко продержал генерала несколько дней в отеле, пока не сумел спровадить его в Италию во главе военной миссии. Чиано похвалил каудильо за «умный ход», который «позволял избавиться от Кейпо де Льяно и поставить его на место». Даже сам Франко был удивлен, с какой легкостью ему удалось разрешить ситуацию. Это укрепило его уверенность в том, что он сумеет справиться с проблемами и на других фронтах.
Между тем фаланга воспользовалась восторженным отношением каудильо к фашизму, взрывной ситуацией в Европе и растущими домашними трениями, чтобы укрепить свое влияние в стране в качестве единственной партии. Это вполне устраивало Франко при условии, что он сохранит в своих руках основные рычаги власти. 31 июля каудильо подтвердил, что фаланга является единственной партией Испании. Военнослужащих и членов военных организаций ббя-зали вступить в нее, было также решено использовать фашистское приветствие на всех политических мероприятиях. Франко еще более укрепил свое могущество с принятием 8 августа 1939 года декрета об управлении государством, который предоставлял ему «высшую власть и право издавать законы общего порядка», а также издавать «специальные» декреты и законы без предварительного обсуждения с кабинетом министров. К всеобщему неудовольствию политиков, Франко быстро установил армейские порядки, которые так любил в Марокко и Сарагосе: по возможности спихивая ответственность за каждодневные дела на других, подлинную власть он держал в своих руках.
Франко ввел элементарную военную философию — психологию единоначалия — в экономической и политической 8* сферах. Убежденный, что его личного авторитета достаточно, чтобы удержать экономику на плаву, он дал своим министрам карт-бланш на все, что им вздумается, лишь бы это не представляло опасности его глобальным политическим целям, а сами министры не имели собственных политических амбиций. Восседая, подобно восточному деспоту, на заседаниях правительства, сопровождавшихся злобными сварами, он оставлял у членов кабинета ошибочное впечатление, что они участвуют в создании политического курса, в то время как на деле только каудильо принимал все принципиально важные решения. Потенциальных противников он нейтрализовал, сместив их с постов, связанных с реальной властью, и назначив на должности, для которых они были абсолютно непригодны. Причем Франко следил, чтобы ни одна группа или отдельный индивидуум не имели слишком много полномочий. Ведя себя то подобно властному отцу, то подобно ребенку, забавляющемуся игрушками, он вызывал среди своих сторонников настоящее соперничество. Жестоко карая даже умеренных противников, каудильо мастерски играл по принципу «разделяй и властвуй», причем фигурами в этой игре были политики, общественные деятели, послы.
Однако, как и во всех авторитарных режимах, под тонким слоем внешнего благополучия и единодушия, за фасадом военных парадов и многолюдных фашистских сборищ скрывалась глубоко коррумпированная и неэффективная структура, которая, как Третий рейх, представляла собой, по словам Роберта Уэйта, полнейшую «мешанину спорящих и конкурирующих группировок, тщательно охраняемых лидерами, не доверяющими своим коллегам». Как указывает тот же автор, «политический лидер, который создает конфликтующие между собой организации, проводит взаимоисключающие политические акции, полагая, что «властвует, разделяя», тем самым обнаруживает глубокий раскол в своем психологическом панцире». Как всегда, невротические проблемы Франко обернулись для него политическими дивидендами. Непостижимое умение каудильо уйти от публичной поддержки какой-либо группировки и его якобы неспособность предпочесть какой-либо из противостоящих кланов создавали соперничество и путаницу, что препятствовало возникновению организованной оппозиции.
Что касается цензуры в средствах массовой информации, то она, в частности, служит для защиты скрытого внутреннего мира вождя. Франко, как человеку с массой психических неполадок, нужны были пресса, кинематограф и радио с выпусками новостей, чтобы проецировать свои героические фантазии и извращенные грезы на внешний, окружающий мир. Эти мечтания служили ему опорой, он прятался за них, как за щитом, от самого себя, реальной действительности и всего, что напоминало каудильо его собственную неполноценность. Жесткие цензурные ограничения, вводимые режимом, ясно показывают, что психических дефектов у Франко было более чем достаточно. Средствам массовой информации разрешалось, по сути, только одно — постоянно вещать о подвигах и деяниях «вождя нации».
Цензура, пропаганда и образование шли рука об руку. Фаланга, военные и католическая церковь играли главные роли в этих областях, но в министерстве образования в основном заправляли фанатики-клерикалы. В результате в стране стало распространяться частное образование, осуществляемое религиозными организациями, которое было малодоступно для потерпевших поражение в гражданской войне. Таким образом, образование использовалось для упрочения жесткого классового разделения общества. Неграмотность стала обычным делом.
Побежденных выбросили не только из образования, но также из политической, культурной, интеллектуальной и общественной жизни в Испании. В 1939 году, с принятием декрета о политической ответственности, началась чистка среди «работников культуры», в особенности среди журналистов, лишая их средств к существованию. Все директора газет и журналов назначались государством, причем они обязательно должны были быть фалангистами. Информационное агентство ЭФЕ имело абсолютную монополию на освещение новостей. Как писала фалангистская газета «Арри-ба», его задачей было искоренять «гнилые либеральные темы, сентиментализм, богохульственный глас либералов». Статья 12
Закона о прессе 1938 года (действовал до 1966 года), гласившая, что «все испанцы могут свободно выражать свои мысли и идеи, если они не противоречат основным принципам государства», оставалась всеобъемлющим руководством. Когда все остальное не срабатывало, гражданские права могли быть отменены военным декретом. Ничего не оставлялось на волю случая. Для издательств существовал список запретных тем, который постоянно расширялся. В список были включены, в частности, такие темы: об «индивидуумах, связанных с Республикой; аресты, судебные процессы и расстрелы; партизанское движение; королевское семейство; преступления и самоубийства», а также «нехватка продуктов питания и жилья; рост цен; несчастные случаи на производстве и в дорожно-транспортных происшествиях; эпидемии». Не полагалось даже сообщать о неблагоприятных атмосферных условиях, возможно, потому, что это указывало на недостаточно близкие отношения каудильо с Господом. Но самой запретной для упоминания темой было существование самой цензуры.
Решив очистить Испанию от неподходящего и даже вредного иностранного влияния и подчеркнуть фашистский имидж режима, Франко издал декрет — в его основу лег введенный Муссолини Закон о защите языка, — по которому запрещались «диалекты национальных меньшинств» (баскский, галисийский и каталанский) и «иностранные заимствования». Имена людей, названия поселков, районов, отелей и прочее должны были быть «испанизированы». Даже умерших не оставили в покое. Надгробные плиты на могилах с надписями на баскском языке должны были заменяться безутешными членами семьи. Запретили комиксы на региональных диалектах, чрезвычайно строгому надзору подверглась детская литература. «Красная Шапочка» стала «Голубой Шапочкой», салат «Русский» стал «Имперским» или «Национальным». И хотя была придумана масса ухищрений, чтобы обманывать цензуру, удушение творческого самовыражения оказывало серьезное отрицательное воздействие на изолированных от внешнего мира испанцев, которое продолжалось долгие годы, на что наверняка и рассчитывал режим.
Безжалостный к собственному народу, Франко был бесконечно гибким и услужливым по отношению к фашистским союзникам в Европе, даже если их поведение нарушало его самые святые традиции и принципы. В августе 1939 года Сталин, являвшийся ярым сторонником западного альянса против Гитлера, но слишком озабоченный абсолютной индифферентностью западных держав к антикоминтерновскому пакту, решил отвести угрозу германской агрессии от Советского Союза, заключив пакт о ненападении с Гитлером. И хотя в какой-то момент Франко был ошеломлен нацистско-советским договором, заметив, «как это ни странно, но теперь мы с русскими союзники», он сумел совместить восхищение Гитлером с ярой антибольшевистской позицией, заявив, что коммунизм в Советском Союзе умер. Сторонники каудильо в Испании оказались менее понятливыми, безбожный альянс немцев с одиозными большевиками вызвал у них возмущение. В качестве компромисса Серрано Суньер предложил фалангистской прессе подавать немецкую пропаганду под видом новостей.
В некотором смысле парадоксально, как в сороковых годах писал британский посол сэр Сэмюэл Хоур, что генералиссимус — так пекущийся о спасении и сохранении абсолютной независимости Испании и испытывающий ненависть к иностранцам — позволил, чтобы его страна полностью попала под контроль других государств. Хоур имел в виду, что слепая ориентация Франко на нацистов привела к положению, когда «народ Испании, наименее поддающийся иностранным диктаторам из всех европейских народов, еще раз оказался под иностранным влиянием. Нацисты, которые помогли организовать партию, прессу и полицию, оказались прямыми наследниками иностранцев, развративших Испанию в XVIII веке, укрепивших режим Фердинанда VII в XIX веке и экспортировавших тоталитарные методы в XX веке. Франко, национальный вождь, в силу какого-то странного политического извращения денационализировал страну».
Хотя в переговорах с союзниками по «оси» Франко особых успехов не достиг, но когда речь зашла о спасении его власти внутри Испании, он показал себя настоящим виртуозом. Состав кабинета, сформированный 9 августа 1939 года, отразил инстинктивное умение каудильо сбалансировать соперничавшие внутри режима силы. В правительство были включены два ветерана-фалангиста, сторонники «оси»: полковник Хуан Бейгбедер заменил монархиста-англофила, графа Хордану, в министерстве иностранных дел, а конфликтный Ягуэ стал министром военно-воздушных сил. Недовольный монархист Кинделан получил унизительный для него пост военного коменданта Балеарских островов. Серрано Суньер остался самым могущественным министром, но Франко сохранил за собой общий контроль над внешней и внутренней политикой.
Обращение каудильо с министрами — даже с самыми близкими друзьями — приобрело сугубо официальный характер. Он ухватился за вежливый совет Хорданы и предложил «ввести в обязательном порядке строжайший этикет в отношениях с начальством, поддерживать должную дистанцию, исключив обращение на ты и любую фамильярность». Эта тенденция начала проявляться уже в начале 1933 года. Но все же, когда друг детства Франко, адмирал Ньето Анту-нес, всегда говоривший ему «ты», стал его помощником и решил обратиться на вы, Франко ответил: «Не будь смешным!» А когда в шестидесятых годах Хосе Санчес, его постоянный товарищ по охоте, как-то сказал, не пора ли им перейти на ты, Франко отрезал: «Ко мне положено обращаться "Ваше Превосходительство”». И даже своего старого приятеля, Макса Боррелла, он попросил пользоваться этим же обращением. Серрано Суньер писал позднее: «Относясь к людям как к инструментам, вполне логично, что Франко вскоре без обиняков избрал стратегию статуи на пьедестале, последовав советам своего окружения».
Высокое положение Франко в Испании мало помогало ему на переговорах с фашистскими союзниками. Дипломатические способности каудильо подверглись особо суровому испытанию 3 сентября 1939 года, после вторжения немецких войск в Польшу. Между Франко и Гитлером начался сложный и затяжной торг насчет возможного вступления Испании в войну в Европе. Едва энтузиазм Франко по этому поводу возрастал, у Гитлера он тут же уменьшался. Как у возбужденного ребенка, который хочет все больше и больше — но боится потерять все, если не удовлетворится минимумом, — условия каудильо росли по мере того, как у Германии возрастала нужда в нем. Колебания, ослепление и разногласия, которыми характеризовались переговоры между этими государственными мужами, проистекали как из их изменчивого психического состояния, так и из периодической коррекции политических и военных приоритетов. Тот факт, что оба они представляли собой личности пограничного типа, когда в человеке сосуществуют два различных Я, одинаково сильных и полностью разделенных, безусловно, осложняло их путь к взаимовыгодной договоренности.
Пообещав западным демократиям, что Испания будет соблюдать «строжайший нейтралитет», Франко просто не мог скрыть восхищения немецкой армией. Он немедленно сообщил немецкому послу о своем глубоком «удовлетворении блестящими военными успехами Германии» и хвастливо заявлял, что «он предвидел быстрое уничтожение польской армии», однако выражал некоторую озабоченность «распространением на Запад русского влияния».
Франко надеялся, что неминуемая мировая война позволит ему приобрести большее значение на международной сцене, но на тот момент ни в военном, ни в политическом отношении Испания не представляла собой серьезной силы. Тогда каудильо обратил свой взор на внутренние проблемы страны, решив для начала добиться ее полного экономического самообеспечения. Быстро ориентируясь в калейдоскопе различных идеологий, Франко взвалил вину за унизительную потерю империи на свободный рынок и 8 октября 1939 года предложил свой десятилетний план «для реорганизации нашей экономики в гармонии с нашей национальной реконструкцией». Согласно этому плану, Испания должна зависеть исключительно от своего сырья и не привлекать иностранные инвестиции. Цену — причем очень высокую — за эту неразумную, но идеологически выдержанную политику фашистского толка пришлось платить испанскому народу. Разрываясь между мстительным желанием покарать своих противников и всепоглощающей убежденностью, что только он один спосрбен разрешить проблемы Испании, Франко проводил политику, вызвавшую в сороковых годах голод в стране, это было время, когда бюрократическое вмешательство в бизнес наихудшим образом смешивалось с экономикой черного рынка.
Карточная система стала составной частью политики репрессий. Большинство основных продуктов можно было купить только на черном рынке по спекулятивным ценам. Снабжение продуктами питания в Испании зависело уже не только от социального положения, но и от политических взглядов. Фавориты режима Франко имели возможность купить все, что вздумается, на черном рынке, а для менее удачливых граждан даже хлеб и картошка становились предметами роскоши. И хотя правительство хвастливо заявляло, что в стране царит закон и порядок, коррупция расцвела пышным цветом. Франкистские чиновники стыдливо держались в стороне, пока черный рынок душил поступление продуктов питания и других товаров первой необходимости для простых испанцев. Все знали, что военные обогащались, занимаясь спекуляцией, но если на том же самом попадался «красный», он подвергался суровому наказанию. Жене рабочего, схваченной с незаконным товаром, устраивали «очищение» с помощью касторки и обривали голову. Эта процедура предвосхитила ужасающую программу «гигиениза-ции», которую Гитлер затем практиковал в Дахау. Конечно же, Франко и его сторонники радовались возвращению, как писал Гонсало де Агилера, «полезных для здоровья времен, когда можно было рассчитывать на то, что язвы и мор будут косить население, поддерживая должную пропорцию... Цель нашей программы — очистить страну, и мы избавимся от пролетариата».
Как повелось, мстительность каудильо принесла ему практическую выгоду. Ведя себя подобно родителю, который оставляет без обеда непослушных детей, Франко лишил энергии и воли к сопротивлению политическую оппозицию. Как пишет Бруно Беттельхайм в своем впечатляющем труде о гитлеровских концентрационных лагерях, трудно посвятить себя размышлениям или радикальным действиям, когда еда — или отсутствие таковой — становится всепоглощающей, навязчивой идеей. А деньги, накопленные как во время, так и после гражданской войны, не только послужили вознаграждением для сторонников Франко, но и легли в основу их будущего процветания.
Чем больше людей оказывались запятнанными, тем выше становились в цене риторические пассажи, прославляющие каудильо. Погрязшие в коррупции приспешники Франко изливали потоки грубой лести, потребность в которой у него казалась ненасытной. 18 октября, когда он решил перевести свою штаб-квартиру в Мадрид, алькальд Бургоса заявил: «От всего сердца город говорит... слава Господу нашему на небесах и хвала тебе, спасителю Испании». Подобные проявления подобострастия еще больше распаляли самомнение Франко. К счастью для него, Серрано Суньер смотрел на вещи более трезво. Он отговорил генералиссимуса от мысли устроить свою штаб-квартиру в королевской резиденции в Мадриде, ибо это могло показаться несколько вызывающим для монархистов, которые вопреки всем прогнозам надеялись на реставрацию. Вместо этого Франко выбрал королевский охотничий дворец Эль-Пардо в пригороде Мадрида. А на время обширных ремонтных работ он и донья Кармен перебрались в замок Винъюэлас, где и пробыли до марта 1940 года.
20 ноября 1939 года, в третью годовщину казни Хосе Антонио Примо де Риверы, Франко, сознавая, какую большую выгоду он может извлечь, примазавшись к героическому наследию соперника, приказал эксгумировать тело вождя фалангистов в Аликанте и перевезти его в Мадрид. После факельного шествия, длившегося десять дней и ночей, на протяжении пятисот километров сопровождавшегося церковными богослужениями, артиллерийскими салютами и колокольным звоном, Хосе Антонио был погребен в Эскориале, рядом с королями и королевами Испании. В Мадриде кортеж встречали офицеры главного командования всех родов войск, представители нацистской Германии и фашистской Италии. Эта публичная церемония, сокрушительно раскалывающая общество, сыпала свежую соль на раны потерпевших поражение в гражданской войне и уничтожала у них последние остатки слабой надежды на примирение. У победителей же она распалила дикую ненависть. Пленных республиканцев в Аликанте избивали и убивали.
Перезахоронение останков Хосе Антонио и успехи Гитлера в Норвегии и Дании вызвали у Франко приступ ярко выраженной мании величия. Презрев всякую дипломатию, он радостно сообщил британскому министру колоний, лорду Ллойду, что, как ему стало достоверно известно, все лучшие английские корабли потоплены, Великобритания находится на грани голода, а в Индии назревает революция. Забыв об алчности собственного окружения, 31 декабря 1939 года каудильо разразился яростной антисемитской диатрибой, в которой клеймил «расы, отмеченные клеймом алчности и своекорыстия». В качестве реверанса в сторону нацистско-советского пакта он сделал ряд несколько неожиданных выпадов в адрес империалистов за то, что «они подвергают гонениям и уничтожают» коммунистическую партию. В тот же вечер, во время новогоднего ужина, Франко грубо обошелся с британским послом. Признательный фюрер немедленно послал ему несколько подарков, в том числе шестиколесный «мерседес», точную копию своего собственного. 23 апреля 1940 года Франко самонадеянно заверил португальского посла, что люфтваффе уже почти уничтожила британский военный флот.
Но отнюдь не все старшие офицеры разделяли пыл каудильо по отношению к державам «оси». Военные амбиции Франко, в отличие от Муссолини, серьезно умерялись закаленными в боях офицерами генерального штаба. Приходя в ужас при одной только мысли об участии в войне в Европе, они были полны решимости остужать пылкие грезы генералиссимуса. Да и сам Франко в моменты просветления, как опытный солдат, признавал, что Испания была не в состоянии вести сколь-нибудь масштабные военные действия.
Тогда он нашел другой способ, чтобы доказать свою непобедимость. Ничуть не встревоженный резким падением испанской экономики, он спокойно заверил народ, что гигантские залежи золотоносной руды в Эстремадуре послужат основой для скорого промышленного подъема в стране. Когда золото не материализовалось, какой-то австрийский проходимец убедил каудильо, что светлое будущее Испании кроется в секретном топливе — комбинации воды, растительных экстрактов и прочих тайных ингредиентов, — которое по своим качествам превосходит натуральный бензин. Убежденный, что одним махом разрешит энергетический кризис, Франко отдал распоряжение на проведение в высшей степени дорогостоящих экспериментов для получения «секретного топлива» и тут же радостно пообещал населению, что Испания скоро станет экспортером нефти. Его надежды оказались недолговечными. Когда выяснилось, что все это было монументальной аферой, каудильо пришлось отдать распоряжение арестовать мошенников. Он был не единственным из диктаторов, кто выдвигал фантастические проекты. У Гитлера тоже (по словам Алена Баллока) имелась «масса блестящих идей, чтобы стать богатым и знаменитым, — от поисков источников воды до конструирования аэропланов».
В начале 1940 года, пока еще энтузиазм по отношению к державам «оси» шел по восходящей, Франко в радиовыступлении обрушился с грубыми нападками на Англию и евреев. (Признательный Геббельс записал в дневнике: «Наконец-то, хоть что-то за наши деньги, нашу авиацию и нашу кровь».) Затем он отдал распоряжение, чтобы немецким подводным лодкам оказывались все жизненно необходимые услуги в территориальных водах Испании, одновременно информируя немецкого посла обо всем происходившем в странах, с которыми у Германии не было дипломатических отношений. Однако некоторые религиозные деятели ощущали все большую неловкость от столь очевидной пронацистской позиции Франко. Скрытые трения между фалангой и церковью вырвались наружу в марте 1940 года, когда кардинал-архиепископ Севильи, Педро Сегура, отказался участвовать в широко разрекламированном религиозном шествии вместе с каудильо и повторил призыв кардинала Гомы к национальному примирению. И хотя Франко разрешил своим фалангист-ским подручным развязать кампанию угроз, чтобы заставить его замолчать, кардинал смело заклеймил всех каудильо как «главарей воровских банд» и ипостасей дьявола. Серрано Суньеру пришлось употребить все свое умение, чтобы отговоритЬ Франко от высылки Сегуры из Испании и не ставить тем самым под удар отношения с Ватиканом. Но попытки убедить Рим отозвать Сегуру оказались безуспешными.
К явному огорчению Франко, ему приходилось наблюдать со стороны, как Гитлер, словно вырвавшийся на волю психопат, кружит по Европе, все круша и ломая на своем пути. 10 мая 1940 года, когда испанская пресса объявила о немецком вторжении в Голландию как об «оборонительном мероприятии», Франко уважительно похвалил «зоркий глаз» Гитлера и его умение «выбирать верное место и время». Вполне понятно, что западные демократии волновались по поводу дальнейших намерений каудильо. Перед тем как вернуться в Париж, чтобы стать вице-президентом, Петен попытался обеспечить нейтралитет Франко, заверив его, что с испанскими республиканцами в изгнании во Франции не церемонятся. Англичане тем временем заменили своего придирчивого посла Петерсона на Сэмюэла Хоура, главной задачей которого было убедить каудильо не вступать в войну. Нового посла совершенно не впечатлила «тучная фигура маленького буржуа», хотя он умело и тонко вел переговоры с генералиссимусом. Хоур очень удивлялся тому, что Франко «когда-то мог быть молодым, блестящим офицером в Марокко и главнокомандующим в жестокой гражданской войне», однако конкретно не понравился ему голос каудильо, который, в отличие от «неконтролируемых воплей Гитлера или театрально поставленного баса Муссолини», скорее, подходил «солидному семейному доктору с обширной практикой и гарантированными доходами». Еще меньше ему нравились публичные выступления генералиссимуса. По его словам: «Франко зачитывал свое ежегодное обращение тихим, монотонным голосом, без признаков волнения и лишних движений, разве что иногда механически поднимал руку. Он походил на новичка, которому впервые поручили зачитать длиннющий доклад».
Несмотря на все свои ораторские дефекты, Франко благополучно обходил прощупывания посла насчет возможной английской помощи, радостно заявляя, что Испании ничего не нужно от Британской империи, поскольку все необходимое страна получает из Северной Африки. Это был первый, но отнюдь не последний раз, когда британский посол изумлялся «изворотливости и поразительному самодовольству Франко... и его нескрываемой убежденности, что он избран Провидением для спасения страны и на ведущую роль в построении нового мира».
К огорчению Хоура, крушение французской армии и бегство англичан из Дюнкерка еще больше подстегнули фашистский пыл Франко и разожгли его алчность. Он хотел Гибралтар. Лелея мечты о мощной испанской империи, которая вытеснит из Африки другие колониальные державы, Франко немедленно отправил своего начальника генерального штаба, генерала Хуана Вигона, к фюреру с письмом, в котором говорилось: «Я хотел бы выразить восхищение и восторг мои и моего народа, с глубоким волнением следящего за славной борьбой, которую считает своей собственной». Выражая сожаление, что он вынужден скрывать свою поддержку за занавесом нейтралитета, генералиссимус выражал надежду, что Германия предоставит ему необходимое вооружение и снаряжение, дабы Испания могла вступить в войну. Хотя Гитлер, убежденный, что Великобритания стоит на грани поражения, не собирался платить цену, которую требовал каудильо, вскоре его охватили те же сомнения, что терзали Франко во время гражданской войны. Необъяснимая ошибка фюрера, когда он не использовал до конца свое военное преимущество и не вторгся в Великобританию после успеха в Дюнкерке, напоминала многочисленные отклонения Франко во время марша на Мадрид.
Решение Муссолини вступить в войну в июне 1940 года — которое министр иностранных дел Испании Бейгбедер в присутствии посла Соединенных Штатов назвал «безумием» — и его неосторожное обещание Франко, что «в новой организации Средиземноморья, которая возникнет в результате войны, Гибралтар будет возвращен Испании», еще больше укрепили агрессивные намерения каудильо. Два дня спустя, по словам взволнованного Хоура, он решил изменить статус испанского нейтралитета на «ошибочную и ничего хорошего не предвещавшую» позицию «невоюющей страны». Тем не менее опасение, что это означало неминуемое вступление Испании в войну на стороне держав «оси», не имело под собой основания. Франко не собирался и пальцем пошевелить без массивной помощи от немцев.
В начале 1940 года, пока испанцы тысячами умирали от голода, генералиссимус преспокойно проводил время, обучаясь живописи. Подобно Гитлеру, который частично изливал свою энергию, как до прихода к власти, так и потом, проектируя невероятные гигантские фрейдистские монументы собственному величию, Франко занялся конструированием и сооружением огромного мавзолея в честь националистов, павших в гражданской войне. «Долина павших», которая должна была сравниться с «величием памятников древности, бросившим вызов времени и забвению», по сути, поддерживала в стране пламя ненависти, оставшейся в наследство от гражданской войны. Этот мемориальный комплекс, с одной стороны, не давал угаснуть слабым надеждам Франко на личное бессмертие, с другой — отражал глубоко укоренившееся у него опасение, что народу необходимо солидное, постоянное напоминание о нем, каудильо, после смерти. По затратам на его сооружение мемориал не уступал дворцу-монастырю Эскориалу Филиппа II, а на его строительстве (растянувшемся на два десятилетия) были заняты более двадцати тысяч республиканцев, которые, как полагал Франко, тяжким трудом должны «искупить свои преступления». Многие из них получили увечья, болезни и просто умерли во время этой гигантской и разорительно дорогой акции.
Не имея возможности напрямую участвовать в боевых действиях, Франко решил устроить дипломатическую войну в Испании, выдерживая ледяную дистанцию с британским и американским послами и с чрезвычайной теплотой встречая в Эль-Пардо германского посла Эберхарда фон Шторе-ра. Он сделал еще большие уступки Гитлеру, предоставив возможность германским подводным лодкам производить ремонт и пополнять запасы воды и продовольствия в испанских портах, немецким разведывательным самолетам летать с испанскими опознавательными знаками и немецкой авиации вести боевые действия с испанских военно-воздушных баз. 14 июня, в день, когда немцы вошли в Париж, Испания заняла Танжер, что каудильо посчитал первым шагом в масштабном возвращении африканских колоний.
Относясь со вполне понятным недоверием к Франко, французское правительство, возглавляемое Петеном, попыталось предотвратить объявление Испанией войны Франции, попросив каудильо выступить в качестве посредника и призвать немцев к прекращению военных действий. Хотя Франко и согласился на это, он тут же отправил Вигона к Гитлеру с официальным предложением: Испания вступает в войну в обмен на «поставки военного снаряжения... авиацию для нападения на Гибралтар... содействие немецких подводных лодок для защиты Канарских островов». Во время сорокапятиминутной встречи фюрер выразил удовлетворение, что Франко действовал «без лишних слов», и «свою благодарность за поведение испанской прессы». Он также выразил надежду, что «тесные отношения Испании с Южной Америкой могут помочь в правильном освещении в латиноамериканских странах истинного положения дел в качестве противовеса дурному влиянию, оказываемому Северной Америкой». Однако Гитлер никак не отреагировал на предложение каудильо вступить в войну.
В день подписания франко-германского перемирия генералиссимус приказал своему послу в Париже, Хосе Феликсу де Лекерике, потребовать французские территории в южном и восточном Марокко. Игнорируя сомнительные утверждения Франко, что это необходимо для подавления волнений среди местных племен, а также чтобы избежать захвата этих территорий немцами, французский военный комендант незамедлительно уведомил испанского верховного комиссара Марокко, что любые испанские набеги на французскую территорию будут сурово караться.
Ничуть не огорченный этим афронтом, 22 июня Франко лаконично сказал английскому послу, что Великобритании пора кончать с войной, заявив буквально: «Вы все равно никогда не сможете выиграть ее», добавив затем, что в противном случае это может закончиться «разрушением европейской цивилизации». Отвергнув американскую помощь в обмен на испанский нейтралитет, Франко вновь предложил Германии вступить в войну на ее стороне. Однако и в этот раз ему отказали. Уже отягощенный своими, как он их называл, «нахлебниками* (итальянцами), Гитлер был противником притязаний Испании во французском Марокко, опасаясь, что это может вызвать высадку там британского десанта. Желая иметь собственные базы в Марокко и на Канарских островах, фюрер строго уведомил Франко, что вряд ли ему понадобится помощь Испании в войне, которую он рассчитывал выиграть своими силами. Потеря Ягуэ, ярого германофила, которого каудильо вынужден был снять с поста министра военно-воздушных сил за его политику реабилитации офицеров-республиканцев, а также за то, что он оказался замешан в заговоре против Франко, нанесла еще один удар по прогерманской позиции генералиссимуса. Это, впрочем, не помешало Франко, Бейгбедеру и Серрано Суньеру принять участие в безумном плане: оказать помощь немцам в «задержании» герцога Виндзорского в Португалии и использовать его против «клики Черчилля» в мирных переговорах.
Сэр Сэмюэл Хоур продолжал прилагать все усилия, чтобы обеспечить испанский нейтралитет. Энергично пополняя карманы высокопоставленных армейских чинов и предлагая британскую помощь для облегчения продовольственного кризиса в Испании, Хоур даже намекнул Бейгбедеру: если Франко будет вести себя правильно, Гибралтар и другие «пожелания» Испании несколько позднее могут быть обсуждены. Кроме того, из опасения, что свержение каудильо спровоцирует германское вторжение в Испанию, англичане не оказывали даже моральной помощи республиканцам. А ведь те надеялись, что в качестве составной части войны против фашизма западные демократии выступят против каудильо.
Прибытие из Берлина адмирала Канариса, поклонника Франко, еще больше подстегнуло милитаристский энтузиазм генералиссимуса. Но 6 июля Канарис не оставил никаких сомнений насчет того, что, по крайней мере на текущий момент, Германия не заинтересована в участии Испании в войне. Он, однако, запросил разрешения на пересечение территории Испании германскими войсками, если англичане вторгнутся в Португалию или Португалия вступит в войну на стороне англичан и их союзников. Каудильо — сам жаждавший захватить Португалию — заверил, что испанских войск будет вполне достаточно для решения этой задачи, если немцы снабдят их артиллерией и авиацией.
Стремясь упрочить собственные позиции на Пиренейском полуострове, Франко в тот же день встретился с португальским послом. С жаром говоря о Гитлере как о «необычайно умеренном, восприимчивом человеке, полном великих идей в духе гуманизма», каудильо порекомендовал португальцам как можно скорее разорвать дружеские отношения с Великобританией. Португальский диктатор Салазар был всерьез обеспокоен намерениями Франко. Через своего посла он предложил, чтобы Испания и Португалия заключили договор о дружбе, по которому каждая из сторон обязалась защищать нейтралитет друг друга в случае нападения, от кого бы оно ни исходило. Но если Салазар имел в виду немцев, то Франко хотел отразить «любые требования или нападки со стороны англичан».
17 июня 1940 года каудильо, вдохновленный перемирием Германии с Францией (которое на деле поставило крест на его претензиях на французское Марокко), по случаю четвертой годовщины восстания произнес пламенную речь, выдержанную в профашистских, агрессивных тонах. Провозгласив, что «Наш долг и цель — это Гибралтар и экспансия в Африке», он в очередной раз заявил, что ключом для реализации испанских имперских устремлений — и секретом «фантастических побед» Гитлера «на полях сражений в Европе» — являются дисциплина и единство.
Однако холодный ветер действительности задул с новой силой. Политика западных демократий, направленная на ограничения поставок горючего в Испанию, привела почти к полному крушению торговли внутри страны. 24 июля Франко был вынужден подписать соглашение с Великобританией и Португалией о товарообмене в стерлинговой зоне, а пять дней спустя — договор о дружбе и ненападении с Португа-
В то же время немцы неожиданно понесли серьезный урон в воздушной битве за Англию. Это резко повысило стратегическое значение Испании для Германии. 2 августа 1940 года Риббентроп сообщил немецкому послу фон Штореру, что «теперь мы желаем скорейшего вступления Испании в войну». Пока немцы размышляли, каким образом этого добиться лучше всего, Франко, словно раззадоренный ребенок, направил и Гитлеру, и Муссолини личное послание с картой своей «африканской империи». В нее были включены «Гибралтар, Французское Марокко... Оран и колонии Гвинейского залива». Заверив немцев, что благодаря договору о дружбе Португалия «отчасти находится вне британской орбиты и стала гораздо ближе к нашей», он дал понять, что ждет от немцев поставок горючего, зерна и «прочей помощи, требуемой для ведения войны». Не обращая внимания на уклончивую позицию Муссолини (итальянского диктатора раздражали притязания Франко на ту часть северного Марокко, которую он присмотрел для себя), каудильо выразил свое «глубокое и горячее восхищение дуче».
Однако энтузиазм немцев по поводу участия режима Франко в войне быстро испарился после их детальной оценки реального состояния испанской армии. Отмечалось, что «чрезмерный индивидуализм зачастую ведет к отсутствию дисциплины» у солдат, а «доктринерское командование обычно медлительно и лениво». Соответственно был сделан вывод, что «без иностранной помощи Испания сможет очень недолго вести военные действия». В любом случае Гитлер предпочитал сохранять хорошие отношения с вишистской Францией, нежели удовлетворять амбиции Франко во Французском Марокко. И фюрер решил, что взамен экономической и военной помощи каудильо достаточно оказать моральную. 6 сентября фон Шторер нацепил на грудь пребывавшего в эйфории генералиссимуса весьма престижный большой золотой крест ордена «Германского Орла».
Однако, несмотря на пылкую веру Франко в «триумф наших общих идеалов», быстро ухудшающееся экономическое положение Испании начало накладывать свой отпечаток на его экспансионистские устремления. Скрепя сердце, он был вынужден обратиться за экономической помощью к Соединенным Штатам. Весьма подозрительный госдепартамент указал, что Штаты готовы направить помощь только через политически нейтральный Красный Крест, надеясь, что таким образом американцы завоюют доброе к себе отношение испанцев, но не будут способствовать военным планам Франко.
Как Великобритания, так и Франция были чрезвычайно озабочены тем, что неоднократные попытки Испании добиться от немцев приглашения Серрано Суньера посетить Берлин в конце концов, 16 сентября 1940 года, принесли свои плоды. В действительности испанский министр и его фалангист-ская свита были не слишком гостеприимно встречены грубоватым и заносчивым Риббентропом. Хотя буквально на следующий день немцы отказались от операции «Морской лев», то есть вторжения в Великобританию, и перенесли свое внимание на нервные центры Британской империи, Гибралтар и Суэц, Риббентроп радостно заверял испанцев, что ситуация в Лондоне быстро ухудшается и скоро от него «ничего не останется, кроме пепла и обломков». На пространный «список покупок» каудильо, где фигурировало пожелание «заполучить все Французское Марокко», Гитлер ответил своим, еще более длинным, списком. К неудовольствию испанской стороны, в него входили требования базы на Канарских островах и передачи Германии имущества английских и французских фирм, действовавших в Испании, в качестве компенсации за немецкую помощь во время гражданской войны. Хотя встреча Серрано Суньера с фюрером была более теплой, она от этого не стала более продуктивной.
Пока Франко пытался убедить себя, что неприемлемые немецкие требования исходили от «самовлюбленных прихвостней» Гитлера, и продолжал что-то лепетать насчет «возвышенного образа мыслей и прекрасного чутья фюрера», он был оскорблен в лучших чувствах. 24 сентября Серрано Сунь-ер и Риббентроп снова встретились в Берлине, чтобы обсудить предложение Муссолини о заключении секретного трехстороннего пакта между Испанией, Германией и Италией. Франко приказал Серрано Суньеру уведомить Риббентропа, что «он был дружески огорчен» требованиями Германии, которые «абсолютно несовместимы с величием и независимостью страны». После горячей дискуссии министры иностранных дел обоих государств договорились, что детали секретного пакта должны быть определены во время личной встречи Франко и Гитлера.
Обиженный фюрер, заметив, что без немецкой и итальянской помощи «сегодня не было бы Франко», начал задаваться вопросом: «Была ли Испания столь же расположена отдавать, как прежде была готова брать?» Гитлер сообщил сначала министру иностранных дел Италии Чиано, а затем и самому Муссолини, что против испанского вступления в войну, ибо «оно обойдется дороже, чем того стоит». Хотя фюрер и сам не был лишен духа стяжательства, он с горечью жаловался: «Общаясь с испанцами, чувствуешь себя так, словно имеешь дело с евреем, который хочет заработать на самом святом, что есть у человека». А немецкий посол в ответ на заверения каудильо, что «его отношение к Германии — не сиюминутная прихоть, а непреходящая реальность», раздраженно заметил: «Испания не может ожидать, что ценой наших побед мы ей на блюдечке преподнесем новую колониальную империю и ничего не получим взамен». Тем не менее акции Франко как руководителя Испании в глазах немецких политиков стали расти, поскольку оппозиция вступлению в войну в испанской армии усиливалась, а между монархиста-ми-англофилами и фалангистами, сторонниками «оси», вспыхнули столкновения. Каудильо же, в полной мере осознав, что немцы не хотят платить вперед и его экспансионистские устремления не находят у них должного понимания, англичанам, однако, намекнул, что ему были обещаны «экономическая стабильность, Гибралтар и Французское Марокко» в обмен на испанское участие в войне.
На протяжении всего этого времени происходили безжалостные казни республиканцев, которых вытаскивали из переполненных тюрем. Легкость и беспечность, с которой Франко подписывал смертные приговоры, обнаружились, когда в октябре — ноябре 1940 года был казнен ряд высокопоставленных республиканцев, в том числе и каталонский президент Луис Компанис, арестованный гестапо во Франции и выданный каудильо. Это вызвало всплеск возмущения за рубежом и создало определенные трудности для режима. Однако не в политических интересах западных демократий было обращать внимание на эти преступления. Но ни замечание Черчилля в адрес испанских политиков — «мы не являемся препятствием для их марокканских амбиций, пока они сохраняют нейтралитет в войне», — ни американское предложение массивных поставок зерна в обмен на испанский нейтралитет не смогли повлиять на профашистскую позицию Франко. 16 октября 1940 года он уволил двух министров, не поддерживавших внешнеполитическую линию каудильо, в том числе и Бейгбедера, любовница которого, красавица англичанка Розалинда Пауэлл Фокс, убедила его отказаться от своего германофильства. С тех пор он с ехидством называл Франко не иначе как «карлик из Эль-Пардо». Министром торговли и промышленности был назначен фалангист Деметрио Карсельер Сегура, а Серрано Су-ньер стал министром иностранных дел, сохранив за собой портфель министра внутренних дел. Хотя номинально возглавлял кабинет Франко, решением повседневных вопросов все больше занимался именно Серрано Суньер. Довольный Муссолини написал Гитлеру, что в Испании «враждебные странам «оси» тенденции были устранены или, по меньшей мере, нейтрализованы», а широко освещавшийся в прессе визит Генриха Гиммлера еще раз укрепил впечатление, что Испания находилась на грани вступления в войну.
Гитлер, вопреки желанию своих советников, захотел сам выяснить, нельзя ли все-таки втянуть Испанию во всемирную бойню, не принося в жертву собственные амбиции. Была подготовлена встреча двух деятелей. Франко, наконец, лично противостоял Гитлеру на знаменитой встрече в Андае 23 октября 1940 года. Поезд каудильо прибыл на станцию с опозданием на восемь минут, выгрузив, по выражению адмирала Канариса, «не героя, а какого-то недомерка». Не сумев найти подходящий тон в беседе с фюрером, разнервничавшийся Франко то рассыпался в подобострастных комплиментах, то вдруг проявлял непреодолимое упрямство. Поскольку оба они являлись личностями исключительно самовлюбленными, им не стоило встречаться лицом к лицу. Уже тот факт, что каждый из них был уверен, что он — избранник Божий, осуществляющий Его промысел на Земле, а то и является воплощением самого Мессии, делал маловероятным достижение между ними взаимоприемлемого компромисса. А поскольку собственное Я тесно идентифицировалось у Гитлера с Третьим рейхом, а у Франко — с Родиной, то они сталкивались практически по каждому пункту переговоров.
Да и в принципе трудно было представить, чтобы Гитлер сделал какие-либо имперские уступки испанцам сразу после немецких военных успехов. Не слишком приветствовал он и самонадеянные претензии Франко на равный статус, в то время как Испания терпела полный экономический крах. Убежденность каудильо, что в отношении Марокко «Франция должна сделать определенные уступки», натолкнулась на решимость фюрера не подвергать опасности свои отношения с правительством Виши. Опрометчивое решение Франко прочитать Гитлеру лекцию об исторических и моральных правах Испании на Марокко «монотонным голосом, напоминающим муэдзина, призывающего верующих к намазу», пришлось не по вкусу Гитлеру, который вообще не имел ни привычки, ни склонности выслушивать чьи-либо нудные рассуждения. Под отупляющим напором Франко фюрер не сумел хотя бы просто-напросто соврать, на словах согласившись с правами каудильо на Французское Марокко. Но, возможно, даже конфиденциально он не хотел выдавать такого рода авансы «латинским» болтунам, поскольку, как считал Гитлер, «рано или поздно французы все равно узнают об этом». По-видимому, не вполне отдавая себе отчет о смысле собственных слов, Франко бестактно заверил Гитлера, что Испания может захватить Гибралтар в любой момент, а вот Великобритания, если она будет завоевана, все равно станет продолжать войну из Канады с помощью Соединенных Штатов. Вскочив на ноги, взбешенный Гитлер заорал, что он больше не желает продолжать дискуссию. (Позднее фюрер пожалуется Муссолини, что «лучше согласится, чтобы ему вырвали три-четыре зуба, чем снова пережить что-либо подобное».)
Несмотря на безнадежную уверенность Гитлера, что «с этим типом каши не сваришь», в конце концов его удалось убедить продолжать переговоры. После ужина, прошедшего в напряженной обстановке, было решено, что Серрано Сунь-ер и Риббентроп подготовят секретный договор, а Гитлер и Франко поведут дискуссию с глазу на глаз. Перед уходом каудильо выдал последний залп: «Несмотря на все, что я высказал, если наступит день, когда я действительно понадоблюсь Германии, то немедленно приду к ней на помощь без каких-либо требований с моей стороны». Эти слова не были переведены на немецкий, поскольку переводчик счел их просто формулой вежливости. Впечатление, произведенное генералиссимусом на верховное германское командование, стало еще более ярким в момент расставания: когда он прощально помахивал рукой с площадки последнего вагона, поезд сильно тряхнуло, и только энергичное вмешательство генерала Москардо спасло каудильо от падения вниз головой на платформу. Ко всем несчастьям, старый поезд протекал так, что из-за мощного ливня на обратном пути Франко и Серрано Суньер приехали в Сан-Себастьян промокшие до нитки.
Единственное твердое обещание Гитлера касалось Гибралтара. Поминая немцев недобрым словом, Франко и Серрано Суньер почти ночь напролет работали над секретным протоколом, а затем отправили его в Берлин с кучей поправок, которые немцы немедленно вычеркнули. Разобиженный Франко жаловался Серрано Суньеру, что «эти люди просто невыносимы. Они хотят, чтобы мы вступили в войну, не получив ничего взамен», а Гитлер тем временем поносил «иезуитскую свинью», «трусливого Франко» и «неуместный испанский гонор». Серрано Суньер объяснил позднее итальянскому послу, что все проблемы были вызваны тем, что «Франко, обладавший скорее военным, чем политическим менталитетом, оказался недостаточно подготовлен к сложной диалектической игре, которую вели немцы». Несмотря на минорный тон переговоров, последовавшие затем взаимные препирательства и туманность формулировок заключенного все же секретного протокола, в нем содержалось-таки официальное обязательство Испании вступить в войну на стороне «оси» в сроки, «совместно согласованные тремя державами». Однако в ноябре 1940 года немцы, проанализировав ситуацию в Испании, сделали вывод, что положение «стало значительно более критическим» и эта страна «может стать для нас тяжелой ношей». Как заключил Геббельс: «Фюрер не слишком высокого мнения ни об Испании, ни о самом Франко. Много шума, мало дела».
Возможно, под впечатлением от встречи с фюрером Франко опять увлекся новой, совершенно абсурдной «экономической» идеей. Ярый фалангист, гражданский губернатор Малаги, Хосе Луис Арресе утверждал, что проблема голода может быть решена одним махом, если кормить народ бутербродами с мясом дельфина, причем хлеб делать из рыбной муки. Эти невероятные, чтобы не сказать несъедобные, рекомендации так потрясли Франко, что подобострастный, но амбициозный Арресе быстро взлетел в политической иерархии. На деле Испания, как и предполагали немцы, еще длительное время останется «в жутком, почти анархичном беспорядке». Говоря о голоде в Испании, Дэвид Экклс — британский экономист, присланный на помощь Хоуру, чтобы обеспечить нейтралитет Франко — описывает мужчин, женщин и «детей, которые рылись на улицах в ящиках с мусором и отбросами». Экклс был убежден, что «испанцы выставлены на продажу, а наша задача состоит в том, чтобы аукционист присудил этот лот нам». И он решил, что для Великобритании настал подходящий момент предложить Испании экономическую помощь под гарантию ее нейтралитета. Страдая от немецкой непреклонности и сознавая, что его режим может пострадать, если Испания не получит дополнительно зерна от американцев, даже Франко понял, что настало время договариваться с союзными демократическими державами. Заверив американского посла, что он не подписывал никакого трехстороннего соглашения с державами «оси», Франко сумрачно намекнул: единственное, что мешает ему публично заявить о нейтралитете, это страх перед Германией, «стоящей на границе и готовой к прыжку». Может,
Франко просто вел свою политическую игру. Может, сразу после встречи в Андае его отношение к великому герою несколько изменилось. Обладая схожим с фюрером типом мышления, он понимал, сколь мало можно доверять Гитлеру — кто знает, какие у него планы? И действительно, Геринг много позже будет утверждать: было большой ошибкой Гитлера то, что он так и не решился оккупировать Испанию. Но, какими бы соображениями ни руководствовался Франко, он поспешил успокоить немцев — мол, все его переговоры с союзными державами были «туманными и ни к чему не обязывающими», а слухи о том, что Испания обещала нейтралитет в обмен на американские поставки продуктов питания, — просто выдумки.
Не самое умное решение Муссолини развязать 28 октября военную кампанию в Греции (что привело к восстанию в Югославии и британской экспедиции) вынудило Гитлера, стиснув зубы, изменить свои планы и выручить дуче, а также убедило фюрера, что Испания как военный союзник ему еще может понадобиться. Однако постоянно преследовавший каудильо страх перед неудачей, наряду с присущим ему патологическим нежеланием вступать в какой бы то ни было клуб, вызвали у него приступ особо упрямого и непредсказуемого поведения. 7 декабря адмирал Канарис официально предложил Испании вступить в войну и разрешить германскому армейскому корпусу с артиллерией пересечь ее территорию, чтобы напасть на Гибралтар. Но каудильо, видимо сам того не желая, раскрыл свои карты, заявив, что его страна «вступит в войну только тогда, когда Великобритания будет готова капитулировать». Потом он отрицал, будто говорил что-либо подобное, и нервно ссылался на ухудшение дел в продовольственной сфере как на основную причину отказа немцам. Так или иначе, предложение Гитлера передать Гибралтар по окончании войны (до этого Гибралтар был ему нужен в качестве немецкой базы) оказалось недостаточным, чтобы соблазнить Франко. В 1945 году, находясь в своем бункере, Гитлер все еще утверждал, что «с нашими десантниками [и] с согласия Франко» он мог бы легко захватить
Гибралтар. Но в тот момент испанское верховное командование решило, что Испания не предпримет никаких шагов против Гибралтара, пока Великобритания держит под своим контролем Суэц. И пока немцы разбирались в «уклончивых и неопределенных» ответах Франко и его «многочисленных рассуждениях по поводу деталей и второстепенных аспектов» проблемы, пыл с обеих сторон угас.
Глава 7
ФРАНКО НА ПРОДАЖУ
Каудильо и Вторая мировая война: январь 1941 — декабрь 1945
Это правительство в отношениях с руководством наиболее отсталых стран мира никогда не испытывало столь явной нехватки самой банальной вежливости и уважения к партнеру.
Госсекретарь Корделл Халл — испанскому послу Хуану Франсиско де Карденасу, 13 сентября 1941 года
Хотя решимость Франко вступить в войну то уменьшалась, то возрастала в зависимости от успехов Германии, его запросы только увеличивались. Отнюдь не уверенный, что немцы одержат окончательную победу, он тем не менее просил у них материальную помощь и претендовал на значительные территориальные приобретения. Участие Испании в войне каудильо ставил в зависимость от того, смогут ли державы «оси» запереть Гибралтарский пролив и Суэцкий канал. После успехов немцев в Югославии, Греции и северной Африке милитаристский дух Франко взыграл, но известие об уничтожении англичанами в Бенгази в январе 1941 года итальянских сил, имевших шестикратный перевес над противником, заставило его в очередной раз заколебаться. Гитлеру, считавшему «своим долгом прийти на помощь итальянскому другу и союзнику», пришлось пересмотреть все военные планы на Балканах. Похоже, именно тогда у него зародилась мысль, что в конечном счете помощь Франко будет ему необходима. Берлин указал Мадриду «по-товарищески откровенно», что теперь, когда война уже почти выиграна, «наступил исторический момент для Испании», но генералиссимус дал задний ход. Когда же выведенные из себя немцы резко заявили, что «без фюрера и дуче не было бы ни националистической Испании, ни каудильо», возмущенный Франко гордо ответил: «Испания намеревается вступить в войну и не нуждается в подарках». И тем не менее на все более жесткие требования Берлина — дать «ясные «да» или «нет» о готовности немедленно вступить в войну» — от каудильо приходили абсолютно «неудовлетворительные» сообщения.
Немцы, несмотря на глубокое убеждение Муссолини, что «это будет совершенно бесполезное мероприятие, без которого лучше обойтись», попросили его все же попытаться получить определенный ответ от Франко. Была организована их встреча в Бордигере, на севере Италии, в первых числах февраля 1941 года. Как и предсказывал дуче, встреча оказалась безрезультатной. Франко превозносил его до небес как «истинно латинского гения», итальянцы же отзывались о каудильо как о «болтуне, не умеющим выражать свои мысли, теряющемся в мелких, незначительных деталях и путающемся в пространных рассуждениях о военных материях». Муссолини знал об отчаянном экономическом положении Испании и потому сообщил немцам: самое большее, на что можно было надеяться, это удержать Франко на стороне «оси». Понимая, что его значимость быстро падает, каудильо на обратном пути в Испанию задержался в Монпелье, где попытался запугать французов и потребовал от них территориальных уступок в Марокко.
Учитывая характер дипломатических переговоров между тремя фашистскими лидерами, нет ничего удивительного, что отношения между ними были далекими от гармонии. По словам биографа Чиано, дискуссии направлял «небольшой круг жуликов, психопатов и шутов», а губили их «мелочная ревность, личное тщеславие и чванство и желание набрать побольше очков в этой игре». Не было недостатка и в злобных сплетнях и слухах, подрывавших взаимоотношения сторон. Привыкшему к неумеренной лести Франко вряд ли могли понравиться презрительные отзывы немцев о нем в конце 1940 и начале 1941 годов. Обозленный Гитлер презирал его за «нрав не суверена, а вассала», и вообще считал каудильо «чванливым и напыщенным паяцем», а Геббельс называл его «тупым сержантом», «хвастливым болтуном», «тщеславным ослом, пускающим пыль в глаза», и «надутым индюком... занявшим чужой трон». (Тот факт, что Гитлер и в своем бункере повторил сказанное им слово в слово, подтверждает, что поносить каудильо было для немецкого верховного командования обычным делом.)
Один немецкий дипломат вспоминал, что взрывы ярости Гитлера по поводу Франко «эхом разносились по всем службам и кабинетам партии». Слухи об этих высказываниях, несомненно, доходили до Мадрида. Франко, который, похоже, идеализировал фюрера, видя в нем некую патерналистскую фигуру — подобно тому, как сам Гитлер относился к Муссолини, — в своих оценках коллег-вождей оказался более осмотрительным. В отличие от вспыльчивого фюрера он был слишком сдержан и высокомерен, чтобы опускаться до низменных сплетен со своим окружением. Трудно также представить, чтобы Франко, избегавший открытого противостояния даже с самым незначительным из своих подчиненных, отважился вызвать гнев Гитлера публичной критикой его действий. Однако недовольство каудильо проявлялось в неуступчивости во время переговоров и в настойчивом утверждении собственной значимости.
Это все больше раздражало фюрера. В конце концов он отправил письмо Муссолини, в котором с философским смирением пришел к выводу, что «суть многословных речей и письменных объяснений [Франко] состоит в том, что Испания не хочет вступать в войну и, скорее всего, так и не сделает этого». И хотя Гитлер называл сие «достойным сожаления фактом», его желание втянуть Испанию в войну уступало полнейшему нежеланию хоть в чем-то зависеть от Франко в военном отношении. И даже в последние дни в бункере Гитлер недвусмысленно заявил, что, несмотря на стремление каудильо попасть «в клуб победителей», вступление Испании в войну ни на какой стадии не считалось необходимым или желательным, а «обеспечив нейтралитет Иберийского полуострова», Франко оказал единственную услугу, которую только и мог оказать. В любом случае в 1941 году Гитлер был больше озабочен тем, как помочь Италии выкарабкаться из завершившейся полным провалом авантюры на Балканах, а также приготовлениями к весеннему наступлению на восток и к войне с Советским Союзом, чем переговорами с Франко. Немецкий посол получил указания «проявлять холодную сдержанность в вопросе об участии Испании в войне».
В результате возлюбленная Родина Франко погрязла в голоде и нищете, сам он был вынужден принимать продовольственную помощь от союзных демократических держав и к тому же оказался ненужным на войне в Европе. Теперь каудильо замкнулся в своей эмоциональной крепости. Даже немецкий посол фон Шторер отметил, что «одинокий, не уверенный в себе Франко с большим трудом отваживается принимать какие-либо решения... С каждым днем он видит все меньше людей, не позволяет даже старым друзьям давать ему советы». Смерть Альфонса XIII, наступившая 6 марта 1941 года, не принесла успокоения каудильо. Несмотря на энергичные попытки режима подавить спонтанные проявления народной скорби, кончина короля вызвала вспышку монархистских симпатий. По всему Мадриду дома были увешаны черными полотнищами в знак траура. Когда Франко переставал доводить себя до неистовства по поводу «масонских заговоров», его маниакальные подозрения переключались на элегантного, пользовавшегося успехом у женщин и популярностью в народе свояка. Многословные разглагольствования каудильо раздражали не только немцев. Жена постоянно прерывала его бесконечные политические рассуждения и с восторженной почтительностью спрашивала мнение Рамона Серрано Суньера. А за ужином частенько звучали ее команды, вроде такой: «Да замолчи же ты и послушай, что скажет Рамон». Все это было не по душе мнительному каудильо. А вопрос, заданный как-то его пятнадцатилетней дочерью: «Кто здесь командует, папа или дядя Рамон?» — еще больше усугубил ситуацию.
Хотя Франко, по-видимому, еще нужен был Серрано Сунь-ер для достижения желанного признания отца и брата, а также требовались его познания в политике, он с большой подозрительностью относился к растущим амбициям свояка, со жгучей ревностью относясь к его подвигам на дипломатической стезе. Особенно бередил душу Франко тот факт, что итальянцы, относившиеся к нему с пренебрежением, были просто очарованы интеллектом и остроумием Серрано Суньера. И даже британский посол, сэр Сэмюэл Хоур, отметил бросающуюся в глаза разницу между каудильо, «с заторможенной реакцией и медлительными движениями», и его свояком, «скорым в словах и делах». Манеру говорить Серрано Суньера хорошо иллюстрирует его фраза, обращенная к итальянскому послу: «Генералиссимус — человек простой. Хорошо еще, что он не слишком много общается с Гитлером». С другой стороны, в ноябре 1941 года Чиано, итальянский министр иностранных дел, говорил Муссолини, что «Серрано Суньер еще не нашел соответствующего языка, на котором следует говорить с немцами... Иногда он выражается так грубо, что собеседник просто едва не падает со стула». А Геббельс вообще считал его «пятым колесом в телеге».
Публикация книги одним из приспешников Серрано Суньера, в которой прямо говорилось, что только он мог вдохнуть жизнь в наследие Хосе Антонио Примо де Риверы, оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения генералиссимуса. Игнорируя рекомендацию свояка, который предложил ему сформировать более сильный кабинет из одних фалангистов, 5 мая 1941 года Франко назначил министром внутренних дел ярого антифалангиста, полковника Валентина Галарсу (того самого, что сыграл важную роль в восстании 1936 года). На посту заместителя секретаря президента его заменил невзрачный и услужливый тридцатишестилетний морской офицер, капитан Луис Карреро Бланко. Резко отличавшийся во всем от Серрано Суньера, Карреро Бланко со временем станет правой рукой Франко. В качестве подачки монархистам Кинделан был назначен генерал-
9 Ходжес Г. Э.
губернатором Каталонии, а его предшественник, Оргас, стал верховным комиссаром Марокко.
Галарса немедленно предпринял шаги по ограничению властных возможностей фаланги вообще и Серрано Суньера в частности. Сняв двух его ставленников с ответственных постов, Валентин Галарса начал постепенно выводить прессу из-под контроля фаланги, что вызвало отставку нескольких высокопоставленных фалангистов, включая самого Суньера, которые, впрочем, полагали, что их скоро попросят вернуться. Отлично сознавая, что подавшие в отставку функционеры руководствовались в первую очередь личными амбициями, а не преданностью партии или самому Серрано Суньеру, Франко с легкостью купил их, предложив важные посты. Среди этих деятелей были Хосе Луис де Арресе (известный своей двуличностью) и вновь назначенный министр труда Хосе Антонио Хирон де Веласко. Когда Серрано Суньер сообразил, что все его «друзья» потихоньку обзавелись высокими должностями, он забрал заявление об отставке с поста министра иностранных дел. И хотя на тот момент он еще был нужен Франко в качестве противовеса генералам-монархистам, его политическая карьера стала клониться к закату.
Трения между каудильо и его свояком отражали конфликт на более широком уровне между военными и фалангой, который в конечном счете вырвался наружу. И, когда в результате столкновений между членами партии и полицией в Леоне несколько человек погибли, фалангистская пресса обвинила в происшедшем британские происки. Франко, похоже, был больше озабочен тем, что новый министр внутренних дел использовал свое влияние на прессу для публикации пламенного панегирика генералу Оргасу по случаю его отъезда в Марокко, а не для освещения взрыва политического насилия в стране. В результате немцам очень скоро удалось убедить Франко, чтобы тот вернул фаланге контроль над средствами массовой информации и пропагандой. Орган такого контроля теперь стали называть «вице-секретариатом народной культуры», чтобы придать ему как бы общегражданский (а не партийный) статус, но тут же последовавшая в прессе вспышка прогерманской лихорадки показала — на
самом деле мало что изменилось. Лозунг фалангистов «Единая, великая, свободная Испания!» звучал особенно фальшиво в раздробленной, расколотой на победителей и побежденных стране, подвергавшейся жесточайшим политическим ограничениям и свирепой цензуре, характерных для тоталитарных государств.
Учитывая, что вся жизнь Франко была перемешана с его собственной фантазией, где он исполнял самые разнообразные, постоянно меняющиеся роли, нет ничего странного, что каудильо буквально очаровал кинематограф, и в то же время он чувствовал некоторое опасение перед силой его воздействия. На протяжении сороковых годов испанская кино-компания «Сифеса» заботилась о том, чтобы ее фильмы были проникнуты догматическими идеями католической морали и борьбой за чистоту испанской нации. Отвечая требованиям режима, имевшего в основе военные корни, эта компания развернула настоящую войну с сексом. Кинематографической цензурой занимались люди, умы которых были, по-видимому, заполнены грязными помыслами. Появление на экране глубокого декольте, части бедра или бикини немедленно вырезалось. Объятия и поцелуи сводились до минимума.
Цензоры разных ведомств, жаждавшие получить похвалу вождя, старались превзойти друг друга, дабы продемонстрировать свою идеологическую или сексуальную чистоту. Так, представители церкви запрещали фильмы, уже получившие разрешение на выпуск в прокат, а военные конфисковали прошедшие контроль материалы. Стремящаяся превзойти фалангу и военных в борьбе за нравственность и мораль, церковь заняла особенно жесткую позицию. Если, несмотря на все ее запреты, какой-нибудь подозрительный фильм проскальзывал на экраны, активисты-клерикалы вывешивали плакат перед кинотеатром, предупреждая зрителей, что «тот, кто посмотрит сегодняшнюю программу, совершит смертный грех». Игнорировавшие данное предупреждение подвергались атаке благочестивых дам из «Католического действия», которые поджидали таких людей у входа в кинотеатр и вещали: «Прочтите «Отче наш» за душу этого грешника», пока остальные, преклонив колени, возносили молитвы Господу.
Несмотря на вводимые им ограничения, режиму все же был необходим кинематограф, чтобы отвлечь мысли испанцев от ужасающей действительности повседневного существования. А поскольку едва ли не каждый момент их жизни был зарегламентирован до тошноты, нет ничего странного в том, что испанцы — включая самого Франко — стали страстными поклонниками кинематографа. В результате возникла парадоксальная ситуация: возрос приток иностранных фильмов, в особенности из Голливуда, самым серьезным образом подрывавших ксенофобию, которую каудильо стремился навязать испанскому народу. Своего рода метафорой режима стало то, что в конце сороковых годов в Мадриде, где было относительно мало церквей, насчитывалось семьдесят пять кинотеатров.
Поскольку державы «оси» заставляли его чувствовать себя этаким упрямым мальчиком, к тому же страдавшим завистливой ревностью по отношению к Серрано Суньеру, Франко, дабы самоутвердиться, решил сделать свой фильм. Именно тогда он погрузился в написание автобиографического сценария художественного фильма, которому, в качестве реверанса в сторону Гитлера, дал название, по-испански звучащее и как «Раса». Возможно, было не простым совпадением, что каудильо написал эту «эдипову историю» незадолго до того, как набраться смелости для устранения свояка с политической сцены. «Мы», незамысловатая история человека с социальными амбициями, разбавленная благородной риторикой о славном прошлом Испании, позволяет составить полное представление о политических и психологических приоритетах Франко того времени. По-видимо-му, желая превзойти элегантного свояка, Франко помещает собственную семью в высшие слои общества. И хотя светски воспитанный Педро имеет коллективного прототипа — как уже говорилось в главе 1 — в лице братьев Франсиско Франко, в этом адвокате и женолюбе можно также увидеть и черты Серрано Суньера. Стремясь создать образ сильного человека, настоящего мужчины, на роль собственного прототипа (Хосе) Франко выбрал популярного актера романтического плана Альфредо Майо. Когда фильм был сделан, каудильо многократно смотрел его и всегда плакал при этом.
В то время Франко оказался не оригинален в стремлении перенести личную и политическую дилемму в мир политики и кино. По словам Марши Киндер, историка кино, во времена франкизма испанский кинематограф был особенно склонен использовать «эдиповы конфликты в семье... чтобы говорить о политических делах и исторических событиях». Фильм «Мы» принес Франко как психологические, так и политические дивиденды. Каудильо использовал его для того, чтобы сделать упор на официальной версии гражданской войны в Испании, преподнеся ее как святой крестовый поход и сместив акцент с «отцеубийственной на братоубийственную войну», и одновременно прикрыть свойственные режиму идеологические противоречия.
В фильмах того времени можно было найти не только отражение психопатологии самого Франко. Пропагандистская машина режима произвела целую серию фильмов о марокканской войне, в которых прославлялись деяния героев, на которых держалась националистическая идея. «Харка»(«Нагка»), фильм о юном офицере, прибывшим на службу в Африку сразу по окончании академии (явно основан на истории самого генералиссимуса), является особенно показательным в этом отношении. По мнению критика Питера Эванса, этот романтический образ «невольно выдает боязнь утраты мужского начала посредством пренебрежительного опошления женских образов» и подчеркивает «скрытую, подавляемую гомосексуальность... по-видимому, естественным образом возникающую из идеологии, которая маргинализирует женщину и одновременно празднует торжествующую независимость героического мужского начала».
Придуманное Франко решение проблем собственного детства и своей социальной неполноценности не слишком, впрочем, способствовало преодолению трудностей экономического положения Испании. Зато, когда 22 июня 1941 года немцы напали на Советский Союз, благополучно разрешилась другая неудобная для Франко ситуация — вынужденная поддержка германо-советского пакта моментально превратилась в бурный поток антикоммунистического энтузиазма. Взволнованный каудильо выразил «удовлетворение началом борьбы против большевистской России». К ужасу старых, заслуженных генералов, по наущению Серрано Суньера он предложил направить на советско-германский фронт части добровольцев-фалангистов, чтобы сражаться «против общего врага независимо от полного и окончательного вступления Испании в войну на стороне держав «оси», которое произойдет в соответствующий момент». Выступление же Серрано Суньера, в котором он заявил, что «история и будущее Испании требуют разрушения России», спровоцировало такой взрыв ненависти у фалангистов, что они забросали британское посольство камнями, которые предусмотрительные власти подвезли на грузовиках. (Когда Серрано Суньер связался с осажденным послом, сэром Сэмюэлом Хоуром, и спросил его, не надо ли прислать подкрепление полиции, чтобы навести порядок, тот парировал: «Нет, не надо, достаточно просто прогнать несколько студентов!») Каудильо очень повезло, что Сталин не ответил объявлением войны на прибытие в Россию «голубой дивизии» (нагруженной религиозными литографиями и медальками с изображением Успения Богородицы). Ведь, несмотря на все милитаристские жесты Франко и его провокационное решение превратить статус Испании из «невоюющей страны» в «состояние моральной войны», его режим был не способен вести серьезные боевые действия. И пока Серрано Суньер терпеливо объяснял немцам, что Испания не сможет выжить в блокаде, которую союзные державы немедленно организуют, если она вступит в войну, Франко весело отмел британские возражения по поводу отправки «голубой дивизии» с помощью хитроумного аргумента — мол, идут две войны: одна, абсолютно лишенная смысла, между немцами и англичанами, в которой он не участвует, и другая, решающая, против коммунизма, в которой у него был личный интерес.
Каудильо скоро утомился от этого деликатного политического балансирования. 17 июля 1941 года, во время празднования пятой годовщины начала гражданской войны в Испании, наряженный в летнюю белую форму, в регалиях национального главы фаланги, он разразился обращением в стиле фюрера к членам партии, изобиловавшим крикливыми лозунгами и агрессивными выпадами. Пока пораженный Серрано Суньер бормотал: «У нас что здесь, коррида?» — торжествующий, на грани истерики, Франко связывал судьбу Испании непосредственно с судьбой победоносной Германии. Подобострастно перечислив военные победы нацистов, он обрушился с яростными нападками на Советский Союз и с едким презрением отозвался о «плутократических демократиях». Это поразительное отсутствие политической осмотрительности привело в ужас Вигона и других высших генералов. Как заметил британский посол, «более провокационное выступление трудно себе представить». Даже Серрано Суньер посоветовал каудильо оставить подобные выпады для подчиненных, на которых можно было бы свалить вину в случае резко враждебной реакции из-за рубежа. Совершив серьезный политический промах, Франко уехал поохотиться на горных козлов, возложив на других, в том числе на брата Николаса, неблагодарную миссию: убедить представителей западных демократий, чтобы те не делали далеко идущих выводов из выступления, предназначенного для внутреннего потребления. Тем не менее Франко нажил себе врагов в лице британского министра иностранных дел Антони Идена и государственного секретаря Соединенных Штатов, который заявил, что «единственной альтернативой для них остается прекратить дальнейшие поставки Испании продуктов питания и медикаментов».
В результате помощь Великобритании и Соединенных Штатов сократилась до минимума, а жестокая нехватка топлива и металлов поставила испанскую промышленность на грань катастрофы. 1 августа генерал Оргас — который со всей серьезностью рассматривал возможность военного мятежа против Франко — резко потребовал, чтобы каудильо воздерживался от заявлений на международные темы без предварительной консультации с ним и другими высшими генералами, а также призвал к немедленной отставке Серрано Сунь-ера. И хотя Франко и сам был не прочь избавиться от свояка, он не мог позволить, чтобы военные указывали ему, что делать. Раздраженные генералы начали налаживать отношения с гражданскими монархистами и готовить политические тылы для эвакуации на случай немецкого вторжения в Испанию.
Франко, разрывавшийся между двумя противоборствующими сторонами, той, на победу которой он возлагал надежды, и той, победы которой боялся, сумел-таки обидеть и тех, и других: Запретив немцам дозаправку в Лас-Пальмасе, каудильо затем предупредил американцев, что введение «экономических санкций» может вынудить Испанию вступить в войну, и тут же категорически отказался от предложенных ими кредитов и сырья в обмен на нейтралитет. Возбудив тем самым сильнейшие подозрения в обоих лагерях насчет его истинных стратегических намерений, Франко принялся за неблагодарную задачу по укреплению собственной власти в стране. На голодный, задавленный народ обрушилась волна запугивающей пропаганды, утверждавшей, что, если режим Франко падет, вместе с ним рухнет Испания вне зависимости от того, кто победит в мировой войне. А затем генералиссимус использовал услужливого Арресе, чтобы тот очистил фалангу от любых оппозиционных элементов и привел ее в полное повиновение.
К моменту встречи держав Антикоминтерновского пакта в Берлине в ноябре 1941 года стало ясно, что Гитлер испытывал серьезные трудности на восточном фронте. Хотя нападение японцев на Перл-Харбор 7 декабря и подняло дух сторонников «оси», неожиданные победы англичан в северной Африке вновь поставили под сомнение их надежды. Франко продолжал оставаться сторонним наблюдателем, когда 11 декабря 1941 года Гитлер объявил войну Соединенным Штатам и тем самым «окончательно и бесповоротно разрушил всякую надежду выиграть войну с Советским Союзом». Похоже было, что Гитлер, признав невозможность победить в этой войне, решил устроить из поражения «грандиозную катастрофу, достойную его исторического величия» (Роберт Уэйт).
Генерал Кинделан, по-видимому, счел данный момент подходящим, чтобы огласить свои жалобы по поводу неэффективности продажной бюрократии фаланги и вредных последствий для армии постоянного ее участия в жестоких преследованиях республиканского населения. Затем он потребовал, чтобы Франко порвал все связи с фалангой и разделил посты главы государства и главы правительства. Во время публичного выступления в Барселоне он страстно заявил, что восстановление монархии — единственный способ для достижения «примирения и солидарности среди испанцев». Не знал он, что Франко ни в грош не ставил подобные устремления.
В начале 1942 года, сообразив, что сейчас самое время напомнить о сокрушительной победе Франко в гражданской войне, подобострастный Арресе организовал особенно раболепную встречу для каудильо во время его поездки по Каталонии. Праздновали третью годовщину падения Барселоны. Франко приветствовали артиллерийским салютом, многолюдными манифестациями, было выпущено три тысячи голубей и проведен воздушный парад (смеем надеяться, что не одновременно). Это в высшей степени показательное мероприятие в концентрированной форме демонстрирует крайнее лицемерие националистов и невольно отражает беспокойную двойственность их лидера. Голуби были не столько символом мира, сколько воплощали побежденных республиканцев, разгромленных атаками с воздуха военной машиной националистов. И все же в речах Франко, пятьдесят тысяч экземпляров которых распространили среди огромной массы фалангистов, приветствовавших его по возвращении в Мадрид, содержались намеки, что некоторое моральное оздоровление страны уже могло иметь место. Всегда готовый ассоциироваться с сильными, мужественными образами, каудильо заявил, что анархистское насилие в прошлом было «мужским проявлением испанизма: своеобразным бунтом против деградирующего отечества», однако дал ясно понять: под его твердым руководством ничего подобного больше не требуется. Он призвал армейских офицеров и фалангистов «оставить мелочные обиды» и консолидироваться вокруг него «с единым командованием, единой дисциплиной и единым повиновением». На самом деле Франко был доволен, что соперничающие группировки боролись друг с другом, но не собирался терпеть, чтобы они бросали вызов ему.
Крах англичан в Сингапуре 14 февраля 1942 года вызвал в окружении каудильо массу восторженных предсказаний неминуемой победы держав «оси». В то же время закрытие испанского нефтеперерабатывающего завода в Тенерифе из-за нехватки топлива вынудило Франко согласиться с тем, чтобы в дальнейшем все поставки нефти из США тщательно обеспечивались самими американцами. Штаты подозревали, что испанцы переправляют их топливо в Германию, несмотря на ее морскую блокаду. 13 февраля на встрече с Салазаром каудильо попытался помочь державам «оси» и приложил все силы, чтобы отравить отношения между португальским диктатором и Великобританией. Однако, несмотря на все его благородные усилия, немцы недоверчиво воспринимали заверения каудильо типа «если бы путь в Берлин был открыт, то не одна дивизия испанских добровольцев, а миллион отправились бы туда на помощь».
24 февраля 1942 года Франко узнал о смерти отца, которому было тогда восемьдесят четыре года. Напряженные отношения между ними так и не улучшились после смерти доньи Пилар. Застрявший в Эль-Ферроле на протяжении всей гражданской войны, дон Николас был в ужасе от жестокости, с которой националисты расправлялись с людьми, которых он знал. Племянница Франко Пилар (дочь его сестры), постоянно навещавшая деда в его мадридском доме, рассказывала, что после гражданской войны он стал ярым антифранкистом и питал сильнейшее отвращение к Гитлеру. По словам жены Пакона, Пилар де ла Роча, дон Николас «всячески поносил Франко в барах, которые регулярно посещал. Он говорил, что его сын и так-то не отличался большим умом, а после войны стал и того хуже. Он поносил Франко прямо на улицах, и его даже неоднократно задерживала полиция». Однажды дон Николас заявил своим друзьям: «Мой сын считает себя государственным деятелем и крупным политиком, поскольку так ему говорят лизоблюды, но ведь это же просто курам на смех». Как-то он сказал также: «Что мой сын знает о франкмасонах? Это общество известных и порядочных людей, гораздо умнее его и сильнее духом. Он мечет громы и молнии против них, обвиняя во всех смертных грехах. Может, тем самым он пытается скрыть собственные грехи?»
Такое поведение дона Николаса не слишком способствовало улучшению отношений между ним и его сыном Франсиско. В отличие от своего брата Николаса или семьи своей сестры Франсиско Франко отказался навещать отца даже во время его последней, мучительной болезни. Правда, он все же попросил брата Николаса послать к отцу священника для исповедания. Но дон Николас, который никогда не желал иметь ничего общего с церковью, прогнал его. Тогда к нему отправили падре Хосе Мариа Буларта, чтобы тот уговорил отца не заключать с Агустиной брака in articulo mortis13. Падре, которому был оказан прием, весьма далекий от сердечного, вспоминал, что «отец Франко оказался в высшей степени неприятным человеком с ужасным характером. Он попытался вышвырнуть меня из дома». После смерти отца мстительный Франко приказал Пакону забрать его тело. Когда по настоянию Агустины судья запретил это, были посланы гражданские гвардейцы, которые силой вырвали тело дона Николаса из рук бившейся в истерике Агустины. Франко, жаждавший спасти хоть что-нибудь из своих фантазий в духе фильма «Мы», устроил ему похороны с воинскими почестями, достойными героя, но сам он так и не смог заставить себя присутствовать на них. Однако Агустине и ее дочери каудильо из вредности не позволил участвовать в церемонии. По словам Салома, как только дон Николас умер, личные вещи Агустины были вынесены из дома в Эль-Ферроле.
Психиатр Энрике Гонсалес Дуро считает знаменательным тот факт, что после смерти отца Франко страстно желал заполучить его адмиральский жезл. Однако жезл был отдан Николасу благодаря настойчивости его сестры Пилар. Та напомнила, что «Пако — не морской офицер, и вообще Николас — старший в семье». Племянник Франко, Николас Франко де Побиль, вспоминал позднее: «У моего дяди была навязчивая идея — забрать у моего отца жезл. Такой жезл вручался морским офицерам при повышении в звании. Мой отец унаследовал также саблю, но, как ни странно, она дядю не интересовала». Дуро делает вывод, что «генералиссимус не смог унаследовать жезл-фаллос и тем самым символически навсегда остался лишенным мужского достоинства».
В надежде обрести потенцию иным путем Франко возобновил попытки ассоциироваться с другими, более «мужественными», фашистскими державами. Разразившись неописуемыми восторгами по поводу нападения японцев на Перл-Харбор, Франко подтвердил решимость Испании встать рядом с Германией в ее борьбе против коммунизма. Его свояк был более осмотрительным. Понимая, что вступление Соединенных Штатов в войну не сулило ничего хорошего для держав «оси», Серрано Суньер дал неожиданно энергичные заверения американцам, что его страна останется нейтральной, хотя и с небольшой оговоркой — мол, вряд ли будет разумным, «если Испания начнет портить отношения с Германией именно на этом этапе истории человечества». Через американское и британское посольства в Мадриде стала проводиться в жизнь политика, предоставлявшая Великобритании и США исключительное право на приобретение в Испании вольфрама и других металлов, которые до того составляли значительную часть военных поставок в Германию.
Франко обратил гнев и жажду мести, вызванные смертью отца, на внутреннего противника. Так, в середине апреля он неожиданно оперативно разобрался с назревавшим недовольством военных, отправив в отставку генерала-монархиста Эспиносу де лос Монтероса, которого он, наряду с Кинделаном и Оргасом, подозревал в подготовке антифранкистского переворота. Формальным предлогом послужило зажигательное выступление генерала, обличавшее «вероломство и непомерные амбиции» Серрано Суньера. Но чтобы Серрано не обольщался на свой счет, Франко тут же уволил его политического секретаря, вменив тому в вину гомосексуальные наклонности.
Скрытая напряженность между Франко и его свояком вырвалась наружу, когда на улицах Памплоны, Бургоса и Севильи произошли столкновения между армейскими офицерами и фалангистскими студентами. Военный министр генерал Варела в резкой форме обвинил в тупости и профессиональной непригодности фалангистских чиновников, наносящих ущерб стране, а певец фалангистов, поэт Дионисио Ридруэхо, вернувшийся в конце мая из «голубой дивизии» по причине ранения, выразил Франко свою глубокую удрученность уровнем коррупции режима. Генералиссимус же тем временем думал совсем о другом.
После смерти отца поведение Франко вызвало слухи, что он готов провозгласить себя королем. В конце мая 1942 года каудильо приехал в замок Изабеллы Католической, чьей «тоталитарной и фашистской политикой» он не уставал восхищаться, в Медина-дель-Кампо, чтобы открыть школу подготовки женской секции фаланги. Эта секция идеализировала образ матери каудильо в духе Мадонны, представляла донью Пилар как образец испанской женщины, в то время как ее сына, «спасителя Испании», отделял лишь незначительный шаг до королевского звания, причем с такими правами и полномочиями, которые намного превышают те, что «приобретаются в королевских спальнях».
Но тут генерал-фалангист, командир «голубой дивизии», Агустин Муньос Грандес открыто возложил вину за хаос и разруху в стране на некомпетентность каудильо. А немцы, озабоченные антагонизмом между Франко и военными, требующими отставки Серрано Суньера, подумывали об организации переворота в Испании. Тогда Франко, обеспокоенный тем, что в случае военного мятежа против него нацисты могут поддержать Муньоса Грандеса, немедленно заменил его на генерала Эмилио Эстебана Инфантеса. Муньос Грандес был возвращен в Испанию, где Франко осыпал его милостями и почестями. Подобные политические трюки в исполнении каудильо, по мнению известного каталонца Фран-цеска Камбо, доказали свою высокую эффективность на протяжении многих лет. «Он в совершенстве овладел искусством манипулирования людьми, особенно генералами. То задвинет в тень самого блестящего своего сподвижника, причем никто даже не пикнет. То неизвестно откуда извлекается престижная награда — и вот этот сподвижник- уже вновь, покинув тень, у всех на виду. И все эти партии он разыгрывал так, что общее внимание концентрировалось на одной конкретной персоне, и тем самым исключались какие-либо совместные действия против него самого». Сбитый с толку, Муньос Грандес станет со временем одним из самых верных, хотя и строптивым, сторонников каудильо.
Франко решил, что настало время укрепить режим и утихомирить его критиков. Во время своего ежегодного выступления на Национальном совете 17 июля 1942 года, после привычных жалоб на «напряженные бессонные ночи, порожденные огромной ответственностью, которую ему приходится нести одному», он вдруг с недовольством отозвался о единой франкистской коалиции. То, что каудильо действительно был серьезно озабочен конфликтами, назревавшими внутри режима, выяснилось, когда он озвучил намерение создать некие непредставительные кортесы, в которых могли бы найти выход «контрастность мнений», «публичное проявление различных устремлений», правда, лишь в жестких рамках главной политической линии. К тому же Франко тут же испортил эффект от своего предложения, заявив на высокой ноте: «Мало что останется от либеральной демократической системы», «тоталитарный режим полностью продемонстрировал свое превосходство», и он «единственный, который может спасти страну от разрухи».
Скоро стало ясно, что эта не слишком вразумительная проповедь оказалась не лучшим средством для примирения противостоящих внутри режима групп. В середине августа 1942 года какой-то фалангист бросил бомбу в толпу карлис-тов, собравшихся у храма Девы Марии Бегонийской неподалеку от Бильбао, для молитвы за членов карлистской милиции, погибших во время войны. Генерал Варела, ярый противник фаланги, сочувствовавший карлистам, возглавлял эту церемонию. При поддержке министра внутренних дел, полковника Валентина Галарсы, он гневно заклеймил инцидент как покушение на свою жизнь и вопиющий выпад фалангистов против армии. Генерал пригрозил отставкой, если Франко не обуздает фалангу. Однако каудильо, предположив с полным на то основанием, что остальные генералы вряд ли взбунтуются, поскольку им было что терять, отправил в отставку Варелу и сместил Галарсу.
Между тем ядовитые нашептывания в духе шекспировского Яго двух советников Франко, Арресе и Карреро Бланко, по-прежнему раздували ревнивую подозрительность генералиссимуса по отношению к Серрано Суньеру. А тот отнюдь не способствовал надежности своего положения, открыто отозвавшись о Франко во время очередного визита в Италию как «о недалеком чиновнике». Даже немцы ощущали беспокойство по поводу «чувств, испытываемых армией и другими кругами общества по отношению к Серрано Суньеру, которые вполне могли характеризоваться просто как ненависть».
Хотя обиженный Франко с горечью жаловался только на то, что свояк «поступает так, как ему вздумается», у него все же накопилось достаточно возмущения, чтобы в конце концов принять весьма ответственное решение. Новость о том, что Серрано Суньер завел роман с женой подполковника Диеса де Риверы, маркиза Льянсоля, с помощью зловредной невестки и большой подруги Франко, Пуры Уэтор, дошла до ушей доньи Кармен и соответственно до кйудильо. Взбешенный тем, что свояк стал вести себя подобно дону Николасу, Франко сместил его с поста министра иностранных дел якобы за допущенные промахи во время кризиса в Бегонье. Когда самоуверенный Серрано Суньер перед отставкой принес Франко на подпись несколько документов, тот по-детски выпалил: «Я бы предпочел, чтобы мне их принес новый министр». Серрано Суньера заменил престарелый генерал, граф Франсиско Гомес Хордана, монархистские взгляды которого смягчили генералов, а его военное образование и маленький рост вполне устраивали каудильо. Симпатизировавший державам «оси» генерал Карлос Асенсио Кабанильяс сменил Варелу на посту военного министра. Фаланга попала под непосредственный контроль Франко, а сам он возглавил политическую хунту.
Уход с политической сцены «порочного и вероломного» Серрано Суньера не слишком успокоил каудильо, который с тех пор постоянно твердил, что его свояк являлся «единственным виновником всех бед Испании». Как всегда, личные эмоциональные импульсы у Франко были неразрывно связаны с его жесткой политической программой. Инстинкт самосохранения помог каудильо разрешить опасный кризис и выйти из него победителем. Он позволил армии взять верх над фалангой на политической арене, но только после того, как избавился от своих наиболее ярых противников среди военных, а партию твердо поставил под собственный контроль.
После отстранения от власти Серрано Суньера, неистового сторонника держав «оси», Франко направил Муссолини умасливающее письмо, в котором подтверждал неизменность внешней политики Испании. Ему не о чем было беспокоиться. Фюрер, пораженный ловкостью, с которой Франко уладил кризис, похвалил его за то, что он покончил с игрой Серрано Суньера, «выдававшего себя за друга стран «оси» и одновременно препятствовавшего Испании присоединиться к коалиции». Теперь, когда армия находилась под твердым контролем Франко, планы Муньоса Грандеса свергнуть его казались немцам «чистой фантазией».
Однако строжайший контроль, которому чиновники официальной студии кинохроники «НО-ДО», созданной в сентябре 1942 года под опекой фаланги, подвергали выпуски местных и зарубежных новостей, отражала продолжавшуюся, пустившую глубокие корни паранойю режима. Сообщения из других государств ограничивались описанием новых причесок из Парижа и забастовок во Франции и Великобритании, но главной темой был антикоммунизм. Женские формы считались особенно опасными и постоянно подвергались экзекуциям. Например, фотографии женщин с декольте или задранным краем юбки убирались или ретушировались. Освещение боксерских поединков было полностью запрещено, по-видимому, из опасения, что обнаженные торсы спортсменов могли вызвать «преждевременное проявление животной сексуальности» у задавленных испанских женщин.
Безудержное восхищение каудильо Гитлером, который, как он пытался уверить американцев, являлся «достойным кабальеро», едва не подверглось серьезному испытанию. В ноябре 1942 года в Гибралтаре, под носом у испанских пушек, союзные державы сконцентрировали многотысячную группировку войск с большим количеством военной техники и снаряжения, готовую к отправке через пролив в северную Африку для проведения операции «Факел», цели которой были окутаны тайной. Первоначально Франко приказал Хордане уведомить Великобританию и США, что вторжение во французскую северную Африку может вызвать вступление Испании в войну на стороне Германии. И вдруг ему пришло в голову, что эти военные приготовления ведутся для вторжения на испанскую территорию. Страхи каудильо не рассеялись и после того, как союзные державы объяснили свою позицию. Если он останется вне конфликта, интересы Испании будут полностью соблюдены и ей даже направят экономическую помощь, но, если Франко позволит немцам пройти через Испанию, они без колебаний предпримут военную акцию против него. Перед лицом возможной политической, а может, и физической кончины разнервничавшийся генералиссимус умчался в горы, где попытался развеять свои тревоги безудержным уничтожением диких животных, поручив взвинченному до предела министру иностранных дел следить за развитием событий. Хордана почувствовал невероятное облегчение, когда сообщения о массированной англо-американской высадке на марокканском и алжирском побережье засвидетельствовали, что союзные державы не собирались вторгаться в Испанию. Однако Франко вернулся в столицу только после того, как получил теплое письмо от Рузвельта с уверениями, что «Испании не стоит бояться Объединенных Наций». На грани истерики от облегчения, каудильо раболепно заверил США и Великобританию в своем искреннем «стремлении избегать всего, что могло бы каким-либо образом нарушить наши отношения».
В том же месяце генерал Кинделан, выражая беспокойство генералов-монархистов, потребовал от каудильо недвусмысленного обещания союзным державам восстановления монархии — с самим Франко в качестве регента — и категорического заявления о нейтралитете Испании в войне. Каудильо пришел в ярость. Прижатый к стенке, с обострившимся после недавнего флирта со смертельной опасностью инстинктом самосохранения, Франко разыграл свою партию хитро и цинично, что помогло ему упрочить личную власть и ввести в заблуждение в равной степени друзей и врагов. Он просидел некоторое время сложа .руки, а затем спокойно заменил Кинделана в должности генерал-губернатора Каталонии на генерала-фалангиста Москардо. Каудильо также вновь назначил Ягуэ командующим испанскими силами в Мелилье. Тем самым он убивал сразу двух зайцев: нейтрализовал авансы немцев Ягуэ, которые предпочитали видеть его на месте Франко, и создавал противовес агрессивному монархисту и стороннику союзных держав генералу Оргасу, верховному комиссару Марокко. Американцы, опасаясь, что данное назначение окажется первым шагом к наступлению на Французское Марокко, сохранили на границе значительные силы. Франко использовал это в качестве предлога, чтобы возобновить просьбы о новых немецких поставках оружия и военного снаряжения, дабы Испания могла отразить атаку союзных держав на Испанское Марокко. Однако немцы оставили его просьбы без внимания.
Немецкая оккупация Виши 11 ноября убедила сторонников союзных держав, что вторжение в Испанию стран «оси» неминуемо, а поклонников Гитлера, в частности генералов Асенсио, Хирона и Арресе, что настал момент вступить в войну на стороне Германии. На протяжении всех этих жарких дебатов Франко хранил загадочное молчание. Полный решимости не делать окончательного выбора, он сначала отклонил просьбу Германии использовать Балеарские острова в качестве базы для спасения летчиков, сбитых над морем, а затем попытался улучшить отношения с союзными державами, закрепив создание «иберийского блока» с Португалией 20 декабря 1942 года.
Однако вскоре его чувство равновесия испарилось. Получив поздравления Гитлера, короля Виктора Эммануила III и Муссолини по случаю своего пятидесятилетия, растроганный каудильо направил фюреру телеграмму с «наилучшими пожеланиями победы вашим армиям в славной борьбе за освобождение Европы от большевистского террора». 7 декабря 1942 года он произнес речь в Национальном совете, в которой вновь подтверждал свою веру в то, что «либеральный мир рухнет», а его правительство укрепит связи с «молодым режимом, восставшим против лицемерия и никчемности старых либеральных систем». Затем необычно любезный Франко попытался объяснить свое столь непостоянное поведение изумленному сэру Сэмюэлу Хоуру, используя терминологию все той же изобретенной им теории «двух войн». Было совершенно очевидно, что попытки Франко пустить британскому послу пыль в глаза не слишком его впечатлили, так же, впрочем, как и Муссолини. В январе 1943 года на пятидесятилетие Геббельса дуче послал ему в подарок «меч, выкованный в Мессине». Первоначально этот дар предназначался для Франко, но, как философски отметил Чиано в своем дневнике, «времена изменились».
Еще раз кратковременные помехи в испано-германских отношениях возникли, когда новый посол Германии, Ганс Адольф фон Мольтке, ошибочно сообщил в Берлин, что Франко летал в Лиссабон на встречу с Черчиллем для обсуждения условий вступления Испании в войну на стороне союзных держав. Невозмутимо пережив эти неприятности, каудильо возобновил просьбы к немцам о массовых поставках оружия из-за угрозы англо-американского вторжения на Пиренейский полуостров. В результате в начале февраля 1943 года был подписан секретный протокол с Германией (который так и не вступил в силу).
Вообще-то время для укрепления связей с Берлином было не самое подходящее. Победа Монтгомери над немцами и итальянцами под Эль-Аламейном в октябре 1942 года, последовавшая вскоре высадка союзных держав в северной Африке и разгром немцев под Сталинградом в феврале 1943 года стали поворотным пунктом в войне. И хотя Франко, без сомнения, осознавал положение вещей, ему было чрезвычайно трудно отказаться от своих симпатий к державам «оси». Заверив англичан и американцев, что «Испания не будет даже обсуждать какие-либо военные уступки “оси”», он отправил Арресе в Берлин, где его неприкрытое восхищение нацистами так взбесило англофила Хордану, что тот немедленно подал прошение об отставке. Франко не принял его отставку, но и не пожурил Арресе. Вместо этого он позволил обоим деятелям озвучивать его столь разные, противоречащие друг другу подходы к войне, используя Хордану для переговоров с англичанами и американцами, а Арресе — в дискуссиях с представителями «оси».
Но 17 марта 1943 года в выступлении на только что созванных и тщательно отобранных кортесах он вдруг заявил, что было бы благоразумнее прославлять славное прошлое Испании и ее неразрывную связь с католической церковью, а не восторгаться фашизмом. Введенные в заблуждение этим видимым смещением акцентов, двадцать семь депутатов подписали документ, в котором указывалось на необходимость восстановления традиционной испанской католической монархии до окончательного поражения стран «оси», чтобы избежать репрессий союзных держав против Испании за заигрывания Франко с Германией и Италией. Разъяренный каудильо немедленно арестовал зачинщиков данной акции и сместил всех остальных, подписавших этот документ, с их должностей. Полный мрачных тревог и волнений, он заявил, что служба безопасности раскрыла международный масонский заговор, целью которого было вбить клин между ним и армией и навязать либеральную монархию, чтобы дестабилизировать Испанию и способствовать захвату власти коммунистами.
Эти страхи вызвали у Франко приступ фашистского пыла. Своей речью по случаю годовщины начала гражданской войны 17 июля 1943 года он довел до экстаза толпы фалангистов. Выбросив руку в фашистском приветствии, каудильо заклеймил малодушных буржуа и консерваторов, которые не поняли «нашу революцию», и в очередной раз попугал собравшихся угрозой коммунизма, из-за которой необходимо отвергать хаос демократии и сохранять целостность фаланги.
Эти проявления симпатии к странам «оси» оказались крайне несвоевременными. 25. июля 1943 года Муссолини арестовали, его сменил маршал Пьетро Бадольо, что вызвало мощную антифашистскую реакцию в Италии. И хотя Франко, рыдая, сообщил эту новость правительству, втайне, по-видимому, он был чрезвычайно рад падению дуче, о котором Гитлер — в отличие от того, как отзывался о Франко — однажды сказал: «Он равен мне, а в некоторых отношениях, возможно, даже превосходит меня». Может, уж теперь-то каудильо окажется в милости у Гитлера.
Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Вскоре нацисты вторглись в северную Италию и поставили Муссолини во главе марионеточного правительства, развязав тем самым кровопролитную гражданскую войну на Апеннинах. В тот период Франко, который явно радовался своему политическому выживанию и все еще верил в мощь Гитлера, мог себе позволить небрежно заявить в беседе с американским послом Карлтоном Хейесом, что Германия достаточно сильна, чтобы продолжать войну и без Италии. В то же время он посетовал на непослушных подчиненных, развернувших в прессе слишком явную пропаганду в пользу держав «оси», однако не смог удержаться, чтобы не добавить: «Демократическая пресса достойна порицания за критику политической системы в Испании». Затем Франко стал распространяться по поводу своей теории нескольких войн. Он пытался объяснить, каким образом Испания могла оставаться нейтральной в войне союзных держав со странами «оси», быть на стороне американцев в их войне против японцев и поддерживать Германию в войне с большевиками. Когда не веривший собственным ушам Хейес указал на дипломатические нестыковки подобной позиции, Франко замкнулся в угрюмом молчании. Не желая расставаться с избранной им ролью борца с большевизмом, но не исключая победы союзных держав, каудильо с большой неохотой дал указание, чтобы пресса, радио и выпуски киноновостей освещали события с большей беспристрастностью.
А тем временем американцы применили в Испании любопытный прием. Они разъезжали по стране в огромных лимузинах, привезенных из Соединенных Штатов. Заокеанские дипломаты рассчитывали произвести впечатление на испанское правительство, показав ему преимущества сотрудничества с богатой страной, способной поставить неограниченное количество нефти. Новенький ярко-красного цвета «бьюик», кабриолет Хейеса, привлекал всеобщее внимание в самых дальних уголках Испании. Американский дипломат Болак впоследствии доказывал, что поставка нескольких «паккардов» испанским министрам решающим образом повлияла на то, что их отношение к США изменилось. Он отмечал: «Даже закоренелому фалангисту трудно было, оставаться антиамериканцем, разъезжая по улицам Мадрида в роскошном лимузине “паккард”».
В декабре 1943 года у Франко появился новый повод для беспокойства — его служба безопасности обнаружила, что наследник трона подбивал своих сторонников организовать оппозицию режиму. Чувствуя себя уязвленным и преданным, генералиссимус направил обиженное и путаное послание дону Хуану. В нем он указывает, что его право как каудильо на управление Испанией превосходит право Бурбонов, поскольку опирается на «реальные завоевания», не говоря уж о том, что он, Франко, «спаситель общества». И дабы у дона Хуана не создалось впечатления, что он шутит, генералиссимус поспешил добавить, что власть он взял, повинуясь чувству долга, а восстание 1936 года было не столько монархическим, сколько «испанским и католическим». Франко также дал понять, что попытки короля вернуться в Испанию подрывали тщательную подготовку к реставрации монархии, которую проводил каудильо. Резкая отповедь дона Хуана, заклеймившего «зловещую опасность» того, что вся полнота власти «сконцентрирована в руках одного человека, не имеющего законного статуса, утвержденного законным образом государственными институтами», пришлась не по вкусу Франко. Как, впрочем, не легло ему на душу и наивное, хотя и очень вежливое обращение генерала Оргаса и других членов верховного военного командования. Они тактично напомнили каудильо, что он находится у власти «гораздо дольше предусмотренного срока», и спрашивали, «преисполненные лояльности, уважения и доброжелательности, не настало ли время восстановить монархический режим в Испании». «Преисполненный презрения», Франко быстро и без проблем разобрался с каждым «бунтовщиком» в индивидуальном порядке, большинство из которых затем сняли свои подписи.
Всегда готовый отказаться от самых, казалось бы, твердых убеждений, если они вступали в противоречие с его желанием удержать власть, Франко на заседании кабинета 26 сентября 1943 года согласился отозвать «голубую дивизию» из России, многие члены которой влились в состав эсэсовских частей, и впервые публично объявил о «бдительном нейтралитете» Испании. Однако, опасаясь, что настроенный в пользу союзных держав монархический блок сделает из этого далеко идущие выводы, он тут же наградил медалями и повысил в звании целый ряд офицеров, сторонников «оси», в том числе и Ягуэ. Этот ловкий политический дриблинг не мог, однако, обмануть британского посла, который жаловался, что «с каждым днем становится все труднее выносить явные проявления симпатии Франко к странам «оси» и бесстрастное снисхождение, которое он выказывает по отношению к союзникам». Требования американцев более энергично проявлять свой нейтралитет, в том числе прекратить военную и экономическую помощь Германии, натыкались на глухую стену. В этом не было ничего удивительного, поскольку Франко подозревал, что победа союзных держав «означала его собственное уничтожение». А положение в Европе отнюдь не настраивало каудильо на мажорный лад. Когда антигитлеровская коалиция начала наступление одновременно на западе и востоке, поражение Германии стало выглядеть неминуемым.
Эта тревожная перспектива привела к тому, что противоречивые аспекты личности Франко начали активно работать в противоположных направлениях. С одной стороны, он старался убедить фюрера, что «нейтральная Испания, снабжающая Германию вольфрамом и другими стратегическими материалами, представляла для нее большую ценность, чем Испания, ввергнутая в войну». С другой стороны, каудильо пытался уверить союзные державы, что «Испания оказала им серьезную услугу, не вступив в войну». Это мнение отнюдь не разделяли в Вашингтоне. Государственный секретарь США счел весьма необычным, когда «страна считает, что она оказывает большую услугу соседям уже тем, что не нападает на них». Под давлением Хоура и Хейеса Франко неохотно согласился предпринять шаги, полностью отвечающие нейтралитету Испании, объявив об эмбарго на экспорт вольфрама в Германию. А когда он не выполнил этого, с 29 января 1944 года был введен запрет на поставки нефти в Испанию.
Хотя неправильно информированный Франко хвастливо заверил испанцев, что такое решение на них мало отразится, поскольку в стране скоро будет налажено производство синтетического бензина, эмбарго обернулось экономическим крахом. В результате даже парад победы 1 апреля 1944 года прошел без танков и бронемашин, и обескураженный Франко вновь пошел на переговоры с союзными державами. 2 мая 1944 года между Испанией, с одной стороны, и США и Великобританией — с другой был заключен договор, по которому поставки нефти в Испанию возобновлялись при условии, что испанский экспорт вольфрама в Германию сократится, немецкое консульство в Танжере закроется, остатки испанских частей будут выведены из Советского Союза, а немецких шпионов Франко вышлет из страны. И хотя в первую очередь именно из-за его неуступчивости разразился экономический и социальный хаос, крикливый каудильо попытался убедить и испанцев и себя самого, что это соглашение было его дипломатической победой. Сочтя готовность союзных держав вести с ним переговоры признаком их слабости, он начал лелеять надежду, что они в конечном счете смирятся с его режимом после крушения фашизма. Эта надежда нашла некоторое подтверждение 24 мая 1944 года. Уинстон Черчилль, желая нейтрализовать Франко во время предстоящей высадки в Нормандии, а также, как он позднее объяснял Рузвельту, чтобы Пиренейский полуостров не оказался враждебным британцам после победы союзников, лицемерно похвалил Франко за его «решимость удержать Испанию вне войны».
Уже заглядывая в послевоенный мир, 17 июля каудильо произнес речь в Национальном совете, в которой подчеркнул свою роль умиротворителя Европы и особо выделил достижения в здравоохранении и образовании в Испании. Он утверждал, что «стихийные» взрывы народного энтузиазма и тот факт, что его режим прочно опирается на евангелические ценности, придает стране высшую форму демократии. Объявив о сокращении сроков наказания некоторым политическим заключенным, Франко сделал упор на решающую роль фаланги, члены которой, подобно Хосе в фильме «Мы», являясь «полумонахами, полусолдатами», выковали уникальный третий путь, нечто среднее между фашизмом и демократией. Повторив свою теорию «двух войн», он предложил всем объединиться в борьбе против коммунизма, если, конечно, это не отразится на его режиме.
Но он тут же сам заложил мину под свою миротворческую тактику, заменив проанглийского министра иностранных дел Хордану, скончавшегося 3 августа, на Хосе Феликса Лекерику, которого Серрано Суньер считал «человеком гестапо». Сам Лекерика как-то обмолвился, что «после моей работы на немцев в Виши... я обречен на уход с международной сцены, как только Гитлер потерпит поражение». Британский посол «ожидал, что Франко каким-либо заметным образом отметит кончину своего министра иностранных дел. Но тот с привычным самодовольством счел это событие не имевшим особого значения». «Диктаторы, — завершил он свою мысль, — обладают иммунитетом от горестей и печалей, которые трогают простых смертных, а также от правил и обязательств, соблюдаемых в мире обыкновенных людей». Вряд ли это был самый подходящий момент, чтобы включать в состав кабинета министров, симпатизирующих странам «оси». 24 августа Париж освободила от немцев организация «Сражающаяся Франция», в которой республиканцы в изгнании играли важнейшую роль. Известия о том, что по улицам Парижа с ревом катили танки с развевающимися флагами Испанской Республики со знакомыми названиями «Гвадалахара» и «Теруэль», породили разговоры о вторжении в Испанию больших групп вооруженных республиканцев.
В то время как Красная Армия гнала к Берлину беспорядочно отступающие немецкие войска, Франко цеплялся за мысль, что это отступление было лишь трюком, призванным усыпить союзные державы, чтобы затем использовать мощное секретное оружие. Однако даже каудильо начал понимать, что дела шли вовсе не так, как он ожидал. И тогда Франко поведал американскому послу об огромном облегчении, которое он испытал, узнав об успехах союзных войск во Франции. Вместе с тем генералиссимус выразил озабоченность, что после поражения Германии ничто не сможет помешать установлению советского господства в Европе. Его попыткам возглавить антикоммунистический крестовый поход помог вполне объяснимый, но несвоевременный приток в страну испанских республиканцев-коммунистов. Как отмечал в то время британский посол, «появление нескольких сотен испанских авантюристов дало Франко возможность выступить защитником Испании от красного вторжения и послужило предлогом для ареста и казни большого числа его политических противников». Возвращение республиканцев не только стимулировало антикоммунистический пыл Франко, но и помогло занять бездействующую армию в партизанской войне на границе с Францией. Оно также вызвало страхи и ненависть времен гражданской войны, достаточные, чтобы привлечь на свою сторону промонархически настроенных военных. В результате — что хуже всего — изменилась и позиция Черчилля, все больше поддававшегося антикоммунистическим настроениям. Он всерьез отнесся к утверждениям Франко, что деятельность каудильо в пользу стран «оси» ограничивалась «несколькими незначительными эпизодами».
В интервью информационному агентству Юнайтед Пресс 7 ноября 1944 года генералиссимус заявил, что строгие католические принципы придают его режиму «органичную демократию» и «дух справедливости». В духе своей обычной риторики он дал понять, что демократические выборы состоятся, как только испанский народ перерастет «эгоизм и анархию». Намекнув на скорое восстановление монархии, он высказал мнение, что обладает «уравновешенным и беспристрастным пониманием того, что является справедливым, а что — нет», поэтому его участие в послевоенных мирных переговорах совершенно необходимо.
Близкая к истерике лесть, с которой это интервью было встречено в испанской прессе, не нашла отголоска в Европе. В Лондоне представитель правительства заявил в палате общин, что нет никаких оснований для того, чтобы «какая-либо страна, которая не внесла позитивного вклада в военные усилия Объединенных Наций, была представлена на мирной конференции». Тогда Франко через испанского посла в Лондоне направил Черчиллю послание, в котором предлагал создать англо-испанский антибольшевистский альянс, чтобы помочь Германии устоять перед Советским Союзом. И хотя британский премьер-министр опасался, что подбадривание оппозиции Франко было равносильно «разжиганию [коммунистической] революции в Испании», министр иностранных дел Антони Иден убедил его отправить жесткий ответ каудильо. В этом послании Черчилль — несколько неожиданно, принимая во внимание его дальнейшее поведение — категорически развеял все надежды Франко на то, что «правительство Его Величества будет готово рассматривать создание какого-либо бжжд держав, основанного на враждебности к нашему русскому союзнику или на предполагаемой необходимости обороны от него». Разобиженному Франко пришлось удовлетвориться попытками посеять раздор между союзными державами, осыпая знаками внимания недавно назначенного нового американского посла Нормана Армура и держась с надменной холодностью с Виктором Маллетом, заменившим сэра Сэмюэла Хоура на посту посла Великобритании.
В ночь на 23 декабря 1944 года, широким жестом бросая вызов всем и вся, Франко устроил праздник, достойный королевской семьи, по случаю совершеннолетия своей дочери Не-нуки. Цель этого дорогостоящего мероприятия выглядела достаточно ясной — Франко никому не уступит дороги. Старая аристократия бойкотировала это событие, не был приглашен и дипломатический корпус, за исключением американского посла. В тот вечер каудильо, подобно крестному отцу мафии, со свойственной ему жестокостью дал ответ на слухи, будто союзные государства собирались заменить его правительством во главе с консервативным республиканцем Мигелем Маурой. Пока гости танцевали на роскошном балу, тайная полиция врывалась в дома крупных деятелей режима, известных своими связями с Маурой или Хилем Роблесом.
Поэтому не так уж удивительно, с учетом всех обстоятельств, что Франко ни в малейшей степени не чувствовал себя обязанным выполнять решения Ялтинской конференции, прошедшей с 4 по И февраля 1945 года, о проведении демократических выборов в освобожденных странах. «Тучный, надутый и самодовольный, не отягощенный угрызениями за свое прошлое, не сомневающийся в собственном будущем, уверенный как в своей необходимости, так и в собственной мудрости» (Сэмюэл Хоур), он мог себе позволить наплевательское отношение ко всему. Его вновь обретенная самоуверенность еще больше усилилась, когда 19 марта 1945 года дон Хуан погубил последние шансы на скорую реставрацию монархии, опубликовав раньше времени «Лозаннский манифест», в котором он разоблачал тоталитарные аспекты режима и призывал каудильо уступить дорогу умеренной, демократической и конституционной монархии. Дон Хуан рассчитывал на поддержку Кинделана и других высокопоставленных монархистов, однако без англо-американской поддержки он полностью зависел от готовности Франко удовлетворить эти требования, что было весьма и весьма маловероятно. Каудильо написал Кинделану: «Пока я жив, я никогда не стану королевой-матерью», а к претенденту на трон отправили делегацию с заявлением, что церковь, армия и основная масса монархистов оставались лояльными Франко.
Тем не менее отношение каудильо к реставрации монархии было весьма противоречивым. Хотя он не желал делить власть с потенциально мстительным королем, ему все же следовало сохранять актуальными монархические надежды в качестве противовеса амбициям фаланги. Столь же двойственны были эмоции каудильо. Его отношение к дону Хуану являло собой мучительное и противоречивое отношение Франко к властным фигурам. Дон Хуан, как претендент на трон, был для него своего рода архетипом отца, восхищения и одобрения которого он добивался. Но, будучи сыном Альфонса XIII, дон Хуан являлся уже братом-соперником, желавшим вытеснить самого Франко. Именно по этой причине, хотя каудильо и не мог отказаться от идеи реставрации, лично дон Хуан был для него абсолютно неприемлемой фигурой в качестве короля Испании. Выступления Франко на тему реставрации перед генералами-монархистами, бессвязные, многословные, зачастую приводившие слушателей в оцепенение и всегда фарисейские, обычно сбивали с толку и аудиторию, и его самого в отношении основной, скрытой, мотивации. Неустойчивое, изменчивое эмоциональное состояние помогало каудильо убеждать монархистов в своей полной приверженности идее реставрации, а фалангистов — в том, что он сделает все возможное, дабы предотвратить ее.
1 апреля 1945 года празднование победы в гражданской войне разбередило старые раны Франко. Он вновь публично подтвердил свою противоречивую роль гаранта мира и борца против коммунистических «воров и убийц». Затем генералиссимус попытался растворить проблему, поставленную доном Хуаном и его сторонниками, приняв «монархическую форму правления» и учредив Королевский совет, который должен будет назначить преемника-монарха Франко. Однако себе он обеспечил право оставаться главой государства до своей смерти или собственного решения отказаться от власти.
Почувствовав себя более уверенно, каудильо сделал несколько примирительных жестов в сторону союзных держав, освободив от цензуры зарубежную прессу и объявив об отмене смертной казни за преступления, совершенные в период гражданской войны. Тем не менее ни эти его шаги, ни кончина в Соединенных Штатах президента Рузвельта 12 апреля 1945 года и вступление во власть Гарри Трумэна не принесли ожидаемого улучшения в отношениях союзных держав с Испанией.
В то же время, несмотря на ошеломляющие разоблачения ужасов нацистского господства в Европе, пресса фалангистов продолжала вдохновенно превозносить политику Гитлера. Энтузиазм самого Франко по отношению к Германии ничуть не уменьшился даже после того, как стало известно о жутком воплощении в жизнь «окончательного решения» еврейского вопроса, которое в начале 1944 года распространилось на всю оккупированную Европу и привело к уничтожению шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей. И хотя все якобы вершилось под завесой секретности, то, что творили нацисты с евреями, ни для кого не было тайной. В 1939 году Гитлер открыто предсказывал новую войну, результатом которой будет «уничтожение еврейской расы в Европе». Летом 1941 года Гиммлер сообщил коменданту Освенцима, что Гитлер «отдал приказ осуществить окончательное решение еврейского вопроса, а мы, войска СС, должны выполнить этот приказ». 6 октября 1943 года Гиммлер заявил партийным бонзам: «К концу года еврейский вопрос будет решен во всех оккупированных странах. Останется лишь небольшое количество евреев, которым удалось ускользнуть из сети». Был или нет Франко в курсе всех деталей этой преступной политики? Испанские дипломаты в Германии, конечно же, достаточно подробно информировали его обо всем, что там происходило. И хотя он пускал еврейских беженцев в Испанию во время Второй мировой войны, проведение политики антисемитизма с целью добиться расположения Гитлера убедительно доказывает, что каудильо не только имел полную картину происходящего, но и — несмотря на свое еврейское происхождение (а может, именно поэтому) — в какой-то степени одобрял действия фюрера. Вообще многие аспекты политики Гитлера очень напоминают отношение Франко к республиканцам. Еще в 1945 году расстрелы в Испании происходили ежедневно, а сам каудильо признавал, что в тюрьмах содержались по меньшей мере двадцать шесть тысяч политических заключенных.
Поэтому не столь уж удивительна позиция Франко, до последнего момента лелеявшего надежду, что Гитлеру удастся превратить поражение в победу. Муссолини питал меньше иллюзий. В то время как части союзных держав теснили немцев в северной Италии, а Красная Армия вынуждала вермахт отступать к Берлину, дуче винил фюрера, «этого самонадеянного деспота», во всем происходившем. А Гитлер винил в неминуемом поражении всех и вся, кроме себя самого. Но, хотя в феврале 1945 года он с горечью жаловался, что «наш итальянский союзник повсюду был для нас источником проблем», и полагал, что «лучше бы итальянцы оставались в стороне от войны», самого Муссолини он критиковал крайне неохотно. А немецкий народ, по Гитлеру, оказался сам «недостойным» его. «Германия, — говорил он, — предала меня и потому должна быть уничтожена». Фюрер укрылся в бункере, где Геббельоуспокаивал его чтением «Истории Фридриха Великого», обещая, что все в последний момент образуется. Гитлер был настолько одержим мыслью о чудесном спасении своего режима, что сумел убедить в этом и своих поклонников, в том числе Франко и фалангу. Даже умеренно рациональный Альберт Шпеер признавал позднее, что «курьезным образом эта уверенность [будто Германия выиграет войну] существовала отдельно, наряду с пониманием неизбежности поражения».
И потому ближайшие события оказались для Франко тяжелым ударом. 28 апреля его непогрешимый герой и союзник Муссолини был казнен коммунистическими повстанцами, когда пытался бежать из Италии. Тела дуче и его любовницы Кла-ретты Петтаччи повесили на площади в Милане на посмешище толпы. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер и Ева Браун приняли таблетки цианистого калия, а затем, для верности, он пустил себе пулю в голову. Дабы избежать судьбы Муссолини, фюрер приказал сжечь их тела после смерти.
Франко представил самоубийство Гитлера как благородное самопожертвование ради всей Европы — фюрер ушел из жизни, чтобы не применять секретное оружие. Смерть Гитлера и окончание войны в Европе были встречены в Испании панегириками в адрес собственного диктатора — «Каудильо мира» и «Победы Франко». Генералиссимус не разрывал отношений с нацистской Германией вплоть до 8 мая 1945 года, дня ее капитуляции.
Хотя взятие Берлина Красной Армией и смерть Муссолини и Гитлера прозвучали похоронным звоном по многим грезам Франко и до основания поколебали его веру в непобедимость тоталитаризма, он явил народу полную невозмутимость, словно и не тронула каудильо гибель двух его великих героев. Похоже, их смерть даже усилила всепобеждающую веру Франко в собственные неуязвимость и мессианство. В конечном счете он будет смеяться последним. В отличие от Гитлера и Муссолини его государственной машине было отпущено четыре десятилетия, чтобы переписать собственную историю и создать миф о каудильо как об отце современной Испании. Генералиссимус умрет естественной смертью в возрасте восьмидесяти трех лет.
Сотворение мифа началось с момента окончания Второй мировой войны. 17 сентября 1945 года каудильо заявил: «Не только мы возвышаем голос, призывая к духовности, голоса самых известных и влиятельных людей всего мира призывают к возврату к духовности, которая среди царящего вокруг хаоса и тьмы может быть обретена лишь в свете заветов Господа». И все же, хотя Франко отлично сознавал, что для спасения своей власти ему следовало дистанцироваться от фашистского прошлого и сделать акцент на приверженность к религии, его дипломатические шаги не отличались последовательностью. Как глубоко укоренившийся комплекс неполноценности постоянно проглядывал сквозь манию величия, так и эмоциональная приверженность фашизму генералиссимуса вступала в противоречие с прагматичными попытками сделать акцент на различия между его режимом и державами «оси». Резкие шараханья Франко вызывали всеобщую растерянность и уныние. Каудильо то пытался убедить союзные державы, что его режим — единственный в своем роде, не совсем демократический, но зато очень католический, и уверял, что он является основным бастионом в Европе против коммунизма, то взрывался злобой против проклятых иностранцев, считавших себя вправе указывать ему, генералиссимусу, как он должен себя вести.
За его декларациями чувствовалась полная сумятица. Когда союзные государства клеймили фалангу как фашистскую организацию, для Франко они «играли... роль европейской администрации в какой-нибудь африканской колонии». Каудильо никак не мог взять в голову, почему имперские державы, которые столь долго угнетали народы чужих стран, возражали, когда он поступал точно так же с врагами своей Родины. В любом случае убежденный в том, что «уступками ничего не добьешься, они будут лишь сочтены проявлением слабости», Франко упорно отказывался упразднить откровенно фашистскую фалангу. Кроме всего прочего, фалангисты были нужны ему для организации взрывов народного ликования и поддержки, а также для того, чтобы в нужный момент обвинять во всех бедах правительственных министров и обуздывать амбиции монархистов.
Его уверенность в том, что альянс между западными капиталистическими демократиями и Советским Союзом скоро развалится, зиждилась на вполне рациональной основе. Однако расхождение между враждебной риторикой союзных держав и их прагматичной решимостью не создавать политической нестабильности в Испании будет по-прежнему разжигать как паранойю Франко, так и его маниакальную веру в свою политическую неуязвимость. Находясь в полной изоляции в Европе, он ведет себя как деспотичный глава семьи, подвергая безжалостным репрессиям и угнетению испанский народ, а затем требуя, чтобы ему еще и выражали за это признательность. Франко проникся убежденностью, что власть была ему навязана взбалмошным, недисциплинированным и неблагодарным народом, благородной верой в то, что он принял ее из врожденного чувства долга, а также угнетающей тревогой, что враги постоянно строят козни, чтобы вырвать эту власть из его рук. Естественно, что поведение каудильо не отличалось последовательностью и предсказуемостью.
Тем не менее, хотя сам Франко и вверг Испанию в бедствия гражданской войны, а затем привел страну к экономическому и социальному краху из-за своей приверженности фашизму, именно с каудильо большая часть населения связывала надежды на выход государства из глубочайшего кризиса. Это происходило и из-за охватившего испанский народ отчаяния, и из-за успешного оболванивания его пропагандистской машиной, переписывавшей как прошлое, так и настоящее. Но в конечном счете из-за того, что каудильо просто не оставил им альтернативы.
Глава 8 СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...
Апрель 1945 — апрель 1956
Практически все слои испанцев прежде всего хотят избежать нового кровопролития; и потому нет ничего сильнее главного аргумента Франко, который утверждает, что поспешные перемены вызовут повторение 1936 года.
Из офицальных сообщений посольства США в Мадриде
Быть министром в правительстве Франко означает быть царьком, который делает все, что ему вздумается, не чувствуя ни малейшего ограничения со стороны каудильо.
Лекерика
На учредительной конференции Организации Объединенных Наций, проходившей в Сан-Франциско с 25 апреля по 26 июня 1945 года, Мексика, по инициативе испанских республиканцев в изгнании, внесла резолюцию, согласно которой любое государство, созданное при помощи вооруженных сил стран, воевавших против Объединенных Наций, не может быть членом этой организации. Данная резолюция могла относиться только к Испании. Откровенно уязвленный, Франко разразился интервью журналисту из британского агентства Юнайтед Пресс. В нем он с невольной искренностью и вполне уместной двуличностью потребовал, чтобы корреспондент «объявил всему миру, что фаланга не имеет политической власти в Испании», однако каудильо забыл упомянуть, что и никто другой, кроме него, не имеет ее. Заявив, что изгнал из фаланги тех ее членов, которые пытались «идентифицировать Испанию с Германией и Италией», он отослал своих критиков к Королевскому совету, который «должен будет решить проблему престолонаследия».
Для сохранения личной власти Франко был готов ограничить власть фаланги, но вовсе не собирался оттолкнуть от себя сотни тысяч фалангистов, распустив их партию. Тем не менее он решил смягчить некоторые поверхностные фашистские признаки режима, сделав упор на его католическом характере. Контроль над прессой перешел от фаланги к министерству образования, в котором всем заправляла католическая церковь. Арресе был уволен с поста министра-секретаря «Национального движения», и должность эта так и осталась вакантной. Альберто Мартин Артахо, президент «Католического действия» в Испании и видный член могущественной «Католической фракции», стал министром иностранных дел. Впрочем, его надежды использовать свое положение для восстановления монархии очень быстро оказались обмануты. Франко нужен был Мартин Артахо только для одного: убедить многочисленных влиятельных католиков в западных демократиях, а также сам Ватикан, чтобы те принимали режим таким, какой он есть.
Накануне Потсдамской конференции, в начале августа 1945 года, непривычно любезный и сердечный Франко принял нового британского посла, сэра Виктора Маллета, и с радостной улыбкой заверил его, «что отношения между странами улучшатся». Оставив без внимания это фальшивое добродушие, три великие державы, Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз, настояли на исключении Испании из ООН, однако отказались от прямого «вмешательства во внутренние дела» режима из опасения вызвать новую гражданскую войну. (Возмущенный Сталин тем не менее указал, что режим навязали испанскому народу Гитлер и Муссолини, и потому вряд ли можно было говорить о «внутренних делах».) В своем ежегодном выступлении перед Национальным советом раздраженный Франко дал понять, что он и сам не имел ни малейшего желания находиться в ООН. Поздравив самого себя за дипломатическое мастерство, с которым он сумел удержать страну
ю* вне войны, каудильо хвастливо заявил, что «принес Испании порядок, мир и радость, благодаря чему испанцы оказались одним из немногих народов, которые еще способны улыбаться в этой истерзанной Европе». Франко вновь сослался на призрак коммунизма в качестве оправдания своей жесткой внутренней политики. Среди массы самовосхвалений, броских лозунгов и демонстративных выпадов мелькнули несколько поверхностных успокоительных фраз, предназначенных для союзных держав. Была также опубликована так называемая «Хартия испанцев», согласно которой гражданские свободы якобы распространялись на весь народ. Однако профсоюзы и политические партии оказались под запретом.
Конференции в Сан-Франциско и Потсдаме, наряду с избранием нового лейбористского правительства в Великобритании во главе с Клементом Эттли и Эрнестом Бевином в качестве министра иностранных дел, вызвали волну необоснованного оптимизма среди лидеров испанских левых. В надежде, что ожесточенная партизанская война, развернувшаяся на севере и востоке страны, скоро принесет свои плоды, в конце августа они сформировали правительство в изгнании, возглавил которое республиканский интеллектуал Хосе Хираль. Ликующие монархисты, в свою очередь, решили, что реставрация монархии с доном Хуаном на троне стала неизбежной. На деле же все это не слишком беспокоило Франко. Напряженность между капиталистическим и коммунистическим блоком нарастала, а республиканское правительство раздирали внутренние склоки, выливавшиеся в ожесточенные дебаты. Как отметил британский посол, «если сила правительства определяется слабостью оппозиции, то режим Франко был не таким уж слабым, как многие иностранные критики и его противники в изгнании себе это представляли».
Карреро Бланко, всегда стремившийся предугадать, отразить и довести до логического конца мнение хозяина, подтвердил эту точку зрения в своем докладе о будущем режима, в котором, в частности, указывал, что репрессивные меры следует применять, «не опасаясь иностранной критики, ибо лучше уж примерно наказать раз и навсегда, чем оставить зло безнаказанным». Его убеждение, что «возможной для нас формулой являются только порядок, единство и терпение», было полностью оправданно. Режим Франко стал восприниматься в обществе постоянным институтом — кем-то от отчаяния, кем-то с вызовом, кем-то из угодливости. Намерения убрать каудильо оказывались все более редкими и изолированными, а достижение этой цели выглядело маловероятным. Желание бунтовать у противников Франко порядочно поизносилось. Когда 25 августа Кинделан произнес ярко выраженную промонархическую речь, каудильо чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы отстранить его от должности директора Высшего армейского училища и заменить на своего друга Хуана Вигона.
Легкость, с которой Франко отбрасывал свои самые принципиальные убеждения ради политической выгоды, ярко проявилась, когда он уступил британскому давлению и 7 сентября отказался от Танжера, порта в северном Марокко, со словами: «Не велика потеря, раз уж мы все равно не можем защитить его». В тот же день было упразднено фашистское приветствие. Во время празднования девятой годовщины его восхождения к верховной власти Франко разрешил фашистской молодежи фаланги пройти триумфальным маршем, размахивая испанскими флагами. Сам же он решил появиться в «демократическом костюме из соображений политической безопасности», проявляя безудержный цинизм, которым мог бы гордиться и Гитлер. В начале октября каудильо согласился провести референдум и объявить о муниципальных выборах, которые затем бесконечно откладывал. В остальном мире не оставалось места сомнениям, что любое движение с целью сместить Франко вызовет военное восстание в его поддержку. В самой Испании каудильо продолжал колебаться между приятным убеждением, что «в нынешней Испании можно править по воле народа» и обиженным ощущением, что он является рабом этого народа, исполняющим все его прихоти. «Франко, — сурово вещала «Ар-риба», — направляет испанский народ, но в то же время исполняет его приказы». «Каудильо не может, — завершает газета, — ни в чем отказать ему».
Между тем Франко продолжал изливать свою ярость на республиканцев. Гигантский репрессивный аппарат полиции,
Гражданской гвардии и армии в 1946 году поглотил сорок пять процентов всего государственного бюджета. Экономически вредный, политически бесполезный и достойный осуждения с точки зрения морали, этот механизм подавления напоминал гитлеровское «окончательное решение» — хотя и в меньшем масштабе — и свидетельствовал об извращенно-мучительном состоянии психики Франко. Врожденная мстительность каудильо усугублялась тем фактом, что тогда не нашлось никого, кто мог бы нейтрализовать его врожденную склонность к самообману или подстегнуть его чувство ответственности. Франко настаивал на том, что инфляция была просто выдумкой «легковерных невежд от экономики», и невозмутимо оставлял без внимания разрушительный эффект, который репрессивные меры оказывали на шатающуюся экономику. В результате страна находилась в нищенском состоянии.
Укрывшись в Эль-Пардо, обозленный на весь мир, так неразумно и несправедливо относившийся к его режиму, он метался от одной крайности к другой. То в отчаянии решал плюнуть на все и уйти, то убеждал себя: «Я не совершу глупости, подобно Примо де Ривере, я не уйду в отставку; отсюда — только на кладбище». На заседаниях правительства от мрачных и бессвязных рассуждений о масонских заговорах и кознях Франко переходил к вдохновенным предсказаниям, как он оживит испанскую киноиндустрию, которая будет снимать его любимые музыкальные фильмы. И чем больше тоски наводили на каудильо мысли о масонах, тем больше он обращался к кинематографу, дабы разогнать их. Его страстью были фильмы об индейцах и ковбоях.
Как это ни парадоксально, любовь Франко к американским фильмам росла одновременно с увеличивавшимся недоверием к иностранцам. Решение США не менять своего посла, срок пребывания которого в Испании истекал в декабре 1945 года, не добавило спокойствия его измученной душе. Приезд нового испанского посла в Лондон совпал с бурными дебатами по Испании в палате общин, завершившимися резким заявлением Эрнеста Бевина: «Мы презираем этот режим». Британское правительство уведомило Франко, что терпению Великобритании «приходит конец». Хотя выглядело маловероятным, что подобные рахитичные жесты окажут нужное впечатление на каудильо — наоборот, они лишний раз укрепляли его в параноидной ксенофобии и еще больше толкали к фаланге.
В начале 1946 года, когда были опубликованы немецкие документы, вскрылись масштабы сотрудничества Франко со странами «оси». Расследование в ООН обнаружило массу случаев укрывательства военных преступников из Германии, Италии и вишистской Франции путем предоставления им испанского гражданства. И пока Великобритания и Соединенные Штаты нервно спорили, что делать с этими разобла; чениями, дабы не вызвать военного мятежа или коммунистического восстания в Испании, Франко разъезжал по городам и весям, напоминая народу, как он защитил страну от «дьявольских махинаций» во время гражданской войны. А сейчас, по его словам, он защищал ее от «масонского сверхгосударства» — от которого, как считал каудильо, Вашингтон и Лондон получали приказы, — стремившегося уничтожить Испанию просто «потому, что она несла свет Евангелия в мир, а ее люди были воинами Бога».
Дон Хуан, не слишком убежденный этими аргументами, в феврале 1946 года решил обустроить свою резиденцию в Португалии, а не в Испании, как того требовал Франко, чтобы тем самым придать легитимность своему режиму. Это вызвало сильнейшее раздражение у каудильо и взбодрило монархистов. 13 февраля четыреста пятьдесят восемь высокопоставленных функционеров испанского режима подписали открытое письмо дону Хуану, выражая надежду на скорое восстановление монархии. Взбешенный Франко решил, что «они должны быть раздавлены, как козявки». Однако Давила сумел убедить его, что заключение в тюрьму без суда такой массы людей не улучшит репутацию режима за границей. Франко пришлось удовлетвориться высылкой Кинделана на Канарские острова. А когда дон Хуан отклонил приглашение каудильо посетить Испанию для встречи с ним, разгневанный Франко немедленно порвал с претендентом на престол все отношения.
Бунт монархистов и ухудшение отношений с доном Хуаном, похоже, вновь обострили страхи Франко и его агрессивность. Игнорируя международные просьбы о милосердии, 21 февраля 1946 года он приказал расстрелять командира одного из антифранкистских партизанских отрядов и героя французского Сопротивления, Кристино Гарсиа, и с ним еще девять человек. В ответ на этот бесполезный и провокационный акт мщения Франция закрыла границу с Испанией и порвала с ней отношения. Великобритания и Соединенные Штаты с большой неохотой согласились подписать вместе с Францией беззубую трехстороннюю декларацию в Совете Безопасности 4 марта, однако решительно отмели возможность какого-либо вмешательства «во внутренние дела Испании». Известная речь Черчилля о «железном занавесе» 5 марта подтвердила убеждение каудильо, что западные демократии Сталина боялись больше, чем не любили его, Франко. Через несколько дней в шизофреническом обращении к народу генералиссимус заклеймил международное враждебное окружение, подтвердил решимость спасти Испанию от врагов и заверил западных союзников в добрых намерениях. Чрезвычайно разобиженный повседневными обременительными заботами, связанными со спасением Испании и Европы, каудильо жаловался, что он, «как бессменный часовой... который бодрствует, когда другие спят», заслуживает большего уважения. Забыв на время о своей страсти к охоте, стрельбе и рыбной ловле, Франко ворчливо жаловался на то, что, неся тяжкое бремя главы государства, он не имеет «времени ни на личную жизнь, ни на увлечения», и с гордостью повторял: «Вся моя жизнь — это сплошная работа и глубокие раздумья». Каудильо журил неблагодарных сограждан за то, что они жалуются на свое относительно беззаботное существование и требовал от них (как когда-то его мать) «делать хорошую мину при плохой игре. Чем хуже идут дела, тем веселей должна выглядеть физиономия». Что ж, на какое-то время народу Испании потребуется очень широкая улыбка.
Пока союзники спорили по поводу Франко, «трехсторонняя декларация» вызвала к жизни некоторые политические волнения — их более не будет вплоть до середины пятидесятых годов — в высших эшелонах армии. Они были быстро погашены генералом Варелой, сменившим 12 марта 1946 года генерала Оргаса на посту верховного комиссара Марокко. Во время ежегодного парада в честь победы в гражданской войне, 1 апреля 1946 года, Франко получил поддержку испанской фаланги в виде массовой демонстрации. 6 апреля во дворец Эль-Пардо были доставлены триста тысяч подписей его верноподданных с подтверждением решимости защитить генералиссимуса от «наемных убийц сил зла». Каудильо, сам того не желая, открыл свою измученную душу, когда, задыхаясь от гчастья, заявил, что масонский и коммунистический заговоры, сфабрикованные злобными республиканцами и имевшие целью свергнуть его, являются очевидным доказательством, что «мы существуем, мы не умерли, и наш стяг развевается на ветру». Возможно, он боялся, что при отсутствии врагов его и без того слабое осознание собственного Я вовсе улетучится.
Экстравагантные и бездоказательные обвинения польского представителя в Совете Безопасности 17 апреля 1946 года, будто бежавшие нацисты создавали атомную бомбу на территории Испании, не слишком помогли демократической оппозиции Франко. Каудильо ответил суровой двухчасовой диатрибой в кортесах, в которой отрицал, что он — диктатор, и утверждал, что испанский народ еще слишком дик и необуздан для демократии. Заявляя в приступе наивной откровенности, что одно время ему нравилось, когда его считали фашистом-нацистом, поскольку подобные режимы пользовались большим престижем в мире, он признавал, что теперь необходимо «подчеркивать другие, резко отличные черты нашего государства». Злорадно сообщив испанцам, что иностранный остракизм направлен прежде всего против них, а не против него, каудильо назвал помощь, полученную от держав «оси» во время гражданской войны, «каплей в океане». 28 апреля он решительно предупредил испанцев: «Имейте в виду, я вам не Дед Мороз, что приносит подарки, а глава государства».
Когда Совет Безопасности рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН, чтобы она призвала всех своих членов порвать отношения с Испанией, надутый каудильо объявил, что «испанскому народу» в высшей степени наплевать на мнение других стран и они не имеют права совать нос в чужие дела. Он подверг уничтожающей критике действительно абсурдные заявления западных политиков, призывавших испанцев «свергнуть Франко, и в то же время заверяя их, что военного вмешательства союзных держав не будет». Отождествляя, по-видимому, политическую изоляцию, в которую он вверг Испанию, с тем, как его в детстве игнорировал, унижал и бил отец, Франко погрузился в написание злобных статей о масонстве, «одной из самых отвратительных тайн современности». Пока он находил утешение в салазаровской Португалии и у симпатизировавшего державам «оси» Хуана Доминго Перона в Аргентине, его сторонники продолжали устраивать впечатляющие массовые манифестации в поддержку вождя. 9 декабря 1946 года, после очередной многолюдной демонстрации фалангистов, Молодежного фронта и ветеранов гражданской войны, ликующий каудильо оптимистично уверял их, что «весь мир лежит у наших ног». А потом он и донья Кармен в течение часа стоя слушали, как проходящие скандировали «Франко! Франко! Франко!».
Эти оркестрованные демонстрации в поддержку каудильо не впечатлили и не убедили Генеральную Ассамблею ООН, которая 12 декабря 1946 года приняла резолюцию, исключающую Испанию из всех организаций ООН, и призвала все страны отозвать послов из Испании. (Тем не менее ни военные, ни экономические санкции не вводились.) И хотя ни в чем не раскаивающийся Франко тут же приказал отчеканить новую монету, на которой был выгравирован его бюст со словами «Милостью Божьей Каудильо», он явно чувствовал себя уязвленным и растерянным. В феврале 1947 года Франко сделал неожиданное, но прочувствованное заявление в «Вашингтон пост»: «Мной никогда не руководило стремление к власти, я не люблю командовать... Если бы я убедился, что в интересах Родины должен отказаться от власти, не сомневайтесь, что я с радостью, без колебаний сделал бы это, ибо власть для меня — долг и самопожертвование». Впав в депрессию после отъезда послов, он с чрезвычайным радушием принимал любого, даже не слишком важного иностранного чиновника. Доктрина Трумэна от 12 марта 1947 года, обещавшая поддержку «свободным народам, которые решали свою судьбу своими силами» в противостоянии экспансии коммунизма, значительно ободрила его. Он подозревал, что понятие «свободные народы» могло трактоваться достаточно широко.
28 марта 1947 года каудильо предпринял попытку умерить беспокойство западных держав по поводу вопроса о наследовании, а также оборвать связи между некоторыми монархистами и республиканцами в изгнании. Карреро Бланко подготовил проект закона, по которому режим Франко получал легальный статус. Каудильо сохранял власть как глава государства и имел право назначить собственного пре-емника-короля. Эти идеи нашли свое воплощение в Законе о наследовании, согласно которому должен быть проведен референдум, дабы нанести на режим тонкий слой '«демократической» легитимности. Однако надежды Франко на то, что дон Хуан ухватится за эту инициативу, оказались обманутыми, когда претендент на престол выпустил в Португалии «Эшторильский манифест», назвав ее незаконной. Испанская пресса немедленно, не слишком оригинальным образом, объявила дона Хуана марионеткой международного франкмасонства и коммунизма.
Экономическое положение страны тем временем продолжало катастрофически ухудшаться. К маю 1947 года зарплата рабочих упала до половины предвоенного уровня, а цены выросли более чем на двести пятьдесят процентов. Несмотря на репрессии, рабочие организовали серию забастовок по всей Испании. Б Бильбао были отправлены части Гражданской гвардии и Иностранный легион, что не предвещало ничего хорошего, а хозяева предприятий получили приказ увольнять рабочих «без рассуждений». Тех, кто не делал этого, сажали в тюрьму. И хотя правительство басков в изгнании приветствовало забастовки «как самую большую победу, одержанную трудящимися против режима», они просто лишний раз убедили Лондон и Вашингтон, что Франко им необходим как опора, чтобы противостоять подрывной коммунистической деятельности. Парадоксально, но именно жесткая репрессивная политика Франко толкала многих рабочих в ряды коммунистов. Как один американец, живший в то время в Испании, говорил Джералду Бренану: «У них нет ни хлеба, ни масла, естественно, что все они коммунисты. Если бы я был рабочим, тоже стал бы им».
Приезд Эвы Дуарте де Перон (Эвиты) с широко разрекламированным визитом в Испанию в июне 1947 года вновь всколыхнул фашистский энтузиазм Франко, который всегда таился в его душе. 9 июня повсеместно был объявлен нерабочим днем, а также прошла массовая демонстрация франкистов по случаю награждения Эвиты большим крестом Изабеллы Католической. Это высшая награда, которой каудильо мог удостоить женщину. Франко и Эвита выбросили руки в фашистском приветствии перед ликующими толпами фалангистов. Обиженная донья Кармен, в шляпке, которая должна была превзойти по экстравагантности и размеру шляпку Эвиты (поскольку был самый жаркий день года, ей пришлось отказаться от состязания на лучшую норковую шубу), с неодобрительно поджатыми губами взирала на восторженно улыбающегося мужа. Стороны подписали «Протокол Франко — Перон», который предусматривал увеличение аргентинской помощи Испании и поставок зерна в нее.
Референдум по Закону о наследовании прошел сразу после этого публичного возбуждения. В понедельник, 6 июля 1947 года, в разгар продолжающейся кампании, в которой любого голосующего против клеймили как антикатолика, промарксиста и тем самым обвиняли в попытке разрушить Испанию, девяносто три процента испанцев проголосовали «за». Несмотря на внушительное присутствие полиции и военных, запугивание и многочисленные факты фальсификации, нельзя было отрицать, что Франко пользовался значительной народной поддержкой в стране. Чрезвычайно довольный, он присвоил себе суверенное право давать аристократические титулы — право, которым каудильо в полной мере воспользовался, чтобы привязать монархистов к режиму. Предложение титула ставило их в трудную ситуацию. Соглашаясь принять его, они тем самым предавали короля, отказываясь — публично заявляли о своей оппозиции Франко.
Поскольку Великобритания и Соединенные Штаты предпочитали, чтобы каудильо оставался у власти, хотя они и утверждали обратное, усилия поляков и чехословаков, которые пытались убедить Генеральную Ассамблею ООН ввести крупномасштабные экономические санкции против Испании, не увенчались успехом. Захват власти в Чехословакии коммунистами в феврале 1948 года и блокада Берлина с 24 июня еще более упрочили позиции Франко. Он мог поздравить себя с тем, что сумел выжить в самый трудный период международной изоляции. Пожурив американцев за их неправильное отношение к нему в недавнем прошлом, Франко потребовал немедленных репараций и упрямо отказывался сделать хотя бы символический жест по либерализации режима длц умиротворения западных держав. Хотя предложение включить Испанию в программу экономического восстановления Европы (план Маршалла) 30 марта 1948 года и было заблокировано Трумэном, Франко мог позволить себе сидеть сложа руки. Указание Советского Союза странам Восточной Европы отвергать любую помощь Запада ускорило раскол послевоенного мира на два непримиримых блока, причем Франко окончательно утвердился в западной сфере. Даже умеренные испанцы начали считать, что для политических перемен момент был не самый подходящий. Подобно своенравному ребенку, в марте 1948 года Франко отправил Лекерику, которому в 1945 году США не дали агреман в качестве посла, в Вашингтон в звании инспектора посольств и дипломатических миссий. Ему больше подошло бы звание «уполномоченного по раздаче взяток и франкистской пропаганде».
Несмотря на продолжающуюся сдержанность Великобритании к режиму Франко, в особенности в вопросе о Гибралтаре, американцы склонялись к скорейшей нормализации отношений с Испанией. Убежденные в том, что любая попытка свергнуть диктатора пошла бы на пользу левым, а не монархистам, они предлагали каудильо попытаться расколоть оппозицию, восстановив связи с популярным в народе доном Хуаном. Франко уже однажды проявил смешанное отношение к монархии, когда показал брату Николасу две фотографии: одну — с трупами Муссолини и Кларетты Петтач-чи, другую — на которой Альфонс XIII сходит на берег в Марселе на первом этапе изгнания. При этом Франко произнес: «Если дела пойдут плохо, я кончу, как Муссолини, потому что буду защищаться до последней капли крови. Я не сбегу, как Альфонс XIII». Явно проводя параллель между бегством короля, бросившим Испанию, и позорным бегством отца, бросившим семью, Франко фарисейски заявил своим критикам, что он никогда не бросит испанскую «семью» из-за «ошибочного впечатления, будто народ его не любит».
В конце концов была достигнута договоренность о встрече Франко с доном Хуаном на борту яхты «Азор» 25 августа 1948 года. Франко пошел по проторенной дорожке в переговорах с претендентом на престол — которого он продолжал называть просто дон Хуан, — шарахаясь от надежды, что тот признает его заслуги и будет уважать, к злобной решимости удерживать конкурента в стороне от власти любой ценой. Во время встречи Франко ткал сложный эмоциональный и политический ковер. Поначалу он слегка поплакал, затем долго и пространно разглагольствовал, как под его долгосрочным руководством Испания станет самой богатой страной в Европе. Франко объяснил, почему он вынужден держать власть в своих руках: из-за отсутствия народных требований — которые каудильо сам же и подавил — ни в пользу монархии, ни в пользу Республики. При этом он наивно похвастался, что если бы захотел, то за пару недель мог бы организовать всеобщую поддержку дона Хуана. Обозвав своих генералов «идиотами» и «законченными кретинами», каудйльо заявил: «Я не позволяю министрам спорить со мной. Я отдаю им приказы, а они подчиняются», заверив претендента, что «любого из них можно купить». Затем Франко самым оскорбительным образом предположил, что монарху недостанет твердости, чтобы управлять этим стадом.
Однако постепенно начали проясняться истинные намерения Франко. Он хотел, чтобы сын дона Хуана, десятилетний Хуан Карлос, завершил свое образование в Испании под его личным руководством. В политическом отношении эта договоренность придавала временную легитимность роли Франко как регента, а также давала возможность осуществлять реальное влияние на своего преемника и (во всяком случае, он на это надеялся) примирила бы монархистов с его режимом. В эмоциональном плане такой вариант позволил бы ему исполнить свою главную эдипову фантазию: он использовал принца, чтобы лишить трона его отца, дона Хуана, законного короля, — который, подобно дону Николасу, отличался либерализмом и свободомыслием. Несмотря на очевидное недовольство, дон Хуан признал, что единственная надежда для реставрации монархии состояла в том, чтобы согласиться с каудильо. Скоро он горько пожалеет об этой договоренности.
Отправка принца в Испанию 9 ноября 1948 года стала чрезвычайно важным общественным событием. Его приезд положил конец спорам между монархистами и социалистами, примирил с режимом его консервативных критиков и предоставил столь нужное западным демократиям свидетельство того, что в Испании происходит хоть какая-то либерализация. Еще раньше щедротами старательного Лекерики в Вашингтоне было создано мощное происпанское лобби, организовавшее несколько громких американских визитов в Испанию. Прибытие американской военной комиссии 30 сентября 1948 года совпало с празднованием «Дня Каудильо» и стало большим подарком для испанской прессы, которая подала это посещение как американскую поддержку режима Франко.
Переполненный чувством собственного величия, генералиссимус той осенью ураганом пронесся по Андалусии, повсюду произнося громовые диатрибы против коммунистов, грандиозные панегирики собственной мудрости во время Второй мировой войны и безудержные похвалы испанской армии. 12 октября 1948 года на эффектной церемонии ему было присвоено звание Великого Адмирала Кастильского. Вместе со своей семьей он принимал парад военных кораблей Аргентины, Бразилии, Колумбии, Доминиканской Республики и Испании, а затем все собрались в монастыре Ла-Рабида, в котором Христофор Колумб провел последнюю ночь перед знаменитым путешествием. Франко наконец-то смог насладиться блеском военно-морских регалий своего отца и славой брата Рамона, ощущая себя «Колумбом нашего времени». По-видимому, он желал еще раз подчеркнуть ту мысль, что Америка была открыта исключительно усилиями Испании.
А в Европе продолжались усилия, чтобы вовлечь Испанию в сферу влияния Запада. Хотя общественное мнение в Великобритании и Франции менялось не с такой быстротой, как приоритеты их политических лидеров, — обычные люди с трудом привыкали к мысли, что их союзник в войне, Советский Союз, теперь стал врагом, а вот большой приятель Гитлера, Франко, стал другом, — ситуация эволюционировала в пользу каудильо. Приглашение Испании принять участие в Международной комиссии по статистике в ноябре 1948 года так возбудило Франко, что он в какой-то момент забыл о своем презрении к «масонской сверхдержаве» и «безмозглому американскому материализму» и, полный надежд, впрочем несбыточных, предложил США заключить двустороннее экономическое соглашение. В Великобритании известные консерваторы неустанно трудились над тем, чтобы восстановить дипломатические отношения с Испанией, а Черчилль, с привычной легкостью игнорируя факты, с жаром объявил, что поддержка Франко в значительной степени способствовала победе союзных держав.
Пока генералиссимус раздувался от самодовольства, те, кто не принадлежал к испанским сливкам общества, погружались в пучину отчаяния. Дипломатическая и экономическая изоляция страны дорого обошлась ее трудящимся. В то время как верхушка режима Франко получала свои дивиденды, тысячи людей рылись в отбросах или побирались на улицах. Многие испанцы были вынуждены обитать в хижинах из картонных коробок в трущобах, которые, как грибы, появлялись на окраинах городов, и даже перебирались в пещеры на холмах. Джералд Бренан, вернувшийся на юг Испании в конце сороковых годов, с ужасом описывает «детей с иссохшими, морщинистыми лицами», женщин с «исхудалыми, изголодавшимися» детьми на руках и «изможденных, подавленных мужчин, которые молча стояли, опершись на стену и тупо глядя перед собой». Но страшнее всех Бренану показались «ползавшие по улицам калеки без рук и ног». Одна супружеская пара с горечью жаловалась ему, что националисты «хотят уничтожить в нас все человеческое, хотят, чтобы мы превратились в животных. А богачи... в это время только жрут и пьют, разъезжают на машинах и спят с нашими женщинами... Для них законы не существуют». Другие были более снисходительными. Некий врач-фалангист утверждал, что Франко просто святой, ничего не знающий о деятельности жульнического окружения, «которое грабит страну». «Бедняга, — бормотал он, — его всегда окружают телохранители, ему приходится ездить в бронированном автомобиле и видеть Испанию только с трибун и балконов... Его обвиняют несправедливо». Но, как замечает Бренан, при любой диктатуре трудно винить кого-либо другого, кроме самого диктатора.
А Франко прилагал всю свою энергию на подавление критики, вместо того чтобы решать проблемы, созданные его политикой. Серрано Суньер написал зажигательную статью, направленную против «опасной скуки», поразившей Испанию, и критикующую «недальновидных деятелей». Ее опубликовала монархическая газета «АВС». Франко, разгневанный содержанием статьи, в запале пообещал показать автору, что такое настоящая скука, пригрозил закрыть «АВС» на три месяца, «а этого наглеца Серрано сослать на Канарские острова». «А если потребуется расстрелять его, — добавил каудильо, — то он будет расстрелян». Однако сколько бы Франко ни расстреливал людей, ничто не могло скрыть того факта, что без массированной иностранной помощи Испании через полгода грозил полный экономический крах. После значительного сокращения поставок зерна из Аргентины кредит в двадцать пять миллионов долларов, предоставленный Соединенными Штатами, где происпанское лобби разжигало энтузиазм по поводу будущих американских военных баз в Испании, оказался весьма своевременным.
Франко вдруг радостно сообщил странам Запада, что он не готов вступить в НАТО, пока не будут определены «привилегии, гарантии, права и обязанности» Испании, что вызвало отповедь в «Дейли телеграф». Газету удивило «его категорическое, недовольное и грубое НЕТ в ответ на предложение, которое ему никогда не делалось... и его невоспитанный отказ присутствовать на празднике, на который его не приглашали». В отличие от салазаровской Португалии Франко действительно не было предложено вступить в НАТО. Как выразился один британский министр, поставить каудильо оружие равносильно тому, чтобы «вложить ружье в руки закоренелому убийце». Франко ответил на это личное унижение страстным, лицемерным и сердитым обращением к нации 31 марта 1949 года, в котором утверждал, что его нейтралитет был особенно похвален, ибо союзные державы никогда не добивались его поддержки, и потому его симпатии склонялись к странам «оси».
Отказ принять Испанию в НАТО подогрел мрачные настроения Франко и его тревоги по поводу демократических козней и масонских заговоров. Как журналист номер один Испании — титул, который он сам себе присвоил 20 июля 1949 года, — каудильо решил, что настал момент опубликовать на английском языке свои ядовитые антиимпериалистические размышления о масонстве. Понимая, что общественное мнение в Великобритании и Соединенных Штатах уже начинало меняться в пользу Франко, перепуганный Ле-керика стал лихорадочно убеждать его отказаться от этого намерения, поскольку «в некоторых странах еще недостаточно ценителей подлинных и глубоких истин».
Несмотря на его постоянное ощущение несправедливости, в действительности в течение лета 1949 года не случилось ничего, что могло бы серьезно обеспокоить Франко. Партизанская война, которую республиканцы вели против него в горах, начинала истощаться. В это же время Франко твердо отверг попытку дона Хуана лишить его опекунства над Хуаном Карлосом. Успешный взрыв атомной бомбы в Советском Союзе, о котором сообщил Трумэн 23 сентября 1949 года, создание Китайской Народной Республики под руководством Мао Цзэду-на в начале октября 1949 года и разнузданная антикоммунистическая «охота на ведьм», развязанная сенатором Джозефом Маккарти в Соединенных Штатах, изменили международную ситуацию еще больше в пользу Франко. Когда американцы совсем уж разнервничались по поводу «красных под кроватью», государственный департамент США начал считать альянс с Испанией необходимым для сохранения Пиренейского полуострова в качестве антикоммунистического «бастиона в континентальной Европе». Последовал и символический жест — эскадра Восточного Атлантического флота США прибыла с визитом в Эль-Ферроль в сентябре 1949 года и пробыла там пять дней. Франко тут же поспешил в Португалию на встречу с Салазаром, дабы подчеркнуть полезность Пиренейского полуострова для западного альянса.
18 января 1950 года госсекретарь США Дин Ачесон направил широко разрекламированное послание, в котором заявлял, что Соединенные Штаты поддержат включение Испании в международные организации, и ратовал за возвращение в Мадрид иностранных послов. Вместо того чтобы успокоить Франко, этот примирительный жест вызвал у него особенно злобный приступ против недопустимого иностранного вмешательства и новые, нападки на Великобританию под едва скрытым псевдонимом. Он приказал также задержать ряд известных монархистов за преступление, которое в государстве, считающемся монархией, выглядело довольно странно — «заговор с целью реставрации монархии».
24 июня 1950 года нападение Северной Кореи на Южную, которая находилась под контролем Соединенных Штатов, на Западе вызвало к жизни призрак Третьей мировой войны — с коммунизмом в качестве врага. Несмотря на необдуманные, явно несвоевременные и оскорбительные заявления Франко о «социалистическом империализме Лондона», 4 ноября 1954 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за резолюцию, разрешающую возвращение иностранных послов в Мадрид. Франко тут же издевательски потребовал солидную экономическую компенсацию за суровое отношение к его режиму в предыдущие годы. После обращения египтян к Великобритании, дабы та вывела войска из Суэца, каудильо вновь стал добиваться возвращения Гибралтара. А когда 16 ноября Трумэн решил предоставить Испании кредит в шестьдесят два с половиной миллиона долларов для перевооружения армии, чтобы привлечь Франко в антисоветский блок, генералиссимус убедился, как иногда бывает полезно показывать зубы.
Назначение 27 декабря 1950 года нового американского посла вдохновило каудильо на радиовыступление по случаю конца года, которое (по словам Пола Престона) было «набором виртуозных вариаций на тему “Я же вам говорил”». Он вызывающе назначил Лекерику, ярого сторонника стран «оси», послом в Соединенных Штатах и предложил Фернандо Ма-риа де Кастиэлью (бывшего волонтера «голубой дивизии», присягавшего на верность Гитлеру) в качестве посла в Великобритании. Когда это явно неприемлемое предложение было англичанами вежливо отклонено, он назначил послом брата Хосе Антонио Примо де Риверы, Мигеля, распутного бабника и ярого фалангиста, которого Великобритания с большой неохотой приняла.
Склонность Франко действовать по принципу «разделяй и властвуй» с годами не уменьшилась. Так, о новом американском после, Стентоне Гриффитсе, прибывшем в Испанию в первых числах марта, Франко сказал, «что лучшего посла трудно себе представить», в то время как британский посол, сэр Джон Бальфур, прибывший чуть позже, скоро сам себя называл «послом в собачьей конуре». Бальфур считал, что холодное отношение к нему проистекало из того факта, что «большое число влиятельных персон, многие из которых в свое время были сторонниками стран «оси», питали неприязненные чувства к протестантской и демократической Британии». К тому же Стентон Гриффитс быстро завоевал симпатии испанцев, посетив корриду, во время которой обезумевший бык перепрыгнул заграждение и свалился прямо к его ногам. Фотографии этого происшествия обошли все газеты под заголовком «Испанский бык приветствует нового американского посла». Умиленный каудильо вскоре устроит Гриффитсу особенно пышный прием.
Впрочем, британский посол поначалу был тоже встречен с большой помпой. Во время поездки по улицам Мадрида в карете XVIII века, запряженной шестеркой лошадей с плюмажами на головах, его сопровождали «церемониймейстер по встрече послов» с кучерами, форейторами и лакеями на подножке и мавританскими уланами верхом на конях с позолоченными копытами. Из опасения, что антибританские чувства могут обернуться вспышкой насилия, офицер гвардии с саблей наголо сдерживал толпу. Однако Бальфур не отметил «ничего, кроме проявлений симпатии», среди зрителей. Встреченный во дворце «расфуфыренными чиновниками» и исполнением гимна «Боже, храни короля», посол со свитой прошествовал через анфиладу «великолепных комнат» до небольшой приемной, где его ожидал «любезный и обходительный» каудильо в парадной адмиральской форме, скроенной на манер ласточкиного хвоста. Франко оказался, вспоминает Бальфур, «таким маленьким, что, когда он сидел, казалось, его ноги не доставали до пола», а его «манеры напоминали манеры человека, который хочет встретить друга, вернувшегося в раскаянии после несправедливых обвинений». Несмотря на всю помпезность церемонии, Бальфур вынес впечатление, что испанская диктатура была творением «хилых любителей по сравнению со сталинской Россией или нацистской Германией».
Не зная этого ехидного отзыва, Франко еще раз попытался впечатлить дипломатический корпус на свадьбе своей дочери Ненуки и не имевшего особого веса в обществе плейбоя, доктора Кристобаля Мартинеса Бордиу маркиза де Вилья-верде, 10 апреля 1950 года. В качестве ничего не значащего жеста по отношению к миллионам голодающих прессе были даны инструкции не сообщать о потоке частных подарков по этому случаю, а официальным учреждениям и торговым фирмам вообще запретили делать подарки. На свадьбе, проходившей с почетным караулом и военными оркестрами, находились сотни гостей, в том числе дипломатический корпус в полном составе и блистательная коллекция аристократов. Невеста пошатывалась под тяжестью своих драгоценностей, а жених щеголял в наряде рыцаря Гроба Господня с мечом и в шлеме с плюмажем. Дабы не ударить в грязь лицом, сам Франко был в роскошной форме генерал-капитана вооруженных сил. Сопроводив невесту в часовню дворца Эль-Пардо, разволновавшийся каудильо с трудом набрался сил, чтобы занять место рядом с алтарем, предназначенное для главы государства.
Для церемонии был избран услужливый кардинал Пла-и-Даниэль. И он не подвел каудильо, призывая новобрачных следовать примеру «семьи из Назарета» и «образцового христианского очага главы государства». Более склонный идти по стопам второго, чем первого, избранник Ненуки, маркиз де Виль-яверде, очень скоро принялся на всю катушку использовать семейную фамилию. В народе его прозвали «маркиз де Vayavida» (Ну и жизнь. — Исп.). Ему не потребовалось много времени, чтобы сколотить себе состояние посредством различных торговых махинаций вроде импорта из Италии мотоциклов «Веспа». Народные юмористы эту марку быстро расшифровали как аббревиатуру: VESPA — Villaverde Entra Sin Pagar Aduana (Вильяверде Ввозит, He Платя Таможенной Пошлины. — Исп.). Молодая чета приобрела огромную недвижимость в пригороде Мадрида и быстро заняла место брата Франко, Николаса, в качестве фаворитов в Эль-Пардо. Но если Франко надеялся, что замужество дочери как-то компенсирует разрыв его родителей или отсутствие романтики в браке с доньей Кармен, то очень быстро каудильо постигло разочарование. Скоро стало ясно, что замужество Ненуки стало точной копией брака его родителей. И с этим сам Франко оказался не в состоянии справиться. Однажды, когда дочь в расстроенных чувствах попыталась пожаловаться отцу на беспутное поведение своего мужа, он молча выслушал ее, а затем холодно приказал убраться с глаз долой. Тем не менее Ненука подарила ему семь внуков, которых «он окружил ласками и заботой, потакая им во всем» (Пол Престон).
Неудержимая жажда наживы семейства зятя еще больше разожгла страсть доньи Кармен к антиквариату и драгоценностям, из-за которой она заслужила прозвище «донья Ожерелье». Уже давно ходили слухи, что мелкие владельцы ювелирных лавок создали неофициальный страховой фонд для возмещения убытков, после ее хищных набегов. Когда, сразу после свадьбы дочери, донья Кармен узнала, что консорциум ювелиров послал усыпанную алмазами диадему для невесты, которая, согласно договоренности, была затем возвращена, она отправила в магазин слугу, чтобы забрать ее. В другой раз, по слухам, супруга каудильо схватила усыпанный рубинами пояс, преподнесенный Франко каким-то прибывшим с визитом арабским шейхом, и долго, с наслаждением ласкала камни, прежде чем отдать его служащему, чтобы тот отнес подарок в хранилище.
В ярком контрасте с жизнью Франко и его окружения остальная Испания продолжала страдать от дальнейшего ухудшения экономического положения. К концу 1950 года рост заработной платы трудящихся составил едва ли половину от роста цен. В результате неэффективного ведения сельского хозяйства Испания была вынуждена импортировать продукты питания, тратя на это постоянно уменьшающиеся валютные резервы, а частые отключения электричества заставляли простаивать фабрики и заводы, что еще больше сокращало заработную плату трудящихся. Среди рабочих назревали волнения. 11 марта 1951 года Франко открыто призвал их быть реалистами и умерить свои требования. Забыв на время собственную убежденность, что он правил страной изобилия, каудильо заявил о своей решимости «вымарать из сознания испанцев их детское заблуждение, что Испания — богатая страна, что она богата полезными ископаемыми». Вполне понятно, что, не слишком расположенные внимать его призывам к умеренности, рабочие в Барселоне открыто взбунтовались, когда гражданский губернатор, вызывавший всеобщую ненависть, по собственному почину поднял цену на трамвайные билеты. Прозвучали призывы объявить всеобщую забастовку 12 марта 1951 года. В волнениях, как повелось, обвинялись коммунистические агитаторы, но в этот раз в забастовке участвовали отдельные фалангисты и члены рабочей католической организации (ХОАК). Несмотря на зловещее прибытие к Барселоне трех тральщиков и появление на улицах города морских пехотинцев, большого кровопролития удалось избежать, поскольку генерал-капитан Барселоны, генерал Хуан Баутиста Санчес, отказался вывести из казарм войска гарнизона для подавления беспорядков. Гражданский губернатор потерял свой пост.
Волна недовольства докатилась до Страны Басков в апреле 1951 года, когда забастовали двести пятьдесят тысяч рабочих промышленных предприятий. И снова к левым присоединились фалангисты и члены ХОАК. Франко немедленно объявил забастовщиков уголовными преступниками, обвинил международные круги в экономических проблемах Испании, а уличные беспорядки отнес на счет заговора британских и французских масонов. А заодно уж он присовокупил несколько жалоб по поводу Гибралтара, возможно, с целью отвлечь внимание общества от домашних проблем. Бальфур, впрочем, полагал, что Франко был действительно убежден, что он просто исполнял наказ королевы Изабеллы Католической — никогда не отчуждать Гибралтар от Испанской Короны. Редкий день не проводились аресты, полицейские облавы и военные трибуналы. Лидеры забастовок, коммунисты и анархо-синдикалисты, получили по пятнадцать — двадцать лет тюремного заключения, было вынесено два смертных приговора, а несколько человек оказались застрелены «при попытке к бегству». Многие заключенные умерли в тюрьме от побоев.
Несмотря на все это, как и предсказывал Франко, ход истории менялся в его пользу. В рамках политики «холодной войны» западным союзникам было очень удобно рассматривать его репрессивные акции как достойный похвалы, решительный отпор коммунизму, а его жесткое трудовое законодательство делало Испанию очень привлекательной для иностранных инвесторов. Неудивительно, что Франко все с большим апломбом игнорировал попытки дона Хуана обсудить восстановление монархии «для всех испанцев». (Возможно, каудильо казалось, что, передав ему своего сына, дон Хуан лишился всякой возможности предъявлять права отцовства и на Хуана Карлоса, и на испанский народ.) Ко всему прочему и президент Трумэн говорил: «Мне не нравится Франко и вряд ли понравится в будущем, но я не позволю, чтобы мои личные чувства возобладали над убеждениями наших военных». А военные были убеждены, что Франко не похож на «типичных европейских и латиноамериканских диктаторов», и предлагали оплачивать переоборудование испанских военно-воздушных баз и портов, чтобы они могли принимать американские тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Чрезвычайно довольный самим собой, каудильо потребовал от Запада помощи, достаточной для повышения боеспособности армии, дабы она могла защитить Испанию от Советов, а также для смягчения продовольственного кризиса в стране.
18 июля Франко назначил новый, политически реакционный, но экономически прогрессивный кабинет министров, в котором на первый взгляд усиливалась власть фаланги. Генерал Агустин Муньос Грандес, который командовал «голубой дивизией» в войне против СССР и получил награду из рук Гитлера, стал ответственным за будущие переговоры с американцами в качестве министра обороны. Верный Кар-реро Бланко, которому пришлось решить свои семейные проблемы, дабы не впасть в немилость у пуританки доньи Кармен, был назначен секретарем кабинета министров (на деле главой политического штаба Франко). В правительство возвратился Раймундо Фернандес Куэста на должность министра — генерального секретаря «Движения», а Хосе Антонио Хирон остался на посту министра труда. Ревностный католик, Хоакин Руис Хименес стал министром образования, а другой католик, ветеран «голубой дивизии», Фернандо Ма-риа де Кастиэлья, был отправлен в Рим для ведения переговоров о Конкордате14 с занимавшим все более враждебную позицию папским престолом.
Когда преграды между Испанией и остальным западным миром начали рушиться, Франко решил, что было бы полезно и предусмотрительно признать недостаточность своих познаний в качестве экономиста и позволить сделать правительству первые пробные шаги в сторону от провалившейся политики автаркии. (Тем не менее, хотя главный идеолог этой политики, Хуан Антонио Санчес, был выведен из кабинета министров, он продолжал оказывать определенное влияние, будучи президентом государственного холдинга ИНИ*.) А тем временем каудильо продолжал сеять семена тревоги и сомнения у Соединенных Штатов, утверждая, что лейбористская партия в Великобритании немногим отличается от коммунистической, а французы погрязли в бесконечных масонских заговорах. Его поведение лишний раз убеждало британское и французское правительства, что общение американцев с Франко серьезно подрывают целостность позиций западного мира.
В октябре 1951 года, когда консерваторы вновь пришли к власти в Великобритании, довольный Франко, отбросив на время свой гнев против английского империализма, встречал британского эмиссара, графа Бресборо, как давно утраченного друга. В беседе с ним, забыв о своем тесном сотрудничестве с американцами, Франко даже весело посмеялся над непоследовательностью политики США. Очарованный граф заявил, что Франко «...не соответствует устоявшемуся представлению о типичном диктаторе. Он говорит с такой простотой, обходительностью и естественностью тихим, лишенным излишней аффектации голосом», однако Бресборо добавил: «Менталитет диктатора явно проявляется только в его полнейшей убежденности, что любое высказанное им мнение является неоспоримым и окончательным по любому вопросу».
В быту Франко был столь же скользким. Он не всегда соразмерял дистанцию как в политике, так и в личных отношениях. Способный на стихийные проявления теплоты и непосредственности с совершенно незнакомыми иностранными сановниками, каудильо не позволял ни малейшей фамильярности в отношениях с друзьями и близкими соратниками: Макс Борелл, муж Ненуки и Карреро Бланко должны были обращаться к нему не иначе как «ваше превосходительство. Хосе Антонио Хирон, министр труда, фалангист, жаловался, что «Франко чрезвычайно холоден той холодностью, от которой временами замерзает душа». Пакон разочарованно замечал: «Каудильо открыт и общителен лишь с теми, кто превосходит его, либо с льстецами, которые осыпают его подарками и ублажают, но он холоден, как лед, с большинством из нас, ибо мы не льстим ему, мы ведем себя нормально и говорим ему обо всем с лояльной откровенностью, нравится ему это или нет».
Поскольку американцы не торопились что-либо предпринимать в отношениях с Испанией, победа генерала Эйзенхауэра на президентских выборах в 1952 году весьма воодушевила Франко. Он сразу же поспешил подчеркнуть общие интересы, объединяющие не только их страны, но и его самого с президентом США. В основном эта схожесть выражалась в стремлении Франко как можно чаще появляться в генеральской форме, а также в публикации фотографий, на которых каудильо играл в гольф или стоял у мольберта в большой фетровой шляпе и невообразимом полосатом костюме. Каудильо с подобострастием говорит о «прекрасном самопожертвовании Америки в Корее». Он даже предложил послать в помощь Соединенным Штатам дивизию волонтеров под командованием испанских офицеров, но потом был вынужден с раздражением признать, что «формально эту войну вела Организация Объединенных Наций, а она исключила Испанию из своих рядов».
Теперь перед Франко стояла непростая задача убедить себя и всех жителей Испании в том, что западные тираны-империалисты на самом деле были верными друзьями и союзниками. Невзирая на его способность ко всему приноравливаться и гибкость идеологических убеждений, этот деликатный процесс ни к чему не привел из-за обычных отступлений от взятого им курса и политических неудач. Подписание Конкордата с Ватиканом в августе 1953 года оказалось для Франко желанной передышкой в мучительной ситуации. А 21 декабря 1953 года его ждал еще один приятный сюрприз: Пий XII преподнес Франко, по выражению палы, «нашему возлюбленному сыну», главную ватиканскую награду — высший орден Христа.
После того как в конце концов 26 сентября 1953 года был заключен с Соединенными Штатами Пакт об обороне, Франко получил двести двадцать шесть миллионов долларов, предоставленных Америкой для нужд военной промышленности Испании. Общая экономическая помощь свелась к нескольким строительным проектам, которые предположительно имели военное значение. В свою очередь, Франко отказался от нейтралитета и, убежденный в том, что коммунисты были готовы в любую минуту броситься в атаку, весьма опрометчиво разрешил США постройку многочисленных баз рядом с крупными городами. Любую же критику по поводу его тесного общения с американцами Франко старался пресекать на корню, пытаясь представить всю ситуацию как «вторую победу над коммунистами». Однако, несмотря на огромные экономические выгоды для его режима, каудильо очень скоро пожалел о подписанном соглашении. Как он выразился, «самое лучшее, что американцы сделали для нас, было то, что они опустошили мадридские бары и публичные дома, поскольку практически все шлюхи повыскакивали замуж за американских сержантов и солдат». И хотя Франко считал, что договор с США окончательно укрепит его власть, в реальности он ослабил чувство «единения в осаде», которое имело решающую политическую и психологическую роль, как для самого каудильо, так и для его режима.
Вспышка доброжелательности по отношению к Великобритании у генералиссимуса улетучилась еще ранее, как только он узнал, что недавно коронованная Елизавета II собирается в 1954 году нанести визит в Гибралтар. В августе 1953 года его эмоциональная речь, в которой он охарактеризовал Британию как страну, «ослабляющую нашу Родину, создающую проблемы для нашей нации, подрывающую устои правящих кругов, провоцирующую волнения в колониях, а также способствующую революционным настроениям среди масонов и левых интернационалистов», была негативно встречена и в Лондоне, и в Вашингтоне. Так же, впрочем, как и принятое им в начале следующего года решение разрешить фалангистам — по обычаю, снабженным булыжниками, которые предусмотрительно доставляли в грузовиках — провести демонстрацию перед зданием английского посольства в Мадриде.
Спорадически вмешиваясь, только во вред делу, в сферу международных отношений, Франко решил, что вполне может позволить себе расслабиться — к чему, собственно, он всегда имел большую склонность. Когда каудильо не охотился, не стрелял и не рыбачил в обществе Макса Воррелла, он проводил время за игрой в гольф, смотрел бесконечные вестерны в личном кинотеатре в Эль-Пардо или же отправлялся в свое большое поместье Вальдефуентес. Франко также посвящал много времени живописи, совершенствуя свою скорее напыщенную, нежели профессиональную манеру письма. Однако подлинной страстью каудильо стал склеп в Долине павших («еще одна женщина» в его жизни). Завершенный в 1954 году, этот вздымающийся к небу монумент отражал представления Франко о своем месте в истории. И хотя националисты решили, что испанская архитектура, очищенная от модернистских тенденций, возьмет за основу «самую сущность блистательного века Испанской империи, создавшей государства в Америке, и глубокий и совершенный символ: Эскориал», вся концепция Долины павших больше напоминала египетскую пирамиду. Только крест весил сто восемьдесят одну тысячу шестьсот двадцать тонн и уходил вверх на сто пятьдесят метров. А в ширину он достигал сорока шести метров. Этим огромным памятником самому себе Франко, без всякого сомнения, надеялся не только компенсировать собственные физические и сексуальные недостатки, а также обессмертить себя, но и оставить после своего ухода из жизни грозное и вечное напоминание республиканцам, что они были разгромлены и уничтожены не кем-нибудь, а полубогом. Слова Альберта Шпеера о том, что страсть Гитлера к огромным и устрашающим зданиям являлась «отражением тирании», можно справедливо отнести и к генералу Франко.
Мания величия каудильо мешала его отношениям с доном Хуаном. Когда в 1954 году Хуан Карлос закончил свое обучение с частными преподавателями и получил среднее образование, соображения Франко о его следующих шагах никак не совпадали с представлениями по этому поводу дона Хуана. Тот хотел, чтобы его сын поступил в университет в Лувене. А Франко настаивал, чтобы принц пошел учиться в военную, морскую и воздушную академии, затем какое-то время посвятил бы изучению социологии и инженерного искусства в Мадридском университете, а уж потом приступил бы к серьезным занятиям в области управления под «личным присмотром каудильо». Ледяное письмо генералиссимуса не оставило у дона Хуана никаких сомнений в том, что любое вмешательство с его стороны в процесс обучения сына не оставит ни малейшей надежды на «установление монархии в нашей стране».
Однако, несмотря на то что дон Хуан чувствовал себя совершенно беспомощным перед каудильо, многие его сторонники так не считали. Франко ничего не мог поделать с бурными всплесками народных симпатий к бурбонской монархии. Осенью 1954 года испанцы из всех слоев общества тысячами стекались в Португалию на торжества по случаю совершеннолетия дочери дона Хуана, инфанты Марии дель Пилар. Однако еще большую тревогу у каудильо вызывало появление так называемой «Третьей силы», которую создали военные — верные сторонники Франко — в союзе с приверженцами короля и членами Opus Dei, влиятельной группой, состоящей из светских католиков. Эта организация стремилась к восстановлению традиционной монархии во главе с доном Хуаном, хотя и в рамках «Движения». Несмотря на то что Франко убрал из Верховного Совета научных исследований Рафаэля Кальво Сереру, который сам себя назначил идеологом «Третьей силы», ее призывы, глубоко проникшие в сознание людей, появились вновь во время муниципальных выборов, состоявшихся 21 ноября 1954 года в Мадриде. По мнению их устроителей, эти выборы, проводившиеся впервые после гражданской войны, абсолютно правдиво отражали волю народа, ибо треть муниципальных советников «избиралась» «отцами семейств» и замужними женщинами старше тридцати лет. Блас Перес, министр внутренних дел, использовал свое отнюдь не незначительное влияние для того, чтобы обеспечить победу фалангистам, в результате чего кандидаты, выдвинутые монархистами, оказались жертвами настоящей кампании по их запугиванию, развернутой фа-лангистскими головорезами. Тем не менее монархисты утверждали, что им удалось получить шестьдесят процентов реальных голосов. Когда они пожаловались Франко на то, каким образом результаты голосования преподносились в прессе, каудильо казался ошеломленным. Настоящим же кошмаром для него стало заявление генерала Хуана Вигона, который сообщил ему, что основная часть Мадридского гарнизона проголосовала за восстановление монархии. Франко же, вместо того чтобы сделать для себя соответствующие выводы о все более распространяющихся монархических настроениях в обществе, сделал жесткий выговор дону Хуану, возмущаясь поведением его сторонников.
Когда 9 декабря у каудильо родился первый внук, названный Франсиско Франко, генералиссимус получил возможность убрать дона Хуана с политической арены и основать собственную династию. Отец ребенка, Кристобаль Мартинес Бордиу, который, по понятным причинам, проявлял живейший интерес к этому вопросу, пытался всячески убедить Франко нарушить испанские традиции и изменить фамилии отца и матери. Однако, несмотря на то что каудильо и был какое-то время вроде бы увлечен этой идеей, по-настоящему он никогда не думал о ней. Одно назначение наследника уже влекло за собой риск общественной обструкции, а по отношению к безжалостному зятю генералиссимус испытывал особое недоверие. Совершенно очевидно, что для Франко было намного спокойнее иметь в качестве преемника своего «суррогатного» сына, Хуана Карлоса, чьи претензии на трон, как надеялся каудильо, будут направлены против собственного отца, а не против него самого, чем провоцировать опасные амбиции внутри семьи. Кроме того, Франко хватался за любую возможность соблюсти видимость законности, опять же чтобы не подвергать риску свое политическое положение. Тем не менее каудильо считал необходимым нарушить преемственность Бурбонов в престолонаследии. Он предпочитал посадить на трон Хуана Карлоса, а не его отца, дона Хуана, который, являясь законным наследником, сделал бы положение Франкощолитически уязвимым, а его режим незаконным и временным отклонением в истории, вместо того чтобы оказаться частью прославленного пути от средневековых королей до монархии XX века. И поэтому каудильо активно использовал страх людей перед очередной гражданской войной, которую могло вызвать возвращение дона Хуана в качестве главы государства с его разговорами о выборах и желанием стать «королем всех испанцев».
Однако, стремясь изменить политику монархистской оппозиции, Франко все-таки соглашается провести с легитимным наследником встречу, которая состоялась 29 декабря 1954 года в поместье Лас-Кабесас в Эстремадуре. Дон Хуан, источая любезность и уверенность в себе, старался убедить Франко в том, что его режим лишь выиграет благодаря социальной справедливости, независимой прессе, непредвзятому суду, свободным профсоюзам и различным по политической окраске легальным партиям. Ответ каудильо, по обыкновению, отличался пространностью и отсутствием какой-либо ясности. Однако, изначально стремясь получить одобрение со стороны дона Хуана, Франко намекнул ему, что в будущем он вполне мог бы поделить функции главы государства и главы правительства. Но затем признался — в порыве наивной откровенности — что такое положение дел его бы не слишком устроило, поскольку, как выразился генерал, «если я останусь главой государства, общественное мнение будет винить меня за все плохое, а все хорошее будет ставиться в заслугу главе правительства».
В конце концов из туманных разглагольствований Франко стал вырисовываться истинный смысл его слов: если дон Хуан не согласится, чтобы принц обучался под надзором каудильо, тот будет рассматривать его отказ как отречение от престола. В результате был достигнут негласный компромисс, по которому Франко получал возможность обучать Хуана Карлоса по своему усмотрению, но дон Хуан сохранял свои права на трон. Когда оба политика договорились о том, чтобы выделить двух надежных людей, которые бы поддерживали между ними связь в этой деликатной ситуации, Франко, вечно подозревавший всех без исключения, был поражен, что таких людей у дона Хуана оказалось великое множество. В результате встречи в Лас-Кабесасе было выпущено официальное совместное коммюнике, в котором безоговорочно признавались права Бурбонов на престол.
В январе 1955 года Хуан Карлос вернулся в Мадрид, где под руководством строгих учителей-военных начал готовиться к вступительным экзаменам в военную академию Сарагосы. В то время как все эти события чуть поубавили пыл у монархической оппозиции, присутствие молодого принца в Мадриде вызвало недовольство среди представителей правящей верхушки, выступающих против восстановления монархии. Что касается самого Франко, который не уставал подчеркивать свое право на выбор преемника, гарантировавшего дальнейшее существование режима, то он был очень рад видеть рядом с собой Хуана Карлоса. Бедному юноше пришлось выслушивать бесконечные лекции о том, что общение с аристократией опасно и что нужно быть ближе к простым людям, которые «морально здоровее и менее эгоистичны» (это убеждение генерала сильно отличалось от взглядов, которые он исповедовал сразу после гражданской войны). Кроме того, из них выходили настоящие патриоты в отличие от испорченного высшего общества. Активное участие Франко в образовании принца принесло свои плоды. Когда осенью 1955 года Хуан Карлос приступил к учебе в военной академии в Сарагосе, он вдруг обнаружил, что упорное нежелание каудильо возвращать на престол законного наследника — его отца — разделяли многие офицеры, которые были готовы защитить свои взгляды с помощью очередного военного путча.
К этому времени Франко, озабоченный проблемой преемника, свел свое участие в работе правительства к встречам консулов и послов во дворце Эль-Пардо. Но каждую пятницу он неизменно возглавлял бесконечные заседания, поражавшие министров невозможностью сходить на обед или отлучиться по естественной нужде иногда на протяжении девяти часов. Однако Франко не забывал и о своих увлечениях. Стремясь всеми силами сохранить связь с каудильо, целая свора придворных лизоблюдов следовала за ним по пятам во всех его долгих охотничьих походах, надеясь получить политические дивиденды. Они обращались с ним как с избалованным ребенком, отчаянно работая локтями в надежде первыми предложить генералиссимусу вкусную закуску, выразить восхищение его охотничьими подвигами и заверить, что среди присутствующих самое большое количество трофеев принадлежит ему.
В 1954 году ситуация в Марокко потребовала от каудильо пристального внимания к этой заморской территории. Испанский верховный комиссар, после настоятельных рекомендаций Франко, проявил совершенно не типичный для него интерес к «развитию марокканского народа», начав активно помогать марокканским националистам во французской зоне, снабжая их оружием и деньгами. Об испанской части Марокко генералиссимус беспокоился гораздо меньше, полагая, что она будет готова ставить вопрос о предоставлении независимости лишь лет через двадцать пять. В августе 1955 года, когда Франция, находясь под сильным давлением во Вьетнаме и Алжире, отменила военное положение в своей зоне Марокко и вернула на трон султана, Франко не смог оценить всей важности этого события для испанского сектора. Игнорируя настойчивые советы некоторых близких ему политиков развернуть широкомасштабную деятельность по привлечению инвестиций в социальные программы в Марокко, генералиссимус отделывался лишь общими обещаниями о будущей независимости государства. А когда, как и предсказывали его советники, там начались националистические выступления, они были жестоко подавлены. С принятием декларации о независимости французского Марокко 2 марта 1956 года в испанской зоне начался повсеместный бунт. 15 марта Франко был вынужден объявить, что Испания отказывается от своего протектората. Понимая, хоть и с большим опозданием, что на этот раз без серьезной лести и реверансов (в сторону властей Марокко) не обойтись, Франко решил устроить особенно щедрый прием султану Мухаммеду V, который 4 апреля прибыл в Испанию с визитом. Однако, не-
11 Ходжес Г.Э.
смотря на личный «роллс-ройс» каудильо, королевский эскорт из эффектно наряженных всадников, марокканской гвардии, и ликующей толпы встречавших его испанцев, это не смягчило холодность высокомерного султана. После встречи, прошедшей в крайне напряженной и неловкой обстановке, уязвленный Франко был вынужден признать, что марокканцы отнюдь не боготворили испанского каудильо, а его «глубокое понимание психологии мусульман» оказалось на поверку весьма поверхностным. Декларацию о независимости испанского сектора Марокко подписали 7 апреля 1956 года. Испания потеряла практически все свои колонии в Африке, сохранив лишь несколько изолированных сторожевых постов — Мелилью, Сеуту и территорию Ифни. Это был конец имперским мечтам Франко, которые он лелеял, еще будучи кадетом.
Усилия, потребовавшиеся каудильо, чтобы хоть как-то примириться с развалом империи и нереализованными внутренними амбициями, довели Франко до крайности. Потеря Марокко бросила вызов целостности его личности и представлению о себе как об отце нации. Это поражение разом уничтожило едва ли не главную идеологическую составляющую его режима, заключавшуюся в неистребимом желании отомстить за позорную потерю Кубы в 1898 году, а блестящие победы, одержанные «африканцами» в не столь давнем прошлом, потеряли свое величие и всякий смысл. Впоследствии Франко пришлось расстаться с любимым отрядом марокканских охранников — самым наглядным символом его королевских амбиций, а также террора, на котором держался весь режим каудильо. И таким образом, представление генералиссимуса о себе как о современном Сиде, ведущем свой народ к триумфу империализма, превратилось в бессмысленную фантазию. Будучи человеком прагматичным и гибким, Франко, проанализировав это символичное поражение, впал в глубокую депрессию. Он больше не мог ни притворяться, ни лгать даже самому себе, что потеря Марокко не касалась его лично. И хотя на публике Франко выглядел спокойным и невозмутимым, это страшное унижение вызвало первые симптомы неизлечимой болезни: застывший взгляд, дрожь в руках, эмоциональную и умственную прострацию, которые позже превратятся в болезнь Паркинсона. Озабоченный состоянием Франко, Пакон стал замечать, что во время семейных обедов каудильо часто сидел в полном молчании и, уставившись в пустоту, рассеянно жевал зубочистки.
Пока потрясенный Франко, пребывая в депрессии, предавался воспоминаниям и размышлениям о прошлом, испанское общество двигалось совершенно в другом направлении. Небольшой поток туристов, который к 1960 году превратился в настоящую лавину, неумолимо открывал для испанцев безбрежные границы политической и сексуальной свободы. Эмиграция испанских рабочих на север, в Западную Европу, в поисках работы, появление транснациональных компаний, влияние, оказываемое новыми источниками информации, такими как кино, газеты и особенно телевидение, — все это постепенно стало разрушать международную изоляцию Испании и эмбарго на новости, наложенное на страну еще с 1939 года. Еще в 1951 году в угоду переменам, происходящим в обществе, министерство образования (контролируемое католической церковью) передало цензуру в ведение новоиспеченного министерства информации и туризма, но она по-прежнему оставалась такой же жесткой, как и прежде. А осознав всю мощь влияния и эффективности телевидения в качестве источника пропаганды, режим поместил телевещание в еще более жесткие рамки, чем кино и театр. Однако, невзирая на постоянный контроль, телевидение стало настоящим окном в мир.
Казалось, ничто не могло остановить испанцев от общения с иностранцами, чьи взгляды на демократию и коммунизм существенно отличались от взглядов каудильо. Морально задавленные, убежденные своим лидером, что их ненавидят, потому что (как сказал один испанец Джералду Брена-ну) они «не такие, как другие народы, а просто плохие, очень плохие люди», жители страны стали постепенно догадываться, что западная демократия ополчилась вовсе не на них, а непосредственно на сам режим. Испанцы возликовали, поняв, что «изоляции пришел конец, и после стольких лет позора это казалось для них настоящим чудом». С другой стороны, как выразился некий убежденный националист в беседе с Джералдом Бренаном, «между нами говоря, мы все дискредитировали Испанию... Нет практически ни одной семьи, которая не смотрела бы покорно на то, как их близких убивают, подобно безропотной скотине». К сожалению, пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем испанцы смогут избавиться от мифа, вдалбливаемого им на протяжении сорока лет пропагандой Франко, что они являются природным злом и заслуживают наказания.
Неудивительно, что в обществе, зажатом в жесткие политические и культурные тиски, из всех социальных слоев первыми стали проявлять возмущение студенты. По иронии судьбы именно молодые фалангисты, недовольные системой образования, построенной исключительно на принципах католической церкви, уже к середине сороковых годов открыто выказывали свое недовольство. Теперь же взбунтовались и студенты-либералы, хотя они выросли в семьях, стоявших на стороне победителей во время гражданской войны. Однако уже то, что их обязывали вступать в ряды Студенческого объединения фалангистов (СЕУ), заставило их начать открытые выступления против режима. Молодежь Испании, относящаяся без особого трепета как к устрашающим речам Франко, так и к традиционным религиозным ценностям, в отличие от их запуганных родителей понимала, что политический выбор не обязательно должен был ограничиваться «Франко или коммунизмом». Однако если так считал каудильо, то из двух вариантов испанская молодежь, скорее, предпочла бы последний. Истерия, с которой газеты писали о коммунизме («причине всех бед»), привела к тому, что — как это случилось в начале гражданской войны — параноидные предсказания журналистов превратились в сбывающиеся пророчества. Теперь многие студенты решили примкнуть к крайним левым, среди которых коммунистическая партия стала центром объединения недовольных политическим режимом в стране.
Огромная пропасть между простыми испанскими рабочими, каждый день борющимися за кусок хлеба, и придворными Франко, коррумпированными и расточительными, также оказалась неприемлемой для молодых рабочих, не участвовавших в гражданской войне и не пострадавших от последующих репрессий. Они стали организовывать тайные профсоюзы или революционные кружки. Даже солдаты-фалангисты начали испытывать беспокойство по поводу постоянной отсрочки их «революции» и все большего уподобления Франко «королям-иди-отам». В результате каудильо был вынужден выразить свое отношение к сложившейся ситуации в ежегодном обращении по радио, состоявшемся 31 декабря 1955 года. В своей типичной манере — игнорируя критику и избегая какой-либо ответственности — Франко возложил всю вину за напряженную ситуацию на благодушие, охватившее испанское общество благодаря его успешному руководству страной, и на иностранцев, которые легко этим воспользовались в своих интересах. Он обвинял либеральных интеллигентов в том, что, «несмотря на внешний блеск и шарм, от них так и разит масонством, из-за которого произошли все беды в нашей истории». Его речь стала страшным разочарованием практически для всех жителей Испании. Новоприбывший посол Великобритании, сэр Иво Маллет, заметил, что испанцы воспринимали каудильо как «абсолютного циника, желавшего только одного: удержать власть в своих руках до тех пор, пока он жив, и совершенно равнодушного к тому, что может произойти после его смерти».
В начале января 1956 года в Мадриде студенты-демонстранты прогрессивных университетов столкнулись с сол-датами-фалангистами и гвардейцами Франко, возвращавшимися с торжеств, посвященных памяти фалангиста, убитого во времена Второй республики. Пока студенты бросали камни в полицию и скандировали «Нет СЕУ! Свободу профсоюзам!», толпа солдат хлынула вдоль улиц и, избивая на ходу демонстрантов, ворвалась в здание университета, круша все на своем пути. В наступившей неразберихе прозвучал выстрел, и студент-фалангист упал на землю с простреленной головой. Хотя он и выжил, в то время многие опасались, что разъяренные члены партии, охваченные жаждой мести, захотят нанести ответный удар. Поэтому военный комендант Мадрида вместе с министром обороны, генералом Муньосом Грандесом, и наставником принца Хуана Карлоса, генералом Мартинесом Кампосом, бросились к Франко с уверениями, что действия его гвардии по-настоящему ужаснули их. С ростом паники на улицах Мадрида Франко, по своему обыкновению, предпочел исчезнуть в горах, поохотиться. Вернувшись, раздраженный каудильо, подчиняясь настойчивым советам, был вынужден провести перестановку внутри кабинета. В результате своих постов лишились двое: Руис Хименес, которого Франко считал виновным в студенческих волнениях, и Фернандес Куэста — министр-секретарь «Движения». Первого генерал заменил консервативным фалангистом Хесусом Рубио Гарсиа-Мина, который придерживался обнадеживающего мнения, что «студенты должны учиться», а второго — опасно амбициозным Арресе.
По мере того как современная жизнь становилась все более сложной и запутанной, в правительстве оставалось все меньше тем, по которым не возникали бы бурные споры. Когда 3 марта 1956 года кабинет министров собрался на очередное совещание, он немедленно разделился на два враждующих лагеря. С одной стороны, Хосе Антонио Хирон, поддерживаемый Арресе, выступал за значительные инвестиции в социальные сферы; с другой стороны, Мануэль Арбуруа, министр финансов, настаивал на экономии средств. В результате оцепенение, в котором пребывал травмированный каудильо, вылилось в краткосрочный триумф Хирона, обернувшийся полнейшим экономическим крахом, так как он не сумел предвидеть, что значительное увеличение выплат немедленно скажется на ценах, инфляции и безработице. Франко, пришедший в полнейшее замешательство от противоречивых выступлений, как своих сторонников, так и противников, оставил министров одних ссориться между собой, а сам, чтобы хоть как-то утешиться, сосредоточился на проблеме престолонаследия.
Его позиция по отношению к этому вопросу более-менее прояснилась, когда 29 марта 1956 года его протеже Хуан Карлос, играя с пистолетом, случайно выстрелил в своего любимого младшего брата. По случайному совпадению этот пистолет ему дал не кто иной, как Франко. Альфонсо умер сразу. Через двое суток опустошенный Хуан Карлос вновь надел военную форму. Можно только догадываться, какие чувства испытывал тогда каудильо. Возможно, он восхитился выдержкой принца, или, вполне вероятно, этот несчастный случай заставил вспомнить Франко о его собственных сложных отношениях с младшим братом, Рамоном, которого он не раз грозился пристрелить. В любом случае происшедшее несчастье, судя по всему, лишь укрепило каудильо в намерении сделать Хуана Карлоса своим преемником.
Несмотря на то что политическая система, в которой Франко надеялся запутать молодого принца, оставалась по-прежнему крайне реакционной, никакие предпринимаемые усилия политиков не могли скрыть того факта, что жесткие политические границы, установленные националистами, начали основательно разрушаться. Прежние столпы франкизма, такие как Хйль Роблес, Руис Хименес и поэт-фалангист Дионисио Ридруэхо (в прошлом имевший высокое звание в «голубой дивизии»), признавались, что «по прошествии стольких лет многие из нас, победителей, стали ощущать себя побежденными». Во всех слоях испанского общества появлялось все больше оппозиционных центров. Франко теперь не мог притворяться, что война идет между силами добра и зла, между Испанией и остальным миром или же между националистами и республиканцами; в реальности конфликт существовал между различными сторонами внутри самого режима. По словам Джералда Бренана, даже по «разочарованным и циничным» высокопоставленным фалангистам, которые «до войны были никем, а после нее превратились в крупных латифундистов», стало заметно, что они испытывают «угрызения совести» и «в современной Испании предпочитают занимать оборонительную позицию». В то время как некоторые сторонники Франко пытались скрыть свой позор, полностью отдавшись возрожденному идеологическому пылу, другие восставали против самого режима. Радикальные священники, убежденные в том, что церковь, поправ христианские заповеди, отвратила от себя преданных католиков, которыми был богат простой народ, присоединились к революционному движению рабочих, выступающих за социальные и политические реформы. В апреле 1956 года после очередной волны студенческих забастовок племянник Федерико Гарсии Лорки, убитого националистами, и племянник Кальво Сотело, убитого республиканцами, стояли плечом к плечу на скамье подсудимых — оба заклятые враги Франко.
По мере того как каудильо старел и все больше уставал от политики, психологическое соотношение между различными сторонами его личности — мстительным активным политиком, ленивым циником и нерешительным лидером — изменилось. Современная жизнь, оказавшаяся слишком сложной для того, чтобы разделить ее на традиционные категории добра и зла, заставила Франко впасть в глубокий политический ступор. Пропасть между ним и реальным миром становилась все глубже, и ему приходилось отражать удары политических и социальных сил, которые он уже не понимал и не контролировал.
Глава 9 ЯЩИК ПАНДОРЫ
Апрель 1956 — ноябрь 1975
С Франко невозможно говорить о политике, ибо он тут же начинает подозревать, что ему... готовят замену.
Лопес Родо
Диктатура одного человека превратилась в диктатуру восемнадцати министров.
Хирон
По мере того как различные группировки внутри режима яростно боролись, проталкивая свои идеи, сам Франко, похоже, утрачивал инстинкт, помогавший ему удерживать политическое равновесие. Каудильо жадно ухватился за проект Основного закона, представленный велеречивым и умеющим убеждать Арресе. Реализация проекта должна была вдохнуть новые силы в режим благодаря «тоталитаризации» общества в нацистском стиле. Изложенное фалангистским министром и звучащее чрезвычайно соблазнительно для Франко стремление раздавить коммунизм и либерализм «огнем и мечом» в какой-то степени заслонило от него корыстные планы на будущее самого министра. Они, однако, вызвали значительное беспокойство у других членов правящей верхушки.
Пребывая в счастливом неведении в преддверии неминуемого скандала среди франкистской элиты, весной 1956 года довольный каудильо отправился в турне по Андалусии, выступая с речами о «суперфалангизме и агрессии» перед исступленно приветствовавшими его толпами членов партии. Но церковь была напугана планами Арресе, в которых фашизм вновь зазвучал во весь голос. Даже преданный Карреро Бланко нерешительно заявил, что «в настоящее время Испании необходима традиционная монархия». Франко охотно признал, что Арресе уподобился «несущемуся во весь опор скакуну, которого следовало бы попридержать», однако не выказал желания сделать это в своем выступлении в Национальном совете «Движения» 17 июля 1956 года. Потеряв понятие о времени благодаря обманчивой риторике Арресе, запутавшийся Франко вдруг принялся восхвалять фашистскую Италию и нацистскую Германию, а также едко критиковать демократическую систему, которую, по его мнению, «навязали» Германии и Италии завистливые западные союзники, чтобы подорвать их экономику. Министр иностранных дел Альберто Мартин Артахо быстренько изъял эти антидемократические рассуждения из опубликованного текста.
Но не только анахроничный фашистский пыл Франко вызывал тревогу. Как Пакона, так и генерала Антонио Бар-росо (который заменил Пакона на посту главы «Военного дома» летом 1956 года) беспокоила растущая апатия каудильо по отношению к работе и неудержимая расточительность его семьи. Пакона, уязвленного еще и тем, что он не получил должного признания при уходе в отставку после сорока лет верной службы, особенно раздражали «подвиги» на стезе стяжательства амбициозной доньи Кармен. Однако Франко был больше склонен предаваться неумеренной страсти к охоте, чем заниматься политическими склоками внутри режима. И все же его попыткам избежать выяснения отношений в разругавшемся кабинете министров скоро пришел конец. Это произошло в сентябре 1956 года. Министры резко раскололись в вопросе о Суэцком канале, когда полковник Насер, близкий Франко по духу человек, пытался отобрать у Великобритании господство над каналом в качестве первого шага к объединению арабов от Марокко до Ирака. На особенно бурно проходившем заседании правительства Арресе потребовал сделать антибританский жест, заявив о солидарности националистов с полковником Насером, в то время как Мартин Артахо с горячностью доказывал, что Испания не должна расходиться во взглядах со своим американским союзником в этом вопросе. Франко встал на сторону последнего, хотя втайне он уже поставлял оружие Насеру, что в дальнейшем серьезно осложнит попытки Испании вступить в НАТО. Впрочем, Арресе скоро вновь завоевал расположение Франко, организовав впечатляющее празднование фалангистами двадцатой годовщины его инаугурации в качестве главы государства 29 сентября. А вот Мартин Артахо неосмотрительно отсутствовал на этом событии.
Надежды на реставрацию Бурбонов монархисты стали связывать с Хуаном Баутистой Санчесом, генерал-губернатором Барселоны. Когда в Барселоне была объявлена забастовка транспортников, слухи о том, что Баутиста Санчес активно поддерживал забастовщиков в качестве первого шага для осуществления переворота, обдали холодом душу Франко. Однако таинственная судьба все еще хранила каудильо. 29 января 1957 года Баутиста Санчес умер от сердечного приступа. И когда это вызвало настойчивые слухи, что он был просто убит, непроницаемый каудильо только и сказал: «Смерть оказалась милостива к нему... предотвратив скандальное предательство, которое он едва не совершил».
Тем не менее Франко понял, что следует предпринять меры предосторожности. В феврале 1957 года каудильо произвел смену кабинета, в котором Арресе, ворчавший, что «Испания вновь попала в руки солдат и священников», был переведен в министерство жилищного строительства, дабы он «слегка остыл». Друг детства Франко, генерал Камило Алонсо Вега, стал министром внутренних дел, а Муньос Грандес получил символический пост генерал-губернатора, который прежде сохранял за собой сам каудильо. Преданный генерал Барросо был назначен министром сухопутных сил, чтобы нейтрализовать аппетиты монархистов, рвавшихся к высоким постам в армии. В качестве небольшого подарка твердолобым фалангистам на посту министра иностранных дел Альберто Мартина Артахо сменил Фернандо Мариа де Кас-тиэлья.
Самой важной кадровой особенностью нового кабинета стало включение в него так называемых технократов: Мариано Наварро Рубио на должность министра финансов и Альберто Ульястреса Кальво — на пост министра торговли. Молодой свежеиспеченный адвокат Лауреано Лопес Родо, влиятельный член могущественной светской католической организации Opus Dei, принявший три классических обета послушания, бедности и воздержания, стал заместителем Карреро Бланко. И теперь именно эти люди стали определять политическую стратегию режима.
Однако Франко был не способен добиться равновесия ни в конфликте и сумбуре, раздиравших новый кабинет, ни примирить хаос и противоречия, опустошавшие его собственную душу. Он то рвался вперед, то делал шаг назад, пытаясь найти золотую середину между удобной, но провальной в экономическом отношении идеологией тридцатых годов и эмоционально раздражающей, но политически прагматичной приверженностью экономической модернизации. Стараясь быть выдержанным и вежливым со своими экономическими советниками, каудильо иногда забывался настолько, что клеймил политику собственного кабинета как иностранную, достойную лишь франкмасонов и коммунистов.
Несмотря на всю решимость технократов сдержать резкий рост расходов и галопирующую инфляцию, спровоцированные Хироном, а также незамедлительно добиться большей степени свободы во внешней торговле, экономика продолжала бесконтрольное, все более быстрое падение. И это вызвало волну гораздо более решительных забастовок. Хотя именно политика репрессий и экономической автаркии Франко, его отказ в свое время от иностранной помощи в обмен на нейтралитет, а также склоки и раскол в правительстве поставили Испанию на колени, он немедленно объявил забастовки результатом происков левых и козней зарубежных агитаторов. Сделать же более сложный экономический анализ он предоставил своим министрам.
То, что Франко терял интерес к политике, проявилось самым пугающим образом во время кризиса в Марокко в ноябре 1957 года. Каудильо крайне неохотно реагировал на многочисленные донесения об антииспанской деятельности в Ифни, одном из немногих оставшихся у его страны пограничных аванпостов на атлантическом побережье в северной Африке. Когда все это завершилось вторжением марокканских партизан, он поспешно отдал приказ о переброске испанских частей в Африку по воздуху, на устаревших немецких самолетах. Но поскольку возмущенные генералы без колебаний указали ему, что эта акция запоздала, Франко пришлось с позором пойти на вынужденное мирное соглашение в июне 1958 года. Это оказалось последним гвоздем, вбитым в гроб, в котором упокоились его великие имперские грезы. Травмированный каудильо едва смог собраться с силами, чтобы осудить новую волну забастовок на угольных шахтах в Астурии и Каталонии, упрямо виня во всем иностранных агитаторов и леность рабочих.
Эти симптомы политического упадка все же не заставили его сконцентрироваться на мысли о преемнике. Гитлер в минуту искреннего самоанализа пожаловался: если отказаться от власти, «на меня тут же перестанут обращать внимание. Все побегут за моим преемником». Вот и Франко очень не хотел назначать своего наследника. Он отлично понимал, что люди обхаживали его ради власти, а не из дружеских чувств. Каудильо был очень обеспокоен тем, что, стоит ему назначить преемника, самого Франко тут же попытаются убрать. Проницательный Лопес Родо должен был действовать крайне осторожно, когда под руководством Карреро Бланко он сформулировал набросок проекта Закона о наследовании, который Франко обнародовал в кортесах 17 мая 1958 года. Включенный в «Органический Закон государства», Декларацию основных принципов «Движения», он создавал законодательные рамки для восстановления католической монархии с Франко в качестве главы государства, которому помогает премьер-министр (вновь созданный пост). В законе нет упоминания о фаланге, но он задуман таким образом, чтобы обеспечить выживание обрисованного в общих чертах «Национального движения» и сохранить франкизм после смерти каудильо. 6 июня 1958 года начальником генерального штаба назначили очень больного Муньоса Грандеса, который должен был стать регентом в случае, если Франко умрет до завершения конституционного процесса. Напуганный всеми этими дискуссиями на темы его неминуемой смерти, каудильо отправился на рыбалку в Астурию, где полностью отдался ловле лосося и форели, что, как он заявил Пакону, «для него лучший отдых от всех трудов и забот».
Однако все его успехи на рыбалке и охоте не могли затушевать тот факт, что крах испанской экономики, взлетевшая до небес инфляция и растущее недовольство рабочего класса оказывали значительное давление на режим. К тому же восшествие на престол в Ватикане либерального папы Иоанна XXIII серьезно затронуло профранкистскую позицию церкви. Как всегда, каудильо во всем винил дона Хуана. В своем особенно бессвязном обращении к народу в конце года Франко сложный экономический анализ, представленный его министрами, щедро разбавил раздраженными диатрибами против «легкомыслия, отсутствия предусмотрительности, расхлябанности, неуклюжести и слепоты бурбонской монархии». Распалившись, он заявил даже, что любой, кто выступает против его режима, страдает «личным эгоизмом и дебильностью». В эту категорию попадало все большее число людей, причем многие прежние сторонники режима начинали выражать беспокойство о будущем страны. Недовольные монархисты вступали в «Испанский союз», чтобы поддержать «народную» монархию, а не монархию, навязанную диктатурой. А триста тридцать девять баскских священников направили письмо испанским епископам, в котором подвергались критике «отсутствие свободы мнений и ассоциаций, методы, используемые полицией, государственный контроль, доктрина о непогрешимости Вождя, слепой конформизм и система официальных профсоюзов». Это был сокрушительный обвинительный акт режиму. Даже церковные иерархи начинали понимать, что, возможно, им следовало бы предусмотрительно дистанцироваться от первоначальной позиции рупора деспотичной диктатуры еще до смерти Франко.
Поскольку экономика продолжала головокружительное, неконтролируемое падение, технократам стало очевидно, что только вмешательство Международного валютного фонда может предотвратить окончательное банкротство государства. Это было весьма неприятной перспективой для страдающего ксенофобией Франко. 6 марта 1959 года правительство приняло долгосрочную программу экономической стабилизации, которая в перспективе «должна дать животворный импульс рынку Испании». Франко впоследствии припишет себе все заслуги, когда по прошествии времени эта программа даст свои плоды и сотворит «экономическое чудо». Однако его единственной заслугой было то, что он переложил бремя ответственности на технократов, а сам отправился на рыбалку. В полной растерянности от в высшей степени сложной современной экономики, к которой оказались неприменимы упрощенческие понятия «плохого» и «хорошего», запуганный своими советниками-ин-теллектуалами из Opus Dei и смертельно уставший от занятия, именуемого «управлением государством», Франко предпочел отстраниться от каждодневного политического процесса.
Поначалу эффект от воплощения плана стабилизации оказался сокрушительным для трудящихся. Девальвация песеты и значительное сокращение государственных расходов как следствие повлекли за собой замораживание заработной платы, рост безработицы, нехватку основных товаров широкого потребления и вынужденное закрытие мелких предприятий. В апреле 1959 года Франко вновь обрел утраченную было веру в себя во время официального открытия Долины павших — где он хотел быть похороненным сам, «когда придет время», — совпавшего с празднованием двадцатой годовщины окончания гражданской войны. Тысячи рабочих были доставлены на автобусах, чтобы они могли присоединиться к руководящим политикам, военным и церковникам на массовой церемонии в базилике. Франко облачился в форму генерал-губернатора, а на донье Кармен была черная мантилья с высоким гребешком. Они направились к особым тронам под королевским балдахином рядом с главным алтарем — тем самым тронам, которые Франко так не хотел разделять с монархом. Раньше это было исключительной прерогативой королей, даже Альфонс XIII пользовался ею в чрезвычайно редких случаях. Сей вызывающий жест, по словам американского дипломата Болака, вызвал заметное раздражение у представителей аристократии, слышались «недовольные перешептывания и судорожные вздохи разочарования». Напомнив о победе в гражданской войне, вызвавшей глубокий раскол в обществе, визгливый Франко в издевательском тоне говорил о побежденных, которым пришлось «глотать пыль поражения», превозносил героизм «наших павших». Его не слишком деликатное решение выкопать останки сотен националистов для перезахоронения в Долине павших не нашло сочувственного понимания у безутешных семей погибших.
Поскольку воспоминания о победной войне пошли на убыль, так же, впрочем, как и поддержка папы римского, Франко ухватился за визит президента Эйзенхауэра, чтобы придать видимость легитимности своей власти. 21 декабря 1959 года президент прибыл в Испанию для обсуждения практических деталей организации американских военных баз. Явное недовольство Эйзенхауэра многократными проявлениями назойливого униженного восторга поутихло, когда выяснилось, что он и Франко являются заядлыми охотниками на птиц. Позднее президент признал, что в этом отношении каудильо был «непревзойденным мастером». Перед отлетом в Соединенные Штаты Эйзенхауэр сердечно обнял Франко. Визит президента вызвал у каудильо приступ маниакального проамериканизма, который, как сухо заметила его сестра, наверняка заставил Гитлера и Муссолини перевернуться в могилах. Сам Эйзенхауэр был приятно удивлен «скромными манерами» Франко и тем, что в «его поведении и обращении не было признаков, которые незнакомого посетителя могли бы навести на мысль, что он находится в присутствии диктатора». В результате президент сделал вывод, что каудильо вполне мог бы победить на свободных выборах, если бы решил провести их. (Несмотря на уверенность Франко, что народ его любит, он не имел ни малейшего желания подвергнуть эту мысль проверке.) Трепетное восхищение Франко американцами скоро резко пошло на убыль. В своем выступлении в конце года он обрушился с яростными нападками на франкмасонство и демократию в том виде, как она практиковалась в Соединенных Штатах и Западной
Европе, сопровождаемыми хвастливыми заявлениями о неуязвимости его режима. Тем не менее каудильо никогда еще не выглядел столь слабым физически. В прессе замалчивалась эта информация, но упорные слухи об ухудшении здоровья Франко ничто не могло сдержать.
Несмотря на недомогание, каудильо продолжал возглавлять все более бурные заседания кабинета (или «скорбные пятницы», как называл их Наварро Рубио), на которых Алонсо Вега разорялся по поводу активных выступлений трудящихся, а Арресе ругался с Наварро. И когда последний в запале пригрозил подать в отставку, если Франко его не поддержит, каудильо— который никогда не ставил личную преданность выше политической выгоды — радостно принял ее 17 марта 1960 года. Спустя два месяца генералиссимус, не раздумывая, принес в жертву еще одного протеже на алтарь собственного выживания. Как-то майским воскресеньем в Каталонии Луис Галин-сога, директор влиятельной каталонской газеты «Вангуардиа» с 1939 года, вскочил со своего места в церкви и яростно обрушился на священника, который воспользовался новым регламентом, принятым правительством, и стал читать проповедь на каталанском языке. Когда стало известно, что в пылу разгоревшегося спора разволновавшийся директор заявил, что «каталонцы — просто говнюки», обиженные читатели объявили газете бойкот. Поскольку публичная обида на вспышку Галин-соги переросла затем в нападки на сам режим, Франко без колебаний выставил на улицу именно опешившего директора, который не без оснований полагал, что он был «голосом своего хозяина». Последовавший затем личный приезд каудильо не смог успокоить каталонцев.
Галинсога оказался не единственным, кто не уловил новые веяния, носившиеся в воздухе. Многие структуры режима с трудом адаптировались к все более широкому жизненному спектру — от репрессивной политической идеологии до социальных изменений, связанных с экономической модернизацией. Появление в Испании «Сеат-600», маленького семейного автомобиля, холодильников, стиральных машин и, что самое важное, телевизоров меняло жизнь людей. С расцветом туризма на побережьях Коста-Бравы, Мальорки и Торремолиноса времена, когда приходилось спускаться к воде в одежде под бдительным оком Гражданской гвардии, не допускавшей «непристойной обнаженности», быстро уходили в прошлое. Молодые парни носились на ревущих мотоциклах, а на пляжах можно было увидеть девушек в бикини. (При всем этом, как писал Джон Хупер, еще в 1959 году «по правилам христианского приличия» испанские епископы считали недопустимым, чтобы влюбленные парочки разгуливали по улицам под ручку.)
Однако для большинства испанцев эти изменения отнюдь не стали свершившейся мечтой. Жизнь за пределами роскошных туристических зон оставалась столь же суровой, что и прежде. Несмотря на решимость вновь навязать «традиционные испанские ценности», Франко сам возглавлял болезненный процесс модернизации, в результате которого толпы сельских жителей ринулись в город в поисках лучшей доли, а традиционная деревенская жизнь подверглась интенсивной эрозии. За десять лет село потеряло почти половину рабочей силы, привлеченной соблазнительными витринами городского процветания. Рабочие-мигранты скапливались в спальных районах на окраинах городов, в которых с каждым днем все больше ощущалась нехватка рабочих мест. Тем не менее огромный приток трудящихся из сельской местности в города оказал сильнейшее воздействие на культурные и социальные изменения во всей стране. Создавалось сложное, плюралистическое общество, которое со временем подорвет авторитарный характер самого режима. Таким образом экономическое чудо, от которого зависело существование режима, посеяло семена его разрушения.
То, что Франко перестал чувствовать пульс народных настроений, было продемонстрировано в конце мая 1960 года. Тогда он запретил выездной и домашний четвертьфинальные матчи по футболу впервые проводившегося розыгрыша Кубка Европы между командами Испании и Советского Союза, опасаясь демонстраций в поддержку коммунистов. Это сугубо идеологическое решение, принятое в тот момент, когда мадридский «Реал» и национальная сборная Испании находились в зените славы, пришлось очень не по вкусу испанским болельщикам. Вынужденный признать, что «спортивные эмоции контролировать трудно», Франко в дальнейшем стал использовать футбол, чтобы отвлекать народ от политических и социальных проблем. Он оказался и сам восприимчив к этой тактике, с головой отдаваясь футболу по телевизору.
19 декабря 1960 года Наварро Рубио обнародовал свой «План экономической стабилизации» для проведения либерализации испанской экономики, подготовленный совместно со Всемирным банком. Прибытие миссии Всемирного банка и воцарение Джона Кеннеди в Белом доме всерьез взволновали каудильо, который за успокоением обратился к Карреро Бланко. Постоянная тень своего хозяина, Карре-ро Бланко 23 февраля 1961 года представил доклад, где утверждалось, что в мире по-прежнему доминируют три интернационала — коммунистический, социалистический и масонский, причем все они полны решимости уничтожить режим Франко. Этот зловещий «анализ» вполне удовлетворил параноидную мнительность каудильо. Но в докладе ни слова не говорилось о том, что подлинный враг находился в самой Испании. Недовольство трудящихся существующим режимом вырывалось сквозь прорехи в репрессивной машине. Даже самые твердолобые фалангисты иногда прерывали выступления каудильо критическими замечаниями, хотя это и грозило им суровыми сроками тюремного заключения. Во время турне по Андалусии весной 1961 года обычно почтительный Алонсо Вега со злорадством сообщил Франко, что приветствовавшим его фалангистам, по-видимому, платили за это. После одной из необычных для него поездок по нищим трущобным поселениям в окрестностях Севильи каудильо был так потрясен, что обратился к богатым андалусийцам с призывом раскошелиться и выправить положение. Конечно же, ему и в голову не пришло взять на себя ответственность за эту ситуацию.
Однако озабоченность Франко социальным неравенством и дешевый популизм скоро сошли на нет. Во время празднования в 1961 году двадцать пятой годовщины вооруженного восстания он выступал с нескончаемыми восхвалениями своего режима и злобными диатрибами против побежденных в гражданской войне. Такого рода речи не слишком способствовали преодолению растущего раскола в испанском обществе.
В конце 1961 года верхушка режима была не на шутку встревожена, когда постаревший каудильо серьезно поранил левую руку на охоте. Поскольку вопрос о преемнике так и остался нерешенным, будущее приспешников Франко вырисовывалось весьма туманно. Даже каудильо, замкнувшийся в неприступном молчании, начал понимать, что было бы предусмотрительно назначить заранее регента-франкиста, который бы контролировал установление авторитарной монархии. Но, как он, вероятно, полагал, все подходящие для подобной задачи кандидатуры — Муньос Грандес, Алонсо Вега и Карреро Бланко — вряд ли переживут его самого.
Каудильо без особых колебаний принял совет Карреро Бланко назначить перспективного и расторопного Лопеса Родо главой комиссариата по осуществлению «Плана стабилизации», центральным планирующим органом, созданным по рекомендации советников из Всемирного банка. Способность Франко к раздвоенному восприятию действительности позволила ему сделать это назначение, вызвавшее переполох в его правительстве, и в то же время хранить глубокие сомнения насчет экономической политики западных демократий. Он с негодованием отверг предложение своих министров подать прошение о вступлении Испании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), которое как он сам, так и Карреро Бланко считали «вотчиной масонов, либералов и социал-демократов». На деле же ЕЭС четко дало понять, что, хотя оно и готово выработать некую форму экономического соглашения с Испанией, ни о каких официальных политических связях не могло быть и речи, пока в стране не произойдут значительные конституционные перемены.
Не только ЕЭС проявляло озабоченность. 12 февраля 1962 года католическая газета «Экклесиа» твердо заявила, что «роскошь и расточительность имущих классов являются вызовом тем, у кого нет самого необходимого для достойного человеческого существования, и создают предпосылки для тяжелой болезни общества». В апреле и мае священники поддержали забастовки, которые быстро докатились от астурийских шахт и сталелитейных заводов в Басконии до Каталонии и Мадрида. Напуганный потоком посланий с выражением солидарности забастовщикам от трудящихся других европейских стран и растерявшийся от того, что многие священники поддержали волнения, Франко обвинил их в подрыве «апостолической веры», а также в том, что они «открывают дорогу коммунизму». Затем, забеспокоившись, как бы эти вспышки недовольства не сыграли на руку монархистам, разнервничавшийся каудильо дал указание замалчивать информацию о бракосочетании Хуана Карлоса с принцессой Софией, прошедшем в Греции 14 мая 1962 года, и настоял на том, чтобы свадебные фотографии не публиковались в прессе. Его усилия оказались напрасными. Как отмечал в то время британский посол, «свадьба принесла испанской королевской семье наибольшую популярность с момента прихода Франко к власти». Свыше пяти тысяч испанцев отправились в Грецию, чтобы выразить поддержку дону Хуану и Бурбонской династии.
Тем не менее попытки Франко посеять семена раздора между доном Хуаном и Хуаном Карлосом начали приносить свои плоды. Против ясно выраженной воли дона Хуана новобрачные решили переехать в Мадрид. Каудильо, требовавший, чтобы его супруге воздавали королевские почести, энергично рекомендовал высокородной чете вести самый обычный образ жизни и стать доступнее для простых людей. И хотя дон Хуан уверял британского посла, что Франко никогда не говорил, будто «Хуан Карлос взойдет на трон вместо своего отца», а кроме того, принц — «слишком хороший сын, чтобы желать этого», он не мог не чувствовать озабоченности насчет собственного будущего.
И озабочен был не один дон Хуан. В начале июня 1962 года большое число испанских делегатов, участвовавших в IV Конгрессе Европейского движения в Мюнхене, включая католиков, монархистов, демократов в изгнании и различных религиозных деятелей, подписали умеренную декларацию с требованием ненасильственной эволюции в Испании. Каудильо немедленно потребовал арестовать их или выслать из страны, а Ариасу Сальгадо, министру информации, приказал развернуть в прессе дискредитирующую делегатов кампанию. Завершилось все это очередной ожесточенной атакой на дона Хуана. Бестактное заявление каудильо, изобличавшее «негодяев, которые в заговоре с красными подают жалкие жалобы в зарубежные ассамблеи», не слишком помогло в деликатных переговорах с Европейским сообществом и не умиротворило оппозицию.
Обвинив во всем Ариаса Сальгадо, Франко согласился на перетряску кабинета. 10 июля в него вошло несколько новых «прогрессивных» технократов. Ариаса Сальгадо на посту министра информации заменил умный и целеустремленный -Мануэль Фрага Ирибарне, задачей которого было сохранять цензуру в быстро развивающемся обществе. Молодой и динамичный Грегорио Лопес Браво, еще один убежденный член Opus Dei, пополнил команду в качестве министра промышленности. Солис сохранил за собой пост министра «Национального движения», что позволяло умиротворить фалангистов, а генерал Муньос Грандес был назначен вице-премьером Совета министров (хотя основная часть ответственности за деятельность кабинета вновь легла на плечи набиравшего все большую силу Карреро Бланко). Чтобы Франко не растерялся от обилия новых лиц, Алонсо Вегу оставили министром внутренних дел.
Чем больше отдалялся от дел каудильо, тем сильнее нервничали его приспешники, чувство личной ответственности у которых было не слишком развито. Как и сам диктатор, они боялись мести побежденных, ругались и дрались друг с другом за внимание вождя, стремясь любой ценой сохранить свое положение после его смерти. Эти группировки уже больше не подразделялись на четкие франкистские категории (фалангисты, монархисты и католики). Они распадались и формировались в новые группы с завышенными, зачастую взаимоисключающими претензиями на будущее. Технокра-ты-«продолжатели» выступали за постепенный переход к франкистской монархии с Хуаном Карлосом в рамках процветающей экономики и эффективной администрации. «Модернизаторы» вроде Фраги были убеждены, что только радикальные политические реформы могут сдержать растущее социальное недовольство. Консерваторы (известные также как «бункер») выступали за немедленный возврат к франкизму жесткого толка.
Хотя различные фракции в правительстве нередко высказывали полярные точки зрения, постаревший, растерянный Франко был готов согласиться с любым членом кабинета по любому вопросу. Возможно, его сбивало с толку, что министры, в особенности Карреро Бланко, занимали то прогрессивную, то реакционную позицию в зависимости от обсуждаемой проблемы. Так или иначе, но новое правительство считалось в обществе динамичным и современным. Фрага прилагал немало усилий, чтобы создать в прессе более мягкий и тонкий образ каудильо, ему в этом вторили и спичрайтеры. В конце своего радиовыступления 30 декабря 1962 года Франко отошел от привычной для него обличительной манеры. Зачитав вслух анализ испанского «экономического чуда», он признал, что, несмотря на быстрый рост производства, резко обострилась социальная напряженность, стало необходимым обеспечить минимальную зарплату.
Однако скоро стало ясно, что режим не способен преодолеть все более растущий разрыв между требованиями свободы культуры (испанцы впервые увидели на экране женщину в бикини лишь в 1962 году) и требованиями политических репрессий, которые иногда исходили из одного и того же сектора общества. Эти внутренние противоречия были ярко проиллюстрированы, когда какой-то каталонский анархист взял в заложники испанского вице-консула в Милане. Архиепископ Миланский и будущий папа Павел VI, кардинал Джованни Баттиста Монтини обратился к Франко с просьбой вынести террористу милосердный приговор. Тогда возмущенные фалангисты волной прокатились по улицам, потрясая плакатами с полуголыми женщинами и скандируя: «Лоллобриджида — да! Монтини — нет!»
Растущие политические ожидания и социальная неустроенность вызвали очередную вспышку забастовок и волнений, режим ответил на них с характерной для него жестокостью. В конце 1962 года коммунист Хулиан Гримау был арестован, подвергнут пыткам и так жестоко избит, что проводившие допрос мучители решили выбросить его в окно с высокого этажа, дабы скрыть раны и следы пыток. Каким-то чудом он выжил, после чего предстал перед военным трибуналом по обвинению в «военном мятеже» (широко толковавшийся термин, под который подпадал любой, кто во время гражданской войны сражался на стороне республиканцев). Появившись на суде с многочисленными травмами черепа, рук и ног, Хулиан Гримау гордо заявил: «Я был коммунистом, остаюсь коммунистом и умру коммунистом». Он оказался всего лишь одним из сотен членов оппозиции, осужденных военным трибуналом в начале 1963 года.
Хотя в интересах самого режима было проявить великодушие, мстительность Франко затуманила его способность к здравой политической оценке. Ни осуждение мировых лидеров и церковных сановников, ни горячие просьбы Кастиэльи проявить милосердие не тронули его. Телеграмма Никиты Хрущева, в которой утверждалось, что «никакими государственными интересами нельзя оправдать то, что человека судят по законам военного времени через двадцать пять лет после окончания войны», устранила последние сомнения, если они у диктатора еще оставались. Гримау был казнен 20 апреля 1963 года. Это вызвало на Западе волну отвращения к Франко. Однако каудильо был не одинок в своей бессмысленной жестокости. Циничная готовность Фраги представить Гримау как «отвратительного убийцу» и полное отсутствие проявлений гуманности у других членов кабинета показали, до какой степени даже министров-«модернизаторов» сделали бесчувственными годы насилия. С большим трудом правительство наконец признало, что политические дела должны рассматриваться гражданскими судами, а не военными трибуналами, но Франко уже закусил удила. Не прошло и четырех месяцев после казни Гримау, как два анархиста были приговорены к смерти варварским способом — через удушение при помощи гарроты. Все это серьезно подорвало доверие Запада к режиму именно тогда, когда его дальнейшее существование зависело от того, станет ли он частью капиталистического мира.
У Франко было достаточно трудностей и с католической церковью. Модель справедливого мира папы Иоанна XXIII, в которой делался упор на право объединения в организации, свободу вероисповедания и перераспределение материальных ценностей, имела мало общего с франкистской Испанией. Либеральные идеалы Второго Ватиканского Собора серьезно подрывали основную заповедь каудильо, гласящую, что он, который посвятил свою жизнь борьбе с ордами безбожников, является посланцем Бога на земле. Франко то приходил к параноидному убеждению, что коммунисты просочились в церковь, то успокаивал себя мыслью, что решения Собора не направлены против него лично. В ноябре 1965 года, комментируя критику диктаторов, прозвучавшую на Втором Ватиканском Соборе, он беспечно заявил своему кабинету: «Ко мне это не относится, но может вызвать проблемы в некоторых странах Латинской Америки». Испанские священники начинали иметь на сей счет совсем другое мнение.
Несмотря на все более громкую критику, исходившую от значительного числа священников, грандиозные празднества в честь «двадцати пяти лет мира» в 1964 году, организованные Фрагой, были открыты торжественным молебном. В средствах массовой информации превозносился дух эпохи Франко, и завершились торжества показом льстивого фильма о достижениях каудильо, где он изображался великодушным отцом народа, который героически спас Испанию от тирании нацизма и кошмара коммунизма. Привычный к лести, Франко лишь снисходительно заметил, что в фильме «слишком много парадов». Тем не менее он конфиденциально сообщил, что собирается отпраздновать и следующие двадцать пять лет.
Торжества были омрачены волнениями в промышленной Астурии. Алонсо Вега ратовал за суровые меры, но Кастиэ-лья и Фрага убеждали Франко, что в сложившихся обстоятельствах более приемлема умеренность. И все же большое число шахтеров были уволены, арестованы и отправлены в тюрьмы. С другой стороны, арест одного коммуниста, который оказался сыном министра авиации, вызвал проблеск человечности у каудильо, который, вспомнив «шалости» своего брата Рамона, с грустью заметил, что такое могло случиться и в самых достойных семьях. Он не уволил министра.
То, что постаревший Франко начал смягчаться, отчетливо проявилось в 1964 году, когда в финале чемпионата Европы по футболу, который должен был проводиться в Мадриде, оказались команды Испании и Советского Союза. Мало того, что каудильо не запретил матч, он решил сам присутствовать на игре. Министры отнеслись к этой идее сдержанно, опасаясь, что каудильо откажется вручить кубок, если победит сборная СССР. А вот сто двадцать тысяч болельщиков восторженно приветствовали его на стадионе, скандируя хором: «Франко! Франко! Франко!» К счастью для режима, Испания победила со счетом 2:1. Гордый тренер команды посвятил эту победу «генералиссимусу Франко, который почтил нас своим присутствием и вдохновил игроков на победу».
С учетом всех обстоятельств нет ничего удивительного в том, что главным, хотя и замалчиваемым, источником беспокойства для испанцев было здоровье их лидера. Как известно, для всех народов мира характерен миф о неуязвимости вождей. Особенно распространен он был в Испании, где уже давно говорилось о нечеловеческой физической выносливости каудильо, что давало ему исключительное право на руководство страной. Подобно детям, которые отказываются замечать немощь своих родителей, многие сторонники Франко охотно соглашались с этим мифом. Однако становилось все более трудно скрывать, что каудильо страдал болезнью Паркинсона, неврологическим расстройством, которое вполне могло быть обострено усердием в выписке лекарств, характерным для врачей диктаторов. Вызывающая тревогу тенденция неожиданно застывать на месте, нетвердый шаг и отсутствующее выражение лица с открытым ртом означали для идеологов режима, что появления Франко на публике должны стать более редкими и недолгими. Считалось, что испанцы предпочитали видеть фотографии убеленного сединами каудильо, приветствующего великих тореадоров, в особенности мужественного, мускулистого и чрезвычайно популярного Кордобеса, чем слушать его гневные диатрибы по поводу событий прошлого. Пресса жадно хваталась за охотничьи подвиги Франко, свидетельствующие о его хорошей физической форме, в то время как любое упоминание в прессе о его немощи грозило журналистам увольнением. Ходила масса анекдотов о бессмертии каудильо. В одном из них ему дарили очень редкую разновидность черепахи, которая могла прожить сто пятьдесят лет, однако вождь отказывался принять подарок, заявив, что будет очень жалеть, когда она умрет.
Несмотря на все претензии на бессмертие, обеспокоенные министры Франко, в том числе и его старый друг Ками-ло Алонсо Вега, настойчиво пытались убедить каудильо назначить преемника. В конце концов Карреро Бланко взял дело в свои руки, заявив на одном из заседаний кабинета, что студенческие волнения и оппозиция интеллигенции — следствие неопределенности в вопросе о наследовании. Кабинет полностью согласился с ним, заставив Франко неохотно выдавить из себя: «Я обещал сделать это, и я сделаю это». Однако серьезная болезнь Муньоса Грандеса, исключившая его из числа возможных преемников Франко, стала для каудильо поводом отложить решение назревшего вопроса.
В июле 1965 года Карреро Бланко убедил Франко произвести перестановки в правительстве. Вроде бы это делалось для поддержания равновесия в кабинете министров, однако в результате основная политическая власть оказалась в руках Карреро Бланко и Лопеса Родо. И хотя Франко продолжал председательствовать на заседаниях правительства, отсутствие у него интереса к этой работе было очевидным. Все более раздражаясь многословными выступлениями своих министров, он как-то ехидно заметил, что перед Алонсо Вегой следует поставить песочные часы. Когда Лопес Родо пожаловался, что пресса «Движения», направляемая Солисом, обругала экономическую политику правительства, Франко выразил возмущение, но ничего не предпринял. Иногда ему самому хотелось обругать эту политику.
13 августа 1965 года упирающегося Франко уговорили отказаться от очередной поездки на охоту и рыбалку, чтобы присутствовать на заседании правительства, где должен был рассматриваться новый Закон о прессе, представленный Фрагой для либерализации цензуры. Хотя Франко всегда являлся ярым противником свободы прессы, в этот раз он вновь оказался на стороне реформистов, противостоящих представителям «твердой линии». Было ли это плодом минутного настроя типа «все, что угодно, ради спокойной жизни», снисходительного отношения к влиянию прессы, которую Франко давно уже не читал, или же он просто осознал, что на деле ничего не изменится, но в конечном счете утомленный каудильо дал согласие на то, чтобы новый закон рассматривался в кортесах в феврале 1966 года. Закон о прессе Фраги отменял предварительную цензуру и руководящие директивы прессе, и сразу же поток исков к издателям и писателям по поводу неприемлемых публикаций вызвал большие перегрузки в гражданских судах. Эта слабая попытка модернизации мало способствовала уменьшению трений в правительстве. Когда Карреро Бланко стал обвинять Фрагу в насаждении публичной аморальности, раздраженный Франко устало воскликнул: «Я уже по горло сыт этой прессой, которая начинает день с вопроса: а чего бы ей сегодня покритиковать?» Он все меньше был склонен заниматься делами. Даже Муньос Грандес жаловался, что «генералиссимус теперь частенько забывает позвонить мне. Сам он в плохой форме и заставляет слишком много работать других».
13 июня 1966 года Франко передал Карреро Бланко окончательный проект «Органического Закона государства», а сам отправился в утомительную поездку по Каталонии. По возвращении из нее он, казалось, больше интересовался предстоящим летним отдыхом, а не обсуждением новой «конституции». И потому правительство прямо внесло ее в кортесы без каких-либо дискуссий. 22 декабря 1966 года каудильо, в темных очках, слабым, едва слышным голосом представил кортесам проект «конституции». Пожаловавшись, что он не мог позволить себе «ни замены, ни отдыха, и даже, наоборот, вынужден сжигать себя, пока не завершит начатое дело», генералиссимус с трудом перечислил главные вехи своего славного правления, достигшего кульминации «в недостижимом темпе совершенствования и прогресса». Вместо политических партий он предложил «легитимное противопоставление мнений» (хотя мнения, которые Франко готов был рассматривать, могли расходиться лишь в очень узком диапазоне). Государство объявлялось монархическим (правда, без упоминания каких-либо имен). Предусматривалось назначение премьер-министра в случае, если этого потребует состояние здоровья Франко.
Кортесы приняли предложенный проект и представили его на одобрение испанскрму народу. Фрага организовал широкую кампанию в средствах массовой информации, представив голос «за» как вознаграждение каудильо за его честное и многолетнее служение испанскому народу, а голос «нет» как пособничество Москве. Подобно отцу, взывающему к неблагодарным детям в поисках понимания и признания, Франко сам обратился к испанскому народу со строгой и укоризненной речью. Он напомнил ему: «Моими поступками никогда не руководило стремление к власти. С ранней юности на мои плечи была возложена ответственность, превышавшая мои силы, годы и положение. Я бы тоже хотел наслаждаться жизнью, подобно множеству простых испанцев, но служение Родине отнимало у меня каждый час и заняло всю жизнь. Вот уже тридцать лет я правлю кораблем государства, оберегая страну от штормов и бурь современного мира. Но, несмотря ни на что, я остаюсь здесь, на моем посту, сохраняя идеалы моей юности и отдавая вам все свои силы без остатка. И разве я попрошу слишком много, если, в свою очередь, обращусь к вам за поддержкой законов, которые только для вашего блага и для блага всей страны выносятся на референдум?»
14 декабря 1966 года восемьдесят восемь процентов зарегистрированных избирателей приняли участие в референдуме по «Органическому Закону», из которых менее двух процентов сказали «нет». Одни сказали «да», отдавая дань прошлому и из почтения к своему вождю, другие — в силу растущего благосостояния, а некоторые надеялись, что это будет способствовать переходу от диктатуры к монархии. Во многом результат был достигнут с помощью запугивания, а также подтасовки и фальсификации (в некоторых местах количество сказавших «да» составило сто двадцать процентов от общего числа избирателей), но в целом подавляющая победа Франко сомнению не подлежала. Взволнованный каудильо поблагодарил испанцев «за воистину подлинное благородство, с которым вы согласились выразить свободно и от всего сердца вашу поддержку и ваше доверие».
На деле же Франко гораздо больше хотелось играть с внуками да заполнять билеты спортивной лотереи, чем заниматься государственными делами, в особенности теми, в которых затрагивались мрачные перспективы его неминуемой кончины. В мае 1967 года он выиграл миллион песет, эквивалент нынешних ста тысяч фунтов стерлингов, по лотерейному билету, в котором он подписался просто «Франсиско Франко, Эль-Пардо, Мадрид». В отличие от некоторых своих министров он с трудом, но собрался с силами, чтобы занять воинственную позицию по поводу ответа ООН, не поддержавшую запрос Испании о Гибралтаре. Словно забыв, что всю жизнь утверждал обратное, в этот раз он заявил: «Не следует полагать, что мы добьемся чего-либо силой». Единственной серьезной мерой могло быть закрытие границы с Гибралтаром.
Муньос Грандес, который еще в феврале жаловался Фра-ге, что «ему ужасно надоело спорить с Франко», в конце концов 21 июля был снят с поста вице-премьера Совета министров. Через два месяца его пост занял Карреро Бланко. Франко остался председателем Совета министров. Когда новые кортесы собрались на свое первое заседание 17 ноября 1967 года, Франко постарался быстренько напомнить всем, кто в доме хозяин: только каудильо мог утверждать законы. Отказавшись назначить премьер-министра и заявив, что не собирается болеть, он, как всегда, уперся в вопросе о назначении преемника, который мог бы, по его мнению, стать центром притяжения оппозиции. Когда 30 января 1968 года королева Виктория Эухения (вдова Альфонса XIII и мать дона Хуана) приехала в Испанию вместе с сыном, чтобы отметить рождение первенца Хуана Карлоса, Фелипе, мелочный каудильо даже не удосужился встретить их в аэропорту. И когда во время крестин раздраженная королева сухо бросила ему: «Ладно, Франко, перед вами все три Бурбона. Решайте!» — он так и не ответил. Как, впрочем, к вящему неудовольствию своего нервного и раздражительного кабинета, не назначил и премьер-министра.
Весной Франко вышел из политического ступора ровно на столько времени, чтобы упрочить враждебность Ватикана, отказавшись вернуть предоставленное каудильо в свое время Римом символическое право назначать епископов. Еще раз Франко пришлось проявить активность, когда истек срок соглашения с Соединенными Штатами о военных базах. Вопрос о его продлении вызвал большие разногласия и споры в правительстве. После долгих, нудных дебатов и препирательств режим был вынужден согласиться на годичное продление срока в обмен на сильно урезанную экономическую помощь.
6 декабря 1968 года (что подтвердилось и 5 января 1969 года) был потерян хваленый железный контроль Франко над его мочевым пузырем, когда он вынужденно удалился в туалет во время заседания правительства. Министры, которые сами частенько по той же причине покидали совещание, расценили это беспрецедентное событие как тревожный признак ухудшения здоровья каудильо. Вскоре после этой драмы Хуан Карлос решил заявить о своей безграничной приверженности идее учреждения (а не реставрации) монархии, а также подтвердил свою верность лично Франко и «Движению». О его мотивах можно было только догадываться.
Возможно, он опасался, что, если немедленно не объявит о своих претензиях на престол, бурбонская монархия может и не сыграть существенной роли как во франкистской, так и в пост-франкистской Испании. Ведь каудильо никогда не потерпит возвращения на трон его отца. Однако для дона Хуана это лекарство было слишком горьким, чтобы не морщась его проглотить. В апреле, после смерти Виктории Эухении, у дона Хуана состоялся тяжелый разговор с сыном. Он пытался убедить Хуана Карлоса отказаться от трона, когда Франко его предложит.
Но очень скоро рост студенческих волнений задвинул вопрос о преемнике в долгий ящик. Хотя в июне 1966 года Франко торжественно заявил о своей вере «в замечательную, благородную и честную молодежь» и утверждал, что «нам нужен только диалог», его энтузиазм резко уменьшился, когда недовольство студентов в очередной раз переросло в открытый бунт. 24 января 1969 года режим объявил о введении «чрезвычайного положения», несмотря на убеждение Лопеса Родо и Фраги, что это равносильно «стрельбе из пушек по воробьям». Сторонники жестких мер Карреро Бланко и Алонсо Вега с энтузиазмом поддержали решение каудильо. Но они быстро изменили свое мнение, когда стало очевидным, что Солис и его приспешники воспользовались кризисом, чтобы помешать Франко назначить преемником Хуана Карлоса, сторону которого Карреро и Алонсо занимали. После особенно бурного выяснения отношений среди министров измученный Франко согласился отменить «чрезвычайное положение» и официально объявить о своей поддержке Хуана Карлоса. Правда, он предусмотрительно решил пока не сообщать об этом самому принцу, поскольку тот собирался съездить в гости к отцу. Как пояснил каудильо, «мне пришлось бы просить Хуана Карлоса дать честное слово не раскрывать секрета, а если бы отец спросил его, то ему пришлось бы солгать». И действительно, дон Хуан будет просто потрясен, когда узнает о «предательстве» (по его мнению) сына.
Франко сообщил кабинету о своем решении 21 июля 1969 года и, несмотря на сопротивление некоторых твердолобых фалангистов, противников Хуана Карлоса, на следующий день вынес это решение на рассмотрение кортесов. Хуан Карлос поклялся в верности идеалам «Движения» в полной уверенности, что это не помешает осуществлению демократических преобразований когда-нибудь в будущем. Хотя Хуан Карлос и отправил письмо отцу, уверяя его в «сыновней преданности и любви» и объясняя, что принес «самую большую жертву в жизни», чтобы гарантировать возвращение монархии и обеспечить «много лет мира», его отец пришел в бешенство. Он немедленно дистанцировался от монархии, столь тесно связанной с диктатурой. Тем самым Франко сумел вбить клин в отношения между доном Хуаном и его сыном. Стремясь подчеркнуть, что период, во время которого он находился у власти, был не «диктатурой, отделявшей две эпохи», а «подлинным исправлением истории», Франко отказался сделать Хуана Карлоса принцем Астурийским. Этот титул обычно давали наследнику престола. Хуан Карлос вынужден был согласиться с Франко в том, что непрерывность и легитимность династии Бурбонов были нарушены. В результате Франко смог связать будущее монархии со своим собственным политическим наследием.
После того как видимость преемственности была обеспечена, казалось, все пойдет хорошо. На деле получилось по-другому. Решение вопроса о преемственности послужило сигналом к тому, что правление Франко близится к концу. Конкурирующие группировки во властных структурах пустились во все тяжкие, чтобы укрепить свои позиции в пост-франкистской эпохе. И хотя каудильо в политическом отношении являлся приверженцем идеи Карреро Бланко и Лопеса Родо о постепенном переходе к монархии, он был невротически склонен прислушиваться к истерическим предостережениям Солиса и других сторонников жесткого курса, которые, словно мухи, роились вокруг доньи Кармен во дворце Эль-Пардо. В эту группу входили муж Ненуки, Кристобаль Мартинес Бордиу, давние франкисты вроде Хирона и несколько реакционных генералов старой закалки.
В 1969 году Солис, который неустанно искал компромат с целью дискредитировать технократов из Opus Dei и подорвать их политическое влияние, напал на дело компании «Матеса». Она производила в Памплоне текстильное оборудование и была одним из флагманов светлого будущего, обещанного технократами. Постоянные голословные утверждения о массовых злоупотреблениях в латиноамериканских филиалах «Матесы» вылились в злобную кампанию в фалангисгской прессе, клеймившей «национальный позор». Но Франко, которого больше раздражала разгульная свобода прессы, чем любые обвинения в коррупции, отказался даже говорить на эту тему. (Когда Солис и другие фалангисты бросились к каудильо с обвинениями против технократов, он, как утверждает молва, резко оборвал их: «Что вы имеете против Opus Dei? Ведь они-то действительно работают, а вы только трахаетесь». 1 октября 1971 года он с недовольным видом простил большую часть обвиняемых, проходивших по делу «Матесы».) Карреро Бланко, напуганный газетной кампанией, согласно которой в Испании царили «политический застой, экономическая монополия и социальная несправедливость», решил, что в этом виноваты Фрага как министр
12 Ходжес Г.Э.
информации и Солис как министр-секретарь «Движения», и тут же отправил их в отставку.
Затем он убедил Франко, чтобы тот произвел перестановку в правительстве. Это и произошло 29 октября 1969 года. Элегантный щеголь Грегорио Лопес Браво заменил Кастиэлыо в качестве министра иностранных дел, а Торквато Фернандес Миранда (член Opus Dei и советник Хуана Карлоса) заменил Солиса на посту министра — генерального секретаря «Движения». Камил о Алонсо Веге было позволено уйти на пенсию с должности министра внутренних дел. Перетряска кабинета выглядела как победа технократов. Но поскольку поддержка, которую Франко и Карреро Бланко оказывали «продолжателям», неоднократно подрывалась их эмоциональной привязанностью к «бункеру», перед новым Советом министров открывалась типично шизофреническая перспектива. Только что сформированное правительство ответило жесткими мерами на шахтерскую стачку в Астурии и на конфликты, возникшие на верфях, в строительной промышленности и мадридском метро. Жестокие действия полиции, тайные карательные акции, проводимые полуфашистскими эскадронами террористов, связанных с секретными службами Карреро Бланко, и применение оружия Гражданской гвардией против манифестантов привели к целой серии смертей среди ни в чем не повинных прохожих. Однако революционная организация баскских сепаратистов «Euskadi ta Askatasuna» (ЭТА) намеревалась бросить режиму гораздо более серьезный вызов.
Баскские экстремисты затронули особенно чувствительную невротическую струну в душе каудильо. Его безжалостное отношение к баскским католикам уже проявилось в Гернике. И еще раз было продемонстрировано 18 сентября 1970 года во время чемпионата мира по «баскской пелоте», испанскому варианту сквоша. К ужасу международной прессы, каудильо бесстрастно смотрел, как человек, который командовал единственной военной частью в Гернике в день, когда она подверглась бомбардировке, прямо перед ним с криком «Да здравствует Баскония!» поджег себя. В результате правым экстремистам из армии не стоило большого труда убедить Франко возбудить в высшей степени несвоевременный и вредный судебный процесс над шестнадцатью баскскими заключенными, включая двух священников.
В это же время в Испанию пожаловали высокопоставленные лица: президент Никсон, надеявшийся встретить не менее роскошный прием, чем тот, что был оказан Эйзенхауэру в 1959 году, и Генри Киссинджер. Они прибыли для обсуждения судьбы американских баз в Испании. Президенту не к чему было придраться во время церемонии встречи, но престарелый Франко и измученный Киссинджер заснули во время переговоров, предоставив Никсону обмениваться мнениями с Лопесом Браво.
Американский визит не слишком способствовал снижению трений внутри Испании или смягчению мстительности каудильо. Как только в декабре в Бургосе начался суд над боевиками ЭТА, международная пресса и умеренные министры стали просить Франко проявить сдержанность. Даже брат Николас лихорадочно уговаривал его не подписывать смертных приговоров. «Это не в твоих интересах. Я говорю тебе это, потому что люблю тебя. Ты — добрый христианин и впоследствии пожалеешь о содеянном». Весь мир с ужасом следил за судебным процессом, где стали достоянием гласности факты пыток, которым подвергались баски в заключении. Левые возмущались уже самим фактом судебного преследования, а правые — тем, что давно не назначались примерные наказания. Суд завершился вынесением трем боевикам ЭТА по два смертных приговора каждому. Казалось, что за какие-то четверть часа Испания вернулась на тридцать лет назад.
После пылких выступлений Лопеса Родо, Карреро Бланко и других министров, которые считали, что подобные приговоры равносильны политическому самоубийству, Франко крайне неохотно заменил смертные приговоры на тридцатилетнее тюремное заключение. Несмотря на его радиовыступление 31 декабря 1970 года, выдержанное в миролюбивых тонах, судилище в Бургосе оказалось настоящей катастрофой для режима. Зато оно, как никогда сплотило оппозицию. Церковь обратилась к народу с просьбой простить ее за то, что в годы гражданской войны она не сумела стать «истинным посланником 12* примирения» и тем самым раз и навсегда лишила Франко репутации «крестоносца», которую он себе годами создавал.
Следя с некоторой нервозностью за развитием событий, президент Никсон все больше приходил к убеждению, что только восхождение на трон Хуана Карлоса еще до смерти Франко может воспрепятствовать «хаотичному или анархистскому развитию ситуации». Он отправил генерала Вернона Уолтерса с секретной миссией — узнать от самого Франко его планы на будущее. В феврале 1971 года Уолтерс встретился со «старым и слабым» каудильо и Лопесом Браво. После короткой беседы сильно подряхлевший Франко поручил передать президенту, что «порядок и стабильность в Испании гарантированы своевременными и необходимыми мерами, которые я принимаю». На Вернона Уолтерса произвело глубокое впечатление то, «с каким спокойствием и без лишних эмоций Франко говорил на тему» своей смерти. Уолтерс прозондировал мнение нескольких своих друзей из испанских вооруженных сил. Все они не считали, что Франко возведет Хуана Карлоса на трон до своей смерти, однако полагали — он назначит премьер-министра. Так или иначе, любые проблемы, заверили высокомерно Уолтерса, будут «с легкостью решены вооруженными силами». Их уверенность, однако, выглядела абсолютно лишенной основания.
Между тем Франко утрачивал тот инстинкт, благодаря которому удерживал равновесие внутри режима, а его собственное семейство стало испытывать серьезные трудности. Брат Николас оказался замешанным в крупном скандале, связанном с хищением четырех миллионов литров оливкового масла. Во время судебного расследования шесть человек погибли при таинственных обстоятельствах.
18 марта 1972 года мания величия доньи Кармен еще более возросла благодаря женитьбе чрезвычайно амбициозного Альфонсо де Бурбон-Дампьера (сына дона Хайме, брата дона Хуана) на старшей внучке Франко, Марии дель Кармен Мартинес Бордиу. После роскошной церемонии, на которой в числе немногих иностранных гостей присутствовала Имельда Маркос, донья Кармен потребовала, чтобы к ее внучке обращались не иначе как «ваше высочество», а когда та входила в комнату, все должны были приседать в книксене. Этот союз давал возможность продолжить королевскую династию в рамках семьи Франко, что привело в величайшее возбуждение донью Кармен и еще больше распалило амбиции противников Хуана Карлоса. Но каудильо подобная идея не слишком привлекала. Ему совсем не хотелось, чтобы муж его внучки, на которого он имел очень небольшое влияние (или даже вообще никакого), влиял на будущее самого Франко. Несмотря на назойливые требования Альфонсо, чтобы ему был дан титул, сравнимый с титулом Хуана Карлоса, каудильо не стал в этом содействовать новому родственнику.
4 декабря 1972 года Франко исполнилось восемьдесят лет. Испания, которой он правил, выходила из-под его контроля. Когда в январе 1973 года испанские епископы опубликовали пространную декларацию, в которой официально подтверждалась их приверженность политическому нейтралитету, независимость от государства и уважение политического плюрализма, последние остатки симбиоза церкви с властью каудильо были разбиты вдребезги. Действия церкви выглядели вполне естественными, ведь режим, от которого она пыталась дистанцироваться, имел вызывающее сходство с тем, который Ватикан поддерживал в сороковые годы, чем себя и скомпрометировал.
В апреле 1973 года полиция застрелила забастовщика в пригороде Барселоны. 1 мая член крайне левой маоистской организации ФРАП во время демонстрации заколол полицейского кинжалом. Правые офицеры и фалангисты, ветераны войны, взывали о мести. Франко, однако, отнесся к этому философски. По его мнению, ФРАП — «собака, которая лает... На деле же это ничтожное меньшинство, которое лишний раз подтверждает нашу жизнеспособность и способность к сопротивлению нашей Родины». Эта беспечность могла указывать на то, что он утрачивает контакт с реальностью или же по-прежнему ощущает необходимость во цнешнем враге, чтобы вернуть осознание самого себя. В любом случае его реакция не слишком успокоила ни правых, ни левых.
Напуганный растущим влиянием крайне правых, Томас Гарикано Гоньи, заменивший Алонсо Вегу в качестве министра внутренних дел, 2 мая подал в отставку. При виде быстрой эскалации баскского экстремизма Франко наконец убедил упиравшегося семидесятилетнего Карреро Бланко стать председателем Совета министров на пять лет и сформировать новое правительство. Пост заместителя занял Торквато Фернандес Миранда. Настояв лишь на включении в правительство сторонника жесткой линии Карлоса Ариаса Наварро, бывшего прокурором во время репрессий в Малаге в 1937 году и любимчика его жены, утомленный и равнодушный Франко просто принял все предложения по составу «похоронного кабинета». Если согласиться с анализом Хью Ле-тэна, этот триумвират старцев был не в самой лучшей форме, чтобы держать в своих руках бразды правления.
Пока большинство верных сторонников спасались бегством с быстро идущего ко дну корабля, сам Франко метался из стороны в сторону без четкого курса. Неустойчивая амальгама Карреро Бланко, в которой сочетались экономический прогресс, политическая осторожность и идеологический экстремизм, уже достаточно обострила ситуацию в стране. Однако его недальновидное решение устроить 20 декабря 1973 года показательный процесс над десятью лидерами подпольных профсоюзов, так называемых «Рабочих комиссий», обернулось полным крахом. В 9.30 утра, незадолго до начала суда, команда боевиков ЭТА взорвала бомбу под автомобилем, в котором премьер-министр возвращался с утренней мессы. Карреро Бланко был убит на месте. Фернандес Миранда, автоматически ставший исполняющим обязанности премьера, с трудом сумел, с помощью Ариаса Наварро и военного министра, отменить необдуманный приказ генерального директора Гражданской гвардии навести порядок «без каких-либо ограничений в применении огнестрельного оружия». Самым трудным оказалось убедить ультрафалангиста Утреру Молину, министра жилищного строительства, и Хулио Родригеса, министра образования, не присоединяться к ударному взводу, получившему приказ разыскать убийц.
Поначалу казалось, что растерянный и упавший духом Франко не сможет ответить на этот политический и личный кризис. Его отношения с Карреро Бланко были не только официальными — можно сказать, очень близкими. С течением лет Франко потерял многих друзей, но впервые проявил на людях свои эмоции после тяжелой утраты. С трудом произнеся что-то вроде «всякое бывает в этой жизни», он появился на заседании правительства опустошенный, измученный, с покрасневшими глазами, и несколько раз начинал безудержно рыдать. Потеряв сон и аппетит, каудильо надолго закрылся в рабочем кабинете. Весь в слезах, он пожаловался одному из своих помощников, что «обрезаны последние узы, еще связывавшие меня с миром», а потом плакал и вздыхал во время одной из месс, которые отслужили в память о Карреро Бланко. Надежды на то, что каудильо выступит по телевидению, чтобы успокоить испанцев, тихо сошли на нет. Лопес Родо заметил, что «Франко без Карреро — это совсем другой Франко», но в действительности он не мог по-настоящему измениться. Коснувшись смерти своего друга в предновогоднем выступлении, каудильо заключил: «Нет худа без добра». Возможно, подсознательно обвиняя Карреро в свалившемся на него одиночестве, он даже начал считать, что сможет найти премьера и получше.
Смерть Карреро Бланко вызвала стремительное повышение политической температуры. Почувствовав растерянность и уязвимость Франко, донья Кармен, по-видимому, возомнив себя леди Макбет, и вся дворцовая камарилья стали энергично проталкивать свои политические планы. Полные решимости убрать Фернандеса Миранду по причине его относительно умеренных взглядов и симпатии по отношению к Хуану Карлосу, они были не слишком воодушевлены скорее эмоциональным, чем политическим выбором Франко, назначившего на пост председателя правительства своего семидесятипятилетнего друга, адмирала Педро Ньето Антунеса. С воплем «Они нас всех поубивают, как Карреро Бланко!» донья Кармен потребовала «жесткого премьера. Это должен быть Ариас [Наварро], и никто другой». Супруг в конце концов уступил, признав, что «Пед-роло почти так же стар, как и я, и у него те же проблемы с памятью». 28 декабря 1978 года Ариас Наварро, который тоже, правда, был далеко не юношей в свои шестьдесят пять лет, стал премьер-министром.
Новый премьер и его кабинет отражали ту же двойственность, что и предыдущие правительства. Впрочем, с учетом огромных противоречий в психике Франко, ставших присущими самому режиму, иначе и быть не могло. И пока Ариас метался между проявлениями ограниченной терпимости и жесткими репрессиями против рабочих и студенческих волнений, становилось ясно, что требования перемен не могли быть ни амортизированы новыми государственными структурами, ни подавлены прежним репрессивным аппаратом. На протяжении всего 1974 года воинственность трудящихся и терроризм беспрепятственно возрастали.
12 февраля 1974 года Ариас сделал робкое заявление о намерениях. Речь шла о «контролируемой открытости режима», более широком участии народа в политике, конечно же, в самых строгих рамках, и разрешении политических объединений на крайне жестких условиях. Его заявление, что Франко не должен в одиночку нести ответственность за политические нововведения, привело в ужас деятелей «бункера», которые, подобно школьным ябедникам, поспешили донести каудильо, что некоторые министры Ариаса оказались масонами. Франко повел себя с привычной переменчивостью. С одной стороны, он приветствовал назначение фанатичного Хосе Утреры Молины в качестве главы «Движения» и заклеймил «дух 12 февраля». С другой стороны, отверг реакционные требования Ариаса выслать епископа Бильбао за публикацию проповедей, в которых он выступал против подавления «жизнеспособности этнических меньшинств». В то же время, несмотря на бурные протесты Ватикана, ЕЭС и ряда глав государств, он отказался отменить смертные приговоры, вынесенные одному каталонскому анархисту и одному уголовному преступнику, которые и были приведены в исполнение 2 марта 1974 года посредством удушения с помощью гарроты. Это вынудило Европейский парламент заклеймить «неоднократные нарушения испанским правительством основных гражданских прав человека, препятствующие приему Испании в Европейское Сообщество».
Крушение сорокапятилетней диктатуры в Португалии, происшедшее за один день, 25 апреля, повергло в шок камарилью в Эль-Пардо. Их напугало то, что режим, переживший физическую немощь Салазара в 1968 году и его смерть в 1970-м, на восемьдесят втором году жизни продемонстрировал неспособность противостоять экономическим проблемам и активизации вооруженной левой оппозиции — тем же болезням, которые мучили Испанию. Поскольку решающую роль в свержении португальской диктатуры сыграли либерально настроенные военные, члены «бункера» пришли в ярость, когда молодые офицеры испанской армии — члены подпольной организации «Демократический военный союз» (УМД) — опубликовали манифест, призывая «вооруженные силы защитить подлинные интересы всего испанского народа, а не только интересы незначительной группы коррумпированной элиты». Знаменательно, что недоброй памяти секретные службы Карреро Бланко вплоть до лета 1975 года не смогли собрать достаточное количество улик, чтобы арестовать лидеров УМД.
После португальского кризиса Хирон — рупор «бункера» — убедил Антонио Искиердо Феригелу, редактора «Ар-рибы», печатного органа «Движения», предпринять яростную атаку на Ариаса за то, что он отворил двери подрывной деятельности. Ультрареакционер Блас Пиньяр заявил, что «пробил час вождей и воинов». В то же время правые генералы начали чистку верховного командования от тех офицеров, чьи политические взгляды не совпадали с их собственными. Ариас пригрозил подать в отставку, если чистка будет продолжаться, но и он согласился, что было бы целесообразным снять либерального генерала Диеса Алегриа с поста начальника генерального штаба. Франко, от которого все эти военные махинации скрывались, еще раз собрался с силами, чтобы поддержать Ариаса против «бункера», но выглядел он все более утомленным и отстраненным. Как высказался Фрага: «Он слушает, но не слышит».
В то время как режим разваливался вместе с болезненным каудильо, уверенность и радужные ожидания оппозиции росли. Большое число недовольных монархистов собралось в Португалии, в Эшториле, где жил в изгнании дон Хуан, чтобы отпраздновать его именины 22 июня и подвергнуть критике выбор Хуана Карлоса в качестве претендента на престол. На следующий день двадцать тысяч испанских рабочих со всей Испании собрались в Женеве, чтобы послушать Пасионарию и Сантьяго Каррильо, лидера испанской Коммунистической партии, которые обещали, что скоро они вернутся в Мадрид в составе Временного правительства. На следующий месяц Каррильо создал в Париже Демократическую хунту — комбинацию левых, регионалистов и независимых, — чтобы форсировать захват власти.
Пока повсюду бушевали страхи и надежды, Франко был помещен в госпиталь с тромбофлебитом правой ноги. 11 июля 1974 года он из-за болезни всего лишь во второй раз за свою карьеру пропустил заседание кабинета. 19 июля, к ярости доньи Кармен и маркиза де Вильяверде, Ариас и президент кортесов сумели убедить каудильо применить статью 11 «Органического Закона», по которой он отходил от дел, а Хуан Карлос становился исполняющим обязанности главы государства. Хуан Карлос с большой неохотой дал свое согласие. Это означало конец притязаниям на престол Альфонсо де Бурбон-Дампьера, но отнюдь не политическим амбициям камарильи из дворца Эль-Пардо.
Запертый в госпитале, равнодушный к буре, завывавшей за его стенами, Франко оказался удивительно послушным, ни на что не жалующимся пациентом. Напряженность в стране достигла коридоров госпиталя, когда по возвращений с Филиппин, где он был членом жюри конкурса «Мисс Вселенная», амбициозный зять Франко, маркиз де Вильяверде, почувствовал себя обязанным, будучи семейным доктором, устранить некоторые разногласия в медицинских вопросах с советником каудильо, доктором Хилем. Причем устранять их они решили при помощи кулаков прямо у дверей палаты больного. Доктор Хиль одержал победу в схватке, но проиграл войну. Сорока годам его безупречной службы без лишних церемоний был положен конец. Правда, скуповатая донья Кармен скрепя сердце вознаградила доктора телевизором со склада не пригодившихся каудильо подарков.
Когда Франко вышел из госпиталя 24 июля 1974 года, он казался хрупким, похудевшим и чуточку растерянным. По-суэло, новый доктор, лечил его от болезни Паркинсона, которая ранее тщательно скрывалась. Врач заставлял каудильо маршировать, выпятив грудь и широко расправив плечи, под бодрые звуки маршей Испанского легиона. Попытки доктора удалить болезненный абсцесс на ноге пациента имели меньший успех. Франко не захотел отказаться от особо неудобных туфель, которые ему подарил некий услужливый фабрикант. Каудильо заявил, что его ноги быстро приспосабливаются к неблагоприятным обстоятельствам. Когда доктор указал ему, что должно быть все наоборот — не ноги для обуви, а обувь для ног, Франко недоверчиво заметил: «Все вы ищете легкой жизни».
Хотя неожиданное улучшение состояния здоровья позволяло каудильо даже появляться на поляне для гольфа, умственная и физическая слабость сделали его чрезмерно податливым для леденящих душу инсинуаций Вильяверде и доньи Кармен о планах на будущее Хуана Карлоса и его министров. Взбудораженный Франко 2 сентября неожиданно вернул себе полномочия главы государства, даже не обсудив свои действия с Хуаном Карлосом. Однако вскоре после этого Ариас объявил о твердых намерениях проводить в жизнь «Программу 12 февраля», и радость «бункера» по поводу того, что Франко вновь взял в свои руки бразды правления, быстро улетучилась. Когда бомба, заложенная террористами из ЭТА, вдребезги разнесла кафе «Роландо» вблизи главного штаба мадридской полиции, оставив одиннадцать убитых и семьдесят раненых, Влас Пиньяр предпринял яростную атаку на Ариаса в неофашистском журнале «Новая сила», обвинив его в том, что он «усеял поля трупами». А тем временем ультрас из Эль-Пардо, размахивая ими же смонтированными непристойными фотографиями, неистово давили на каудильо, требуя отставки Пио Каба-нильяса, нового министра информации, вменяя ему в вину распространение порнографии в прессе. Но только когда известия о темных делишках его брата Николаса, замешанного в скандале с «маслом из Редонделы», просочились в прессу, каудильо решился уволить министра.
Опасения, что Испания стоит на грани гражданской войны наподобие 1936 года, вызвали резкое падение биржевого курса. Поскольку озабоченные промышленники и финансисты старались установить тесные контакты с оппозицией, франкистские деятели, которые всегда держали нос по ветру, теперь устремились к реформистам. Как весело заметил монархистский комментатор Луис Мариа Ансон: «Крысы бегут с корабля... трусость испанского правящего класса по-истине впечатляет». Лавина отставок среди самых либеральных министров оставила Ариаса практически в изоляции.
Ободренная подобным развитием событий, Демократическая хунта предприняла решительную забастовочную кампанию с целью подорвать основы режима. Выбор Фелипе Гонсалеса в качестве лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) в октябре 1974 года несколько оживил ее увядшие амбиции, в то время как бывший фалангист Дионисио Ридруэхо помогал сформировать левоцентристскую партию УСДЕ (Испанский социал-демократический союз). Понимая, что для мирного перехода необходимо было работать с реформистскими элементами режима, ни одна из этих партий не присоединилась к Демократической хунте.
Пока Ариас сражался, пытаясь умерить пыл ретроградов «бункера», Франко, сущий балласт в политическом шторме, раз за разом в поисках уверенности обращался к прошлому. За бывшими франкистами из умеренной оппозиции, такими как Дионисио Ридруэхо и Хоакин Руис Хименес, полиция установила слежку, а бомбы ЭТА продолжали взрываться. Новая волна забастовок и возобновление волнений в университетах подогревали ощущение надвигающегося кризиса. Закон о политических ассоциациях, принятый кортесами 16 декабря, вызвал враждебность обеих сторон политического спектра. Когда в начале 1975 года «Арриба» обошла молчанием годовщину «Программы 12 февраля», обозленный Ариас приказал Утрере немедленно уволить своего ультраконсервативного директора газеты, «этого мелкого говнюка Антонио Искиердо».
Утрера немедленно побежал к Франко, чтобы дать ему прослушать магнитофонную запись, где Ариас говорит: «Франко совсем стар» и «единственный, у кого осталось что-то мужское, это я». Поведение премьера, похоже, не стало сюрпризом для трепещущего диктатора, воскликнувшего: «Да, да, Ариас — предатель, но только никому не говори об этом. Мы должны действовать осторожно». И нервно посоветовал ему делать так, как говорит премьер. (То, что в старости врожденная паранойя Франко неконтролируемо возрастала, возможно, в результате предписанного ему от болезни Паркинсона диоморфина, стало очевидным, когда его врач посоветовал диктатору наговорить свои мемуары на магнитофон перед тем, как их перепечатает «доверенная машинистка». Каудильо мрачно прошептал: «Не думаю, что они позволят это».)
Ариасу не составило труда убедить Франко, чтобы тот заменил Утреру на либерала Фернандо Эрреро Техедора. Когда Утрера пришел попрощаться, взволнованный каудильо со слезами на глазах обнял его и поднял дрожащую руку в фашистском приветствии. 23 июня 1975 года протеже Ариаса, Фернандо Эрреро Техедор, погиб в автокатастрофе. Франко собрался с силами и настоял, чтобы его заменил Хосе Солис, сторонник жесткого курса и мастер интриг. Но такие вспышки решительности теперь стали редкими. У Франко появились характерные признаки старческого маразма. Движения стали дергаными и неуправляемыми, мыслительный процесс — путаным и рассеянным. Его глаза, сохранявшие «живость и проницательность» еще долго после того, как бесцветное лицо слилось в одно целое с шеей, теперь были постоянно закрыты темными очками. Он жаловался Пакону, что единственное, чего ему сейчас хотелось бы, — уйти в монастырь. Вместо этого в течение долгой зимы 1974 года дворцовая камарилья вывозила его на смертельно опасную для здоровья охоту. Холодные ветры вызвали у каудильо воспаление почек, которое, наряду с болезненными проблемами зубов, казалось, отражало недуг и распад самого режима. Но, как и его вождь, даже будучи на издыхании, режим останется столь же репрессивным и жестоким, каким был при своем зарождении.
Возможно, как и в прошлом, мстительность умирающего Франко подстегнула смерть близкого члена семьи. Пакон, его любимый кузен, верный товарищ с раннего детства и надежный помощник в делах на протяжении многих лет, умер 21 апреля 1975 года. Даже после своего ухода на пенсию в 1956 году
Пакон всегда был у него под рукой. Именно поэтому доктор Посуэло очень тактично постарался сообщить Франко весть о кончине старого соратника. Прервав попытки Посуэло утешить его, каудильо философски заметил: «По правде говоря, доктор, всех нас это ожидает», добавив, что кузен серьезно болел и «ему наверняка было очень тоскливо с трудом волочить ноги по этой земле». Он явно имел в виду самого себя.
Спустя пять дней, в условиях чрезвычайного положения, введенного на три месяца в провинциях Бискайя и Гипускоа, боевики из ультраправой группировки предприняли целую серию нападений на левых адвокатов, священников и рабочих. Любой подозреваемый в том, что он — баскский националист, мог подвергнуться автоматному или пулеметному обстрелу, а между тем в бары, адвокатские конторы и издательства под-кладывались или бросались бомбы. Лихорадочные усилия секретных служб очистить вооруженные силы от демократических элементов в конце концов принесли свои плоды 29 июля 1975 года. Девять руководящих офицеров из УМД, который медленно, но неуклонно увеличивал число своих членов, были задержаны в результате эффектных ночных рейдов, более похожих на облавы на террористов. Эти же самые секретные службы будут играть ключевую роль в попытках антидемократических переворотов в постфранкистский период.
В то лето вынесение смертных приговоров трем террористам, подозреваемым в членстве в ЭТА, до предела политизировали Страну Басков. Несмотря на репрессии, 11 июня 1975 года прошла массовая демонстрация солидарности. Всеобщие стачки парализовали регион в августе и сентябре. В августе новый драконовский закон против терроризма был распространен на всю страну. 12 сентября были вынесены смертные приговоры трем террористам из ФРАП, а спустя шесть дней еще шести активистам этой организации. Несмотря на просьбы о помиловании Европейского парламента, ООН, папы, дона Хуана и многих епископов в самой стране, массовые забастовки и огромные демонстрации, трех террористов из ЭТА и двух членов ФРАП расстреляли 27 сентября. Тринадцать стран отозвали послов из Испании, а четыре испанских посольства были подожжены. Трудно найти более очевидный симптом заката регрессивного режима.
1 октября 1975 года, в тридцатую годовщину его возведения в ранг главы государства, Франко в последний раз появился перед огромной толпой. Блистая всеми своими военными регалиями, сморщенный и высохший, но ни в чем не раскаявшийся, непреклонный каудильо по-прежнему исходил ядом по поводу «масонского заговора левых» и «подрывной террористической деятельности коммунистов против общества». Не скрывая слез, он вознес к небу дрожащие руки перед бурно приветствовавшими его толпами собравшихся. В тот же самый день четверо полицейских были застрелены — предположительно в отместку за казни — новой политической группой неясного происхождения, называвшей себя ГРАПО, которая, как позднее стало известно, имела некие странные связи с полицией. Появились опасения и одновременно надежды, что это зверство вызовет новую, но последнюю вспышку жестоких репрессий правых по всей стране.
Грипп и сердечный приступ, случившийся 15 октября, помешали каудильо в этот раз предпринять что-либо серьезное. На следующий день Франко работал в своем кабинете в последний раз, хотя он и настаивал на проведении нескольких официальных аудиенций и собирался председательствовать на заседании Совета министров 17 октября. После нескольких небольших сердечных приступов 25 октября каудильо принял последнее причастие. 29 октября ему постоянно делали переливания крови. В ночь со 2 на 3 ноября в результате кишечного кровотечения постель, ковер и стена оказались залиты кровью, после чего тут же, на месте, ему сделали срочную хирургическую операцию. Это был символичный финал бурной и жестокой жизци.
В конце концов Франко перевели в должным образом оборудованный госпиталь, в котором, после еще одного хирургического вмешательства, был установлен целый комплекс поддерживающих жизнь аппаратов. В каудильо поддерживали жизнь, но и только. Изредка он приходил в сознание, чтобы прошептать: «Как же тяжело умирать». Но сторонники генералиссимуса — ультрас из Эль-Пардо — не могли позволить ему умереть. Дворцовая камарилья готова была пойти на все, чтобы в каудильо теплилась жизнь, пока не удастся провести собственного кандидата на пост президента Королевского совета, а также кортесов, и тем самым обеспечить назначение нужного ей преемника Франко. Кроме того, как пишет Хью Летэн, возможно, что «затяжная медицинская активность вокруг смертного ложа Франко» была вызвана желанием персонала госпиталя избежать обвинений в непрофессионализме. В конце концов дочь Франко настояла на том, чтобы ему позволили умереть спокойно. 19 ноября в 23.15 трубки и капельницы, поддерживавшие каудильо между жизнью и смертью, были убраны. Вскоре после этого он умер. Официальным временем его смерти считается 5 часов 25 минут 20 ноября 1975 года. Политические устремления «бункера» оказались окончательно и бесповоротно разбиты.
Политическое завещание Франко испанскому народу было зачитано в тот же день в 10 утра. Говоря о себе как о «верном сыне церкви», он попросил «прощения у всех». И далее: «И я от всего сердца прощаю тех, кто считал себя моим врагом, хотя сам я никогда не считал их таковыми. Верю и надеюсь, что у меня не было других врагов, кроме врагов Испании». После этого намека на признание своей вины и видимой попытки примирения немедленно следовало строгое предостережение: «Не забывайте, что враги Испании и христианской цивилизации не дремлют».
Реакция на известие о его смерти оказалась столь же категоричной и противоречивой, каким был он сам. Спрос на черные одежды мог сравниться лишь со спросом на шампанское, которое текло рекой. В некоторых баскских городках люди, как безумные, танцевали на улицах. От трехсот до пятисот тысяч человек прошли мимо гроба с телом Франко. Один из присутствующих на похоронах упал в открытую могилу и потерял сознание, что выглядело символично. Это походило на бессознательное состояние, насильно навязанное испанскому народу годами репрессий. Монументальная плита, подобная той, что укрывала могилу Хосе Антонио Примо де Риверы, была установлена на месте захоронения каудильо. Ни одного значительного главы государства, кроме генерала Пиночета, на похоронах не присутствовало.
эпилог
с Сфинкс без тайны»
Тирания — это привычка. Она способна развиваться и в конце концов превращается в болезнь. Человек и гражданин умирают в тиране навсегда: возврат к человечности, раскаянию, возрождению становится практически невозможен.
Ф.М. Достоевский
Смерть Франко вызвала лихорадочную активность среди его товарищей и близких, готовых ради денег выжать все до последней капли из своего знакомства с каудильо. Откровения некоторых его друзей, родственников и соратников в скором времени уничтожили хрупкий фасад, защищавший Франко, и выставили напоказ скрывавшегося за ним человека. Мистический ореол, которым он себя окружил, испарился, обнаружив «сфинкса без тайны». На самом деле таковым каудильо всегда и являлся.
Истинный характер правления Франко пытались замаскировать высокопарными словами и научными терминами. Тем не менее его убеждения никогда не основывались на какой-либо строгой доктрине, а, наоборот, отличались абсолютным оппортунизмом, паразитировавшим на ненависти, страхах и надеждах его приспешников и противников. Основой режима генералиссимуса на протяжении всего его правления был изматывающий страну террор, при котором любая попытка уничтожить этот режим неизбежно заканчивалась бы очередной гражданской войной. После смерти Франко эти страхи стали утихать, а образы диктатора и его жестокого режима преподносились прессой уже в значительно смягченном виде.
В период его правления практически все жители Испании находились под подозрением в участии в заговорах или же были вынуждены избегать соприкосновения с реальностью. Однако антидемократизм и мстительный характер режима после смерти диктатора оказались, по сути, преданы забвению в негласном общественном «договоре о всеобщем прощении». Жертвы репрессий, жаждущие бескровного перехода к демократии, отказывались от своего права мстить. Палачи, мучители, тюремщики, доносчики и те, кто с благословения каудильо сделали себе огромные состояния, избежали так называемых «чисток». И тем не менее еще спустя два десятка лет многие испанцы продолжали оставаться идеологически и психологически дезориентированными. В ответ на рефрен правых «С Франко мы жили лучше» демократы стали говорить: «Мы жили лучше, борясь с Франко».
Начало правления Хуана Карлоса было встречено очень благожелательно как внутри страны, так и за ее пределами, и существовали все предпосылки для роста его популярности среди народа и возведения в ранг «короля всех испанцев». Однако путь к демократии был тернист и полон опасностей. Хуан Карлос оказался во главе унитарного государства, не желающего расставаться с прошлым и продолжающего воевать с коммунизмом, социализмом, либерализмом, демократией, плюрализмом и региональным самоуправлением. По-; прежнему существовало сто тысяч фалангистов, имеющих право носить оружие, а конституционные органы, призванные следить за процессом наследования власти, были сплошь из жестких сторонников Франко, за которыми стояли Гражданская гвардия и военные. Испанская армия, избавленная от каких-либо демократических и либеральных элементов благодаря усердной работе разведывательных служб Карреро, являлась постоянной угрозой для возможных демократических преобразований в стране. Она не оставляла ни малейшего сомнения в том, что произойдет, если население решит сводить счеты с режимом и потребует проведения реформ. Испанцы развязали бы не только очередную гражданскую войну, но им пришлось бы вновь встретиться лицом к лицу со своими ужасными воспоминаниями, включая «охоту на ведьм», которая — как показала гитлеровская Германия — сопровождает любые жесткие политические репрессии.
Дабы избежать военного переворота, король Хуан Карлос оставил Ариаса на посту премьер-министра. В то время как массовые демонстрации и забастовки в поддержку амнистии политических заключенных убедили более либеральных министров в необходимости диалога с оппозицией, Ариас в феврале 1976 года упорно заявлял: «До тех пор, пока я нахожусь у власти и участвую в политической жизни, я не сменю своих политических убеждений и буду придерживаться позиций франкизма». ЭТА, не сложившая оружия после смерти Франко, начала разрабатывать националистическую политику, цели которой шли гораздо дальше демократических устремлений остальной части Испании. Подобная воинственность басков не слишком способствовала примирению радикальных франкистов с политическими переменами.
И тем не менее король, разочарованный жесткой позицией Ариаса и его нежеланием проводить политические реформы, все-таки потребовал в июне 1976 года отставки премьера. Политика Ариаса, когда он находился у власти, имела, однако, и свои положительные стороны. Его идеологическая непреклонность заставила многих сторонников Франко, из числа элиты, перейти в лагерь реформистов, а также вынудила левых объединиться. Королю Испании пришлось потратить достаточно много времени, прежде чем он нашел человека, который, по его мнению, был в состоянии управлять процессом перехода к демократии без развязывания очередной гражданской войны. 3 июля 1976 года Хуан Карлос неожиданно для всех выбрал на пост премьер-министра Адольфо Суареса, занимавшего должность генерального секретаря «Национального движения». Король надеялся, что тот сможет собственные механизмы системы направить против нее самой и открыть путь для реформ. В отличие от своих предшественников Суарес быстро признал необходимость радикальных перемен, которые должны были разрядить накалившуюся после смерти Франко политическую обстановку. Суарес осторожно провел реформу через все преграды, стоящие на пути к демократии, и создал избирательную коалицию Союз демократического центра (УСД). В нее входили молодые последователи франкизма, не замешанные в преступлениях режима. Позже, в 1977 году, коалиция пришла к власти после всеобщих выборов, проводившихся впервые с 1936 года.
Наследие Франко — постоянно растущая инфляция, безработица, терроризм и угроза военного переворота — мучило неокрепшую демократию в течение всех пяти лет, пока Суарес находился на посту премьер-министра. Даже разговоры о каталонской и баскской автономиях приводили в бешенство генералов, принадлежащих к правому крылу, которые открыто демонстрировали свою готовность к военным действиям, направленным на уничтожение любой попытки ослабить централизованное государство. Король был прекрасно осведомлен об антидемократических настроениях в армии. 5 января 1981 года он приказал офицерам не принимать участия «в политических играх, не связанных с благородной целью, к которой мы идем». Под сильным давлением военных 29 января 1981 года Суарес подал в отставку. Во время введения в должность его преемника, Леопольда Каль-во Сотело, 23 февраля 1981 года в 18.20 в палату кортесов ворвалась группа жандармов под руководством полковника Техеро и захватила в заложники всех присутствующих политиков. Король действовал решительно. Дав бунтовщикам четко понять, что не собирается ни отрекаться от престола, ни покидать Испанию, 24 февраля в 1.15 ночи он появился на экранах телевизоров и объявил, что королевская власть не потерпит попыток остановить процесс демократизации с применением силы. Бунтовщики должны были расстрелять его или признать свое поражение. С большой неохотой они выбрали последнее. По иронии судьбы король — креатура каудильо — подверг риску свой престиж и безопасность ради спасения демократии. Возможно, Франко бы и не удивился, что с помощью его «наследника», Хуана Карлоса, политическая доктрина, на которой держалась власть каудильо, потерпела крах. Король уничтожил режим Франко точно так же, как сам генерал, восставший против республиканского правительства, разрушил все, что было так дорого «отцу Республики» Асанье.
Неудавшийся переворот оказался своевременным напоминанием испанскому народу о том, какой ценностью является демократия. Испания Франко была окончательно похоронена в начале 1982 года, во время суда над бунтовщиками, которые приняли участие в попытке переворота. Хотя обвиняемые занимали ту же позицию, что и Франко, и демонстрировали те же предрассудки, на этот раз они предстали в своем истинном свете, оказавшись «хулиганами с дурными манерами». Как настоящие карикатуры на Франко, они «не могли говорить ни о чем другом, кроме как о патриотизме и своей роли стражей национальных ценностей, на которую они сами себя определили... Их действия вызывали лишь чувство стыда за Испанию, ставшую всеобщим посмешищем» (Пол Престон). Это была подходящая эпитафия для генерала Франко. Несмотря на то что выборы, состоявшиеся 28 октября 1982 года, проходили под постоянной угрозой военного вмешательства, жителей Испании уже невозможно было запугать. Социалистическая партия, возглавляемая Фелипе Гонсалесом, получила мандат доверия от населения. Воля народа в конце концов восторжествовала. Процесс политического перехода завершился.
Наследие Франко оказалось весьма значительным и столь же противоречивым. Хотя режим каудильо базировался на католических догматах, он заставил церковь играть политическую роль. Тем самым Франко разрушил ее влияние. Его мстительная политика вынудила испанцев отвернуться от своей церкви, и в результате сама церковь отвернулась от генералиссимуса и восстала против его режима. Объявляя Испанию католическим государством, Франко, наоборот, уменьшил значимость католической церкви в жизни современных испанцев.
Намереваясь сохранить страну единой державой, он породил множество террористических группировок, борющихся за региональную независимость.
Несмотря на его хваленую решимость возродить «традиционные испанские ценности», в период с 1950 по 1960 годы Франко возглавил широкомасштабный процесс модернизации, который заставил многих сельских жителей сняться с насиженных мест и в поисках лучшей жизни переселиться в города. Это привело к развалу традиционного уклада жизни крестьянства в Испании.
По иронии судьбы режим Франко, провозглашавший правопорядок как приоритет в работе правительства, столкнулся с разгулом преступности, когда испанские города наводнили неконтролируемые массы рабочих.
Хотя Франко и превозносил семейные ценности, его строй нанес несравнимо больший урон понятиям «семьи» и «материнства», чем свободная любовь, воспетая анархистами. Плодами деятельности генералиссимуса на протяжении всего его правления, а также многих лет после этого стали самый высокий уровень абортов и самый низкий уровень рождаемости в Европе. К моменту смерти Франко три четверти населения одобряли развод. Хотя каудильо и представлял себе испанскую семью глубоко религиозной и аскетичной в быту, в реальности, лишив испанцев возможности участвовать в политической, творческой и духовной жизни страны, он привил им легковесный эскапизм, от которого впоследствии оказалось трудно избавиться. Как сказал Джон Хупер: «Поведение испанцев, которые спустя два десятка лет после диктатуры Франко предались излишествам свободной жизни, можно сравнить с типичным образом девушки из монастыря, беспечно экспериментирующей со всем тем, что раньше было запрещено». Повсеместное потребление легальных наркотиков испанцами — алкоголя, кофе и сигарет — самое высокое среди всех стран Евросоюза.
Возможно, и нет ничего удивительного в том, что после смерти Франко практически оправдались все его худшие предчувствия: произошла сексуальная революция, возникла демократия и построена новая Испания, где большинство жителей вряд ли удосужатся вспомнить даже его имя.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абд-аль-Керим 66,73—74,76-78 Агилера, Гонсало де 149,160— 161,163,234 Адлер, Альфред 55 Алегриа, Диас 361 Алонсо Вега, Камило 28,37,48, 57,187,331,337,339-340,342, 345,347,352,354,357 Альдана, Агустина 37-38,110,
138,267
Алькала Самора, Нисето 73,93, 107-108,112,114-118,122,125 Альфонс XII27 Альфонс XIII26-27,44,56,63, 71,87-88,92,116,147,169,198, 214,256,284,301,335,350 Альфонсо де Бурбон 326 Ансальдо, Хуан Антонио 139 Ансон, Луис Мариа 364 Аранда 200 Арбуруа, Мануэль 326 Ариас Наварро, Карлос 173,358-365,371
Ариас Сальгадо, Габриэль 341-342 Армур, Норман 283 Аррарас, Хоакин 16,57,63,217 Арресе, Хосе Луис де 250,258, 264-265,270,274-275,291,326, 329,330-331,337 Асанья, Мануэль 94—107,115,
117-118,122,125,136,163,194,
212,216,373
Асенсио Кабанильяс, Карлос 144, 153,167,271,274 Аснар, Агустин 184,186,211 Аснар, Мануэль 63 Аснар, Хуан Батиста 91-92 Ачесон, Дин 306
Баамонде-и-Пардо де Андраде, Пилар 16-17,19,21,23,32-35, 37-38,47,56,80,98,108,110, 220-221,266,269 Бадольо, Пьетро 276 Баллок, Ален 178,237 Бальфур, Джон 308,309,311 Бареа, Артуро 64 Баркон и де Фурундарена, Мария де лос Анхелес 61 Баррера, Эмилио 100 Баррон 144,153
Барросо, Антонио 172,191,330— 331
Барросо, Санчес 74 Бастико, Этторе 179,199 Бебб, Уильям 129,132 Бевин, Эрнест 292,294 Бейгбедер, Хуан 232,239,242,247 Беренгер, Дамасо 52,63,66,71, 87-88,91-93,97,100 Беренгер, Федерико 91 Берти, Марио 199,204 Беттельхайм, Бруно 234 Блюм, Леон 224
Болак 277,335
Болин, Луис 132,160, 212,214 Боррелл, Макс 103,232,314,316 Браун, Ева 286
Бренан, Джералд 299,304—305,
323,327
Бресборо 313
Буларт, Хосе Мариа 267
Бурбон-Дампьер, Альфонсо де
356-357,362
Валенсуэла, Рафаэль де 72 Валентин, Уксио 216 Варела, Хосе Энрике 81,116,118, 149,152-153,163,165,170,173-174,194,200,268,270-271,296 Вера, Феликс де 104 Вигон, Хорхе 115 Вигон Суэродиас, Хуан 177—179, 182,203,239,241,263,293,318 Виктор Эммануил III 274 Виктория, де ла 66 Виктория Эухсния 350—351
Галан, Фермин 68—69,90—91,96, 101
Галарса, Валентин 105—106,115, 118,126,257-258,270 Галинсога, Луис 337 Гамбара, Гастоне 179, 211 Ганнибал 47
Гарикано Гоньи, Томас 357 Гарсиа, Кристино 296 Гарсиа-Мина, Хесус Рубио 326 Гарсиа Эрнандес, Анхель 90—91, 96,101
Гарсия Лорка, Федерико 140,327 Геббельс, Йозеф 237,250,255, 257,274,286 ГеоргУ 5,120 Геринг, Герман 251 Гиммлер, Генрих 247, 285
Гитлер, Адольф 5,6,12,24,35,49, 51,81,133,141-142,150,154,157, 167,174,179,181,186,191-192, 195,199-201,203,208-209,217— 218,223,225-226,231-234,236, 238-249,251,253,255-257,260, 264,266,272,274,276,280,285— 287,291,293,304,312,316,333,336 Годсд, Мануэль 96,116—117,119,
121,134,138,143 Гома 169,193,224,237 Гонсалес, Фелипе 344,364,373 Гонсалес Дуро, Энрике 16, 267 Гримау, Хулиан 343 Гриффитс, Стентон 308 Грэхем, Хелен 222 Гуарнер, Висенте 68,155 Губерн, Рамон 32,55,133
Давила, Санчо 184 Давила, Фидель 191,195,202,
204,295
Дато, Эдуардо 60 Дельгадо Серрано, Франсиско 144,149
Диас, Кармен 79
Диес де Ривера, Франсиско 271
Диксон, Норман 11,50,155,175,
201,209
Доваль, Лисардо 114 Достоевский, Федор Михайлович 369
Дуарте де Перон, Эва (Эвита)
299,300
Дуррути, Буэнавентура 166
Елизавета II315
Ибаррури, Долорес (Пасиона-рия) 189,210,215 Идальго, Диего 108—109,111-114 Иден, Антони 206, 263,282
Изабелла, Католическая 269,311 Изабелла II 26 Иоанн XXIII334,344 Исабель 58
Искиердо Феригела, Антонио
361,364
Кабальеро, Франсиско Ларго 125—126,149,163 Кабанельяс, Мигель 94,103,134, 149,152,155,157,159 Кабанильяс, Пио 363 Кальво Серер, Рафаэль 317 Кальво Сотело, Леопольдо 372 Кальво Сотело, Хосе 116,119,
122,126,129,132,184,327 Камбо, Францеск 269 Кампинс, Мигель 137 Канарис, Фридрих Вильгельм 142,163,242,247,251 Канталупо, Роберто 172-173, 180-181
Карденас, Хуан Франсиско де 253 КарлУ 38 Карр, Рэймонд 135 Карреро Бланко, Луис 257,270, 292,299,312,314,330,332-333, 339,340,342-343,347-348,350, 352-355,358,359,361 Каррильо, Сантьяго 362 Карсельер Сегура, Деметрио 247 Касадо, Сегисмундо 213 Касарес Кирога, Сантьяго 90,126, 129,136
Кастехон, Антонио 153,167 Кастиэлья, Фернандо Мариа де 307,313,331,344-345,354 Кейпо де Льяно, Гонсало 65,89, 94,131,134,137-138,140,143, 147-148,152,155,159,165,170-171,183,189,202,226-227 Кемп, Питер 150, 212
Кеннеди, Джон Фитцджералд 339 Кестлер, Артур 189 Кинделан, Альфредо 5,81,88,96, 141-142,152,154,162,177,191, 193,257,264,268,273,283-284,
293,295
Киндер, Марша 261 Кинтанилья, Луис 81—82 Киссинджер, Генри Алфред 355 Клейн, Мелани 34, 208 Колумб, Христофор 29,79,161,303 Компанис, Луис 246 Кордобес 346
Лабаньи, Джо 86 Лекерика, Хосе Феликс де 241, 280,290,301,303,306-307 Ленин (Ульянов), Владимир Ильич 126
Леррус, Алехандро 89,103,107— 108,111,114—118 Летэн, Хью 358,368 Ллойд 236
Лоллобриджида, Джина 343 Лопес Браво, Грегорио 342,354— 356
Лопес Очоа, Эдуардо 94,111-112 Льянсиа, Карлос 150
Майо, Альфредо 260 Маккарти, Джозеф Реймонд 306 Маллет, Виктор 283,291 Маллет, Иво 325 Мао Цзэдун 306 Мария дель Пилар 317 Маркос, Имельда 356 Мартин Артахо, Альберто 291, 330-331
Мартинес Анидо, Севериано 202 Мартинес Баррио, Диего 136,213 Мартинес Бордиу, маркиз де Вильяверде Кристобаль 309,318, 353,362-363
Мартинес Бордиу, Мария дель Кармен 356
Мартинес Кампос, Карлос 325 Мартинес Лопес, Франсиско 37 Маура, Антонио 44—45 Маура, Мигель 283 Миаха, Хосе 165,213 Миллер, Уэбб 153 Мильян Астрай, Хосе 61—65,69, 70,72-73,81,83,105,142,152, 154,159-162,171 Мола, Эмилио 43,55,81,89,91, 95-96,116,126,135-136,139— 141,143,145,147-149,151-152, 159,162,164,166,168,170,177— 179,183,190-192 Молеро, Николас 119,121 Мольтке, Ганс Адольф фон 275 Монастерио 81 Монке, Ноэл 176 Монтгомери, Бернард Лоу 275 Монтини, Джованни Баттиста (см. Павел VI)
Москардо, Хосе 119,137,174,249, 273
Муньос Грандес, Агустин 269, 272,312,325,331,334,340,342, 347-348,350
Муссолини, Бенито 5,6,116,119, 123,132,142,146,166-168,170— 172,174,176,186,195,198,201, 204-205,207,211,223,230,236, 238-239,244-248,254-255,257, 272,274,276,286-287,291,301,336 Мухаммед V 321
Наварро Рубио, Мариано 332,
337,339
Наполеон 147,103,219 Насер, Гамаль Абдель 330—331 Негрин, Хуан 208,213
Нелькен, Маргарита 103,189 Ненука (см. Франко Поло, Кармен)
Никсон, Ричард Милхаус 355—356 Ньето Антунес, Педро 232,359
Оргас, Луис 81,96,100,131,142, 152,159,168,170,173-174,258,
263,268,273,278,296 Ортега-и-Гассет, Хосе 134
Павел VI (Монтини, Джованни Баттиста) 343
Пакон (см. Франко Сальгадо-Араухо, Франсиско)
Пасионария (см. Ибаррури, Долорес)
Перейра, Педру Теотониу 216 Перес, Блас 318 Перон, Хуан Доминго 298 Петен, Анри Филипп 78,224,238, 241
Петерсон, Морис Драммонд 224, 238
Петтаччи, Клара 286,301 Пий XII 156,224,315 Пикассо, Пабло 182 Пикассо, Хосе 67 Пиночет У гарте, Аугусто 368 Пиньяр, Блас 361,363 Пла-и-Даниэль 309 Поло-и-Мартинес Вальдес, Зита 82,85
Поло-и-Мартинес Вальдес, Мария дель Кармен 57—58,61,69, 75,80,85-86,99,109,123,131,
185,187,235,271,298,300,310,
312,330,335,353,356-357,359, 362-363
Портела Вальядарес, Мануэль
118-122
Посас, Себастьян 120-122,137 Посуэло 366
Престон, Пол 16,47,62,103,307,
310,373
Прието, Индалесио 125—126,129, 140
Примо де Ривера, маркиз де Эстелья Мигель 73—74,76-77, 82-83,87,116,183,294 Примо де Ривера, Мигель 307 Примо де Ривера, Пилар 187,221 Примо де Ривера, Хосе Антонио 84-85,116,119,120,124,139,165, 184,221,235-236,257,307,368 Пуэнте Баамонде, Рикардо де ла 113,135
Риббентроп, Иоахим 244—245,249 Ривас, Наталио 81—82 Ридруэхо, Дионисио 187,268,
327.364
Рихтгофен, Вольфрам фон 166, 170,179,182
Роатта, Марио 143,167,170-175, 178
Родесно, де 184
Родригес, Хулио 358
Родо, Лауреано Лопес 329,332—
333,340,347,352-353,355,359
Росалес, Игнасио 160
Рохо, Винсенте 81,165,194,196,
199,204,213
Роча, Пилар де ла 37,266 Рузвельт, Франклин Делано 6, 273,280,285
Руис Хименес, Хоакин 313,326—
327.364
Салазар, Антониу де Оливейра
146,243,266,361 Салазар, Алонсо Рафаэль 111 Саликет, Андрес 170
Салом, Хайме 19,21,34,36—37,
48,55,80,221,225,267 Санхурхо, Хосе 72,74,78,87,91, 93,95,97,103-106,115-116,125, 132,139
Санчес, Хосе 232 Санчес, Хуан Антонио 313 Санчес, Хуан Баутиста 311,330 Сегура, Педро 237-238 Сервантес Сааведра, Мигель де 46 Серрано Суньер, Рамон 9,82,84, 89,110,123,124,165,183-185, 198,201-202,214,225,231-232, 235,237,242,245,247,249,256— 258,260,262-263,268-269,271-272,280,305
Солис, Хосе 347,352-354,365 Сольчага 204 София Греческая 341 Сталин, Иосиф Виссарионович 5,
81,158,164,231,262,291,296 Суарес Гонсалес, Адольфо 372 Субиран(полковник)53 Субиран, София 53-54,57-58
Тевеляйт, Клаус 49,50,70,151 Телья, Эли Роландо де 144 Техеро, Антонио 372 Томас, Хью 140-141,171,177,307 Трумэн, Гарри 285,298,301,312 Тускетс, Хуан 219
Уитекер, Джон 138,144—146, 149-150,160,164,167,175 Ульястрес Кальво, Альберто 332 Унамуно, Мигель де 161—162 Уолтерс, Вернон 356 Утрера Молина, Хосе 358,360, 364-365
Уэйт, Роберт 217,228,264 Уэтор, Пура271
Фалделла, Эмилио 172-173,179 Фа ль Конде, Мануэль 169,184
Фанхуль, Хоакин 96,116-119,
137,143
Фаупель, Вильгельм 165,167,
178,192 Фелипе 350
Фернандес Куэста, Раймундо
202,312,326
Фернандес Миранда, Торквато 354,358-359
Фернандес Сильвестре, Мануэль
63,66,71
Фест, Иоахим 12
Филипп II 240
Фокс, Розалинда Пауэлл 247
Фрага Ирибарне, Мануэль 342—
345,347-349,352,361
Франко Баамонде, Николас 15,
18,20,22-23,33,36,38,48,117, 152,183,185,187,195,202,207,
263,266-267,271,301,310,355-356,363
Франко Баамонде, Пас 32,34-35, 38,56
Франко Баамонде, Пилар 15,18,
20,22,24,29,38,48,162,207,267 Франко Баамонде, Рамон 15,20, 23,31,48,79,80,84,88-91,95,99, 101,117,135,162,207-208,218, 303,327,345
Франко Вьетти, Франсиско 13 Франко де Побиль 79, 267 Франко-и-Санчес, Николас Мануэль Теодоро 13 Франко Поло, Кармен (Ненука) 80,131,283,309-310,314,353 Франко Пуэй, Эухенио 14 Франко Сальгадо-Араухо, Николас 13—15,17—21,23—25, 28-29,31-32,34,36-38,48,55, 75,78,85,108-110,221,266 Франко Сальгадо-Араухо, Франсиско (Пакон) 15—18, 22, 33-38,41,46-48,53,55-57,64, 67-69,76,80,82,89,101,104-105,113,123,127,129,131,142,
207,266-267,302,314,323,330, 334,365-366 Франко Сальгадо-Араухо, Эрменехильда (Хильда) 13-14, 17,33,193
Фрейд, Зигмунд 22, 32 Фромм, Эрих 9,10,50,66,203 Фрэзер, Роналд 135
Хайме 356
Халл, Корделл 253
Хараис Франко, Пилар 35,266
Хейес, Карлтон 276—277, 279
Хилл, Джордж 17,20-21
Хиль, Висенте 362
Хиль Роблес, Хосе Мариа 108,
111,114,116-118,120,122,126,
184,283,327
Хильда (см. Франко Сальгадо-Араухо, Эрменехильда)
Хименес, Кабальеро Эрнесто 101-102,162,181,212 Хираль, Хосе 136,149,292 Хирон де Веласко, Хосе Антонио 258,274,312,314,326,329,332,
353,361
Ходсон, Роберт 199,203 Хордана, Франсиско Гомес 202, 223,232,271-273,275,280 Хоур, Сэмюэл 231,238—239,242, 250,257,262,274,279,283 Хрущев, Никита Сергеевич 344 Хуан де Бурбон 5,147,169,198, 202,277-278,283,284,295,299, 301-303,306,312,317-320,334, 341-342,350-352,356,361 Хуан Карлос 18,92,292,302,306, 312,317-320,325-327,341,350-352,356-357,359,362-363,366,
370-371,373
Хупер, Джон 338,374
Чапаприэта, Хоакин 118 Чемберлен, Невилл 206,208—209 Черчилль, Рэндолф 174 Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер 6,209,242,247,275,280, 282,296,304
Чиано, Галеаццо 159,172,176, 201,218,227,246,254,257,275
Шпеер, Альберт 118,286,316 Шперрле, Уго фон 163,166,177—
179,182,192
Шторер, Эберхард фон 199, 240, 244,256
Штрунк, Роланд фон 167
Эванс, Питер 261
Эвита (см. Дуарте де Перон, Эва)
Эдилья, Мануэль 184,186—187,205
Эйзенхауэр, Дуайт Дейвид 6,314,
336
Экклс, Дэвид 250 Эль Греко, Доменико 38 Эрреро Техедор, Фернандо 365 Эспиноса де лос Монтерос, Эухенио 268 Эскобар, Иполито 14 Эстебан Инфантес, Эмилио 41,269 Эттли, Клемент Ричард 292
Юнг, Карл Густав 134
Ягуэ, Хуан 41,81,113-114,132, 144-146,148,151-152,154,163, 200,204-205,207,232,242,273,278
СОДЕРЖАНИЕ
По вопросам оптовой покупки книг издательства ACT обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж Тел,. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13
Книги издательства ACT можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, ACT - «Книги по почте»
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству ACT.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Научно-популярное издание
Ходжес Габриэлла Эшфорд
ФРАНКО Краткая биография
Редактор B.C. Ефремов Художественный редактор О.Н. Адаскина Компьютерный дизайн: Ю.Ю. Герцева Технический редактор О.В. Панкрашина Младший редактор Е.А. Лазарева
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953004 — научная и производственная литература
Гигиеническое заключение № 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002 г.
ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса: E-mail: astpub@aha.ru
ЗАО HIUI «Ермак»
115201, г. Москва, 2-й Котляковский проезд, д. 1, стр. 32
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.
Генерал Франко.
Один из самых противоречивых политиков мировой истории XX века.
Безжалостный «каудильо», душивший гражданские свободъ Испании и бросивший за решетку цвет национальной инте7\лигенции, диктатор, неизменно находивший сторонников и имевший широкую поддержку в своей стране
ЕДИНСТВЕННЫЙ из союзников Германии, не только избежавший наказания после Второй мировой войны, но и остававшийся на вершине власти до конца жизни. Тиран — и кумир...
КАКИМ ОН БЫЛ?
КАК жил, о чем думал, что пытался совершить?
Генерала Франко яростно ненавидели и столь же яростно поддерживали. Но теперь, когда он принадлежит истории, можно попытаться ЕГО ПОНЯТЬ...
Историческая библиотека
1
Спичечка (исп.).
(обратно)2
Генералишко (исп.).
(обратно)3
1 м 60 см. — Примеч. ред.
(обратно)4
Пако — уменьшительное от Франсиско; Пакон — значит «Пако Большой». — Примеч. пер.
(обратно)5
Военное училище в Великобритании. — Примеч. пер.
(обратно)6
1 м 83 см. - Примеч. ред.
(обратно)7
Майоришко (исп.). — Примеч. пер.
(обратно)8
Да здравствует смерть! (исп.) — Примеч. пер.
(обратно)9
Испанский парламент. — Примеч. пер.
(обратно)10
Вождя Иностранного легиона. — Примеч. пер.
(обратно)11
Отряд инвалидов (исп.). — Примеч. пер.
(обратно)12
Добровольческий корпус (ип). — Примеч. пер.
(обратно)13
На смертном одре (лат.). — Примеч. пер.
(обратно)14
Соглашение с Ватиканом по делам католической церкви в стране. — Примеч. пер.
(обратно)


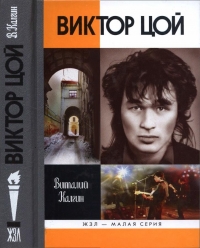


Комментарии к книге «ФРАНКО. Краткая биография», Габриэлла Эшфорд Ходжес
Всего 0 комментариев