Константин Сахаров Белая Сибирь. Внутренняя война 1918–1920 гг
© «Центрполиграф», 2018
Белая Сибирь. Внутренняя война 1918–1920 годов
Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, которым и своя шейка – копейка, и чужая головушка – полушка.
А. С. Пушкин. Капитанская дочка
От автора
Пользуясь первым выпавшим мне свободным временем, я намерен записать, хоть коротко, последовательный ход событий в восточной части России за 1918, 1919 и 1920 годы. Как один из участников и очевидцев этих событий, я не вправе, понятно, произнести какой-либо приговор, не собираюсь также изрекать истин, делать окончательных выводов. Истина лежит вне усилий единоличных, приговор скажет беспощадная и справедливая история, а правильные выводы сделает сама жизнь.
Моя цель – исполнить только мой долг: записать для моих соотечественников, совершенно правдиво и беспристрастно, те условия, в которых проходила борьба антибольшевиков, то есть побуждающие причины, что двигали и управляли этой борьбой, раскрыть состояние и настроение народных масс, показать приемы борьбы и те обстоятельства, которые повлияли на ее неуспех.
Глубокая вера живет в нас всех, что Родина – великая Россия не может исчезнуть, что она возродится, несмотря на все противодействия, от кого бы они ни исходили. Народ, сумевший в течение своей тысячелетней истории образовать величайшую в мире империю, давший человечеству дары блестящего гения, вынесший из своей массы плеяды мировых писателей, ученых, художников и композиторов; страна, спасавшая не раз Европу и общечеловеческую культуру, воспитавшая в себе дух самопожертвования, поставившая искание правды и нравственной справедливости превыше материальных благ; народ, всегда искавший Бога, – такие страна и народ не могут погибнуть или ассимилироваться с другой культурой, чуждой русским историческим путям и задачам.
Возрождение России будет скорее, чем многие предполагают; оно придет изнутри, из масс самого народа. Наша общая вера в нашу Родину и ее судьбы оправдается; наша общая работа и великие жертвы русского народа не пройдут безрезультатно.
Восстанавливать свой разрушенный дом мы должны сами, своими руками. Преступно рассчитывать, что кто-то может сделать это за нас. Нет сомнения, мы имеем друзей среди других стран, народов и наций. Но не надо ни на минуту забывать, что все эти друзья заняты своими собственными делами и заботами, почти никто из них не уясняет да и не может уяснить себе истинного состояния масс и необъятных пространств России и не знает ни исторического хода развития нашего государства, ни лежащего теперь перед ним правильного и исторически-естественного пути. Да кроме того, обычно эти иностранные друзья при своей помощи восстановлению государства Российского руководствуются своими эгоистическими целями. И эти скрытые цели всегда противоположны интересам России, вредны для нее.
Нам самим зачастую трудно понять и уяснить происходящее. Ведь от разности этого понимания и затянулась так гражданская братоубийственная война, – от разности понимания или от незнания, незнакомства со многими событиями, настроениями и руководящими целями.
Чтобы успешно действовать, строить, надо правильно оценить условия и взять верное направление; а чтобы правильно судить, необходимо знать возможно подробнее и полнее о той совокупности внутренних и внешних факторов, которые влияли на жизнь нашей страны. Надо знать правду о России. Чтобы людям правильно выполнить свою задачу завтра, им необходимо быть осведомленными о том, что было сделано сегодня и вчера и как было сделано.
Цель настоящей книги – раскрыть это вчерашнее. Предмет ее – описание событий в Восточной России с осени 1918 до весны 1920 года.
Все написанное является результатом лично пережитого. Мне пришлось работать в исключительных условиях, находясь почти в самом центре этого огромного русского напряжения, среди больших русских людей и патриотов.
Очень хотел бы этой книгой помочь и иностранцам, расположенным искренне к России, желающим принести ей пользу, и всем друзьям нашей Родины, – разобраться немного в русском вопросе и получить представление о том, что нужно России и русскому народу. Для этой цели необходимо показать тот, может быть невольный, но большой вред, какой принесла русскому народу пресловутая интервенция союзников-иностранцев. Представляю факты, встречи и действия в их неприкрашенном виде; пусть это не будет истолковано как результат недружелюбного чувства, как результат каких-либо ориентаций. Нет, но при описании такого сложного процесса борьбы, при беспристрастном рассказе событий нет возможности все хвалить или обходить неприятные стороны молчанием.
А мое стремление – дать полный очерк всего хода событий и беспристрастное описание их. Если невольно, местами иногда проявится мое личное чувство и излишние подробности, прошу снисходительности, так как все пережитое очень еще свежо и слишком больно затронуло оно каждое русское сердце.
Нью-ЙоркОктябрь, 1920 г.Мой труд, написанный по свежей памяти и с использованием части сохранившихся и собранных документов, пролежал два с половиной года. Многие обстоятельства делали его опубликование преждевременным и нежелательным.
Теперь, когда препятствия эти устранились, я имею возможность напечатать книгу о Белом движении в Сибири, руководимый той целью, о которой говорю выше.
Некоторые собственные имена мною поставлены лишь в инициалах, – из-за опасения повредить людям досягаемым для Чрезвычаек 3-го Интернационала. Но все эти фамилии у меня имеются, и, когда придет время, они займут в книге свое место. Точно так же я нахожу еще рано давать подробности и освещение некоторых фактов, останавливаться более детально на характеристиках и оценке деятельности отдельных лиц, равно и опубликовывать часть документов, оставляя все это до другого раза.
При выполнении настоящего труда я начал подбирать и систематизировать материалы, касающиеся Белого движения в Сибири, и буду продолжать это дело; буду весьма признателен, если кто-либо из участников Гражданской войны в восточной части России найдет возможность поделиться со мною новыми документальными данными. Со своей стороны, все собранные документы, включительно до нескольких собственноручных адмирала А. В. Колчака и других деятелей, будут мною переданы в русский официальный архив, когда таковой снова появится после свержения в России власти большевиков.
Рисунки, помещенные в этой книге, принадлежат карандашу поручика Михайловского стрелкового полка Л., давшего их мне еще летом 1919 года. Его, лиц, помогших мне доставлением документов и в подыскании новых, а также всех, оказавших помощь при печатании моего труда, прошу принять мою искреннюю благодарность.
МюнхенИюль, 1923 г.Глава 1 Борьба за власть
1
После долгих и трудных странствий, частью верхом, частью на телеге, через киргизские песчаные степи, приехали мы с женой из Астрахани в Уральск, дважды перейдя красный фронт. Впервые после почти годового пребывания в Советской России и после шестимесячного заключения в большевицкой тюрьме я попал в город, где свободно развевался русский национальный флаг. Была осень 1918 года. По всей шири Руси от Карпат и до Тихого океана вспыхнули восстания против большевиков. Самые разнообразные слои, классы и национальности русского народа поднялись против угнетателей и кровавых тиранов, захвативших власть в стране именем народа и для народа. Русь восстала против интернационала.
Эти восстания были разрозненны и неорганизованны. Это было чисто стихийное движение. Только на Волге и к востоку от великой русской артерии восстания русских людей нашли помощь и поддержку в Чехословацком корпусе, примкнувшем к ним в своем стремлении пробить путь на восток.
Отрывочные сведения обо всем этом доходили и в большевицкий стан, достигали и Астраханской тюрьмы, где нас сидело свыше ста офицеров; сердца были полны надеждой, казалось, что все мы, русские люди, довольно уже научены пережитой революцией, чтобы не делать снова ошибок, чтобы объединиться для общей работы по очистке нашего дома России от большевицкой нечисти.
Уральск напоминал растревоженный муравейник. Все население жило одним общим интересом – разбить красные полчища большевиков, отнять у них Саратов и Астрахань для соединения с Добровольческой армией генерала Деникина. В станицах проходила мобилизация, и все мужчины шли в ряды сражающихся; не хватало винтовок, шашек и пик, – шли с вилами и косами, составляя особые отряды для поддержания первой линии.
Все политические лозунги были отброшены. Одна мысль управляла этим народным движением: покончить с большевизмом и тогда заняться разрешением вопросов внутреннего устройства. В этом казаки сходились с самарскими и саратовскими крестьянами и соединились с ними для борьбы против общего врага.
В Уральске впервые пришлось узнать отголоски правдивого положения на новом белом фронте. Грустными, похоронными аккордами прозвучали известия с Волги.
– Казань отдали большевикам…
– Сколько там погубили людей. Какие огромные запасы оружия и военного имущества оставили красным…
– Пал Симбирск…
– Самарское правительство не желает поддерживать казаков и Сибирскую армию…
Помню заседание Уральского казачьего круга и доклад на нем делегатов, вернувшихся из Уфы с так называемого Государственного совещания. Зал наполнен серьезными бородатыми казаками, только отдельными пятнами мелькают пять-шесть молодых безусых лиц; глаза у всех смотрят пытливо и напряженно; так искренно, с таким страстным желанием найти правильный путь, путь объединения в борьбе. И иметь в ней успех. Полная тишина и порядок, в отличие от всех шумных и говорливых собраний 1917 года.
Два казака, приехавшие из Уфы, делают доклад. Тихо и медленно говорят они по очереди; каждое слово их звучит в этой тишине так четко, как благовест ночного колокола.
– …Образовали Российскую директорию из пяти лиц: Авксентьев, генерал Алексеев, Чайковский, Астров и Вологодский; так как некоторым прибыть сейчас нельзя, то будут их заместители; сейчас состав такой: председатель директории Авксентьев; члены: генерал Болдырев, Вологодский, Зензинов и Виноградов.
Порешили на совещании, что вся полнота власти сосредоточивается у директории. Все остальные правительства должны подчиниться ей…
Мы подписали за уральское казачество это обязательство, чтобы Россия могла объединиться в борьбе против большевиков.
Ни слова возражения. В глазах и на лицах спокойная радость удовлетворенных ожиданий и окрепшей надежды.
– Согласен ли круг и одобряет ли действия избранных делегатов? – спрашивает председатель.
– Согласны, согласны… – проносится дружное эхо всего круга…
Из Уральска я отправился автомобилем в Бузулук, чтобы оттуда проехать через Самару в Уфу, в новый Главный штаб для получения назначения.
Путь до Бузулука, сам этот городок самарских черноземных степей, дальше тряский вагон до Самары, набитый пассажирами так, что в четырехместном купе нас уплотнилось десять человек, – все дышало какой-то сумятицей, взволнованностью, неуверенностью. Крестьяне бузулуцкого большого села Марьевка, где мы остановились на ночлег из-за поломки автомобиля, жаловались мне на чехов и на новое правительство учредителей за то, что те произвели жестокую экзекуцию этого села.
– Вишь ты, ваше благородье, или как тебя называть, не знаем, – у нас некоторые горлотяпы отказались идти в солдаты, ну, к примеру, как большевики они. А мы ничего, мы миром решили идти. Скажем так: полсела, чтобы идти в солдаты, а полсела – против того.
Пришли зато две роты чехов и всех перепороли без разбору, правого и виноватого. Что ж, это порядо-ок?
– Да еще как-то пороли! Смехота! Виновных-то, самых большевиков, – не тронули, а которых хорошие мужики – перепороли. Вон дядя Филипп сидит, сидеть не может, а у него два сына в солдаты в Народную армию ушли.
Крестьяне сочувственно и безобидно засмеялись, а дядя Филипп неловко заерзал на лавке.
– Что ж, барин, и когда конец будет этому? Кто порядок-то установит? – обратился ко мне с вопросом старый крестьянин в армяке и лаптях.
Все сдвинулись ближе.
Я старался объяснить им, что теперь порядок можно установить только самим нам, всем сообща, покончив с большевиками. Слушали крестьяне молча, а в конце дядя Филипп ответил за всех:
– Эх, не то, барин, – нам бы какая власть ни была – все равно: только бы справедливая была, да порядок бы установила. Да чтобы землю за нами оставили. Если бы землю-то нам дали, мы бы все на царя согласились.
– Да уж чего тогда бы лучше! – раздались голоса в толпе.
Меня, как жившего в Самарской губернии раньше, до войны, не удивил этот заключительный аккорд, так как тамошние крестьяне всегда отличались большим, почти святым почитанием царя; все они большие хлеборобы, и редкий делал запашку меньше чем двадцать – двадцать пять десятин. Постоянная мечта их была разжиться землицей, прикупить ее; ну а здесь такая благодать – даром свалилась.
Но меня поразило, что наши дивные черноземные самарские степи, эта житница России, лежали теперь почти нетронутыми. Десятки верст пробегал автомобиль, далеко, до самого горизонта уходила волнистая плодородная степь, и только редкими местами попадался табор пахарей или плуг в работе среди черного блестящего вспаханного поля. В прежние годы, в сентябре, бывало, вся степь была черным-черна, вся грудь ее распахана для нового весеннего посева.
В селе Марьевка несколько тысяч населения и, несмотря на будни, почти все оставались дома. На мой вопрос о причинах такой перемены как раз теперь, когда они завладели всей землей, крестьяне ответили так:
– Видишь, барин, нам это неспособно: одно дело, кто землю-то нам продал? Неизвестно. Какие они права имели землю-то отдавать? Ее распашешь, а потом отвечай. А другое дело война, – все равно пропадет. Ты посеешь, потрудишься, а Красная армия придет, половину стравит, а другую половину отнимет…
В Бузулуке я увидел 1-й полк новой Народной армии. Без погон, со щитком наподобие чешского на правом рукаве, почему-то с георгиевской ленточкой, вместо кокарды, на фуражке. Вид полутоварищеский. Сам городок, обычно шумный, центр одного из наиболее хлебородных уездов России, жил теперь тихой, спрятанной жизнью, точно дом, из которого уехали главные хозяева.
В вагоне пришлось ехать вместе с несколькими офицерами. Два из них сидели, а одному места не хватило, стоял. В углу же разместился какой-то железнодорожник с яркой желто-голубой «украинской» ленточкой в петличке и на утрированно хохлацком жаргоне разглагольствовал о «самостийной Украине». Слушал его поручик, слушал да и говорит:
– Вот что, пане добродию, вылезайте-ка из угла, я хочу сидеть. Дорога-то ведь наша русская, да и Самарская губерния тоже Россия, ей в Украину не попасть.
– Как так? Позвольте, какое вы имеете право? – перешел на литературный русский язык желто-голубой железнодорожник.
– А такое, пане добродию, что я русский, значит, здесь дома у себя, хозяин. Вот поезжайте на Украину, там и посидите. Ну, вылезайте!
Сконфуженно оглядываясь, под смех остальной публики вышел новоявленный украинец из купе и даже из вагона.
Ехали и делились впечатлениями, интересами текущих дней, событиями войны с большевиками. Офицеры Народной армии высказывали недовольство отношением к ним и их полкам Самарского правительства, что развели опять политику, партийную работу, скрытых комиссаров, путаются в распоряжениях командного состава; начали чехословаков втягивать во внутреннюю политику, проводя среди них то же, что Керенский проводил в 1917 году в русской армии для ее развала.
Выяснялось, что Самарское правительство учредителей пропагандирует всячески против Сибирского правительства и Сибирской армии, называя их «монархическими и контрреволюционными»; а в то время если что и можно было поставить в вину сибирякам, то это их слишком сильный крен в сторону социалистов-революционеров.
Оказалось, что много надежд возлагалось в то время русскими людьми на союзников. Как раз в то время прозвучали торжественно на весь мир ноты английская, французская, итальянская, японская и американская. Все они призывали русский народ к продолжению войны против Германии и «их прислужников и агентов, большевиков». Все они заявляли о своей готовности активно поддержать в этом Россию и клялись, что не преследуют никаких личных целей, что ни одна пядь Русской земли не будет никем занята.
До чего была сильна и наивна эта вера русских в помощь союзников! Одна девушка-курсистка, ехавшая из Бузулука на высшие курсы в Самару, уверяла, что на Волгу направляются пять японских дивизий, что «в Самару приехали уже триста японцев-квартирьеров»…
Подтверждались тревожные слухи с Волжского фронта. Передавали об ужасной ситуации в Казани, где Лебедев и Фортунатов, два партийных работника, забрали власть в свои руки, митинговали с рабочими во время боев, вели переговоры с большевиками и предали армию.
Самара произвела жуткое впечатление. Большой город, центр торговли Поволжья, с несколькими стами тысяч жителей, казался обреченным местом, ждущим своего приговора и часа. Огромная толпа, улицы полны народом, но все двигается тихо, без обычного шума. Почти на всех лицах написано боязливое, тревожное ожидание и мольба о спасении.
Многие из слухов подтвердились. Я нашел здесь своего однокашника по кадетскому корпусу, полковника С. А. Щелихина, который исполнял должность начальника штаба Народной армии при командующем Волжским фронтом, чешском поручике Чечеке, произведенном учредителями в генерал-майоры. Вот какими приемами искали они себе опору и сторонников!
Положение было хуже 1917 года; чехи под влиянием пропаганды уже разваливались, воевать не желали; Народная армия была крепка только офицерами и добровольцами, да и то в частях, к которым эсеры получали доступ, там исчезала дисциплина, а с нею вместе и боеспособность. Только отряды полковников Каппеля и Степанова оказывались всюду сильны и духом, и боевыми качествами, так как эти начальники не подпускали и близко к своим войскам социалистов.
Они брали Казань, Симбирск. Каппель проявлял прямо чудеса маневра со своим маленьким отрядом. Но в Казань, сейчас же по взятии ее, нагрянули эсеры и так все перепортили, что наши едва успели уйти, некоторые там и остались большевикам. Бросили одного сукна на пятимиллионную армию, более ста аэропланов с огромным имуществом, массу пулеметов, патронный завод; в Симбирске оставили огромный инженерный парк всей императорской русской армии.
А все оттого, что учредители мешали и противодействовали вывозу: боялись, что все это может попасть в руки Сибирской армии. А понятно, по Волге почти все можно было вывезти.
От других офицеров пришлось слышать рассказы о таких же непорядках в Хвалынске, Вольске, Николаевске. Офицерство и добровольцы были возмущены до крайности.
– Мы не хотим воевать за эсеров. Мы готовы драться и отдать жизнь только за Россию, – говорили они.
– Такое предательство, хуже 1917 года, – горячо рассказывал мне капитан, трижды раненный в германскую войну и два раза уже в боях с большевиками. – Как только успех и мало-мальски прочное положение, они начинают свою работу против офицеров, снова натравливают массы, мутят солдат, кричат о какой-то контрреволюционности. А как опасность, так офицеры вперед. Посылают прямо на уничтожение целые офицерские батальоны…
Когда я приехал в Самару, оттуда шла уже спешная и довольно беспорядочная эвакуация, управляемая чешскими комендантами.
– Завтра[1] будут брать места в поездах уже с револьверами в руках…
2
С большими трудностями и неудобствами, бесконечно долго простаивая на самых маленьких станциях, добрались до Уфы.
Здесь на вокзале стоял оцепленный чешскими часовыми поезд, состоявший из шести классных пульмановских вагонов. Часовые никого не пропускали, образовав на платформе около вагонов большой свободный полукруг.
– Чей это поезд? – спросил я одного чеха.
– Нашего генерала Дитерихса.
– Какого Дитерихса, русского генерала?
– Ну да, а теперь он нами командует, наш генерал.
– Могу я его видеть?
– Да, только его сейчас здесь нет, он поехал в город автомобилем на совещание с директорией.
Отправился я в штаб Верховного главнокомандующего генерала Болдырева, члена директории. И штаб, и директория, и все ее канцелярии помещались в большой «Национальной гостинице». Здесь сразу пришлось окунуться в обстановку, напоминавшую до жуткости недоброй памяти дни лета и осени 1917 года. Та же беспорядочно снующая без дела толпа, масса юрких штатских брюнетов с горбатыми носами, всюду грязь, неубранный сор, стучат пишущие машинки, здесь же доступный для всех телеграф с армейскими аппаратами Юза.
Шел длинными коридорами, ни от кого не мог добиться толку, как пройти к начальнику штаба. Наконец в самом конце коридора, при входе в ресторанный зал один офицер мне помог.
– Да вон он сидит у стола, генерал Розанов, начальник штаба.
Опять старый знакомый, еще с довоенного времени, с которым вместе сражались в памятных героических Люблинских боях августа 1914 года. Тепло встретились. Оказалось, что генерал Розанов только несколько дней сам прорвался через большевицкий фронт.
– Шел в красной рубахе, как простой крестьянин. Сначала свои пускать не хотели, взяли под подозрение.
Рассказал коротко ему и мои злоключения у большевиков в тюрьме, случайное спасение и как дважды пробирался через их фронт.
Здесь же встретил своего давнего приятеля, полковника Генерального штаба Д. А. Лебедева, который работал на Дону вместе с генералами Корниловым и Алексеевым, а теперь пробрался сюда из Добровольческой армии через Москву. Затем вскоре подошел уральский казак, генерал-майор Хорошкин, оказавшийся однокашником по кадетскому корпусу.
Оба они были в Уфе уже несколько недель, с самого Государственного совещания. Несколько часов проговорили мы; оба они по очереди, один дополняя другого, нарисовали мне обстановку, военную и политическую, среди которой родилась Российская директория.
Из рассказов еще многих очевидцев тех дней и из тогдашних уфимских газет устанавливается такая картина. После начала восстания, когда отряды русских офицеров и добровольцев, поддержанные чехословаками, свергли иго большевиков и рассеяли их красноармейские полки, образовалось много местных правительств. В Самаре знаменитый Комуч (Комитет членов Учредительного собрания, или, как тогда больше называли, учредиловки), в Уральске – казачье правительство, в Оренбурге – атаман Дутов с Оренбургским казачьим кругом, в Екатеринбурге – Уральское горное правительство, образованное евреем Кролем и имевшее всего один уезд территории, в Омске – Сибирское правительство, в Чите – атаман Семенов, на Дальнем Востоке, в Харбине и Владивостоке одновременно три правительства: генерала Хорвата, еврея Цербера и коалиционное.
В то же время отряды чехов были рассредоточены по всей линии Великого Сибирского пути, от Волги до Тихого океана, их военное начальство и политический комитет отдавали свои распоряжения и пытались также управлять.
Получалась полная разноголосица и сумбур. Тогда было созвано в Уфе Государственное совещание для выбора единой авторитетной российской власти.
В совещание вошли представители большинства перечисленных правительств, все наличные члены первого эсеровского Учредительного собрания, партии меньшевиков, эсеров, умеренных социалистов, кадетов и представители от некоторых казачьих войск. Состав крайне пестрый, не выражавший народных масс (как и все собрания начиная с марта 1917 года) и с сильным преобладанием партийных социалистических работников; последние определенно вели линию этого совещания за признание Комуча как правительства Всероссийского.
Но на это не шли остальные члены совещания – несоциалисты. Дело чуть не расстроилось.
Вот тогда-то выступили на сцену чехи. Их политический руководитель доктор Павлу заявил на этом совещании от имени Чехословацкого корпуса, что если не будет образована единая власть, то чехи бросают фронт; причем было произведено им еще одно давление на совесть собравшихся и заявлено: чехи полагают, что единственным законным и революционным правительством будет то, которое признает Учредительное собрание первого созыва и которое будет в свою очередь признано и поддержано этими «учредителями». Для всякого русского было ясно, что под этим подразумевались социалисты-революционеры, то есть партия, ввергшая под руководительством своего лидера Керенского в 1917 году Россию в бездну разрушения, позора и гражданской войны.
Заявление Павлу, однако, заставило всех пойти на открытые уступки, оставив втайне свои истинные намерения. Очень быстро было достигнуто соглашение, которое и подписали все участники Уфимского государственного совещания.
В качестве всероссийской власти признавалась избранная этим же совещанием директория из пяти лиц под председательством Авксентьева, ближайшего сотрудника и партийного товарища Керенского. Далее следовал пункт, что директория ответственна в своих действиях перед Учредительным собранием первого созыва и что, как только соберется определенное число членов его (помнится, 250), директория обязана передать всю полноту власти этому кворуму учредиловцев.
Директория вступила во власть, то есть начала на бумаге отдавать распоряжения, писать к народу воззвания, выпускать международные декларации. Собиралась образовывать кабинет министров, причем еще на совещании было обещано взять готовый аппарат министров от Сибирского правительства в Омске. Почти все соглашение сделано в угоду Комучу, который примазался к Народной армии, восставшей на борьбу против большевиков.
Имея в своем составе более 60 процентов иудеев, учредиловцы, с присущим своей партии апломбом, не постеснялись еще раз назваться избранниками русского народа, не остановились перед преступной игрой еще раз на русской крови. Какое самодовольство звучало в словах – фронт Учредительного собрания!
И как раз теперь, когда все было сделано по их вожделениям, когда власть вторично после революции попадала в руки той же партии, она показала себя совершенно неспособной к какой-либо не то что творческой, а просто плодотворной работе.
Падали один за другим города на Волге. Отданы Хвалынск, Вольск, Сызрань, Самара, дальше отступили и очистили Нинель, Бугульму и подходили к Уфе. Вся местность, громко называвшаяся «территорией Учредительного собрания», оказалась уже к началу октября в руках большевиков.
Директория спешно укладывала чемоданы и готовилась к переезду. Куда? Вот вопрос, вставший перед всеми. Сначала хотели в Екатеринбург, как центр Урала и, так сказать, независимый город. Но казалось, слишком близко от боевого фронта и слишком ненадежно. Решено было ехать в Омск, в столицу Сибирского правительства, хотя здесь как-то сама собою напрашивалась всем мысль, что директория едет в гости, на готовое к сибирякам, у которых был уже сконструирован работоспособный аппарат управления, образована сильная армия; мобилизация среди крестьян и рабочих Сибири прошла так успешно, что была несомненна полная поддержка Сибирского правительства всем населением.
В Уфе я на несколько лет расстался со своим верным другом, – моя жена решила ехать в Саратов к оставшимся там детям, чтобы попытаться их вывезти ко мне на восток. Надежным путем была доставлена она в Нинель, где проходил тогда отступавший чешско-учредиловский фронт, оттуда на лошадях направилась в Самару. Исчезла надолго в кровавом тумане, которым социалисты-большевики окутали Русскую землю…
По приезде в Омск директории и разноцветной толпы беженцев сразу обнаружилось течение масс не в ее пользу; с другой стороны – директория оказалась настолько несостоятельной, что почти никто с нею не считался. Один раз, например, вечером в гостиницу «Европа», где жили члены директории, явились несколько человек из партизанского отряда Красильникова с криками, что они пришли арестовывать директоров. Этот скандал удалось локализировать только самому Верховному главнокомандующему генералу Болдыреву; но никаких мер воздействия, никакого наказания виновных фактически в государственном преступлении директория провести не могла. Власть была до того бессильна, что на вопросы генерала Болдырева к некоторым из кадровых офицеров «Какое место вы желаете занять?» он получал в ответ: «Я не желаю вовсе служить здесь, с эсерами…»
В народных массах к директории относились совершенно безразлично, слои интеллигентные неодобрительно, а армия на фронте буквально начинала ее ненавидеть и глухо волновалась, спрашивая, за кого же и для чего она будет проливать кровь и жертвовать жизнями, раз нет веры и нет малейшей очевидности, что новая мифическая власть может спасти и оздоровить Россию.
А признаки, подтверждавшие этот печальный вывод, все сгущались и увеличивались. Директория была в Омске более двух недель и все еще не могла сговориться об образовании общего российского аппарата министерства. Делами продолжал управлять Сибирский кабинет, причем один из его самых энергичных членов, сибирский военный министр генерал Иванов-Ринов, поехал в Читу и на Дальний Восток, чтобы там на местах наладить формирование армии и дело снабжения ее нашими русскими запасами и присланными от союзников.
В Омске шли долгие переговоры, различные персональные перестановки в проекте состава кабинета. Но дело не двигалось.
Адмирал А. В. Колчак (сидит), А. В. Тимирева (сидит рядом), генерал А. Нокс и английские офицеры Восточного фронта
В конце сентября приехал в Омск из Харбина адмирал Колчак в качестве частного лица и даже в штатском платье. Я был у него на третий день приезда, и мы проговорили целый вечер. Адмирал рассказывал мне подробно о своих поездках в Америку и Японию, о положении на Дальнем Востоке, о роли разных союзников-интервентов, причем смотрел он на все мрачными глазами. Он тогда, еще в октябре 1918 года, высказывал мысль, что союзники преследуют какие-то скрытые цели, что поэтому мало надежды на помощь с их стороны.
– Знаете ли, мое убеждение, что Россию можно спасти только русскими силами. Самое лучшее, если бы они совсем не приезжали, – ведь это какой-то новый интернационал. Положим, очень уж бедны мы стали, без иностранного снабжения не обойтись, ну а это значит попасть им в зависимость.
Я намерен пробраться в Добровольческую армию и отдать свои силы в распоряжение генералов Алексеева и Деникина, – закончил адмирал Колчак.
Около того же времени прибыл особым поездом, с пулеметами и целой командой, одетой в новенькую солдатскую форму с сине-белыми погонами, член Комуча Роговский. На вопросы, что означает такой приезд и каково назначение сине-белого отряда, Роговский давал ответ:
– Я прибыл в качестве министра полиции нового кабинета, а отряд мой есть кадр новой полиции, которую я начну образовывать по всей территории.
– ?!
Оказалось, что председатель директории Авксентьев дал в Уфе обязательство своей партии обеспечить портфель министра полиции для члена Комуча, которым и был намечен Роговский. Шито было слишком белыми нитками. Несомненно, что если Роговский образует всюду свою полицию, партийную эсеровскую, то фактически вся власть в стране попадает в руки опять этой злосчастной партии. На это никто не шел. Соглашение, почти достигнутое с сибиряками, вновь расстроилось.
В те дни часто произносилось незнакомое для меня имя генерала Нокса, причем многие говорили: вот подождите – приедет Нокс… Как будто его приезд, этого английского генерала, мог многое изменить, создать и дать опору. Я недоумевал, искал объяснения и не мог найти.
– Погодите, вот приедет Нокс – увидите, – отвечали мне.
3
Вскоре генерал Нокс прибыл в Омск в особом довольно скромном поезде в сопровождении небольшой свиты. Ему устроили почти царскую встречу, директория в полном составе была на вокзале, город и станцию разукрасили флагами, национальными и новыми сибирскими, бело-зелеными. Шпалерами стояли и парадировали молодые сибирские войска, одетые в шинели из мешочного холста.
В этот день, проходя по мосту через речку Омь, я встретил двух офицеров в английской форме. Один из них был полковник британского Генерального штаба Нильсон, мой хороший знакомый по могилевской Ставке в августе 1917 года, настоящий офицер; другой – русский полковник П. Родзянко, принятый на службу англичанами. Обрадовавшись друг другу, обменялись первыми фразами, – так много воды утекло с памятных нам Корниловских дней. Нильсон взял с меня обещание прийти к нему на чашку чая в тот же день вечером.
Генерал А. Нокс
Надо сказать, что между офицерами всех армий, настоящими офицерами, существует особая связь, стирающая в обычное время даже национальные грани. Недаром социалисты называли офицерство враждебно-презрительно кастой. Да, каста-корпорация, общество культивированной чести, самопожертвования и даже подвига. Без этого не может существовать ни одна армия, а значит, и ни одна страна. Этот дух культивировался веками и представляет одно из самых ценных составных человеческой цивилизации. Дух этот общий, присущий всем нациям. Оттого-то и чувствовали себя офицеры разных армий как бы членами одного ордена, братьями по духу, носителями одних традиций. Очевидно, оттого-то на русских офицеров и направился первый и полный ненависти удар со стороны разрушителей старой мировой христианской культуры, социалистов.
Генерал Нокс оказался очень общительным человеком: типичный англичанин, высокого роста, с моложавым не по летам лицом, в высшей степени smart, довольно хорошо говорил по-русски. От него я узнал, что Англия готова помогать антибольшевицким русским армиям оружием, патронами, всяким военным снабжением и обмундированием на 200 тысяч человек; кроме того, посылает в Сибирь несколько сот своих офицеров в качестве инструкторов на помощь нам, русским офицерам. Для активной помощи направляется два батальона английских войск, Мидлсекский и Хэмпширский, и целая дивизия в полном составе из Канады.
Прямо в глазах зарябило от таких цифр. Чисто британский жест. Ведь это все обещало действительную помощь в восстановлении нашей Родины, великой России, и давало нам полную надежду.
В поезде генерала Нокса встретил нашего русского генерал-майора Степанова, тоже старого знакомого еще в Ставке в дни совместной борьбы против развала армии комиссарами и комитетами Керенского. Генерал Степанов приехал с Ноксом из Владивостока, подтвердил все, сказанное им, и от себя добавил много интересного о личности этого генерала, его исключительно дружественных чувствах к России, о его планах, как лучше осуществить эту помощь нам.
В это время с фронта приходили тревожные вести. С одной стороны, чехи отказывались воевать, ссылаясь на усталость и на то, что они хотят ехать драться против немцев на Французский фронт; а с другой стороны, наша новая, молодая русская армия, теперь объединенная номинально под командованием генерала Болдырева из частей Сибирской и Народной армий, волновалась все больше и больше неопределенностью в Омске, медлительностью формирования правительственного аппарата. Раздавались оттуда уже открыто голоса о необходимости установления единоличной военной власти, при которой эсеры не могли бы снова делать свои кровавые опыты над армией и страной.
«Дайте нам работать, не мешайте нас в политику», – было общее желание офицерства.
Полковник Д. А. Лебедев объехал фронт, побывал у генералов Дитерихса, Ханжина, Голицына и Гайды; все ему говорили о необходимости скорейшей замены директории единоличной военной властью. Но кем? Будь здесь генералы Алексеев или Деникин, тогда все сходились бы на них…
В Омске образовался политический центр, в который вошли все общественные и политические деятели от народных социалистов и правее. Этот политический центр пришел также к выводу, что директория не способна сдвинуть воз и довезти его до места, что необходимо ее заменить единоличной военной властью.
Действительно, бедная директория была подобна классической курице, высидевшей утят и бегавшей беспомощно по берегу, когда ее птенцы плавали, ныряли и плескались на водном просторе. Роды кабинета министров происходили очень мучительно. Наконец стал помогать, засучив рукава, и генерал Нокс, – подействовала его угроза, что работа по снабжению не будет начата, пока не установится власть.
Долго камнем преткновения был самозваный министр полиции Роговский со своим сине-белым отрядом. Председатель директории Авксентьев выкручивался вовсю; говорил, что он обязан был пойти на это назначение в Уфе, иначе бы соглашение не состоялось, чехи ушли бы с фронта.
– Да они и так уходят! А потом все равно они с сентября уже не воюют и всю местность от Волги до Уральских гор отдали большевикам, – отвечали ему.
Тогда Авксентьев попросту умолял согласиться на Роговского, обещая недели через две его прогнать и заменить другим, приемлемым лицом. Долго спорили из-за этого пункта. Наконец пришли к соглашению, Роговского не назначать; на этих условиях кабинет сформировался, и А. В. Колчак вошел в него как военный и морской министр.
На радостях директория устроила пышный банкет, достали даже вина. Говорилось много речей на всех языках, раздавались призывы к дружной, энергичной работе, трещали фразы о демократиях всего мира; директора и общественность на карачках ползали перед высокими иностранцами.
Социалисты-революционеры к этому времени основали свои штаб-квартиры в Уфе и Екатеринбурге. В первом городе они пробовали мутить среди нашей русской армии, устраивая митинги и формируя русско-чешские батальоны «защиты Учредительного собрания», а в Екатеринбурге они близко объединились с родственным им по составу Чешским национальным комитетом и действовали здесь вовсю, разлагая чехословацкие полки.
Все эсеры сгруппировались теперь около Виктора Чернова, их вождя и одного из самых вредных деятелей, который шел всю революцию вперегонки с Керенским; обладая безграничным личным честолюбием, Чернов не останавливался ни перед чем, чтобы перещеголять своего конкурента и товарища по партии.
И вот в середине октября, как раз ко времени этого банкета, был выпущен в Уфе «манифест» партии социалистов-революционеров ко всему населению России, подписанный В. Черновым и его ближайшими сотрудниками; в этой листовке повторялось в сотый раз, что «завоевания революции в опасности», что «новое правительство и армия стали на путь контрреволюции»; а потому все население призывалось к оружию и к повсеместной партизанской войне против правительства и его армии.
Неслыханная и небывалая подлость! Ведь это самое правительство-директория была избрана и составлена самими эсерами; они подписали на Уфимском совещании обязательство всячески ее поддерживать. Кроме того, председателем директории был их же человек, член их партии Авксентьев, и два члена директории, Аргунов и Зензинов, были тоже партийные эсеры. Выходило, что или и они трое повинны в этом предательском воззвании, как члены партии, или предательство направлено и против них. Эта прокламация-манифест широко распространилась и попала в армию. Волнение поднялось страшное. Требовали суда над преступниками.
Посыпались обращения к новым министрам, к Авксентьеву, к генералу Болдыреву; те возмущались и говорили, что примут меры. Но ничего не делалось, а Авксентьев на поставленный прямо вопрос не мог дать никаких объяснений; так и осталось невыясненным, участвовал ли он в этом воззвании, которое было на руку только большевикам. Впрочем, о выходе своем из партии Авксентьев, Зензинов и Аргунов не заявляли, да и сейчас состоят в ней.
Кабинет министров присоединился к мнению армии и Политического центра о необходимости и своевременности замены директории единоличной военной властью и обратился к генералу Болдыреву, как Верховному главнокомандующему, с предложением взять полноту всей власти на себя. Болдырев соглашался с мотивами и жизненной необходимостью такой замены, но отказался ее осуществить, ссылаясь на несвоевременность.
А волнения в армии все разрастались, увеличивалась и неуверенность в завтрашнем дне, в способности директории быть действительной, твердой властью.
В конце октября мне пришлось объехать большинство частей нашего фронта. Я ездил вместе с генералом Ноксом, будучи командирован ставкой Верховного главнокомандующего.
Чехи всюду были выведены с фронта в ближайший тыл. Русские молодые части стояли в передовой линии, одновременно ведя бои и формируясь. Работа, которую несли русские офицеры, была выше сил человеческих. Без правильного снабжения, не имея достаточных денежных средств, при отсутствии оборудованных казарм, обмундирования и обуви приходилось собирать людей, образовывать новые полки, учить, тренировать, подготавливать их к боевой работе и нести в то же время караульную службу в гарнизонах. Надо еще прибавить, что все это происходило в местности и среди населения, только что пережившего бурную революцию и еще не перебродившего; работа шла под непрекращающиеся вопли социалистической пропаганды вроде приведенного выше воззвания Чернова.
Под влиянием такой пропаганды в сентябре и октябре было сделано несколько попыток восстаний среди воинских частей тыловых гарнизонов. Офицерам приходилось жить почти безвыходно в казармах, чтобы предохранить людей от провокаторов и пропаганды. Не надо забывать, что вся Россия представляла тогда бурлящий котел, не было ничего установившегося, настроения масс не определились и легко поддавались самым неожиданным колебаниям. Жизнь тысяч этих скромных безвестных русских работников, строевых офицеров, была в постоянной опасности.
В Челябинске видел смотр и парад 41-го Уральского горных стрелков полка. После месяца работы полк представился как настоящая воинская часть; видна была спайка офицеров и солдат, хорошее знание строевого учения, умение нести боевую службу в поле. Но внешний вид был очень жалкий: более чем у половины людей отсутствие шинелей и сапоги – одна сплошная заплата. Командир полка, молодец-полковник Круглевский, настоящий заботливый командир, делал все, что мог, добывая снабжение и у интендантства, и у состоятельной части населения.
– Приходится, – говорил он, – прямо выпрашивать. Ведь у меня половина людей осталась в казармах, не в чем выйти. На несколько человек одна пара сапог, по очереди ходят на учение, в столовую и на двор.
В Челябинске же встретился с М. К. Дитерихсом, впервые с осени 1917 года, когда он вернулся в Ставку после неудачного похода на Петроград генерала Крымова. Работая вместе с Дитерихсом и под его начальством с 1915 года, я хорошо знал его раньше; и теперь прямо не узнал: генерал постарел, исхудал, осунулся, не было в глазах прежней чистой твердости и уверенности, а ко всему он был одет в неуклюжую и невоенную чешскую форму, без погон, с одним ремнем через плечо и со щитком на левом рукаве. Он состоял начальником штаба у командующего чешскими войсками генерала Яна Сырового.
– Много пережить пришлось тяжелого, – сказал мне М. К. Дитерихс, – развал армии, работа с Керенским, убийство Духонина почти на моих глазах. Пришлось скрываться от большевиков. Потом работа с чехами…
Мрачно и почти безнадежно смотрел генерал Дитерихс на предстоящую зиму.
– Надо уходить за Иртыш, – было его мнение, – вы не можете одновременно формироваться и бить большевиков, да и снабжения нет, а англичане когда-то еще дадут. Чехи… – он махнул рукой, – чехи воевать не будут, развалили их совсем.
На следующий день я был на похоронах доблестного солдата, чешского полковника Швеца. Он воевал на Германском фронте, затем поднял восстание против большевиков и сражался неутомимо с ними. Полк его обожал. Но развал шел среди всех чехов, и, когда коснулся полка Швеца, тот пробовал бороться, сдержать массу, один из всех продолжал со своим полком вести боевые действия на фронте. Но вот полк отказался выполнить боевую задачу, решительно потребовал увода в тыл и образования комитета. Полковник Швец собрал солдат, говорил с ними, грозил, что он обращается к ним в последний раз, требуя полного подчинения и выполнения боевого приказа. Полк не подчинился.
Тогда полковник Швец вернулся в свой вагон и застрелился. На похоронах его в Челябинске собралась многотысячная толпа и было немало искренних слез. На могиле этого героя политиканы, русские и чехи, говорили звонкие речи и лили крокодиловы слезы… Может быть, они и не сознавали тогда, что истинными убийцами этого честного солдата были они, виновники развала.
Генерал М. К. Дитерихс
Много пришлось видеть разных людей и картин чехословацкого воинства в Сибири, но, чтобы не отвлекаться, оставлю это для отдельной главы.
Из Челябинска я проехал вместе с генералом Ноксом в Екатеринбург, в город, который стал для русского народа местом величайшей святыни и небывалого позора. Еще сидя в большевистском застенке, летом 1918 года мы прочитали в местных «Известиях» официальное сообщение Московского совдепа об убийстве государя; там же была заметка, в которой комиссары лживо и лицемерно заявляли, что царская семья перевезена ими из Екатеринбурга в другое, безопасное место.
Больно ударила по душе эта ужасная, злая весть всех русских офицеров и простых казаков, – более ста человек было нас заключено в городской тюрьме Астрахани. Как будто отняли последнюю надежду и вместе с тем надругались над самым близким и дорогим, надругались низко, по-хамски, как гады. Даже красноармейцы, державшие в тюрьме караул, и астраханские комиссары казались в те дни сконфуженными, – ни один из них ни словом, ни намеком не обмолвился о злодеянии; точно и они чувствовали себя придавленными совершившимся ужасом и позором…
Генерал Нокс имел неофициальное поручение от своего короля донести возможно подробнее о Екатеринбургской трагедии.
Со стесненным сердцем входили не только мы, русские, но и бывшие с нами английские офицеры в Ипатьевский дом, в котором царская семья томилась два последних месяца заключения и где преступная рука посягнула на их священную жизнь.
Нас сопровождал и давал подробные объяснения чиновник судебного ведомства Сергеев, который и вел в то время следствие по делу цареубийства. Из его слов тогда уже вставала картина жуткой кровавой ночи с 16 на 17 июля.
Когда белые впервые заняли Екатеринбург, все цареубийцы и их главные сообщники бежали заблаговременно; кое-кого из мелкоты – нескольких красноармейцев внешней охраны, родственников убийц и даже сестру чудовища Янкеля Юровского – удалось захватить и привлечь к следствию с первых же дней; с самого начала все дело было взято в свои руки группой строевых офицеров и ими-то были получены первые нити, по которым установлено почти полностью преступление.
Весною 1919 года во главе следствия были поставлены генерал Дитерихс и следователь по особо важным делам Н. А. Соколов, которые с помощью специальной экспедиции тщательно обследовали всю местность вокруг города по радиусу в несколько десятков верст. Обшарили почти все шахты, собирали каждый признак, шли по самому малейшему намеку, чтобы рассеять мрак, нависший над концом царской семьи. Мне пришлось быть еще два раза в Екатеринбурге и беседовать с обоими; вывод их был тот же, который сообщил нам осенью 1918 года Сергеев: в ночь на 17 июля нового стиля государь император Николай Александрович и его семья были зверски умерщвлены в подвале Ипатьевского дома.
Кроме Сергеева, тогда же довелось подробно говорить с доктором Деревенько, лечившим наследника, с протоиереем Строевым, который был большевиками дважды допущен в дом заключения служить обедню, и еще с рядом лиц, живших в Екатеринбурге.
Навсегда осталось в памяти то общее из их рассказов, что светит, как венцы мучеников из старорусских Четьих миней; каждый штрих, всякая подробность говорили о том величавом смирении, с которым царственные узники переносили тяжелый крест страданий, всевозможные лишения и даже надругательства большевиков.
Все осмотры и ознакомления с материалами следствия за этот приезд в Екатеринбург легли в основу донесения об убийстве царской семьи, посланного тогда же генералом Ноксом в Лондон.
Дом екатеринбургского горнопромышленника Ипатьева – небольшой особняк на площади против собора – был окружен двумя стенами; вторую, сплошной деревянный забор, вышиною более сажени, большевики построили специально для того, чтобы еще более отделить высоких заключенных от внешнего мира.
Караулы неслись самые строгие, причем наружный, вокруг дощатого забора, был из красноармейцев, внутренний же состоял из чекистов-инородцев (иудеи и латыши) и нескольких человек русских, самых отъявленных мерзавцев, каторжан. При этом внутреннем карауле имелись два пулемета, стоявшие всегда наготове в окнах верхнего этажа, чтобы отразить возможное нападение. Комиссары жили все время под опасением, что русские люди освободят своего царя из их хищных кровавых рук.
Настроение народных масс Екатеринбурга хотя и было придавлено террором, но поднялось бы и смяло кучки святотатцев во главе с Янкелем Юровским, если бы только в народ проникли слухи о возможности того страшного конца, который эти выродки готовили царской семье. Оттого-то комиссары не доверяли красноармейцам внутреннего караула, по той же причине они постарались покрыть такой тайной свое злодеяние и затерять следы его. Лишь через несколько дней после 17 июля 1918 года пополз шепотом рассказ о том, что неслыханное совершилось. Но наряду с этим выросли тогда же легенды, будто царская семья вывезена из Екатеринбурга, что кто-то и где-то видел их проезжающими в направлении на Пермь.
Записываю отрывочные воспоминания того, что запечатлелось тогда в Екатеринбурге. Несомненно, появятся подробные отчеты следствия, вероятно также, что люди, жившие в этом городе лето 1918 года, дадут полную картину тех тяжелых недель и страшных дней. Здесь уместно отметить лишь, что с первых же часов занятия белыми Екатеринбурга были приложены все усилия, чтобы не только открыть правду, как бы ужасна она ни была, но и собрать все предметы-реликвии, сохранившиеся от царской семьи; все собранное было потом опечатано и при описях отправлено на английский крейсер «Кент».
За время правления директории все это делалось по частному почину русских людей, не встречая не только сочувствия, а иной раз так даже скрытое противодействие; но настроение офицерства, солдат и крестьянской массы было таково, что эти разрушители государства Российского не смели открыто препятствовать.
После того, как эсеровская директория была заменена единоличной властью адмирала А. В. Колчака, следствие пошло в порядке государственного дела. И только тогда чешский генерал Ганца принужден был спешно выехать из Ипатьевского дома, который он занимал для своего штаба.
Задача будущего поколения – открыть все полностью: и великий, единственный в мировой истории подвиг мученичества нашего государя и его семьи, и неслыханную мерзость их мучителей-убийц, и низость безвольного непротивления тех, кто мог в те дни противостоять убийцам. Все будет открыто. И недалек тот день, когда перед обновленной Россией развернется вся картина и встанут и засияют образы царственных великомучеников.
Но многое еще придется пережить до того и нашей стране, и нам, современникам.
В Екатеринбурге в то время, в октябре 1918 года, были два энергичных генерала: русский – В. В. Голицын, формировавший 7-ю дивизию горных стрелков Урала, и чех Гайда с очень молодым длинным лицом, похожим на маску, с почти бесцветными глазами с твердым выражением крупной, хищной воли и двумя глубокими, упрямыми складками по сторонам большого рта. Форма русского генерала, только без погон, снятых в угоду чешским политиканам. Голос его тихий, размеренный, почти нежный, но с упрямыми нотками и с легким акцентом; короткие, отрывистые фразы с неправильными русскими оборотами.
Гайда проводил такую точку зрения:
– Русский народ совсем не может иметь теперь, немедленно, парламентаризма. Я в этом убедился, пройдя всю Россию и Сибирь в два конца. И от революций все устали, хотят только порядка. По моему мнению, России нужна только монархия и хорошая демократическая конституция. Но теперь нельзя. Надо скорее военную диктатуру. Я поддержу своими полками, если найдется русский генерал, который возьмет власть на себя.
Так говорил Гайда в октябре 1918 года в вагоне у генерала Нокса. Но и он был бессилен удержать свои части на фронте и поневоле требовал замены их дивизией генерала Голицына.
На наших глазах эта смена и происходила. Русские полки и батальоны, которые пришлось видеть на фронте, поражали своей малочисленностью, скудным снабжением, плохим обмундированием.
Непостижимо, как могли при тех условиях наши отряды и молодые полки не только держаться на фронте, но и вести наступление, очищать от большевиков огромные пространства Сибири и Урала. А это было так, сама действительность тому свидетельство. Горячая любовь к Родине, выносливость русского человека да всеобщая ненависть к большевикам делали это дело. А выносливость прямо единственная в мире! Легкие, ветром подбитые шинели, рваные сапоги, отсутствие белья. В передовой линии генерал Голицын представил Ноксу одного молодого капитана, как наиболее отличившегося и дважды раненного. И у него не было второй нижней рубахи на перемену. Никогда не забуду этой картины, как розовый, хорошо упитанный английский генерал, одетый щеголем, похлопал по плечу этого героя капитана, с худым, изможденным лицом и впалыми глазами:
– Ничего, ничего, мы вам дадим белья.
Как огнем, вспыхнуло краской лицо капитана, сверкнули гордо глаза.
– Покорно благодарю, мне ничего от вас не надо. Вот солдатам, если привезли, дайте.
Полураздетую армию одеть было необходимо.
– Наши интенданты – красные, – говорили генералы Голицын и Вержбицкий, – что от них заберем в боях, то и имеем; с тыла ничего еще не получали.
Дух и внутренняя спайка среди этих частей были замечательные. Офицеры и солдаты жили в общих землянках, зачастую обер-офицеры стояли в строю и в бою, как рядовые. Тяжелая боевая служба среди начавшейся уже зимы неслась в высшей степени добросовестно, без отказа. Жила среди всех нас большая вера в справедливость своего дела. Между всеми было полное доверие; никаких недомолвок, недоговоренностей. Та отчужденность и подозрительность к своему офицеру, которую старательно привили и раздули наши политиканствующие социалисты в 1917 году, исчезли совершенно и заменились нормальными отношениями, чувством взаимной дружбы, что ведь так естественно между сынами одного народа, между офицером и солдатом одной армии.
Маленький, весь сплошной нерв, генерал Вержбицкий, стоявший со штабом у самых передовых частей наиболее опасного направления, так говорил генералу Ноксу на вопрос его о снабжении и о нуждах:
– А вот, ваше превосходительство, посмотрите сами. Одеты в лапти и зипуны. Винтовки? Есть и винтовки, – у красных отняли. Патроны? Патронов мало. Ну, ничего, добудем, добудем, ваше превосходительство… Обещаете дать? Что ж, спасибо, большое спасибо. Не откажусь. – Он побарабанил нервно маленькой крепкой рукой по столу и после молчания продолжил: – Это все герои, ваше превосходительство, они прошли от самого Иркутска, очистили Сибирь и Урал. И дальше пойдем. Надо весь Урал очистить.
И он здесь же, на карте, развил основу стратегического плана; ясно и просто показал положение красных и их затруднения из-за малого количества путей в горах Урала, оценил направления, силы…
Все генералы и офицеры жаловались на неустройство тыла, что политические распри там отзываются тяжело на боевой армии, что необходимо как можно скорее установить такую власть, которая могла бы наладить порядок в тылу; все они представляли себе и верили, что это по плечу только единоличной военной власти.
По возвращении в Омск я получил назначение во Владивосток, чтобы там, на Русском острове, собрать 500 офицеров и 1000 солдат и подготовить из них кадр для будущего корпуса, причем генерал Нокс обещал всевозможную помощь этому делу.
В Омске волнения и политический муравейник продолжали кипеть все больше. Черновское воззвание оставалось без всякого ответа. Вследствие этого были даже сделаны попытки отдельных офицеров и воинских частей арестовать его сообщников, но благодаря чехам и попустительству директории Чернов спасся и ускользнул с другими эсерами прямо в Советскую Россию, к большевикам.
Политический центр на своих заседаниях, даже мало и скрываясь, пришел к решению, что необходим переворот и вручение всей власти одному лицу – адмиралу Колчаку.
Вместе с генералом Степановым и Ноксом 2 ноября я выехал во Владивосток.
4
При проезде по железной дороге – а ехали мы с остановками в некоторых городах – создавалось такое впечатление, будто едешь не по одной стране, а попадаешь из одного удельного княжества в другое. Центральной власти, какого-либо объединения и единого управления на общее государственное благо, на общее дело не было. Местная власть действовала всюду на свой образец, преследуя только те задачи, которые ей казались нужными и важными.
Это отражалось на всем. Всего хуже было то, что даже те запасы, которые имелись в обширной Сибири, не могли распределяться правильно между ее частями; каждый думал только о своем районе, как бы обеспечить его нужды. То же явление наблюдалось и в отношении армии.
Русь! Однажды тебя погубило такое раздробление на уделы, свернуло с твоего исторического пути и ввергло на несколько столетий в темное татарское иго. Много страданий пережила тогда родная страна и гибель нашей чисто русской, славянской культуры. Только живой инстинкт народа, соединив его вокруг московского великого князя, спас Россию, воскресил страну; она окрепла и веками сумела образовать великое государство Российское. Не для того же, чтобы снова распасться на отдельные уделы и ввергнуться в гибельное состояние расчленения, подпасть под иноземную власть, новое иго, горше татарского.
В Иркутске был губернатором (или, как тогда еще называли, губернским комиссаром) Яковлев, партийный эсер, ведший очень ловко свои дела, но личность очень темная, по отзывам местных людей. Меня посетил старый боевой друг, полковник Лабунцов, раненный в одном бою со мною, под Люблином, и брат по Георгиевскому кресту. Он развернул ужасную картину того, что творилось во всей округе; Яковлев положительно развращал народ и молодые войска, всячески затрудняя их работу; он не отводил казарм и квартир, умышленно тормозил дело снабжения. Население здесь волновалось, местами вспыхивали восстания, которые раздувались всячески исподтишка губернской властью.
В то же время про Читу и управление атамана Семенова шли самые лучшие рассказы из разных источников; то, что мы увидали, въехав в Забайкалье, подтверждало эти рассказы. На станциях порядок, правильное движение поездов, удовлетворение нужд всех слоев населения. Город Читу проехали ночью, не останавливаясь.
Были уже и тогда люди, которые, наоборот, с пеной у рта доказывали, что в Чите творились безобразия; эти люди постоянно связывали имя атамана Семенова с японцами. Среднего мнения не было, – или полная похвала, или неистовая брань и подтасовка фактов; с самого начала здесь плелась интрига и провокация. Мне лично пришлось познакомиться и узнать близко атамана Семенова только в феврале 1920 года, уже тогда, когда я с армией пробился через всю Сибирь в Забайкалье. Об этом я буду подробно писать в одной из последующих глав.
А здесь сделаю некоторое отступление, чтобы была яснее связь некоторых дальнейших событий. Еще когда я был в большевицкой тюрьме в Астрахани, все мы, читая коммунистические газеты, встречали чаще всех имена Корнилова, Дутова и есаула Семенова. Невыразимая злоба и самая отборная ругань сопровождала каждое упоминание их на столбцах совдепской прессы. Для нас же, заключенных и обреченных на смерть русских офицеров, эти имена были отдаленными родными огнями, которые освещали мрак большевистского ужаса, окутавший всю Россию. Они поддерживали в нас надежду на возрождение Родины. Атаман Семенов начал есаулом, по своему почину, за свой риск и страх, борьбу против разрушителей-большевиков, и вел он эту борьбу неослабно, не выпуская из рук оружия. Он оказывал поддержку всем остальным антибольшевицким борцам, шел с ними на соединение. Но, понятно, передавать дело эсерам или другим бессильным людям для нового опыта и провала атаман Семенов не хотел и не мог. Поэтому он хотя и признал номинально директорию, но твердо держал власть в своих руках.
Атаман Г. М. Семенов
В Харбине и полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги управлял генерал Хорват, старый и опытный администратор, знавший отлично местные условия и весь край, пользовавшийся большим авторитетом даже среди китайцев. Он признал директорию, но, понятно, продолжал вполне самостоятельно управлять Дальним Востоком.
Грустно было видеть русское положение в Харбине мне, бывшему здесь в последний раз в 1905 году, перед заключением Портсмутского мира. Город шумел теперь праздной, хорошо одетой и сытой толпой; сюда стеклась, кроме невольных беженцев от большевиков, масса спекулянтов и укрывавшихся от воинской повинности; преобладали горбатые носы и говор с бердичевским акцентом. Китайцы, прежние «ходи», смотрели и держали себя вызывающе, выказывая как бы свое превосходство над нами в нашем несчастии.
Владивосток – жемчужина России. Как говорил генерал Нокс, это самый красивый и живописный город в мире по своему расположению, только неблагоустроенный и грязный.
– Если бы он попал в хорошие руки… – добавил он.
Упаси господи! Будут и русские руки хорошими, будут еще, может быть, самыми лучшими; для Владивостока и для всей Русской земли, во всяком случае.
Владивосток представлял собой какой-то хаос, еще не установившийся после свержения там большевиков; беспорядок и неустройство здесь были самые большие из всех мест. Какая-либо русская власть, которая могла бы наладить жизнь и урегулировать отношения, отсутствовала. Был губернатор Циммерман, был комендант крепости полковник Бутенко, но оба оказывались бессильными и тратили все время и силы на то, чтобы лавировать между самыми разнообразными и противными друг другу элементами, что нахлынули сюда.
Дело было так. Большевиков выгнали из Владивостока чехи под командой генерала Дитерихса при помощи и поддержке японских частей; на помощь к чехам направлялся и отряд русских офицеров, но чехи их не приняли и даже требовали разоружения. Тотчас же вслед за свержением советской власти во Владивостоке образовалось с одной стороны правительство эсеров, еврея Цербера и земское, а с другой стороны междусоюзнический совет из неполномочных и случайных иностранных офицеров, оказавшихся в Владивостоке; миссии тогда еще не прибывали. Когда русский отряд полковника Бурлина все же пришел во Владивосток, приехал также сюда генерал Хорват, чтобы объединить власть во всем крае Дальнего Востока, то этот случайный «союзнический» совет по настоянию эсеров потребовал разоружения отряда Бурлина. На Русской земле разоружали русскую воинскую часть, состоявшую почти сплошь из офицеров! И этот позорный акт совершился. И совершили его именем союзников России, опираясь на их авторитет и силу. Когда через несколько недель начали прибывать настоящие представители союзников, то дело решили поправить и оружие вернули.
Самозваное правительство Цербера, не опиравшееся ни на один слой населения, пало само собою, безболезненно. Во главе управления Дальним Востоком стал генерал Хорват, который и переехал из Харбина во Владивосток. Сюда же был назначен Ставкой генерал Ю. Д. Романовский, как представитель центральной власти при иностранных союзнических миссиях. Здесь же находился в это время и генерал Иванов-Ринов, который по сформировании в Омске нового кабинета перестал быть военным министром, оставаясь номинально командующим Сибирской армией.
Во Владивосток прибывали да прибывали союзники. Здесь были воинские части японцев, высадились английские Мидлсекский, а затем и Хэмпширский батальоны, канадские войска и американцы. Был образован международный совет, причем главное командование союзными войсками и председательствование на этом совете было номинально вручено, как старейшему, японскому генералу Отаки. Фактически же распоряжался каждый по-своему, мало считаясь не только с русскими людьми, но и с русскими интересами.
Больные и обидные воспоминания! Как раз в пути между Читой и Маньчжурией было получено известие о заключении перемирия на Французском фронте между союзниками и центральными империями, о революции в Германии, о бегстве кайзера и т. д.
Долгожданная победа была достигнута; четыре года страданий и великих жертв принесли свои плоды. И русская кровь, пролитая так обильно на полях всего света, служила вместе с другими тем фундаментом, на котором теперь должны были утвердиться мир, право и справедливость. Ведь из-за них воевало человечество?..
Английские офицеры шумно радовались победе. Они выражали с чисто офицерской искренностью мнение, что без России и ее жертв никогда бы им не получить этой победы. Да, верно, истина. Но из-за этих-то великих жертв и из-за медлительности, из-за затяжки войны, из-за того, что от России потребовали слишком большого напряжения, наша страна не выдержала и впала в такое несчастье, в степень гибельного разорения. А понятно, если бы Россия не вступила в войну или, вступив, не жертвовала так беззаветно, то Антанте никогда не выиграть бы войны.
Как теперь отнесутся к нам бывшие союзники? Во что теперь выльется их призыв к русскому народу? Вот вопросы, которые вставали перед нами. Понятно, все, что обещалось, будет выполнено; несомненно, останутся прежние отношения к вам как к нашим близким союзникам, – так отвечали англичане.
Но то, что пришлось видеть с первых шагов во Владивостоке, било не по самолюбию даже, а по самой примитивной чести. Каждый иностранец чувствовал себя господином, барином, третируя русских, проявляя страшное высокомерие. Было впечатление, что теперь, когда долгая война окончилась, им совсем не до нас; что они делают величайшее одолжение, приехав сюда, оставаясь здесь.
Надо отдать справедливость, что лучше всех относились японцы; их офицеры и солдаты проявляли самую большую, почти полную корректность; чувствовалось даже искреннее, чуткое и дружеское понимание нашего несчастия и временного характера его. Хуже всех было отношение домашних, так сказать, интервентов, войск сформированных из наших бывших военнопленных.
Лучшие здания в городе, все вагоны, места в поездах отдавались иностранцам; наши соотечественники как бы согнули спину и тащили на себе их, ожидая спасения. Ведь им была обещана помощь, призывали к совместной войне с немцами и большевиками. Немцы выбыли из строя врагов, в Версале собралась мирная конференция, но другой-то враг, большевики, остались. И русские люди ждали от интервентов помощи, верили в нее.
В первой половине ноября прибыл во Владивосток со своим штабом французский генерал Жанен. Ступил он на Русскую землю, приветствуемый как избавитель, как заранее признанный герой. На приветственные речи Жанен отвечал определенно и довольно ясно, обещая поддержку, самую активную, выражая веру в успех общего дела. Сюда же прибыл французский батальон, что-то около взвода их колониальных цветных войск, да одна батарея. И вслед за английскими батальонами французы двинулись по железной дороге на запад, к нашим боевым линиям.
Когда генерал Нокс объезжал фронт, его повсюду встречали не только дружественно, но торжественно. Выставлялись почетные караулы, оркестр играл английский гимн, предоставлялось все лучшее, что только было у самих. На его слова о помощи заранее благодарили, почти везде просили прислать хоть взвод английских солдат, – необходимо было показать нашим солдатам и офицерам, что давние обещания союзников о помощи не одни слова. Атаман Дутов в тяжелые дни Оренбурга прислал телеграмму ему в Омск: дайте мне одну роту французских или английских войск, и я отстою Оренбург, а то казаки уже не верят словам о помощи союзников.
В ответ мы слышали, что помощь будет, но не сейчас, что надобно подождать, не все еще готово; войска еще в пути. Мы ждали и верили.
5
В это время в Омске разыгрывались центральные события, имевшие важное значение для всего дальнейшего хода борьбы. Адмирал Колчак, как военный министр, объехал фронт, посетил войсковых начальников и убедился, что организация армии и ее снабжение поставлены в условия совершенно неудовлетворительные; не было ни общего плана, ни согласованной работы, не было надежды при существующем порядке наладить интендантство. Кроме этого А. В. Колчак получил уже лично теперь заверения от войсковых начальников, что дальше так идти не должно, что армия может сама сделать переворот, а это было бы гибельным для фронта; что в директорию совершенно никто не верит, ждут замены ее единой властью и хотели бы видеть ее в лице адмирала.
Вслед за тем выехал на фронт Верховный главнокомандующий, член директории генерал Болдырев; и они разминулись, – генерал Болдырев ехал в Уфу, а адмирал Колчак возвращался из Екатеринбурга в Омск.
А в новой столице в то же время шли совещания кабинета министров, на которых решалось, как следует произвести смену директории; о том, что ее надо сменить, вопрос был уже решен, так как выяснилась не только совершенная бесполезность и бессилие этой власти, но и ее чрезмерный склон на сторону социалистов-революционеров, то есть той партии, которая ей же объявила войну и призвала к ней население. Ясно было, что при оставлении у власти директории произойдет взрыв; вспыхнут восстания, которые не только погубят начатое успешно Сибирским правительством дело, но ввергнут страну в состояние анархии и еще худшего большевицкого разгула, чем было до лета 1918 года.
Адмирал А. В. Колчак
Совет министров пришел к решению передать всю полноту власти адмиралу Колчаку, как верховному правителю и Верховному главнокомандующему. Это было вечером 17 ноября, а в ночь на 18 ноября полковники Сибирского казачьего войска Волков и Катанаев со своими казаками окружили квартиры председателя и членов директории и арестовали их. Так что, когда Совет министров пришел к адмиралу Колчаку объявить о своем решении и просить взять на себя тяжкое бремя высшей власти, директории фактически не существовало; она вся была арестована, а генерал Болдырев находился в Уфе.
Мне известно совершенно достоверно, что адмирал А. В. Колчак не только сам не добивался власти, но и уклонялся от нее. Личность верховного правителя вырисовывается исключительно светлой, рыцарски-чистой и прямой; это был крупный русский патриот, человек большого ума и образования, ученый-путешественник и выдающийся моряк-флотоводец. Александр Васильевич Колчак как человек отличался большой добротой, мягким и даже чувствительным сердцем; его волевой характер, надломленный революцией, был очень вспыльчив. Настроения быстро менялись под давлением незначительных событий и первых известий, амплитуда колебаний от полной надежды до упадка ее проходила легко и быстро. В дни подъема настроения влияние его на людей было почти неограниченно; прямой глубоко проникающий взгляд горящих глаз умел подчинить себе волю других, как бы гипнотизируя их силою многогранной души. Адмирал принял на себя тяжесть власти, как подвиг, руководимый чувством самопожертвования во имя чести и спасения Родины; и все дальнейшее его служение до конца было проникнуто сильной любовью к России и высокоразвитым сознанием долга.
18 ноября 1918 года адмирал Колчак был поставлен перед совершившимся фактом. Он подчинился ему и принял на себя всю полноту верховной власти.
Генерал В. Г. Болдырев
Последовал чисто комический конец директории. Арестованные Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский провели тревожную, полную беспокойства ночь. Когда их наутро посетили прокурор и следователь, чтобы начать дело против офицеров, арестовавших их, то бывшие директора предстали бледные и дрожащие, прося спасти их жизнь. Им было заявлено, что им нечего бояться, что офицерам, произведшим арест, грозит военно-полевой, суд. На вопрос прокурора, что хотели бы директора, они заявили:
– Отправьте нас поскорее в безопасное место.
А пока не отправят, просили держать их под арестом и под стражей, так как «иначе их может убить толпа». Вот как верили эти правители в народ, во главе которого имели наглость встать.
Всем им выдали деньги в иностранной валюте для поездки за границу и на жизнь там и отправили. Генерал Болдырев проехал прямо во Владивосток, а оттуда в Японию; остальные не рискнули ехать через Сибирь, а пробрались каким-то кружным путем через Китай. Все они дали честное слово жить за границей тихо и в политическую жизнь России не вмешиваться. Но это слово оказалось «клочком бумаги».
Почти с первого дня появления за границей все они начали свою деятельность, мутя еще больше ту международную тину, что с первых дней революции создалась около имени Россия.
Полковники Волков и Катанаев были преданы военно-полевому суду, который вынес им оправдательный приговор, приняв во внимание то, что настоящими государственными преступниками были директора – так как выяснилась их связь с большевицкими организациями – и что офицеры действовали исключительно в интересах страны и народа. Около здания суда весь день стояла густая толпа, приветствовавшая оправданных офицеров радостными криками и устроившая им овацию.
Верховный правитель в первый же день вступления на свой пост издал указ к войскам и населению, разъяснявший обстоятельства и самый порядок вручения ему власти. Были посланы извещения о том же всем союзным представителям. Затем последовал короткий и точный приказ, запрещавший какую-либо пропаганду среди войск и населения, призывавший всех к работе, самой горячей и дружной, для возрождения Родины; с первого же дня почувствовалась другая рука, честная и прямая, тогда казалось и твердая, которая поведет армию именно на спасение русского народа и его прав, а не для пресловутых и ложных завоеваний революции.
Затем была опубликована декларация, основ которой покойный А. В. Колчак держался до самого конца; сущность была в том, что он берет на себя всю полноту власти, чтобы сбросить большевицкую тиранию, восстановить право народа и его свободу, дать порядок и возможность каждому заниматься его трудом. После этого им было обещано передать в Москве всю власть вновь избранному народом Национальному Учредительному собранию.
Как раз на другой день после переворота я приехал в первый раз с Русского острова во Владивосток, утром зашел в штаб крепости и там узнал об этих событиях из полученного по телеграфу указа. Наверху, над штабом помещалась британская военная миссия. Я заглянул к генералу Ноксу, который встретил меня очень взволнованный и сказал, что теперь будет плохо, что союзники могут даже прекратить помощь.
Пришлось долго доказывать и убеждать в естественной последовательности этих событий, в их неизбежности, что об этом, в сущности, было известно в Омске еще до нашего отъезда, напомнить ему поездку на фронт, все встречи там, даже слова чешского генерала Гайды; объяснить, что директория фактически не могла остаться, так как тогда развалилась бы армия.
Генерал Нокс обещал поддержку и сейчас же поехал к Жанену. Что они говорили и какое было сначала отношение союзников к совершившемуся перевороту, мне неизвестно. Но, без сомнения, не такое трагическое, как представлялось с первого раза главе британской военной миссии. Даже чехи, по спинам которых взгромоздилась на высокое место директория, даже и они только частично поволновались, но и пальцем не двинули.
Через несколько дней после ареста директории была сделана из Куломзино, рабочего предместья Омска, попытка произвести восстание, организованное и подготовленное эсерами. Бунтовщикам удалось было захватить тюрьму, выпустили оттуда преступников, надеясь с их помощью развить действия; но с этим легко и быстро справились, восстание ликвидировали. Характерно и показательно, что английский батальон, стоявший в Омске, пришел в эту ночь, чтобы охранять адмирала Колчака, к его дому.
Черновское наследие в Уфе и оставшиеся там еще кое-кто из членов Учредительного собрания выпустили от себя манифест, снова призывая народ и армию к восстанию, пробовали опереться на чехов и поднять русские части, но эта попытка не удалась совершенно, хотя и доставила несколько неприятных дней. Пришлось посылать специальный отряд из Челябинска в Уфу, так как чешские начальники не позволяли арестовывать бунтовщиков. И большинство их ускользнуло за линию фронта на соединение с большевиками.
Едва ли найдется кто-либо сомневающийся в том, что руководило с самого начала и руководит действиями социалистических партий и их работников. Им важна не Россия и не русский народ, они рвались и рвутся только к власти, одни, более чисто убежденные, фанатики, – чтобы проводить в жизнь свои книжные теории, другие смотрят более практически, и им важна власть, чтобы быть наверху, иметь лучшее место на жизненном пиру. Борьбу между собою социалисты большевики и эсеры подняли исключительно из этих побуждающих мотивов, до России и народа им по-прежнему дела было меньше всего. И вот когда они увидали, что в этой борьбе власть попадает к самому народу, к наиболее активной, подготовленной и искренней его части, они кончили на время свои семейные счеты, и эсеры пошли помогать большевикам.
Генерал Д. Л. Хорват и военные представители Антанты во Владивостоке в 1918 г.
Русская армия была не только на стороне новой власти, она долго ждала ее, желала и, так сказать, сама она вызвала эту власть к жизни. Страна всюду и сразу подчинилась ей.
Генерал Хорват, бывший во главе всего края Дальнего Востока, послал от себя телеграмму в день переворота, что он признает законность его: всецело подчиняется верховному правителю. Генерал Иванов-Ринов, как командующий Сибирской армией и атаман Сибирского казачьего войска, телеграфировал всем высшим войсковым начальникам и атаманам, что в дни напряжения народной воли и силы к освобождению Родины от предателей-большевиков необходима немедленная и полная поддержка верховного правителя в тяжелом деле, принятом им на себя.
Целый ряд общественных организаций, городских учреждений, многие сельские сходы присылали в Омск телеграммы с выражением своей радости в перемене и уверенности в успехе дела, все предлагали верховному правителю свою готовность поддержать его в русском национальном деле; вскоре последовали многочисленные адреса и депутации от крестьян, рабочих, железнодорожников с выражением тех же чувств к новой власти.
Молча примирились с переворотом и союзные миссии, а через них и правительства Антанты. Признания своего они в эти дни не высказали, да не высказали его и до конца, в течение целого года. Факт с этим «признанием» – необъяснимая на первый взгляд и, во всяком случае, странная сторона отношения наших бывших союзников к русскому делу, а следовательно, и к русскому народу.
Оказывалась самая действительная материальная помощь, то есть присылались в нашу армию орудия, винтовки, боевые припасы, обмундирование, обувь и проч. Сибирь полна была иностранными представителями, и военными, и гражданскими; были здесь и иностранные войска, все же как-никак помогавшие нам, – они несли охрану железной дороги. Выходило, что союзники не только признают, но и помогают новому русскому правительству, как своему союзнику. А вот самое слово «признание» громко, прямо и открыто не произносилось. При этом надо заметить, что акт этого официального признания висел все время в воздухе, как призрак, то приближаясь, то удаляясь, то подходя снова почти вплотную. Он, как болотный блуждающий огонь, дразнил и манил к себе. Естественно, что чем дальше, тем больше разгоралось желание Омского правительства быть признанным; под конец это сделалось чуть ли не главным, руководящим стимулом его усилий и действий.
Много зла принесла такая двойственная неопределенная политика уже тем одним, что иностранцы использовали ее для своих целей, чуждых русскому национальному делу; не раз получались от союзных миссий такие заявления: «Сделайте то и то, так как наше правительство находит это необходимым для признания». Так было не раз с выпуском «либеральных, демократических» деклараций; хотя и не столь ясно, но такое же давление было при избрании неправильного операционного направления для главного удара на Пермь, Вятку, Котлас.
Но как бы то ни было, союзники фактически неофициально признавали новое правительство, помогали ему и желали удачи.
Русские армия и народ подчинились повсеместно, кроме Читы и стоявшего во главе ее атамана Семенова. Этот эпизод надо рассказать несколько подробнее, чтобы понять самое возникновение его, подкладку этого непризнания и неподчинения.
6
К тому, что сказано было об атамане Семенове, следует добавить, что между ним и адмиралом Колчаком были недоразумения еще в ту пору, когда адмирал был в Харбине, перед приездом в Омск, летом 1918 года. Эти недоразумения возникли из-за того, что адмирал потребовал тогда подчинения себе Маньчжурского отряда атамана Семенова, отряда, который был им сформирован совершенно самостоятельно, куда входили добровольцы, всецело преданные атаману и верившие в него. Последовал отказ, в ответ на что получилась угроза не давать в будущем отряду никаких снабжений. Затем на одной из станций, где одновременно оказались поезда адмирала и атамана, адъютант последнего напутал и не доложил ему; в результате вышла неловкость и обида в том, что атаман не явился к адмиралу.
Теперь после переворота 18 ноября 1918 года в Омске были получены сведения о том, что атаман Семенов не собирается признать адмирала Колчака как верховного правителя и главнокомандующего. Не знаю, какие были основания для такого заключения, но мне известно следующее: атаман Семенов не получил ключа к шифру между директорией, ее ставкой и Владивостоком. Когда произошел в Омске переворот, Чита не могла расшифровать телеграмм, видела в то же время, что между Владивостоком и Омском идет усиленный обмен ими. Наконец атаман Семенов получил короткую телеграмму без шифра, что директория смещена и власть единолично перешла в руки адмирала Колчака. Атаман Семенов запросил тогда подробности переворота, а также кто именно вручил адмиралу власть. Но в то же время, как мне рассказывал позднее сам атаман Семенов, дожидаясь ответа, он приказал заготовить и подписал телеграмму о признании власти адмирала Колчака, как верховного правителя. Но в Омске поспешили и сделали очень большую оплошность; атаман Семенов, не имея ответа на свой запрос и не успев отправить своей телеграммы о признании, получил по телеграфу же знаменитый и так нашумевший приказ № 61. Этот приказ гласил, что атаман Семенов единственный отказался признать верховного правителя, не подчинился ему и поэтому отрешается от всех должностей, как «изменник Родине».
Пусть каждый поставит себя на место атамана Семенова и ответит себе, что он испытал бы при подобных обстоятельствах. Офицер, который с первых дней большевизма начал против него борьбу и создал большой отряд из ничего, затем очистил целую область от красноармейских банд, установил порядок, начал раньше всех других получать поддержу от союзников, – такой офицер объявляется изменником. И главное в тот час, когда он готов все, сделанное им, принести, как составную часть целого Русского, и подчинить только что появившейся власти.
После приказа № 61 атаман Семенов отменил телеграмму о признании и вместо нее послал другую, что он готов был подчиниться, но теперь этого не сделает, так как считает себя, своих помощников и свой отряд незаслуженно оскорбленными и опозоренными. Действительно, офицеры и казаки всех частей Забайкалья были сильно возмущены приказом № 61 и волновались.
Загорелся костер чисто русской вражды и деления на два лагеря. Большие русские патриоты, единомышленники по убеждениям и действиям, разошлись и заняли непримиримую позицию. А тут нашлось немало досужих людей, готовых подкидывать дрова в огонь. Полетели доносы о задержанных якобы Читой поездах с военным снаряжением и боевыми припасами для армии, о случаях самоуправства. Люди, которым было выгодно и раньше очернение атамана Семенова, работали вовсю. Клевета шла главным образом из вражеского стана, от большевистских агентов и их сторонников; действовали ловко и скрытно, так что казалось, будто обвинения идут из нейтральных, непартийных источников и из союзных кругов.
Сначала в Омске решили заставить атамана Семенова подчиниться силой, открыв против него военные действия. Был сформирован отряд под командой генерала Волкова. Не успел последний доехать до Иркутска и приступить к выполнению плана, как японцы заявили, что они не могут допустить столкновения в Забайкалье и если Волков начнет военные действия против Семенова, то японцы оставляют за собою свободу действий и, вероятно, выступят, чтобы помочь Чите.
Совершенно неожиданный результат конфликта. Само собой разумеется, что на разрыв с японцами, одними из союзников, и на враждебные действия с ними пойти не могли; Омск отставил приказ о наступлении на Читу. Японское вмешательство как бы предупредило новое братское кровопролитие. Но после этого японцы продолжали вмешиваться в конфликт, а досужие люди, кому это было на руку, стали говорить, что даже они его создали, раздувают и поддерживают.
Одно из несчастий нашего лихолетья, и именно на белой, антибольшевицкой стороне, заключалось в так называемых иностранных ориентациях. Были: японская ориентация, английская, американская, появилась привезенная с Юга России германская ориентация. Не приходилось мне встречать в Белом движении ориентации на французов; слишком уж много с этой стороны было печальных фактов, отвергнувших совершенно симпатии русских людей и масс. Достаточно назвать одесскую эпопею, когда русская армия и целый большой город оказались в безвыходном положении, попали совсем неожиданно, в два дня, во власть большевиков, вследствие странных, если не сказать хуже, действий французского штаба в Одессе. Затем политика французов в Малороссии со стремлением создать самостийность Украины, рассказы о возмутительно скверных отношениях к русским беженцам и офицерам. Еще в Сибири это не так было заметно, а все русские, приезжавшие из Добровольческой армии и из Европы, не могли говорить о французах без пены у рта, – так переболело оскорбленное чувство.
Упоминая о каком-либо мало-мальски выдающемся русском человеке, начинали прямо с того, что «он такой-то ориентации». Редко приходилось встретить мнение, которому одному надлежало быть в эту пору, в годину народного испытания и святой борьбы за Русь. Только одна ориентация может быть у русских людей – чисто русская, ориентация на Россию – и должна быть у всех. Остальные отношения вытекают уже из нее; если иностранная нация желает искренне восстановления и возрождения России, – она наш друг; если она к тому же помогает нам в борьбе против большевиков, – она наш союзник. Так ясно и естественно.
Но на деле было иначе. Это коренная ошибка, происходящая от слишком мягкого и доверчивого русского характера да от старой привычки смотреть на Европу снизу вверх. Но и иностранные миссии старались немало над этим, чтобы навербовать побольше своих сторонников и ревниво смотря за их симпатиями.
После того как Омское правительство отказалось от плана подчинить Читу силой, начались переговоры. Атаман Семенов выставил одно условие: пусть будет отменен приказ № 61, и он всецело подчинится. Из Омска же шло требование сначала подчинение, а затем уже отмена приказа № 61. Оттуда были посланы в Забайкалье комиссии для выяснения, насколько справедливы обвинения в задержании атаманом поездов с военными грузами, и для проверки всей его деятельности. Комиссии долгое время сидели в Чите, были допущены к полному контролю и в результате выяснили, что все обвинения являлись выдумкой или клеветой.
Ездил в Читу генерал Иванов-Ринов, была телеграмма от атамана Дутова с просьбой кончить конфликт.
Но, к несчастью, долго еще тянулась эта история, отвлекая много внимания, людей и сил, тормозя невольно общую работу. Не раз делались верховному правителю представления от целого ряда лиц, от совещаний высших начальников о необходимости кончить дело примирением. Но переговоры затягивались и часто прерывались оттого, что японская миссия находила для себя возможным выступать и ставить условия; так ими указывалось, что необходимо при ликвидации конфликта сохранение за атаманом Семеновым всей власти в Забайкалье на правах командующего армией, они-де заинтересованы в этом, вследствие долгой и крупной помощи, оказанной ими за все время в этой области и материально, и военными действиями. Необходимо отметить, что части японской армии с ее традициями представляли лучшие и наиболее дисциплинированные среди иностранных войск в Сибири. И не раз они выполняли первое слово, сказанное в начале интервенции, об активной помощи. Кровь японских офицеров и солдат была пролита на полях Сибири вместе с русской армией; отношение японских войск к нашему населению было не только вполне лояльное, но отличалось предупредительностью и сочувствием. К несчастью, их дипломатия всех видов полна была такой же неясностью, запутанностью и перекрещивалась со скрытыми международными замыслами, которые и до сего времени подернуты дымкой двусмысленности.
Наконец в исходе зимы произошла отмена приказа № 61, конфликт был кончен и примирение состоялось. Но трещина осталась, и, как будет видно ниже, осталась она до самого конца.
7
Не все было благополучно и на остальном обширном пространстве Сибири. Партии социалистов-революционеров и меньшевиков ушли в подполье, спрятались, тщательно замаскировались, но не прекратили свою губительную работу. А где было можно, там они действовали и в открытую.
Таким обетованным местом для них являлся Владивосток, благодаря интернациональному характеру, приобретенному этим городом с 1918 года от массы наехавших туда интервентов. К декабрю 1918 года здесь были уже полностью все военные миссии, прибыли высокие иностранные комиссары, в Сибири сосредоточились войска японские, британские, американские, немного итальянских и чехи, а на рейде стояли военные суда всех наций. При этом чем дальше шли переговоры в Версале, тем неопределеннее и запутаннее было отношение здесь этой разношерстной массы. Как-то вышло, что войска бывших союзников, прибывшие в Сибирь, чтобы образовать общий с русскими фронт против немцев и большевиков, теперь на этот фронт не шли, – война с немцами была кончена, а «вмешиваться в наши внутренние дела» союзники не желали.
Вместе с тем во Владивостоке некоторыми из союзных представителей допускался прямой контроль именно над чисто внутренними распоряжениями русской власти, здесь как раз и было вмешательство в наши внутренние дела. Особенно отличались этим два лица одной из дружественных наций, генерал Грене и его начальник штаба полковник Робинсон. Так с их стороны последовал форменный протест, когда генерал Иванов-Ринов арестовал ряд вредных лиц, бывших в связи с большевиками[2] и ведших пропаганду среди населения, призывавших его открыто к восстанию против правительства. Господа Грене и Робинсон заявили, что они не могут допустить этого ареста и настаивают на освобождении, оставляя в противном случае за собою свободу действий. Затем с их стороны последовал новый протест, когда из Омска военный министр хотел сместить коменданта Владивостокской крепости полковника Бутенко, офицера в сущности неплохого, но впавшего слишком в сильную ориентацию на эту нацию и объединявшегося раньше с эсерами. Когда полковник Генерального штаба Чубаков, служивший в этой иностранной миссии и работавший одновременно в противоправительственных партиях, был вызван в Омск для отчета в своих действиях, то от генерала Гревса, представителя дружественной нации, последовал ряд телеграмм с отказом. В конце концов он потребовал гарантии личной безопасности Чубакова и непредания его суду. А после этого Чубаков перешел при первом удобном случае на сторону большевиков и в Красноярске вошел крупным лицом в Чрезвычайную следственную комиссию (большевистская Чека).
Можно было бы написать несколько томов, приводя все случаи подобного «невмешательства», – так их было много. Были даже документально установлены сношения с американской военной миссией некоторых шаек, восстававших с оружием в руках в районе Сучанских копей и бывших фактическими большевиками.
Много, может быть и невольного, зла причинили России эти представители интервенции, Грене и Робинсон, но немало зла причинено ими и своему отечеству; ибо по их действиям судили русский народ и общество о всей стране их. А в связи с другими агентами и мелкими представителями ее в Сибири, извращенно представлявшими здесь интересы своей страны, мнение о ней среди русских составилось крайне отрицательное.
Это отразилось и на местной прессе; газеты день ото дня все едче и остроумнее писали о действиях этих интервентов и об их хозяйничании на Дальнем Востоке. И вот в один день начальник миссии Грене приехал к генералу Иванову-Ринову, как помощнику Хорвата, и просил, нельзя ли подействовать и надавить на газеты для прекращения неприятных фельетонов. Это уж совсем не вязалось с его прежними протестами, что он и его войска прибыли во Владивосток защищать всяческие свободы. Но надо оговориться, что эти газеты были правого лагеря.
Нет сомнения, что многие из этих господ действовали по незнанию и полному непониманию того, что происходило в России, ни наших настроений, ни верований и надежд; но был, несомненно, и умышленный, организованный вред.
В декабре, будучи по делам во Владивостоке, я заехал отдать визит полковнику Робинсону, посетившему на Русском острове мою военную инструкторскую школу. Робинсон вышел, радостно улыбаясь во всю ширину лица, и начал меня поздравлять; когда, видимо, на моем лице отразилось недоумение, он быстро скрылся и вернулся с переводчиком. Начался разговор.
– Поздравляю вас, генерал, скоро будет конец вашей Гражданской войне. Мы получили известия из Версаля.
– ?!
– Союзники решили пригласить на Принцевы острова все русские партии: от большевиков, от генерала Деникина, от адмирала Колчака, от Юденича и из Архангельска, а также и от народа.
– С какой целью?
– Чтобы вы могли сговориться и кончить войну.
Долго мне пришлось доказывать полковнику Робинсону всю нелепость этого плана и его неосуществимость; почти полтора часа затянулся мой визит, а в конце его почтенный полковник Робинсон с ясной улыбкой заявил мне:
– Нет, все это не так. Вот послушайте, что мне пишет миссис Робинсон из дому о том, как там у нас говорят ваши русские! – И он вытащил из письменного стола пачку писем своей жены. – А миссис Робинсон у нас пишет даже в газетах!
Аргумент такой веский, что отбил у меня охоту говорить с ним когда-либо впредь.
Весьма характерный случай среди этого разговора. Зная несколько английский язык, я следил внимательно за словами Робинсона и за тем, как переводчик переводил ему мои мысли. В одном месте почти в начале разговора, когда я разъяснял Робинсону задачи нашей армии и всего дела борьбы, я обнаружил, что переводчик отклонился в сторону и плел уже от себя. Я остановил его и по-английски сказал, что моя мысль была совсем не та. Переводчик смутился и задал мне невольный вопрос:
– А вы разве говорите по-английски?
Он тоже был русский, но Моисеева закона – из Польского края либо из Шклова. И большинство переводчиков в Сибири были из того же изгнанного племени. Как они путали и перевирали, часто явно умышленно! Один английский офицер, капитан Стевини, отлично говорящий по-русски, – он воспитывался в Москве, – передавал мне такой факт. Только что пришел на одну большую сибирскую станцию эшелон войск одной державы; их офицеры встречены нашими; радушные рукопожатия, улыбки, и начинается разговор при помощи переводчика. Наши говорят, он переводит по-английски, – те ответят или зададут вопрос, он к нашим обращается по-русски.
– И так врал, так извращал все мысли и слова, – докончил капитан Стевини, – что я подошел и по-английски предупредил иностранных офицеров.
Переводчик-еврейчик переводил, например, слова старого боевого русского полковника о том, что все устали от партийной борьбы и от словоговорения, – так: «Все почти русские офицеры сочувствуют социалистам-революционерам и хотели бы, чтобы у власти стали снова они». Нечего сказать, хорошее и довольно правильное впечатление составлялось при таких условиях у американцев!
Во Владивостоке образовалась штаб-квартира социалистов-революционеров, оставшихся в Сибири; другая часть их перекочевала в Москву и там открыла другой свой центр. Связь шла через Европу с одной стороны, а с другой – при помощи большевистских агентов через фронт. Во Владивостоке же они работали почти в открытую, подготовляли и проводили тот план, который погубил дело русских людей, направленное к возрождению Родины.
Отсюда они раскинули по всей Сибири свою сеть. Прежде всего были устроены опорные пункты, которые образовались в самой администрации. Верховный правитель получил от директории в наследство аппарат далеко не готовый и не совершенный, но со значительной дозой введенных в него партийных социалистических деятелей. Как уже сказано раньше, губернатором Иркутска был эсер Яковлев, и он оставался незамененным до последних дней. Он умел, когда нужно, явиться в золотых губернаторских погонах, в черном пальто с красной подкладкой, по-военному тянулся и часто прибавлял титул; а вечером того же дня он шел к своим «товарищам» в синей блузе, и они при его участии делали в его губернии свое дело. И сделали его.
В другом важном центре и университетском городе, Томске, был губернатором тоже партийный социалист-революционер, Михайловский, который именовал себя поручиком и даже носил военную форму, надев вместе с нею и личину самого искреннего благожелательства к армии и лояльности. У Михайловского начальником контрразведки, то есть тайной полиции, был еврей Д., бывший коммунистический деятель. В Томске была и другая контрразведка, военная, с талантливым товарищем прокурора Смирновым во главе; Смирнов прямо задыхался, с неимоверными трудами открывал заговоры, находил склады оружия, посылал обстоятельные и обоснованные доклады, но им ходу не давали.
До самой весны 1919 года министром внутренних дел был также социалист, Грацианов, приходившийся вдобавок сродни губернатору Михайловскому. Между прочим, было занято крепко эсерами в Томске почтово-телеграфное ведомство. Благодаря этому многие важные телеграммы, особенно шифрованные, извращались и замедлялись, а также обо всех распоряжениях заблаговременно предупреждались их партийные деятели. В центральной конторе у чиновника Рыбака нашли в стене склад оружия, подготовленный на случай восстания и спрятанный в тайнике в стене; был произведен арест, начался процесс, который, увы, ни к чему не привел.
Следующей цитаделью их был Красноярск, где имелась эсеровская тайная типография и где работал, скрываясь под чужой фамилией, один из наиболее вредных иудеев, Цербер. Как будет видно дальше, катастрофа, погубившая все дело, и грянула одновременно предательством в тылу армии, в Томске, Красноярске, Иркутске и Владивостоке. И ведь это было все известно раньше, русскими людьми были обнаружены эти гнезда интернационала, но не было силы вырвать их с корнем и обезвредить.
Дальше работа социалистов-революционеров направилась в народные массы; для этой цели они избрали такие безобидные и полезные учреждения, как кооперативы. И центральные управления, и местные отделения были наполнены их людьми и ответственными партийными работниками. «Син-кредит», «Центросоюз» и «Закупсбыт», три главных кооператива в Сибири, были всецело в руках эсеров. Этим путем распространялась литература, добывались деньги, велась пропаганда на местах и подготавливались восстания.
Наконец, были направлены усилия проникнуть в действующие армии. К сожалению, и это удалось им сделать; не всюду, в одну лишь армию вошли они, но и этого было достаточно, чтобы замкнуть круг.
Борьба за власть не была окончена. Временно она отошла лишь на второй план, чтобы подготовить силы и ждать удобного момента. И в то же время всячески мешать живой работе русских людей, сплотившихся около верховного правителя, чтобы спасти Родину и дать своему народу не эфемерную, а истинную свободу идти и развиваться своим историческим путем. А работа была и без того тяжелая, чрезмерная, требовавшая героических напряжений.
Глава 2 Армия и тыл
1
Не прошли даром волнения в Уфе. Наши части на этом направлении были очень слабы численно, они состояли из остатков Народной армии, сведенных теперь в неорганизованные отряды под начальством молодого способного генерала Каппеля; затем здесь же действовали полки и батареи, сформированные в Уфимском районе из добровольцев и мобилизованных, они вместе с чешскими частями входили в отряд генерала Войцеховского. Насколько эти части были исключительны, можно судить по тому, что в волжских батареях Каппеля номерами были офицеры, они же иногда составляли целые роты, которые дрались и умирали, как ни одна воинская часть в свете.
Уфимские и камские полки имели в своих рядах больше крестьян – население этих районов определенно встало все против большевиков. Как пример, могу привести 30-й стрелковый Аскинский полк, сформированный из жителей волости этого названия; полк дрался выше похвалы, а волость давала не только пополнение людьми, она снабжала полк одеждой, обувью, обозом и пищевыми продуктами. Вот как русский народ хотел сбросить большевицкое ярмо и как умел он жертвовать. Или другой полк, 15-й стрелковый Михайловский полк, стяжавший себе боевую славу, как один из первых; он был сформирован и пополнялся жителями Михайловского уезда, посылавшими подкрепления по первому слову.
Генерал Каппель с волжанами совершал чудеса. Он несколько раз отбивал попытки красных взять Уфу тем, что сам переходил в наступление, искусно маневрируя своими небольшими отрядами, и выигрывал блестящие дела, нанося большевикам тяжелые поражения. В то же время уфимцы с чехами сдерживали натиск на других направлениях. Но вот чехи ушли в тыл. Волнения в Уфе и пропаганда социалистов поколебали фронт.
И в конце декабря, как раз перед рождественскими праздниками, Уфа пала. Наши отступили на восток к горным проходам через Уральский хребет. Здесь удалось удержать фронт в течение всей зимы.
Но необходимо было немедленно влить какие-то свежие части для устойчивости, необходимо было волжанам дать время хоть немного отдохнуть, сформироваться, пополниться, одеться, чтобы весной можно было начать с ними наступление.
Еще более настойчиво требовалось ввести в армию определенный порядок, перейти от хаотической отрядной организации к правильному делению на корпуса, дивизии и полки, создать небольшие работоспособные штабы и органы снабжения.
Можно себе представить всю трудность этой сложной задачи, которая стояла тогда перед Верховным главнокомандующим и его Ставкой. Его начальник штаба генерал Д. А. Лебедев справился с честью с этой задачей; ему случалось вести работу иногда целые сутки, зачастую завтракая и обедая у себя в кабинете. Приходилось работать без устали и без малейшего откладывания дела, ибо жизнь требовала быстрых решений, и каждый пропущенный день мог свалить все хрупкое тогда сооружение. Шла лихорадочная деятельность среди бурлившего, не установившегося еще русского моря; надо было одновременно разбираться и вести дело с разнообразными военными представителями интервенции, говорить с ними, выслушивать их бесконечные требования и вводить их в рамки.
Все силы, действовавшие на фронте против большевиков, были разделены на три отдельные армии: Сибирскую – на Пермском направлении с базой в Екатеринбурге, Западную – на Уфимском направлении с базой в Челябинске и Оренбургскую, действовавшую на юге. Армии были составлены из тех войск, которые действовали и раньше на этих направлениях, с подачей им из тыла всего мало-мальски боеспособного, что можно было к этому времени собрать. Во главе армий были поставлены: Оренбургской – атаман генерал Дутов, Западной – генерал Ханжин, а командовать Сибирской армией был назначен генерал Гайда, поссорившийся к этому времени с чехами и поступивший на русскую службу. Почему именно выбор остановился на этом иностранце, так мне и не удалось выяснить точно; было это сделано А. В. Колчаком, отчасти, как бы в благодарность за то, что Гайда в свое время один из первых определенно поддержал его и проявил не только полную лояльность, но и преданность.
Генерал В. О. Каппель
Все три генерала получили права командующих отдельными армиями, то есть почти равные правам главнокомандующего, для того чтобы дать им более возможности и свободы проявлять инициативу в устройстве и увеличении их сил. Для той же цели армейские районы были определены до реки Иртыша, давая огромные пространства для производства людской, конской и повозочной мобилизаций, для устройства всяких мастерских и образования запасов путем использования средств района.
Работа шла очень живо, почти лихорадочным темпом. Армии сами формировали новые части, составляли запасные для подготовки пополнения, вели ему учет, расходовали его, сообразно с нуждами фронта, имеющимися средствами снабжения и планом действий, налаживали все сложное снабжение.
Ставка регулировала эту работу, вводя ее, насколько было возможно, в общие нормы, уравнивая излишки, пополняя недостачу. Приходилось заново пересмотреть и пересоставить все штаты, многие законоположения, наладить совершенно расстроенный аппарат для подачи из Владивостока получаемого от союзников вооружения и боевых запасов. Надо сказать, что ведь те нормы, по которым была построена наша старая русская армия, разваленная социалистами в 1917 году, в большинстве своем теперь требовали изменения; с одной стороны, за время германской войны в них нашлось много неправильного, не оправдавшегося и тогда опытом, с другой – были в них и анахронизмы, уже отжившие свой век, восстановление которых было бы реставрацией их вопреки здравому смыслу и жизненным требованиям.
Путь для работы лежал теперь такой: взять из старого все лучшее, освященное успехами русской армии, связанное с нею исторически, вытекавшее из естественных условий и особенностей русского народа; необходимо было в дополнение к этому ввести все, что требовалось самой жизнью и новыми условиями, вызванными войной. Ибо отрицать это новое, не принимать его во внимание, держаться слепо старых образцов было бы так же безрассудно, как и другая крайность – полное отрицание своих исторических норм и старание изобрести что-то совершенно новое, ничем даже не напоминающее прежнего.
Работа должна была идти по твердому пути, сопрягая эти два условия, необходимые для ее успеха; и те результаты, которых удалось добиться за зиму, говорят сами, красноречивее всяких словесных доказательств, за то, насколько правильно и напряженно велась эта работа.
Фронт был удержан на Уральских проходах к западу от Аши Балашовской, все попытки красных прорвать его отбивались. В то же время армия пополнялась, росла, приобретала правильную организацию.
Волжский корпус генерала Каппеля вывели в тыл в район города Кургана, на Тобол, чтобы отличные боевые кадры его пополнить, подучить, одеть и снабдить всем необходимым. Последнюю задачу взял на себя генерал Нокс, обещавший все, что нужно для волжан, подать в первую очередь. Пополнение людьми и конским составом должна была сделать Ставка, так как Волжский корпус был оставлен в ее распоряжении. Тут сказалась некоторая автономность армий; ни Сибирская армия, ни Западная не давали пополнения людьми, так как каждая была занята всецело пополнением и формированием «своих» частей; лошади были получены из западной армии, несколько с опозданием она же дала и часть людей. Часть же пополнения генерал Каппель был принужден взять из пленных красноармейцев, которых после некоторого обучения поставили в строй.
Вскоре произошло событие очень радостное, но имевшее большое влияние на уклонение в неправильную сторону.
23–24 декабря была взята Пермь войсками Сибирской армии, операция была проведена среди лютых морозов с малыми для нас потерями и дала блестящие результаты.
Это явилось как бы компенсацией за потерю Уфы и показало, что работа над созданием армий идет успешно. Запасы, взятые в Перми, склады и военные заводы давали, кроме того, возможность пополнить многие пробелы в снабжении наших войск. А эта сторона, невзирая на всю проявленную энергию и работу, оставляла желать много лучшего. Не говоря уже о том, что наше воинство было одето так разнообразно, как великое ополчение 1613 года, многого прямо не хватало такого, без чего жизнь и служба становились невозможными; было мало полушубков, валенок и даже шинелей, чувствовался острый недостаток в винтовках и патронах.
На Сибирскую армию щедро даны были награды. Генералы Гайда и Пепеляев получили чины генерал-лейтенанта и Георгии 3-й степени; многие из офицеров были произведены в следующие чины, причем Гайда, начавший с этих пор проявлять большую самостоятельность, отдавал иногда приказы о производстве прямо из поручиков в подполковники.
Штаб-квартира Сибирской армии была в Екатеринбурге. Это центр горнопромышленного Уральского района, население которого отличается довольно большой зажиточностью, сохраненным крепким семейным укладом, религиозностью, монархическим настроением, честностью и в большинстве прямым, хотя и нетвердым характером; это не был материал для большевиков. Наоборот, с первого дня восстания местные жители присоединились к белым и шли целыми селами и волостями в новую армию адмирала Колчака.
Одним из ярких примеров этому служат знаменитые Ижевская и Воткинская дивизии, составленные целиком из рабочих двух больших заводов этих названий и примкнувших к ним волостей; эти дивизии до сих пор борются против большевиков в Забайкалье, пройдя пешком через Урал и Сибирь более 4 тысяч верст.
Все эти простые и хорошие русские люди были поставлены после революции перед свершившимся фактом крушения старого порядка, прежних устоев и перед задачей искания нового, лучшего. В своей доверчивости они шли вначале за тем, кто умел и брал на себя смелость громче и красивее говорить, беззастенчивее обещать. Все это было учтено социалистами-революционерами, которые еще с 1917 года много работали над пропагандой в этом крае. Выметенные отсюда большевиками, они теперь, после освобождения Урала, устремили опять на него свои усилия и попытались снова раскинуть здесь свою сеть.
Не знаю, какими путями – пользуясь ли старыми связями с Чехословацким национальным комитетом или играя на чрезмерном честолюбии Гайды, но им удалось проникнуть и в его армию; были введены партийные работники в самый штаб, среди них такой, как известный затем по Владивостокскому и Иркутскому восстаниям штабс-капитан Калашников. Они сумели захватить в свои руки целиком осведомительный отдел, важный тем, что он заведовал всей информацией, имел в своих руках типографии и все средства пропаганды.
И отсюда поплелась сеть по всей Сибирской армии. Исподволь, весьма искусно, тщательно и скрытно для постороннего глаза шла эта подготовка. Те генералы и высшие чины гражданской администрации, которые боролись против этой преступной работы, устранялись с пути под разными предлогами, включительно до клеветы и подстроенных обвинений; так было с екатеринбургским губернатором, затем так же был убран начальник военно-административного отдела Сибирской армии генерал Домонтович, работавший в Екатеринбурге с первых дней восстания.
Пробовали эсеры провести такой же план и в Западной армии, но в самом начале, в середине мая удалось их попытки совершенно искоренить. Эта подпольная деятельность эсеров дала свои плоды гораздо позднее и обратила военные неуспехи фронта в полную катастрофу армии, привела к разгрому всего дела, возглавляемого адмиралом А. В. Колчаком. Теперь же в начале его блестящего и полного надежд периода они, как мыши, подтачивали и буравили тот корабль, на который забрались сами, спасаясь от разбушевавшейся стихии бурного и взбаламученного ими же русского моря.
Все люди на этом корабле были заняты одной мыслью и одним делом, как вернее и лучше привести его в гавань государственности. Работа кипела, и на всем пространстве беспредельной Сибири, от Урала до Владивостока, творилось самое нужное дело, создание армии. Офицерство снова понесло на служение Родине свои жизни, свою кровь и все свои силы. Как показала весна и быстрое движение на Волгу, эти жертвы и усилия были направлены недаром.
Да, так показали весна, и лето, и осень 1919 года. Но после того наступила зима и вместе с нею крушение всего большого дела, величайшая катастрофа, какую когда-либо испытывала Русь. В числе многих причин, вызвавших ее, была полная отчужденность тыла от фронта, полное несоответствие работы в тылу.
2
В военной науке существует очень правильное положение, что ошибка, допущенная в стратегическом разворачивании, труднопоправима до конца кампании. Это положение применимо и в деле организации, особенно при устройстве заново большого разрушенного государственного организма.
Подходя к описанию, как устраивалась и налаживалась работа центральных аппаратов в Омске, необходимо указать на допущение одной кардинальной ошибки, начатой еще блаженной памяти директорией и ее ставкой, ошибки, принятой, как бы по наследству, и новой властью, допущенной дальше ею при новой работе.
Для бедной и неустроенной Восточной России начали создавать аппарат во всероссийском масштабе; строились те многоэтажные постройки министерств, департаментов и управлений, которые рухнули в феврале – сентябре 1917 года в Петрограде.
Люди, которые пришли к верховному правителю и получили его доверие и полномочие, принялись воздвигать из обломков старых дореволюционных учреждений громадную и совершенно неработоспособную машину.
Мне всего ближе пришлось ознакомиться с деятельностью Военного министерства и Главного штаба.
Когда совершился переворот, то вся первая творческая работа выпала на долю небольшого штаба Верховного главнокомандующего во главе с его начальником, генералом Д. А. Лебедевым; и мы видели, как справлялся он и его ближайшие сотрудники с тяжелым делом в самые ответственные первые недели работы. Под их руками армии принимали вид живых и сильных организмов – на исторически верных и необходимых основаниях строились новые, самой жизнью вызываемые формы.
Уехавший во Владивосток и Харбин генерал-майор Н. А. Степанов был адмиралом Колчаком назначен военным министром; долго он не ехал, проводя целые недели в Харбине и, видимо, опасаясь проезда через Читу, так как генерал Степанов был один из самых упорных и непримиримых противников атамана Семенова и «японской ориентации». Наконец перед Рождеством он появился в Омске, привезя с собою на пост начальника Главного штаба генерал-майора Марковского.
С самого первого дня их деятельность может быть охарактеризована так. Вытащены из пыли 24 тома Свода военных законов, все старые штаты и положения, поставлены во вращающуюся этажерку около министерского письменного стола. Как только жизнь выдвигала какой-либо вопрос, – а это было на каждом шагу, – доставался соответствующий том и искалось готовое решение, «старый испытанный рецепт», но, увы, зачастую испытанный и забракованный жизнью, а в условиях разрухи гражданской войны прямо нелепый.
Все сделанное уже Ставкой, та живая организационная работа, которая создавала армию, все ее начинания были забракованы, как плод незрелый и неподходящий под узкие старые рамки. Была сначала сделана попытка подчинить Военному министерству все, касавшееся вооруженных сил, чтобы можно было все подвести под эту ферулу крутящейся этажерки со старинными томами законов и штатов. Но верховный правитель на это не пошел и разделил сферу власти так: действующая армия с территорией по Иртыш подчинялась (в военном отношении) начальнику штаба Верховного главнокомандующего, все гарнизоны и запасные войска, вся местность к востоку от Иртыша – военному министру.
Возник дуализм, который приобрел еще более острую форму благодаря личным свойствам действовавших лиц. Д. А. Лебедев, молодой сравнительно офицер Генерального штаба, не искал власти и не дорожил ею, преследуя исключительно цели боеспособности армии и стремясь вызвать для того к деятельности все живые силы. Н. А. Степанов оберегал свой престиж, вместе с Главным штабом, цеплялся за власть и усматривал в каждом начинании, несогласном с его воззрениями, чуть ли не личные против него выпады. Появились трения. Мне лично говорил несколько раз адмирал А. В. Колчак:
– Страшно трудно. При каждом важном вопросе мне приходится сначала мирить наштаверха с военным министром, разбирать личные обиды последнего.
Но убрать его он не решался, питая дружеские чувства еще по совместной работе в Харбине; когда же просился уйти с поста генерал Лебедев, верховный правитель и слышать не хотел, говоря, что он больше всех в него верит и знает на деле его способность вести работу.
При этих условиях мало было надежды на согласованную работу тыла и фронта.
Военное министерство и Главный штаб распухли до чудовищных по величине размеров; вышли к жизни все прежние отделы, отделения, столоначальники. Создано было военное совещание из семи-восьми дряхлых летами генералов, в обязанности которых входило рассмотрение всех законопроектов и штатов. Долго, многоречиво и весьма добросовестно делалось это; спешные законопроекты лежали целыми неделями, отклоняясь иногда по пустякам, а иной раз так перекраивались, что не оставалось живого места. Но зато на вновь отпечатанных штатах и положениях красовались внизу фамилии членов этого совещания, совсем как на старых, дореволюционных, великороссийских, даже и фамилии похожие были подобраны.
Многоэтажные здания, полные офицеров и чиновников, работали также очень много и усердно; писали из одного отделения в другое и в ставку отношения, составляли проекты, доклады и объяснительные записки. Как один из многих примеров, мне показывал начальник организационного отдела полковник Оберюхтин – человек, весь горевший желанием работать, приносить пользу и делать живое дело, – проект о подготовке офицеров и унтер-офицеров, составленный вначале не только жизненно, но даже талантливо. Три месяца этот проект ходил от стола к столу, и за это время образовался объемистый том. На первом проекте была резолюция военного министра «доложить и пересоставить». На втором, пересоставленном, стояло указание согласовать с такими-то статьями такой-то книги прежних законоположений. Затем шли третий, четвертый, пятый, шестой варианты доклада и объяснительные записки, с объемистыми 56 резолюциями; наконец, на последнем красовалась надпись начальника Главного штаба: «Повременить!»
Еще более грустная по результатам была судьба большого проекта о формировании в тыловых районах Сибири действующих частей для фронта. Был составлен опять-таки вполне жизненный и выполнимый проект и план, по которому армия должна была получить три с половиной дивизии в апреле 1919 года и столько же в августе. Надо было придерживаться этого плана и вести, не мудрствуя лукаво, самую простую работу, а для своевременности было необходимо отдавать соответствующие приказы, соблюдая расчет времени плана. Получилась бы полная обеспеченность боевого дела, даже если бы этот план выполнили даже частично.
Но его постигла та же участь бесконечных переделок, передокладов, исправлений и, наконец, полного отставления; время шло и тратилось самым недопустимым образом. Не было ничего создано и в отношении военно-административного устройства тыла, опять по той же причине увлечения ложноклассическими образцами прежнего бюрократического порядка.
Восстание для свержения большевиков в Сибири было произведено строевыми офицерами и потребовало от них сразу разрешения многих вопросов; был разрешен в числе прочих и этот: отказались от системы военных округов и ввели вместо них корпусные районы с применением территориальной системы. Во фронтовом, армейском районе такой порядок и укрепился, что и давало те силы, которыми фронт вел борьбу. Одним из первых дел нового Военного министерства был отказ от корпусных районов и замена их военными округами; массу времени потратили на это и ничего не добились. Получились громоздкие штабы, – штаб Иркутского округа имел свыше ста тридцати офицеров, Омского округа – более ста семидесяти. Войск же было только то, что осталось от прежних корпусных районов.
На бумаге отказались и от территориальной системы комплектования войск. Аргументы были веские: ввиду неспокойного состояния страны и непрекращающейся пропаганды нельзя надеяться, что поддерживать порядок в районе будут войска, составленные из местных жителей. Но существовавшие в Сибири условия транспорта, наличие единственной железнодорожной магистрали при чисто сибирских колоссальных расстояниях делали фактически невозможным применение другой системы, кроме территориальной, особенно при том недостатке времени, какой тогда ограничивал все наши действия. В эти дни резче и определеннее, чем в какой-либо другой войне, вставала вся правда великих слов императора Петра I: «Потеря времени смерти невозвратной подобна».
Это – с одной стороны; с другой – надо было предпринимать для успокоения населения и для привлечения всех его симпатий на сторону правительства другие меры. Нельзя было вести священную, освободительную войну против большевиков, не доверяя населению, своему же народу; тогда лучше было и не заваривать каши.
Ведь фронт сумел собрать полумиллионную армию из тех же народных масс; там некогда было разводить теорию и отчеканивать проекты: жизнь требовала быстрой творческой работы. И то, что эта полумиллионная армия образовалась, существовала, вела успешные бои, доказывает лучше слов: 1) с этой работой справились и 2) массы увидели и поверили, что война, на которую их призывают, ведется за Россию и за благо всего ее народа.
Надо понять тоже и запомнить, что такого числа белогвардейцев собрать было невозможно, что невозможно было также гнать массы в армию насильно; не было для этого средств, да и не было желания, так как все вожди армии искренно отдавали себя на служение России, и только России. Но России прежде всего русской, устроенной на ее самобытных, исторических основаниях, великой и самостоятельной. Сложна была психология армии во всем Белом движении, но одно несомненно: настроение лучших ее представителей, а за ними и массы было чисто национально.
Нельзя пройти еще мимо одной стороны, охарактеризовавшей узкобюрократическую деятельность нового Военного министерства. Оно считало себя обязанным стать на страже интересов старшинства в чинах офицерского корпуса и не нашло ничего лучше, как достать из архивной пыли старые «списки по старшинству». По этим спискам и делались почти все назначения. Ни боевые заслуги, ни талантливость, ни доказанная работоспособность и даже подвиги не могли поколебать новых олимпийцев, считавших необходимым для возрождения России прежде всего воскрешение старых, отживших форм. Даже и внешне вид Главного штаба принял тот же чванливый, недоступный и отталкивающий характер петербургских канцелярий.
Наряду с этим пренебрегались истинные интересы офицерства; зачастую представления к производству в следующие чины за боевые отличия, за выслугу лет, еще в германскую войну, месяцами лежали и ждали резолюции военного министра. Сначала даже потребовали было обязательного наличия послужных списков по всей форме и со ссылками на все приказы, хотя бы до 1880-х годов. И долго держались этого правила; наконец поняли, что в такое время, когда офицеры сошлись почти со всех концов света, многие ускользнули из самых когтей большевистского стервятника, – это требование чистая и законченная нелепость.
Вот уж именно где применимо выражение – ничему не научились и ничего не забыли.
Верховный правитель рвал и метал, когда до него доходили сведения обо всем этом. Но господа бюрократы, налетевшие на теплые омские места в избытке, находили и здесь средства для маскировки:
– Это все интриги…
Или:
– Как не совестно отвлекать верховного правителя от дел государственных!
А разве армия, ее боеспособность, ее офицерский корпус – разве это не было тогда делом государственной важности первой степени?
Такая же картина была и в других министерствах Омска. Всюду шли тем же легчайшим путем постройки и копирования старых дореволюционных бюрократических аппаратов; но раньше в них были хотя свои хорошие стороны – десятилетиями налаженное дело, преемственность и опытные работники. Здесь же, в копиях, главное внимание обращалось на внешность. Даже время службы было применительно к Петербургу мирного времени: в 10 часов утра начало, в 12 – перерыв на завтрак, в 4–5 часов конец, и все расходились по домам. Министерства были так полны служивым народом, что из них можно было бы сформировать новую армию. Все это не только жило малодеятельной жизнью на высоких окладах, но ухитрялось получать вперед армии и паек, и одежду, и обувь. Улицы Омска поражали количеством здоровых, сильных людей призывного возраста; много держалось здесь зря и офицерства, которое сидело на табуретах центральных управлений и учреждений. Переизбыток ненужных людей, так необходимых фронту, был и в других городах Сибири. Против этого Военное министерство мер не принимало, и почти каждый, кто хотел укрыться от военной службы, делал это беспрепятственно.
3
В ноябре, когда организационная работа только что началась, я прибыл во Владивосток, чтобы начать подготовку и провести формирования там, на Дальнем Востоке России.
Местом для этого был избран Русский остров. Лежит он в океане, верстах в пятнадцати – двадцати от города, имея сообщение с ним только пароходами; на острове еще до войны были построены казармы более чем на дивизию. При создании во Владивостоке крепости, после 1905 года, на острове были возведены форты и батареи, прекрасные, построенные по последнему слову техники укрепления; сам остров, благодаря своему выдвинутому положению, гористому характеру и большому количеству закрытых, глубоких бухт, представляет большие стратегические преимущества. До революции доступ на остров был обставлен очень большими трудностями, без пропуска коменданта Владивостокской крепости никто не мог попасть туда; въезд иностранцам был воспрещен вовсе. Когда после революции товарищи захватили власть в свои руки и контроль попал в их комитеты, все переменилось. И это природное сокровище Русской державы было очень скоро приведено в состояние печального разрушения и упадка. Все огромные здания казарм стояли ограбленные, без окон, печей и дверей, грязь была невообразимая, такая грязь, которую можно было видеть только после революции. На остров ехал и жил на нем всякий, кто хотел; там образовались даже притоны преступников.
Приходилось заняться исправлением всего разрушения, наладить снова порядок и охрану Русского острова.
При ремонте и очистке зданий мне много помогли британские офицеры. С присущей им энергией и размахом они более двух месяцев работали без устали над приведением казарм в жилой вид, три энергичных канадских офицера. Должен по правде сказать, что со стороны английского офицерства русские видели много доброго, много искренних дружеских чувств и откровенного благодарного признания великих заслуг России в мировой войне. Большинство из них вполне оправдывало название джентльмена, они доказали, что русские могут иметь дело с отдельными представителями их нации. И тем обиднее для обеих сторон, и тем невыгоднее – та двойственная политика, которую вел все время их словесный диктатор, Ллойд Джордж, этот, как его называли в Сибири, Керенский крупного масштаба. Эта двойственная политика, полная какого-то скрытого смысла, в числе других причин, привела в конце концов к гибели на востоке русское дело, а вместе с ним и многомиллионные военные грузы, которые Англия привезла в Сибирь. Эта же двойственность совершенно затемнила те услуги и ту работу, которые бескорыстно и рыцарски несли здесь многие британские офицеры.
Мне удалось собрать для подготовки пятьсот офицеров и около восьмисот солдат. Курс был составлен самый простой, почти применительно к учебной команде и школе подпрапорщиков мирного времени. Главной целью было – упорным трудом и регулярной казарменной жизнью счистить революционный товарищеский налет, показать на самом деле все преимущества крепкой воинской дисциплины и порядка.
Кроме того, нужно было считаться, что времени было до крайности мало. Основные обязанности младшего офицера, в сущности, не сложны; они требуют только очень отчетливого знания всего, что должен знать солдат; младший офицер обязан уметь быстро решить всякую задачу в поле, быть мастером этого дела, чтобы не растеряться и не промедлить. Вот такого-то мастера в пределах взвода и роты, отчетливого инструктора для подготовки молодых солдат и надо было сделать в два-три месяца.
Были попытки провести это дело подготовки на Русском острове и раньше, осенью того же года, но они окончились неудачей. Мой приезд с целью начать то же дело встретил поэтому недоверчивость и даже скрытые улыбки преждевременного сожаления.
Стали прибывать партии офицеров. Редкие из них приезжали в военной форме, большинство в самых разнообразных штатских костюмах, иные почти в лохмотьях, длинноволосые, небритые, с враждебным недоверчивым взглядом исподлобья. Они слушали слова о необходимости работы и дисциплины, хмуро и недовольно глядя из-под сдвинутых бровей.
Бедное русское офицерство! Оно принесло миру и своей Родине жертв больше всех; никто не перенес зато и таких страданий, мук и обид, какие выпали на его долю.
Условия работы были следующие: весь день распределен по расписанию, восемь часов в день занятий, казарменная жизнь строго по уставу внутренней службы. Отпуск в город раз в неделю, в воскресенье. Зато весь возможный комфорт был предоставлен на острове. С первого дня этот порядок и работа пошли как новая, исправная и точно заведенная машина.
Трудно было вначале. Генерал Степанов, помогавший мне несколько дней и живший во Владивостоке, передал раз предупреждение – кем-то выраженные угрозы убить начальствующих лиц за введение такой строгой дисциплины. Но надо заметить, что самым тяжелым наказанием был выговор старшего начальника в присутствии части после разбора проступка. Арест не применялся вовсе и даже не был введен в инструкцию-устав школы, так как офицер или солдат, не желавший измениться к лучшему после трех случаев выговора, не исправился бы от ареста и подлежал отчислению или даже разжалованию, в зависимости от серьезности проступка.
Первые две недели было тяжело всем. Начинались занятия в 7 часов утра, кончались в 7 часов вечера, чередуя учения в поле с лекциями. Туго вначале прививался и казарменный порядок. Когда я через неделю выехал по делам на день во Владивосток, адъютант докладывает мне по телефону, что один рядовой-офицер первой роты, поручик военного времени В. сделал попытку застрелиться, выстрелил из револьвера себе в правый бок; все офицерство волнуется. Я тотчас вернулся на остров, собрал роту и разъяснил им всю сущность этого некрасивого поступка, что так офицеры не поступают.
Офицеры слушали молча. Но я уже встретил среди массы не одну пару глаз, смотревших на меня не только с пониманием, но и с сочувствием, прямым, открытым взглядом.
Прошел первый месяц – и какая разительная перемена! Из беспорядочной толпы образовалась стройная воинская часть. Занятия шли полным ходом и уже не утомляли, – все втянулись. Усиленная работа и приобретаемые знания давали каждому уверенность в себе, сознание в исполнении долга. А это вместе со здоровым режимом и прекрасным зимним воздухом острова наложило на лица отпечаток мужественности и чистоты.
Много раз представители иностранных миссий просили позволения осмотреть эту новую военную школу. И вот они приехали, приглашенные на одно наше торжество: открытие мраморной доски на домике, где до войны жил на Русском острове генерал Л. Г. Корнилов.
После парада был смотр двух рот. Рота капитана Ярцова показала отчетливое ротное ученье, то что у нас называется «на пятачке»; шаг и все приемы, как один, перестроения, как в гвардейской учебной команде. Стояли иностранные офицеры, молча смотрели на спаянную, отчетливую роту, и на их лицах постепенно вырастало удивление, заменившее прежнюю пренебрежительную мину. Когда же после учения рота вытянулась длинной колонной и, сверкая штыками, уходила по морскому берегу, звеня могучей русской песней, все эти представители «пяти великих держав» стояли на своем возвышении из штабеля бревен и постепенно поворачивали головы вслед уходившей роте, не могли оторвать внимательного взгляда.
Что это? Неужели Россия встает из гроба?
Мы верили, что да, встает, кончаются ее великие, неизреченные испытания…
Тактическое учение произвело еще более сильное впечатление. Японский генерал и два офицера до того увлеклись, что сами шли за той или другой частью, то бросались к обходящему взводу, то к пулеметам, отражавшим контратаку. После отбоя они пожимали офицерам руки и говорили:
– Да, да, это вот действительно хорошо.
Один из лучших иностранных офицеров, показавший себя большим другом России, американский адмирал Роджерс прислал мне на следующий день письмо с выражением полного восхищения.
«Вид людей всех рот, такой довольный и веселый, доказывает, что они счастливы; а это лучший залог большого успеха, которого вы уже достигли», – писал он.
Генерал Нокс передал школе знамя, подарок возрождающейся русской армии от британской армии, – соединенный русский национальный и Андреевский флаг с образом Георгия Победоносца и с надписью «За веру и спасение Родины». 1 января состоялось его освящение в нашей военной церкви. Из города приехали корреспонденты русских газет, несмотря на то что погода была ужасная, – один из тех редких даже здесь тайфунов, когда сносятся его силой крыши, вырываются с корнем деревья. Идти против ветра можно было только согнувшись под прямым углом.
Церковная торжественная служба, парад в помещении, вид стройных рот, весь внутренний, отчетливый, воинский порядок так поразили газетных людей, что даже социалист Семешко, который ко всему приглядывался опасливо и недоверчиво, буравя своими черными маленькими глазами, и тот крестился в церкви украдкой, а потом в газете написал отчет о виденном как о надежде на возрождение русской армии.
Приходилось делать некоторую чистку. Среди массы офицерства военного времени попали два самозванца, таких искусных, что их обнаружили не так-то скоро; затесался один прапорщик, бывший ранее большевицким комиссаром, человек пять попалось неисправимых. Зато остальные через два с половиной месяца были уже совершенно другими.
Отличные русские офицеры, полные сознания долга, связанные честным товариществом, esprit de corps, и знающие свое дело. Если бы им можно было показать теперь тех, что пришли на Русский остров, то они сами себя бы не узнали.
Такие же результаты получились и в унтер-офицерских батальонах, где люди постепенно втянулись в работу, утратили навеянное революционными демагогами отчуждение и враждебное чувство к офицеру; теперь отношения были самые нормальные и даже дружеские, чувствовалось, что здесь и офицер и солдат – сыны одного народа. Показателен такой случай: среди присланных мобилизованных кадровых фельдфебелей и унтер-офицеров попал один большевик, который на второй же день начал пропаганду; сначала устроил вечеринку с балалайкой, а затем завел речь, что опять офицеры хотят на старое повернуть, что-де надо им погоны к плечам гвоздями прибить и т. д. Эффект для большевика получился неожиданный, – дежурный по роте из молодых солдат, пробывших в школе около месяца, явился к командиру роты и доложил о пропагандисте-большевике…
Строевая и полевая подготовка унтер-офицеров после трех месяцев не оставляла желать ничего лучшего.
План дальнейшей работы состоял в том, чтобы из этих офицеров и солдат, так сжившихся, одинаково обученных, воспитанных в дисциплине, сформировать две стрелковые бригады, а школу оставить для дальнейшего укомплектования частей этого корпуса. Были разработаны все подробности плана. Оставалось только по готовому отдать приказы и продолжать совершенно налаженное дело. Но Главный штаб и министерство перерешили. Почему – мне так и не удалось выяснить. Но посылались самые разнообразные приказания; сначала отправить всех офицеров и унтер-офицеров в распоряжение Главного штаба для назначения; затем – поименные списки для отправления по разным городам, причем военный министр брал себе в ординарцы пять офицеров; наконец, последнее – отправить в три новые дивизии, в Омск, Новониколаевск и Томск.
Наладив на Русском острове дело с новым набором офицеров и солдат, я отправился вслед за первым выпуском в Омск, пробыв на Дальнем Востоке с ноября до середины марта.
Много приходилось мне видеть в это время различных сторон знаменитой интервенции; в общих чертах об этом сказано раньше, теперь приведу некоторые факты.
YMCA – общество христианской молодежи, или, как их называла вся Сибирь, «христианские мальчики»[3] – устраивает спектакль для развлечения русских и интервентов. Представляется русский офицер с огромным жестяным Георгиевским крестом, женщина русская в виде уличной девки, бородатые мужики и бравый иностранный солдат, который спасает женщину. Вся публика, кроме русских, забавлялась и громко хохотала. А русские глотали слезы обиды…
На улицах Владивостока иностранные солдаты позволяли себе затрагивать вполне порядочных женщин; было несколько случаев, когда русские женщины должны были обороняться от них зонтиками.
В конце февраля я приехал с острова на большой благотворительный вечер. При входе в бальный зал стояли три иностранных офицера одной из стран-интервенток, нагрузившиеся до того, что тела их покачивались, а глаза смотрели мутно-осоловелым взглядом; лишь только я вошел, как ко мне обратились несколько дам и со слезами на глазах просили защитить их, – эти три рыцаря печального образа затрагивали всех входивших в зал женщин, некоторых хватали руками.
Я подошел к ним.
– Джентльмены, я прошу вас прекратить ваше пребывание здесь и немедленно оставить бал.
Те тупо на меня посмотрели, а один из них вызывающе спросил:
– Какое вы имеете право говорить нам так?
– Вот что, – если вы немедленно не уйдете отсюда, я буду принужден употребить силу, а кроме того, сейчас же протелеграфирую генералам Ноксу и Эрмслею.
Не знаю, что больше подействовало, думаю, второе, но интервенты поспешили уйти с бала.
Один подвыпивший итальянский солдат (по фамилии Сартори) убил на Владивостокском вокзале русского офицера, командированного сюда атаманом Дутовым; офицер делал замечание русскому солдату, итальянец вмешался и толкнул офицера, а когда тот вынул револьвер, то интервент схватил свою винтовку и сразил есаула К. насмерть. И, несмотря на все протесты, остался безнаказанным.
На похороны этой жертвы интервенции я послал две роты и хор музыки. В соборе, на Светланке, у гроба есаула К. стоял почетный иностранный караул: взвод карабинеров и парные часовые, все в киверах. Духовенство посылало к ним с просьбой снять шапки; но те отрицательно мотали головой. Произошла заминка, так как священник отказался начинать отпевание, пока иностранные солдаты не подчинятся религиозному требованию. Как раз при входе в собор я застал эту сцену. Обратился по-французски к офицеру, начальнику караула:
– Наша религия требует, чтобы в церкви все были без шапок. Будьте любезны приказать вашим людям сейчас же снять кивера.
– Но у нас полагается быть в шапках…
– Ради бога, не забудьте, что вы здесь не у себя, а у нас.
– Но тогда мы не можем делать приема на караул, по нашему уставу нельзя.
– Да и не надо, – лучше не делать ничего, чем оскорблять религиозное чувство народа. Видите, публика как взволнована. Можете уходить совсем. Для почестей убитому у меня есть своих две роты.
Только тогда караул подчинился и обнажил головы.
Вскоре после прибытия на остров мне было доложено, что чины одной из иностранных армий ходят по Русскому острову и производят топографические съемки; с появлением рот школы, караулов и патрулей это прекратилось. Вскоре мне понадобились для занятий и маневров наши военные карты. Запрашиваю штаб крепости. Отвечают: забрала военная часть одной из дружественных стран, занявшая Хабаровск, где был топографический отдел штаба округа.
– Как! Наши секретные карты?
– Да, все забрали…
Обратился к помощи англичан, чтобы вернуть, но так до марта месяца и не вернули. Кому-то они понадобились больше, чем России. Кому?
А вот выдержка из газеты, издающейся в Кобе (Япония), The Japan Chronicle от 25 июня 1920 года из статьи под заглавием: «The alleged sale of maps». «…Цунанори Ойяма, племянник князя Ойяма, был арестован токийской жандармерией по обвинению в продаже секретных стратегических карт известному иностранцу (to а certain foreigner). Когда Ойяма вернулся из Сибири, он завязал дружеские отношения с военным атташе посольства известной страны (of а certain country). Этому иностранному офицеру Ойяма продал карты стратегической важности за 40 000 иен…»
Цунанори Ойяма был в 1919 году официальным лицом в Сибири при интервенции. Как принято писать: комментарии излишни!
Можно было бы исписать одними случаями, рисующими скрытый характер интервенции, не одну книгу; я привожу эти факты не для того, чтобы задевать кого-либо или настраивать против кого-нибудь, а лишь с целью не быть голословным в сказанном раньше. Возникает вопрос: кому больше повредили все подобные господа – нашей России или своим странам, которые послали их на рыцарскую помощь своему страждущему союзнику?..
Из впечатлений обратного пути от Владивостока до Омска – сначала Харбин с той же толпой, еще более густой, шумной и спекулятивной; но порядок и авторитет русской власти заметно окреп за время правления адмирала Колчака. Китайские власти соблюдали все прежние договоры, и русские суверенные права здесь не нарушались.
Читу опять проехали ночью. Я пошел спать, а генерал Нокс решил дожидаться, так как на вокзале должен был встретить его с подробным докладом офицер миссии, майор Керквуд.
Утром рано прихожу в вагон-столовую пить чай, вижу: там в углу сидит один Керквуд, отличный человек, такой веселый, бодрый и прямодушный, как истый строевой офицер.
– Здравствуйте, майор. Как вы здесь очутились?
– Хелло, генерал! Да вот, ночью доложил я все генералу Ноксу, а он мне и говорит: собирайте сейчас же ваши вещи, поедете со мною в Омск. Ничего не знаю, почему? – И смеется.
– Что же вы докладывали? Как положение в Чите?
– Да прекрасно там; атаман очень хороший человек, и все у него организовано в порядке. Очень стараются.
Вскоре вошел Нокс.
– Вообразите, – сказал он, – Керквуд сделался заядлым семеновцем.
И долго еще этот вопрос дебатировался; майор описывал работу в Забайкалье, борьбу с большевиками, большие заботы атамана Семенова об офицерах, казаках и населении. Я высказывал генералу мои соображения, которые приводил выше, но он так и остался при своем мнении, не только пристрастном, но, видимо, имеющем скрытую цель; мнение это, которое Нокс не раз выражал даже и в печати, – что в Чите все плохо, много беззакония и большое японское влияние.
Иркутск. Тихая, вялая работа по формированию, почти без продвижения вперед. Огромный штаб округа представил подробные справки и схемы, но не мог составить плана мобилизации и осуществить его. Губернатором оставался все тот же Яковлев, и население губернии все больше волновалось; то там, то тут вспыхивали восстания.
Вскоре въехали в опасный участок железной дороги. Около станции Тайшет (восточнее Красноярска) шел бой с бандами красных, такие же банды были и к югу от Красноярска.
За четыре месяца все части Сибири объединились, не представляли более отдельных самостийных уделов. Инцидент с атаманом Семеновым был улажен, приказ № 61 отменен. Условия для дружной и усиленной работы, казалось, были налицо. Но дело или подвигалось туго, или стояло на месте, а изредка стало идти назад, создавая новые препятствия и затруднения. Причины этого отчасти обрисованы выше, они крылись прежде всего в разрушительной работе социалистов. Их потайная работа начала уже давать первые результаты. Во многих местах в глубоком тылу появились новые внутренние фронты, железнодорожная магистраль и весь транспорт были частично под угрозой от красных банд; приходилось отвлекать войска на борьбу с ними, так как воинские части интервенции, а за ними и чехи понимали задачу охраны железной дороги узко, то есть только самой линии рельс и станций.
На фронте же в это время наша армия начала успешное наступление, готовое обратиться в победу. Вера в успех русского дела была полная; казалось, не за горами час избавления России.
Что же нам нужно было для успеха?
4
Борьба в этой внутренней, братоубийственной войне велась за идею, священную для каждого русского, – за возрождение великой России. Для всех было несомненно, что социалисты развалили русскую армию в 1917 году, как раз в то время, когда она была накануне полной победы над Германией; затем они заключили позорнейший Брест-Литовский мир, унизив русский народ до небывалых размеров. И, высыпав, как из бездонной бочки, всевозможные анархические свободы, до оправдания кражи включительно, они начали разрушать страну внутри. Беспощадной и дьявольски искусной рукой было направлено это разрушение, и коснулось оно всего: городов, деревень, железных дорог, школ, судебных установлений, общества, церкви и семьи.
Каждый протест душился, каждый несогласный к безусловному подчинению этой новой разрушительной власти бросался в тюрьму или ставился к стенке под расстрел.
Были учреждены чрезвычайные следственные комиссии с абсолютной властью, свирепствовали самодуры-комиссары и Красная армия. Большевики прихлопнули всю прессу, закрыли все газеты и журналы, кроме партийных коммунистических, и реквизировали все типографии.
Россия, уставшая в мировой войне и потерявшая в ней лучших сынов своих, задыхалась, дрожала и тонула в крови и слезах. Ибо, к чести русского народа, – не было ни одного дня и часа с самого воцарения большевиков, чтобы вся Русь подчинилась, покорно согнула свою многострадальную спину. Нет, с осени 1917 года и до сих пор, до осени 1920-го, три года наша Родина бьется и напрягается, чтобы сбросить чуждое ей, ненавистное иго интернационала.
Делом заправляла, из центра в Москве, кучка пришельцев, нанятых Германией; среди них девять десятых были иудеи, прикрывавшие свои специфические фамилии «блюмов» и «штейнов» псевдонимами. Такие же личности из того же энергичного племени появились в каждом городе и местечке России, никому на местах не известные и также прикрывающиеся и до сих пор поддельными именами на русский лад.
И эти люди, новые властители великого русского народа, ненавидели его самой непримиримой ненавистью, презирали его историю, быт и культуру. Никому не известные на местах, не связанные с ними, они особенно свирепствовали. Поэтому-то разрушение страны шло особенно мучительно, ускоренно и беспощадно. К этим интернационалистам, обрезанным, присоединилось из русского народа все, что было худшего, самые подонки; в комиссары шли и принимались каторжники и уголовные преступники, масса беспринципных неудачников на разных поприщах и люди без чести и совести – из-за личной наживы. Такие же контингенты с надбавкой некоторого процента увлекающихся истеричных фанатиков составили коммунистическую партию, из которой, и только из которой составлялись Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Для возрождения России было необходимо прежде всего сбросить всех этих вампиров, присосавшихся к власти и выпускающих кровь из русского народа. Это сознавалось всеми слоями его, всеми племенами, и оттого-то так могуче и откликнулась народная масса на призыв вождей и шла сотнями тысяч под русские национальные знамена. Так началась Гражданская война.
Но большевики, руководимые этими отличнейшими организаторами своего разрушительного дела – евреями, сумели сдавить русский народ и общество таким прессом, что заставили их служить себе. Ряды Красной армии пополнялись нашими братьями, прежними русскими генералами, офицерами и солдатами.
Не подлежит сомнению, – ибо этот взгляд существовал еще в 1917 году, – что довольно значительная часть офицерства шла служить коммунистам с твердым намерением свалить их и с верой, что с падением большевиков кончатся революционные испытания Родины и настанет время для плодотворной, творческой национальной работы. Это подтверждалось неоднократно также теми офицерами, которые на Урале и в Сибири переходили от красных к нам, в нашу армию; и это обстоятельство было самой мучительной стороной новой войны. Выходило, что мы должны для победы над захватчиками власти и насильниками-комиссарами истреблять во многих боях своих братьев, кладя немало жизней и на нашей стороне. И Россия была готова к этой жертве, она принесла ее.
Но необходимо было очень многое для того, чтобы великая жертва нашла оправдание. Прежде всего для армии нужны были подготовленные офицеры, жизненная организация ее, правильно продуманные и составленные планы, хорошо организованный тыл и налаженная работа железных дорог. Со всем этим мы могли справиться сами; мы должны были это сделать, и с большой частью этого мы справились.
Затем для армии необходимы были вооружение, боевые припасы, обмундирование, обувь, снаряжение, техническое и санитарное снабжение; этого добыть или изготовить сами мы были не в состоянии; нам все это обещали дать союзники.
Для обеспечения военного успеха и закрепления порядка в стране было крайне необходимо в успокоенных и очищенных от большевиков местностях сейчас же наладить жизнь, и наладить ее так, чтобы население этих местностей почувствовало уверенность в прочном порядке, получило бы возможность и охоту заниматься своим обычным продуктивным трудом. Следовало опереться в этом на само население, призвать к деятельности его лучшие и средние элементы, дать им самим организацию волостной и уездной власти и управления. Надо было разрешить, не задаваясь всероссийским масштабом, земельный и рабочий вопросы так, чтобы они удовлетворяли местные насущные интересы, так волновавшие народ этих областей. Это должно было сделать новое правительство.
Кроме того, для этой же цели было крайне важно дать населению возможность приобретать необходимые для жизни и труда предметы: одежду, обувь, машины и аптечные товары. Помощь в этом обещали союзники.
Хлеб, мясо, масло, рыбу, фураж и всякое сырье Сибирь давала не только для своей армии и населения, но могла еще вывозить.
Вот те нужды и те условия, удовлетворение которых обеспечивало бы успех делу народной освободительной войны. И армия, и вожди ее не мыслили этой войны за какой-либо отдельный класс, за чьи-либо интересы, кроме общенародных, всей Русской земли.
Необходимо было это еще более ясно показать всем, а особенно противной стороне, Красной армии; надо было сказать вполне искренно и проводить в жизнь, что никакая мстительность, мелкая злоба и расчет за старое не будут допущены при новом строительстве нашей общей Родины; что наша цель одна – вырвать власть из рук большевицких комиссаров и передать ее народу. При работе же по восстановлению России каждому русскому место найдется.
Полный неуспех дела, крах его и в Сибири, и на Юге России, и у Юденича, и в Архангельске как будто говорит, что все делалось не так, как нужно. Верно, многое, как будет видно дальше, было упущено; но главные причины лежали не в том.
Надо отдать справедливость: то, что нам было необходимо и чего мы не могли изготовить сами, нам давали союзники почти в полной мере. Но как? Они привозили все это во Владивосток и складывали в обширные пакгаузы. Затем начиналась выдача не только под контролем, но и при самом тягостном давлении на вопросы во всех отраслях. Одним иностранцам не нравилось, что нет достаточной близости с эсерами, другие считали курс внутренней политики недостаточно либеральным, третьи говорили о необходимости таких-то именно формирований, наконец, доходили даже до вмешательства в оперативную часть, указывая и настаивая на выборе операционного направления. Все это подкреплялось аргументом: у нас запасы всего вам необходимого, мы вам даем, а ведь можем и не дать…
Под таким именно давлением было выбрано направление для главного удара на Пермь – Вятку – Котлас, чтобы соединиться с силами, действовавшими из Архангельска. На главное же направление, жизненно важное для нас, на Среднее Поволжье, были направлены гораздо меньшие силы. А это направление давало нам обладание богатейшим краем, способным прокормить и отопить всю Россию; это же направление соединяло Сибирскую армию с силами Юга России.
У русских людей, которые своей кровью и новыми жертвами хотели спасти Родину и возродить ее, появилось семь нянек, не русских, добрых и родных, а семь иностранных гувернанток; каждая из них считала себя самой умной и способной помочь «этим русским». В результате мы оказались не только без глаза, но и без рук, и без ног.
Еще одно обстоятельство невольно обращало на себя внимание: как только обнаружился в армии и в народных массах чистый национализм, тоска по великой России былого, – опека усилилась и давления сделались резче. И даже проявились открытые выступления представителей интервенции, очевидно считавших национальное возрождение России вредным для себя, недопустимым.
А национальное чувство росло в массах народных и крепло вместе с первыми успехами нашей армии.
5
Повторилась одна из комбинаций, встречающихся почти в каждой войне, когда обе стороны усиленно готовятся к активным действиям, к переходу в наступление после затишья и временного перерыва, но одна успевает произвести удар раньше. Повторилось то же, что было в 1906 году при начале Мукденского сражения, когда японцы предупредили всего на несколько дней наступление Куропаткина; или в весенней кампании 1915 года в Галиции, когда Макензен сумел подготовиться и произвести прорыв нашего фронта на Карпатах, опередив расчет и план действий нашего командования. И всегда сторона, вырывавшая инициативу, сумевшая лучше использовать время, бывала победительницей.
Весной 1919 года Красная армия готовилась перейти в наступление, но мы предупредили ее и начали активные действия раньше, первыми.
Западная армия по приказу генерала Ханжина двинулась вперед, рванула фронт красных раз, оттеснила их немного, затем рванула в другой раз. Было несколько дней очень тревожных и опасных. Большевики напрягали все силы, чтобы спасти положение и отбить атаки нашей армии; они искусно направили свой контрудар, чтобы выйти нам в тыл и перехватить единственную здесь железную дорогу. Но и на этот раз наши предупредили противника. Блестящим смелым маневром, сделав в несколько дней свыше 300 верст по глубоким снегам, вышла 4-я Уфимская дивизия генерала Космина в тыл красным, перерезала у станции Чинимы их коммуникационную железную дорогу и этим сразу облегчила натиск наших с фронта. 13 марта, благодаря занятию генералом Косминым Чинимы, пала Уфа.
Для красных этот марш-маневр 4-й Уфимской дивизии был так неожидан, что они не могли подготовить никаких мер противодействия и не успели эвакуировать Уфу. Нам достались там большие запасы и богатые склады, захвачены были тысячи пленных и много оружия. Наши войска 3-го и 6-го корпусов спешили к Уфе почти наперегонки и во шли туда одновременно, заняв город и захватив большую военную добычу. Поезд, привезший из Москвы самого Лейбу Троцкого-Бронштейна, еле успел ускользнуть на запад и чуть не был захвачен генералом Косминым.
Настроение наших войск приподнялось сразу. И, несмотря на весеннюю раннюю распутицу, Западная армия начала дальнейшее наступление и преследование красных.
Быстро развивался план. События и успехи следовали одни за другими с быстротой Галицийской осенней кампании. 6 апреля взят Стерлитамак, разбита еще одна советская дивизия; 7 апреля захвачен нашими город Белебей. К этому времени началось наступление уже по всему фронту; 8 апреля был достигнут крупный успех и в Сибирской армии – выбили красных из Воткинского завода.
Перешла успешно в наступление и Оренбургская армия генерала Дутова. Это весеннее наступление белых армий 1919 года было подобно могучей русской тройке, которая не знает ни устали, ни преград, ни расстояний; мчится вперед, как птица, проносится как ураган, все сметая на своем пути, гордая, прекрасная и грозная. В корню шла Западная армия, пристяжками были Оренбургская и Сибирская.
Красные полчища почти бежали, делая на подводах в иные дни по 70 верст. Догнать их, окружить и разбить было нельзя. Но, несмотря на это, масса трофеев – десятками пушки, сотни пулеметов, винтовки, снаряды и патроны – попадала в руки наших войск. И белые полки буквально рвались вперед. Высшее командование сначала думало приостановить Западную армию на реке Ик, чтобы дать разобраться, пополниться, передохнуть. Но порыв бросил вперед, дальше. Решили, что передышку устроят на Волге.
11 апреля была обойдена и занята Бугульма; в этот же день на севере сибиряки захватили Сарапул, а на юге был взят Орск. 13 апреля белые освободили исторический Ижевск с его знаменитым заводом.
Красные начали приходить в панику. Они рассказывали жителям бросаемых деревень разные небылицы про нашу армию. Забавно передавали нам крестьяне своим простым безыскусным языком эти рассказы:
– Вишь ты, говорят, рази возможно с ими справиться али остановить их. Наше начальство только выберет позицию, чтобы окопов нарыть и бой дать, а колчаки тут уже, прямо точно из земли вылезли али на крыльях прилетели. Не успели мы и лопат достать…
– У них, парень, у колчаков-то, у каждого на ногах по два американских лыж на колесиках, вроде как на автомобиле, а к лыжам механический пулемет у каждого приделан. Как нам тут обороняться против них. Никак невозможно…
Сильно была распространена в народе версия, что Белая армия идет со священниками в полном облачении, с хоругвями и поет «Христос воскресе». Эта легенда распространилась в глубь России; спустя два месяца еще нам рассказывали пробиравшиеся через красный фронт на нашу сторону из Заволжья: народ там радостно крестился, вздыхал и просветленным взором смотрел на восток, откуда в его мечтах шла уже его родная, близкая Русь.
Спустя пять недель, когда я прибыл на фронт, мне передавали свои думы крестьяне при объезде мною наших боевых частей западнее Уфы:
– Вишь ты, ваше превосходительство, какое дело вышло, незадача. А то ведь народ совсем размечтался – конец мукам, думали. Слышим, с Белой армией сам Михаил Ляксандрыч идет, снова царем объявился, всех милует и землю крестьянам дарит. Ну, народ православный и ожил, осмелел, значит, комиссаров даже избивать стали, рассказывали мне крестьяне. Все ждали, вот наши придут, потерпеть немного осталось. А на проверку-то вышло не то, – закон чили они. И кучка односельчан, стоявшая кругом и жадно слушавшая рассказ, вздохнула глубоким, как бездонное горе, вздохом.
Но в апреле казалось еще все безоблачным. Успехи армии продолжались. Наступление развивалось, войска шли все дальше и глубже, манила Волга.
17 апреля был взят Бугуруслан, откуда двинулись на Бузулук, чтобы отрезать Туркестанскую армию красных, занимавшую Оренбург. 29 апреля 2-й Уфимский корпус рванулся еще вперед и захватил Сергеевский завод, всего в 50–70 верстах от Волги. 4 мая Сибирская армия, развивая свое наступление на севере, заняла город Елабугу.
В это время Сибирская армия была более чем в полтора раза сильнее Западной; главная масса сибирских войск была сосредоточена на Глазовском направлении – все на той же несчастной для нас линии Вятка – Котлас. Западная же армия, проделав блистательно быструю операцию, сильно выдохлась; помимо неимоверной усталости были большие потери, и не столько от боев, сколько от форсированных маршей и холодной, мокрой весенней погоды.
Надо еще сказать и то, что ведь эта армия, сделавшая прямо чудеса, была не вполне регулярна, ведь она имела возраст только четыре месяца организованной службы; понятно, требовать и ожидать от нее настоящей регулярности было нельзя. Вполне в порядке вещей было такое ненормальное явление, что Ижевская дивизия, одна из лучших, потребовала переброски ее на Ижевск, к их дворам. «Мы хотим драться с большевиками, как и дрались, но только желаем защищать свой Ижевск» – так говорили они. А в это время как раз надо было ижевцев во что бы то ни стало перебросить на Бузулукское направление, самое важное для нас в те дни. Но надо понять, что это была ведь гражданская война, которая велась за освобождение страны, а в понятиях масс прежде всего за освобождение их очагов, их земли, своих домов, своих близких.
Конный разведчик-татарин
Надо было также видеть своими глазами, чтобы поверить, во что была одета армия, сделавшая пятисотверстный наступательный поход. Большинство в рваных полушубках, иногда надетых прямо чуть ли не на голое тело; на ногах дырявые валенки, которые при весенней распутице и грязи были только лишней обузой, – легче и приятнее идти босиком. Так часть и проделывала. Полное отсутствие белья, непрерывное, без остановок движение, насекомые, некогда помыться в бане. Не было возможности почти все семь дней в неделе готовить и давать горячую пищу, – походных кухонь в то время не имелось; питались консервами, хлебом, да чем бог пошлет. Все это вызывало очень большой процент больных. Да можно себе представить и состояние здоровых!
Требовалась самая настоятельная необходимость в немедленной присылке с тыла свежих частей, которые докончили бы начатое дело. Только с ними, с новыми частями, можно было рассчитывать форсировать Волгу, чтобы на ней приостановиться и подготовиться к дальнейшей летней кампании.
Как раз в начале весеннего наступления я приехал в Омск и был назначен на должность генерала для поручений при верховном правителе для специальной задачи инспектировать все тыловые части и школы подготовки, следить за их боевой готовностью, принимать меры для ускорения ее, имея непосредственный доклад у адмирала.
Передо мною открылась возможность сразу увидеть, что может дать фронту тыл и когда; зная условия там, в передовых частях, понимая все значение для России переживаемых дней и своевременной поддержки действующей армии, я со своими помощниками провел шесть недель в напряженной работе по инспекции частей ближайшего к фронту Омского округа и мобилизационного отдела Главного штаба. Выяснившиеся результаты были ужасны: округ был совершенно не в состоянии дать ранее двух месяцев что-либо в действующую армию, даже при условии немедленной присылки новобранцев в имевшиеся кадры. Зима оказалась потерянной. Но что хуже – Главный штаб не закончил даже плана мобилизации по уездам, не сделал расчетов перевозки их по железным дорогам. Все это было представлено мне в полуготовом виде. А ведь надо было еще разослать воинским начальникам и местным властям, те должны были сделать свои распоряжения, собрать новобранцев, распределить их на партии и отправить… Эта схема экстерриториального комплектования была прямо абсурдна: из Барнаула люди ехали в Красноярск, из Красноярска в Омск, из Омска в Томск, из Томска в Нижнеудинск, из Иркутска в Бийск, из Новониколаевска в Иркутск, из Мариинска в Барнаул и т. д. и т. д. Этот бесподобный план подготовлялся и проводился не спеша и с сознанием непреложности и правильности работы. На сделанном графике движения всех партий новобранцев была цветная частая сетка перекрещивающихся по всем направлениям линий. Не надо при этом забывать, что мы ведь имели в распоряжении одну магистральную линию железной дороги, и без того загроможденную транспортированием грузов с востока. Естествен был первый вопрос:
– Сколько же времени понадобится для перевозки всех партий?
– Это мы еще не высчитали, это должен сделать отдел военных сообщений.
– Так когда же по вашему плану можно рассчитывать послать части на фронт?
– Нельзя точно сказать. Ставка дала задание подать три дивизии к 1 мая. Но, понятно, с этим не справиться. Это ведь не так просто. А потом, обмундирование еще не получено от генерала Нокса…
Вот к чему привела бюрократическая система, укрепившаяся за зиму в Военном министерстве Омска. Нечего было и думать о посылке на фронт на смену и поддержку выдохшимся бойцам свежих частей. По принятому Главным штабом и не законченному еще плану можно было рассчитывать, при напряжении работы, послать на фронт три дивизии не раньше августа. И то если работу начать немедленно, отказавшись от бумажной волокиты.
Волжский корпус генерала Каппеля спешно готовился в Кургане; Ставке пришлось его сорвать с работы и в полуготовом виде, по частям перевозить в Уфу и западнее. Но это был именно срыв и самое плохое использование тех сил и того последнего резерва, который мог при правильном употреблении дать действительно решительные результаты, так нужные России.
Было еще одно средство добиться этих результатов и тем поправить положение. Как уже сказано, Сибирская армия была очень сильна числом, имела к тому же лучшее снабжение, была и одета и обута и понесла мало потерь за весеннее наступление. Она развивала наступление по главному своему направлению на Вятку – Котлас и по второстепенному – на Казань. Нужно было отказаться от этого плана; первое направление, на севере, прикрыть небольшим отрядом, а всеми силами вести наступление на Волгу, примерно на фронт Казань – Симбирск, ударяя в левый фланг большевиков, сосредоточившихся против Западной армии. Это было возможно сделать, и, если бы это выполнили, хотя и с опозданием, дело было бы выиграно.
Теперь поздно давать хорошие советы, но все эти соображения докладывались в те дни верховному правителю и Ставке; они соглашались, но сделать ничего не могли. Генерал Гайда и его штаб не хотели и слушать о перемене операционных направлений, поддержку в этом они находили у некоторых влиятельных представителей иностранной интервенции, которым казалось важнее всего бить на север, к Архангельску. Так и не было достигнуто взаимодействие двух армий, даже и тогда, когда на Волжском фронте, в Западной армии начались неудачи. А они пришли для большинства неожиданно.
6
Небо казалось чистым, безоблачным, горизонт ясным, заветная цель близкой. Омск в эти дни, совпавшие с ранней мягкой весной, жил спокойной, уверенной радостью. Была как раз Святая неделя, в теплом воздухе трепетали и плыли звуки пасхального перезвона, на улицах весело гудела праздничная толпа. У всех счастливые, улыбающиеся лица, громкий говор, причем, как всегда в нашей милой стороне, преувеличение сверх предела. Известия об успехах армии подхватывались в Ставке, передавались через знакомых, летели в массы, все вырастая, претворяясь в желанную легенду. Говорили уже о том, что наша кавалерия перешла Волгу, Дутов занял Оренбург, что за Волгой всюду восстания крестьян.
Верховный правитель объехал перед тем почти все освобожденные от большевиков местности; когда он был в Перми, там его встречали все слои населения, как народного вождя, выдвинутого самим Богом для спасения Родины. В особняке его на берегу Иртыша в приемной стояла горка, обитая синим сукном, уставленная вся в несколько ярусов блюдами и адресами от Перми; на всех вырезаны слова благодарности и готовности на новые жертвы. Здесь были и от русских женщин, и от духовенства, от крестьян, от рабочих пермских заводов, от городского самоуправления и даже от земской управы созыва 1917 года.
Так же встречали его и другие города. Рабочие знаменитого Златоустовского завода поднесли ему ценную булатную шашку с трогательной надписью, как национальному герою. И в селах при его приезде всюду выходили крестьяне, служили молебны и подносили от чистого сердца скромные хлеб-соль.
Армия, те части ее, которые адмирал объехал, показала ему, что сам народ идет в ее рядах на великое дело, а порыв войск укрепил надежду и уверенность в успехе. Но поредевшие ряды, убогое снабжение и отсутствие обуви заставляли задуматься и искать быстрых способов заполнить недостатки.
– Подумайте только, – говорил верховный правитель, – как они одеты. Нет, – он повышал голос, – как они раздеты, эти герои! И ничего, ни слова ропота. В 6-м корпусе мне был выставлен почетный караул босиком, без сапог.
Но центральные учреждения и тыл казались забронированными непонимающими людьми, о которых сказано: они имели глаза и не видели, имели уши и не слышали. Ведь если бы собрать в тылу белье, одежду и сапоги у тех мужчин, которые сидели там и не желали воевать сами, ожидая от армии новых подвигов и жертв, если бы не раздеть их, эти десятки тысяч людей, сидевших дома, а хоть бы собрать у них лишнее, но собрать действительно и настойчиво, – сколько бы офицеров и солдат было спасено этим. Но глух был тыл, и сказалась полная отчужденность его от фронта.
Успехи армии, ее победное шествие вперед, большие площади новых губерний, освобожденные ею, – все это, наоборот, усилило еще более то ошибочное направление, которое было взято с самых первых дней. Занялись созданием даже нового учреждения – Всероссийского сената. Министерства росли и распухали еще больше, укрепляясь в своем якобы всероссийском размере и значении. Этому немало способствовало и то, что все русские антибольшевицкие вожди и правительства признали адмирала Колчака как верховного правителя России, а его правительство как центр. Помню, какое сильное впечатление произвела телеграмма генерала Деникина о подчинении его и Добровольческой армии адмиралу Колчаку.
«Какой патриотический поступок, какая высота! Действительно, видно, русские люди объединились, чтобы спасти Родину; нет места для личного честолюбия!»
В эти дни торжества русской идеи и победного шествия нашей армии изменилось и отношение союзников-интервентов. Они стали гораздо мягче, исчез нетерпеливый и ворчливый тон. Усилилась их деятельность теперь по разным министерствам, главным образом в иностранном министерстве с его «министром» Сукиным; все вертелось главным образом опять-таки у того же вопроса об официальном признании Антантой Омского правительства как Всероссийского. Это был один из самых острых моментов его. Вот-вот признают, не сегодня завтра, уверяли все иностранцы, а один, наиболее влиятельный, вел кампанию и убеждал верховного правителя в необходимости для признания выпустить новую декларацию, «совсем либеральную и демократическую», чтобы успокоить Антанту. Злой дух керенщины, этой первой ступени интернационала, ожил и через явных и тайных агентов своих вносил снова разрушение среди русских людей в их национальное дело.
Никаких деклараций, понятно, не надо было никому; лишь одно дело могло дать все. Если бы армии наши освободили Русь, если бы правительство, которому весь народ выдал такую могучую поддержку, установило бы в стране порядок и занялось бы творческой работой, – кто мог бы не признать его? Кто?
Армии же были в эти дни в зените своих успехов и славы. Еще усилие, и русское дело выиграно. Но для этого усилия нужно было решиться на изменение плана Сибирской армии, на перемену ее направления на юго-запад для комбинированного удара с Западной армией.
Гайда со своим начальником штаба генералом Богословским приехали в эти дни в Омск с докладом. Мастерски сделанные схемы наглядно показывали, какую силу представляет собой теперешний состав Сибирской армии, ее организацию, группировку и намеченное увеличение. Гайда горячо отстаивал свою идею движения на Вятку, доказывая, что, взявши ее и Казань, будет очень легко дойти до Москвы.
Генерал Р. Гайда
После доклада верховный правитель оставил всех нас обедать; разговор за обедом не касался этого вопроса и шел на самые обыденные темы. Но затем, уже вечером, в кабинете адмирала остались он, Гайда с начальником штаба Богословским, генерал Д. А. Лебедев и я. Снова мы стали доказывать необходимость приложить все силы, чтобы развить наступление на Поволжье и соединиться с Добровольческой армией; иначе вставала угроза, что Западная армия не выдержит. Вставал призрак катастрофы.
Здесь впервые прозвучали те ноты, которые вскоре мне пришлось слышать в Екатеринбурге. Гайда стал очень искусно затушевывать и преуменьшать сделанное Западной армией, восхваляя ловко в то же время общий стратегический план, вспоминая и рассказывая операции и эпизоды из своей армии, набрасывая широкие перспективы занятия им Казани, Вятки, соединения с Архангельском, легкой подачи оттуда английского снабжения и товаров. Нарисовал положение Москвы, которая легко и скоро будет занята тогда Гайдой. Все это он пропитывал струйкой тонкой, умелой лести, вплетая уверения о своей беспредельной преданности верховному правителю, и делал это так искусно, что только постороннее внимание могло заметить неискренность и затаенную мысль.
Разговор делался все интимнее и ближе. Часовая стрелка подходила ко времени отхода поезда Гайды. Перед самым отъездом адмирал Колчак обнял его, расцеловал и, обращаясь к остальным, сказал слова, совершенно неожиданные и глубоко нас поразившие:
– Вот что, слушайте, – он обратился, называя Д. А. Лебедева и меня, – я верю в Гайду и в то, что он многое может сделать. Если меня не будет, если бы я умер, то пусть Гайда заменит меня.
Было больно слышать и видеть, как после этого Гайда, этот очень хитрый и очень волевой человек, склонился к плечу адмирала, чтобы скрыть выражение своего лица – торжествующая улыбка змеилась на его тонких губах; тихим, неслышным нам шепотом что-то нашептывал он в самое ухо верховному правителю.
Вскоре Гайда уехал; вопрос о координации действий Западной и Сибирской армий остался нерешенным.
7
Мне пришлось до середины мая, производя инспекции войсковых частей, объехать города Томск, Новониколаевск, Барнаул, Бийск и Екатеринбург. В Омске я бывал в промежутках между этими поездками, работая там по проверке деятельности мобилизационного отдела Главного штаба и частей Омского гарнизона.
Одно из коренных заблуждений наших заключается в том, что дело можно делать, сидя у себя в кабинете и управляя с помощью бумаг и телеграфа. И в обычное-то время, при прочном и стройном государственном аппарате, этот способ дает плохие результаты, а в наши дни послереволюционного развала результатов не получается никаких. Так было и здесь во всех ведомствах; писались вылощенные доклады-проекты, по ним составлялись бумажные распоряжения и рассылались по почте и телеграфу; после этого составлялся новый доклад о проведенных мерах, и дело считалось сделанным. Центральные и подчиненные им окружные или губернские органы успокаивались на сознании исполненного долга, проводя затем таким же способом вереницу других вопросов.
На местах же обыкновенно происходило дело так: местные агенты военной и гражданской власти получали эти распоряжения и каждый поступал сообразно с его разумением и свойствами. Иногда бумажное распоряжение клалось в стол безо всякого применения, у других были попытки провести его в жизнь, третьи, возмущенные неприменимостью распоряжения из центра к местным условиям, заводили спор и переписку; в большинстве случаев эти распоряжения, казавшиеся издали так законченными и полезными, не оказывали никакого действия, будучи безжизненными. Последствия такой системы были те, что центр успокаивался на самообмане исполненного дела, – местные же органы привыкали к мысли, что центр не способен и не желает вести настоящей, согласованной, руководящей системы. Все сводилось к бумажному управлению и бумажным отчетам. Это и есть то, что называется бюрократической системой; в этом самообмане и успокоении и заключаются ее вредные стороны.
Жизнь же всякой страны требует для успеха другого рода деятельности, жизненного и живого. То есть такого, который был бы основан на знании местных условий, соответствовал силам и проводился бы всеми частями государственного аппарата, от центральных органов до последней периферии, – быстро, стройно и цельно. Для этого нужно:
1) изучение местных условий через местных агентов и через агентов центра, разъезжающих по местам;
2) на основании общей идеи и местных условий должны отдаваться из центра директивы, направляющие работу, вводящие ее в определенный план;
3) постоянное руководство работой на местах центральными органами через своих агентов и постоянный контроль.
Для этого должна быть деятельность канцелярий сведена до минимума с очень небольшим личным составом, а деятельность чисто активную, разъезды и работу на местах необходимо развить, особенно вначале, до высшего напряжения. На это не приходится жалеть ни людей, ни средств. Но эти разъезжающие и руководящие на местах агенты не должны, понятно, являться только грозными контролерами с олимпа, а настоящими руководителями и помощниками в работе местных органов, обладая для того достаточной подготовкой и большими полномочиями центральной власти.
Эти выводы нашли ясное и полное подтверждение во время моих объездов по инспекции войсковых частей. Картина была во всех городах почти одна и та же. Русские люди хотели работать, начинали дело, но вскоре натыкались на препятствия, неясности, несогласованность; возникали трения, из-за пустяков дело тормозилось. Писалось в центр, но оттуда разъяснения и руководство или сильно запаздывали, или же получались совершенно неправильные, еще более затрудняющие дело.
Оказалось, что работа по формированию частей для посылки на фронт заглохла и была почти без движения; такая же участь постигла и школы подготовки младшего командного состава. Офицеры, бившиеся над попытками начать дело и вести его, не хитрое, простое, привычное им дело, получали вместо руководства ряд бумажных распоряжений, иногда противоречащих одно другому, не могли даже начать его; или же начинали, натыкались на затруднения, не могли их разрешить, бились над этим, и долго бились, но безуспешно. Дело не шло.
Всюду меня встречали сначала прежней, традиционной встречей, как ревизора из центра, которому надо показать все благополучие, втереть очки; который будет греметь, пыжиться, разнесет для порядка и уедет, после чего можно будет снова погрузиться в прежнее инертное состояние.
Но моя формула работы по инспекции была иная:
– Посмотрим вместе, что и как сделано у вас, ваш план, совместно сравним его с планом, составленным в Главном штабе и в округе, выясним все местные условия и затруднения. И затем давайте сразу и начнем работу. Я имею полномочия помочь вам и устранить все затруднения. Пробуду столько, сколько вам нужно, чтобы дело пошло.
Без всяких парадов, без специально назначенных часов собирались мы, местные работники и я со своими помощниками, с раннего утра, в часы, назначенные их постоянным расписанием дня. И вместе начинали работать. Через несколько дней дело выяснилось, все препятствия совместными усилиями были устранены. И получался от этой работы сразу ощутительный результат, который вместе с простым и ясным планом были лучшей гарантией успеха.
Через несколько дней, уезжая, мы расставались как люди, связанные общими интересами и общим делом, расставались, в большинстве случаев, друзьями.
Когда я выехал в первый раз и прибыл в Томск, в пути была получена телеграмма из Ставки, что верховный правитель приказал принять все меры к возможно большему привлечению офицеров из тыла на фронт, так как действующие части испытывают острый недостаток в младшем командном составе.
Безо всякого ущерба для местного дела мне удалось отправить на фронт в три дня из Томска двести офицеров, из Новониколаевска – сто семьдесят. Делалось это так: собирал начальников частей со списками личного состава, проверял их, а также деятельность части, устанавливал, сколько офицеров необходимо оставить, а остальным – три дня на сборы, и специальным эшелоном в действующую армию.
При этом выяснялись попутно прямо невероятные вещи. В Томске числилось свыше ста отдельных частей, и из них только около десяти были чисто строевые, необходимые для фронта. Среди остальных же были некоторые, еще образованные Комучем в Казани и Самаре, эвакуированные отряды; существовал химический батальон, имевший сорок офицеров и десять солдат, инженерный учебный полк с еще более невероятной пропорцией и др.
– Как давно ваша часть существует? – спросил я командира инженерного полка.
– С августа 1918 года.
– Ваши задачи?
– Подготавливать для армии младший командный состав и чинить инженерное имущество. Мы имеем много мастерских…
– Много мастерских?.. А сколько вы отправили в армию подготовленных офицеров, солдат?
– Пока ни одного.
– Сколько доставили инженерного имущества?
– Тоже пока ничего. Нам никто не присылал для исправления…
Химический батальон имел какие-то вывезенные с Волги баллоны и собирался вырабатывать ядовитые газы. Это в нашей-то России, в Гражданской войне…
Были и еще части, абсолютно не имевшие никакого значения или даже вредные тем, что, ничего не давая делу обороны, они поглощали большое количество денег и отвлекали много людей. Не скажу, чтобы эти люди, уже месяцами привыкшие ничего не делать, легко сдавались и охотно ехали на фронт; наоборот, они приводили всевозможные аргументы, жалобы, посылали телеграммы в Главный штаб. Но все же через три дня эшелон с офицерами отправился в действующую армию.
В Томске, этом большом университетском городе, поражало и бросалось в глаза чрезвычайно большое число молодых и здоровых штатских людей, слонявшихся здесь без дела, в то время, когда на фронте был дорог каждый человек, армия испытывала острый недостаток в младших офицерах. А здесь как раз было много подходящего материала, учащейся молодежи. Их можно было завербовать всех без вреда, так как наступали летние вакации, да кроме того, все здания учебных заведений были реквизированы, как необходимые под постой наших и чешских войск. И ведь так ясно, казалось бы, что все усилия должны были быть направлены на то, чтобы возможно быстрее окончить Гражданскую войну, вымести из России сор интернационала, а тогда уже налаживать и учение.
В Томске же я впервые увидел наглядно безграничную наглость чехословацких руководителей, поощряемых некоторыми из интервентов. Сюда пришла на постой 2-я чешская дивизия; остальные дивизии распределены были по квартирам в городах по линии железной дороги между Омском и Владивостоком. А месяца полтора перед тем по всей Сибири разъезжала междусоюзная квартирная комиссия в составе по одному представителю от англичан, французов, итальянцев, румын, чехов и американцев; был прикомандирован к комиссии и один русский офицер. Эта комиссия в нашей стране распоряжалась по-своему, все лучшие помещения отводили для иностранных войск, состоявших главным образом из наших бывших военнопленных, притом русские интересы в расчет совсем не принимались.
Нам были необходимы тогда же казармы для вновь формируемого в Томске егерского батальона и для военно-училищных курсов, подготовлявших в действующую армию портупей-юнкеров. Подходящие здания были выбраны и отведены. Но оказалось, что они были раньше предназначены междусоюзной комиссией для чехов. Я приказал тогда, на основании имевшихся у меня полномочий высшего русского командования, отвести чехам другие казармы, а эти, так необходимые для нас самих, занимать. Объяснил это при личном свидании начальнику 2-й чехословацкой дивизии; причем затруднений не было, так как чехословаки еще не выгружались из своих вагонов. Надо сказать, что они вообще не желали расставаться с вагонами, полными всякого скарба и имущества, приобретенного ими за время пути их от Волги до Сибири, и целыми месяцами держали десятки тысяч вагонов. Чех-полковник на словах согласился, но, только я уехал из Томска, вслед телеграмма, что чехи силой хотят занять епархиальное училище, назначенное для военно-училищных курсов. Понятно, на силу ответить силой мы в то время не могли, хотя такое движение имело бы успех и было бы встречено населением восторженно – в массах русских солдат и среди населения накопилось много озлобления против наглых «освободителей»; когда еще в марте я был в Иркутске с Ноксом, во многих местах города мы видели надписи на стенах, сделанные полуграмотной рукой простого человека: «Бей жида и чеха. Спасай Россию. Чехи убирайтесь домой в…» – и т. д.
Попытались действовать через чешского главнокомандующего, французского генерала Жанена. И вот потянулась история на целые полтора месяца. Французский генерал на словах соглашался с нами, обещал, издали грозил даже чехам, а на деле выходило другое: он писал им, что «их справедливые желания столкнулись с желаниями русских, и он, Жанен, просит чехов уступить». Те отказывали; тогда Жанен писал нам, что не может ничего сделать, надо нам уступить чехам. Только когда верховный правитель вышел из терпения и заявил, что вред, приносимый армии проволочкой времени, заставит его пойти на крайние меры, до применения силы оружия включительно, – чехи и их французские руководители пошли сразу на уступки. Видно, нужно было говорить с ними с самого начала другим языком…
Генерал М. Жанен
Иначе, как наглым, отношение массы чехословацких войск назвать было нельзя. Представьте себе целые толпы этих людей со славянским говором, одетых в новенькие и щеголевато сшитые русские шинели и мундиры, в новых наших же сапогах и фуражках, без погон, но с русским оружием, почти все с длинными всклокоченными волосами-космами; они бродили целыми стаями по улицам всех сибирских городов, толпились на станциях, ничего не делая и не желая делать. Когда возникал вопрос о несении ими караульной службы в гарнизонах, они отвечали – это не их дело, пусть несут русские или кто хочет. Они захватывали большие склады продовольствия и фуража, питаясь лучше любой русской части. Они сидели, здоровые и сытые тунеядцы, за спиной многострадального Русского фронта, где офицеры и солдаты были в рубище, терпели во всем недостаток. И в то же время взглядами, жестами и всем внешним видом большинство чехов выражало какое-то непонятное презрение и нескрытую радость нашему горю и неудачам. Они были в большом почете и всячески ублажались нашими левыми, социалистическими элементами, ведшими дружбу и скрытую работу с их командным составом и политическим центром.
Как я уже писал, в Томске мне пришлось увидеть ту бездну, которую подготовляли русскому делу эсеры. Ко мне шли многие русские люди разных положений и занятий, зная, что я генерал, присланный верховным правителем, шли и несли для передачи ему многое, что иначе не доходило и тонуло в многоярусных омских канцеляриях. Шло само русское горе, надеясь на исцеление. Понятно, я не имел права пройти мимо этих сторон жизни, не мог ограничиться только военной инспекцией, так как вся работа эсеров и сродных им организаций была направлена главным образом на то, чтобы мешать и вредить делу организации армии, расшатывать страну и свести на нет наши военные успехи. Это был враг опаснее большевиков, потому что действовал он не в открытую, подготавливал тайный внутренний фронт в тылу. Отсюда и из других городов я привез адмиралу, помимо доклада о воинских частях, обширные фактические материалы, доказывавшие преступную, антирусскую работу социалистов-революционеров и связь их с большевиками.
Верховный правитель рассмотрел все, выслушал подробный доклад, и впервые я заметил выражение усталости в его глазах.
– Да, да, все это так, – сказал он, – я и раньше многое знал; надо принимать меры. Но приходится действовать очень осторожно. Ведь союзники и до сих пор убеждены, что эсеры выражают мнение народных масс и опираются на них…
8
Богатейший Алтайский край с его серьезным, деловитым населением, потомками первых колонизаторов Сибири. Люди отсюда рвались теперь на борьбу против большевиков, отдавали ей все и хотели одного – скорее покончить войну, раздавить гидру интернационала и начать спокойную прежнюю жизнь. Здесь пахнуло на меня старой Россией, близкой и дорогой всем нам и так ненавистной социалистам всех толков. Барнаул, столица края, стоял почти наполовину обгорелый, – социалисты, выпустив из тюрьмы в первые же дни революции уголовных преступников, сожгли вместе с ними город, продолжая свой опыт в 1917 году. Но теперь жизнь налаживалась, шла большая работа во всех отраслях. Отличное впечатление произвели своими кадрами батареи и полки, расквартированные там.
– Вот только не дают нам пополнения. Влили бы местных крестьян и алтайцев, ведь это же лучший элемент, и сами просятся, – говорили мне старшие офицеры. С такими же заявлениями приходили и депутаты от крестьян, горожан и инородцев.
Бийск, другой город Алтая, носил ту же физиономию деловитости, работы и общего страстного желания национального возрождения страны. Ранняя весна развезла глубокие снега, и на улицах грязь стояла по ступицу.
– Наш город славится тем, – безобидно смеялись над собою бийцы, – что он самый грязный город в России. У нас даже открытки есть: целый воз утонул весной на улице.
Зато жизнь стоила здесь гроши и была всем доступна. В ресторане за полный обед брали всего полтора рубля по тогдашнему курсу. Чувствовались между всеми те хорошие настоящие отношения, когда каждому живется хорошо и все имеют свой достаток, не вырывая куска друг у друга. Даже и выражение лиц у большинства было то, к которому мы привыкли у себя на Родине раньше: спокойное, ласковое и мягкое, без малейшей печати жадности, злобности, торопливости. Лишь изредка попадалось лицо, искривленное злобой, худое и черное, со взглядом устремленным враждебно на все. Это были партийные работники, разрушители жизни. Эти угловатые фигуры и эти лица с печатью нечеловеческой злобы вы встретите во всех странах Старого и Нового Света. Как вечные жиды, как потомки Каина, разбрелись они, отягченные преступными мыслями, собираясь всюду разнести тот ужас разрушения, тот дым пожаров, моря крови и слез, те руины городов и селений, которыми они покрыли великую Русскую землю.
Около церквей толпился народ; шли великопостные службы, и целыми днями огромные толпы направлялись на исповедь. Здесь было братство и равенство не на словах, сюда шли люди всех состояний и классов, шли рядом и получали одинаковое утешение, надежду и духовную свободу. В часы перерыва, между горячей работой в местных воинских частях, я шел в эту толпу, старался ближе подойти к ней, узнать ее подлинные настроения.
Всюду была тихая радость от новых, получаемых ежедневно сведений об успехах наших армий на фронте, была спокойная надежда, что приходят к концу дни великих потрясений и испытаний народных. И почти всюду читался в умных светлых крестьянских глазах затаенный вопрос; некоторые спрашивали прямо:
– Что же будет потом? Объясните нам, ваши благородия. А то читали мы в газетах объявление начальства, да неясно как-то. Опять, мол, Учредительное собрание будет, а из кого – неизвестно. Неужто опять этих жидов туда напустят. Ведь какой же порядок тогда возможно сделать?!
– А что вы хотели бы?
– Да нам ничего не надо, только чтобы опять все по-старому, по-хорошему было, как до войны.
Надо понять вам всем, господа иностранные благожелатели России, что наша жизнь была отлична от вашей во всем. То внешнее неустройство и некультурность нашей русской жизни, которые бросались в глаза вам, возмещались гораздо более ценным преимуществом; у нас отсутствовала конкуренция, та, что держит вас всех в своих жестоких тисках, наша жизнь текла неторопливо и спокойно, и постороннему глазу это казалось простой ленью и отсталостью; нигде, кроме России, человеческие отношения не заключали в себе такой мягкости, такого альтруизма и чисто христианского братства; никто не умеет так, как русские, удовлетвориться своим положением; не было у нас в массе зависти, и не было на свете народа лучшего и более доброго, чем русский народ. Мы не закостенели, как многие думали, в своих формах, а мы тихо, спокойно и верно шли вперед, развивали свою собственную культуру, шли своим историческим путем. А наша страна так богата и так неиспользованна, что хватило бы всем нам и нашим потомкам на многие и многие поколения. Где еще можно встретить такие картины: крестьянин-алтаец запрягает телегу, едет на берег реки и топором накалывает каменного угля,[4] нагружает телегу, везет к себе домой, и на неделю-две его семья обеспечена топливом.
В нашей стране эксплуатации народа не было и быть при таких условиях не могло. Но вот нахлынули на Русь жадные, озлобленные люди, ничего общего с Россией не имевшие и ненавидевшие ее. Широким грязным потоком устремился на нашу землю интернационал, которому не было никакого дела ни до нашего народа, ни до его истории, ни до его жизни и культуры. Они жадно раскрыли пасть на наши природные богатства, а чтобы добраться до них, они должны были разрушить русские условия жизни, перешагнуть через миллионы трупов. Дьявольски ловким планом они выполняют вот уже четвертый год это, чтобы затем начать эксплуатировать народные массы беспощадно и систематически с помощью мирового еврейского капитала.
Но борьба еще не кончена. И живы почти неиссякаемые силы народные; не дадут они торжества в России интернационалу. В то время, весной 1919 года, казалось и верилось, что недалек уже день освобождения.
При небольших наездах в Омск я видел, как здесь проникало постепенно сознание опасности от скрытой, противогосударственной работы социалистов. Происходила постепенная чистка государственного аппарата, начиная с кабинета министров, где до сих пор еще сидели партийные работники.
Но слишком медленный, слишком постепенный был путь, к тому же полный каких-то других скрытых и неясных целей, куда вплетались самые разнообразные влияния международной политики через всевозможных агентов интервенции. И трудно было разобраться, где кончалось противодействие интернационалу и где начинались интриги в пользу его; одни и те же люди, разрушая работу социалистов одной рукой, другой поддерживали их. Переплелись самые запутанные и скрытые влияния, закрутились в клубок в Совете министров Омского правительства и тянулись оттуда, незримые, за океан, в Европу и Америку.
Как раз около этого времени началась чистка и реконструкция высшего правительственного аппарата. Мне рассказывал генерал Д. А. Лебедев:
– Застрельщиками являются два министра, два С. С., они образовали такой блок из наиболее энергичных членов правительства. И вот стараются подобрать кабинет, выгнать из него эсеров. Те цепляются за Вологодского.
Но про тех же двух министров шли и усиливались слухи, что они не только сами находятся всецело под иностранным влиянием, но опутывают им и адмирала.
О Вологодском несколько раз слышал я мнение верховного правителя:
– Да какой он эсер! Он уже стар и от всех дел отошел, даже и в партии не состоит. Но понимаете, он здесь необходим, как vieux drapeau, – было его любимое слово. А это vieux drapeau прикрывало собою всех агентов разрушительной работы эсеров по подготовке восстаний по всей Сибири.
Как-то в один вечер приехал в вагон к генералу Лебедеву один из этих министров С. и предложил мне от имени своих товарищей по кабинету, не соглашусь ли я занять пост военного министра, так как они убедились в полной бюрократичности теперешнего и неспособности его руководить живой работой. Подумав, я отклонил предложение, так как был уже связан со своей новой работой, да и считал, что, оставаясь на ней, я сумею принести больше пользы.
Надо было не устраивать смены министров, а добиться изменения в работе Главного штаба и всего центрального аппарата, заставить работать всех и работать не на бумаге. Вот что было необходимо.
Так и не сумел Главный штаб провести своевременно мобилизацию; а ведь условия были чрезвычайно благоприятны, – население шло очень охотно, с сознанием долга и необходимости; ехали сами, по первому объявлению из городов и сел; толпились с первого дня призыва у канцелярий воинских начальников. Многие приходили и прямо в войсковые части записываться добровольцами. По всему пространству Сибири приходилось слышать такое рассуждение: «Мы бы рады идти воевать, пусть начальство прикажет, все пойдем».
Между прочим, после доклада о массах здоровой и молодой интеллигенции в сибирских городах был проведен приказ о полной ее мобилизации, но допустили опять такие ошибки и недомолвки, что более 50 процентов сумело избежать призыва. Такая же участь постигла и приказ о переосвидетельствовании всех офицеров, признанных прежними комиссиями пригодными лишь к нестроевой службе.
Ведь в эти дни, что Россия переживает теперь, прежние нормальные масштабы неприменимы. Раньше можно и должно было дать льготу раненому офицеру, зачислить его в более легкую категорию. А теперь… Представьте себе, что вы идете с близкой женщиной, с женой, сестрой, дочерью. Накидываются на нее хулиганы и пытаются насиловать ее. Разве вы станете справляться с вашей категорией, вспоминать старые раны и контузии? Нет, никогда! Вы броситесь на хулиганов и из последних сил будете защищать женщину. Теперь в таком же положении наша Родина; грубо, цинично и нагло ее насилует интернационал. Долг каждого сына России – идти к ней на помощь, освободить ее. Нельзя вспоминать старые раны, преступно справляться с категорией. Не время!
Нужно было помочь тем героям, которые в невыразимо тяжелых условиях бились на фронте и изнемогали в борьбе. Необходимо было бросить все силы на помощь Русскому фронту, нашим армиям, которые выйдя почти к самой Волге, выдохлись, дрогнули и не могли выдержать нового удара красных.
9
Руководители интернационала, абсолютные владыки Красной армии, напрягали все усилия, чтобы спасти свое положение. Они бросили сотни миллионов золотых рублей и тысячи пропагандистов нам в тыл, пользуясь своими связями с разными сродными им организациями в Сибири. На свой фронт они подвезли свежие части, набрав их среди коммунистов, мобилизовав всю свою партию.
Наше высшее командование также напрягало все силы, чтобы помочь Западной армии. Как мы видели выше, – благодаря потере времени, тыл не мог дать в то время ни одного полка. Поэтому собирались все мало-мальски боеспособные части и отправлялись на фронт. В числе их был послан в 6-й корпус и курень Тараса Шевченко, составленный из украинцев-сепаратистов, со своим желто-голубым знаменем, с хохляцким наречием, принятым как командный язык; этому формированию, как и другим – латышским, польским и т. д., – сильно покровительствовала и всячески помогала французская миссия во главе с историческим Жаненом.
Курень Шевченко оказался совершенно распропагандированной частью, как и все, бывшие под покровительством иностранцев. Поставили его в первую линию, на Бузулуцком направлении, где особенно была необходима поддержка. Но украинцы вместо того произвели гнусное предательство. Через несколько дней после прихода, рано утром, когда все еще спали, курень кинулся по выстрелу к винтовкам, перебил своих офицеров, а затем бросился в соседний 41-й полк горных стрелков Урала и открыл стрельбу. В то же время депутация от украинцев отправилась к большевикам доложить о своем иудином деле.
С этого и началось. Большевики использовали случай, они сейчас же направили в образовавшийся прорыв свои части, усиливая их и распространяясь все глубже. Надо было принять сразу меры против этой опасности. Но сил под рукою не было. Вот тогда-то и начали спешно, по частям, посылать Волжский корпус генерала Каппеля, высаживать эшелоны и бросать их в бой. Однако прорыва заполнить не удалось, угроза обхода отсюда наших частей во фланг увеличивалась, что и заставило Западную армию отходить на восток по всему фронту.
В то же время Сибирская армия продолжала развитие прежнего плана, наступала по двум направлениям, на Казань и на Вятку. Даже начавшееся отступление и неудача на Волжском фронте не могли поколебать решения и заставить изменить этот неправильный и нежизненный план.
Как раз в эти памятные дни мне довелось быть в Екатеринбурге для инспекции частей Сибирской армии и для устройства там новой военно-инструкторской школы. Когда я прибыл в Екатеринбург и утром заехал в штаб армии, близкие к Гайде люди встретили меня буквально с улыбкой и потирая руки:
– Знаете, а вчера за день Западная армия еще отступила. Наш генерал прав, надо проводить его план.
Все доказательства обратного, все убеждения, что общие интересы, всей России, требуют немедленной помощи Волжскому фронту ударом с севера, в левый фланг красных, что в случае поражения Западной армии будет трещать и операция Сибирской, – все было напрасно. Перед ними стояла твердо их собственная цель, с ее скрытыми сторонами, а Гайда сильной волей и укрепленным авторитетом придавал этому почти непоколебимую устойчивость.
Недели две тому назад Нокс, вернувшись из Екатеринбурга в Омск, рассказывал, прямо захлебываясь, о своих впечатлениях и доказывал необходимость того же плана.
– Гайда так уверен, он прямо по дням рассчитал всю операцию, когда он берет Вятку, соединится с нашими из Архангельска, на другом направлении берет Казань. В первой половине июня Гайда будет в Москве!
А в его штабе в это время шла уже открытая работа эсеров. Некоторые русские офицеры, будучи не в силах остановить разрушительные приготовления, уходили в действующую армию и шли на фронт. У старших чинов штаба опускались руки.
– Помилуйте, – говорили они мне, – нет никаких сил. Докладываем Гайде о преступных прямо действиях, о необходимых решительных мерах. Гайда согласен, отдает приказ, а через десять минут из другой двери, через комнату его доверенного чеха Гусарика входит эсер, и все меняется.
Печать Екатеринбурга и Перми, захваченная, как почти всегда, либералами и социалистами, вела искусную кампанию. День ото дня все усиливая, пели они дифирамбы Гайде, восхваляли его демократизм, называли его спасителем России, единственным человеком, способным на это великое дело. И опять Москва выставлялась как близкая заветная цель. Гайда должен войти в Москву первым!
Вскоре приехал в Екатеринбург и верховный правитель, который в эти тяжелые дни старался личным присутствием помочь на фронте. К приходу его поезда на станции собрались все высшие чины, был построен почетный караул, пешая часть и какие-то конные в фантастической форме, что-то среднее между черкеской и кафтаном полковых певчих. В стороне важно и неприступно прогуливался Гайда, изредка подходя к кому-либо из старших начальников и обмениваясь короткими фразами. Очень интересный и показательный разговор был у меня с ним.
– Что это за часть, генерал? – спросил я, показывая на всадников в коричневых кафтанах, расшитых галунами.
– То мой конвой.
– Что за оригинальная форма у них. Сами придумали?
– Нет, та форма, генерал, исторична.
– ?!
– Бо всегда в России все великие люди, ваш император и Николай Николаевич, все имели кавказский конвой. Я думаю, что если войти в Москву, то надо иметь тоже такой конвой.
– Что же, они у вас с Кавказа набраны, кавказские люди?
– Нет, мы берем здесь, только тип, чтобы близко подходил к кавказскому.
На носках приблизился ординарец и почтительно доложил Гайде:
– Поезд подходит, брате-генерале.
Так было принято у Гайды, по-чешски. Чтобы больше на демократа походить.
Подана команда «на караул». Оркестр играет «Коль славен» (этим церковным гимном в то время заменили мощный, музыкальный и самый красивый в мире русский гимн). Из вагона выходит адмирал Колчак, слегка сгорбленный, с бледным исхудавшим лицом и остро блестящими глазами от бессонных ночей на фронте. Губы плотно сжаты, опустились углы их, и около легли две глубокие складки тяжелых дум. Рапорт. Обходит ряды почетного караула, смотря, по своей привычке, пристальным взглядом в лицо каждого солдата.
– Спасибо, братцы, за отличный вид!
– Рады стараться, ваше… ство-о-о!
– Я только что объехал геройские полки Западной армии; им трудно, на них обрушились свежие части коммунистов. Но, Бог даст, одолеем врагов России. Надо только помочь нашим…
– Рады стараться ваше… ство-о-о, – гремит в ответ в воздухе. И все лица смотрят радостно и возбужденно.
Затем адмирал с Гайдой и еще несколькими лицами проехали в штаб армии. Здесь генерал Богословский, начальник штаба, сделал оперативный доклад по последним сводкам; положение было такое, что само собою напрашивалось решение. Западная армия несколько отступила, и теперь Сибирская армия имела фронт впереди, сильно выдавалась и как бы нависла с севера на фланге у красных. Ударить отсюда сильно, – и полчища большевиков снова побегут к Волге.
Верховный правитель сдавался на это решение, но снова зазвучал тихий, размеренный и настойчивый голос Гайды, снова пошли уверения, что нельзя нарушать плана, что помощь Западной армии гадательна, а здесь мы наверняка-де возьмем Казань и Вятку. И опять вопрос остался нерешенным.
Затем был смотр ударного корпуса, который формировался в Екатеринбурге и составлял резерв Гайды. Как курьез: в него входил «бессмертный батальон имени генерала Гайды» с коричневыми погонами и шифровкой на них: «Б. Б. И. Г. Г.» У всего корпуса были нашивки на рукавах, черно-красный угол, как в дни керенщины. Медленно и внимательно обходил адмирал Колчак все части, держа все время руку у козырька; остро-пронзительно вглядывался он в каждое лицо, как будто хотел запомнить его, как будто хотел передать свою волю, свою горячую любовь к Родине и желание спасти ее. После обхода части прошли церемониальным маршем. Вид людей был хороший, да и обмундирование вполне сносное; подготовка еще не закончилась вполне, но для развития успеха вместе со старыми частями их можно было послать.
После обеда у Гайды, в его особняке, верховный правитель, усталый донельзя и от парада и от стратегических споров, уехал. Вопрос о Сибирской армии был решен так, что она будет продолжать свой прежний план движения на Вятку – Котлас. Между прочим, Гайда в этот день говорил мне, что может взять город Глазов в любую минуту; действительно, там было сосредоточено силы более половины всей его армии.
– Что же вы не берете?
– Сейчас еще несвоевременно. Прикажу взять, когда надо будет.
По возвращении адмирала в Омск он со Ставкой начали принимать ряд отрывистых мер, пытаясь спасти положение. Торопили отправку частей Волжского корпуса. Изыскивали всюду, где можно, и посылали на фронт сапоги и обмундирование. Но в то время мало удалось собрать; дорога из Владивостока могла подавать незначительное количество, не хватало вагонов; да и генерал Нокс, в руках у которого были все запасы, выдавал их по своему собственному плану, мало иной раз считаясь с действительной нуждой русских армий.
Теперь, когда результаты работ, или, правильнее, волокиты, Главного штаба были так печально выявлены, верховный правитель решил идти на крайние меры; была упразднена должность военного министра, а его права переданы начальнику штаба Верховного главнокомандующего. Но это было и поздно, да и, пожалуй, вредно, как всякая ломка в тяжелые дни потрясения.
А события шли неумолимым ходом; остановить его или изменить можно было только героической общей работой. Надо было усилить Русский фронт и систематически, исподволь обезвредить тыл от преступной работы, направленной во вред делу спасения страны. С первой задачей справились, вторая ускользнула из рук и погубила все.
Глава 3 Подвиг армии
1
Весна в 1919 году была дружная. Быстро сошли снега, пронеслись вешние воды, сразу выступила яркая, нежная зелень, земля просохла, и наступили теплые дни.
Это время самое лучшее для ведения военных операций. Наши полки и батареи вздохнули после тяжелой зимы. И, несмотря на все недостатки, на малочисленность частей и на перевес красных, наши войска прилагали все усилия сдержать их натиск, остановить наступление. Предпринимался ряд контратак и маневров, но новые обстоятельства свели на нет и эти усилия Западной армии.
Основной план, принятый теперь, состоял в том, чтобы, отступив центром и втянув за собою красных, обрушиться на них с севера, произвести сильный удар в левый их фланг Уфимским корпусом, усиленным частями генерала Каппеля.
Одна из первых частей Волжского корпуса, Бугульминский полк, пополненный зимой значительным числом пленных красноармейцев, в первом же бою был обойден большевиками. Произошло замешательство, растерянность; была сделана попытка пробиться, не удалось, и полк передался на сторону противника. 2-й Уфимский корпус не успел к этому времени сосредоточить своих сил. Операция не удалась.
Западная армия продолжала отступление по всему фронту; в то же время большевики проявляли все больше активности, подвозили свежие войска и начали давить на правый фланг Оренбургской, или Южной, армии.
16 мая, когда я собирался выезжать для вторичного осмотра всех частей Омского округа, чтобы ускорить формирование и подготовку трех дивизий, мне позвонил адъютант верховного правителя по телефону и передал, что адмирал приказал немедленно прибыть к нему. Когда я вошел в его кабинет, там находился уже начальник штаба, генерал Д. А. Лебедев. Адмирал Колчак изложил подробно мне о том, что в Западной армии отступление продолжается вследствие беспорядка в управлении и растерянности, что командующий армией генерал Ханжин просил уволить его в отпуск, так как он чувствует себя крайне утомленным. Поэтому адмирал находит необходимым немедленные перемены в командовании и улучшение управления армией, что он намерен назначить меня сначала начальником штаба Западной армии, а если генерал Ханжин будет настаивать на своем уходе, то и командующим ею.
Я доложил адмиралу, что, как солдат, привык подчиняться приказу, но имею соображения против:
1) я и мои помощники только что втянулись в свою работу по приведению в порядок тыла и уверены, что удастся скоро провести формирования, так необходимые для фронта; что было бы вредно для самого дела бросить сейчас эту работу;
2) что, как я слышал, среди высшего командования Западной армии происходят трения, которые мне сразу будет трудно уладить.
Верховный правитель настаивал и сказал, что он сам с генералом Лебедевым займется тылом. Хотя и с тяжелым сердцем я принужден был согласиться; моим ответом была искренняя мысль, которая руководила всей деятельностью, вне которой я не видел успеха:
– Подчиняясь вашему приказу, я приложу все силы и разумение на работу с Западной армией. Но, ваше высокопревосходительство, позвольте высказать мое убеждение, вынесенное из нашей войны с Германией, из борьбы на Дону, из эпопеи на Волге, из больших личных переживаний, – успехи действующей армии ничего не значат, сводятся к нулю, если тыл не устроен. А у нас сейчас в тылу полная разруха; необходимо теперь же наладить там внутренний порядок и заставить всех способных носить оружие идти на фронт. Иначе все жертвы на боевом фронте будут бесполезны и даже вредны. Армия исполнит свой долг; лично я отдам все силы ей, но надо заставить работать тыл. Необходимо также вычистить его от социалистов.
– Все это я обещаю сам сделать, – ответил адмирал и благословил меня на новую боевую службу.
Уже при ознакомлении по материалам, имевшимся в Ставке, с состоянием Западной армии, ее положением, с последними данными о противнике и с ходом операции стало вырисовываться много ненормального: было ясно, что работа штаба армии оставляла желать многого; приходилось исподволь и там ввести тот же метод работы, жизненный и живой, без которого немыслим полный успех ни в каком деле.
Пригласив с собою ближайшим помощником полковника Оберюхтина из Главного штаба, я через день выехал в Уфу.
Тяжело было расставаться с делом, в которое я ушел весь, завязал близкие, дружественные деловые связи со всеми начальниками на местах, узнал местные условия. Было грустно оставлять и работу, и тех хороших русских людей, с которыми вместе мы надеялись удачно закончить организацию и чистку тыла. Мои друзья в Омске провожали меня на новую деятельность, и многие говорили, что напрасно я согласился: уезжаю от работы, которую начал налаживать, и еду в армию в то время, когда там ничего уже сделать нельзя.
По пути я сделал несколько небольших остановок, чтобы ознакомиться с ближайшим тылом армии. Первая остановка была в Кургане, где грузились в эшелоны последние части Волжского корпуса и его тыловые учреждения, еще даже не закончившие своего формирования. Части производили хорошее впечатление, чему много содействовал их внешний вид, – новенькое английское обмундирование с русскими белыми погонами; люди были хорошо обуты, имели достаточно белья, у всех имелись шинели и исправное оружие. Здесь же мне было доложено, что социалисты, скрытые остатки учредиловцев, пытались за последние две недели организовать в Кургане тайные собрания и митинги, но им это не удалось, так как почти весь офицерский состав не пошел с ними, а солдатские массы после опытов этой партии в 1917 году не поддавались уже на их лживые речи, не прельщались их дешевыми лозунгами.
Следующая остановка была в Челябинске, где сосредоточивались все тыловые учреждения Западной армии – склады, мастерские, запасные части, все собственное хозяйство армии. В складах имелись различные материалы, мастерские могли изготавливать и чинить обмундирование, обувь, оружие, продовольственные магазины оказались наполненными различным продовольствием на полтора месяца, причем средства района не были еще полностью использованы. Армию можно было считать обезличенной; следовало только объединить деятельность тыловых учреждений с армейскими органами, дать все в одни хозяйские руки; следовало также расширить мастерские и наладить своевременный подвоз. А то выяснялось, что интендант в Челябинске не имел связи с армейским интендантом и, работая довольно много, располагая всякими запасами, не знал точно нужд фронта; весь план заготовок строил на соображениях чисто теоретических. Такая же неувязка была в управлениях – инженерном, артиллерийском и санитарном.
Запасные части были полны новобранцами; молодые парни, в возрасте от 20 до 22 лет, являлись отличным материалом для армии, но при большой работе по их подготовке забывались некоторые стороны, необходимые для фронта; так совершенно не проходили курса стрельбы из-за экономии патронов. Но ведь было гораздо экономнее иметь на фронте солдат, умеющих стрелять, ибо они, придя на фронт, будут выпускать в боях меньше патронов и с большими результатами. Ощущался недостаток в офицерах, причем запасные части не только не собирали их для фронта, а еще претендовали на получение офицеров из действующей армии; не было совершенно школ для повторительного офицерского курса и для подготовки портупей-юнкеров. Все эти задачи требовали разрешения с первых дней моего вступления в новую должность. В течение первого месяца удалось исподволь их наладить, так что с средины июня армейский тыл работал как заведенная машина с исправным механизмом, хорошо прилаженным для нужд фронта.
Промелькнул дивный красавец Урал, с его отвесными скалами, развесистыми соснами и быстрыми горными речками; пересекли у станции Уржумки пограничный столб между Европой и Азией. 20 мая я прибыл в Уфу, в этот чисто русский город, красиво расположенный на высокой горе над могучей, полноводной рекой Белой. За Белой расстилалась и уходила к горизонту безграничная равнина, зеленые плодородные степи; манила и сладко волновала сиреневая дымка их далей, – там были близкие родные места, там желанная Волга. И только стена интернационала, нагло вторгшегося в Родину нашу, отделяет нас от всего близкого, самого дорогого.
2
В тот же день я вступил в должность начальника штаба Западной армии. К этому времени наши части бросили уже Бугульму, оставили Бугуруслан, Белебей и отходили дальше. Два корпуса, 1-й Волжский и 2-й Уфимский, сдерживали на фронте напор красных и прикрывали направление Самара – Уфа, а 3-й Уральский корпус был выведен в резерв на реку Белую севернее города Уфы для отдыха и пополнения. На станции около Уфы выгружались из эшелонов 1-я Сибирская казачья дивизия и Волжская кавалерийская бригада.
23 мая правый фланг Южной (Оренбургской) армии, прикрывавший направление на Стерлитамак, отскочил более чем на 50 верст, оставив этот город и уйдя на восточный берег Белой. Это было полной неожиданностью, так как еще накануне были получены сводки Южной армии о полном успехе в отбитии атак красных и даже о частичном переходе наших в наступление. Создавшееся теперь положение было в высшей степени тяжелое для Западной армии: наш левый фланг был совершенно на весу; между ним и правым флангом Южной армии образовался промежуток более 60 верст, широкая открытая дверь, – от Стерлитамака по западному берегу Белой идет на Уфу большая дорога, которою могли свободно пройти в город силы красных.
Генерал М. В. Ханжин
В Уфе поднялось смятение. Генерал Ханжин в первую минуту предполагал отдать приказ о немедленном отходе за Белую всей нашей армии. Но это было немыслимо, так как наше отступление отдало бы в руки большевиков несколько тысяч раненых и больных, около десятка госпиталей, семьи офицеров и добровольцев, огромные запасы военного имущества и артиллерийские парки. Кроме того, эта поспешность разрушила бы весь план действий, по которому 3-й Уральский корпус и конница должны были к западу от реки ударить по красным, накапливавшимся в промежутке между Западной и Сибирской армиями.
После обсуждения было решено, что нет основания спешить с отходом и отказываться от выполнения этой операции, так как большевики не имели достаточно сил для быстрого наступления в образовавшийся промежуток; кроме того, психология их командного состава и масс не была в то время такова, чтобы идти на рискованные предприятия. Нам же необходимо было рисковать, так как отступление за Белую не было подготовлено, к эвакуации Уфы почти не приступали, железная дорога работала без всякого плана, хаотически и была забита до предела; кроме того, саперы не закончили еще постройку мостов и переправ через реку Белую. Если бы начать отступление тогда же, то мы не только бы не вывезли ничего из Уфы, но не смогли бы отвести в порядке и войска.
Скоро события доказали полную справедливость и правильность расчетов и нашего риска. Город Стерлитамак, оставленный Южной армией, три дня лежал в нейтральной полосе, – красные его не занимали. Генерал Каппель успешно справлялся на левом фланге нашей армии и, переходя к активным действиям, бил короткими ударами большевиков, стремившихся выйти нам в тыл.
Эти дни были самые трудные. Приходилось одновременно налаживать службу штаба, подготавливать новую операцию, переправы через Белую, организовать линию обороны реки и производить эвакуацию Уфы. До чего все было в хаотическом положении, – в конце этой недели ко мне в канцелярию влетел какой-то растрепанный штатский с красным взволнованным лицом. Прерывающимся голосом он начал сбивчиво рассказывать о том, как они не могут справиться и вывезти несколько десятков миллионов пудов разного зерна и муки, погруженных на баржи, на пристанях реки Белой.
– О чем же вы думали раньше?
– Нам только сегодня прислали приказ из министерства.
– Что же вам надо, какую помощь вы ожидаете найти у меня?
Оказалось, по его словам, что они хотели теперь получить в свое распоряжение всю железную дорогу и просили приостановить остальную эвакуацию. Понятно, это было невыполнимо. Так почти все эти большие запасы и достались потом в руки большевиков.
Самое худшее было то, что штаб армии потерял управление и какой-либо престиж, самую тень доверия к себе; почти каждый начальник привык критиковать всякое распоряжение штаба, протестовать, а иногда и не исполнять. Вследствие этого отсутствовала согласованность действий и не было возможности провести цельно какой бы то ни было план. Правда, некоторые основания этому были; даже самая техника работы армейского штаба вызывала такое к себе отношение, – связь с корпусами и отрядами не была обеспечена, военная тайна не охранялась, и доходило до того, что на оперативный телеграф мог прийти всякий, открыто печатались в литографии красивые цветные схемы боевого расположения наших войск с подробным перечислением частей; отдел генерал-квартирмейстера кишел весь день самой разнообразной публикой.
Между прочим, ко мне явились представители французской миссии полковник Ф. и капитан М.; они заявили при первом же разговоре, что почти каждое решение командующего армией делалось известным в городе в тот же день через гостиные и знакомых.
Все это надо было круто и сразу изменить, необходимость вызывала подчас резкие меры. Так же приходилось поступать и в других отраслях. Но все были проникнуты желанием настоящей работы, все с надеждой смотрели на будущее и готовы были на жертвы для успеха. Это облегчало трудную работу и давало много ценных помощников.
В деле эвакуации Уфы и налаживания работы железной дороги неоценимую помощь оказали полковник С. и инженер Д., приехавшие из Омска. Трудность заключалась в том, что ежедневно прибывало много вагонов с эшелонами все подходящих частей и тыловых учреждений 1-й Сибирской казачьей дивизии и Волжского корпуса, забивали станцию, к тому же вывоз грузов и подвижного состава шел медленно и без плана; к итогу каждого дня число вагонов на станции все увеличивалось и дошло до цифры в две с половиной тысячи.
Опасаюсь, что, несмотря на все эти подробности, не удастся обрисовать трудность тогдашнего положения и работы; штаб, усиленный новыми людьми, занимался от 7 часов утра и до 10, 11 часов ночи, почти без перерыва для завтрака и обеда, давая максимум напряжения. Ясно вставала опасность, что если не применить исключительных мер и работы, то неуспех может обратиться в катастрофу.
Немалое затруднение заключалось еще и в том, что организм армии, молодой, неустроенной и почти еще иррегулярной, требовал постепенного ведения операции отхода, – иначе можно было бы испортить все и развалить армию. Клинок хорошей, но необработанной, перекаленной стали согнулся почти в кольцо; если его отпустить сразу, выпрямить мгновенно, – клинок отпрянет со звоном, мелькнет в воздухе молнией метала и разобьется от силы удара на куски, пропадет. Осторожно надо выпрямлять сталь, постепенно отводя концы клинка, бережно храня его…
Необходимо также было считаться и с тем, что наша молодая армия требовала укрепления в ней веры в свою силу, в способность выигрывать дела, побеждать. Это было особенно необходимо теперь, так как неуспех весеннего наступления, неожиданное крушение всех напряжений и результатов значительно подорвали веру и даже расшатали дисциплину, особенно среди высшего командного состава.
Наладив первые шаги новой работы в штабе, генерал Ханжин и я поехали на боевой фронт, чтобы на месте ознакомиться с положением дел. План операции уже приводился в исполнение: 3-й Уральский корпус и 11-я дивизия сосредоточивались на север от Уфы, чтобы ударить по красным, наступавшим на Бирском направлении, вразрез между нашим правым флангом и Сибирской армией. Надо было во что бы то ни стало задержать наступление красных на фронте, пока это сосредоточение не закончится. Эта тяжелая задача выпала на части 2-го Уфимского корпуса.
Была вторая половина светлого мая. Вся земля ярко зеленела новыми всходами, в воздухе звенели жаворонки. Кусты черемухи утопали в пышных белых гирляндах цветов, наполняя воздух своим нежным возбуждающим ароматом.
Родные деревни с их бедными серыми избами, соломенными крышами, с улицами, наполненными веселыми, беззаботными ватагами белоголовых босоногих ребят, шумели как ульи пчел, проснувшихся весной от зимней спячки.
А за деревнями чернели батареи, цепи стрелков вели наступление. В прозрачном воздухе плыли белые облака шрапнельного дыма, и гулко, и далеко разносилось эхо выстрелов. В складках местности и в оврагах стояли реверсы.
Все, что приходилось слышать раньше и читать в донесениях о состоянии геройских белых частей, бледнело перед действительностью. Маленькие, иногда в 20–25 рядов роты; люди выстроены и выравнены с обычной тщательностью при встрече начальства. Раздается уставная, так знакомая русская команда, бодрые отрывистые фразы; винтовки обычным приемом «на-краул», – все как было сотни лет, когда наша армия создавала Великую Россию, все так же, как было и в недавние дни, когда русская армия спасала на галицийских и восточнопрусских полях Францию, Италию и Англию. Но внешний вид этих русских полков был совершенно отличный от того, какой они имели всегда раньше. Как будто это были не воинские части, а тысячи нищих, собранных с церковных папертей. Одежда на них самая разнообразная, в большинстве своя, крестьянская, в чем ходил дома; но все потрепалось, износилось за время непрерывных боев и выглядит рубищем. Почти на всех рваные сапоги, иногда совсем без подошв; кое-кто еще в валенках, а у иных ноги обернуты тряпками и обвязаны веревочкой; татары большею частью в лаптях. Штаны почти у всех в дырьях, через которые просвечивает голое тело. Сверху одеты кто как: кафтаны, зипуны, рубахи, и изредка только попадаются солдатский мундир или гимнастерка. Офицеры ничем не отличались по внешности от солдат. Они стояли в строю, обвешанные мешками и котомками с патронами, и все тело их, согнутые ноги, опущенные плечи, показывало, как эти люди устали за время долгой войны и последних боев. Но узловатые сильные руки крепко сжимали винтовки; у большинства не было штыков. На вопрос, почему так, отвечали:
– Ведь мы все винтовки отнимали от красных, а те не любят носить штык, бросают его.
Не забыть никогда того дивного выражения, полного невыразимой теплоты и чувства высокого подвига, что светились в этих десятках тысяч русских серых глаз. Так могут смотреть только истинные герои, скромные, простые и незаметные, которые молча и всецело отдали жизнь свою для спасения родной страны.
Когда мы стали выяснять нужды войск и записывать их, то оказалось проще записывать не то, чего недоставало, а что имелось; нехватка была почти во всем. И такая неотложная нужда во всем; требовалась немедленная подача снабжений из тыла.
По возвращении в Уфу начали усиленно давить на интендантство и Омск; давление это не прекращалось после того ни на один день, так как даже и с этим прессом мы мало получали и никогда не были в состоянии удовлетворить все нужды армии.
Сосредоточение Уральского корпуса и 11-й дивизии запоздало. Начались бесконечные препирательства и ссылки на усталость, на затруднения, на невозможность, – все то, к чему привыкли некоторые промежуточные начальники раньше, за период иррегулярства. Генерал В., командовавший 11-й дивизией, позволил себе даже заявить прямо, что он приказа о движении не исполнит, так как он обещал дивизии дать отдых. Пришлось его сменить, назначив следствие; дивизию повел новый ее начальник генерал-майор Круглевский, но уже с потерей целых суток.
Из партизан
Командующим армией принимались все меры, чтобы устранить затруднения. Надо было усилить войска артиллерией и пулеметами; работая дни и ночи, собрали все, что было возможно найти под рукой.
Между прочим, докладывают, что в Уфе, на станции, стоит еще одна батарея, французская, с отличными скорострельными орудиями, снабженная всем превосходно сверх меры. Я пригласил офицеров французской миссии Ф. и К. Познакомив их в общих чертах с планом действий, с начавшейся операцией, я просил их дать батарею для 11-й дивизии.
– О, mon general, наши офицеры и люди будут в восторге; они давно рвутся в дело, чтобы помочь русским, – галантно ответили мне французские офицеры. – Но только мы должны раньше спросить генерала Жанена.
– Так, пожалуйста, прошу вас скорее, нам необходима батарея не позже сегодняшнего вечера.
– О, это будет, мы не сомневаемся, что генерал Жанен разрешит. Это только простая формальность.
Вечером приглашаю их снова. Какой ответ?
– Представьте, mon general, мы еще не получили ответа. Вот если бы можно было поговорить по прямому проводу.
– Пожалуйста, телеграф к вашим услугам. Но, прошу, скорее!
На следующее утро опять никакого ответа. Не могли добиться к проводу самого генерала Жанена, а его начальник штаба не брал на себя решения. Подождали до вечера, подготовили автомобильно-грузовую колонну, чтобы батарея могла догнать 11-ю дивизию. Но так никакого ответа получено и не было. Полковник Ф. и капитан К. сами не понимали и как будто искренне чувствовали себя сконфуженными.
Удар по красным на Бирском направлении начался удачно. Их 35-я советская дивизия сначала дрогнула, один полк бежал даже так, что его не могли догнать роты, посаженные на телеги, но запоздание в маршах и несогласованность наступления Сибирской армии, которая наконец-то по приказу Ставки должна была содействовать нам, дали возможность большевикам подвести резервы и задержать наше продвижение. Операция затянулась. А на фронте 2-й Уфимский корпус, истощив все усилия, начал быстро отходить к Уфе. Оставление города и уход за Белую стали неизбежными. Надо было только выиграть время, чтобы вывезти всех раненых и больных, госпиталя и склады интендантских запасов, а также семьи офицеров и добровольцев. Чтобы закончить эвакуацию, железной дороге требовалось еще десять дней, в течение которых войска должны были удерживать за собой западный берег Белой. И это было выполнено благодаря коннице, которая вышла на фронт и прикрыла собою усталых уфимцев.
Могли бы получиться и большие результаты, если бы этот сводно-конный корпус под командой генерала Волкова выполнил полно и точно данную ему задачу, вышел бы на фланг красных и произвел оттуда удар, не стремясь занять растянутое фронтальное расположение. Но нельзя требовать идеалов; надо помнить, что блестящие кавалерийские дела редки в истории так же, как редки крупные чистейшей воды бриллианты; и зависят они от исключительных талантов и свойств высшего кавалерийского начальника. Он должен быть смелым до дерзости, быстро находчивым всегда и везде, свободным от всякой заботы о своем тыле, не думать и о своих флангах, а лишь о тыле и флангах противника; он должен знать в совершенстве и уметь использовать свойства всадника и его лошади. Он, как орел, свободно, легко и смело парит в пространстве, чтобы все видеть своим острым взглядом и стремительно бить врага там, где его всего меньше ожидают.
Наша конница работала скромно, без громких блестящих дел, но упорно, постоянно и беззаветно. И здесь, под Уфой, она сделала многое и дала возможность пехоте планомерно, без спеха, совершить свой отход за реку; благодаря этому удалось закончить и эвакуацию.
Железнодорожники старались изо всех сил, особенно когда с приездом полковника Супруновича почувствовалась твердая рука, систематический план и решимость не отступать от него. Весьма характерно, что почти все железнодорожные рабочие, даже деповские, то есть обычно наиболее склонные к брожению, просили вывезти их с семьями, не желая оставаться и работать при большевиках. Удалось вывезти из Уфы все; даже несмотря на преступно небрежное отношение интенданта армии и его помощников, которые бросили склады и поспешили уехать из Уфы, когда ей не грозила еще прямая опасность. Своей поспешностью интендант полковник С. произвел панику, в которой надеялся скрыть многие грехи и злоупотребления. Он был предан военно-полевому суду; на его место назначили другого, которому пришлось из-за потери трех дней доканчивать эвакуацию уже под выстрелами большевистской артиллерии.
Теперь, когда вся Западная армия отошла и заняла новый фронт на восточном берегу реки Белой, первая задача наша была не пустить большевиков за реку, а в случае их переправы сбросить и разбить по частям. Это представлялось тем более возможным, что Белая в этом месте – довольно серьезная преграда, мы же успели составить небольшие резервы, выведя из первой линии две дивизии.
Эта задача была блестяще выполнена Волжским корпусом южнее Уфы; генерал Каппель впустил красных, дал возможность переправиться одной бригаде 24-й советской дивизии, затем атаковал ее с севера, опрокинул сильным ударом в реку и почти уничтожил.
Город Уфу и средний боевой участок оборонял 2-й Уфимский корпус. Ему не удалось разбить красных, переправившихся здесь, хотя вначале дело шло вполне успешно для нас. Правее уфимцев, ниже по течению реки Белой, оборона лежала на 3-м Уральском корпусе; центр его был город Бирск. В то время, когда уфимцы ударяли с юга, уральцы должны были обрушиться с севера и уничтожить совместно группу красных, переправившихся севернее Уфы (примерно в районе Благовещенского завода). Сначала наше наступление развивалось успешно. Но на второй день случилась измена в одном из полков 6-й Уральской дивизии, где только что прибывшее пополнение, распропагандированное социалистами, бросилось во время боя на своих офицеров, перебило часть их, после чего сдалось красным. Это обстоятельство испортило все дело; красные стали распространяться все глубже, угрожая выйти в тыл 2-му Уфимскому корпусу и перерезать железную дорогу.
Войска Западной армии были отведены тогда на линию горных Уральских проходов; это давало нам возможность сильно сократить силы первой линии и оттянуть 2-й Уфимский корпус в резерв; он был поставлен за первой грядой гор в долинах рек Юрюзань и Ай. Начались усиленные работы по комплектованию и снабжению уфимцев, которые так долго, беззаветно и без отдыха несли боевую службу на фронте.
Уфа была оставлена 8 июня. Штаб армии перешел на станцию Бердяуш. Здесь, вдали от большого города, было гораздо легче вести спешную организационную работу, заниматься исправлением всех недочетов и подготовкой армии к решительному переходу в наступление для перелома кампании.
Прежде чем говорить об этом, необходимо выяснить, как обстояло дело с Сибирской армией.
3
Когда обозначилась неудача весенней кампании Западной армии и была оставлена Уфа, генерал Гайда отдал приказ своей северной группе перейти в наступление и взять город Глазов. Это было исполнено легко. Впечатление получилось сильное, так как казалось, что все слова и предсказания Гайды оправдываются; в Омске загорелась надежда на новый успех, на новом операционном направлении.
Но это только казалось при поверхностном взгляде. На самом же деле происходило другое. Большевики, навалившись всей силой на Западную армию, сокрушив ее наступление на Волгу и оттеснив за реку Белую, начали теперь переброску своих сил отчасти на южный фронт генерала Деникина, а частью на север, против Сибирской армии. Почти одновременно с занятием Глазова начались неуспехи на Казанском направлении. Повторились те же события, что и в Западной армии, но в гораздо большем размере, так как в Сибирской армии, сильно подпавшей пропаганде социалистов-революционеров, происходили массовые восстания войск и измена.
Гайда использовал эти затруднения по-своему. Он прислал в Омск, минуя верховного правителя, прямо в кабинет министров ноту, где излагал, что причина всех неудач лежит в неумелом руководстве армиями, что так дело погибнет, если не передадут командования всеми вооруженными силами России ему, Гайде. Особенно он нападал на начальника штаба верховного правителя, на генерала Лебедева. Тон ноты был угрожающий, – что-де если не подчинят все армии Гайде, то он или уедет совсем, или повернет штыки своей армии на Омск.
Там поднялась большая тревога. Адмиралу Колчаку пришлось ехать самому в Екатеринбург на свидание с Гайдой, оттуда они оба вернулись в Омск. Здесь шли долгие колебания, переговоры, а Сибирская армия в это время отходила все дальше. Верховный правитель хотел прогнать Гайду, так как выяснились уже почти все закулисные замыслы его и окружавших его эсеров. Но не решился на этот, как тогда казалось, крайний шаг и пошел на уступки. Гайде была подчинена Западная армия – в оперативном отношении.
Нас застал этот приказ за работой по подготовке армии к новой операции. Производилась мобилизация во всем армейском районе; крестьяне и рабочие уральских заводов сами просили увеличить возраст призыва, так как они желали идти в армию против большевиков все поголовно, приезжали депутации из сел и заводов. На каждом шагу были доказательства того, что сам народ хотел сбросить иго чужеземного захвата, ненавистную власть интернационала.
Однажды, когда в эти дни я ехал на автомобиле к войскам на правый фланг армии, мы обогнали длинный, растянувшийся крестьянский обоз.
– Какой части?
– Дуванской волости, – отвечали возницы.
– Что везете?
– Хлеб.
– Куда?
– Да в армию, значит, везем.
Никого из представителей интендантства не было, не видно команды при обозе. Непорядок. Но собравшиеся около автомобиля крестьяне сейчас же разъяснили недоразумение.
– Вишь, ваше превосходительство, прослышали мы, что в вашей армии хлеба нехватка, ну наша волость собрала сход, и постановили, кому сколько испечь караваев. Вчерась пекли, собрали шестьсот пудов. А вот, теперь, значит, мы и везем хлебушко-то… – тихим, ласковым голосом рассказывал мне белый как лунь старик крестьянин.
Также по всему Златоустовскому уезду собирали крестьяне совершенно добровольно одежду и даже несколько сот пар сапог; а в этом они сами очень нуждались. Об их подъеме, об их готовности жертвовать всем для спасения родины от большевиков, за которыми они своим здоровым инстинктом чувствовали чуждый народу, враждебно и злорадно ненавидящий все русское интернационал, – обо всем этом свидетельствуют ряд подобных фактов и множество документов, приговоры сельские, волостные и заводские.
Налаживалось у нас в армии и дело снабжения в руках молодого, энергичного полковника Б., заменившего уфимского интенданта, которого военно-полевой суд приговорил за преступные деяния и полную небрежность к шести годам каторжной тюрьмы.
Урегулирован был также вопрос с офицерским пополнением. Начали уже действовать три вновь открытые школы, которые готовили для армии до тысячи офицеров и портупей-юнкеров.
2-й Уфимский корпус пополнялся, одевался, отдыхал и с каждым днем делался сильнее. Работали в армии все, от генерала до рядового стрелка, не покладая рук, веруя в правоту нашего дела и твердо надеясь на успех его. Войска, стоявшие на фронте, отбивали все попытки красных сбросить нас с горных проходов Урала; при этом начальники, от самых высших, принимали непосредственное участие в руководительстве боями, часто бывая в опасные моменты в передовых частях.
И вот как раз в это время была получена телеграмма из Ставки о подчинении Западной армии Гайде на правах главнокомандующего, а через несколько часов пришел и его первый и единственный приказ.
Грубо и цинично он писал, что обвиняет в неудачах на фронте русских офицеров, главным образом высших начальников, которые будто бы слишком далеко держатся от боевой линии, что Западная армия отступала из-за недостатка стойкости и мужества. Дальше шло приказание никому не отступать ни шагу назад, и опять обвинение офицеров и начальников, угроза им расстрелом. А затем добавлялось, что он, Гайда, сумеет в несколько дней поправить положение и дать победу. Чувствовалась в этом приказе та же нота и та же скрытая рука, что и в знаменитом приказе 1917 года № 1; как тогда, так и теперь было стремление натравить массы на офицеров, разделить их, лишить спайки. Но на этот раз дело не выгорело. Научен наш русский народ, прозрел он и умеет разбираться в коварных замыслах социалистов всех рангов и наречий.
Вся армия была оскорблена этим приказом. От многих начальников поступили рапорты с просьбой оградить армию от приемов натравливания на офицеров и от незаслуженных оскорбительных обвинений. Генерал Ханжин вновь послал верховному правителю телеграмму с просьбой уволить его в отпуск для поправления здоровья.
Гайда, надо сказать правду, пытался остановить развал и отступление своей армии; он даже выехал там на фронт со своим «бессмертным» батальоном, но за ним потянулись туда же и эсеры, окружавшие его к этому времени тесным кольцом. И их преступная работа пошла уже в открытую. Результаты не заставили себя ждать. «Бессмертный батальон имени Гайды» перешел на сторону большевиков одним из первых, вслед за тем это печальное явление повторялось почти ежедневно на различных участках всего фронта Сибирской армии. Неудача ее вместо обещанных легких успехов подействовала удручающе на население и войска, а усилившаяся пропаганда социалистов, эсеров и большевиков, ввергла массы снова в нервное состояние, полное волнений и брожения. Этим и объясняются все измены воинских частей и переход некоторых из них на сторону красных. И все это происходило как раз в то время, когда внутреннее положение в соседней Западной армии становилось все прочнее, чисто народное движение против большевиков увеличивалось там с каждым днем.
Сибирская армия, так недавно еще сильная и многочисленная, таяла и исчезала. Кроме указанных выше причин, много способствовало этому безостановочное отступление, почти без попыток образовать резервы и переходом в наступление остановить натиск красных. Без боев была оставлена Пермь с заводами, с потерей огромного количества ее снабжения, складов, с потерей всей нашей речной флотилии. Эта безнадежность действовала на сибирские части все хуже и хуже.
В эти дни верховный правитель решил устранить от командования Гайду и заменить его генералом Дитерихсом. Гайда пытался противодействовать, выступить снова, не подчиниться. Тогда адмирал Колчак издал приказ об увольнении Гайды в отставку с лишением его русского мундира. В командование Сибирской армией вступил генерал Дитерихс. Но вместо того чтобы энергичными мерами остановить отступление и развал Сибирской армии, заняться организационной работой для усиления ее боеспособности, – был начат ряд мер, направленных на коренную ломку всего аппарата армий, ведших борьбу на фронте.
С отходом Сибирской армии на севере большевики получили возможность устремиться оттуда через Уральские горы и ударить в правый фланг Западной армии, их целью было отрезать нашу линию сообщений, железную дорогу в тылу, примерно между станциями Аша-Балашовская и Златоустом. Этим две армии, Западная и Южная, ставились бы в безвыходное положение.
3-й корпус под натиском значительных сил красных начал отходить в глубь Уральских гор, ведя упорные бои и неся большие потери. Как раз в это время прибыл на станцию Бердяуш генерал Дитерихс и привез приказ верховного правителя, которым генералу Ханжину давался отпуск, согласно его просьбе, а командование Западной армией возлагалось на меня.
В трудное время и тяжелые дни вступил я в командование. Надо было принимать меры для спасения положения на фронте, еще более необходима была спешная работа для сохранения боеспособности армии. Все время моего командования на фронте я стремился проводить ту, единственно возможную, по-моему, систему управления, которая давала результаты и вне которой нет жизненной связи между командованием и войсками. Промежуточным аппаратом для этого служат различные штабы; каждый штаб должен работать как хорошо слаженный и исправный механизм; главным руководящим стимулом может быть только один, оправдывающий самое существование этого промежуточного аппарата, – штаб не самодовлеющая величина, он существует лишь для службы войскам, вся деятельность его должна быть направлена только на полезное и необходимое для войск; вне этого не должно быть ничего. Отсюда определяются его размеры, программа его работы и самый характер ее. Все строевые начальники, до самых высших, обязаны руководить деятельностью штаба и управлять с его помощью войсками, бывая, однако, возможно чаще на местах, не жалея сил и времени на то, чтобы быть среди войск всюду и всегда, а особенно в дни серьезных боев.
Приняв армию, я проводил больше половины своего времени среди войск передовой линии, для быстроты передвижений пользуясь автомобилями. Так я получал действительное впечатление о своих войсках, деля с ними их трудности, а иногда и опасности боев, знакомясь со всеми хорошими и плохими сторонами. Зная истинное состояние частей, можно было увеличивать их боеспособность, укреплять в них веру в наше дело и в успех его. Этим же путем я узнавал и условия жизни местного населения, их настроения и надежды. Живое слово, ознакомление на местах и контроль – главные условия успеха всякой работы.
Объезд всех трех корпусов Западной армии дал мне уверенность в полной возможности иметь этот успех, а также показал те недочеты, которые требовалось устранить теперь же. Части представляли, в сущности, не вполне еще готовые и слаженные организмы, иногда с очень ненормальными отклонениями; так, например, за время весенней операции и при отступлении выросли неимоверно войсковые обозы, в одном только 32-м Прикамском полку было свыше 2 тысяч повозок. Можно представить, какое огромное количество бойцов отвлекалось этим из строя, какой величины хвост связывал все маневры и боевые действия. Бороться с этим можно было, только бывая на местах, одновременно контролируя и сейчас же исправляя; бумажные приказы оставались всегда неисполняемыми или неисполнимыми. Естественно, что прежний способ приучил строевых начальников отписываться, смотреть на полученный приказ как на простой лоскут бумаги. Надо было искоренить и этот взгляд, нигде не допустимый, на приказ; сделать это можно было только одним способом, отдавая вполне выполнимые приказы, вызываемые самой жизнью, и следя за точным исполнением их без проволочек и отступлений.
Затем назрела необходимость урегулировать офицерский вопрос; надо было исправить ошибки Главного штаба, задержавшего почти все производства офицеров действующей армии; получив право, как командующий армией, производить в чины до капитана включительно, я делал это на местах, бывая в частях, производя офицеров иногда во время самых боев. Адъютант записывал, по возвращении отдавал записи в штаб, и приказ выходил через несколько дней, без всякой волокиты.
При всех поездках я узнавал подлинное, ничем не прикрашенное настроение и своих войск, и масс населения. Помню посещение Саткинского завода, обладавшего почти самыми крупными на Урале чугунолитейными печами. Поговорив о положении завода с директорами, я пошел в большое помещение, полное собравшимися рабочими, и спросил, какие у них есть нужды.
Первое, что они просили, – рассказать им об армии, о нашем военном положении, о большевиках и красноармейцах. Затем уже пошли заявления о дороговизне, трудностях достать продукты первой необходимости, о недостатке муки и хлеба. Когда все было разъяснено, я отдал приказ доставить рабочим завода два вагона муки по казенной цене; рабочие зашумели, как встревоженный улей; вышел вперед их выборный старшина и сказал, что рабочие очень благодарят и просят чаще приезжать и говорить с ними, разъяснять происходящее.
– А мы уж сами и добровольцами в армию пойдем, и мобилизацию следить будем, и большевиков не допустим; небось не заведутся они у нас.
– Сатки первыми против них, иродов, в 1918 году выступили, – загудела довольная толпа.
Вообще, настроение населения всего армейского района и войсковых частей было приподнятое, готовое идти на жертвы, на борьбу с социалистами-большевиками, упорно желающее победить и совершенно доверчивое, ибо наши пути и цели были общие. Сущность того, что руководило нами в борьбе, народный характер этой борьбы и ее напряжение проникали глубоко и прочно в массы и все теснее связывали армию с населением. Массы видели и верили, что мы боремся за всю Родину, что «наша партия есть святая Русь, наш класс весь русский народ».
Вот выписка из приказа населению района Западной армии, отданного на станции Миасс 5 июля 1919 года и 3 октября того же года на станции Лебяжья:
«…Еще раз разъясняю, что наше правительство, во главе с верховным правителем адмиралом Колчаком, вожди армий, все начальники и вся армия стоят только на пути спасения Родины, веры и народа; не принадлежат ни к какой политической партии, не защищают и не преследуют ничьих интересов, личных или отдельных классов, а именно всего русского народа в его целом. Таковы армии наши, востока России, армии русского витязя-генерала Деникина, генералов Юденича, Миллера и те массы восставших на Руси, которые соединяются с нами.
Путь один у всех, путь прямой и открытый. Освободить страну от насильников, предателей и иноземных комиссаров. Дать возможность каждому вздохнуть свободно, утереть слезы и не дрожать ежеминутно каждому за свою жизнь. Установить повсюду полную законность и обеспечить порядок и права каждого, дать возможность всем заниматься привычным трудом. И там, в сердце России, в древней Москве, созвать Народное собрание, действительно лучших людей народа, его избранников, которым сам народ, наученный теперь горьким опытом отечественной разрухи, вручил бы право разобраться во всем и решить его судьбы. Это Народное собрание учредит и порядок управления Россией, определит право и порядок владения землей, назначит основные законы для нашей страны».
Направилось дело и организации армейского тыла. Вовремя и точно по назначению подавалось все снабжение, аккуратно и по расписанию работала железная дорога, а запасные части и офицерские школы были полны подготовленными людьми.
Новый главнокомандующий, генерал Дитерихс, приезжавший два раза в мой штаб, в Бердяуш, вполне разделял все взгляды, одобрял работу, был доволен ее результатами и обещал не производить никакой ломки.
4
Второй раз он приехал вместе с адмиралом Колчаком 2 июля, как раз при начале частичного наступления 2-го Уфимского корпуса, так называемой Айлинской операции.
3-й Уральский корпус не мог сдержать натиска красных, бивших сильно в наш правый фланг. После упорных боев на реке Уфимке и на горных проходах уральцы отступили вглубь гор. Отступали и дрались все время в неравных условиях, неравными силами. Обстановка была тяжелая. 1 июля я приехал в село Мясогустово; на самой окраине шел бой с большевиками; в дело были втянуты не только все части, но даже офицеры и солдаты штаба корпуса составили отряд и пытались отбросить наседавших красных. Но сдержать нового натиска их не удалось. И 3-й корпус продолжал отступление.
Надо было во что бы то ни стало помочь уральцам, иначе силы их могли совершенно растаять. 2-й Уфимский корпус получил приказ перейти в наступление, ударить во фланг красным и отбросить их на север, в горы. Несмотря на неполную готовность уфимцев, условия были все же выгодны для нас, так как этот корпус занимал сосредоточенное положение; части его отдохнули, пополнились и приоделись. 2 июля должно было начаться наше наступление.
Стояли летние жаркие дни, когда чистый воздух до того наполнен ароматом зелени, что густота голубого эфира дрожит, переливается и струится слоями. Богатые поля колыхались стенами темно-зеленых колосьев, наливавшихся молодым зерном. Дорога бежала красивыми долинами рек Юрюзани и Ай; все кругом было ярко зелено, местами белели березовые перелески.
В больших деревнях шла сумятица, шум и волнение: население их, обеспокоенное приближением большевиков, собирало на возы свой домашний скарб и готовилось уходить волной беженцев на восток.
Но не чувствовалось упадка духа – моральная сила и надежда на успех были на нашей стороне. Всюду встречались улыбающиеся лица и полная готовность помочь. Я с небольшим конвоем оренбургских казаков шел бодрым галопом полями к правому флангу уфимцев. Развевался и весело блистал на утреннем солнце георгиевский значок. Кони легко и плавно отбивали копытами равномерную дробь. Казаки изредка обменивались шутками или замечаниями о прекрасных полях, обещавших обильный урожай. В небе реяли жаворонки, наполняя воздух мелодичной трелью… Вдруг грянул орудийный выстрел.
Красные повели в это утро сильное наступление своими резервами, наткнулись на одну из дивизий Уфимского корпуса и неожиданно атаковали ее первыми. Но их удар был встречен контрударом других двух дивизий. Столкнулись две силы. Будто ударились два шара, катившиеся с бешеной скоростью, столкнулись, на мгновение задержались и остановились на месте; отпрянули, стоят и крутятся быстро на месте оба шара, точно оглушенные ударом; мгновение, а затем с силой покатились оба дальше: один назад, убегая, а другой за ним, преследуя его, продолжая свое поступательное движение.
Наша 4-я дивизия подоспела как раз вовремя. Один за другим шли полки в атаку, перегоняя друг друга, с огромным подъемом. Большевики сначала остановились, задержались, пробовали оказать сопротивление, но затем отпрянули назад и побежали.
Я подъехал к уфимцам перед самой их атакой. Никогда не забыть этих серьезных, открытых лиц, полных отваги и решимости, их молчаливой и торжественной толпы и стройной силы. Я вызвал вперед, перед полками, героев, раздал Георгиевские кресты солдатам и произвел отличившихся в прежних боях офицеров. Затем после коротких слов о предстоящем деле полк двинулся вперед. И их громкие, торжествующие крики «ура-а-а» разносились по полям, когда новые георгиевские кавалеры во главе с офицерами пошли первыми в атаку.
На взмыленной лошади прискакал казак-ординарец и привез мне записку от моего начальника штаба; верховный правитель и генерал Дитерихс прибыли в Бердяуш и просят меня приехать к ним возможно скорее на важное совещание. Так это было не вовремя, – отрывало от боевой работы, да и не хотелось уезжать из боя, из зеленых долин Урала, от русских полков, охваченных порывом наступления. Но вслед за первым ординарцем примчался на автомобиле второй с телеграммой адмирала Колчака, что он должен сегодня же вечером выехать обратно в Омск.
Через три часа я был у себя в Бердяуше. И вот, пока я ехал, в штабе было получено донесение, что красные обо шли незаметно один полк 12-й Уральской дивизии, отрезали его и распространяются у нас в тылу. Надо было принимать экстренные меры, иначе это могло испортить все дело.
К вечеру удалось ликвидировать опасность и прогнать красных. Но наступление уфимцев, начатое с полным успехом, приостановилось, большевики же за ночь оправились, подтянули резервы и снова начали сильно давить на Уральский корпус.
Два дня шли упорнейшие встречные бои; наши части переходили снова и снова в контратаки, но красные подавляли нас своей численностью. К вечеру второго дня генерал Войцеховский, командир 2-го корпуса, отдал приказ своим уфимцам отступать.
Было еще одно обстоятельство, проявившееся впервые именно в этих боях. Начиная с ранней весны большевики бросили огромное количество своих агентов на восток для пропаганды и организации банд у нас в тылу; комиссары снабжали их очень большими суммами денег, пользовались всякими способами, оставляя при отступлении Красной армии свои ячейки в городах и деревнях, а при ее наступлении – направляя их под видом беженцев. В конце июня прошел севернее Уфы целый небольшой отряд коммунистов, одетых в нашу военную форму, с погонами, и пробрался горными тропами нам в тыл. Изловить их не удалось, кроме одного красноармейца, который показал, что цель этого коммунистического отряда была взорвать железнодорожные мосты в тылу нашей армии и поднять восстание среди рабочих Златоустовского завода.
Действительно, как раз в эти дни им удалось подорвать мост через небольшую речку восточнее Бердяуша и затем повернуть и выйти в тыл уральцам, отбивавшим атаки красных войск. Создались очень тяжелые условия, из которых мы вышли с большим трудом.
Вся первая половина июля прошла в боях за горные проходы Урала. Бои эти шли с переменным успехом; армия не отдавала ни одной своей позиции без попытки отбросить красных. Но для того чтобы перевернуть ход кампании, надо было собрать резервы, сосредоточить большие силы и перейти в общее наступление; чтобы разбить красных, надо было дать генеральное сражение.
Сибирская армия, или, правильнее, остатки ее, катилась без удержу на восток, отдавая красным большие пространства Северного Урала; 16 июля был брошен Екатеринбург. Генерал Дитерихс оставил после этого на фронте только заслоны, а все оставшиеся от армии Гайды части перевозил по железной дороге в глубокий тыл, в Ялуторовск, Тюмень и Тобольск. Сибирская армия временно как бы потеряла всякую боеспособность и уходила, ставя тем в совершенно невозможное, тяжелое положение Западную армию.
А дух и силы последней были нетронуты, несмотря на отход и на непрерывные бои; все части Западной армии были налицо, сохранили боеспособность и желание драться до победы. Налаженный механизм штаба и тыловых органов давал полную возможность поддерживать и увеличивать живую силу наших корпусов. Усилия всех направлялись согласованно к одной цели. И все ждали приказа о новом общем переходе в наступление.
Местом для этого был избран Челябинск. Среди других была одна чрезвычайно важная причина этого решения. Отсюда идет железная дорога на Троицк, бывший базой Южной армии. Это была последняя связь с ней; если мы не выиграем дела под Челябинском, то Южная армия была бы предоставлена самой себе, поставлена в очень трудные условия.
План новой операции был составлен так: Западная армия, сдерживая красных арьергардами, должна была быстро стянуть свои силы к Челябинску и сосредоточить две ударные группы, генерала Войцеховского к северу, генерала Каппеля к югу от города. Здесь войска должны были пополниться, отдохнуть и организовать базы для боя; а затем, когда красные втянутся в долину из гор, они будут атакованы с севера и юга, взяты в клещи, с целью окружить их, отнять артиллерию и пулеметы. С севера всю операцию прикрывал и обеспечивал 3-й Уральский корпус.
Население всего района от Волги до Челябинска переживало в это время величайшую драму. Светлые надежды на жизнь сменялись мрачным, темным холодом смерти; с отходом белых армий выплывал зловещий призрак кровавого интернационала. Как на известной картине Штука, шел он, костлявый смеющийся скелет, сидя верхом на чудовищном животном, оставляя за собой тысячи трупов, дымящиеся пожарища, сея смерть, ужас и заливая все кровью. Бесконечной вереницей тянулись впереди нашей армии на восток обозы с беженцами; целыми селами двигались на восток русские люди всех национальностей, спасаясь от хищного интернационала, ибо для него существует лишь одна признаваемая им, всесветная нация, племя «избранное Иеговой», рассеянные по лицу земли иудеи.
Рабочие Златоустовского и других заводов Урала присоединились к потоку беженцев. Крестьяне, башкиры, татары и оренбургские казаки отправляли свои семьи и скарб на подводах в тыл, а сами приходили в армию, составляли отряды, брались за оружие, чтобы отбить вражью силу.
Ставка и генерал Дитерихс, видевшие распыление Сибирской армии и крушение там всего дела, представляли себе весь фронт в таком же состоянии. Я получал запросы: что осталось от Западной армии и каким образом мы можем еще держаться? Они не видали и не понимали ни состояния наших войск, ни того общего желания отразить натиск большевизма, которое охватило всех, и войска, и население.
5
Челябинск – центр обширного края, разросшийся в последние десять лет до размеров большого губернского города; центр хлебной торговли и золотопромышленного района. Еще в начале прошлого столетия это была простая башкирская деревня Селяба,[5] лежащая при выходе из гор и лесов старого, седого Урала в долину Западной Сибири.
Когда я прибыл со своим штабом в Челябинск для проведения плана новой операции, не хватало времени, чтобы принимать и говорить со всеми депутациями, приходившими ко мне каждый день с раннего утра и до вечера. Шли горожане, рабочие, казаки, башкиры и крестьяне с заявлением о своей готовности отдать все силы, чтобы только не пустить сюда большевиков, отбить натиск врага, к которому русский народ чувствовал инстинктивную ненависть и смертельный страх.
При подготовке операции мне пришлось исколесить на автомобиле весь этот район, на сотни верст к северу и югу от Челябинска; и всюду я видал одно: русских людей, готовых на какие угодно жертвы и лишения, предпочитавших смерть в борьбе или уход в неизвестную даль подчинению коммунистам-большевикам.
Вот казачья станица Травниковская, одно из тех поселений, где живут потомки скромных строителей великой России. Большие улицы, дворы обстроены хозяйственно и полны добра, площадь с небольшой белой церковью залита палящими лучами июльского солнца и гудит толпой. Все население станицы собралось на площадь, пришли даже казачки с грудными младенцами. Раздается мерный благовест, и медные голоса колоколов далеко разносятся в летнем раскаленном воздухе. Из церкви выходит крестный ход; колыхаясь, плывут над толпой святые хоругви, блестит золотом большой крест, так ненавистный всем слугам интернационала, сверкают на солнце светлыми бликами иконы и ризы священников.
«Спаси, Господи, люди Твоя…» – разносится пение, подхваченное тысячной толпой и заглушавшее даже громкий благовест.
Приходит священник и кропит святой водой две сотни казаков, собранных станицей на фронт, благословляет их на ратный подвиг.
Сосредоточенны и ясны бородатые лица казаков. Глубокая дума и бесповоротное решение отразились на них. Истово крестятся они правой рукой, держа в левой поводья и острые пики. А около дворов по длинной улице увязанные возы, запряженные уже и готовые вывезти семьи этого народного ополчения в тыл…
Встала Русская земля. За что готовы они отдать свою кровь, сложить свои головы, пожертвовать своими семьями? Не за партии, не за дешевые лозунги социалистов идут они в смертный бой с интернационалом. Нет, не за это несут они великие жертвы свои. Послушайте, что говорят эти казаки-крестьяне в своих семьях и на своих сходах:
– Надо кончить с этим делом. Как разрушили нашу землю святую! А все оттого, что царя им не надо стало. Вишь, сами власти захотели… Всех царских врагов истребить надобно…
Послушать только, как истово, с какой верою поют все они эту старую русскую молитву за царя: «Спаси, Господи, люди Твоя»…
А вот другая картина тех же дней. Мой автомобиль, переезжая через гать по болотистой долине верстах в семидесяти севернее Челябинска, завяз своими колесами глубоко в тине. Шофер и его помощник бились безрезультатно над ним, вылезли и мы все, чтобы общими силами вытащить машину.
Из Раевской волости пополнение. Татарин-строевой
Вдалеке серая деревушка, вздымая из распластанной кучи избушек высокий минарет мечети с магометанским полумесяцем. Вскоре из деревни показалась большая толпа и приближалась к нам с шумом и гамом. Впереди бежал богатырь колоссального роста с широкой, как паровоз, грудью, на ногах как каменные столбы, он держал в могучих руках целое бревно, размахивая им над головой и испуская воинственные крики в такт своим быстрым прыжкам:
– Г-гин, г-гун, г-гун!
За богатырем бежала с дрекольем куча татар-крестьян, за ними рассыпались по полю, как горох, маленькие татарчата, старавшиеся не отстать от взрослых. Все это неслось к автомобилю, крича на разные голоса и тяжело отдуваясь от быстрого бега. Не зная хорошо наших русских людей, можно было бы подумать, что деревенская толпа воспользовалась случаем, чтобы напасть на проезжих контрреволюционеров, расправиться с ними, убить. Но мы спокойно и уверенно ждали их; с размаху они набросились на автомобиль, облепили его, как муравьи, и начали поднимать из болота. Заведенный мотор пыхтел, колеса беспомощно крутились, разбрасывая во все стороны грязь и воду. Богатырь подложил под ось бревно, навалился на него плечом и легко приподнял автомобиль. Раз, другой, третий, и машина пошла по твердой дороге; рассеивалось в воздухе тяжелое облако перегоревшего бензина. Татары бежали за автомобилем и радостно смеялись. Я подошел, поблагодарил их и дал богатырю в награду денег.
– Не надо, бачка, не надо, моя не надо! – кричал он, отпихивая деньги, весело-добродушно скаля белые зубы и что-то прибавляя по-татарски.
Я совал богатырю деньги, он отпихивал. Вмешался старшина, пожилой татарин в тюбетейке:
– Не давай, ваше благородье, наша не возьмет. Дорога наша, плохая дорога, виноват наша, зачем не чинит дорога. А ты военный человек, царский начальник, от большевиков нас защищаешь.
Тогда я настоял, чтобы они взяли деньги для бедных женщин и детей их деревни. Вышел из толпы седой древний старик-мулла и поклонился мне в пояс в знак благодарности.
– Позволь лучше, ваше благородье, ему, – сказал он, показывая на богатыря, – отряд собрать и к тебе в армию идти. Надо большевиков не пускать…
А когда мы возвращались поздно вечером по той же дороге, то около деревни автомобиль остановила толпа женщин и детей, красавица – молодая татарка – вышла вперед и, потупив прекрасные большие глаза, благодарила еще раз за деньги…
Обе ударные группы собирались, заканчивали сосредоточение в районе Челябинска. К сожалению, была допущена одна оплошность: северная группа генерала Войцеховского составляла слишком большую силу, свыше 20 тысяч человек, тогда как южная группа генерала Каппеля еле достигала до 10 тысяч. Но я рассчитывал главный удар нанести именно с севера, чтобы отбросить красных от их путей отступления.
Арьергарды наши, сдерживая натиск большевиков, отходили сначала медленно, шаг за шагом и удерживая целый ряд позиций, но верст за пятьдесят от Челябинска не выдержали, сдали и начали отступать слишком быстро. Пришлось составить новую войсковую группу под начальством генерала Космина из всех частей, какие удалось набрать, до моего конвоя включительно; по первому призыву пошли драться вместе с ними сербы, – сербский батальон имени Благотича, оказавший большие услуги, ведший себя как истинные братья русских.
К слову надо сказать, что французский батальон, бывший в Челябинске с осени 1918 года, поспешил эвакуироваться в тыл, восточнее Омска, при первом приближении опасности. Так всегда поступали союзники-интервенты!
Для полного успеха операции и выигрыша необходимого времени нужно было обеспечить нашу армию с севера. Для этой цели 3-й Уральский корпус был усилен всем, что можно было выделить туда; но этого было недостаточно, подсказывалась необходимость содействия Сибирской армии. Однако, несмотря на все просьбы, не удалось получить не только этого содействия, но даже приказа о выдвижении частей ее для демонстрации. Как будто действовала не одна русская армия, не за одну общую святую цель!
Большевики, обманутые легкостью, с какой они сбивали наши арьергарды, лезли, что называется, как черти, на Челябинск. Мною был отдан приказ в ночь с 24 на 25 июля отдать им город, а на рассвете 25-го перейти в наступление обеими ударными группами.
Наступила жуткая ночь. Выехав вечером, за несколько часов до оставления города, из Челябинска, я объезжал войска северной группы генерала Войцеховского. Глубокое летнее небо, усыпанное вечными звездами, покрыло землю покоем, уютом и сном. Тихо кругом, нет даже ночных звуков, которыми так богаты весенние ночи. Стоят темными силуэтами деревни, как зубчатые стены заколдованных замков, чернеют леса; и всюду биваки – наши полки, батареи, эскадроны и сотни. Все спит. Не горят бивачные огни, чтобы не выдать противнику наших сил. Только часовые бдительно и остро пронизывают темноту, впиваются глазами в черную глубину ночи, да в избах с закрытыми ставнями сидят войсковые начальники, отдавая последние распоряжения, проверяя, все ли сделано, не забыли ли чего перед завтрашним решительным днем.
Вот в большой русской деревне меня встречает рапортом генерал 3., начальник 11-й Сибирской стрелковой дивизии, только что пришедшей на фронт из Сибири, сформированной в Новониколаевске. Впервые с тыла поданы войска – восьмитысячная сила. Внешний вид и стройность не оставляют желать лучшего.
– Как ваше чувство? – обращаюсь я к генералу З. – Уверены ли вы в ваших частях?
– Уверен, ваше превосходительство. Хотя и не обстреляны еще, но настроение хорошее. Даже рвутся в бой.
– Ну а то донесение о пропаганде социалистов? – напомнил я ему случай, бывший четыре дня тому назад в одном из полков.
– Агитаторов выловили. Сами солдаты помогали. Насколько я знаю настроение офицеров и солдат, они прямо ненавидят комиссаров и коммунистов. А за всем тем – все в руке Божьей…
– Я его дивизию поставил между своими лучшими частями; а впереди пустил камцев, для первого удара, – добавил генерал Войцеховский.
В эту же ночь произошел такой случай. На одну заставу Уральского корпуса выехала группа конных.
– Кто идет? Стой! – окрикнул часовой.
– Свои!.. – донеслось издали.
– Кто свои? Что пропуск?!
– Красные офицеры, сдаваться едем, пропуска не знаем.
Часовой выстрелил. На тревогу выбежала вся рота, бывшая в заставе, и открыла огонь залпами. Это был командир бригады 35-й советской дивизии полковник Котонин с одиннадцатью красноармейскими офицерами; они состояли в антибольшевистской организации и давно уже искали удобного случая перейти на нашу сторону. Было очень трудно, так как за каждым их шагом следил комиссар и его помощники, коммунисты – добровольные шпионы. В эту ночь им удалось усыпить бдительность еврея-комиссара и ускользнуть из когтей. Но вот истинная трагедия русского положения: они попали на сторожевую заставу, зорко охранявшую дорогу, так как наши войска привыкли к разным уловкам и обманам большевиков.
Первым же залпом была убита лошадь полковника Котонина и ранены два офицера; все они рассеялись, и только через день удалось собрать вместе этих героев. Полковник Котонин провел полтора жутких часа, лежа за трупом лошади, пока его не освободил и не вывел наш офицер. Полковник Котонин был доставлен в ближайший штаб как раз в то время, когда я объезжал войска. Высокий, могучего сложения человек с открытым энергичным лицом, герой германской войны, он весь дрожал от пережитого, дрожал мелкой нервной дрожью, как маленький прозябший мальчик.
– Думал, что убьют. Но так было тяжело у большевиков, что лучше смерть…
Он много рассказывал всем нам о Центральной России, о ее состоянии и страданиях, открыл истинное положение советской власти и Красной армии. Что можно будет сказать из этого, не нарушая интересов русских, находящихся и сейчас там, во власти интернационала, скажу после, при сравнении условий нашего тыла и их.
Забрезжило утро. Потянуло с востока холодным предутренним ветерком, когда я приехал к войскам генерала Космина, чтобы отсюда управлять ходом операции. Как раз в этот момент из Челябинска отступали наши последние части. В город входили торжествующие красные полки.
Раннее утро после бессонной ночи застало меня в поселке Александровском. Всходило солнце, освещая землю своими первыми, робкими лучами. Поселок просыпался, и обычная дневная жизнь наполняла улицу. Я лежал на траве около автомобиля и старался уловить ухом дальние звуки боя. Но их не было слышно. И, несмотря на чрезмерную усталость последних дней и этой ночи, я не мог заснуть, – одна большая мысль давила на мозг и не давала покоя:
«А что, если эта восьмитысячная масса, вновь пришедшая из Сибири дивизия, окажется распропагандированной социалистами и, вместо помощи, изменит русскому делу?! Повернет штыки против своих…»
Но вот грянул первый орудийный выстрел, за ним другой, третий. И заворчала далекая артиллерийская канонада, как гром отдаленной грозы.
Наши войска перешли в наступление одновременно по всему фронту. Красные не ожидали этого, столкнулись с нашими, произошел ряд встречных боев с жестоким напряжением с обеих сторон. К концу дня нам удалось овладеть рядом деревень, захватили одну батарею, много пулеметов и пленных; мы потеснили большевиков.
26 и 27 июля продолжались упорные бои. Комиссары стянули все силы и заставляли свои полки переходить в бешеные контратаки. Как они писали в своих радиосводках «под Челябинском белые проявили небывалое упорство, переходя в штыковые атаки под личной командой адмирала Колчака»…
Этого не было. Но действительно, все наши части проявили такое напряжение сил, показали такой подъем, как в самые блестящие периоды мировой войны, в Галиции, Польше и Восточной Пруссии.
Наше наступление развивалось, хотя и медленно, но планомерно. 27-го был захвачен и доставлен в штаб армии приказ красных, свидетельствовавший о полной их растерянности; паника охватывала их тыл, обозы начали уже отступать на Миасс и Златоуст. Еще одно усилие, и окружение сил большевиков в Челябинске должно было закончиться. Надо было для этого еще два дня.
Как уже сказано, правый фланг всей операции прикрывался 3-м Уральским корпусом, очень ослабленным всеми предыдущими боями; 12-я Сибирская стрелковая дивизия, прибывшая в это время из Томска и приданная Уральскому корпусу, не только не усилила, а ослабила его: некоторые части оказались распропагандированными в этом городе, одном из самых главных эсеровских гнезд, и, придя на фронт, предательски передались на сторону красных. Все же, несмотря на это, уральцы сдерживали натиски красных, но 27 июля начали сдавать и отходить на юго-запад.
Большевики получали возможность направить часть сил значительно восточнее Челябинска и угрожали отрезать главную дорогу в тылу армии.
Надо было спешить с операцией. Так как телеграфная связь с моим левым флангом в это время прервалась, я поехал на автомобиле в южную группу, в Волжский корпус и в пути разминулся с генералом Каппелем, который ехал ко мне в штаб. Уже подъезжая к боевому расположению, я был поражен, встречая наши батареи и некоторые части, отходящие на восток. Казалось непонятным такое движение, так как накануне все контратаки красных были отбиты, волжане перешли вечером снова в наступление, захватили у большевиков пулеметы, пленных и целый ряд станиц и поселков.
Произошло какое-то несчастное недоразумение, и Волжский корпус, вместо наступления, начал отходить назад, распрямляя тем дугу, которую Западная армия была уже готова сомкнуть вокруг красных под Челябинском. Это дало возможность большевикам оправиться и перебросить еще часть сил против нашей северной группы, развивавшей успешно наступление в тыл Челябинску.
Волжский корпус в эту же ночь собрал массу подвод и с рассветом двинулся вперед на телегах, чтобы выиграть больше пространства и развить снова наступление. Но все же, вследствие потери времени, операция затянулась; а между тем угроза с севера нашей железной дороге и тылу армии все росла. Дальнейший риск делался очень опасным и мог быть допущен только при одном условии, чтобы части Сибирской армии быстрым выдвижением на запад обеспечили наш правый фланг.
Не знаю, по каким соображениям и по каким влияниям на это не решились! Я получил приказ верховного правителя отвести войска от Челябинска на Курган, перевозя часть сил в этот город поездами по железной дороге. Наступила самая тяжелая часть этих боев. Надо было вывести наши части, занимавшие расположение по охватывающей кривой, имеющей форму латинской буквы S; при этом давление Красной армии на севере и угроза нашему тылу все усиливались. Большевицкое командование, как только почувствовало ослабление нашего нажима и отход, направило все усилия, чтобы окружить и отрезать от пути отступления части нашей армии.
Благодаря огромной работе всех начальников и беззаветной выносливости наших войск удалось выйти из тяжелого положения, не потеряв ни одной пушки, не отдав ни пленных, ни одной повозки с патронами.
С тяжелым чувством все мы оставляли челябинские поля, где было положено столько сил и жертв, где наша победа казалась так обеспеченной и так нужной. Однако настроение войск не падало, вера в свою силу и в успех не только не исчезла, но поднялась после этих боев. Объезжая ежедневно части армии, лично управляя некоторыми боями, я знал настроение войск и непосредственно получал уверенность в их полной боеспособности.
Как раз в день перелома боев, когда наши части начали уже отступление, к штабу армии, на станцию Чумляк, прибыл новый транспорт с ранеными. Французский офицер, состоящий при Западной армии, майор Каруель просил разрешения сопровождать меня при обходе раненых, чтобы раздать некоторым, особенно отличившимся, французские военные кресты.
Наши офицеры, солдаты и казаки, только что вышедшие из многодневных тяжелых боев, лежали и сидели со свежими ранами, весело разговаривая, блестя улыбками. Вот группа волжан.
– Ничего, ваше превосходительство, не может большевик выдержать; все равно мы его за Волгу прогоним, – говорит здоровенный самарский крестьянин-стрелок, поддерживая левой рукой правую, в которой ружейная пуля раздробила кость.
– Куда ему выдержать! Как мы пошли в атаку, а лямбурские казаки вместе с нами с флангу, так они и побежали, даже готовый обед бросили нам в котлах, – торопливо рассказывает пересохшими губами маленький худой казанец, раненный в плечо. – Первый раз тут мы за десять дней пообедали как следует, а потом догнали, чтобы пулеметами спасибо красноармейцам сказать.
Кругом раздается хохот.
Все раненые с уважением показывали на койку в углу, где лежал молодой офицер. Подхожу и вижу одного из старых знакомых, офицера с Русского острова, штабс-капитана Р. Красивое загорелое лицо с горящими глазами, возбужденно смотрящими из-под белой повязки, обнаженная молодая здоровая грудь тяжело дышит и ходит выступившими ребрами. Р. был ранен в голову, в грудь и сильно контужен; последствием этого явилась временная потеря речи.
– Вот, не угодно ли посмотреть, – докладывал юркий и очень подвижный доктор Беленький, – штабс-капитан вынес на себе из боя пулемет, два раскаленных стрельбой ствола Кольта, вот следы ожогов…
С обеих сторон шея офицера была покрыта ровными, точно татуировка по линейке, коричневыми черточками, это ему прожгло кожу винтовой нарезкой ствола, когда он со своей ротой отходил последним от Челябинска.
6
Несмотря на отход, значение Челябинской операции было весьма существенно. Бои и действия наших войск показали, что мы имеем все шансы разбить большевиков; в войсках укрепилась уверенность в своих силах. Кроме того, население этого большого и абсолютно антибольшевистского района увидело на деле, убедилось, что были приложены все усилия спасти их от большевиков; казаки, крестьяне и башкиры, участвуя сами и будучи свидетелями этого одного из самых больших сражений, знали, как много работы и жертв было принесено, чтобы разбить силы и стремления красных завладеть Челябинским краем; знали и то, что наше отступление произошло не по вине Западной армии.
Эти тяжелые бои, – а они стоили нам свыше 5 тысяч потерь убитыми, ранеными и пленными, большевики, по их же документам, потеряли больше 11 тысяч человек, – эти бои скрепили армию в сильный, хорошо слаженный и жизненный организм. Лично я, как командующий армией, получил полную веру в свои войска и не сомневался в том, что при правильной организации тыла наша окончательная победа над большевиками обеспечена. Так же думали и чувствовали все мои помощники.
Ближайшее же время подтвердило правильность этих выводов. Моей армии пришлось отходить от Челябинска при невозможно тяжелых условиях: все время висела угроза на нашем правом фланге, почти каждый день большевикам удавалось выходить в тыл уральцам, отрезая их от линии сообщения и от Волжского корпуса. Нам приходилось проявлять огромное напряжение, чтобы парализовать эти попытки. Шли ежедневные бои, почти все части делали большие, часто форсированные переходы и сложные маневры. Велась самая интенсивная работа армейского тыла, чтобы справиться с эвакуацией и не оставить ничего красным. Так проходила в течение всего августа армия огромные пространства, отступая на восток, входя в Западную Сибирь.
В то же время, справляясь с этой сложной работой, мы начали готовиться к новому наступлению, стремясь обеспечить на этот раз успех его от всяких случайностей; прежде всего было необходимо иметь достаточный запас людей для пополнения убыли в частях, надо было наладить подачу на фронт осеннего теплого обмундирования и собрать хотя бы небольшие резервы.
После Челябинска мы вступили в богатые плодородные степи Западной Сибири. Равнина ее, которая тянется на тысячи верст, перерезывается с запада на восток одной железнодорожной магистралью, проходящей через города Курган, Петропавловск, Омск, Новониколаевск. Все эти города лежат на больших реках, протекающих в меридиональном направлении, с севера на юг. Тобол, Ишим, Иртыш и Обь – эти реки представляют собою единственные преграды и препятствия, которые могли быть использованы нашими армиями для временной задержки наступления красных; с этих же рубежей мы могли предпринять новое наступление.
А наступление было необходимо, ибо без него делалось безнадежно, а значит, и бессмысленно самое продолжение войны. Армия имела в себе силы добиться успеха, и произвести полный перелом хода кампании армия могла. Но наступление можно было начать только тогда, когда вполне будут обеспечены результаты его, чтобы новые жертвы и огромное напряжение фронта не пропали даром и были широко поддержаны тылом. Надо было сделать точный расчет всех ресурсов, провести подготовку средств и сил, составить план использования их.
После Челябинской операции вся эта работа была взята на себя генералом Дитерихсом, ставшим во главе всего Восточного фронта, в который входили три неотдельные армии: 1-я Сибирская – генерала Пепеляева, 2-я – генерала Лохвицкого и 3-я – моя. Южная армия генерала Белева оторвалась с конца июля и вела самостоятельные операции против большевиков, имея ареной своих действий пустынную Киргизскую степь без дорог и населенных пунктов; она потеряла связь также и со Ставкой и, предоставленная самой себе, переживала тяжелую драму, осложнявшуюся нерешительностью, куда Южной армии отходить и на что базироваться.
В эти дни ни Ставка, ни фронт не имели никаких сведений о Южной армии, и только через два месяца части ее начали выходить южнее Петропавловска, пережив много тяжелого, совершив поход, равный походу Ксенофонта.
1-я и 2-я армии, как уже было сказано, сосредоточились в районе между реками Тоболом и Ишимом, куда они были стянуты генералом Дитерихсом еще в конце июля, после авантюр Гайды. Здесь эти армии, образованные из того, что осталось от прежней Сибирской армии, должны были пополниться, переформироваться, принять организованный вид и подготовиться к новому наступлению.
Западная армия была переименована в 3-ю неотдельную армию, ей была поставлена задача выделить не менее пяти дивизий в резерве, перебросить их быстро по железной дороге в тыл, пополнить и подготовить к наступлению. Сначала этим районом был назначен город Курган и река Тобол, но тяжелые бои и условия отступления 3-й армии после Челябинска не дали возможности выполнить этого; нельзя было вывести в резерв хотя бы одну дивизию, так как все части были в постоянном движении, маневрах. Возьми мы с фронта в это время в тыл хоть одну часть, остальные не справились бы с боевыми задачами, и Западную армию постигла бы участь Сибирской.
Только переправившись через Тобол, мы получили передышку и вышли из-под вечной угрозы быть отрезанными от железной дороги. Только перейдя через Тобол, 3-я армия получила возможность выделить пять дивизий, быстро перевезти их эшелонами за 250 верст в тыл на реку Ишим, в район города Петропавловска. Здесь начали проводить спешные меры подготовки к наступлению, срок которого был определен секретным приказом на первые дни сентября. Наступило время, и армия дала все то, что общей дружной работой за весь летний период накопила для успеха решительного наступления. Надо сказать правду, что работа эта дала блестящие результаты; менее чем в две недели армия смогла влить в себя такие разнообразные силы и так организовать использование их, что уже через месяц после челябинских боев была готова к новому генеральному сражению. Но для этого потребовалось напряжение всех сил, был израсходован весь запас без остатка.
Сущность реформ, проведенных главнокомандующим Восточным фронтом генералом Дитерихсом, заключалась в том, что Ставка, как командный центр армиями, упразднялась; от нее остался лишь небольшой сравнительно состав для несения службы связи верховного правителя с армиями генералов Деникина, Юденича и Миллера. С другой стороны – армии были преобразованы в неотдельные, то есть от них были отобраны все права и обязанности по части мобилизационной, организационной и заготовительной. Из этих обрывков сверху, от Ставки, и снизу, от армий, был образован новый центр – штаб главнокомандующего Восточным фронтом или, как он был назван в угоду моде, – Главковостока. Все заботы, обязанности и все права отныне должны были сосредоточиваться в этом штабе. Он брал на себя добровольно тяжесть координации общих усилий и напряжений для обеспечения успеха борьбы.
Армии могли теперь обратить все свое внимание и работу на чисто боевое дело, не отвлекаясь на подготовку и обеспечение его в тылу. В связи с этим районы армии были сильно уменьшены и из них образован один тыловой округ с подчинением его также непосредственно Главковостоку. Точно так же работа железных дорог на театре военных действий выходила теперь из ведения армии и сосредоточивалась целиком в штабе главнокомандующего. С одной стороны, было стремление к централизации и объединению, а с другой – к разгрузке боевых армий от кропотливой и тяжелой работы в тылу.
Понятно, теоретически это было не только правильно, это было необходимо. Но на практике получалось другое. Как уже было сказано, Западная армия, а ранее и Сибирская, имея у себя большой тыловой район, обладая правами и неся обязанности отдельной армии, могла заботиться о всем необходимом сама, обеспечивала себя во всех отношениях и знала истинное состояние всех ресурсов. Большая работа, проведенная с мая по сентябрь, дала к осени результаты; мы могли теперь вливать в корпуса и дивизии совершенно готовое и одетое пополнение, распределять по полкам свой, собранный армией и подготовленный за эти три месяца запас офицеров, эшелонировать все виды снабжения и давать их войскам без отказа. А главное – мы могли строить все расчеты наших операций и боев на точных данных, мы были хозяевами вполне.
Произведенная ломка снимала с командующего армией все эти многосложные обязанности и ответственность; отныне заботы о снабжении армии всем необходимым брались на себя главнокомандующим. Это вполне нормально и, кроме облегчения, не принесло бы ничего. Но на самом деле было не так, – условия того времени были так далеки от нормальных, тыл оказался настолько неорганизованным, что фактически заботы, снятые с армии, обязанности и права, отобранные от нее, повисли на время в воздухе. И как показали ближайшие события, реформы принесли вместо улучшения и облегчения большой вред.
Надо было сначала подготовить тыл, провести быстрые и решительные реформы там, наладить безотказную работу и лишь после того ввести управление армиями в нормальную линию централизации.
Так это представляется не только теперь, через призму прошлого времени, это было ясно и в те дни; я и мои ближайшие помощники делали тогда ряд представлений, пробовали доказать вред ломки, но, не достигнув ничего, обратили все силы на работу при новых условиях.
С упорными боями, сдерживая натиски красных, армия отходила от Тобола на Петропавловск, усиленно готовясь к новому своему удару, к переходу в наступление.
Готовились к наступлению также 1-я и 2-я армии. Генерал Иванов-Ринов, атаман Сибирского казачьего войска, прибыл в конце лета в Омск, сумел вызвать необычайный подъем и развить огромную энергию среди казаков. Он работал не покладая рук над созданием казачьего корпуса, чтобы к сентябрю выставить его на фронт и тем усилить наше наступление.
Дважды приезжал за это время отхода от Челябинска на Петропавловск ко мне в армию верховный правитель адмирал Колчак, чтобы лично проверить нашу работу и видеть условия, в каких она протекала.
Однажды, когда мы ехали автомобилем к передовым частям, адмирал обратился ко мне в разговоре с вопросом:
– А почему вы без револьвера?
Я ответил, что мой тяжелый наган, казенного образца, вожу всегда с собою, но носит его мой ординарец, унтер-офицер.
– Так нельзя, – возразил А. В. Колчак, – надо иметь постоянно при себе. Вот смотрите, я ношу всегда сам, – добавил он, ударив рукою по маленькому браунингу, висевшему в чехле у его пояса. – Мало ли что может случиться! Необходимо иметь непоколебимое решение, быть всегда готовым выпустить шесть пуль, защищаясь, а последняя себе. Живым в руки нам даваться нельзя…
Примерно через месяц ко мне явился офицер-ординарец адмирала и передал от него сверток: карманный испанский парабеллум № 21727 и письмо, которое приложено ниже в подлиннике.
Привожу этот небольшой случай, но характерный, рельефно показывающий три стороны: взгляд покойного А. В. Колчака на положение, в котором приходилось тогда вести работу, – с постоянной мыслью о последней пуле для себя; его исключительно внимательное отношение к нам, офицерам; небольшая иллюстрация того, как стоял у нас в армии вопрос с оружием.
В последние приезды перед сентябрем адмирал имел очень утомленный, даже усталый вид. И каждый раз, уезжая, он говорил мне:
– Вы знаете, здесь на фронте отдыхаешь, – так все хорошо, просто, такая здоровая атмосфера настоящего дела. Если бы они могли так же работать в тылу!
7
Ранняя осень. Золотые дни, румяные закаты, только ночи удлинились и дышат они уже холодом приближающейся зимы. Необозримые поля Западной Сибири убегают к бледно-голубому горизонту, волнуясь и переливаясь пышными темноволосыми колосьями созревших хлебов. Урожай в 1919 году повсюду был на редкость обильный. Теплая мягкая осень напоминала собой весну и была очень подходящим временем для широких активных действий.
29 августа мы получили приказ Главковостока закончить быстро всю подготовку, сосредоточить силы и в первых числах сентября перейти в наступление, атаковать красных.
План действий 3-й армии заключался в следующем: Волжский корпус и арьергард Уфимского сдерживали напор красных по обе стороны Сибирской железной дороги; в то же время на обоих наших флангах сосредоточивались ударные группы, которые должны были с двух сторон обрушиться на большевиков. А Уральский корпус (две дивизии) перебрасывался скрытно вверх по Ишиму на наш крайний левый фланг, откуда предполагалось вывести его большим кружным путем в тыл красным и тем закончить их окружение.
1 сентября 3-я армия начала выполнение этого плана. Генерал Каппель, усиленный Ижевской дивизией, сдерживая натиск красных, сам перешел в наступление, сильно потрепал к югу от железной дороги одну советскую бригаду. Генерал Космин с двумя дивизиями уральцев совершал в полной скрытности глубокий обход; у генерала Войцеховского с Уфимским корпусом вышла заминка.
Все эти дни, окончив предварительные распоряжения, я проводил среди своих боевых частей, переносясь на автомобиле с одного фланга на другой, чтобы лично все проверить, убедиться на месте в правильности расчетов, помочь напряжению воли.
2 сентября рано утром приехал в район Уфимского корпуса. 4-я дивизия на рассвете перешла в наступление и взяла очень удачно направление в тыл наступающим здесь красным. Был захвачен обоз одного красного полка, пленные и даже полковой комиссар. Но вместо того чтобы использовать первый успех и ударить сзади по большевикам, командовавший дивизией полковник С. повернул и направился обратно к своему исходному положению. Дивизия сделала вперед и назад около 35 верст, измоталась почти безрезультатно. Пришлось дать людям отдых перед тем, как начать снова маневр.
Вторая дивизия уфимцев, 8-я Камская, тоже перешла утром в наступление у деревни Жидки, но атака не удалась, красные оказали сильное, упорное сопротивление; было приказано в 4 часа дня атаковать вторично. Я поехал на место боя, чтобы помочь лично руководству его. По дороге встречаю крестьянина на лошаденке без седла; гонит он ее, болтает в воздухе локтями, рот открыт, глаза выкачены от страха, шапка упала, и по ветру развеваются длинные пряди полуседых волос. Увидал всадник наш автомобиль и еще издали начал кричать благим матом:
– Куда вы, куда вы!.. Вороча-а-айте назад!
Остановили мотор. В чем дело?
– Да как же, все наши отступают; уж Красная армия на Еропкино вышла. Так и гонит войска по всей линии…
И он поскакал, охваченный паникой, дальше.
Загадка. Часы показывали без двадцати минут четыре, приближалось время атаки Камской дивизии. Поехали дальше. Вот из небольшого перелеска показались повозки, направлявшиеся нам навстречу.
– Какого полка?
– 31-го Стерлитамакского.
– Где полк?
– Да вот тута, в лесу этом самом, – на ходу получили ответ.
Действительно на полянке, в роще стоит полк; здесь же штаб дивизии. А на опушке рощи идет, все усиливаясь, ружейная и пулеметная трескотня. Автомобиль подъехал к самому полку.
– Что у вас происходит? – спросил я начальника дивизии, генерала Пучкова.
– Красные перешли в наступление…
– А вы получили приказание атаковать их в четыре часа?
– Так точно, но теперь невозможно.
Этот отличный боевой офицер находился, к сожалению, в полном упадке сил, потерял дух. И немудрено ведь, – с 1914 года он был непрерывно на войне, сначала три года на немецком фронте, а затем на Волге, на Белой и на Уральских горах – против большевиков.
Генерал Пучков старался доказать мне всю безнадежность попытки перехода в наступление, что это не удастся, что слишком выдохлись и успех невозможен.
– Вам лучше сейчас же уехать, ваше превосходительство, – докончил он, обращаясь ко мне. – А то не ровен час…
– Как вы не понимаете, что никто не имеет права уезжать сейчас!
Я отвел его в сторону и вполголоса, чтобы не слышали другие, принялся серьезно внушать ему всю гибельность для дивизии и для всей армии подобных взглядов. Затем громко, в полный голос, передал об успехах волжцев и уральцев, пристыдил и приказал двинуть резервы в контратаку. Обошел ряды полка, произвел отличившихся ранее офицеров, наградил Георгиевскими крестами стрелков.
Кто был в боях, тот легко представит себе картину этого осеннего дня. Лес набит пехотой; солдаты лежат и сидят группами; многие жуют хлеб, иные переодевают портянки и сапоги. Здесь же, на полянке, батареи судорожно, спешно, но в то же время привычно-уверенно готовятся к работе. Деловитая суета и в ближайшем полковом тылу, – разворачивается перевязочный пункт, выкладываются патроны из двуколок, дымят и раздражающе вкусно пахнут ужином походные кухни. Все так заняты работой и необходимым простым делом, каждый старается гнать прочь мысль о предстоящем бое и о возможности близкой смерти. Только лица все как-то потемнели, глаза смотрят остро и внимательно, голоса стали глуше. В воздухе, несмотря на громкие звуки выстрелов и свист пуль, кажется зловеще тихо, как перед грозой. И все следят, чутко, напряженно, за своими начальниками. Не потерял он присутствия духа, сохранил веру, до конца проявил свою волю, – победа и успех обеспечены. Но если слабость скует его мозг, если поддастся он страху и проявит отчаяние, – горе и ужас тогда: дрогнут ряды, паника охватит всех, и стройные части обращаются в бестолковое стадо.
Через несколько минут заработала наша артиллерия. Полк выдвинулся из резерва, вправо рота за ротой перебежали скрыто рощей, развернулись и с криком «ура» кинулись в атаку…
К вечеру деревня Жидки была взята камцами.
За этот день отбили все контратаки красных и волжане, причем Ижевская дивизия вышла во фланг противнику и разгромила один советский полк.
Ижевцам пришлось вести бой на три фронта, их батареи стреляли во все стороны. Красные здесь усилились и старались разбить Волжский корпус, преградивший им кратчайший путь на Петропавловск.
Ночью мой автомобиль мчался на крайний левый фланг, где Уральский корпус должен был совершить решительный марш-маневр и ударить по тылам большевиков, отрезать их от путей отступления.
Темная сентябрьская ночь, полная ярких мерцающих звезд. Необозримые пространства Сибирских степей тонут в ночных черных тенях, сливаясь с черным небом; тишина нарушается только свистом холодного осеннего ветра да равномерным стуком автомобильного мотора. Мы едем, я с адъютантом и ординарцами, кутаясь от ночного сырого холода и нервности от всех ощущений дня. Едем десятки верст черной молчаливой степью, без признаков жилья; пролетели давно уже те деревни, в которых вчера были уральцы.
– С утра, батюшка, ушли, спозаранку поднялись и пошли войска-то, – объясняла нам испуганная молодуха-сибирячка в последней деревне и махнула рукой на северо-запад. На наш стук в окно она выскочила, сонная, в одной сорочке, накинув полушубок. Яркий свет автомобильных электрических фонарей освещал ее бледное милое лицо и широкие испуганные глаза, еще полные ночной неги и сновидений. И так ласково и грустно прозвучало сзади ее последнее приветствие: – Дай Бог вам, родимые…
И снова бездонная пропасть ночи и бесконечные пространства степей. Вдруг вдали замерцали такие же далекие, как звезды, светящиеся точки костров. Все ближе и ярче, все больше их, целое море огней. Автомобиль наддал ходу. И скоро мы подъехали к бивакам двух дивизий Уральского корпуса. Они уже вышли на указанную конечную линию. Завтра с рассветом уральцы двинутся дальше и пересекут главный путь отступления красных. На этот раз успех был несомненен, все расчеты оправдались.
На следующий день, 3 сентября, красные кинулись назад, чтобы не попасть в окружение. Два дня шли тяжелые бои. Здесь были лучшие коммунистические дивизии, 26-я и 27-я; надо отдать справедливость, что эти восемнадцать русских красных полков проявили в сентябрьские дни 1919 года очень много напряжения, мужества и подвигов, которые в императорской армии награждались Георгиевскими знаменами. Они бросались, ища выхода, в разные стороны, проявляя высокий дух и доблесть, и частью прорывались ночными боями почти из полного замкнутого кольца. А под деревней Чебачьей они нанесли даже сильное поражение нашей 7-й Уральской дивизии.
В то же время красное командование принимало срочные меры, чтобы ликвидировать наш успех и перевернуть ход операции снова в их пользу, вырвать у нас инициативу. Они начали сосредоточивать войска, повернув обратно на восток 5-ю и 35-ю советские дивизии, направленные было по железной дороге на Южный фронт против генерала Деникина. Этот прямой первый результат успеха доставил нам большую радость и удовлетворение, так как мы помогли своим, облегчили их положение.
Сосредоточив в районе железной дороги сильную группу войск, большевики двинули ее на юго-восток, чтобы в свою очередь обойти фланг нашего Уральского корпуса и ударить в тыл моей армии. Движение их было очень быстрое; надвигалась для нас опасность не только потерять все результаты первого успеха, но снова попасть в прежнее положение обороны, прикрытия своего тыла и вечной опасности. Надо было принимать неотложные и быстрые меры. Я приказал Уральскому корпусу сделать полный поворот, на 180 градусов, усилил его Ижевской дивизией. Было решено произвести теперь удар с севера на юг, в левый фланг красных, двигавшихся нам в обход. К этому же времени подошел Сибирский казачий корпус генерала Иванова-Ринова, совершив свои передвижения в полной тайне и скрытности, и сосредоточился к югу от Петропавловского тракта, по которому двигались главные силы большевиков.
Пленные красноармейцы
9 сентября произошли жестокие бои в районе станицы Пресновской, причем нами был произведен согласованный удар – с севера уральцами, с юга сибирскими казаками. Большевики, не ожидавшие этого удара, дрогнули и побежали, бросая пушки, пулеметы и обозы. Наша победа была полная.
Накануне ко мне в штаб приехал адмирал Колчак с некоторыми его министрами, генерал Нокс и огромная свита. Адмирал отправился на автомобиле к Уральскому корпусу и прибыл туда как раз в то время, когда наши части гнали красных, захватывая тысячи пленных. Всех охватила неописуемая радость и подъем духа; казалось, что наступил решительный перелом, что этот удар будет окончательным. Так оно и было бы, но при одном непременном условии – всеобщего напряжения всех сил на поддержку победоносной армии, для развития успеха.
Русское дело держало экзамен в эти дни сентября 1919 года; теперь наступила проверка того, как справились с организацией тыла, насколько сумели взять его в руки. Армия снова доказала свою способность, жизненность, силу и умение. Но для победы общей, для закрепления успехов военных нужно было еще многое.
Все части 3-й армии понесли значительные потери в этих первых боях; 9 сентября я обратился по прямому проводу к Главковостоку с докладом о положении в армии и о необходимости присылки теперь же пополнений для сильно поредевших частей нашей армии.
Правее нас стояла 2-я армия генерала Лохвицкого, которой не удавалось перейти в наступление, сбить красных; после нескольких дней встречных боев большевики даже частично потеснили 2-ю армию. Они усилили здесь свой удар, чтобы с этой стороны парализовать успех нашей армии, которая в это время заняла сильно выдвинутое положение, причем Уфимский корпус наступал в общем направлении на юго-запад, имея задачей разбить и отрезать 27-ю советскую дивизию.
Заминка 2-й армии грозила расстроить все планы Главковостока; необходимо было помочь ей, чтобы спасти общее положение; нельзя было терять ни дня. Пришлось предпринять новую операцию, не окончив вполне еще первой. Я повернул главную часть сил Уфимского корпуса также почти на 180 градусов, направив их удар теперь в северном направлении. Удар пришелся как раз во фланг и частью в тыл красным, теснившим 2-ю армию; уфимцы быстро выдвинулись вперед, почти на половинное протяжение всего фронта 2-й армии, которая после этого получила возможность повести успешное наступление.
Но 27-я дивизия большевиков ускользнула от окончательного разгрома и смогла отступить на два перехода; там она получила свежее подкрепление и снова перешла в контрнаступление, чтобы прорвать сильно растянувшийся теперь фронт Уфимского корпуса.
Можно представить, как растянулся фронт и всей моей армии; вначале первый удар был объединенный и сходившийся к железной дороге. Но затем пришлось бить от середины: уральцами на юг, уфимцами на север. Эти три последовательных удара, следовавшие без перерыва один за другим, дали нам перелом, создали военный успех, обеспечили победу, но они же поставили 3-ю армию в тяжелые условия, выйти из которых своими собственными силами она могла с большим трудом.
Начались самые упорные и жестокие бои за весь этот период нашего наступления, за всю Тобольскую операцию. Главная тяжесть их выпала на долю 12-й Уральской дивизии и Морского батальона, которые доблестно отбивали все атаки и сломили в конце концов большевиков.
Пребывание в штабе армии гостей из Омска затянулось и сильно мешало работе, отвлекая и меня, и штаб на несколько часов ежедневно, поэтому я почувствовал облегчение, когда через шесть дней было объявлено об их отъезде. Верховный правитель за это время объехал почти все войска, раздавал награды, причем он настоял на присуждении трем командирам корпусов, генералам Каппелю, Космину и Войцеховскому, а также и мне ордена Святого Георгия 3-й степени. При объездах передовых линий адмирал Колчак лично видел малочисленность наших частей, так как бои шли не прекращаясь ни на один день, потери увеличивались и росли непомерно, а пополнений мы не получали с тылу ни одного солдата; адмирал знал фактические цифры наших потерь; при своем объезде он обещал мне употребить все усилия, чтобы прислать подкрепления и свежие части резерва.
15 сентября я вновь сделал настойчивое представление Главковостоку как о значительных потерях наших, так и о самой настоятельной необходимости присылки свежих частей и пополнений; генерал Дитерихс обещал сделать все возможное и указал, что через неделю начнет подавать в 3-ю армию эшелоны.[6]
На обеде, данном адмиралом Колчаком у себя в поезде в день отъезда, произошел один случай, который, несмотря на его незначительность, нельзя обойти молчанием. Разговор свелся на большевиков, на развал ими великой России и на то, что руководящая роль принадлежит иудеям, которые фактически захватили всю власть в свои руки.
Сидевший рядом со мною представитель французской миссии майор Каруель, чистый француз, храбрый офицер и в высшей степени порядочный человек, высказал такую мысль:
– Да это племя, иудеи, всюду ищут власти не для добра другого народа и страны, а для своих каких-то особенных целей. Вот и наша официальная Франция, – она теперь нисколько не выражает нашей страны, духа французского народа. И пока не выгонят евреев, не вырвут у них власть, – прекрасная Франция не будет сама собой.
Многие заинтересовались. Генерал Нокс просил повторить, так как он плохо слышал. Все соглашались, что наступившие годы и чреда событий доказывают, несомненно, стремление евреев захватить не только мировое влияние, но и власть над миром. Казалось, что не было теперь сомневающихся, стыдящихся смотреть истине прямо в глаза, подобно многим из так называемых русских интеллигентов эпохи 1900–1918 годов.
Через несколько дней майор Каруель пришел в полной форме ко мне прощаться, так как он получил повышение по службе и новое назначение в Омск, в штаб генерала Жанена. Обоим нам было грустно расставаться, так как, по выражению майора Каруеля, мы пережили вместе столько des jours penibles et des jours heureux в 3-й армии, сжились за это время и подружились. Но приказ для солдата прежде всего. Весь штаб сердечно проводил общего любимца, майора Каруеля.
Но вот примерно дней через восемь – десять получили из Омска сведение, что майор арестован и под конвоем отправлен во Францию; что будто ему ставится в вину какое-то тяжкое обвинение, – у его возлюбленной нашли секретный французский шифр и ключ к нему. А надо сказать, что эта дама сердца была немудрящая, простая женщина, интересовавшаяся только одними сердечными вопросами; контрразведка армии имела за ней наблюдение и выяснила ее вполне; никогда ни до каких вопросов политики, а тем более до военных секретов и тайн она не касалась, да и по-французски-то почти не говорила. Непосвященные поражались. Для знающих же предыдущие события невольно они связывались, и вспоминалась горячая реплика майора Каруеля, что для счастья Франции надо выгнать оттуда иудеев.
Должен сказать несколько слов о контрразведке 3-й армии. Более образцовой службы мне не случалось встречать. На это тяжелое дело шли к нам, именно сюда, лучшие люди, честные, неутомимые и храбрые; среди них большинство были с высшим университетским образованием. Поэтому здесь не было места тем ненормальностям и злоупотреблениям, какими иной раз грешили другие контрразведки; в 3-й армии все было чисто и справедливо. Но зато не было ни малейшей поблажки и спуску разрушителям русской государственности. Не покладая рук, зачастую рискуя своей жизнью, чины армейской контрразведки открывали каждую противоправительственную партию, наговор, вылавливали большевицких агитаторов и всех сродственных им, уничтожая социалистическую заразу в корне. Оттого-то и не заводилось эсеровское предательство в районе моей армии.
8
Наше наступление развивалось. Я напрягал последние силы, требовал и добивался того же от всех чинов армии. Все наши боевые задачи были выполнены; было сделано больше, – мы нанесли три сильных удара большевикам – в центре, на севере и на юге, выполнив часть задачи 2-й армии, разбив красных везде.
Как недавнему участнику всех этих боев, этого нового подвига русской армии, мне трудно описать его достаточно полно и ярко. Найти подходящие краски, осветить события, их причинность и значение – дело будущего историка. Я должен только указать на общий ход событий и на самую сущность происходившего. Ведь армия, которая отступала четыре месяца, прошла с этими тяжелыми отступательными боями свыше 2 тысяч верст, не только не развалилась, но не потеряла своей боеспособности и духа; более того, армия нашла в себе самой силы, – ибо резервов с тылу подано не было, – нашла силы перейти в решительное наступление и нанести полное поражение врагу. Случай небывалый.
– Это только одни русские могут делать такие чудеса: после 2 тысяч верст отступления перейти в такую удачную контратаку, – говорил совершенно искренно английский генерал Нокс в его последний приезд ко мне в армию.
Ведь ясно для каждого, что такое напряжение и такой успех могли быть результатом только полной веры в свое дело со стороны всех масс наших, нашей чисто народной армии. Эта вера двигала на чудеса, а чудеса создавали дальнейший подъем и удесятерили силы. Вместе с тем росла уверенность в окончательной победе национальной идеи над черными враждебными силами кровавого интернационала. Никогда не были мы так близки к победе, как в эти дни. Но главная трудность заключалась теперь в том, что наши ряды все более и более редели, красные же, наоборот, с каждым днем усиливались; они вливали, подавая непрерывно с тылу, подкрепления из своих запасных частей, они повернули на восток еще одну дивизию[7] и конные части, направленные было на деникинский фронт.
19 сентября я вновь пригласил к прямому проводу главнокомандующего, доложил ему обстановку и затруднения, настойчиво просил о присылке пополнений; иначе было немыслимо ставить новые боевые задачи, тратить свои силы, добиваться успеха, чтобы потом все потерять. На этот раз я получил определенные обещания, что мне будет прислано в течение первой недели 10 тысяч пополнений, на вторую неделю еще 10 тысяч и, кроме того, партизанская бригада полковника Красильникова.
Этого было достаточно и вполне удовлетворило бы армию. Имея это обещание, мы напрягли новые усилия и продолжали сбивать красных с каждой позиции, гнать их к Тоболу.
Операция свелась теперь к труднейшему и малорезультативному фронтальному наступлению, которое не могло уничтожить армию противника, оставляя его тыл и пути отступления без разрушения. Это произошло вследствие двух причин: во-первых, 3-й армии пришлось бить своим правым флангом на север вместо юго-запада, чтобы помочь 2-й армии; а во-вторых, и это главное, – масса конницы, сосредоточенная на нашем левом фланге, после успеха в бою под станицей Пресновской, после разгрома 5-й и 35-й советских дивизий, проявила очень большую пассивность и потеряла много времени, вместо того чтобы стремительно вынестись к Кургану и разгромить тылы красных, отрезать их силы от переправ на Тоболе. Ну, на это были свои оправдания: иррегулярность молодого Сибирского казачьего корпуса, плохой конский состав его, запутанные и противоречивые задачи, поставленные ему Главковостоком. Была упущена блестящая и большая возможность обратить нашу первую победу в разгром красных.
Поэтому-то нам и приходилось в течение более двух недель, шаг на шагом, бить большевиков в целом ряде непрерывных боев, производя постоянные маневры одними и теми же силами. При этом надо сказать, что эти силы наши были численно меньше действовавших против нас красных. Почти на каждом участке многоверстного фронта армии нашим частям приходилось атаковать сильнейшего противника. Это было возможно только при постоянных перегруппировках и перебросках полков и дивизий с одного фланга на другой, чтобы создавать в нужных местах перевес в силах. Можно представить, как эти форсированные марши и маневры утомляли войска. Бои, упорные и жестокие, так как большевики не только оказывали нам стойкое сопротивление, но и сами пытались переходить в контратаки, – бои с каждым днем уменьшали наши силы. Тыл же по-прежнему оставался безучастным и не подавал подкреплений.
Многочисленные просьбы и доклады о тяжелом положении вызывали успокоительные ответы и обещания. И это было еще хуже, так как в ожидании этих обещанных свежих резервов, рассчитывая на них, мы расходовали свои последние силы. Чтобы докончить начатую операцию и опрокинуть красных за Тобол, было введено в боевую линию все, опять включительно до моего личного конвоя; я отправил две роты егерей штаба 3-й армии генералу Каппелю, на три дивизии которого в конце операции выпали самые трудные задачи, так как в полосе железной дороги большевики сосредоточивали всего больше своих войск, прибывающих в эшелонах из Центральной России.
Серый сентябрьский день, дождик, мелкий и назойливый, сеял уже вторые сутки и развел ужасную грязь. Из частой сетки его проглядывали полуоголенные желтые перелески, унылые снятые поля, маленькая железнодорожная станция со взорванной красными при отступлении водонапорной башней. Здесь стояли две роты егерей, готовых идти на фронт. Обходя ряды их, я видел в глазах всех офицеров и солдат одно желание идти и победить, уверенность в успехе. Ведь весь сентябрь мы всюду били большевиков, гнали их по всему фронту.
С бодрой песней и с молодым блеском возбужденных близким боем глаз шли егеря на поддержку волжан. Тонула в туманной дали дождливого дня их колонна, сливалась в мутное движущееся пятно, таяли и терялись в воздухе могучие аккорды русской военной песни…
Смело мы в бой пойдем За Русь святую! И как один прольем Кровь молодую…Через несколько часов егеря вошли в боевую линию, новый порыв, и последняя станция перед Тоболом была взята. Даже такой незначительный прилив свежих сил мог дать решительные результаты!
На другой день привезли раненых. Две мои егерские роты потеряли из трехсот человек более ста убитыми и ранеными, но зато помогли сломить последнее сопротивление большевиков, взяли много пулеметов и захватили в плен целый советский батальон. Я обходил раненых. В углу лежал молодой егерь с обвязанной головой, – пуля пробила ему череп. Белая повязка с проступившей кровью закрывала лоб и падала на опущенные ввалившиеся глаза. Лежавший рядом егерский офицер с простреленной грудью доложил мне, что раненный в голову егерь кинулся первым на пулеметы и упал раненым уже после того, как прикладом свалил большевика-комиссара.
Я взял у адъютанта Георгиевский крест и осторожно, чтобы не разбудить раненого, приколол его на грудь егерю. Но он открыл глаза, большие, блестевшие радостным блеском, и начал быстро говорить, двигая с трудом своими запекшимися губами:
– Благодарствую, ваше превосходительство… ох… покорно благодарю. – Он нежно, торопливо гладил и новенький крест на черно-желтой ленте, и мою руку. – Как эт-то мы побежали в атаку… пулеметы их трещат, наши стали падать ранеными… ну, залегли мы в канаве… Вижу я… ох… вижу, красные солдаты руки поднимают кверху, сдаваться хотят… Мы было к ним, а тут как раз из леса выбежали комиссары и давай красноармейцам грозить револьверами… ох…
– Помолчи лучше, голубчик, тебе нельзя говорить, – остановил егеря доктор.
Тот перевел на него глаза, посмотрел строгим, мимолетным взглядом и зашептал еще быстрее:
– Смотрю я, красноармейцы заругались с комиссарами; один комиссар взял да как стрельнет в голову одному своему пулеметчику, а он все руки кверху поднимал… идите, значит, – мы-то, – берите нас… Упал тот замертво. Ну, не стерпел я, прыгнул и побежал в атаку… Бегу и все норовлю комиссара-большевика достать. А он в меня все стрелит. Ну как добежал да как хвачу его прикладом, так он и повалился.
Усталый егерь откинулся на подушку и снова закрыл глаза.
Через несколько коек дальше встает при моем приближении другой егерь, молодой безусый парень, и стоит, неестественно как-то согнувшись в пояснице. Тихая ласковая улыбка трогает его бескровные губы.
– Мы, ваше превосходительство, вместе с им в атаку бежали…
– Куда ранен?
– Вот сюды, в живот, – показывает он пальцем.
– Как – в живот? Чего же ты стоишь, когда лежать должен.
– Никак нет, ваше превосходительство, я могу стоять, когда начальство…
– Доктор, почему он не в постели и не перевязан?
– Да, он, очевидно, не в живот ранен, – с такими ранами не стоят на ногах. Куда ты ранен, голубчик? – обратился доктор.
– Да вот сюды, – ткнул себе пальцем на живот егерь.
– Не может быть, ваше превосходительство, он что-то путает.
– Ну, осмотрите его сейчас же.
Положили егеря, раздели. Оказалось, ранен пулей в живот навылет и кое-как перевязан полевым санитарным пакетом.
Большинство наших раненых в этот период не хотели эвакуироваться в тыл и после нескольких дней госпитального лечения просились обратно на фронт. Так все понимали необходимость поддержать тех героев, которые изнемогали в непосильных боевых трудах, добывая для России победу, свободу и жизнь. Не понимал только этого тыл.
Верховный правитель, вернувшись в Омск от меня, прислал также свой конвой, который вступил в бой под начальством своего командира полковника Удинцова и оказал много помощи. Но все это были капли в море; тыл пополнений для наших частей не давал.
Я не могу описать и сотой доли тех блестящих боевых дел, которые совершили войска 3-й армии. Каждый день был наполнен подвигами. Все части работали одна перед другой. Участник трех войн, перевидавший в течение моей двадцатилетней офицерской службы много боев, сражений, нескончаемую вереницу картин напряжения воли и геройства человеческих масс, я свидетельствую, что никогда не было выносливости, самопожертвования, подъема и храбрости, подобных тем, которые русская народная армия проявила в эту осень 1919 года. Люди шли и дрались сутками и неделями почти без отдыха, зачастую не получая пищи, полуодетые и плохо снабженные. Но они шли вперед. И умирали, и побеждали. Ибо они видели перед своими духовными очами образ великой Родины с окровавленным телом, в рубище, с печальными, как само горе, глазами, в которых стояли слезы позора и отчаяния. И призыв…
Благодаря беззаветному самопожертвованию командного состава, наших офицеров, и вере в успех была достигнута полная согласованность в действиях, постоянная поддержка и помощь друг другу.
Только все это и давало возможность довести дело до конца. 31 сентября, после месяца непрерывных боев, красные были отброшены за Тобол.
Наши войска могли свободно вздохнуть несколько дней.
9
Насколько поредели за время этой операции ряды 3-й армии, как мало осталось бойцов, можно судить из таких фактов: при наступлении наши действия основывались главным образом на широком применении маневра; почти всюду нам удавалось комбинированными действиями и обходами бить превосходного в числе противника. Почти в каждом деле брали в плен красноармейцев, иной раз по нескольку сот человек. И вот в конце сентября этих пленных красноармейцев держали неделю-другую в ближайшем тылу, сводили в запасные роты, учили и тренировали, отбирали все вредное-зараженное, коммунистов и других партийных работников, – и затем вливали эти запасные роты в наши боевые полки. Это были последние наши ресурсы; красноармейцы пополняли белые войска. И они шли охотно, наряду с нашими старыми офицерами и солдатами; с их глаз спадала грязно-красная повязка, они убеждались, что белая армия идет в смертный бой за русское народное дело, чтобы спасти его из хищных крючковатых рук интернационала, этого всемирного Шейлока.
Армия не получала пополнений с тыла, ни одно обещание Главковостока выполнено не было; армия в это время уже не имела своих запасных частей, да и не могла их иметь со времени своего преобразования в неотдельную.
Плохо было и со снабжением. Наступил октябрь, конец сибирской осени, с длинными холодными ночами, с заморозками; а все наши части были одеты по-летнему, большинство не имело даже шинелей. Усилились заболевания, все поголовно были простужены; только сильная природа и выносливость русского человека позволяли геройским полкам нести боевую службу в открытом поле круглые сутки.
В конце сентября начали прибывать части партизанской бригады полковника Красильникова. Я вздохнул облегченно – получалась возможность закончить операцию и дать время нашим дивизиям по очереди отдохнуть и набраться сил. Был составлен план, что генерал Каппель получит партизанскую бригаду и ею усилит свой последний удар, чтобы на плечах красных переправиться через Тобол и занять город Курган.
Но как раз когда бригада сосредоточилась и была готова к выполнению этого плана, мною было получено категорическое приказание главнокомандующего генерала Дитерихса: спешно погрузить части Красильникова в эшелоны и направить их через Омск на Тюменское направление в 1-ю армию Пепеляева, где большевики все это время теснили наших.
Этим распоряжением срывался весь план действий. Настроение наших частей, обрадованных полученной поддержкой, должно было неминуемо упасть; 3-я армия лишалась возможности закончить операцию и захватить западный берег Тобола с Курганом. Да и сама партизанская бригада, настроенная бодро и горевшая желанием войти в победоносные войска наши, выводилась из них и получала новую, неясную для нее задачу. Кроме того, при этом судорожном и хаотическом действии непростительно терялось драгоценное время – партизаны рисковали проездить по железной дороге и совсем не принять решительного участия в боях. Буквально все доводы были против этого приказа. Но приказ был боевой и требовал поэтому немедленного исполнения. Я донес Главковостоку по телеграфу все соображения и получил в ответ подтверждение о немедленной отправке бригады Красильникова.
Своими силами мы могли только отбросить большевиков за Тобол. И то было достигнуто многое. Мы получили теперь возможность оставить в передовой линии половину дивизий, выведя остальные в армейский реверс. Здесь началась усиленная работа по приведению наших усталых частей снова в боеспособное состояние: полки отдыхали, мылись в банях, пополнялись. Надо отметить, что население этого района, испытавшее власть большевиков только в течение одного месяца, так их возненавидело, что почти поголовно шло добровольцами; кроме того, возвращались в свои части все легкораненые и больные. Ежедневно шли с тыла большие их партии; настроение в армии было в высшей степени бодрое, уверенное, приподнятое. Все стремились к новому наступлению после небольшого отдыха. И если бы мы тогда получили с тыла обещанные 20 тысяч людей, то красные полчища были бы рассеяны за Тоболом, наши сентябрьские успехи развились бы в полную победу. Россия, может быть, была бы освобождена от большевиков!
Но пополнения не прибывали. Все телеграммы, настойчивые просьбы и требования оставались без ответа. Тогда, организовав оборону на Тоболе и наладив работу в армейском резерве, я отправился лично в Омск, чтобы добиться присылки необходимых подкреплений для армии, резервов и снабжения ее теплой одеждой.
Историческая столица Омского правительства показалась болотом после свежей и деловой обстановки армии. Большой город кишел толпой здоровых, молодых чиновников, барахтался в кучах бумажного перепроизводства и совершенно не понимал того опасного и критического положения, к которому мы подошли, израсходовав свои лучшие силы в Тобольской операции, когда мы гнали красных 200 верст.
Я провел три дня в Омске. И то, что я увидел там, тогда же наполнило сознание мыслью, что положение почти безнадежно.
Пульмановский вагон Главковостока. Внутри большой письменный стол, заваленный бумагами, в углу стоит несколько хоругвей и знамен, висит значок Братства святого Креста. За столом сидит с утра и до поздней ночи, зачастую до 3–4 часов, генерал Дитерихс. Сильно постаревшее за последний год лицо; молодые умные глаза тщательно прочитывают груды бумаг; бегает карандаш в худой небольшой руке и набрасывает короткие резолюции. Склонившись за большим столом, сидит М. К. Дитерихс и пишет, читает, снова пишет, не только весь день, но и часть ночи. От полудня и часов до шести вечера к нему приезжают с деловыми разговорами представители иностранных миссий, офицеры, прибывающие из армий, чины министерств. Долгие разговоры, и опять большой стол, заваленный бумагами… Таков пульмановский вагон, где сосредоточены все нити антибольшевистского фронта, где должна быть централизована вся воля борьбы за возрождение России.
Выслушал генерал Дитерихс от меня подробный доклад о положении армии, о ее нуждах и о том, что напряжение, жертвы и достигнутый успех требуют немедленного продолжения операции, что неподача немедленной помощи из тыла была бы при этих условиях преступной и гибельной. Несколько раз наш разговор прерывал дежурный офицер, приносивший свежие бумаги и телеграммы. Пришли около часу дня три американских офицера Красного Креста с предложением организации санитарной помощи армии и тылу.
Генерал Дитерихс, усталый сверх меры, казалось, был вне досягания жизни и настойчивых ее требований, он витал как бы в своих далеких грезах, веря в высшую небесную миссию и в чудесное избавление от большевиков. Все мои усилия разбивались об это ужасное непроницаемое препятствие. Точно на пути вырастали и опускались сотни занавесей из блестящей стальной сети; висели, колыхались, упруго поддавались ударам, но поддавались лишь на очень короткое время, чтобы только обессилить и снова упасть прежней, непреоборимой преградой.
Все же в конце концов мне было обещано направить резервы в армию и прислать теплой одежды. Но затем такая фраза:
– Все это не так важно; мне нужно только во что бы то ни стало продержаться до конца октября, когда Деникин возьмет Москву. Нам необходимо до этого времени сохранить верховного правителя и министров.
Вместе с генералом Дитерихсом я отправился к адмиралу Колчаку, в его особняк на Иртыше; снова сделал доклад о положении на фронте. Вывод был таков: необходимо немедленно продолжать наступление, гнать разваливающихся красных, чтобы до наступления морозов занять горные проходы Урала; для этого необходимо выполнить три условия – немедленная присылка пополнений, теплой одежды и координация действий всех армий.
Адмирал Колчак выслушивал, как всегда, внимательно весь доклад. Он сидел теперь оживленный и смотрел прямо своими светлыми черными как ночь глазами, качая часто головой в знак согласия. А в конце я услышал повторение почти дословно той же фразы:
– Я знаю, как армии трудно, но ничего, – подержитесь до конца октября, когда Деникин возьмет Москву…
Вечером в тот же день за обедом и после него я имел длинный и совершенно близкий разговор с адмиралом. Он, еще более оживленный и полный надежд и как будто даже помолодевший вследствие последних успехов армии, много и горячо говорил, высказывал свои задушевные мысли.
– Вы не поверите, Константин Вячеславович, как тяжела эта власть. Никто не понимает; думают, что я цепляюсь за нее. А я бы сейчас отдал тому, кто был бы достойнее и способнее меня…
В то время уже начали ходить слухи, направляемые какой-то скрытой, центральной интригой, о том, что генерал Деникин стремится стать сам во главе всего русского дела, а с другой стороны, что генерал Дитерихс подготавливает переворот и намерен захватить власть в свои руки.
– Все равно ведь, – продолжал адмирал, – не может русский народ остановиться ни на ком, не удовлетворится никем. Будь то человек-солнце, нашли бы пятна и раздули их. И это естественно. Нельзя вычеркнуть истории великого народа, нельзя насиловать его характера, свойств и всего уклада…
– Как вы представляете себе, ваше высокопревосходительство, будущее?
– Так же, как и каждый честный русский. Вы же знаете не хуже меня настроения армии и народа. Это – сплошная тоска по старой, прежней России, тоска и стыд за то, что с ней сделали…
В России возможна жизнь государства, порядок и законность только на таких основаниях, которых желает весь народ, его массы. А все слои русского народа, начиная с крестьян, думают только о восстановлении монархии, о призвании на престол своего народного Вождя, законного Царя. Только это движение и может иметь успех.
– Так почему же не объявить теперь же о том, что Омское правительство понимает народные желания и пойдет этим путем?
Адмирал саркастически рассмеялся:
– А что скажут наши иностранцы, союзники?.. Что скажут мои министры?
Верховный правитель развил мне свою мысль, что необходимо идти путем компромиссов, и он, местами противореча сам себе, защищал точку зрения, что временное соглашение с эсерами найти нужно, так как их поддерживают все союзные представители. Видно было, что адмирал устал в борьбе и уже уступал.
Два дня, проведенные в Омске, прошли, как долгий нудный сеанс тяжелой кинематографической ленты. Толпа, наша русская, простая, близкая, верующая в успех дела, в то, что ее ведут верно и неуклонно к концу страданий. Многоэтажные омские министерства и канцелярии, наполненные той же милой русской толпой с сильно вкрапленными гнездами вредных бездарных политиканов и партийных работников. Разнохарактерный дивертисмент иностранных военных и гражданских представителей, поющих Интернационал на мотив русских народных песен. А в темных углах, в тылу армии, куется упорно и искусно измена, готовятся сети, чтобы опутать ими восставший и свободный русский народ, повалить его снова и снова предать его во власть хищному и беспощадному врагу.
На третий день я вернулся к себе в армию, вернулся как в тихий светлый дом, к здоровому трезвому делу. Вернулся наполненными всевозможными обещаниями помощи армии, но еще более неуверенный в их исполнении.
10
А до чего необходима была помощь в то время! Вот одна из многих картин. 30-й Сибирский стрелковый полк выведен в резерв на три дня, чтобы дать людям время отдохнуть, поспать, помыться в бане, сменить белье. Пополнили ряды полка, чем могли, что набрали сами из выздоровевших, из добровольцев да из армейских офицерских школ. И через три дня полк получил приказ снова идти на позицию, чтобы дать возможность отдыха другой части. 30-й полк выстроен в каре около станции Лебяжья; посредине стоит аналой и священник в потертой золотой ризе служит панихиду по воинам, павшим в сентябрьских боях. Идет перечисление длинного списка имен…
– Учини их в месте злачне; месте покойно… иже жизни свои за веру и святую Русь положиша, и сотвори им…
И мощные рыдающие аккорды несутся по степи.
– Ве-е-е-чная па-а-а-мять, вее-е-е-чная па-а-мять…
После панихиды служится напутственный молебен о даровании успеха и победы. Затем я обхожу ряды полка, разговариваю с офицерами и стрелками. Большинство из них одеты в летнее. Редко-редко сереют пятнами суконные шинели.
– Да и те достали от комиссаров, когда гнали большевиков к Тоболу, – докладывает командир полка.
А вот стоит стрелок в летней рубахе, с полным походным снаряжением, но на место штанов спускается вниз простой грубый мешок, одетый как юбка. Старые брюки его износились, новых не достал, а прикрыть наготу нужно было. Вот он взял и надел мешок, один из тех, в которых возят хлеб и муку. И еще несколько таких же фигур виднелось в рядах славного, геройского полка.
Больно было смотреть, – эти люди шли безропотно и охотно на боевую службу, в передовую линию, где приходилось круглые сутки, под дождем и на ветру, при утренних заморозках быть на посту. Омск и весь тыл не хотели верить критическому положению; там все имели одежду, там имелись даже запасы ее, как то выяснилось позднее.
Наши части, выведенные в армейский резерв, пополнялись очень медленно, своими средствами, при тех скудных источниках, которые остались в армии после преобразования ее в неотдельную. А надо было спешить, чтобы нанести красным войскам, пока они не оправились, еще одно поражение и прогнать их за Уральские горы. Это было необходимо и дало бы тогда полную победу. Пленные красноармейцы и перебежчики от них показывали в один голос:
– Вся Красная армия решила, что, коли белые будут гнать, дойдем до Челябинска с боями, а там все рассыпемся, разбежимся и комиссаров перебьем.
Нашими разведчиками был захвачен и доставлен в штаб армии приказ начальника 27-й советской дивизии Эйхе от 5 октября. Там было два характерных места. Товарищ Эйхе объявлял выговор «товарищу командиру полка» за то, что тот подошел с рапортом, держа одну руку у козырька фуражки, а другую в кармане.
«Прием недопустимый с точки зрения революционной дисциплины», – заканчивал начальник красной дивизии.
Затем он описывал, как во время его смотра 238-го советского полка вдруг неожиданно показалась из леса кучка конных и раздались крики: «Казаки, казаки!» Весь большевицкий полк разбежался по полю в одно мгновение, как стадо испуганных овец.
«К стыду красноармейца, – заканчивал большевик генерал Эйхе, – это оказались не казаки, а наши же товарищи – конные разведчики, производившие учебную конную атаку…»
Необходимо было воспользоваться этим временем и таким настроением Красной армии, надо было спешить с нашим переходом в наступление. Для этого вся наша армия работала днем и ночью, приводила в порядок и усиливала дивизии, выводимые в резерв. Были составлены планы и расчеты новой операции.
Севернее нас 2-я армия так и не смогла выйти на Тобол и отбросить красных за реку. 8 октября Главковосток прислал мне приказ – ударить моими резервами на север, повторить маневр первой половины сентября, чтобы помочь 2-й армии выполнить ее задачу. Этот приказ вновь разрушил весь план нашего дальнейшего наступления за Тобол; кроме того, не получив с тылу до сих пор почти ни одной роты пополнения, мне приходилось тратить последние силы на выполнение второстепенной задачи.
Но в военном деле приказ выше всего; для солдата любого ранга это святая святых. Донеся о серьезном положении в армии, о неполучении до сего времени пополнений и о разрушении плана операции, я быстро передвинул резервы к северу и ударил красных во фланг. Большевики отступили, 2-я армия получила возможность выйти на Тобол.
Зато наше собственное положение сделалось очень непрочным. 3-я армия занимала фронт по реке Тоболу около 200 верст. Из одиннадцати дивизий в армейский резерв было выведено шесть, а остальные пять дивизий могли, понятно, охранять реку на этом пространстве только тонкой цепью аванпостов. Успех нашего дела был возможен при одном условии: усиление армии и немедленный переход снова в наступление по всему фронту.
Больше месяца я добивался этого безрезультатно. 13 октября мною была послана последняя телеграмма Главковостоку,[8] в ней я доносил, что красные вливают интенсивно пополнения в свои ряды, готовясь к активным действиям, и что положение создается крайне серьезное, критическое.
К несчастью, через день начались подтверждения этого, начались жестокие уроки за преступную небрежность тыла. Большевики перешли в наступление, начали форсировать переправы через реку Тобол. Три дня мы опрокидывали все их попытки, причем целый ряд официальных донесений и рассказов наших раненых подтверждали картину, что красные полки идут в атаку, буквально подгоняемые пулеметами и плетьми комиссаров.
Надо сказать, что к этому времени организация Красной армии вылилась в такую форму: каждая армия состояла из нескольких дивизий, дивизия делилась на три бригады, каждая силой в три полка. Эта система тройных подразделений, взятая, очевидно, из германской армии, была проведена донизу. При каждой бригаде была еще четвертая часть, «интернациональный» отряд, состоявший из латышей, мадьяр, евреев, китайцев и небольшого числа русских, партийных фанатиков-коммунистов. Эти отряды особого назначения, снабженные обильно пулеметами, располагались всегда в тылу, за войсками первой линии, и служили для специальной цели усмирения всякого неповиновения или восстания да чтобы подгонять свои войска вперед, в атаку. Они расправлялись беспощадно, сея без разбора и суда – смерть.
К этому времени до того выявилось преступное отношение бывших союзников России к нашему национальному делу и к Белой армии, что всюду – и в армии, и в лучших общественных организациях, и среди отдельных деятелей – начала выбиваться наружу мысль: раз союзники в Версале вершат свой мир, то нелишнее было бы и нам, национальной России, не признающей Брест-Литовска, войти в переговоры с Германией. На наших недавних и навязанных нам противников начинали смотреть не только с чувством миролюбивым, но с зарождающимся просветлением об общности судьбы, а следовательно, и интересов. Среди же народных масс никогда не было враждебного чувства, а тем более ненависти к германцам. Этому свидетели те десятки тысяч военнопленных немцев, которые и тогда еще оставались в Сибири.
Мною был отправлен в Омск к верховному правителю мой помощник генерал-лейтенант Иванов-Ринов с докладом обо всем этом; также я доводил до его сведения мнение армии, что было бы очень полезно войти с германскими кругами в непосредственные переговоры, что этим путем мы, быть может, приобретем настоящее содействие и помощь в нашей священной борьбе. Адмирал ответил мне, что он разделяет этот взгляд, но запросит, прежде чем принять решение, генерала Деникина. Так вопрос этот и затянулся…
На четвертый день большевикам удалось переправиться через Тобол южнее города Кургана, прорвав растянутое положение Уральского корпуса. Несмотря на героическое сопротивление наших частей, которые несли огромные потери убитыми и ранеными, нечем было парализовать этого прорыва; большевики устремились в него, стараясь снова выйти к железной дороге, в тыл нашей армии.
Целую неделю продолжалось жестокое сражение по всему фронту армии. Многочисленные атаки большевиков отбивались нами всюду, где только были наши части. Но красные лезли в промежутки, шли степями, без дорог, выходили в тыл. Ижевская дивизия с 14 по 19 октября была отрезана совершенно и окружена большевиками; и не только пробилась сама, но нанесла красным несколько частных поражений и привела с собою свыше двухсот пленных.
17 октября я поехал к Уральскому корпусу и там в деревне Патраково попал вместе со штабом корпуса в окружение большевиками; пришлось для контратаки деревни направить все силы до личных конвоев моего и командира корпуса включительно.
В это же время большевики вышли другим направлением и грозили отрезать штаб корпуса от остальных частей армии и от железной дороги.
Нестерпимо мучительно было переживать эти дни, когда кучки храбрецов, только что совершавших победоносное движение к Тоболу, теперь были принуждены отступать из-за преступной инертности тыла. Были принуждены драться в бессмысленной и безнадежной обстановке, не имея возможности перейти в наступление самим, что только и могло дать нам новый успех и окончательную победу.
Красные за это время не потеряли ни одного дня подготовки, большевики влили в их ряды пополнения, усилились свежими частями и были числом сильнее нас во много раз. 3-я же армия так и не получила обещанных пополнений, а от боев, от непрерывных операций сила ее таяла, таяла с каждым днем.
Вот документальные цифры из сведений, представленных штабом 3-й армии Главковостоку, о потерях убитыми и ранеными за время с 1 сентября по 15 октября 1919 года:
Из наших полков выбывали лучшие, гибли храбрейшие русские офицеры и солдаты, цвет нашей армии. Но главное – всего хуже было то, что падала надежда на успех и вера в дело.
В 1915 году при натиске Макензена, после знаменитого Горлицкого прорыва русская императорская армия отступала, как затравленный лев, отбиваясь чуть ли не голыми руками. Преданная беспечным тылом, армия не роптала, несла неисчислимые жертвы и проявила силу величайшего подвига, большего, чем подвиг победы, – без надежды на успех, на скорое избавление от мук, без призрака славы – армия дралась день и ночь всю весну, лето и осень 1915 года на полях Галиции, Польши и прибалтийских провинций. И не было тени мысли о том, чтобы бросить тяжкий боевой пост, уйти из борьбы. Русская императорская армия выполнила свой долг перед страной и союзниками, чтобы дать время им подготовиться и ударить по германо-австрийским силам с запада.
Аналогичный, но еще большей красоты подвиг был совершен русской армией в 1919 году на полях холодной Сибири. Полуодетая, наполовину растаявшая, еще более преданная беспечным и преступным тылом, наша армия была снова подобна затравленному льву. Так же отходила она, огрызаясь на каждом шагу и не помышляя ни о чем, кроме выполнения своего долга. И так же с надеждой смотрела на запад, где теперь армии генерала Деникина были на пути к Москве. Рвались к ней. И ждали дня, когда святыни Кремля будут очищены от нечисти интернационала.
Глава 4 Предательство тыла
1
Со светлым ликом и ясными очами шел своим земным путем наш Господь; красота подвига слилась с силой духа; миру была явлена совершенная гармония, соединение начала Божественного с человеческим. В то время учение правды, любви и высшей справедливости достигло своего апогея. Но именно тогда-то, когда победа добра над злом казалась неминуемой и скорой, – в это время совершилась самая низкая за всю историю человечества подлость, – Иуда Искариотский продал и предал Светлого Учителя… Крадучись и пряча в складках одежды темное лицо свое, пробиралась закоулками и задворками согнутая фигура к врагам Богочеловека. Торопливый воровской шепот, быстрый обмен косыми колючими взглядами, подлый звон отсчитываемого серебра, цены крови. И затем эта ужасная сцена в Гефсиманском саду. С одной стороны стоит на коленях и молится Отцу Христос, плачущий кровавыми слезами, но готовый на все жертвы для искупления мира, с другой – приближается предатель Иуда, идущий впереди вооруженной толпы, готовой по его знаку взять Иисуса. «Кого поцелую, того и берите. Это – Он», – исходит от него шепот, как свист ядовитой змеи.
И совершилась величайшая подлость на земле.
Подстроила ее и провела в жизнь кучка людей, сборище книжников и мудрецов древнего Сиона; они сумели найти среди ближайших учеников Христа низкого предателя, завистника… А массы народные, так жадно внимавшие словам Святого Учителя на горе, так бурно-восторженно кричавшие Ему: «Радуйся, Царь Иудейский», ходившие за Ним огромными толпами, – эти массы, со свойственной толпе легкостью перемен в настроении, кричали теперь: «Распни, распни Его!» И даже ближайшие ученики, допущенные к общению с Божественным, просмотрели опасность, растерялись, проспали ее.
Все это было давно, на заре культуры человеческого духа. Все это так же старо, как стар наш христианский мир.
Но вот в наши дни, в дни современности, проходит перед миром подобная же картина. Предан на распятие целый народ, великая христианская страна. Гибель ее предрешена была кучкой интернационалистов, иуды нашлись среди ее же сынов; а толпа, человечество, безмолвствовала или невольно помогала преступникам.
Гефсиманский сад России был 1917 год. Голгофа ее длится и до сей поры.
Но придет и воскресение. Так же неожиданно, таинственно и сияюще.
И встанет Россия из гроба.
Вера в это живет не только среди нас, русских, но среди всей лучшей части человечества…
В то время, когда белые русские армии, эти полчища новых крестоносцев, напрягали все усилия, несли в жертву кровь и жизнь, чтоб победить интернационал, вырвать из хищных когтей его Родину и христианскую культуру, – в это же время происходило новое иудино дело, творилось новое предательство.
И заметьте, – Иудой Искариотским руководила только зависть и выросшая из нее темная подлая ненависть, – так и социалистами, всеми, начиная от их мессии Карла Маркса, двигает только это чувство. Зависть к чужому успеху, к сытой жизни других, к чужим способностям и талантам; их безграничная зависть переходит также в дьявольскую ненависть. Завистью и ненавистью пропитано все учение социализма, – а дела их показали себя на морях крови и страданиях распятой ими России.
В двух первых главах мы коснулись слегка, обрисовали общими чертами тот комплот, который был задуман эсерами. Когда они, эти младшие братья социалистов-большевиков, увидали русский народ идущим по пути национального возрождения вокруг своих народных вождей, то они поняли, что власти интернационала грозит гибель и безвозвратный конец. Тогда они, стоявшие под народными знаменами, боровшиеся против большевиков, решили соединиться с ними на защиту общих им идеалов социализма против национального движения народных масс.
Но все эти социалисты различных толков и оттенков не могли и не смели выступить открыто, врагами. Они избрали путь скрытый, путь измены. Они повторили дело Иуды и дали России поцелуй предателя.
Притворяясь друзьями народа и вождей его, крича громко на весь мир о борьбе против большевиков, они в то же время сговаривались с ними, как лучше и вернее погубить дело восставшей России. Правительство адмирала Колчака настолько доверчиво относилось к ним, что допустило даже в состав кабинета министров партийных работников социализма; оно оказывало содействие кооперативам, захваченным к тому времени эсерами. Под покровительством иностранной интервенции, пользуясь незлобивой русской слабостью, социал-революционеры покрыли все пространство от района военных действий до океана сетью своих агентов, внедряя их для тлетворной работы не только в городах, но в селах и в деревнях. Всюду они вели скрытую, тайную пропаганду против правительства, используя для этого каждый его промах, каждую ошибку. Имея связь с Москвой, они получали оттуда деньги, агитаторов и инструкции.
Не только открытый предатель В. Чернов, но даже такие идеологи-народники, как Авксентьев, оказывались в связи с большевицкой Москвой, действующими по строгой указке интернационального центра, этого современного синедриона.
Скоро начали проявляться первые результаты этой предательской работы. В нескольких местах, в глубоком тылу, вспыхнули восстания против власти адмирала Колчака. Главные очаги были: Тайшет и Мариинск, районы Красноярско-Минусинский, Нерченско-Сретенский и в Приморской области – Сучанские копи.
Крестьянская масса, ненавидящая интернационал всей силой, на какую способен простой, неиспорченный народ, была, к несчастью, заброшена Омским министерством внутренних дел; она получала в то время все сведения о событиях только от социалистов (через сеть кооперативов) и начинялась самыми извращенными, лживыми известиями. Надо припомнить к тому же, что в это время и министрами председателем и внутренних дел были партийные социалисты. Из недели в неделю шла пропаганда и агитация, развращая темные массы и направляя их против собственной армии и против народных вождей.
Не пренебрегали никакими способами, чтобы зажечь пожар восстаний. Наиболее яркий пример в этом отношении представляет их организация в Красноярско-Минусинском районе.
Полноводная, богатая рыбой и золотом, река Енисей течет между скалистыми горами, часто сдавленная ими с обеих сторон. В таких ущельях вода кипит и бьется о камни. Даже в самую холодную пору, в крещенские морозы, не замерзает здесь стремнина реки. Но вот горы раздвигаются, образуя широкую долину, подходят к Красноярску и кончаются. Дальше на много сотен верст тянется великая Сибирская равнина, покрытая местами лесом. По этой равнине, от Красноярска и выше, Енисей несет воды свои спокойно и величаво, затопляя весной огромные пространства. Здесь богатейшие пастбища, сенокосы, это один из самых хлебородных в России уездов – Минусинский. Население его сплошь зажиточные крестьяне – староселы, живущие патриархальным укладом, очень религиозные и в высшей степени преданные идее царской власти, а с нею и властям законным.
И вот здесь разгорается восстание против адмирала Колчака; начинается дело с небольших шаек, состоявших главным образом из пришлого элемента, но к осени 1919 года дело принимает огромные и организованные размеры. Сформирован целый корпус из одиннадцати полков, введена правильная организация, создан штаб во главе с бывшим штабс-капитаном Щетинкиным. Минусинцы, крестьяне, давали не только людей для этого корпуса, они поставляли хлеб, мясо, одежду. Был даже открыт завод для снаряжения ружейных патронов и для приготовления пик, сабель и секир. Правительственные отряды и енисейские казаки не могли подавить восстания и занимали оборонительные линии, чтобы прикрыть с юга Красноярск и железную дорогу, единственную коммуникацию армии.
В чем было дело? Какая тайная причина создала и поддерживала успех интернационалистов-большевиков среди этого монархического, патриархального, крестьянского населения?
Загадка разъяснилась просто. Контрразведка армии доставила в мой штаб ряд подлинных приказов и воззваний штабс-капитана Щетинкина. В них он писал:
«Пора кончить с разрушителями России, с Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского.
Надо всем встать на защиту поруганной святой Руси и русского народа.
Во Владивосток приехал уже великий князь Николай Николаевич, который и взял на себя всю власть над русским народом. Я получил от него приказ, присланный с генералом, чтобы поднять народ против Колчака.
…Ленин и Троцкий в Москве подчинились великому князю Николаю Николаевичу и назначены его министрами…
…Призываю всех православных людей к оружию.
За царя и советскую власть!»
Все восстания направлялись и шли одним путем, применялась одна и та же общая программа. Приезжали из советского центра, из Москвы, агитаторы, снабженные большими суммами денег. Скрываясь в эсеровских организациях, они находили у них поддержку и начинали вести тайно пропаганду. В то же время они организовывали из преступников и отбросов населения небольшие банды с целью нападения и разрушения железной дороги. Сжигали небольшие деревянные мосты, портили путь, устраивали крушения. Целыми десятками спускали под откос поезда, причем главная охота их была за поездами, везшими из Владивостока оружие, боевые припасы и снаряжение для армии.
Для поимки этих разбойников направлялись отряды наши или из чехословаков. Но трудно поймать их в беспредельных и густых, почти непроходимых дебрях сибирской тайги. Надо было вести систематическую и долгую кампанию, на что никто из иностранцев (а дорогу охраняли они) не имел охоты. Через несколько дней шайка выходила в другом месте, снова портила путь и устраивала крушение. Тогда, в попытках положить этому конец, неумелые руководители борьбы с этими бандами применяли самый легкий и несправедливый способ: возлагали ответственность за порчу железной дороги на местное население. Производились экзекуции деревень и целых волостей. Уже после конца борьбы на фронте, когда остатки нашей армии шли на восток, приходилось видеть несколько больших сел, сожженных этими отрядами почти дотла в наказание за непоимку разбойников-большевиков, производивших крушения на перегоне станции Тайшет – Клюквенная. Огромные, растянувшиеся на несколько верст села представляли сплошные развалины с торчащими кое-где обуглившимися, полусгорелыми домами. Крестьянское население таких сел разбредалось и было обречено на нищету, голод и смерть.
Понятно, такие меры только озлобляли население и давали опору и развитие большевицкой и эсеровской деятельности, усиливая их преступную пропаганду.
«Видите, – писали они, – видите, русские крестьяне, что такое Колчак и как он относится к народу. Он с шайкой капиталистов всего мира наняли чехов, чтобы жечь русские села и избивать русских крестьян. Все за оружие, все в ряды Красной армии против мировой буржуазии…»
И, как у всех адептов социализма, это новое воззвание заканчивалось крылатым лозунгом Карла Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
А в то же самое время те же люди, правильнее – отбросы человечества, вели разрушительную работу среди чехов, этих quasi-славянских войск, сформированных из военнопленных, взятых русской армией в Галиции и Польше; их развращали всячески, доводя до состояния людей, больных большевицким умопомешательством. Эту часть работы взяли на себя целиком социал-революционеры.
Бедное русское крестьянство было окончательно сбито с толку. Не знало, кому верить, за кем идти. Ненавидящие социалистов-большевиков, пошедшие так охотно под знамена Белой гвардии против красного интернационала, крестьяне были поставлены этими жестокими и неумелыми действиями между молотом и наковальней. И заметьте: чехи, отряды которых главным образом-то сжигали русские деревни, были всецело под влиянием и в услугах у эсеров, кричавших всегда о «демократии» и «демократичности». Почти все репрессии и экзекуции производились по скрытой указке этих социалистов, чтобы разжечь пожар восстаний в тылу Белой русской армии. Это только и нужно было социалистам, это была их главная цель, – в средствах же стесняться они не привыкли. В лагере устроителей нового рая на земле это проводилось последовательно в жизнь десятками лет. Насколько этот способ разжигания взаимной ненависти был ими излюблен, можно видеть из того, что один из самых крупных деятелей русской социалистической мысли, Михайловский, проповедовал еще в 1880 году «не протестовать против кнута и розог во имя лучшего социалистического будущего»…
Получалась ужасная картина. Русские народные массы, крестьяне и рабочие со своими офицерами и вождями вели беспощадную борьбу на фронте. А в тылу те же крестьяне и рабочие под влиянием большевицкой агитации, эсеровского предательства и неумелых действий местных властей восставали и становились против той же армии и против правительства адмирала Колчака.
Все больше и больше раздувалось пламя этого костра. Восстания редко где были подавлены целиком. Наоборот, появлялись новые районы, банды организовывались в полки, дивизии и корпуса. Вооруженная борьба с ними требовала все большего числа войск, в которых так нуждался боевой фронт, напрягавший героические усилия для окончательной победы русской народной и национальной идеи над кровавым враждебным интернационалом.
В этих условиях борьба становилась почти невозможной. Причины этого лежали, понятно, глубоко в самой системе организации антибольшевицкого движения. Моря крови были пролиты и великая жертва была принесена – впустую, вследствие основной ошибки: не хотели признать социалистов-революционеров врагами народа, такими же, как большевики-коммунисты.
Не хватало прямоты действий, не было напряжения воли. Сила национальная недостаточно концентрировалась и кристаллизовалась. Огромный белый тыл в Сибири клубился вредными ядовитыми газами политиканства с одной стороны и бессилия в деле – с другой. Не только не могли добиться полного напряжения, – все для фронта, для войны, для победы, не имели и тени диктатуры, а допустив в свой стан врагов, успокоились на бумажном перепроизводстве, погрязнув в тихом и медленном отбывании номера.
К сожалению, у наших противников, у большевиков, было не так. Воля из Москвы, жестокая и упрямая воля, управляемая определенным желанием еврейского центра, заставила работать всех в Советской России, вызвала настоящее напряжение и сумела держать это напряжение все время на должной высоте. Там работали не спустя рукава, не для отбывания номера и знали, что за плохую работу, недостаточные результаты – расправа сейчас же; разговоры там короткие – смерть без суда. Полковник Котонин, перебежавший к нам из Красной армии с одиннадцатью офицерами под Челябинском, подробно обрисовал положение в советском тылу.
– У них работа идет не так, как у вас, – говорил он, – там не считают часов, кипит дело и если нужно, то все заняты по восемнадцать часов в сутки. Жиды-коммунисты следят не только за совестью и политическими убеждениями, но и за выполнением каждым его обязанностей. Чуть заметна в ком лень или халатность, – сейчас на сцену выступает обвинение в политическом саботаже и… расстрел. И знают все, от генерала до машиниста, что шутить не будут.
С целью разбудить нашу тыловую публику полковник Котонин прочел лекцию в Омске в городском театре (по поручению верховного правителя); на лекции произошел характерный инцидент. Котонин рисовал правдивую картину советского тыла, – он будил чувства белых и призывал их к такой же работе, какую несут слуги Ленина и Бронштейна, к такой же отчетливости, добросовестности и энергии… Вдруг раздаются голоса из партера:
– Как вам не стыдно хвалить их! А еще офицер!
– Довольно…
– Поезжайте тогда обратно к большевикам…
И с галерки одинокий крик:
– Правильно, товарищ, продолжайте.
Так поняли представители тыловых наслоений искренний и честный призыв Котонина, этого одного из лучших русских офицеров. На того это так подействовало вместе со всем пережитым за последние годы, что он слег больной и не мог уже оправиться. Болезнь унесла его в могилу. Моя армия лишилась в нем хорошего начальника дивизии, – на что Котонин был мною предназначен.
2
Можно спорить и сомневаться во многом, но одно несомненно и ясно: успокоение страны будет достигнуто лишь при наличии трех факторов: твердой власти, жизненной организационной работы правительства и самого живого участия в ней народных масс. Последний фактор является наиболее существенным и важным, ибо это, и только это обеспечит закрепление порядка, принятие целесообразных реформ, возрождение разрушенной жизни.
Это сознавалось многими уже в то время, в самый разгар Гражданской войны. И надо отметить, что народные массы в течение всего периода не только сочувствовали новой власти, борьбе ее и стремлениям возродить страну, но сам народ добровольно нес всевозможные жертвы, давал сотни тысяч своих сыновей в армию, платил подати и налоги. И так естественно было бы использовать этот подъем народный, так просто и легко было бы наладить порядок, чтобы не было таких уродливых явлений, как восстания в тылу, нападения на железную дорогу, существование разбойничьих шаек…
Необходимо было организовать народные массы и привлечь их лучшие слои к работе на местах, образовав сельскую полицию, сельские продовольственные органы, потребительские общества, органы по распределению и сбору налогов и податей, представителей власти по проведению мобилизации, местные осведомительные бюро, сельские суды и т. д. Необходимо было сплотить сельское население около лучшей его части. И без сомнения, здесь не только не место боязни, не должно быть и сомнений, так как вся борьба велась ведь за жизнь народа и страны, велась самим народом и для народа. Следовательно, народные массы не могли не оказать правительству могучую поддержку, которая обеспечила бы в полной мере успех армии.
К сожалению, ничего этого сделано не было. Почему? Были две главные причины. С одной стороны, бюрократические и нежизненные центральные аппараты министерств не знали, что и как надо сделать в этой области, некоторые к тому же боялись – из-за того же незнания – народной массы и не умели подойти к ней. Задавшись обширными и громоздкими программами во всероссийском великодержавном масштабе, создавали на бумаге проекты их будущего выполнения и наряду с тем не делали маленького незаметного повседневного дела, необходимого для рядового обывателя, для семьи, для массы населения. Долго ждало оно, спокойное и безропотное, движения живой воды и не дождалось.
С другой стороны, социалисты всех толков, а главным образом эсеры, всеми способами препятствовали какому-либо проявлению такой работы. Они не допускали или всячески тормозили проведение в жизнь каких-либо мер по организации населения сел и городов. Им невыгодно было это, – как и самое дело восставшего народа под русским национальным знаменем. Ибо они знали, что народные массы не пойдут за ними, не будут вторично ломать своей жизни в угоду их книжным, искусственным теориям.
Один крестьянин-тоболяк, испытавший всю прелесть большевизма сначала в 1918 году и месяц теперь, пока мы не заняли их местности снова, так выразил своим простым языком мысль о социалистах, – вывод, сделанный его здоровым умом:
– Был у нас царь, было начальство, и жили мы, – Бога благодарили, все имели, а если чего и не хватало, то надежду всякий питал: коли есть голова да руки, то и для себя и для детей заработаешь. Был порядок, был и закон и справедливость. Теперь у нас комиссары-большевики, начальства есть много, ну а остального ничего нет – ни пищи, ни одежды, ни порядка, ни закона, ни справедливости. Можно сказать, не живет теперь народ, а только глядит, как бы не умереть. Да и то не знаешь, будешь ли жив от комиссара завтра. Да и надежды на лучшее при них никакой, прямо охота работать пропадает.
– Ну а при Керенском как было? Что скажешь об эсерах?
Крестьянин задумался, затем лицо его осветилось добродушной улыбкой, блеснули умные серые глаза.
– А так я скажу тебе, барин: бывает лето с плодами Господними, бывает зима с морозом, стужами, буранами. А между ними слякоть, распутица никчемная. Так нам и социалист, такая слякоть и Керенский был. Ни богу свечка ни черту кочерга…
Нежелание и неумение организовать жизнь страны, главным образом сельского населения, проходило всюду, по всем отраслям многоэтажных омских министерств. И если принять во внимание, что в состав кабинета министров входили и социалисты, а во главе его стоял до самого последнего времени vieux drapeau, старый социалист Вологодский, то нетрудно понять, какие помехи встречали все попытки и начинания в проведении организации сельского и городского населения.
Один из наиболее ярких, цельных и больших русских людей из всех, которых мне пришлось встречать за мою разнообразную жизнь, – это святитель русской церкви, архиепископ А. Он происходит от старинного благородного корня старого русского дворянства; он ушел в монастырь, посвятил себя чистому служению Богу и всего себя отдал на службу и работу человечеству. Этот пастырь являл всегда пример высокой личной жизни и горел любовью к своим ближним; взгляд архиепископа А. на церковь глубоко проникнут истинно христианским отношением. Его отправная точка, что религия должна быть руководящим стимулом моральной жизни, но не только схоластически, – она должна направлять жизнь личную, семейную и общественную соответственно учению Христа, этой высшей нравственности. А поэтому церковь есть не только убежище для души или хранилище религии, ее таинств и обрядов, но она есть и должна быть главным средством, чтобы помочь людям устроить их жизнь лучше.
Архиепископ А. еще до мировой войны проводил этот свой взгляд в жизнь и выполнял большую работу по организации церковных приходов в своей епархии. С большими трудностями, зачастую неправильно понимаемый, не имея достаточного числа хороших помощников, он шел к своей цели. И достиг многого. Он сумел сплотить около церкви людей разных положений, взглядов и даже политических убеждений своей проповедью истинной любви, своей неуклонной борьбой против ненависти. Он вызвал к жизни и деятельности лучшие силы в массах своей паствы. Отчасти потому-то так могуче и полно местные крестьяне откликнулись на борьбу за возрождение России, оттого-то так разумны и сдержанны были рабочие всех заводов этого района и самого города. Влияние святителя А. распространилось даже на мусульман, на татарское и башкирское население; муллы шли к нему за советом и проводили в своих селах его организацию – приход около мечети.
Теперь, когда революция сломала и разрушила нашу жизнь, исковеркала ее прежние условия, когда велась борьба за восстановление ее, – архиепископ А. весь обратился в порыв и еще больше отдался своей высокой миссии.
Его идея была простая и великая. Его доводы были неотразимы и взяты из самой жизни. Он говорил: «Чем сильны большевики, чем они держатся? Во-первых, твердая, ни перед чем не останавливающаяся власть. Во-вторых, и это главное, они сумели организовать всюду, в городах и селах, худшие, самые преступные элементы народа. Масса же, всегда инертная и неорганизованная, невольно подпадает в подчинение, идет в поводу этих разных Советов и комитетов бедноты. Раз мы собираемся строить разрушенную жизнь, нам необходимо идти тем же путем, но надо организовать народ у другого полюса, вокруг лучших людей каждого села и города, вокруг самых честных, нравственных и трудолюбивых. И ходить далеко не надо; таких русских людей много, всюду они есть, в каждом церковном приходе. Дайте только возможность».
Архиепископ А. много раз и настойчиво обращался в Омск, и в министерства, и в высшее церковное управление, и к самому адмиралу Колчаку, со своим планом организации на всем пространстве Восточной России приходов, но встречал отказ, а подчас даже преследования. И это невзирая на то, что сам верховный правитель относился к нему с глубоким почтением.
Так почти до самого конца и не удалось этому крупному русскому деятелю и патриоту найти применения своих сил.
Вот выдержки из писем ко мне архиепископа А., писанных в ноябре 1919 года:
«Ваше войско Неклютин (министр снабжения) оставил без снабжения, и войско победоносно настроенное принуждено было поэтому подвергнуться бедствиям отступления. Но у нас во всех областях имеются свои Неклютины, для дела решительно вредные, или своею бездеятельностью, или своею бездарною партийностью.
В церковной области таков господин П., ничего не сделавший для церкви. Между тем у него в руках был весь аппарат для организации народной жизни на церковных началах».
В другом письме архиепископ пишет: «Теперь сорганизованы только злые, разрушительные элементы Руси, – нужно же кому-нибудь заняться организацией элементов патриотических».
Вот выдержка из третьего письма: «Я начал вторично объезд частей вверенной вам армии. Ваше превосходительство, и я с радостью могу сказать, что ни вы, ни я – не ошиблись: солдатам нравится мысль об устроении православного прихода и об устроении около приходского самоуправления всей русской национальной жизни».
Так и канули в вечность все попытки дать русскому народу возможность сплотиться, сорганизовать свою национальную силу и устроить свою страну. Канули потому, что центральная власть не только не поддержала, но ставила препятствия. Бездарная партийность одних да злонамеренная работа социалистов погубили и на этот раз эти начинания.
А в то же время социалисты получали всевозможную поддержку в своих темных делах. Они-то поняли хорошо, что вся сила и успех задуманного ими плана лежит в организованности; но они не могли бы никогда провести эту организованность сами, в чистом виде, так как их идеология совершенно безжизненна и чужда русскому народу; она может только разрушать, никогда ничего не созидая. Поэтому эсеры в Сибири присосались к чужому телу и на нем повели свою работу.
Так на здоровый и сильный ствол могучей столетней липы пристает грибок паразита. Сначала в одном месте появится опухоль, вздуется кора и вырастет большой рыхлый нарост, имеющий вид, по внешности, части самой липы. Затем вредные споры паразита перекидываются по всем ветвям, по стволу и даже по корням дерева. И всюду вырастают уродливые опухоли-наросты. Липа останавливается в росте, чахнет и если не найдет достаточно сил в соках своих, чтобы перебороть разрушительную работу паразитов, то гибнет сама.
Эсеры присосались крепко к такому естественно-народному, нужному и выгодному делу, как кооперация. Об этом было вскользь сказано в предыдущих главах. Чтобы дополнить картину, надо посмотреть на условия внутренней торговли, как они стояли к тому времени. Еще война сильно повредила нормальные аппараты частной торговли; две революции, Февральская и Октябрьская, разрушили их совершенно. Население испытывало страшную нужду и терпело лишения. На этой почве талантливым, но вредоносным еврейским народцем было заложено начало спекуляции, и распустилась она пышным махровым цветком. Тогда для борьбы с нуждой и дороговизной начали образовываться, как естественный выход, общества потребителей, старая русская форма, или, как их называли по-новому, – кооперативы. Цель их была: во-первых, дать по низкой цене все необходимые товары широким массам населения; во-вторых, устроить возможность сбыта продуктов производства того же населения по наивыгоднейшим ценам; в-третьих, имелась в виду борьба со спекуляцией, которая с каждым днем углубления революции принимала все более уродливые формы. Естественно, что население стало сорганизовываться, потребительские общества-кооперативы росли.
Насколько эта организация была жизненна, показывает то, что вначале русские люди, образовавшие ее, не хотели втягиваться в политику, поставили себя и свое дело вне ее.
И вот в то же время попали сюда, на здоровый ствол этого могучего дерева, вредные поры паразита. На заре русской «бескровной» революции словоговорильные эсеры проникли всюду и затопили своими речами страну. Их словам тогда многие простые люди по наивности верили, ибо не знали дел их. Среди социалистов, как известно всем, свыше трех четвертей иудеев или их приспешников, отличающихся типичными свойствами всякого зловредного паразита: полная неспособность к животворной работе, наглое, быстрое распространение, приспособляемость ко всякой обстановке и безмерная живучесть, – раз эта гадость вошла в организм, нелегко ее выгнать. В числе других сторон народной жизни социалисты захватили и кооперативы.
Сначала они стали на общий путь с массой потребителей, заявив, что кооперация вне политики. Но в своей среде и в своих центрах они работали только для политики, для политики разрушения и ненависти, составляя и разрабатывая план, как лучше использовать для этого и кооперацию. А когда дело потребительных обществ развилось и управилось, социалисты же укрепили в них свои позиции, и, как и всюду за эти лихие годы, на верху почти всех кооперативов оказались юркие жидки, – тогда была выдвинута в открытую на первое место политическая деятельность. Так было летом и осенью 1917 года; определенно сказалось это уже к Московскому государственному совещанию. Когда разрушительная работа была паразитами выполнена, то большевики выгнали эсеров отовсюду, закрыли они и кооперативно-политическую кухню их. Антибольшевистские вожди и организации, к несчастью, этого сделать не удосужились. Причины почему обрисованы достаточно в предыдущих главах. Вследствие этого весь аппарат кооперации в Сибири, ее центры – ствол, и все филиальные отделения – ветви, все дерево было захвачено социалистами. Шла двойная работа: население стремилось развить деятельность потребительских обществ, чтобы возродить торговлю, чтобы помочь возрождению страны; эсеры направили усилия к параличу этого, – они всюду насаждали своих политических агентов, сводили все нити кооперации в своих центрах, во Владивостоке и за границей; они широко и последовательно вели пропаганду против правительства адмирала Колчака и против армии, и, как всегда и везде, эта пропаганда их была отравлена ядом клеветы, лжи, преувеличений и искажений. Работа их и здесь была тайная и скрытая. Как работа двенадцатого Господнего апостола Иуды, когда он подготавливал предательство и Голгофу.
В то же время эсеры, благодаря своим людям, стоявшим у центральной власти, могли не только пустить пыль в глаза простодушному, усталому обывателю, но и притупить внимание масс, затемнить свои изменнические махинации, – они получали огромные средства, им отпускались из казны многомиллионные суммы, им давались не в очередь большие наряды на перевозки по железной дороге, льготный провоз; благодаря этому и в заграничных кругах вырастало и увеличивалось впечатление о их значении и фактической силе.
Кто станет спорить, что кооперация в чистом виде необходима в жизни государства, особенно в России, где частная инициатива всегда отставала от требований жизни. Потребительские кооперативы всегда поощрялись в России и всегда существовали раньше, в период расцвета России при царях. Кооперативы же промышленные только нарождались, причем исключительно по инициативе прежнего правительства сделана была громадная работа в устройстве и развитии целой сети элеваторов для ссыпки хлеба: этим вопрос самой главной хлебной торговли выводился из области частной спекуляции и недобросовестности, все хлебопашцы от крупных и до самых мелких при осуществлении правительственного проекта получили бы возможность продажи предметов производства без посредников.
И не будь великого бедствия войны и страшного несчастия «великой, бескровной» революции, русская хлебная торговля была бы свободна от цепких лап злейшего паука-эксплуататора, от еврейского посредника-спекулянта.
В будущем, несомненно, кооперации и кооперативам принадлежит выдающаяся роль в русской жизни. Но надо помнить, во что обратили этот полезный инструмент в Сибири политиканствующие шулера, партия социалистов-революционеров. Надо помнить и на будущее время уберечь русскую жизнь от этих могильных червей.
Подводя итог сказанному, видим: уйдя в подполье, социалисты-революционеры вели неустанно работу: захваты аппаратов власти и проникновение в армию, постановка всяких препятствий здоровой организации жизни страны, обращение в средство для своих целей кооперации, пропаганда против армии и правительства, пожар частных восстаний и подготовка общего предательского удара всему Белому движению. И в то же время они притворялись друзьями народа, армии, правительства и даже самого адмирала Колчака.
Чтобы докончить этот краткий очерк деятельности этих иуд России, ниже приводятся выдержки из их главного современного печатного органа «Воля России», издающегося в Праге. Вот что пишет в номере 75 от 10 декабря 1920 года Василий Сухомлин, представитель Центрального комитета партии эсеров за границей, в его открытом письме Бурцеву, говоря о тактике всей этой партии: «Нет никаких оснований предполагать, чтобы позиция партии изменилась после падения барона Врангеля, против которого партия боролась так же, как и против Колчака и Деникина. Прага, 9 декабря».
А в номере 79 той же газеты от 15 декабря 1920 года приведен еще более официальный документ, в котором вся партия социалистов-революционеров признается в своем иудином деле, открыто заявляет о предательстве народных армий и дела. Это письмо и резолюция, принятые на конференции, происходившей 1–8 октября 1920 года в Москве.
«13. Только замена диктатуры партии коммунистов народовластием (то есть властью эсеров. – К. С.) сможет вовлечь трудовые массы в работу по созданию нового социального порядка и послужить исходной точкой для восстановления производительных сил страны».
14… «Демократия (опять читай – эсеры. – К. С.), как господство большинства, не только не может быть препятствием для осуществления социализма, но является единственной политической формой, гарантирующей успех социалистического переустройства».
16… «Ныне, учитывая, что быстрая ликвидация Деникина и Колчака, не столько сраженных Красной армией, сколько обессиленных народными восстаниями в тылу… конференция признает наиболее целесообразной формой борьбы с контрреволюцией метод восстания изнутри, с успехом применявшийся сибирскими организациями партии эсеров в деле ликвидации Колчаковского режима».
Комментарии излишни…
3
Прежде чем перейти к дальнейшему хронологическому описанию событий осени 1919 года, необходимо остановить внимание и посмотреть, в каких условиях была в то время железная дорога, этот один из важнейших факторов жизни страны и армии.
В Омске было Министерство путей сообщения с очень энергичным, способным и жизненно-практичным человеком во главе, инженером Уструговым. Отсюда шло управление дорогами, регулировка их службы и наилучшего использования. И надо отдать полную справедливость, что это министерство стремилось выйти из рутины и бюрократических нагромождений, старалось дать максимум работы и пользы.
Однако обстановка и препятствия были настолько велики, что министр Устругов и его подчиненные буквально изнемогали от бесплодных подчас усилий. С самого начала создалось несколько факторов, которые разбивали все их старания, вводили импровизацию, нарушали стройность.
Во-первых, – и это было вполне естественно, – железные дороги на театре военных действий подчинялись командующим армиями, которым здесь принадлежало главное решающее слово. С этим министерство мирилось, так как видело в большинстве работу армейских железных дорог направленной к лучшей пользе. Кроме того, прифронтовая полоса не могла влиять сильно на жизнь страны. Гораздо важнее была магистраль от Владивостока до Омска. И вот здесь-то создалась главная помеха; почти с самого начала был образован из представителей всех «союзных» держав железнодорожный комитет, который взял на себя, явочным порядком, регулировку вопросов эксплуатации дороги и движения на всем участке от Омска до Владивостока. Главная роль в нем принадлежала американским и английским инженерам, и, хотя зачастую русские интересы, даже интересы фронта приносились в жертву различным интернациональным целям, которыми была пропитана вся интервенция, – русскому министру путей сообщения приходилось подчиняться.
Дело в том, что Сибирь не располагала ни одним заводом для постройки паровозов, вагонов и запасных частей. Все это, заказанное и сплоченное в большинстве еще императорским правительством в Соединенных Штатах и в Канаде, теперь было обещано доставить и передать правительству адмирала Колчака; частью это было и выполнено. Но при каких каждый раз обстоятельствах?!
Припомним, как выдавалось военное снабжение, доставленное широким английским жестом на армию в 200 тысяч человек. Как всегда и систематически оказывалось при этом давление на верховного правителя, на его политику, как проглядывало желание давить даже на стратегические планы армий, как искусно и скрыто оказывалась этими «союзными благодетелями» поддержка эсерам. В области железнодорожной помощи все это приняло еще большие и уродливые размеры. Во Владивосток прибыло большое количество запасных частей, осей и колес, несколько паровозов; весь этот ценный груз союзные страны давали России, давали за ее жертвы кровью сынов ее и… за русское золото. Давали союзные страны, а их официальные представители требовали взамен почти полного себе подчинения, становились выше не только министра путей сообщения, но даже выше номинального диктатора. Понятно, это мешало работе, сильно затрудняло ее, а «союзникам» давало возможность проводить меры для своих, не всегда чистых целей.
На этой же почве, наши бывшие военнопленные, составившие теперь, в 1919 году, «союзные» полки чехословацкие, польские, румынские и итальянские, захватили в свои руки огромное количество подвижного состава; так, за тремя чешскими дивизиями числилось свыше 20 тысяч вагонов. Польская дивизия, сформированная французской миссией генерала Жанена, также из бывших наших военнопленных, захватила свыше 5 тысяч вагонов; были собственные поезда у румын и итальянцев.
Никакие силы не могли заставить этих «интервентов» вернуть вагоны и паровозы. Железнодорожной администрации приходилось принимать факт этого ограбления и изворачиваться ограниченным запасом подвижного состава, который остался в фактическом распоряжении русского министра путей сообщения.
Затем все интервенты-союзники, приезжая в Сибирь, чтобы спасать бедную разоренную Россию, быстро входили во вкус; у всех их руководителей были собственные поезда, составленные из лучших вагонов, с кухнями, ванными, электричеством. Поезда Жанена, Нокса, Павлу, разных «высоких комиссаров» (которые, увы, сыграли на руку невысоким советским комиссарам) поражали своей роскошью, незнакомой и недопустимой даже в их богатых странах. Дошли до такого нахальства, что распоряжение и распределение всеми салон-вагонами взял на себя штаб французского генерала Жанена, выдававший их почти исключительно иностранцам. Опять-таки, справедливость требует сказать, что японцы вели себя и здесь всех скромнее, достойнее, – и только они, представители Страны восходящего солнца, не имели в бедной России роскошных поездов.
Сибирская магистраль тянется на тысячи верст, проходит глухой тайгой или беспредельными степями. Большевики и эсеры, объединив свои силы, направили все внимание на эту важнейшую артерию, питавшую армию и страну, обеспечивавшую вывоз сырья из богатых губерний Сибири. И вот те шайки, которые были собраны социалистами, организовали планомерную кампанию нападений на железную дорогу.
Нападения производились на наиболее трудные участки ее, с сильными закруглениями пути или с предельными подъемами и спусками. В таких местах банды разбойников разбирали путь, портили рельсы и стрелки, иногда взрывали мосты. Для этого ими выбиралось время, когда шли из Владивостока поезда с военным снабжением или направлялись ценные грузы. Глухой ночью совершалось покушение, поезд спускался под откос, разбивались вагоны; банда производила грабеж.
Временами доходило до того, что мы прекращали ночное движение, пуская поезда только днем. Можно себе представить, какое затруднение в транспорте создавалось благодаря всему этому. Но отвлекать наши русские войска на службу обороны Сибирской магистрали было нельзя, и без того боевой фронт наш задыхался в неустанной борьбе из-за недостатка подкреплений с тылу.
Поэтому пришлось прибегнуть к милости интервентов, которые в своем междусоюзническом комитете (или Совдепе, как его называли даже некоторые английские офицеры) решили разделить железную дорогу на участки и поручить охране иностранных войск. От Владивостока до Читы – японцы, около Байкальского озера, небольшой участок, – американцы, далее немного – румыны, центр Иркутск – Омск – Томск – чехи, Алтайская железная дорога – 5-я польская дивизия.
Казалось бы, – самая естественная вещь. Раз пришли помогать, если называются союзниками да вдобавок еще едят русский сибирский хлеб, то какие тут могут быть разговоры. Становись на работу и выполняй ее честно и исправно по наряду русской власти.
Так должно было бы быть при нормальном порядке. Так было бы, если бы мы, русские войска, пришли помогать кому-либо из союзников в их стране. Так и бывало не один раз, когда русскими боками спасали «союзников». Но здесь, в Сибири, опять-таки проявились с одной стороны наша русская стародавняя привычка взирать на иностранца снизу вверх, чуть не с подобострастной улыбкой, а с другой – их обычная самоуверенность и напыщенное самодовольство, чтобы не сказать более резкого слова.
Почти все иностранцы, взявшие на себя охрану Сибирской железной дороги, смотрели на это как на величайшее одолжение, как на благодеяние, которое они делают бедным русским; они исполняли только приказы своего «междусоюзнического комитета», не считались совершенно с русской властью и железнодорожной администрацией. При этом, в оправдание, приводилась все та же фарисейская увертка – «невмешательство в русские внутренние дела».
Самая служба охраны железной дороги неслась так. Начинают учащаться случаи нападения банд на железную дорогу, происходят покушения на отдельных интервентов, охраняющих данный участок. Тогда они решают действовать; усиливаются караулы, ловят нескольких разбойников, вешают их, отгоняют банды в тайгу и на этом успокаиваются. Когда им предлагалось довести дело до конца, преследовать банду и уничтожить ее с корнем, получался ответ:
– Это не наше дело!
Случалось, что такой способ не давал результатов, нападения на дорогу и иностранную охрану не прекращались. Тогда интервенты, особенно чехословаки и польская дивизия, устраивали карательную экспедицию. На опасном участке сжигались два-три богатых сибирских села, за их будто бы отказ выдать преступников-бандитов.
Это вызывало страшное озлобление мирного, ни в чем не повинного населения, сыновья которого сражались за русское национальное дело в рядах Белой армии. И естественно, что это озлобление переносилось, отражалось рикошетом на Центральном правительстве адмирала Колчака, на русских властях. Таково было положение на железной дороге в то время, когда роль ее выдвигалась на первое место, вследствие того, что новая неудача на фронте начала превращаться в катастрофу.
В самый нужный момент, когда необходимо было дать сверхсильное напряжение, чтобы в западном направлении подать армиям помощь снабжением и силами, а в обратном направлении – на восток, вести планомерную и безостановочную работу эвакуации, оказалось, что русская власть бессильна использовать свою железную дорогу. А вдобавок к этому тыловые органы, загроможденные бюрократическим бумажным строем и зараженные эсеровской тлей, упорно и беззастенчиво, приводя самые ребяческие отговорки и отписки, тянули время и занимались тем, что копили военное снаряжение в глубоких тыловых складах.
И армия, проявившая чудеса героизма и предел напряжения сил, добившаяся блестящей победы, была предана – она не получила ни пополнений, ни одежды, ни теплых вещей. А между тем наступала уже суровая сибирская зима.
Вот один из документов, телеграмма командующего Оренбургской армией.
«1 Ноября 1919 г. Кокчетав.
Могу ли рассчитывать и когда на присылку теплой одежды, винтовок. Нужно на первое время 10 000 комплектов полушубков, валенок, шапок, теплого белья, рукавиц, брюк, особенно последних. Армия голая. Степной край не имеет дров, даже крыши не дают тепла. Тиф усиливается. Винтовок нужно на первое время 5000. Началась мобилизация уездов, для них нужно 7 тысяч теплого и винтовок. Прошу вашего ответа. № 542. Генерал-лейтенант Дутов».
И таких телеграмм получались десятки. Эти донесения поступали изо дня в день начиная с середины августа. Но, на русское горе, они оставались без ответа, без результата. И добро, если бы не было в тылу запасов, а то ведь в Красноярске, Томске, Иркутске были полные склады.
Совершалось еще более вопиющее. Когда тыл, его бюрократические органы увидели, что дело нешуточное, что на фронте положение принимает действительно катастрофические размеры, грозящие и их существованию, то там всколыхнулись и стали спешно собирать пополнения, грузить теплую одежду и обувь, направляя эшелон за эшелоном в действующую армию.
Все это принимало вид нерешительных, спешных и судорожных мер. Наши части были в непрерывном движении. Отступление протекало планомерно, с постоянными, ежедневными боями, чтобы парализовать новые стремления красного командования перерезать в тылу железную дорогу. В то же время шла напряженная работа по эвакуации раненых и больных, военных грузов и железнодорожного имущества. Шел непрерывный поток с запада в восточном направлении; поезда с пополнением и снабжением, врезываясь вне всякой системы навстречу этому потоку, простаивали неделями на станциях, не могли добраться до фронта или запаздывали и только мешали. Иное было бы две недели назад, когда все железные дороги были свободны, армия стояла на Тоболе, система транспорта и этапные линии были хорошо налажены. Естественно, что настроение в войсках падало все больше и больше. Вот другой жизненный документ, крик армии – донесение командующего конной группой: «За последнее время все указывает на сильный упадок духа солдат вследствие все уменьшающегося численного состава частей и отсутствия пополнений. Волнуются и недоумевают, почему до сих пор ни один полк не пополнен, когда в некоторых ротах осталось около десяти человек. Такое положение создает благодарную почву для всякой пропаганды и агитации, чем, несомненно, воспользуется наш противник, хорошо осведомленный о том, что делается в наших войсках. Красные уже разбрасывают прокламации, призывающие наших солдат окончить войну, перебив своих офицеров и выдав красным адмирала Колчака, в свою очередь обещая перебить своих комиссаров и выдать нашим солдатам Ленина и Троцкого. Подобные прокламации, попадая в руки солдат, не могут не оказать влияния на менее сознательный элемент… Далее, в связи с наступившей холодной и сырой погодой и необходимостью часто ночевать в лесу под открытым небом, развивается недовольство солдат отсутствием теплой одежды; солдатами указывается, что в тылу все одеты и во все теплое… Мы рискуем потерять и оставшийся кадр ранее доблестно сражавшихся частей. 25 октября 1919 года. Генерал Волков. № 2642».
Ропот среди армии все усиливался. Тяжелое отступление полураздетых частей продолжалось без надежды остановить его, чтобы дать красным сильный отпор и снова перейти в наступление. Вместе с тем развилась до небывалых пределов и пропаганда в тылу. В результате всего падала самая вера в успех дела, исчезала надежда на скорую конечную победу, терялся смысл дальнейших жертв.
В такой обстановке тыл начал теперь спешно подавать на фронт пополнения. Густыми массами шли маршевые роты, безо всякой системы, с нарушением самых примитивных требований порядка: так зачастую поезда с пополнением простаивали сутками на станциях или разъездах, не получая ни пищи, ни кипятка для чая; люди волновались, верили самым вздорным слухам, легко поддавались обману и агитации. Наконец эти голодные и распропагандированные маршевые роты высаживали и передавали ближайшему строевому начальнику.
Вначале пробовали их вливать в полки, которые таяли с каждым днем, пробовали и горько раскаивались, ибо произошли массовые предательства. Только что прибывшее пополнение, получив приказ идти в наступление, выбегало, подняв вверх винтовки, обращенные прикладами в небо, передавалось на сторону красных и открывало огонь по своим. Почти все офицеры в таких полках гибли…
Пал Петропавловск. Армии неудержимо катились на восток. Омск, где оставались до сих пор и верховный правитель, и все министерства, был уже под угрозой с фронта и с севера, от Тобольска. И не только под угрозой – Омск был уже обреченным, так как спасти его могло только чудо; человеческие усилия были не в состоянии этого сделать в той обстановке, которая создалась к этому времени.
Нельзя выразить той горечи, какая охватила всех нас на фронте, всю армию. Сделанный ею подвиг, одержанная на Тоболе победа, сознание близкого и окончательного разгрома красных – все пошло прахом… И не было надежды на новое улучшение, на перемену…
4 ноября меня вызвал в Омск телеграммой адмирал Колчак. Когда на следующий день утром я подъезжал к его особняку, меня обогнал автомобиль Главковостока генерала Дитерихса. Адъютант верховного правителя просил подождать в приемной.
Большая комната с длинным столом, покрытым малиновым сукном, с высокими стульями, расставленными кругом, по-казенному; стол, за которым обыкновенно происходили заседания Совета министров. Два больших венецианских окна выходили на Иртыш. Могучая, величавая река катила свои мутные воды, а за ней расстилалась бесконечная Сибирская равнина. Весной она зеленела и блестела молодыми всходами, обещая светлое будущее, как бы укрепляя надежду на наше возрождение к осени. Теперь, когда наступила эта осень, прошли месяцы упорной кровопролитной борьбы, когда было достигнуто многое и мы подошли почти к полной победе, – все начало рушиться. Какая-то темная сила сводила на нет великие жертвы, труды и усилия.
Мрачно становилось на душе. Преступным представлялось то, что сделали с армией, с этими сотнями тысяч лучших русских людей, беззаветно шедших на смерть, чтобы добиться жизни для своей страны. Невольно мысль возвращалась к тем минутам, когда в этом же зале адмирал напутствовал меня в армию последними словами: «Идите на боевое дело, о тыле не беспокойтесь, я сам справлюсь с ним…»
У стены, сзади большого стола, стояла синяя горка, вся уставленная блюдами, солонками, папками с адресами, подношениями разных городов, заводов и общественных организаций из местностей, освобожденных от большевиков. Так знаменательны и полны веры были надписи на них; какими жалкими и беспомощными, оставленными выглядели они теперь…
Разговор в кабинете верховного правителя становился, видимо, все горячее, временами доносился его голос, доходящий до крика. Прошло минут сорок. Раздался звонок, пробежал через залу адъютант и вернулся с докладом, что адмирал просит меня войти.
4
Верховный правитель и генерал Дитерихс сидели за столом, один против другого, с лицами выражавшими большие переживания, причем впервые за все время я видел в глазах адмирала такую сильную усталость, доходившую почти до отчаяния. Поздоровавшись, он попросил меня сесть и сделать подробный доклад о состоянии армии, о причинах неудач, о возможных видах на будущее.
Мой доклад был краткий, основанный на фактических и цифровых данных, отчет того, что сделала армия, что она готова была сделать для Родины и что сделала с армией преступная бездеятельность тыла. Армия дала высшее напряжение и победу; полуодетая, плохо снабженная наша армия гнала красных на сотни верст, и, если бы ее поддержали хоть немного, она рассеяла бы дивизии большевиков, отбросила бы их за Уральские горы. И тогда путь на Москву был бы чист, тогда весь народ пришел бы к нам и открыто стал под знамя адмирала. Большевики и прочая социалистическая нечисть были бы уничтожены светлым гневом народных масс – с корнем.
Но, как будто нарочно, тыл не присылал ни одного вагона теплой одежды, ни пополнений, ни офицеров, даже хлеб и фураж доставлялись в армию нерегулярно, несмотря на большие запасы и обильный урожай, бывший в Сибири в том году.
Полки и батареи тают. Большинство лучших офицеров и солдат выбито. Армия отступает, как лев, отбиваясь на каждом шагу; ни одна пушка, ни один пулемет не брошены врагу. Но за что люди гибнут? Что в будущем?
Вера в успех при настоящих условиях исчезает. Предательство, выразившееся в том, что правительство мирволило социалистам-революционерам, которые развалили тыл, погубило все дело и свело на нет все, сделанное армией, великий подвиг ее.
– К сожалению, в армии, начиная от стрелка и кончая ее командующим, нет теперь веры, что настоящее правительство способно исправить положение. Армия не верит ему…
Меня перебил генерал Дитерихс вопросом:
– Говоря о правительстве, вы подразумеваете верховного правителя и Совет министров или разделяете их?
– Армия по-прежнему предана верховному правителю, никто не сомневается, что не он виноват в том, что сделал тыл. Я говорил только о Совете министров, который и до сих пор имеет в своем составе социалистов.
– Значит, вы считаете, что верховный правитель должен остаться во главе?
– Более того, я считаю, что всякая перемена в командном составе, а тем более в Верховном командовании была бы гибельна для дела…
Адмирал глубоко вздохнул, тяжело повернулся в кресле и сказал, обращаясь ко мне, повышенным и дрожащим голосом:
– А его превосходительство генерал Дитерихс отказывается быть главнокомандующим и просил меня уволить его в отпуск.
Я всего ожидал, но не этого. В такую минуту, когда требовалось напряжение всех и каждого, этот пример дал бы самые плачевные результаты.
– Что вы думаете? – спросил меня адмирал Колчак.
– Разрешите говорить откровенно: когда стрелок покидает свой пост в цепи, его предают военно-полевому суду и расстреливают; то же самое, если офицер оставит свою роту, батарею или полк. Я считаю, что и главнокомандующий одинаково ответствен и не имеет права в трудную минуту покинуть свой высокий пост.
Адмирал волновался, видимо, все больше и начал объяснять причины, почему он считал себя обязанным согласиться на просьбу главнокомандующего. Оказалось, что генерал Дитерихс отдал приказ о выводе в тыл всей 1-й армии генерала Пепеляева, причем перевозка ее по железной дороге уже началась; этим обнажался весь правый фланг боевого фронта.
– В то время, когда я хочу все усилия бросить на защиту Омска, я считаю вывод армии Пепеляева безумным делом. Вопрос об уходе генерала Дитерихса мною уже решен, – закончил адмирал Колчак разговор, отпустив нас обоих.
Через час я был позван снова. Адмирал задал мне вопрос, кого я посоветовал бы ему назначить главнокомандующим. Трудно было ответить на это; я доложил мое мнение, что один из наиболее дельных помощников его был начальник штаба генерал Лебедев, которого и следовало бы вернуть на место. Верховный правитель соглашался с этим, но заявил, что не считает это возможным, что благодаря интригам имя генерала Лебедева очень непопулярно в общественности.
– Да, генерал Лебедев был всегда открытым противником социалистов всех партий, почему им и надо было убрать его. Но это не причина…
Адмирал Колчак обратился ко мне:
– А вы согласились бы занять пост главнокомандующего?
Я решительно отказался, ссылаясь на то, что я связан с 3-й армией, что мне дороги и эта связь и самое дело, с которым я справляюсь.
Адмирал настаивал. Вечером он вызвал меня третий раз и заявил, что не может прийти к другому решению и приказывает мне принять пост главнокомандующего Восточным фронтом. Это он повторил и перед малым Советом министров, собранным в тот же вечер в его доме для обсуждения тогдашнего чрезвычайно трудного и сложного положения.
Мне приходилось подчиниться приказу. Нерадостные, черные были перспективы.
Армия неудержимо катилась на восток. Эвакуация была затруднена до невозможности, так как до самого последнего времени не было предпринято никаких шагов для вывоза огромнейших военных складов в Омске – наоборот, до конца октября все прибывали новые транспорты с различными снабжениями. Надо было собирать и эвакуировать огромные министерства, спасать раненых, больных и семьи военных.
Вдобавок ко всем трудностям прибавилась еще одна: в 1919/20 году зима была исключительно теплая, сравнительно с обычной сибирской; в первой половине ноября морозы все время колебались между двумя-тремя градусами тепла и пятью мороза. По Иртышу шла шуга (мелкий лед), это лишало возможности не только навести мосты, но даже устроить паромные переправы. Наши армии надвигались к Иртышу и становились перед неразрешимой задачей, как совершить переправу через эту огромную реку. Какой-либо маневр под Омском был совершенно невозможен.
И в то же время армия все более и более таяла, оставшись одетой по-летнему. А в тылу были накоплены колоссальные запасы, такие, что их не могла бы использовать вдвое большая, чем наша, армия!
На заседании Совета министров я повторил мой доклад, обратил внимание на все эти трудноисправимые минусы, вызвавшие полнейший крах осенней операции, и предупредил, что на защиту Омска рассчитывать нельзя, что, может быть, удастся собрать резерв к востоку от Иртыша и там дать красным генеральное сражение.
Спасти общее наше положение было тогда еще возможно; понятно, не удержанием Омска, что являлось задачей невыполнимой, да и не самой важной; все силы надо было направить к двум главнейшим целям: спасти кадры армии и удержать ими фронт в дефиле примерно на линии Мариинска; в то же время сильными, действительными мерами, не считаясь ни с чем, надо было очистить тыл и привести его в порядок. Изгнать преступную бюрократическую бездеятельность и волокиту, совершенно искоренить возможность дальнейшего предательства социалистами; объявить партию эсеров противогосударственной, врагами народа; наладить жизнь населения в самых простейших и необходимейших ее формах и обратить усилия всех и всего для боевого фронта. Работать зиму не покладая рук, и тогда к весне можно было рассчитывать на новое успешное наступление, особенно когда население Западной и Средней Сибири узнало бы на своих спинах всю прелесть большевизма.
Вот была общая программа, которая стояла передо мной и которая была набросана перед Советом министров; это был единственный шанс на успех. При этом выдвигалось необходимым установление фактически военного управления вплоть до Тихого океана, вынесение нового лозунга – движение для возрождения России по ее историческому пути с принятием правого курса политики внутри страны, а вместе с тем и направление внешней политики только в интересах дела возрождения России, вплоть до заключения, если понадобится, секретных договоров со странами, действительно дружески действующими по отношению к нашему Отечеству.
С другой стороны, настоятельно необходимо было отказаться раз и навсегда от угодничества перед теми иностранцами, которые вели в Сибири политику «бельэтажа интернационала», оказывали поддержку эсерам, заставляли наше правительство плясать под их дудку, вредили национальному воскресению России.
Тяжелый был момент, но выход виделся, хотя и загроможденный гигантскими препятствиями, осложненными сверхчеловеческими трудностями, но все же выход прямой, вытекающий из сил и средств, которыми мы располагали.
Только это одно, лишь сознание долга идти и вести к этому выходу заставили меня принять обязанность главнокомандующего и взвалить себе на плечи огромную, сверхсильную ношу. В тот же день, когда я приехал в Омск, а генерал Дитерихс уезжал отдельным поездом во Владивосток, мне ясно представилось, как в случае не только неудачи, а временных неуспехов будут со всех сторон выдвигаться все новые и новые препятствия и врагами будут пущены в ход все средства. Особенно ввиду того, что проведение основного плана в его целом возможно было лишь при твердом, систематическом курсе, при суровых, а подчас и жестоких мерах. Как же иначе было бороться и желать победить еврейскую беспощадную диктатуру над русским народом, правящую под фирмой «большевиков-коммунистов».
Генерал А. Н. Пепеляев
Адмирал Колчак просил сделать все возможное, чтобы попытаться спасти Омск, и сейчас же отдал приказ о возвращении 1-й Сибирской армии на фронт. Когда на другой день по прибытии в эту сибирскую столицу я приехал вечером в особняк верховного правителя для обсуждения плана действий, в кабинете адмирала я застал командующего 1-й армией, генерала Пепеляева. В первый раз я видел этого печального героя контрреволюции. Широкий в плечах, выше среднего роста, с круглым, простым лицом, упрямыми серыми глазами, смотревшими без особо яркой мысли из-под низкого лба; коротко стриженные волосы, грубый, низкий, сдавленный голос и умышленно неряшливая одежда – вот облик этого офицера, который был природой предназначен командовать батальоном, в лучшем случае полком, но которого каприз судьбы и опека социалистов выдвинули на одно из первых мест.
Адмирал встретил меня словами:
– Вот, генерал Пепеляев убеждает не останавливать его армию, дать ей возможность сосредоточиться по железной дороге в тылу.
Я отвечал, что это невозможно, так как железная дорога нужна для эвакуации, а армия генерала Пепеляева необходима для операций на фронте. Генерал получит приказ и инструкции сегодня же вечером в моем штабе.
Пепеляев поднялся во весь рост, посмотрел в упор из-под нависшего сморщенного складками лба на адмирала.
– Вы мне верите, ваше высокопревосходительство? – спросил он каким-то надломленным голосом.
– Верю, но в чем же дело?
Пепеляев тогда перекрестился на стоявший в углу образ, резко и отрывисто, ударяя себя в грудь и плечи.
– Так вот вам крестное знамение, что это невозможно: если мои войска остановить теперь, то они взбунтуются.
Около двух часов шел спор. Пепеляев пускал все способы не доводов и убеждения, а прямо устрашения. В конце концов адмирал махнул рукой и согласился не останавливать армии Пепеляева, а направить ее в районы, указанные еще генералом Дитерихсом, то есть в города Томск, Новониколаевск и на восток до Иркутска.
Этим решением выводилось из строя не менее четверти бойцов, правый фланг обнажался и на две остальные армии возлагалась задача непосильная.
Я доложил верховному правителю, что не могу при таком отношении к приказу оставаться главнокомандующим, и снова настаивал на возвращении меня в 3-ю армию. Адмирал, усталый и подавленный тем страшным бременем, которое он нес уже целый год, начал уговаривать меня и просил остаться, чтобы вместе выполнить общими усилиями главный план зимней работы.
Целый ряд сумбурных дней, полных неизвестности, полных работы среди каких-то диких невозможностей. Армия каждый день приближалась верст на пятнадцать – двадцать. Опасность росла, а эвакуация затруднялась все сильнее. А тут надо было отправлять все иностранные, союзнические миссии, хотя бы главнейшие аппараты министерств. Иртыш не становился, продолжался ледоход. Предстояло, видимо, повернуть армию, не доходя до Иртыша, на юг, с целью отвести ее затем в Алтайский район. Я сделал приготовления, чтобы ехать в армию и быть при ней. Адмирал колебался, то решая ехать со мной, то склоняясь на поездку в Иркутск, куда переезжал Совет министров и главнейшие аппараты управления. Кроме того, все время стоял трудный вопрос с золотым запасом, которого было 28 вагонов, полной нагрузки, то есть 28 тысяч пудов.
Наконец 10 ноября хватил мороз. Иртыш стал. Лед крепнул. Переправа для войск была обеспечена. Было решено закончить спешно эвакуацию, уничтожить все военные запасы в Омске и отводить армии на восток; собрать резервы на линии города Татарска или если не успеем, то на линии Томск – Новониколаевск, чтобы там дать сражение всеми силами, включая и армию генерала Пепеляева.
Войска наши не разлагались, нет, они только безумно устали, изверились и ослабли. Поэтому отход их на восток делался все быстрее, почти безостановочным.
Пять литерных поездов, составлявших личный штаб верховного правителя (один из них был с золотым запасом), выехали из Омска 13 ноября; я дождался приезда командующих армиями генералов Каппеля и Войцеховского и 14 ноября, после совещания с ними, выехал из Омска с моим штабом.
А 15 ноября утром красные с севера обошли бывшую столицу Сибирского правительства, и наши войска принуждены были оставить линию реки Иртыша. Омск пал…
На десятки верст слышались оглушительные взрывы, которыми уничтожали многотысячные омские запасы снарядов, патронов и пороха. Красные получили огромную добычу и заняли столицу. Перехваченные их радио торжествовали полную победу.
5
Но это было не так. Перед нами лежал ряд задач, которые нужно было выполнить, и тогда положение было бы спасено. Борьба за Россию была бы доведена до конца, до нашей победы.
Фактически армия теперь сошла на задачу прикрытия эвакуации – сплошной ленты поездов, вывозящих на восток раненых и больных, семьи офицеров и солдат, а также те запасы, военные и продовольственные, которые удавалось погрузить.
Армия свелась, в сущности, к целому ряду небольших отрядов, которые все еще были в порядке и в управлении, так как состояли они из отборного, лучшего в мире элемента. Сохранилась организация. Но дух сильно упал. До того, что проявлялись даже случаи невыполнения боевого приказа. На этой почве командующий 2-й армией генерал Войцеховский принужден был лично застрелить из револьвера командира корпуса генерала Гривина, который наотрез отказался подчиниться боевому приказу задержать корпус и дать красным отпор, а заявил, что он поведет свои полки прямо в Иркутск, к месту их первоначального формирования; на предложение Войцеховского сдать командование корпусом Гривин ответил также отказом.
По пути, от Омска до Татарска, была сделана социалистами попытка крушения поезда с золотом, но охрана оказалась надежной и не дала злоумышленникам расхитить государственную казну. Министр путей сообщения Устругов руководил эвакуацией, находясь все время на самых тяжелых участках. Главная трудность заключалась в том, что не хватало на все эшелоны паровозов. Поезда простаивали по несколько суток на небольших станциях и разъездах, среди безлюдной сибирской степи, занесенной снегом. Без воды, без пищи и без топлива, зачастую замерзая.
С каждым днем положение ухудшалось, так как число эвакуируемых эшелонов постепенно все возрастало; вскоре железнодорожный вопрос принял размеры катастрофы. Дело в том, что чехословаков, это главное воинство интервенции в Сибири, охватила паника и они произвели в тылу страшное дело.
Расквартированы чехи были так: первая дивизия на участке Иркутск – Красноярск, вторая дивизия – в Томске, а третья занимала Красноярск и города западнее его, до Новониколаевска. 5-я польская дивизия имела главную квартиру в Новониколаевске и располагалась на юг до Барнаула и Бийска. Поляки, благодаря своему доблестному начальнику дивизии полковнику Румше (бывшему русскому офицеру), решили драться против большевиков совместно с нашей армией и просили вывезти по железной дороге только их госпитали, семьи и имущество (интендантура). Совсем иначе повели себя знаменитые чехословацкие легионы.
Как испуганное стадо, при первых известиях о неудачах на фронте бросились они на восток, чтобы удрать туда под прикрытием русской армии. Разнузданные солдаты их, доведенные Чехословацким комитетом и представителями Антанты почти до степени большевизма, силой отбирали паровозы у всех нечешских эшелонов, не останавливались ни перед чем.
В силу этого наиболее трудным участком железной дороги сделался узел станции Тайга, так как здесь выходила на магистраль томская ветка, по которой теперь двигалась самая худшая из трех чешских дивизий – 2-я. Ни один поезд не мог пройти восточнее станции Тайга; на восток же от нее двигались бесконечной лентой чешские эшелоны, увозящие не только откормленных на русских хлебах наших же военнопленных, но и награбленное ими, под покровительством Антанты, русское добро. Число чешских эшелонов было непомерно велико, – ведь на 50 тысяч чехов, как уже упоминалось выше, было захвачено ими более 20 тысяч русских вагонов.
Западнее станции Тайга образовалась железнодорожная пробка, которая с каждым днем увеличивалась. В то же время Красная армия, подбодренная успехами, продолжала наступление, а наши войска, сильно поредевшие и утомленные, не могли остановить большевиков. Отход Белой армии продолжался в среднем по 10 верст в сутки.
Из эшелонов, стоявших западнее Новониколаевска, раздавались мольбы, а затем понеслись вопли о помощи, о присылке паровозов. Помимо риска попасть в лапы красных вставала и угроза смерти от мороза и голода. Завывала свирепая сибирская пурга, усиливая и без того крепкий мороз. На маленьких разъездах и на перегонах между станциями стояли десятки эшелонов с ранеными и больными, с женщинами, детьми и стариками. И не могли двинуть их вперед, не было даже возможности подать им хотя бы про довольствие и топливо. Положение становилось поистине трагическим: тысячи страдальцев русских, обреченных на смерть, – а с другой стороны десятки тысяч здоровых откормленных чехов, стремящихся ценою жизни русских спасти свою шкуру.
Командир Чехословацкого корпуса Ян Сыровый уехал в Красноярск, их главнокомандующий, глава французской миссии, генерал-лейтенант Жанен сидел уже в Иркутске; на все телеграммы с требованием прекратить преступные безобразия чешского воинства оба они отвечали, что бессильны остановить «стихийное» движение. Вскоре Ян Сыровый принял вдобавок недопустимо наглый тон в его ответах, взваливая всю вину на русское правительство и командование, обвиняя их в «реакционности и недемократичности».
Генерал Я. Сыровый
Невольно возникает мысль о том, что многое здесь не являлось одной лишь случайностью, а было преднамеренным преступлением. Как уже указывалось в главе 1, руководители чехословаков снюхались с самого начала с эсерами, они поддержали учредиловцев, бесславный Комуч, спасли от офицерского суда «селянского министра» Виктора Чернова и принесли много другого вреда России. Политический же Чешский комитет провел большую работу также и в подпольной подготовке эсерами взрыва русского дела в Сибири. Есть полное основание предполагать, что все эти «доктора» Клофачи, Павлу, Герсы, Благоши и др. являлись даже одними из заправил эсеровского комплота в нашем тылу. Поэтому та разруха и ломка транспорта, которую внесли стада чешских легионеров, были, надо думать, одним из действий, проведенных по программе эсеров, этих верных союзников-товарищей большевиков. По крайней мере, факты говорят за то.
В эти дни ноября 1919 года наступило самое тяжелое время для русских людей и армии; все ее усилия и подвиги за весну, лето и осень 1919 года были сведены преступлениями тыла на нет. Заколебались уже и самые основания здания, именовавшегося Омским правительством. Выступила наружу тайная, темная сила, начали выходить из подполья деятели социалистического заговора. Сняли маски и те из них, которые до сей поры прикидывались друзьями России.
Среди последних оказались, кроме руководителей чехословацкого воинства, также в большинстве и представители наших «союзников». К концу ноября все это объединилось к востоку от Красноярска, образовало свой центр в Иркутске и начало переходить к открытым враждебным действиям, ожидая лишь удобного момента, чтобы ударить сзади и раздавить белое освободительное движение – совместно с большевиками, с их Красной армией, наступавшей с запада.
Мы были поставлены между двумя вражескими силами: с фронта большевики, с тыла родственные им эсеры со всей своей организацией, с чехословаками, с могучей поддержкой Антанты. И эта вторая опасность была значительно больше первой, она сильнее угрожала жизни России. Необходимо было все усилия обратить на ликвидацию эсеров, с корнем уничтожить заговор, образовавшийся в тылу.
В это время верховный правитель и штаб находились в Новониколаевске. Был намечен следующий план действий: армия будет медленно и планомерно, прикрывая эвакуацию, отходить в треугольник Томск – Тайга – Новониколаевск, где к середине декабря должны были сосредоточиться резервы; отсюда наша армия перейдет в наступление, чтобы сильным ударом отбросить силы большевиков на юг, отрезая их от железной дороги. В то же время предполагалось произвести основательную чистку тыла: секретными приказами был намечен одновременный арест и предание военно-полевому суду всех руководителей заговора в тылу, всех партийных эсеров в Томске, Красноярске, Иркутске и Владивостоке.
Были приняты резкие меры к привлечению всех здоровых офицеров и солдат в строй, для усиления фронта, а также для создания в тылу надежных воинских частей.
Чехам и их главарю Сыровому было заявлено, что если они не перестанут мешаться в русские дела и своевольничать, то русское командование готово идти на все, включительно до применения вооруженной силы. Одновременно командующему Забайкальским военным округом генералу атаману Семенову был послан шифрованной телеграммой приказ занять все тоннели на Кругобайкальской железной дороге, а в случае, если чехи не изменят своего беспардонного отношения, не прекратят безобразий, будут так же нагло рваться на восток и поддерживать эсеров, то приказывалось один из этих тоннелей взорвать. На такую крайнюю меру Верховный главнокомандующий пошел потому, что чаша терпения переполнилась: чехословацкие полки, пуская в ход оружие, продолжали отнимать все паровозы, задерживали все поезда; в своем стремлении удрать к Тихому океану они оставляли на страшные муки и смерть тысячи русских раненых, больных, женщин и детей. А Жанен и Ян Сыровый занимались легкими уговорами этого бесславного воинства развращенных, откормленных чешских легионеров и на все требования русских властей отвечали уклончивыми канцелярскими отписками.
Следующим важным мероприятием было возложение охраны на местах и мобилизационных функций на само население, главным образом на крестьянство, под руководством и наблюдением военных властей. Выяснилось совершенно определенно, что крестьяне Сибири, в большинстве своем, искренно желают оказать верховному правителю всякую поддержку, что они стоят непримиримо против большевиков и других социалистов, стремятся только к одному: не пустить к себе красных, уничтожить все шайки внутри областей, а затем вернуться к прежней русской спокойной жизни. Целый ряд депутаций из самых разнообразных углов Западной и Средней Сибири, от горожан, крестьян и инородцев, множество телеграмм выражали горячую решимость поддержать верховного правителя и армию. Крестьянская масса здесь была настроена не только в тон Белому движению, но еще определеннее, правее его официального курса: крестьяне ждали и верили, что будет открыто поднят настоящий национальный стяг, громко будет провозглашен исконный русский лозунг: «За веру, царя и Отечество».
Но теперь, когда силою непреодолимой логики событий подошли к правильному и единственному решению, обнаружилось, что слишком много было потеряно времени, – еще раз и так полно подтвердилась истина, что «потеря времени смерти невозвратной подобна есть».
Будь все эти меры проведены тремя-четырьмя месяцами раньше, когда мы были сильны на фронте, а вся вражеская нечисть не успела еще опериться и не сплотилась, – нам удалось бы сравнительно легко ликвидировать ее, русское национальное дело было бы спасено. К концу же ноября мы имели против себя уже окрепшую вражескую организацию, упорство и уверенность руководителей (семитов по преимуществу) эсеровско-союзнического комплота. Они сумели всюду втереться сами или впустить своих агентов, которых в то неустановившееся время они вербовали всюду.
В Новониколаевске население, богатое, старозаветное, чисто русское, образовало свой общественный комитет для руководства и усиления добровольческого движения; мне пришлось лично видеть их и говорить с ними, – все это были честные, скромные, искренние люди, любящие Россию больше всего и действительно желавшие принести ей пользу. Но именно скромные, а потому невольно отчасти и инертные. И вот к ним затесались, примазавшись к делу, а затем и захватывая его, несколько темных личностей, работавших на тот же заговор. Они носили к тому же личину национализма и скорби о России. Полужид-полуполяк Л., горбун, газетный корреспондент, на Германском фронте еще состоявший под подозрением в шпионаже, выгнанный генералом Деникиным из Добровольческой армии; рядом с ним Ж., священник без прихода, но зато проникнутый демократизмом и писавший в газетах либеральные статьи, присяжный поверенный В., оказавшийся на поверку тайным партийным эсером. И напускали же они туману! Так было почти во всем, по всему тылу.
Но, несмотря на это, белой русской национальной армии было бы вполне по силам справиться со стоявшей перед нею задачей, если бы эсеровская измена не свила гнезда и внутри нее. Как было указано в главах 2 и 3, дело началось с Гайды; социалисты-революционеры сумели обойти его, окружив тонкой интригой и обработав грубой лестью; они проникли в штаб Сибирской армии, а оттуда – в ее корпуса и дивизии. К несчастью, генерал Дитерихс, ставший во главе Сибирской армии, когда Гайда был выгнан, видимо, не понял всей опасности, не принял мер к искоренению заразы. А зараза эта по мере отступления развивалась все больше и охватывала не столько войсковые массы 1-й армии, сколько верхи ее командования, причем и сам командующий этой армией генерал А. Пепеляев попался в сети и тайно состоял в партии. Все назначения на командные должности были проведены им так, что ответственные, руководящие посты получали только свои люди.
Паутина плелась очень хитро, осторожно и почти неуловимо для постороннего глаза; пускались в ход самый беззастенчивый обман и ложные уверения. Так, А. Пепеляев, говоря с глазу на глаз со своими начальниками, уверял их дрожащим голосом, что сам он, по своим убеждениям, монархист.
Вторично главнокомандующий генерал Дитерихс не понял всей опасности или недооценил ее, когда он отдал приказ о вывозе 1-й Сибирской армии в тыл. Этим передавалась в руки эсеров русская вооруженная сила, в тылу нашей героической армии укреплялась вражеская цитадель.
Характерен из того времени и нравов такой эпизод. В Новониколаевск, при выводе 1-й Сибирской армии в тыл, была назначена гарнизоном Средне-Сибирская дивизия, во главе которой Пепеляев только что перед тем поставил молодого, очень храброго, но совершенно сбитого с толку и втянутого в политику двадцатишестилетнего полковника Ивакина. Когда я потребовал его к себе для доклада о состоянии дивизии, оказалось, что полковника в городе нет, еще не приехал. Через два дня – тоже нет; наконец после третьего приказа является, делает доклад, а затем просит разрешения говорить откровенно.
– В чем дело?
– Я оттого запоздал, ваше превосходительство, что в пути ко мне приехали земские деятели, привезли штатское платье и убеждали спасаться, – будто вы меня арестовать собираетесь…
– За что?
– Да они толком не объяснили, а много говорили, что вы недовольны 1-й Сибирской армией за то, что она эсерам сочувствует.
– А разве правда, что в вашей армии есть сочувствие эсерам?
– Так точно, иначе быть не может: наша армия Сибирская, а вся Сибирь – эсеры, – бойко, не задумываясь, отрапортовал этот полумальчик, начальник дивизии.
У меня в вагоне сидели мой помощник генерал Иванов-Ринов и начальник штаба, которые не могли удержаться от смеха – до того наивно и ребячески бессмысленно было заявление Ивакина. Рассмеялся и сам автор этого политического афоризма.
После разъяснения полковнику Ивакину всей преступности этой игры, того, для какой цели пускают социалисты такие провокационные выдумки, что они хотят сделать и их, офицеров, своими соучастниками в работе по разрушению и гибели России, – он уехал, дав слово, что больше никаких штатских в дивизию не пустит и все разговоры о политике прекратит.
Этот молодцеватый и храбрый русский офицер произвел впечатление полной искренности; казалось, что он ясно понял теперь ту бездну, куда влекли его политиканы-враги России, – понял, раскаялся и даже видимо возмутился их низкими интригами.
На другой день верховный правитель после оперативного доклада сказал мне недовольным голосом, что через приближенных людей до него дошли слухи, будто полковник Ивакин собирается в одну из ближайших ночей арестовать его и меня. Контрразведка штаба проверила настроение частей Средне-Сибирской дивизии, которое оказалось нормальным, здоровым от какой-либо эсеровщины; я доложил это адмиралу, как и мой разговор с Ивакиным. Видимо, была пущена в ход обычная для социалистов двойная игра: старались обе стороны убедить в опасности ареста – для каждой, чтобы вызвать его со стороны старшего начальника и иметь предлог для выступления войсковых частей. Не надо забывать, что в то время настроение всюду было сильно повышенное, – результат всех пережитых потрясений и неудач.
Адмирал потребовал к себе полковника Ивакина, около часу говорил с ним и лично выяснил вздорность всей этой истории.
Но, как показало дальнейшее, слухи все же имели основание, – работа и подготовка в этом направлении велись.
Очень жаль, что приходится останавливаться на ничтожных сравнительно обстоятельствах, происходивших на фоне тогдашнего титанического потрясения Восточной России. Но освещение этих фактов необходимо, ибо они устанавливают связь всего дальнейшего с теми основными положениями, которые были высказаны об эсеровско-чешском заговоре против Белой армии. Эти эпизоды и личности, проявлявшиеся осенью 1919 года, доказывали правильность диагноза болезни тыла, подтверждали выводы и укрепляли еще больше решимость в проведении мер по ликвидации гнезд заговорщиков. Русское национальное дело, русская армия и будущность нашего народа требовали быстрых и решительных мер. Бесконечно грустно, что слишком поздно взялись за их проведение.
На фронте усталые, измученные, одетые в рубища полки новых крестоносцев, сражавшиеся второй год за Русь и Крест Господень против интернационала и его пентаграммы, красной звезды. Тысячи верст боевого похода закалили части и сделали их стальными; бесконечные сражения, бои и стычки выработали в офицерах и солдатах величайшую выносливость, выковали храбрость.
Армия отступала, но она уже накопила опять в себе силы для нового перехода в наступление, для нового рассчитанного прыжка тигра. Весьма возможно, что на этот раз уже окончательного, победного. А по всему огромному дикому пространству Сибири, по вековой тайге ее, по диким горным хребтам, по беспредельным степям и лесам, вплоть до самого Тихого океана, шел в то же время сполох, скрытый еще, но не тайный уже; вышедшие из подполья темные силы, слуги той же пентаграммы, готовили сзади предательский удар.
Этот удар мы заметили, разгадали вражеские козни, и было еще время отразить его, а затем уничтожить с корнем гадину измены и предательства.
Ряд мер, о которых сказано выше, проводился срочно, в энергичной, напряженной работе. Дело начинало налаживаться, а вместе росла и уверенность, что мы переборем трудности, выполним план, спасем русское дело. Несмотря на то что положение было крайне критическое и так угрожающе выглядели признаки этого сполоха, выходы имелись. А главное – было много истинных сынов России, объединенных общим страстным желанием спасти Родину; и на их стороне были и симпатии, и силы масс народных. Была армия, сильная духом и немалая числом, имелось оружие и боевые припасы, да к тому же в русских руках были остатки накопленного веками государственного достояния, значительный золотой запас.
Вперед можно было смотреть бодро.
– Выгребем! – говорили часто мои помощники, когда совместно вырабатывали и проводили меры по ликвидации измены в тылу.
6
Теперь зимою, в конце ноября, настало время, когда на фоне сибирской жизни ярко выступили те пятна, зашевелились те злые гнезда эсеровщины, которые подготовлялись весною и летом и были скрыты почти ото всех глаз. Как волшебные тени, появились они вдруг, сразу. Сначала Владивосток, Иркутск, затем Красноярск и Томск. И то, что многим представлялось весною далекой злой опасностью, почти как несуществующий кошмар, стало выявляться наяву, вставать кровавым призраком новой гражданской войны в тылу.
Откуда был дан сигнал к восстаниям, пока покрыто неизвестностью. Но видимо, из Иркутска, где к этому времени сосредоточилось все тыловое: Совет министров, все иностранные миссии Антанты, политиканы Чехословацкого национального комитета и их высшее командование, а также масса дельцов разных политических толков, от кадетов и левее.
Первое восстание разразилось во Владивостоке. Гайда, герой былых побед и новых интриг, живший в отдельном вагоне, сформировал штаб, собрал банды чехов и русских портовых рабочих и 17 ноября поднял бунт, открытое вооруженное выступление. Сам Гайда появился в генеральской шинели, без погон, призывая всех к оружию за новый лозунг: «Довольно Гражданской войны! Хотим мира!»
Старое испытанное средство социалистов, примененное ими еще в 1917 году, перед позорным Брест-Литовским миром.
Но на другой же день около Гайды появились «товарищи», его оттерли на второй план, как лишь нужную им на время куклу; были выкинуты лозунги: «Вся власть Советам! Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика!»
На третий день бунт был усмирен учебной инструкторской ротой, прибывшей с Русского острова; банды рассеяны, а Гайда с его штабом арестован. Да и не представлялось трудным подавить это восстание, так как оно не встретило ни у кого поддержки, кроме чешского штаба да Владивостокской американской миссии; народные массы Владивостока были поголовно против бунтовщиков.
Адмирал Колчак послал телеграмму-приказ: судить всех изменников военно-полевым судом, причем в случае присуждения кого-либо из них к каторжным работам верховный правитель в этой же телеграмме повышал наказание всем – до расстрела.
К сожалению, командовавший тогда Приморским округом генерал Розанов проявил излишнюю, непонятную мягкость, приказа не исполнил и донес, что еще до получения телеграммы он должен был передать Гайду и других с ним арестованных чехам, вследствие требования союзных миссий.
Одновременно с Владивостоком зашевелился Иркутск. Там образовалась новая городская дума, в состав которой вошло на три четверти «избранного племени» – все махровые партийные работники. На первом же заседании этот вновь испеченный синедрион, вместо того чтобы заниматься городскими делами, потребовал смены министров, назначения ответственного кабинета, и заговорили о том же, что и Владивосток, – о прекращении Гражданской войны.
Но после подавления Владивостокского восстания иркутские дельцы стихли, снова спрятались в подполье. Командовавшему войсками, генералу Артемьеву, был послан приказ арестовать и предать военно-полевому суду всех эсеров и меньшевиков, членов этой городской думы. Неизвестно, по какой-то причине и этот приказ не был выполнен; впоследствии генерал Артемьев доносил, что преступники попрятались, а производить массовые обыски и аресты помешали опять-таки «союзные» миссии и чехи.
Совет министров проявил не только полную растерянность и бездеятельность, но во главе с социалистом Вологодским, этим vieux drapeau, готов был чуть ли не подчиниться Иркутской городской думе.
Верховный правитель тогда решил сменить Вологодского и назначил премьер-министром Пепеляева (Виктора), брата генерала, командовавшего 1-й Сибирской армией.
В связи с этими событиями и другими признаками созревшей в тылу измены, – было собрано в Новониколаевске, в вагоне адмирала, несколько совещаний. Искали лучшего плана, наиболее выполнимого и обеспеченного решения. Выхода намечалось два.
Первый – выполнение намеченной военной операции в районе Томск – Новониколаевск, предоставление чехословакам убраться из Сибири при условии фактического невмешательства в русские дела и сдачи русского казенного имущества, полное использование для этого Забайкалья и сил атамана Семенова при поддержке японцев; намеченная отправка золотого запаса в Читу под надежную охрану; затем планомерное, систематическое уничтожение эсеровской измены и подготовка в глубине Сибири сил для новой борьбы весной.
Второй – предоставить всю Сибирь самой себе: пусть испытает большевизм, переболеет им; пусть все «союзники» с их войсками, нашими бывшими военнопленными, тоже попробуют прелестей большевизма и уберутся из Сибири. Верховный правитель с армией уходит из Новониколаевска на юг, на Барнаул – Бийск, в богатый Алтайский край, где соединяется с отрядами атаманов Дутова и Анненкова и, базируясь в Китае и Монголии, выжидает следующей весны – для продолжения борьбы, для ее победного конца.
Адмирал Колчак отверг второй план совершенно и остановился на первом; но он категорически отказался отправить золото в Читу. Сказалась отрыжка прошлой ссоры, проявилось недоверие.
Было принято решение, что адмирал, а с ним и золотой запас останутся непосредственно при армии, не отделяясь от нее далеко. К несчастью, и это решение не было выдержано до конца, что и привело, как будет видно ниже, к самой трагической развязке.
Для более правильного и успешного проведения принятого плана, ввиду полной нежизненности бюрократической машины так называемых министерств, был обнародован верховным правителем указ, которым выше Совета министров ставилось верховное совещание, составленное под председательством верховного правителя из главнокомандующего, его помощников и трех министров: премьера, внутренних дел и финансов. Этим актом министерства должны были быть сведены к простым исполнительным канцеляриям, причем предполагалось сильно сократить их штаты.
Все это время я со своим штабом был занят разработкой и подготовкой новой операции, причем сосредоточение и выполнение ее было намечено на середину декабря.
Чтобы легче парализовать политические интриги генерала Пепеляева и его ближайших помощников, был заготовлен приказ о превращении 1-й Сибирской армии в неотдельный корпус с включением его во 2-ю армию генерала Войцеховского.
Придя к этим решениям и начав их осуществление, верховный правитель отдал приказание переместить его эшелоны и мой штаб в Красноярск.
7
8 декабря вечером поезд моего штаба после долгих задержек пришел на станцию Тайга, где с утра уже находились все пять литерных эшелонов верховного правителя. У семафора стоял броневой поезд 1-й Сибирской армии, к самой станции была стянута егерская бригада этой же армии, личный конвой генерала Пепеляева, и одна батарея. В вагоне адмирала находились целый день оба брата Пепеляевы – генерал, приехавший из Томска, и премьер-министр – из Иркутска.
Когда я пришел к верховному правителю с докладом всех подготовленных распоряжений по выполнению принятого плана, то нашел его крайне подавленным. Пепеляевы сидели за столом по сторонам адмирала. Это были два крепко сшитых, но плохо скроенных, плотных сибиряка; лица у обоих выражали смущение, глаза опущены вниз – сразу почувствовалось, что перед моим приходом велись какие-то неприятные разговоры. Поздоровавшись, я попросил у адмирала разрешение сделать доклад без посторонних; Пепеляевы насупились еще больше, но сразу же ушли. Верховный правитель внимательно, как всегда, выслушал доклад обо всех принятых мерах и начал подписывать заготовленные приказы и телеграммы; последним был приказ реорганизации 1-й Сибирской армии в неотдельный корпус.
Адмирал поморщился и начал уговаривать меня отложить эту меру, так как она может-де вызвать большое неудовольствие, даже волнения, а то и открытое выступление.
– Вот, – добавил он, – и то мне Пепеляевы уж говорили, что Сибирская армия в сильнейшей ажитации и они не могут гарантировать, что меня и вас не арестуют.
– Какая же это армия и какой же это командующий генерал, если он мог дойти до мысли говорить даже так и допустил до такого состояния свою армию! Тем более необходимо сократить его. И лучший путь превратить в неотдельный корпус и подчинить Войцеховскому.
Верховный правитель не соглашался. Тогда я поставил вопрос иначе и спросил, находит ли он возможным так ограничивать права главнокомандующего, не лишает ли он этим меня возможности осуществить тот план, который мною составлен, а адмиралом одобрен.
– А я не могу допустить генерала, который хотя и в скрытой форме, но грозит арестом верховному правителю и главнокомандующему, который развратил вверенные ему войска, – докладывал я, – иначе я не могу оставаться главнокомандующим.
Все это сильно меня переволновало, что, очевидно, было очень заметно, так как адмирал Колчак стал очень мягко уговаривать пойти на компромисс; здесь он, между прочим, сказал, что оба Пепеляева и так уже выставляли ему требование сменить меня, а назначить главнокомандующим опять генерала Дитерихса.
Я считал совершенно ненормальным и вредным подобное положение и доложил окончательно, что компромисса быть не может.
– Хорошо, – согласился адмирал, – только я предварительно утверждения этого приказа хочу обсудить его с Пепеляевыми. Это мое условие.
Через несколько минут оба брата были позваны адъютантом, и две массивные фигуры вошли, тяжело ступая, в салон-вагон.
Приказ о переформировании 1-й Сибирской армии в неотдельный корпус произвел ошеломляющее впечатление. Сначала Пепеляевы, видимо, растерялись, но затем генерал оправился и заговорил повышенным, срывающимся в тонкий крик голосом:
– Это невозможно, моя армия этого не допустит…
– Позвольте, – перебил я, – какая же это, с позволения сказать, армия, если она способна подумать о неисполнении приказа. То вы докладывали, что ваша армия взбунтуется, если ее заставят драться под Омском, теперь – новое дело.
– Думайте, что говорите, генерал Пепеляев, – обратился к нему резким тоном, перебив меня, адмирал. – Я призвал вас, чтобы объявить этот приказ и заранее устранить все недоговоренное, – главнокомандующий считает, что эта перемена вызывается жизненными требованиями, необходима для успеха плана и без этого не может нести ответственности. Я нахожу, что он прав.
Министр Пепеляев сидел, навалившись своей тучной фигурой на стол, насупившись, тяжело дышал, с легким даже сопением, и нервно перебирал короткими пальцами пухлых рук. Сквозь стекла очков просвечивали его мутные маленькие глаза, без яркого блеска, без выражения ясной мысли; за этой мутью чувствовалось, что глубоко в мозгу сидит какая-то задняя мысль, – засела так, что ее не вышибить ничем – ни доводами, ни логикой, ни самой силой жизни. После некоторого молчания министр Пепеляев начал говорить, медленно и тягуче, словно тяжело ворочая языком. Сущность его запутанной речи сводилась к тому, что он считает совершенно недопустимым такое отношение к 1-й Сибирской армии, что и так слишком много забрал власти главнокомандующий, что общественность вся недовольна за ее гонение…
– Так точно, – пробасил Пепеляев, – моя армия считает, что главнокомандующий идет против общественности и преследует ее…
– Что вы подразумеваете под общественностью? – спросил я его.
– Ну вот, хотя бы земство, кооперативы, Закупсбыт, Центросоюз, да и другие.
– То есть вы хотите сказать – эсеровские организации. Да, я считаю их вредными, врагами русского дела.
– Позвольте, это подлежит ведению министра внутренних дел, – обратился ко мне, глядя поверх очков, министр. – Разрешите, ваше высокопревосходительство, снова выразить мне, – заговорил он, грузно повернувшись на стуле к верховному правителю – то, что уже докладывал: вся общественность требует ухода с поста генерала Сахарова и замены его снова генералом Дитерихсом, а я, как ваш министр-председатель, поддерживаю это…
– Что вы скажете на это? – тихо спросил меня адмирал.
Я ответил, что не могу позволить, чтобы кто-либо, даже премьер-министр, вмешался в дела армии, что недопустима сама мысль о каких-либо давлениях со стороны так называемой общественности; вопрос же назначения главнокомандующего – дело исключительно верховного правителя, его выбора и доверия.
– Тогда, ваше высокопревосходительство, освободите меня от обязанности министра-председателя. Я не могу оставаться при этих условиях! – тяжело, с расстановкой, но резко проговорил старший Пепеляев.
Верховный правитель вспыхнул. Готова была произойти одна из тех гневных сцен, когда голос его гремел, усиливаясь до крика, и раздражение переходило границы; в такие минуты министры его не знали, куда деваться, и делались маленькими-маленькими, как провинившиеся школьники. Но через мгновение адмирал переборол себя. Лицо потемнело, потухли глаза, и он устало опустился на спинку дивана.
Прошло несколько минут тягостного молчания, после которого верховный правитель отпустил нас всех.
– Идите, господа! – сказал он утомленным и тихим голосом, – Я подумаю и приму решение. Ваше превосходительство! – обратился он, некоторой даже лаской смягчив голос. – Этот приказ подождите отдавать, о переформировании 1-й Сибирской армии, а остальные можно выпустить.
Через несколько часов было получено известие о вооруженном выступлении частей Сибирской армии в Новониколаевске. Там собралось губернское земское собрание фабрикации периода керенщины, состоявшее поэтому тоже из эсеров; вызвали они полковника Ивакина и совместно с ним выпустили воззвание о переходе полноты всей государственной власти к земству и о необходимости кончить Гражданскую войну.
Ивакин, не объяснив дела полкам, вывел их на улицу и отправился на вокзал арестовывать командующего 2-й армией генерала Войцеховского. Оцепили его поезд и готовились произвести самый арест, но в это время к станции подошел, узнавши о беспорядках, полк 5-й польской дивизии под командой ее начальника полковника Румши и предъявил требование прекратить эту авантюру, под угрозой открытия огня. Тогда Ивакин положил оружие, сдался. Офицеры и солдаты его полков, как оказалось, действительно не знали, на какое дело их ведет Ивакин; большинство из них думало, что он действует по приказу верховного правителя. Полковник Ивакин был арестован и предан военно-полевому суду.
На станции Тайга шли почти всю ночь переговоры из-за этого инцидента. Генералом Пепеляевым была выдвинута снова угроза бунта его армии, если Ивакин не будет освобожден, причем весь этот новониколаевский случай выставлялся им как самочинное действие войск. Через день полковник Ивакин пытался бежать из-под караула и был убит часовым. Ни одна часть 1-й Сибирской армии и не подумала выступать.
Адмирал Колчак обратился по прямому проводу к генералу Дитерихсу с предложением снова принять пост главнокомандующего. Ночью же верховный правитель передал мне, что Дитерихс поставил какие-то невозможные условия, почему он не находит допустимым дальнейшие разговоры с ним.
Затем той же ночью эшелоны верховного правителя были переведены на следующую станцию, чтобы не загромождать, как было сказано, путей станции Тайга. Наутро был назначен отход и моего поезда.
9 декабря (по старому стилю 26 ноября), как раз в праздник ордена Святого великомученика Георгия, который императорская Россия привыкла так чтить и отмечать в этот день славу своей армии, я был арестован Пепеляевыми на станции Тайга. Дело произошло так. Утром я приказал двигать поезд на следующую станцию, чтобы там выяснить окончательно все вопросы, потому что оставлять дальше армию в таком неопределенном состоянии было бы преступно. Мне доложили, что расчищают пути, отчего и произошла задержка, но что в 9 часов поезд отправится. Вместо этого около 9 часов утра ко мне в вагон вошел мой адъютант поручик Юхновский и доложил, что генерал Пепеляев просит разрешения прийти ко мне. Я передал, что буду ожидать 15 минут.
А через 10 минут были приведены егеря 1-й Сибирской армии, и мой поезд оказался окруженным густой цепью пепеляевских солдат с пулеметами, полк стоял в резерве у станции, там же выкатили на позицию батарею. Егеря моего конвоя и казаки, которых всех вместе в поезде было около полутораста человек, приготовились встретить пепеляевцев ручными гранатами и огнем, но комендант поезда лично предупредил новое кровопролитие, которое было бы очень тяжело по своим последствиям для армии и сыграло бы только на руку врагам России.
В вагон, где я находился, вошли три ближайших к Пепеляеву офицера, всклокоченные фигуры, так похожие на героев Февральской революции, с вытащенными револьверами, и один из них, насколько помню, полковник Жданов, заявил, что по приказанию премьер-министра Пепеляева я арестован.
– Прежде всего потрудитесь спрятать револьверы, так как ни бежать, ни вести с вами боя я не собираюсь.
Пепеляевские офицеры выполнили приказание, молча и несколько удивленно переглядываясь между собою.
– А теперь я сам пойду разговаривать с премьер-министром в сопровождении моего помощника генерала Иванова-Ринова и адъютанта. Вы можете также идти, если хотите, сзади.
Когда я вышел из вагона, чтобы объясниться с министром, и проходил мимо оригинальной воинской охраны, арестовывавшей своего главнокомандующего, то все солдаты и офицеры вытягивались и брали под козырек. Отмечаю этот факт, как доказывающий, что воинские части здесь были просто игрушкой в руках политиканствующего генерала и его брата-министра, а последние выполняли волю скрытого центра. Для меня было ясно уже и тогда, что я арестован по приказу эсеров.
Оба брата Пепеляевы сидели мрачно в грязном салон-вагоне командующего 1-й Сибирской армией, на столе, без скатерти, валялись окурки, был разлит чай, рассыпаны огрызки хлеба и ветчины; генерал сидел, развалясь, без пояса, в рубахе с расстегнутым воротом, и также с взлохмаченной шевелюрой. И грязь, и небрежность в одежде и позе – все было декорацией для большей демократичности.
Объяснение носило полукомический характер. Министр заявил мне, что для блага дела он решил меня арестовать, чтобы отделить от верховного правителя, – «За то, что вы имеете на него большое влияние», – докончил он; брат его, командующий армией, откровенно признался, что я виноват в оскорблении 1-й Сибирской армии, которую считал хуже других.
– А кроме того, ваше превосходительство, вы хороший и храбрый генерал, это все признают, но вы стоите за старый режим и… очень строгий. Нам такого не надо, – добавил этот парень-генерал.
– Кому это – нам?
– Да вот офицерам… А впрочем, больше толковать нечего, – грубо басил он дальше, – арест уже сделан.
– Да. Сила на вашей стороне, но вы поймите, что совершаете преступление, арестовывая главнокомандующего, оставляя армию без управления.
– Вы уже не главнокомандующий. Адмирал согласился просить еще раз генерала Дитерихса, а временно приедет и вступит в должность генерал Каппель.
Сначала Пепеляевы хотели везти меня в Томск, в свою штаб-квартиру, но потом оставили на станции Тайга, под самым строгим наблюдением, которое продолжалось до самого приезда генерала Каппеля, до вечера следующего дня.
Для него все происшедшее явилось полной неожиданностью. Каппель начал сейчас же переговоры с Пепеляевыми, затем по прямому проводу с верховным правителем, прилагая все усилия, чтобы разъяснить запутавшееся положение. Первая просьба генерала Каппеля к адмиралу Колчаку была – оставить все без ломки, по-прежнему: меня главнокомандующим, а ему вернуться на свой пост в 3-ю армию. Я просил настойчиво и определенно вернуть меня на чисто строевую должность к моим войскам, также в 3-ю армию. Адмирал в это время был уже в Красноярске, откуда, за расстоянием, все переговоры сильно затруднялись и заняли несколько дней. А в это время – армия оставалась без управления, у заговорщиков оказались развязанными руки, и эсеровский план взрыва в тылу, сорванный было нами вовремя, стал снова проводиться ими в жизнь.
Как скоро стало известно, верховный правитель пошел на уступки братьям Пепеляевым и обратился к генералу Дитерихсу с предложением вступить снова в главнокомандование Восточным фронтом; и получил ответ по прямому проводу, что Дитерихс согласен на одном только условии, чтобы адмирал Колчак выехал немедленно из пределов Сибири за границу. Это вызвало страшное возмущение адмирала, да и Пепеляевы, сконфуженные таким афронтом, более не настаивали.
Но начатая ими по скрытой указке социалистов-революционеров гнусная интрига стала разворачиваться с быстротою и силой, остановить которые было уже невозможно.
В Красноярске стоял 1-й Сибирский корпус под командой генерала Зиневича, который все время действовал по директивам и приказам своего командующего, генерала А. Пепеляева. Зиневич, выждав время, когда пять литерных поездов адмирала проехали на восток, за Красноярск, оторвались от действующей армии, произвел предательское выступление. Он послал, как это повелось у социалистов с первых дней несчастия русского народа, революции, «всем, всем, всем» телеграмму с явным вызовом. Там Зиневич писал, что он, сам сын «рабочего и крестьянина» (тогда это осталось невыясненным, как этот почтенный деятель мог быть одновременно сыном двоих папаш), «понял, что адмирал Колчак и его правительство идут путем контрреволюции и черной реакции». Поэтому Зиневич обращается к «гражданской совести» адмирала Колчака, «убеждает его отказаться от власти и передать ее народным избранникам – членам Учредительного собрания и самоуправлений городских и земских» (нового послереволюционного выбора, то есть тем же эсерам).
В подкрепление своего убеждения генерал Зиневич заявил, в той же прокламации, что он отныне порывает присягу и более не подчиняется верховному правителю. Этой изменой командира корпуса, генерала Зиневича, верховный правитель совершенно отрывался от армии, был лишен возможности опереться на нее и оказывался почти беззащитным среди всех враждебных сил. С другой стороны, и действующая армия ставилась Красноярским мятежом в невозможно тяжелое положение, теряя связь с базой и всеми органами снабжения.
Что это было: бесконечная ли глупость с позывом к бонапартизму или предательство, продажное действо? Видимо, и то и другое понемногу, – у Пепеляева бонапартизм, у Зиневича глупость, смешанная с предательством. Вскоре обнаружилось, что за спиной Зиневича стояла шайка социалистов-революционеров с Колосовым во главе.
8
Предательство, подготовленное эсерами, этим отребьем человеческого рода, созрело. Иудино дело было совершено.
В 20-х числах декабря наша героическая армия готовилась дать генеральное сражение силам красных, чтобы остановить их наступление, прикрыть Центральную и Восточную Сибирь и получить возможность там за зиму провести все кардинальные перемены и подготовку для новой борьбы.
В условиях суровой зимы двигались наши войска, делая перегруппировки, чтобы образовать ударные группы и совершить марш-маневры с обходом обоих флангов наседавших большевиков.
Северная группа должна была произвести удар примерно из района Томск – Мариинск, главная масса для нее предназначалась 1-й Сибирской армии генерала Пепеляева, части которой должны были сосредоточиться из Красноярска и Томска. Но вместо этого сам Пепеляев и его ближайшие помощники теперь уже всецело отдались в руки социалистов-революционеров. В Красноярске, благодаря выступлению генерала Зиневича, началось брожение. А отсюда разложение перекинулось в Томск, главную квартиру 1-й Сибирской армии.
Гнезда в тылу, где зараза тлела месяцами, скрываясь под личиной покорности и даже содружества на общей почве ненависти к большевикам, зашевелились вовсю; вылезли из подполья эсеры и меньшевики, всюду устраивали открытые собрания, объявляли о переходе власти снова «в руки народа». Очевидно, подразумевалось «избранного» народа, так как и теперь среди социалистов подавляющий процент были иудеи, а остальные послушные прислужники их.
Чехи, эти полки разъевшихся, вооруженных до зубов тунеядцев, подавляли в тылу своей численностью, и они отдали свои штыки в распоряжение и на поддержку социалистов; боевая армия находилась далеко, да и была занята своим делом, держала боевой фронт и все время вела оборонительные бои, чтобы дать возможность вытянуть на восток все эшелоны. В тылу же не было сил, чтобы справиться с чехами, так как главная часть находившихся там русских войск, выведенных в глубокий резерв части армии генерала Пепеляева, были вовлечены, против их желания, в гнусное дело политического и военного предательства.
Чтобы поколебать их ряды, кроме выступлений в Новониколаевске и на станции Тайга, был брошен испытанный уже в 1917 году Лениным и Бронштейном клич: «Довольно войны!» Этот клич, как по команде, раздался из социалистического лагеря одновременно во Владивостоке, Иркутске, Красноярске и Томске. Вот где был истинно поцелуй Иуды: социалисты, зажегшие пожар Гражданской войны, кричали теперь об ужасах ее, о морях братской крови, о необходимости немедленного прекращения; кричали для того, чтобы предать белую армию, а с нею и всю Россию на новое, долгое и бесконечное мучение, на новое крестное распятие.
Тыл забурлил. Наполненный до насыщения разнузданными и развращенными чехословацкими «легионерами», сбитый с толку преступной пропагандой социалистов, не получающий, вследствие разрухи министерских аппаратов, правильного освещения событий, тыл считал, что все дело борьбы против красных потеряно, пропало; это впечатление усиливалось еще и тем, как поспешно неслись на восток в своих отличных поездах «иностранцы-союзники». И английский генерал Нокс со своим большим штатом офицеров, и предатель Жанен, глава французской миссии, главнокомандующий русскими военнопленными, американцы, и разных стран, наций и наречий высокие комиссары при российском правительстве, железнодорожные и другие комиссии – все рвались на восток, к Тихому океану.
Их поезда проскакивали через массу чехословацкого воинства, которое ползло туда же, на восток, руководимое одним животным желанием: спасти от опасности свои разжиревшие от сытого безделья тела и вывезти награбленное в России добро!
Но и всего этого оказалось мало. Это было лишь начало выполнения проводимого социалистами плана; руководителям интернационала нужно было покончить с Белой армией и ее вождем, верховным правителем.
Когда пять литерных эшелонов, один из которых был полон золотом, подошли к Нижнеудинску, они оказались окруженными чешскими ротами и пулеметами. Небольшой конвой адмирала приготовился к бою. Но верховный правитель запретил предпринимать что-либо до окончания переговоров. Он хотел лично говорить с французским генералом Жаненом.
Напрасно добивались этого рыцаря современной Франции к прямому проводу весь вечер и всю ночь; ему было некогда, он стремился из Иркутска дальше на восток. Но, без сомнения, причина этого наглого отказа была другая: все эти радетели русского счастья считали теперь свою роль оконченной, игру доведенной до конца; они, тайно поддерживавшие все время социалистов, теперь вошли с ними в самое тесное содружество и помогали им уже в открытую, чтобы разыграть последний акт драмы – предательство армии и ее вождя.
Представитель Великобритании генерал Нокс со своими помощниками был уже в это время во Владивостоке. Жанен спешил за ним и, рассыпаясь в учтивостях, послал ряд телеграмм, что он умоляет адмирала Колчака, для его же благополучия, подчиниться неизбежности и отдаться под охрану чехов; иначе он, Жанен, ни за что не отвечает. Как последний аргумент, в телеграмме Жанена была приведена тонкая и лживая мысль-обещание: адмирал Колчак будет охраняться чехами под гарантией пяти великих держав. В знак чего на окна вагона, единственного, куда был переведен адмирал с его ближайшей свитой, Жанен приказал навесить флаги, великобританский, японский, американский, чешский (?!) и французский.
Конвой верховного правителя был распущен. Охрану несли теперь чехи. Но понятно, это была не почетная охрана вождя, а унизительный караул пленника.
Боевая армия находилась теперь еще дальше, корпуса ее только были направлены к занятому мятежниками Красноярску, никаких определенных известий о том, в каком состоянии армия, каких она сил, что делает, не было; кажется, руководители тылового интернационала, представители Антанты и заправилы-социалисты считали, что армии уже не существует.
В тылу, в Иркутске и Владивостоке, эсеры, вновь выползшие теперь из подполья, как крысы из нор, захватили власть в свои руки.
Только в Забайкалье была сохранена русская национальная сила. Но когда атаман Семенов двинул свои части на запад, чтобы занять Иркутск и выгнать оттуда захватчиков власти – эсеров (среди которых опять три четверти были из племени обрезанных), то в тыл русским войскам выступили чехословаки, поддержанные 30-м американским полком, и разоружили семеновские отряды. Вследствие этого части Иркутского гарнизона, оставшиеся верными до конца, не могли одни справиться с чехами и большевиками; под командой генерала Сычева они отступили в Забайкалье, когда выяснилось, что оттуда помощь прийти не может.
Поезд с вагоном адмирала Колчака и золотой эшелон медленно подвигались на восток. На станции Черемхово, где большие каменноугольные копи, была сделана первая попытка овладеть обеими этими ценностями. Чешскому коменданту удалось уладить инцидент, пойдя на компромисс и допустив к участию в охране Красную армию из рабочих.
Когда подъезжали к Иркутску, тот же чешский комендант предупредил некоторых офицеров из свиты адмирала, чтобы они уходили, так как дело безнадежно. По словам сопровождавших адмирала лиц, чувствовалось, что нависло что-то страшное, молчаливое и темное, как гнусное преступление. Верховный правитель, увидев на путях японский эшелон, послал туда с запиской своего адъютанта старшего лейтенанта Трубчанинова, но чехи задержали его и вернули в вагон.
Японцы не предпринимали ничего, так как верили – это я слышал спустя полгода в Японии – заявлению французского генерала Жанена, что охрана чехов надежная и адмирал Колчак будет в безопасности вывезен на восток.
Поезд с адмиралом был поставлен в Иркутске на задний тупик, и в вагон к верховному правителю вошел чех-комендант.
– Приготовьтесь. Сейчас вы, господин адмирал, будете переданы местным русским властям, – отрапортовал он.
– Почему?
– Местные русские власти ставят выдачу вас условием пропуска всех чешских эшелонов за Иркутск. Я получил приказ от нашего главнокомандующего генерала Сырового.
– Но как же, мне генерал Жанен гарантировал безопасность. А эти флаги?! – показал адмирал Колчак на убого висевшие флаги – великобританский, японский, американский, чешский и французский.
Чех-комендант потупил глаза и молча в ответ развел руками.
– Значит, союзники меня предали! – вырвалось у адмирала.
Через минуту в вагон вошли представители социалистической думы Иркутска, в сопровождении конвоя из своих революционных войск.
Верховный правитель был им передан чехами, в сопровождении нескольких адъютантов адмирала Колчака повели пешком через Ангару в городскую тюрьму. С ним же вели туда и премьер-министра В. Пепеляева, который так все время ратовал за эту общественность и своими руками рубил дерево, на котором сидел.
Узнав об аресте верховного правителя, правильнее – о предательстве, японское командование, располагавшее в Иркутске всего лишь несколькими ротами, обратилось с протестом и предъявило требование об освобождении адмирала Колчака. Но их голос остался одиноким, – ни Великобритания, ни Соединенные Штаты, ни Италия их не поддержали; силы японцев здесь были слишком малы, и они, не получив удовлетворения, ушли из Иркутска.
Социалистическая дума города Иркутска торжественно объявила, что она берет на себя всю полноту государственной российской власти и назначает Чрезвычайную следственную комиссию для расследования преступлений верховного правителя адмирала Колчака и его премьер-министра В. Пепеляева, виновных «в преследовании демократии и в потоках пролитой крови».
В то же время, опасаясь русской армии, эта кучка инородцев-интернационалистов начала спешно фабриковать свою революционную армию. Во главе был поставлен штабс-капитан Калашников, партийный эсер, бывший долго в штабе Сибирской армии Гайды. Товарищ Калашников поспешил отдать ряд громких приказов об отмене погон, титулования, о введении обращения «гражданин полковник, гражданин капитан» и начал собирать силы, чтобы ударить с востока по нашей боевой армии.
9
От надуманного плана дать большевицкой армии генеральное сражение на линии Томск – Тайга пришлось отказаться, так как 1-я Сибирская армия Пепеляева почти целиком снималась со счета. Части ее, находившиеся в Томске, теперь с приближением красных выступили против белых в открытую по приказу своих новых вождей с лозунгом: «Долой междоусобную войну!» Новыми вождями явились те же подпольные комитеты эсеров с присоединившимися к ним старшими офицерами сорта Пепеляева, генерала Зиневича, полковника Ивакина. Строевое офицерство и солдаты в большинстве были обмануты и шли за новым лозунгом, потому что не видели другого выхода. Но те части 1-й Сибирской армии, которые присоединились к боевому фронту, вошли в него в районе Барнаул – Новониколаевск, остались до конца верными долгу.
Когда фронт нашей армии приблизился к Томску, то там произошло вооруженное выступление частей 1-й Сибирской армии с арестом и убийством лучших офицеров, с передачей на сторону красных. Сам командарм (как его называли) Пепеляев принужден был одиночным порядком в троечных санях скрытно пробираться из Томска на восток.
В то же время в Красноярске его достойный помощник, командир 1-го Сибирского корпуса генерал Зиневич все атаковал по прямому проводу штаб главнокомандующего, добиваясь определенного ответа, какого курса будет держаться армия и согласна ли она подчиниться новой власти, присоединиться к ним для прекращения войны. Под конец Зиневич в компании со своим политическим руководителем эсером Колосовым взяли угрожающий тон, заявляя, что если белая армия не присоединится к ним, то весь Красноярский гарнизон выступит против нее с оружием в руках и не пропустит на восток.
Прямого ответа Зиневичу не давали, чтобы выиграть время. В то же время спешно стягивали к Красноярску части 2-й и 3-й армий, имея целью с боем занять город и рассеять бунтовщиков. Части наши двигались ускоренными маршами через густую тайгу Сибири, по непролазным, глубоким снегам, совершая труднейшие в военной истории марши, теряя много конского состава и оставляя ежедневно часть обоза и артиллерии. От какой-либо обороны и задержки большевицкой Красной армии, наступавшей с запада по пятам за нами, пришлось отказаться совершенно. Необходимо было спешить вовсю к Красноярску: там силы бунтовщиков увеличивались с каждым днем; были получены сведения, что и Щетинкин с одиннадцатью полками спускается вниз по Енисею из Минусинска, на поддержку Зиневичу.
В это время генерал Зиневич начал уже переговоры с большевицкой Красной армией, через голову боевого фронта, использовав один неиспорченный железнодорожный провод. Зиневич вел переговоры с командиром бригады 35-й советской дивизии Грязновым, предлагая последнему свою помощь против Белой армии. Большевик, как и всегда, оказался цельнее эсера; всякое сотрудничество он отверг и потребовал сдачи оружия при подходе советской армии к Красноярску. Тогда генерал Зиневич стал выговаривать «почетные» условия сдачи.
Особенно трудно было двигаться 3-й армии, которая имела район к югу от железнодорожной магистрали с крайне скудными дорогами, по местности гористой и сплошь заросшей девственной тайгой. По той же причине была потеряна связь со штабом 3-й армии.
Штаб главнокомандующего выжидал приближения корпусов в своем эшелоне, медленно продвигаясь на восток, простаивая по несколько суток на каждой большой станции. В Ачинске на второй день нашего пребывания, около полудня, как раз когда к вокзалу подошел поезд одной из частей 1-й Сибирской армии, раздался около штабного эшелона оглушительный взрыв.
Был ясный морозный день. Солнце бросало с нежно-голубого холодного неба свой золотой свет, как гордую улыбку – без тепла. Мороз доходил до остервенения. По обе стороны яркого солнца стояли два радужных столба, поднимаясь высоко в небо и растворяясь там в вечном эфире.
Я вернулся из городка Ачинска, куда ездил купить кошеву для предстоящего похода-присоединения к 3-й армии. Только вошел в свой вагон, не успел еще снять полушубок, как раздался страшный по силе звука удар. Задрожал и закачался вагон, из окон посыпались разбитые стекла.
Схватив винтовку, которая всегда висела над моей койкой, я выбежал из вагона. На платформе у вокзала было смятение. Ничком лежало несколько убитых, и их теплые тела еще содрогались последними конвульсиями. Бежали женщины с окровавленными лицами и руками; солдаты пронесли раненого, в котором я узнал моего кучера, только что вернувшегося со мной. В середине штабного эшелона горели вагоны, бросая вверх огромные, жадные языки ярко-красного пламени.
Кровь и огонь… Вот провел офицер маленького прелестного ребенка с залитым кровью личиком и огромными глазами с застывшим в них выражением ужаса; мальчик послушно шел и только повторял:
– Мама, ма-ама… Хочу к маме…
Выйдя из вагона, я встретился с генералами Каппелем и Ивановым-Риновым; вместе направились к горящим вагонам. Надо было распоряжаться, чтобы спасти всех, кого можно, и не дать распространиться огню.
Число жертв было очень велико. Убитые, покалеченные, жестоко израненные; у одной девушки, сестры офицера, выжгло взрывом оба глаза и изуродовало лицо, несколько солдат также лишились зрения, многим поотрывало руки и поломало ноги.
Кому это было нужно? Полз слух, что сейчас же вслед за взрывом последует атака красных, что взрыв, как подготовка к ней, произведен социалистами… Были высланы патрули и дозоры, вызвана из города воинская часть. Закипела работа по приостановке и очистке пожарища.
Кто сделал, на ком вина, что за причина? Все эти вопросы не удалось выяснить точно. Упорно держался слух, что злодеяние – погибло и пострадало несколько сот человек, – что взрыв был произведен эсеровской боевой ячейкой.
Возможно, недаром эти приверженцы новой религии ненависти, социализма, своим знаменем взяли ярко-красный цвет, цвет страдания, разрушения и смуты. Кровь и огонь…
Через два дня, взяв всех раненых, наш эшелон двинулся дальше и вечером 3 января 1920 года подошел на станцию Минина, последняя остановка перед Красноярском. Здесь мы узнали, что в городе произошло углубление новой революции, что фактическими господами сделались большевики, что печальный герой генерал Зиневич, «сын рабочего и крестьянина», арестован и посажен в тюрьму. Чем-то не угодил!
Было решено брать Красноярск с боем, на следующий день с утра. Действиями должен был руководить командующий 2-й армией генерал Войцеховский. Сначала все шло успешно. Наши части повели наступление на железнодорожную станцию, ворвались в нее, но вдруг неожиданно появился броневой поезд с красным флагом. Наши передовые роты повернули и начали отходить. Это подбодрило красных, которые перешли в контратаку. Наступление не удалось и было отложено.
На следующий день подтягивались новые части 2-й армии, удалось войти в связь и с 3-й армией, выход которой к Красноярску ожидался через сутки. Штаб главнокомандующего решил выйти из поезда, перейти из вагонов на сани.
Жалко, что это было сделано так поздно. Во-первых, такой переход никогда не удается гладко сразу, всегда требуется три-четыре дня, чтобы все утряслось, чтобы заполнить все недочеты, во-вторых, служба связи и штабная ведется из походной колонны совершенно иначе, к чему надо также приспособиться, в-третьих, необходимо время, чтобы втянуть силы людей и особенно лошадей.
Разместившись на санях, неумело, еще не по-походному, с массой лишних вещей, под охраной Екатеринбургской учебной инструкторской школы полковника Ярцова, двинулся штаб главнокомандующего походным порядком. К вечеру пришли и остановились на ночлег в деревне Минина, северо-западнее города Красноярска.
Ночью в эту же деревню приехал генерал Войцеховский; составился военный совет. В результате мнение командующего 2-й армией восторжествовало, и генерал Каппель отдал приказ армиям двигаться дальше на восток в обход Красноярска; города решили не брать, так как гарнизон его усилился, подошел со своими полками с юга Щетинкин; виделась такая угроза: если новая попытка взять Красноярск не увенчается успехом, белые войска попадут в положение безвыходное, между наседавшими с запада красными и бандами Красноярска. Решено было обходить город с севера.
6 января на рассвете наша небольшая колонна начала вытягиваться на дорогу, которая ведет из Минина на село Есаульское, переправу через Енисей. Дело в том, что, хотя стояла зима, все же необходимо было двигаться только на переправы: на север от Красноярска по обоим берегам реки тянутся высокие горы, несколькими грядами идут они, представляя серьезные преграды; часто попадаются между ними глубокие овраги; берега Енисея также очень крутые и обрывистые, в большинстве недоступные коннице и обозам.
В морозном тумане зимнего утра медленно подвигались длинные вереницы саней. Долгие, почти бесконечные остановки, – в одну колонну вливались новые подходящие обозы. Теперь вместе с штабом шли части 2-го Уфимского корпуса, 4-я и 8-я стрелковые дивизии и 2-я кавалерийская.
Дорога чем дальше, тем делалась все труднее. Лошадям тяжело было ступать и тащить сани по размолотому, перемешанному с землей, сухому снегу. Частые, неопределенные по времени остановки утомляли еще больше. Сознание у людей как-то притуплялось и от мороза, и от этих остановок, от полной неопределенности впереди… и от неуклюжих сибирских зимних одежд, в которых человек представляет собой беспомощный обрубок.
Туманное предрассветное утро перешло незаметно в серый зимний день. Около 10 часов снова остановка. По колонне передается приказание обозу остановиться на привал, а школе Ярцова и 4-й дивизии идти вперед.
Оказалось, что все дороги к северу от Красноярска были заняты сильными отрядами красных. Завязались бои. Выбили наши красных из одной деревни, в это время начинается пулеметный обстрел со следующей гряды гор. Надвигались в то же время и отряды противника с запада. Большевицкая артиллерия, выдвинутая от Красноярска, начала обстреливать наши колонны с юга. Враг оказался всюду, каждая дорога была преграждена в нескольких местах. Шел не бой, не правильное сражение, как это бывало на фронте, а какая-то сумбурная сумятица: противник был всюду, появлялся в самых неожиданных местах.
Армия, представлявшая огромные санные обозы, так как пехота вся к этому времени ехала в санях, заметалась. Тучи саней неслись с гор обратно на запад, попадали здесь под обстрел большевиков и поворачивали снова, кто на север, кто на восток, кто на юг, к Красноярску.
Большевики и мятежные войска из Красноярска высылали к нашим колоннам делегатов с предложением сдать оружие, так как «Гражданская война-де кончена». Нашлись среди белых легкомысленные части, которые поверили этому, не сообразили, почему же сами красные не кладут оружия… и сдались. Тогда комиссары стали высылать навстречу нашим новым колоннам этих сдавшихся белых солдат, толпами выходили они с криком:
– Война кончена, нет больше нашей армии! Кладите оружие!
Многие клали. Два Оренбургских казачьих полка сдали винтовки, пулеметы, шашки и пики, после этого вышел комиссар к безоружным полкам с такими словами:
– Ну а теперь можете убираться за Байкал, к Семенову. Нам не нужно таких нагаечников.
Зачесали казаки в затылках, их манила другая перспектива – вернуться в свои станицы, к своим семьям, хозяйству, двинуться из Красноярска на запад. Пришлось же снова поворачивать на восток. И, опять обманутые социалистами, шли казаки дальше тысячи верст на своих маштачках, безоружные.
Но далеко не все попадались на удочку. Многие части дрались. Целый день продолжались бессистемные беспорядочные стычки вокруг Красноярска. Дробь пулеметной и ружейной стрельбы трещала во всех направлениях. На пространстве десятков верст творилось нечто невообразимое, небывалое в военной истории.
Остатки великой русской военной силы, императорской армии, оставившей, для спасения Франции и Англии, на боевых полях одними убитыми 3 миллиона людей, остатки этой силы, белая армия, проделали тысячи верст пути, прошли через долины и горы необъятных пространств Руси; чтобы спасти ее честь и независимость, они дрались как львы; здоровье, кровь и жизнь, все свои силы отдавали они, отдавали и большее – свои семьи. И они верили в правоту своего дела и в святость своего долга. Верили также русские люди в бескорыстную и честную помощь своих союзников, ведь весь мир встал на их сторону, на поддержку белых. Великобритания, Соединенные Штаты и Франция без конца суетились, волновались и старались, чтобы усилилась и окрепла белая русская армия. Япония даже посылала свои части биться бок о бок с нашими; кровь японского самурая была пролита на полях Сибири вместе с русской кровью и за русское национальное дело. Италия и Сербия также старались не отстать…
Но когда белая сила окрепла и русский национальный стяг начал все выше и выше подниматься, как залог скорого оздоровления и возвышения великой единой России, тогда началась какая-то темная, вначале осторожная игра. Те же европейские и американские дипломаты вели ее; и куда же было нам, сермяжной Руси, сразу понять и стряхнуть с себя гадов этого нового, скрытого интернационала, еще более смертельного и ужасного, чем кровавый, московский. Тонко велась союзными представителями интрига в полном согласии и взаимодействии со всеми нашими домашними социалистами. Предательство разыгрывалось как по нотам – тихо, систематично и упорно. И последним актом его был Красноярск. После ареста верховного правителя они рассчитывали там ликвидировать совершенно и белую армию.
Два прежних святых слова, дорогие раньше для каждого человека – «товарищ» и «союзник», – были за четыре года обращены в самые низкие, презренные слова. Деятели типа Керенского – Бронштейна – Ленина обратили значение первого слова «товарищ» в синоним громилы-убийцы, вора и растлителя – за период 1917–1918 годов; а за время 1919–1920 годов деятели типа Вудро Вильсона – Клемансо – Ллойд Джорджа дали слову «союзник» значение предателя, поджигателя и скупщика краденого.
Да не забудет этого русский народ…
Предпоследним актом этой мировой драмы предательства национальной России был Красноярский бой, разыгравшийся 6 января 1920 года, как раз в русский сочельник, накануне праздника рождения Бога Искупителя. Но вместо радостного гимна славословия раздавались теперь ругательства, хула, крики убиваемых и стоны раненых. До поздней ночи. Белая армия потеряла все свои обозы, артиллерию и более 60 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Казалось, что цель объединенного интернационала достигнута, русская национальная армия перестала существовать. Так казалось к вечеру этого дня и тем немногим из нас, которые пробились из окружения, когда разрозненные небольшие колонны стягивались к замерзшему дикому Енисею и становились на ночлег.
Но силен дух русского народа. И не судил Бог погибнуть его державе. Теплится огонь жизни, сохраняется, чтобы в назначенный день вспыхнуть и загореться снова огромным величественным пламенем. Белая армия не погибла. Она вышла из этого самого величайшего испытания и пронесла к берегам Тихого океана русский стяг и русскую государственность.
Прежде чем говорить об этом, надо разъяснить невольное недоумение: что же мешало русским вождям выгнать непрошеных гостей-предателей из Сибири? Как не замечали они двойной игры их? Не разбирались в этой обстановке, когда все приехавшие помощники, союзнические миссии, начали сотрудничать с новыми иудами России – социалистами – и плести интригу заговора? Не видали жадного блеска в чужеземных очах и оскала широко открытой их пасти на русское природное, Богом данное богатство?
Разбирались, замечали, видели и понимали. Но не могли освободиться. Слишком тонко провели «союзники» в Сибири свою игру, наверняка. Они рассчитали, с одной стороны, на русскую обычную мягкотелость, благородство и добродушие; с другой же – они стали с первых шагов систематически укреплять и усиливать свою позицию, обеспечивать крепко и сильно свои дальнейшие шаги. Одной из мер была интервенция, ввоз своих войск; но их было не много, да и не все пошли бы на это темное дело. Тогда прибегли к другому и нужную силу нашли в бывших русских военнопленных, взятых императорской армией в многочисленных боях, когда во славу и спасение Франции и Великобритании потоками лилась русская кровь и без счета ломались русские кости.
Ядром этой силы, враждебной национальной России, был Чехословацкий корпус.
Глава 5 Чехословацкий корпус
1
Настоящая глава не может иметь своей задачей дать полный очерк чехословацкой эпопеи в Сибири; это заняло бы очень много места и времени, слишком отклонило бы нас в сторону от главной темы. Несомненно, в недалеком будущем появится не одно исчерпывающее исследование «чехословацких подвигов» в России. Наша цель – осветить лишь общие причины, давшие интернационалу победу над Белым национальным движением, дать ответ на то, какими силами располагал международный социалистический комплот; мы не можем пройти поэтому не коснувшись многих сторон деятельности Чехословацкого корпуса, который играл большую и печальную роль в направлении и исходе борьбы белых за национальное возрождение России.
Война, которую с 1914 года вел великий русский народ во главе с царем-мучеником Николаем II, имела, в числе многих других благотворительных целей, и задачу освободить от австрийского владычества Богемию, восстановить самостоятельность древней державы святого Вячеслава.
Чешские патриоты возлагали все свои надежды на Российскую империю; в течение 1914, 1915 и 1916 годов центр всей их работы был в Петрограде. В 1916 году создана на русские средства и русскими властями 1-я чехословацкая дивизия, состоявшая из добровольцев-чехов, живших в России или бежавших туда для активного участия в борьбе. В 1917 году начали формировать 2-ю дивизию, на этот раз уже из военнопленных чехов и словаков, захваченных русской армией в боях, при этом брали в полки из концентрационных лагерей только лучших, испытанных людей.
Когда из туч, вызванных затянувшейся войной, грянул гром, когда величайшее несчастье стряслось над нашим отечеством; когда бунт распущенных солдат Петроградского гарнизона, с помощью союзных и доморощенных «общественных» деятелей, обратился в дикую уродливую революцию; когда те же деятели, вперегонки, начали развращать боевые полки русской армии и топтать в грязь старые сданные знамена, – зашатался русский боевой фронт; опьяненные полной разнузданностью солдаты жадно впитывали в свою массу «демократизацию», начатую Гучковым, Поливановым и Нахамкесом, охотно поддавались и следовали новым лозунгам, бросаемым демагогами всех оттенков, от толстого Родзянко до Ленина. Люди точно посходили с ума. Началась травля офицерства. Отказ от наступления. Пошли братания с врагом. Затем дезертирство, распродажа немцам орудий, пулеметов. И гнусное массовое избиение лучших генералов и офицеров.
Только самые крепкие части, где имелось больше старых настоящих офицеров и солдат, сохраняли еще вид воинской силы. И среди них была 1-я чехословацкая дивизия. За этот период она проявила много доблести и показала немало подвигов; эта дивизия пыталась сдержать натиск германской пехоты на Стоходе, она старалась сдержать около себя и худшее, а именно разложение русской армии, сохраняя в себе и дисциплину, и боеспособность, и даже внешний воинский вид; в грустные дни Тернопольских боев в июле 1917 года 1-я чехословацкая дивизия совместно с немногими крепкими русскими частями прилагала все силы, чтобы остановить бегство «революционных войск 18 июня» и преградить вражеское вторжение вглубь страны.
Но каиново дело, русская революция, шла гигантскими шагами и докатилась до своего логического конца, до похабного Брест-Литовского мира. Тогда чехословацкие части, сведенные к этому времени в отдельный корпус, решили, что им в России больше делать нечего, надо выбираться на Западный фронт, во Францию. Да и небезопасно им было дальше пребывание в свободной советской республике, так как в случае выдачи их австрогерманцам (а тогда большевики исполняли еще все приказы главной германской квартиры) что ожидало бы чехов, как изменников присяги и верности своему отечеству? Чехословацкий корпус в полном составе, с оружием в руках, погрузился в эшелоны, чтобы выбраться из России. Не было надежды пробиться в Архангельск, решили ехать на Владивосток, через Сибирь.
Большевики как будто были согласны выпустить чехословаков, но требовали сдачи оружия; Бронштейн (Троцкий) отдал приказ об этом и предписал принять решительные меры. Многие подчинились приказу и сдали пушки, пулеметы и винтовки. Но часть чехов, лучшие, понимали, что безоружные они будут игрушкой в руках коммунистов, и решили пробиваться силой.
Произошел почти одновременно ряд выступлений, от Пензы до Байкала, так как чешские эшелоны успели уже растянуться чуть не по всей длине Великого Сибирского пути.
Всюду чехам оказали помощь тайные организации русских офицеров и казаки. Общими их усилиями была очищена от красных банд вся огромная восточная часть России. Как раз около этого времени прозвучали, как мировой набат, призывы союзных народов – Великобритании, Америки, Японии, Италии и Франции – всем сплотиться вокруг русского национального знамени и образовать снова Восточный фронт для борьбы против Германии и большевиков. Отпала поэтому необходимость чешским дивизиям выбираться из России на Французский фронт. Надо было усиливать и развивать действия здесь; все взоры были устремлены на Сибирь и Урал; на Волге образован был фронт. Загорелась борьба.
Это был период героев. Русские и чехи дрались вместе, как братья, не считаясь с жертвами и подвигами, видя перед собой общую священную цель – освобождение России от большевиков, этих «апостолов социализма и насадителей на земле нового рая».
Справедливость требует сказать, что без помощи офицерских организаций восстание чехословаков не имело бы успеха: на каждой станции, по уходе чехов, снова появлялись бы большевицкие банды, борьба приняла бы затяжной характер в чужой для чехов стране, на железной дороге длиной 5 тысяч верст со всеми преимуществами на стороне красных; чехи были бы разбиты по частям и уничтожены. Доблестное многострадальное русское офицерство встало с оружием в руках на всем пространстве от Волги до Тихого океана и оказало братским славянским полкам могучую поддержку. Да и самые боевые действия чехословацких полков, имевшие такое славное начало, направлялись также русскими офицерами (как полковник Ушаков, павший в бою у Байкала, Войцеховский, Степанов и много других). Целый ряд городов – Омск, Иркутск, Челябинск, Орск, Оренбург и Троицк – был очищен от большевиков без всякого участия чехов, одними белогвардейскими организациями и казаками. В освобождении Сибири от банд кроваво-красной армии летом 1918 года первая и большая заслуга была за русскими белогвардейскими организациями. Но эти настоящие герои, русский офицер и доброволец, ценили помощь братьев-чехов, рады были ей бесконечно и уступали в благодарность им первое место. Население же встречало чехословаков повсюду как избавителей, засыпало цветами и подарками.
Временное Сибирское правительство, образовавшееся 30 июня после свержения большевиков, издало в первый же день своей власти благодарственную грамоту, где отмечало крупные заслуги чехов и словаков в истории освобождения и спасения Сибири и даже перед всем славянством.
После быстрых успехов первого выступления чехи были повернуты, по приказу из Парижа, на запад, к Волге, – союзникам необходимо было образовать Восточный фронт против немцев, – тогда судьба мировой войны еще далеко не была ясна.
Так развивались события. Без особых трудов и потерь были взяты города Уфа, Самара и Симбирск. 7 августа 1918 года заняли Казань, после чего и был создан Волжский фронт, командование которым было вручено чешскому поручику Чечеку, произведенному в генералы. Операции на этом фронте велись главным образом также русскими добровольцами-белогвардейцами, отряды которых шли безропотно в подчинение чешским безграмотным офицерам и генералам; из последних только один Чечек был лейтенантом военного времени австрийской службы, Ян Сыровый служил раньше коммивояжером, Гайда – фельдшером…
Порыв в то время, летом 1918 года, был грандиозен. Наша, тогда еще не выбитая и не забитая, интеллигенция посылала тысячами свою учащуюся молодежь в ряды Белой гвардии; офицерство поголовно бралось за винтовки, даже старые генералы становились простыми номерами к орудиям. Выдвинулся блестящий военный талант молодого полковника Генерального штаба В. О. Каппеля, который делал чисто суворовские чудо-маневры, поспевал везде и бил красных как хотел. Чешские полки, увлеченные этим порывом и успехом, шли вместе с нашими, их охватила та же могучая волна и увлекли легкие победы. И опять-таки вся слава и благодарность радостными волжанами, освобожденными от гнета большевиков, отдавалась чехословакам. Их только-только не носили на руках. И дарили им все, дарили широко, по-русски, от сердца. Забитые и полуголые бедняки чехи стали богатеть от русской щедрости, аппетиты у них разожглись, и очень скоро у чехов вошло в обычай тотчас по занятии города – нашими ли белогвардейцами или ими – приступать уже просто к реквизиции русских казенных складов, налагая руку иногда и на частное имущество. И на это вначале махали рукой наши: «Все бери, наплевать, только помоги с большевиками покончить».
Бронштейн и Ленин, напуганные успешными действиями белых на Волге, начали собирать все возможные силы и направлять их на Казань, сюда шли лучшие и наиболее надежные красноармейские части во главе с латышскими полками. Вначале чехи, под командой отличного офицера, полковника Швеца, сдерживали здесь натиск красных и отбивали их атаки. Но с каждым днем боеспособность чехов понижалась, – они привыкли за первый период к легким победам, к веселой службе быстрых налетов, триумфальных занятий пустых городов; теперь приходилось иметь дело с многочисленным и упорным противником, нужно было вести серьезные и трудные оборонительные бои с бессонными ночами, с тяжелыми потерями.
В то же время падали, выбывали из строя лучшие силы, те чехи-герои, имена и память которых для России будут всегда священны. А на их место шли худшие элементы: брались пополнения из числа военнопленных, из концентрационных лагерей Сибири. Этими людьми начали заполнять небольшие кадры уже без всякой меры, довели состав Чехословацкого корпуса свыше 50 тысяч человек. Большинство из этих новых людей меняло убогую жизнь военнопленного концентрационного лагеря на почетное звание стрелка для того, чтобы получить новую нарядную одежду и сытую привольную жизнь; драться же, а тем более подвергать риску в боях свою жизнь они не желали. Только железная дисциплина и хорошие начальники могли бы сделать эту массу боеспособной, сумели бы добиться хороших результатов.
А на место этого пришло вот что. Чехословацким войском руководил теперь Чехословацкий национальный комитет, который состоял к концу лета 1918 года почти сплошь из социалистов, вроде Богдана Павлу, Тирса, Патейдля, Краля, Модека, Клофача, Благоша (предавшего в декабре 1919 года адмирала Колчака) и др. Все они были нашими военнопленными и отсиживались в лагерях, ожидая конца мировой войны. Теперь, когда Америка, Франция и Англия взяли чехов под покровительство, эти милостивые государи выползли на свет и, чтобы попасть к власти, пользоваться большим влиянием на солдатскую массу, пустили в ход самую беззастенчивую демагогию.
Повторилась печальная история лета 1917 года, развала русской армии Керенским и его партийными соратниками. Со всех углов России полезли русские социалисты, главным образом эсеры, и устремились на Волгу к своим «товарищам-чехам»; приплыл в Самару на пароходе Дед – один из главных разрушителей и предателей России В. Чернов, целый ряд «ответственных» партийных работников и много рядовой мелкоты. Все они были приняты Чехословацким национальным советом как свои люди, с распростертыми объятиями. Закипела общая работа, зачадила политическая кухня. Совместными усилиями и ловкими вольтами было образовано Самарское правительство – комитет членов учредиловки (сокращенно Комуч).
Опираясь на чешские штыки, Центральный комитет партии социалистов-революционеров захватил власть в Волжском районе, чтобы продолжать свой преступный и кровавый опыт насаждения в России социализма.
Понятно, чешские дельцы, политиканы-социалисты из Национального комитета, получили за это свою плату; уже с самой Самары они повели сначала осторожные коммерческие дела, затем открытую и беззастенчивую спекуляцию и наконец чистый грабеж.
Этот пример вдохновителей и политических вожаков чешского воинства подействовал заразительно на их массы. Их руководящими стимулами скоро стали обогащение и борьба «против русской реакции». На этой почве шел быстро развал чешских полков. Политиканы чешско-русского социалистического блока поспешили удалить с чешской службы, с ответственных постов всех русских офицеров, заменяя их своими людьми.
Удержание Казани для нас, русских, было крайне важно, поэтому сюда были направлены из-под Симбирска отряды полковника Каппеля, его чудо-богатыри, волжские добровольцы. Каппель обрушился на большевиков с фланга и готов был нанести им сокрушительный удар, но в самую решительную минуту чехи не поддержали его, отказались выполнить боевой приказ, очистили свой участок. Вследствие этого наши части понесли большие потери и, продержавшись несколько дней на оборонительных позициях, должны были отступить. 9 сентября Казань пала и подверглась еще большим ужасам красного террора.
Через два дня большевики взяли Симбирск, затем Сызрань и Самару. Чехи перестали сражаться. Они уходили при первом натиске красных, увозя на подводах и в поездах все, что могли забрать из богатых войсковых складов, – русское казенное добро. Надо иметь в виду, что на Волге оставались тогда еще колоссальные заготовки времени 1916 и 1917 годов для нужд мировой войны.
За чехами тянулись толпы беженцев с Волги, стариков, женщин, детей; то население, которое несколько недель тому назад забрасывало чехословацкие полки цветами и восторженно приветствовало их, как братьев-освободителей, шло теперь пешком, редкие ехали на подводах, потревоженные с насиженных мест, на восток, в неизвестное будущее; оставаться им по домам было нельзя, ибо не только за помощь чехам, но даже за простое сочувствие им большевики истребляли целые семьи.
Можно себе представить, какие чувства были у этой обездоленной и преданной толпы.
Царил неописуемый ужас, и невольно среди многих тысяч беженцев и населения, брошенного на произвол Чрезвычаек, возникал вопрос: зачем было все это? Лучше и не было бы чехов совсем, чтобы они и не выступали…
Действительно это было бы лучше, так как их выступление было преждевременно, оно сорвало тайную работу белогвардейских организаций, творящуюся подпольно тогда на всем пространстве России, сорвало в тот момент, когда дело не было еще налажено и объединено.
На заборах и стенах всех городов и железнодорожных станций еще пестрели разноцветные обращения и прокламации чехов к русскому населению – с призывом общей борьбы против большевиков, с громкими обещаниями драться до победного конца.
А вместо этого – сдача всех позиций, отказ от выполнения боевых приказов, предательство по отношению к русским добровольцам.
Не все чехи и словаки были виновны в этом. В рядах их полков немало состояло еще настоящих солдат, истинных героев. Эти искренно возмущались недостойным поведением своей массы, негодовали, но бессильны были что-либо изменить. Да и не понимали они ясно, где причина этого, кто истинные виновники позора и неудач.
Озлобленная всеми этими неудачами чешская солдатская масса готова была проклинать всех и вся, не видя, что главные преступники свалившегося несчастья и напрасных жертв сидели в Чехословацком национальном комитете и в Комуче – в лице узких партийных дельцов – социалистов.
На их ответственности и на их совести лежала вся кровь, пролитая за эти месяцы, и моря слез.
2
Совершенно ошибочное мнение, что Чехословацкий корпус выступил в борьбу с большевиками идейно, для освобождения России, для возрождения великой славянской страны, потрясенной до основания бессмысленной, ужасной революцией. Первые их действия, как уже было сказано, диктовались интересами личного спасения от возмездия за их измену тогдашнему отечеству, Австро-Венгерской империи. Нельзя требовать от людей и ожидать больше того, что они могут дать, но недопустимо, с другой стороны, считать героями тех, которые представляли массу, состоявшую из среднего и худшего элемента. Это было сборище вооруженных людей, бывших наших военнопленных, правда сдавшихся частью добровольно, но опять-таки не из-за идейных причин, как то привыкли считать, а из-за того же мелкого и низкого желания спасти свою драгоценную жизнь, которое доминировало у них и в описываемый период.
Помню, какое чувство омерзения вызывали подобные случаи на фронте великой войны. Среди многих эпизодов галицийского наступления 1916 года был в нашей дивизии (3-й Финляндской стрелковой) 27 июля упорный бой за деревню Лязарувку, у Золотой Липы. После горячих атак с жестоким напряжением с обеих сторон мы заняли эту деревню, захватили свыше 2 тысяч пленных; германский егерский батальон с австро-венгерскими частями были выдвинуты из резерва противника и перешли в контратаку. Мы удачно справились тогда и с этим; ликвидация контратаки происходила у меня на глазах, – наш 9-й полк удачно охватил фланг и вышел в тыл неприятельской позиции. Благодаря умелому маневру мы захватили снова много пленных, хотя все они дрались и упорно, и хорошо. И вот, когда участь боя была уже решена, дальнейшее сопротивление становилось совершенно бесцельным, наши стрелки принимали и вели сдавшихся в плен, – все неприятельские офицеры и солдаты были мрачны, усталы, подавлены. Вдруг два фендрика, чеха, вырвались из толпы пленных, кинулись ко мне, один охватил за шею, другой пытался поцеловать. Они кричали что-то о своей дружбе, о своей горячей любви к России, о нежелании воевать, в их глазах было опьянение опасностью боя и страхом. Как будто холодная, неприятная большая лягушка прикоснулась – такое ощущение было от этих объятий и поцелуев.
Неправдой было мнение, будто чешские части, служившие в австрийской армии, сдавались добровольно и без боя. Вот другой случай. Против нашей дивизии на реке Стрыпе у деревни Гайворонки стоял чешский полк, держался крепко всю зиму 1915/16 года, дрался с отличным упорством, а когда после трехдневных боев наши стрелки переправились через Стрыпу и начали подрывать удлиненными зарядами тридцать рядов колючей проволоки, – все чехи этого полка[9] успели убежать, мы взяли их пленными лишь несколько десятков.
В те же дни у деревни Висневчика на Стрыпе наши стрелки захватили почти целиком 10-й гонведный венгерский полк, выйдя неожиданно ему в тыл. Тогда же мы все высказывали мысль, что рассказы о добровольной сдаче целых чешских полков – басня. Это была своего рода игра с двойным обеспечением: драться хорошо до победы своих, а в случае поражения или в трудную минуту – прикрыться славянским братством, чтобы и в плену было неплохо.
Ясно, что из массы военнопленных-шкурников не могли образоваться крепкие воинские части. Когда им грозила опасность быть выданными большевиками графу Мирбаху, германскому посланнику в Москве, они рванули, ведомые своими лучшими и храбрыми; в первых же стычках многих из них, героев, потеряли и как только встретили опасность, столкнулись с крепкими красными частями, то повернули назад. Отступление чехов с их «военной добычей» легло теперь всей тяжестью на русское многострадальное офицерство и добровольцев; плохо снабженные, полуголодные, недостаточно даже вооруженные, эти истинные герои прикрывали чешские эшелоны, наполненные здоровыми, сильными людьми, с изобилием всяких запасов.
Естественно, что чувства русских начали меняться и, вместо прежних иллюзий восхищения освободителями и братьями, стало нарождаться чувство возмущения и презрения к жадным и трусливым чужакам, нашим же военнопленным.
Собственно говоря, отступлением от Волги и кончилась боевая деятельность Чехословацкого корпуса. Некоторое время они стояли еще на фронте, правильнее сказать обозначали свое там место, каждый раз только до первого появления красных сил, затем сматывались и уходили на восток. Все бои и вся арьергардная служба легли своей тяжестью исключительно на русские добровольческие отряды волжан и уфимцев.
Всякое отступление вносит в ряды войск некоторую деморализацию, это лежит в самой природе события. Такое же отступление, как то было осенью 1918 года с чехословацкими полками, беспорядочное, безнаказанное, быстро дополнило их разложение; этот процесс еще более усиливался от той демагогии, которую расплодили и усиливали с каждым днем тогдашние их руководители, социалисты из Национального комитета.
Они прокричали на все концы, что «их цель – борьба за демократию», что «вмешиваться во внутренние дела России они не желают». И в то же время они самым беззастенчивым образом поддерживали партию эсеров, добывали для нее власть над русскими массами. Так было, когда они оказали, в лице доктора Павлу, давление на образование социалистической директории, в Томске чехи открыто выступили в поддержку Сибирской областной думы, состоявшей почти поголовно из эсеров, шедшей против временного Сибирского правительства и командовавшего Сибирской армией генерала Гришина-Алмазова. В низах чехословацких полков велась постоянная и все усиливающаяся пропаганда: дельцы-социалисты, обделывая свои темные махинации, уверяли солдатскую массу, что они соблюдают интересы их и русского народа, стоят на страже революции и «борются против реакции». Между прочим, как ясный признак ее выдвигалось то, что русские офицеры и солдаты надели погоны, свою старую, историческую форму.
Чехословацкий национальный комитет скоро повел козни даже против созданной при его же помощи социалистической Уфимской директории и стал всецело на сторону левых эсеров, группировавшихся около В. Чернова. Несмотря на это, с чехами продолжали носиться. Директория и входящий в нее членом Верховный главнокомандующий генерал Болдырев оставили командование всем Уральским фронтом в руках чешского генерала Яна Сырового, несмотря на то что фактически боевая служба неслась одними русскими добровольческими отрядами и чехи лишь местами еще занимали второстепенные участки да кое-где стояли в резервах. В ответ на такой реверанс Сыровый отказался исполнять приказы генерала Болдырева. После долгих сцен и уговоров он заявил, что будет подчиняться Болдыреву лишь временно, до приезда французского генерала Жанена; на самом деле не выполнилось и это, чехи действовали совершенно самостоятельно.
Не было у них уже и внутренней, своей дисциплины; скоро полки их приобрели такой же вид, как наши «товарищи» конца семнадцатого года. Без погон, в умышленно небрежной и неформенной одежде, с копной длинных кудлатых волос, с насупленным злобным взглядом, вечно руки в карманах, – чтобы по ошибке и по старой привычке не отдать честь офицеру; толпы их были на всех станциях, молчаливые, державшиеся кучками по десять – пятнадцать человек, ничего не делавшие, кроме регулярного наполнения своих желудков и бесконечных, бестолковых словопрений. Было у них еще одно занятие: они сторожили свои огромные запасы, охраняли их усиленными караулами, с винтовками в руках.
Вот краткий перечень вывезенного чехами в первый период, после отступления от Волги.[10]
«Отойдя в тыл, чехи стали стягивать туда же свою военную добычу. Последняя поражала не только своим количеством, но и разнообразием. Чего-чего только не было у чехов. Склады их ломились от огромного количества русского обмундирования, вооружения, сукна, продовольственных запасов и обуви. Не довольствуясь реквизицией казенных складов и казенного имущества, чехи стали забирать все, что попадало им под руку, совершенно не считаясь с тем, кому имущество принадлежало. Металлы, разного рода сырье, ценные машины, породистые лошади – объявлялись чехами военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше трех миллионов золотых рублей, резины на 40 миллионов рублей, из Тюменского округа вывезено огромное количество меди и т. д. Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета.
Точное количество награбленного чехами не поддается даже учету. По самому скромному подсчету, эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов золотых рублей и значительно превышала контрибуцию, наложенную пруссаками на Францию в 1871 г. Часть этой добычи стала предметом открытой купли-продажи и выпускалась на рынок по взвинченным ценам, часть была погружена в вагоны и предназначена к отправке в Чехию. Словом, прославленный коммерческий гений чехов расцвел в Сибири пышным цветом. Правда, такого рода коммерция скорей приближалась к понятию открытого грабежа, но чехи, как народ практический, не были расположены считаться с предрассудками».
К этому добавим, что чехами было захвачено и объявлено их собственностью огромное количество паровозов и свыше 20 тысяч вагонов. Один вагон приходился примерно на двух чехов; понятно, что такое количество им было необходимо для провоза и хранения взятой с бедной России контрибуции, а никак не для нужд прокормления корпуса и боевой службы.
Пропаганда и демагогия социалистов, руководителей из Национального комитета, попустительство русских властей и представителей Антанты, безнаказанный грабеж, сытая и бездеятельная жизнь – вот те факторы, которые окончательно разложили Чехословацкий корпус.
Уже в октябре 1918 года чехи окончательно отказались драться и потребовали вывода их в тыл, мотивируя это тем, что они хотят быть отправленными в Европу, на Французский фронт. Русское командование против этого не протестовало, так как иметь на фронте подобную разнузданную, доведенную социалистами до степени большевизма массу было только во вред. Русское командование настаивало на одном и обращалось с этой просьбой – подождать несколько недель и дать возможность закончить начатое формирование наших частей; чешское командование, кроме генерала Гайды, не соглашалось и на это. И к началу ноября 1918 года весь Чехословацкий корпус был убран в тыл, на фронте остались только русские молодые полки.
Около этого времени доблестный чешский полковник Швец, один из ветеранов 1-й чешской дивизии, не стерпел развала своей части, не мог перенести позора и застрелился.
Возмущение среди армии и населения Сибири против чехов росло с каждым днем. Когда чехословацкие полки уходили в тыл, они забрали с собою все вооружение, причем некоторые их батареи имели двойной комплект пушек; увезли они большие склады обмундирования и обуви. И это в то время, когда на фронте им на смену становились русские полки, плохо и недостаточно вооруженные, полураздетые и полуобутые, с огромным недостатком орудий, пулеметов и винтовок. Терпели мы и переносили все это потому, что не было силы расправиться с этими пятидесятитысячными бандами, не было возможности обезоружить их и загнать снова в концентрационные лагеря, – единственно чего они заслуживали. В свою очередь среди чехов росло недружелюбное чувство ко всем русским, к самой России. Доктор Павлу и другие политические руководители разжигали это чувство еще тем, что умышленно натравливали свою массу на русское офицерство, на русскую армию.
В начале ноября военный и морской министр директории адмирал А. В. Колчак прибыл особым поездом в Екатеринбург, чтобы лично ознакомиться с нуждами фронта. Разнузданные чешские солдаты начали задевать самой площадной бранью всех чинов конвоя русского военного министра, чешские офицеры, стоявшие тут же, не только не останавливали их, но даже подзадоривали. Один из офицеров направился к вагонам адмирала, проход куда был запрещен, – русский часовой пытался остановить чеха-офицера; со стороны последнего в ответ последовала отборная ругань, а затем попытка ударить часового. Тогда русский стрелок пустил в ход оружие, что он был обязан сделать по закону, – и смертельно ранил чеха.
Военный разведчик
Все иностранцы проявили возмущение этим случаем и стали на сторону безобразников, нарушителей порядка – чехов. Создали помпезные похороны, антирусскую демонстрацию; политиканы из Национального комитета говорили над могилой этого печального героя речи, полные ненависти к России и русским.
Характерно то, что союзнические военные части и высокие комиссары ведь видели и знали все это, им была открыта истинная картина и до мелочей было знакомо положение дела: и предательство на фронте, и бесконечный грабеж союзника – России, и вмешательство в государственные дела, и угрозы самой возможности дальнейшей борьбы от присутствия в тылу этой многотысячной разнузданной, вооруженной массы. Но они стыдливо закрывали глаза, загадочно улыбались и бездействовали; втайне же, за спиной они всячески ублажали и поощряли чехов.
В ноябре приехал в Сибирь французский генерал Жанен, глава миссии, и вступил в главнокомандование Чехословацким корпусом, как равно и другими «союзными» войсками. К этому времени война с Центральными державами была окончена победой Антанты. Чехословакию провозгласили самостоятельным государством. С Жаненом приехал новый чешский военный министр генерал Стефанек. Он имел задачу ликвидировать Национальный комитет, привести в порядок части, наладить дисциплину и добиться их фактического подчинения Жанену; кроме того, Стефанек надеялся, как он говорил в первые дни приезда в Сибирь, заставить чешские полки драться против большевиков. Высокой честности, доблестный солдат, человек незатемненный политической партийной мутью, генерал Стефанек пришел в ужас от того, что он увидел в своем воинстве в Сибири.
Но чешскому военному министру ничего сделать не удалось. Он встретил сильное противодействие и среди своего командного состава, и у политических руководителей, и в солдатской массе; последняя ответила даже тем, что открыто потребовала учреждения полковых и дивизионных комитетов солдатских депутатов, наподобие тех, что были созданы Гучковым и Керенским для развала русской армии в 1917 году.
Ничего не добившись, генерал Стефанек уехал обратно в Прагу, сконфуженно прощаясь с русскими друзьями и открыто выражая им свои искренние и глубокие сожаления.
Все больше росло недовольство среди чехов, все чаще и громче раздавались их требования об эвакуации из Сибири и о возвращении на родину – война с Центральными державами была кончена. Верховный правитель, заменивший собою кастрата-директорию, а равно наше высшее командование поддерживали перед союзниками эту просьбу чехов: нам было необходимо убрать как можно скорее из Сибири этот вредный балласт, 50 тысяч разнузданных, вооруженных и враждебных России солдат.
Какое это было зло и какая угроза в тылу! И какой гибельный пример нашим солдатам. Приходится еще больше и ниже преклониться перед отличными свойствами русского человека, – ведь наряду с этими полубольшевиками, потерявшими человеческий образ, не желавшими отдавать честь не только своим и русским офицерам, но даже французам и американцам, пред которыми чехи все время благоговели, зная, что от них зависит отсылка их на родину, – наряду с этими массами в наших русских полках дисциплина укреплялась с каждым днем, отдание чести было не только исправное, но даже отчетливое, щеголеватое, служба неслась и на фронте и в тылу на совесть, по уставу.
Союзники не нашли возможным удовлетворить просьбу чехов, объяснили им, что сейчас-де нет достаточного количества транспортов для перевозки всего корпуса, но обещали, что при первой возможности их вывезут. Этим обещанием чехов заставили подчиниться приказу Жанена – стать вдоль железной дороги и охранять ее. Как неслась эта охрана и служба, описано в предыдущей главе.
Невольно возникает вопрос: что же за отношение у союзных держав было к России и русскому народу? Представители их в Сибири знали всю вопиющую правду о тех неслыханных, безобразных преступлениях, которые произвел в России Чехословацкий корпус, знали, в каком состоянии находилось это войско, не могли не видеть постоянной угрозы русскому национальному делу со стороны этой взрывчатой массы. А кроме того, к ним были обращены и неоднократные просьбы русского правительства убрать чехов из России. Но не нашли возможным сделать это.
Может быть, действительно не было транспортов и достаточного количества тоннажа? Допустим, что так, но у них, этих руководителей союзнической, а к тому времени и мировой политики, было зато достаточно в Сибири сил, – три доблестные японские дивизии, одна канадская, по батальону сербов, румын, итальянцев и французов, два батальона англичан, – чтобы обуздать чешскую массу, обезоружить, привести в порядок. Это сделать можно было, это сделать должны были наши бывшие союзники, на это им не раз указывали. Но они этого не сделали. А может быть, и не хотели сделать?
3
Чехословацкие части двигались все более в глубокий тыл, чтобы там выжидать возможности эвакуации; среди их масс продолжался все тот же процесс разложения и параллельно шло укрепление эсеровского влияния. Полное бездельничанье и разгильдяйство среди чехов стало нормальным явлением; единственно, чем они продолжали усиленно заниматься, – развили торговлю и спекуляцию не только награбленным имуществом, но и новыми товарами, привозимыми с Дальнего Востока. Для этой цели чешское командование и политические руководители начали беззастенчиво использовать русскую железную дорогу, которая при всем напряжении не могла даже удовлетворить потребностей боевых армий и населения Сибири. Довольствие чеховойска брало треть всего наличного транспорта, обращавшегося тогда на Сибирской железной дороге, что давало на каждого чешского солдата по несколько десятков пудов ежемесячно. На действительные потребности войсковых частей из этого количества шла меньшая часть – львиную долю транспорта составляли различные ходкие товары, поступавшие потом от чехов на сибирский рынок. Не довольствуясь этим, чешские руководители начали вскоре передавать частным лицам, ловким спекулянтам, свое право на целые вагоны.
Возникало несколько громких дел. Однако Омское правительство, имевшее среди своих членов партийных социалистов, закрывало на это глаза, проповедуя нежелание обострять отношения; с другой стороны, так это все надоело и так все еще дорожили помощью союзников, что предпочитали терпеть и ждать, когда эти «доблестные» воины-спекулянты уберутся из Сибири.
Но адмирал Колчак твердо решил положить в будущем конец этому вопиющему безобразию, он ждал также, когда можно будет выбросить чехов из Сибири во Владивосток, чтобы там, перед их посадкой на суда, произвести ревизию всех их грузов. От участия в этой ревизии не могли бы уклониться и союзники. И несомненно, тогда преступление встало бы во весь рост и во всей своей неприглядной наготе; грабителей уличили бы с поличным.
И ясно: чем крепче был бы порядок в тылу, чем сильнее управилась бы там государственная организация, тем вернее поплатились бы все преступные элементы. Данные же были налицо, что усиление государственности и порядка, несмотря на все препятствия, идут верными шагами вперед; и виднелся день, когда русская национальная мощь окрепнет в тылу так же, как она была крепка на боевом фронте. Вот тогда-то и состоялось тайное соглашение между партией эсеров и главарями Чехословацкого национального комитета: чехи будут содействовать свержению правительства адмирала Колчака и переходу власти в руки эсеров, за что получат право вывоза своих многомиллионных грузов. Такова основа соглашения, реальная цель – рука руку моет.
Понятно вполне, что не представляется возможным установить точно время, когда состоялось это соглашение, каковы были детальные условия, способы осуществления, – все это делалось в глубокой тайне. В сущности, полное согласие не только между эсерами и чехами, но и с третьей стороной, с союзническими миссиями, установилось еще с лета 1918 года, с той же поры велась и общая работа, направленная ко вреду национальной России, но раньше все это носило случайный и временный характер; теперь был заключен союз, народился сплоченный комплот, сильный заговор, организованное проведение плана в жизнь.
Вся зима 1918/19 года прошла в передвижении Чехословацкого корпуса по железной дороге, в долгих уговариваниях солдат стать в тот или другой город или на станцию, в упрашиваниях со стороны союзных миссий согласиться на службу по охране железной дороги.
Всю зиму эти 50 тысяч военнопленных, разжиревших на сибирских хлебах, ничего ровно не делали. Всюду были толпы этих парней; наглое одутловатое лицо, чуб выпущен из-под фуражки по большевицкой моде, бегающий взгляд глаз, останавливающийся на каждом русском с враждебным и виноватым выражением. Все чехи были одеты щеголями, как наши писаря Главного штаба былых времен, – новенькая форма, сшитая из русских сукон, форсистые сапоги бутылками и перчатки. Нельзя не повторить, что многострадальная боевая русская армия в то же время была в рубищах и терпела недостаток во всем.
К весне наконец разместили чехов по квартирам, но они заявили, что поездов не отдадут, выставили к ним караулы и оставили вагоны нагруженными накраденным добром, чтобы в любую минуту быть готовыми к отъезду. Во всех городах междусоюзническая комиссия отвела для чехословацких частей лучшие помещения, в большинстве русские школы.
Союзные представители продолжали всячески ублажать чехов; как будто русских интересов совершенно не существовало для этих миссий, приехавших в Сибирь нам же помогать.
Вдобавок ко всем качествам чеховойска среди солдат их появился огромный процент больных скверными, секретными болезнями. Для них очистили госпитали и наводнили ими все города включительно до Владивостока. Наших раненых выбрасывали или отказывали в месте, так как больным чехам необходимы были лучший уход и заботы.
Ранней весной, проездом в Омск, я и генерал Нокс остановились на несколько дней в Иркутске. Командующий войсками этого округа генерал-лейтенант Артемьев развернул перед нами ужасную картину безобразного поведения солдат-чехов; старый боевой русский генерал трясся от гнева и сдерживаемого желания поставить на место разнузданную массу чехов, которых в свое время и корпус генерала Артемьева взял немало в плен в Галиции и Польше. Представитель Великобритании Нокс, который был отлично в курсе всего, который сам возмущался в интимном кругу этими порядками, теперь пожимал только плечами и говорил, что надо терпеть, так как в будущем чехословацкие войска принесут-де пользу.
Ненависть и презрение к дармоедам, обокравшим русский народ, возрастали в массах населения сибирских городов, в деревнях и в армии. Когда мы проезжали по улицам Иркутска, Красноярска и Новониколаевска, то видели на заборах почти всех улиц надписи мелом и углем: «Бей жидов и чехов. Спасай Россию!»
Нокс опять пожимал плечами и бормотал что-то о несдержанности русского народа.
На остановке в Красноярске в апреле 1919 года я долго говорил с начальником 3-й чехословацкой дивизии, майором Пржхалом, бравым офицером типа полковника Швеца. Он высказывал также полное возмущение своей массой и допущенным развалом; офицерская совесть майора Пржхала не мирилась с сидением за спиной русской армии. Но, по его мнению, дело можно было исправить, можно было даже получить для борьбы с большевиками хорошую и достаточную силу, – для этого требовалось провести лишь три меры: упразднение всяких политических руководителей, отделить около половины негодного элемента, обезоружить его, заключив в концентрационные лагеря, и вернуть строевым начальникам всю дисциплинарную власть, с учреждением военно-полевых судов. Понятно, на это не шли ни политические руководители чехов, ни союзные представители, ни «главнокомандующий русскими военнопленными» Жанен. Им нужно было не то…
Лето и начало осени 1919 года чехи провели на охране железных дорог. Весьма характерно то, что с их появлением в этой роли нападения и порча железной дороги участились и наконец сделались местами повседневным, регулярным явлением.
Постепенно усиливался комплот в тылу, креп заговор, росли вражеские силы; какие были у них планы и расчеты, тогда нельзя было в точности выяснить. Но документально установлено, что восстание против власти адмирала Колчака во Владивостоке и в Иркутске было поднято и проведено при близком участии и даже при помощи чехов. Гайда, живший с июля во Владивостоке и готовивший при широкой поддержке тамошнего Чехословацкого штаба восстание, получил после падения Омска телеграмму от официального чешского представителя при Омском правительстве доктора Гирсы такого содержания: «Начинайте, все готово».
Вслед за этим тот же доктор Гирса и Павлу издали в конце ноября меморандум, обращенный ко всем союзным представителям. Они драпировались в тогу гуманности и законности, они требовали или вывоза их войск на родину, или «предоставления им свободы воспрепятствования бесправию и преступлению, с какой бы стороны они ни исходили»…
В начале меморандума эти обогатившиеся русским добром политические шулера обращаются «к союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав»…
Далее говорится о произволе русских военных органов, об «обычном явлении расстрелов без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности», «об ответственности за все это перед судом народов всего мира, почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию».
Это точные цитаты из документа. И все здесь от начала до конца ложь, – даже и касательно расстрела так называемых представителей демократии, то есть русских социалистов.
К несчастью, это было не так, ибо если бы действительно это широко применялось, то был бы жив до сих пор адмирал Колчак, существовала бы его армия и, надо верить, она освободила бы святую многострадальную Русь от кровавых тисков интернационала.
Во всем меморандуме правда лишь в его начале, – а именно в просьбе совета, каким образом чехословацким эшелонам выбраться из Сибири на родину и вывезти все захваченные богатства. Цель же меморандума была одна – оправдать заранее участие чеховойска в мятежных и изменнических восстаниях.
Но руководители заговора, видимо, не все рассчитали. После падения Омска, когда отступление белой армии пошло быстрым и ежедневным ходом, чехословацкие полки, жившие постоянной мыслью выезда из Сибири, охватила паника. Как стадо, напуганное призраком смерти, рванулись легионеры назад, на восток, ничего не видя, кроме страха опасения за свои жизни. Под влиянием паники, пользуясь силой и покровительством высоких русских гостей – союзных представителей, эти банды стали совершать подлинно каиново дело. Остановить взбунтовавшиеся, бешеные массы можно было только силой японских и английских штыков да резкими крайними мерами; возможность этого была в руках генералов Нокса и Жанена, но они не захотели помочь нам это сделать.
Вот короткое описание происходившей трагедии:[11]
«Длинною лентой между Омском и Новониколаевском вытянулись эшелоны с беженцами и санитарные поезда, направлявшиеся на восток. Однако лишь несколько головных эшелонов успели пробиться до Забайкалья, все остальные безнадежно застряли в пути.
Много беззащитных стариков, женщин и детей были перебиты озверевшими красными, еще больше замерзло в нетопленых вагонах и умерло от истощения или стали жертвой сыпного тифа. Немногим удалось спастись из этого ада. С одной стороны надвигались большевики, с другой лежала бесконечная, холодная сибирская тайга, в которой нельзя было разыскать ни крова, ни пищи.
Постепенно замирала жизнь в этих эшелонах смерти. Затихали стоны умирающих, обрывался детский плач, и умолкало рыдание матерей.
Безмолвно стояли на рельсах красные вагоны-саркофаги со своим страшным грузом, тихо перешептывались могучими ветвями вековые сибирские ели, единственные свидетели этой драмы, а вьюги и бураны напевали над безвременно погибшими свои надгробные песни и заметали их белым, снежным саваном.
Главными, если не единственными, виновниками всего этого непередаваемого словами ужаса были чехи.
Вместо того чтобы спокойно оставаться на своем посту и пропустить эшелоны с беженцами и санитарные поезда, чехи силою стали отбирать у них паровозы, согнали все целые паровозы на свои участки и задерживали все, следовавшие на запад. Благодаря такому самоуправству чехов весь западный участок железной дороги сразу же был поставлен в безвыходное положение».
И дальше: «Более пятидесяти процентов имеющегося в руках чехов подвижного состава было занято под запасы и товары, правдами и неправдами приобретенные ими на Волге, Урале и в Сибири. Тысячи русских граждан, женщин и детей были обречены на гибель ради этого проклятого движимого имущества чехов».
Доктор Гирса и Богдан Павлу взывали в своем меморандуме к суду народов всего мира – как раз накануне этого дела, подобного которому не было в истории всех веков…
На этом гнусное предательство не кончилось; было ясно, что исполнители скрытого указания интернационала, социалисты, пойдут теперь до конца, будут стремиться к полному уничтожению вождей национального дела. К несчастью, верховный правитель продолжал относиться доверчиво к союзным представителям, все так же переоценивал значение и влияние на жизнь своих министров. Оттого-то, вероятно, и ускользнула из его внимания неизбежная последовательность событий в тылу, оттого-то, очевидно, следуя призыву своих министров, он решил и сам ехать в Иркутск, отделился от боевой армии.
А это и нужно было заговорщикам. Тут-то они и выявили, уже не стесняясь ничем, свое открытое лицо.
4
Цепь злодеяний, совершенных иностранной интервенцией в Сибири, дополнилась еще и предательством чехословацкими вожаками самого адмирала Колчака в руки их политических единомышленников и соучастников, в руки эсеров.
Впоследствии чешские политики выпустили обращение к Сибири; в нем они заявляли, что, взяв адмирала Колчака под свою охрану, чехи предали его «народному суду не только как реакционера, но и как врага чехов, так как адмирал приказал атаману Семенову не останавливаться перед взрывом тоннелей для того, чтобы задержать чешское отступление на восток».
Каждая черточка всех этих действий, их попыток обелиться и оправдаться путем нот и обращений – перлы самой беззастенчивой подлости, смешанной с наивностью, граничащей с глупостью. Это А. В. Колчак-то реакционер! Да если он отчего и погиб, отчего рухнуло и возглавляемое им дело, – так это главным образом оттого, что он делал слишком много уступок, терпел социалистов в своем кабинете министров, отказывался признать и объявить партию эсеров противоправительственной, вредной и врагами народа, неоднократно упоминал в своих декларациях о созыве по приходе в Москву Учредительного собрания, наконец обещал и издал даже указ о созыве в Сибири Земского собора.
Кроме всего, чехи постоянно заявляли, и в последний раз в пресловутом ноябрьском меморандуме Гирсы и Павлу, что они не хотят и не считают себя вправе вмешиваться во внутренние русские дела. Следовательно, какое им могло быть дело до реакционности того или другого из русских деятелей!
Тотчас после ареста верховного правителя чехами на станции Нижнеудинск Совет министров как-то сам собой распался, и большинство их уехало на восток; а в Иркутске тотчас же образовался политический центр, состоящий из трех авантюристов, харьковского спекулянта Фельцмана, Косьминского и подпоручика-дезертира; этот «политический центр» объявил себя носителем российской верховной власти. Первое распоряжение министра финансов этого нового правительства, жидка-фактора и партийного эсера Патушинского было телеграфное приказание управляющему Владивостокской таможней Ковалевскому: «Беспрепятственно и без всякого досмотра пропускать к погрузке на пароход все, что пожелают вывезти чехи, ввиду их заслуг перед Россией».
Российское государственное достояние, 280 тысяч пудов золотого запаса, чехи довезли до Иркутска, причем было установлено, что по дороге один вагон, то есть тысяча пудов, был ими разграблен.[12] В Иркутске золото было сдано своим людям, тому же политическому центру; на сдаточной ведомости были подписи спекулянта Фельцмана и еще какого-то рядового эсера, бывшего владельца ресторана в Иркутске.
Эсеры и их политический центр продержались в Иркутске только восемь дней, после чего власть была захвачена большевицким Совдепом во главе с агентом Московской советской власти. Чехи сумели сговориться и с ними.
Где нашли Патушинские и компания заслуги перед Россией: теперь ли, в предательстве чехов, или в их выступлении летом 1918 года, когда они, добиваясь личной безопасности, потревожили русский муравейник. Ответ ясен: помощь Московскому интернационалу, погубление русского дела – вот заслуга перед Россией, по мнению Патушинских.
И ведь представить себе только, что все это проделывалось на глазах всех союзных стран, – ибо эти глаза существовали тогда еще в Сибири в лице высоких комиссаров и военных миссий; все они внимательно и пытливо следили за разворачивавшимися событиями, ежедневно ставя о них в известность Париж, Лондон и Нью-Йорк. Знаменитая в истории фигура, достойная быть поставленной наряду с искариотским Иудой, французской службы генерал Жанен телеграфировал в Париж, что «доблестные» чехословаки по его приказанию передали золотой запас политическому центру.
Место не позволяет еще подробнее развернуть и вырисовать все детали этой картины, как военнопленные России под командой французского генерала топтали в грязи и крови все, что было в России национального, честного, готового до конца остаться верным долгу: очевидно, за то, что простецкая наша страна слишком усердно спасала Париж; видно, это была расплата за то, что святая Русь положила за дело союзников в мировой войне свыше 3 миллионов своих лучших сынов убитыми в боях.
Цель настоящего очерка – лишь обрисовать в общих чертах те трудные условия, в какие было поставлено дело белых со стороны пресловутых интервентов, как были собраны и подготовлены ими силы враждебные национальному возрождению России, как было совершено предательство.
Передав в руки эсеров верховного правителя, сдав политическому центру русский золотой запас, чехословацкие эшелоны продолжали свое движение на восток. По пути они захватили наличную кассу Иркутского казначейства и клише экспедиции заготовления государственных бумаг для печатания денежных знаков; купюры их они начали усиленно печатать, преимущественно билеты тысячерублевого достоинства.[13]
На их пути встретился еще один крепкий русский район – Забайкалье с Читой, где сохранилась русская национальная сила под начальством атамана Семенова. Чехи знали, что им не пройти мимо этой заставы безнаказанно.
Но и здесь они находят помощь интервентов-союзников. Ян Сыровый сосредоточивает несколько эшелонов к станции Мысовой и к городу Верхнеудинску, высаживает свои части и, при содействии и вооруженной поддержке 30-го американского пехотного полка, нападает внезапно на русские части; после короткого боя чехи и американцы обезоружили эти отряды атамана Семенова. Разоружение в Верхнеудинске сопровождалось похищением 8 миллионов казенных денег.[14]
То же самое собирались чехи проделать и в Чите, главной квартире атамана Семенова, но там был уже район охраны железной дороги японцами; со стороны их командования чехи встретили серьезный отпор, вступать с ними в бой не посмели, а обратились к заступничеству своего соучастника и руководителя Жанена. Союзниками было оказано на японцев давление, после чего атаман Семенов был принужден разрешить чехословакам проезжать через Читу на восток, но с условием, чтобы ни один чех-солдат не смел выходить из поезда на станцию и в город.
Первые чешские эшелоны вышли в полосу отчуждения Восточно-Китайской железной дороги и добрались до Харбина. Вот как описывает это очевидец:[15] «Интересную картину представлял Харбин в дни прохода чешских эшелонов. Прежде всего прибытие чехов отмечалось резким падением курса рубля. Китайские менялы сразу учитывали, что на рынок будет выброшено много рублей, и играли на этом. Меняльные лавки были полны чехами, менявшими русское золото и фунты кредиток на иены и доллары. На барахолке шла бойкая распродажа движимого имущества, начиная от граммофонов и швейных машин и кончая золотыми брошками и браслетами. На станции же железной дороги распродавались рысистые лошади и всякого рода экипажи».
Целые мешки сибирских кредитных билетов, частью похищенных, частью напечатанных самовольно, были выпущены чехами на харбинский денежный рынок. Во Владивостоке они представили для обмена 100 миллионов свежих купюр тысячного достоинства.
То были первые эшелоны. Задние же в это время еще находились западнее Иркутска. Казалось бы, что для пропуска их на восток чехам необходимо было выгнать боем большевиков, засевших в Иркутске, выхвативших там власть из рук эсеровского политического центра. Чехи отлично знали, что белая русская армия окажет им в этом самую действительную помощь. Но руководители чехословацкого воинства во главе с Яном Сыровым остались верны себе до конца. Они предпочли пойти с комиссарами на мировую и заключили форменное условие, где было предусмотрено, какое расстояние должно быть между последним, задним чешским эшелоном и авангардом советской Красной армии, кого еще чехи должны выдать большевикам, в каких условиях они должны обезоруживать отряды нашей, белой армии; негласно чехи снабжали местные красноармейские банды оружием и боевыми припасами.
Больше того – они возили в своих поездах большевицких агитаторов, доставили во Владивосток представителя Московского советского правительства жида Виленского, предоставили в распоряжение большевиков пользование чехословацкой войсковой почтой. Словом, дошли до предела.
Бесконечно тяжелое положение было многих русских офицеров, добровольцев, беженцев и женщин, так как многие отбились от нашей армии, шли и ехали одиночным порядком. Так как русских поездов не было и вся железная дорога была набита исключительно чешскими эшелонами, то естественно, что все они обращались за помощью к чешским офицерам, рассчитывая на их самое примитивное благородство, а главное – из-за безвыходности положения: приходилось спасать жизнь от большевиков и эсеров.
Чаще всего чехи отказывали русским в их просьбе поместиться в вагонах, где просторно ехали их нижние чины, наши военнопленные, и везли грузы. Иногда они принимали, но затем на одной из следующих станций выдавали большевикам.
За разрешение проехать в нетопленом конском вагоне чехи брали от 5 до 15 тысяч рублей, или золотые вещи; но и плата не всегда гарантировала жизнь и доставление до Забайкалья, где была уже безопасная от большевиков зона.
Около станции Оловянная из проходящего чешского эшелона было выброшено три мешка в реку Окон. В мешках нашли трупы русских женщин. Нет возможности установить хотя бы приблизительно список погубленных и преданных за этот период.
Благодаря случайно спасшемуся полковнику барону Делинсгаузену выяснилась вся грязь предательства чехами славного сибирского казака, генерал-майора Волкова и его небольшого отряда.
Генерал Волков отбился от армии и не мог догнать ее. Между тем наседали красные с запада и появились банды с востока, от Иркутска; тогда около станции Ангара Волков обратился за помощью и спасением к начальнику стоявшего там чешского эшелона.
– Впереди никаких красных нет, – ответил тот, – вы смело можете двигаться вдоль полотна, но только торопитесь.
В полутора верстах от станции отряд был встречен залпами; первыми выстрелами был убит генерал Волков и смертельно ранена его жена. Из всего отряда спаслись только шесть человек с бароном Делинсгаузеном. По возвращении на станцию они были встречены словами:
– Как!.. Вы не пробились? Ведь красных было так мало…
Через короткое время большевики подошли к станции, и все шесть спасшихся были выданы им по приказанию того же начальника эшелона. Все выданные были расстреляны, только барону Делинсгаузену удалось спастись буквально чудом. Подробный рассказ его приведен был тогда же, по прибытии его в Харбин, во всех дальневосточных газетах.
Для полноты впечатления о степени предательства надо сказать несколько слов и о том, в какое положение была поставлена этим стадным стремлением на восток чехов 5-я польская дивизия, которая формировалась также в Сибири и находилась под покровительством Франции и под главнокомандованием того же Жанена.
Чтобы не дать возможности полякам продвинуть их санитарные поезда и семьи раньше чешских эшелонов, что было опять-таки только справедливо, чехи поставили на главных путях западнее станции Клюквенной три пустых замороженных эшелона.
На предложение поляков отдать чехам двадцать паровозов со всем имуществом за пропуск на восток двух польских санитарных поездов и трех эшелонов с семьями был получен по телеграфу ответ от Жанена и Сырового, что «план эвакуации остается неизменным».
Назревало кровавое столкновение польских частей с идущим в хвосте бегущего стада, 12-м чехословацким полком; для предупреждения его командир последнего заверил честным словом польское командование, что он уберет замороженные составы и откроет путь. Так тянулось дело три дня.
Путь не был очищен. С запада надвинулись части Красной армии, которыми и была пленена 5-я польская дивизия; капитуляция состоялась на условиях, дававших полякам возвращение на родину.
Но ясно, что после сдачи оружия большевики все эти условия нарушили. Свыше 2 тысяч офицеров и солдат были посажены за проволоку, из остальных составили рабочие команды и отправили в сибирские рудники, а семьи – женщин и детей выбросили из вагонов на тридцатиградусный мороз.
5
Дойдя до Владивостока, чехи стали постепенно, по мере предоставления им «союзниками» транспорта, грузиться на суда, стаскивая сюда же и награбленное имущество. Никто не мог защитить интересы нашего народа и страны, так как все русское национальное было истреблено почти начисто, остатки белой армии совершали тяжелый поход через Сибирь, временно наверху, у власти оказалась снова социалистическая муть; во Владивостоке распоряжалось эсеровское правительство Медведева и K°, которое помогало чехам дополнить их запасы, не забывая и себя.[16] Многое осталось неизвестным, но тогда же было кое-что обнаружено; так, например, было опубликовано, что эсеры продали чехам сотни тысяч пудов меди по 8 иен за пуд вместо минимальной рыночной цены 20 иен за пуд.
Иностранцы смотрели на все это холодно, равнодушно и только иной раз – кто нечестнее – с презрением; лишь один раз английский консул остановил погрузку резины на общую сумму около 5 миллионов иен, взятой чехами из владивостокских пакгаузов, – остановил только потому, что там пострадали бы интересы и английских подданных. Отдельные русские люди и несоциалистическая пресса пробовали протестовать, опубликовывать вопиющие факты открытого, безнаказанного ограбления России. Чехи или оставляли без ответа, или отвечали отписками, иногда только подтверждавшими все эти факты. Прочие страны Согласия хранили упорное молчание.
Вот один из документальных примеров. В номере от 1 мая 1920 года газеты Japan Advertiser была помещена телеграфная корреспонденция, из Владивостока, следующего содержания: «Вчерашний отъезд транспорта «Президент Грант» оставил еще 16 000 чехов для эвакуации; транспорт для них еще не предусмотрен и не ожидается раньше конца июня. Есть предположение зафрахтовать японские пароходы, так как ничем не занятые чехи суть причина постоянных волнений и недоразумений. «Президент Грант» увез 5500 чехословаков, а также сотни тонн золота, серебра, меди, машин, сахара и всяких других продуктов, как и другое награбленное добро, которое чехи увозят с собою из Сибири».
Чехословацкий посланник в Токио господин Перглер нашел нужным и возможным представить такой ответ, помещенный вслед за тем, в той же газете и в русской дальневосточной прессе:
«Газеты содержат сообщение из Владивостока от 28 апреля касательно возвращения на родину чехословацкой армии из Сибири, а также относительно отъезда американского транспорта «Президент Грант», увозящего 5500 чехословаков. Сообщение газеты: «Президент Грант» увозил 5500 чехословаков, сотни тонн золота, серебра, меди, машин, сахара, снаряжений и другого награбленного добра, которое чехи увозят с собою из Сибири. – Газеты озаглавливают это сообщение следующими словами: «Чехи увозят награбленное из Сибири» и «чехи грабят Сибирь». – Словарь определяет слово «награбленное» как обозначающее грабеж в связи с войной и всеобщим расстройством порядка; чехословацкие солдаты таким образом обвиняются в весьма серьезном преступлении.
Обязанности дипломата, насколько я[17] их понимаю, заключают в себе также защиту доброго имени своей страны и своих сограждан. Эта обязанность особенно существенна, когда ставится вопрос о добром имени армии, которою восторгался весь свет, как в данном случае чехословацкой армией в Сибири. Тот факт, что чехословаки увозят из Сибири, в этом случае на американском транспорте, свое собранное имущество, приобретенное на свои собственные деньги. Чехословаки находились в Сибири очень долго. Эти солдаты все воспитанные люди, многие из них окончили университеты, интеллигентные рабочие и ремесленники. Как солдаты они получали известное количество денег. Вместо того чтобы расходовать свое жалованье, они сложили свои финансы и основали большое торговое общество, а также значительные банки, банк чехословацких легионеров. Эти доходы увеличивались при русских условиях потому, что жалованье было уплачиваемо во франках и выплачивалось по курсу дня русскими деньгами. Солдаты скупали большое количество запасов, и именно эти запасы теперь увозят в республику. Для них было особенно важно купить хлопок, необходимый в текстильной промышленности, и в этих покупках они дошли до таких размеров, что в октябре русский экономист рекомендовал сокращение покупок хлопка чехами, это, очевидно, доказывает, что эти сделки были законные, основанные на обычных методах покупки и продажи.
Что чешские солдаты делают со своим жалованьем, как бы незначительно оно ни было, видно из того, что в 1918 году они подписали пять миллионов франков на заем Чехословацкого национального совета для поддержки этой же армии».
Поставим и мы точку. Этот документ говорит сам за себя, и в нем есть подтверждение всего, что изложено в настоящей главе 5, – подтверждение частью словами, частью формой умолчания.
К этому остается прибавить немного слов, четыре коротких вывода. Во-первых, об общем славянском деле. Как блестяще и полно доказали действия вожаков Чехословацкого корпуса правильность и справедливость вечных беспокойств и хлопот старухи матери России о мелких, несчастных, забитых славянских племенах! Доказали также и верность нашего всегдашнего представления о той большой любви, которую славянские народцы питали и питают к святой Руси.
Общеславянское дело было чуть ли не главной проблемой в императорской России; и мировая война ведь имела поводом к ее началу ту же заботу о младших братьях-славянах, стремление защитить их самостоятельность.
Сердце всей России и сердца русских были отзывчивы и бились для других; Россия болела за них и готова была жертвовать кровью и жизнями своих сынов за это общеславянское дело и за свободу и счастье мелких славянских народцев.
Эпопея чехословацкой армии в Сибири, которой, по словам чешского посла в Японии, восторгался весь мир, дала России хорошую благодарность и еще лучший урок. Никто на свете, включая и честные элементы Чехословакии, не будет спорить, что славянской задаче и славянскому единству чехословацкое воинство в Сибири нанесло такой удар, какого не придумал бы и самый злейший враг.
Второе. Горе России безгранично. Истерзанная, окровавленная и распятая, она уже перестает биться в руках ее палачей, подавляющее число которых – интернациональное еврейство. Наша великая страна покрыта пожарищами, ужасными застенками, бесконечными кладбищами, залита кровью и слезами. И в мученичестве России то, что совершено чехословаками в 1918–1919 годах, есть страшная доля; русскому народу в конце концов не так жалко тех многомиллионных ценностей, которые украли и увезли за море, и даже кровь и страдания, причиненные по милости Чехословацкого корпуса, отходят и тонут в прошлом, – ведь били-то Россию, уже избитую интернационалом до бесчувствия, и крали у России ее богатства в те дни, когда у нее разворовали по чти все, украли даже ее честь и право на жизнь. Поможет Господь – и Россия переживет и залечит все это.
Но предательство, смертельный удар брата из-за угла в спину, удар в то время, когда русский народ напряг все усилия, чтобы сбросить со своей шеи цепкие лапы интернационала и вырвать нож, всаженный им в сердце, – вот что страшнее всего и вот чего Россия простить не может никогда. И не имеет права.
Третье. Никто не собирается и не хочет винить народы чехов и словаков за действия кучки грязных политических дельцов Чехословацкого национального комитета и за стадное движение разнузданной ими массы военнопленных. Нет сомнения, что в Чехии немало есть честных и доблестных Швецов; нет сомнения также, что народы Чехословакии не знают всего ужаса, содеянного их людьми в Сибири, не имеют представления даже и о тысячной доле той низости, что была проявлена ими.
И пожалуй, что этим-то народам, чехам и словакам, их собственной стране все эти дельцы принесли вред и сделали зло не меньшее, чем нашей России. Пройдут даже не века, а десятки лет, человечество в поисках справедливого равновесия не раз еще столкнется в борьбе, не раз, возможно, изменит и карту Европы; кости всех этих Благошей и Павлу истлеют в земле; русские ценности, привезенные ими из Сибири, тоже ведь исчезнут, – на место их человечество добудет и сделает новые, другие. Но предательство, иудино дело, с одной стороны, и чистые крестные страдания России – с другой – не пройдут, не забудутся и будут долго, веками передаваться из потомства в потомство.
А Благоши и K° прочно укрепили на этом ярлык: вот что сделал Чехословацкий корпус в Сибири!
И Россия должна спросить чешский и словацкий народы, как они отнеслись к иудам-предателям и что они намерены сделать для исправления причиненных России злодеяний?
Наконец, в-четвертых, – приходится повториться, но нельзя не подчеркнуть, что все зло, описанное здесь, это величайшее предательство, было проделано при свидетелях, при молчаливом согласии, а иногда и при поощрении «союзных» представителей. Не раз брало раздумье русских людей, стоявших у власти в те кровавые годы: не был ли и камертон у них в руках?
Во всяком случае, если не камертон, то какие-то скрытые нити тянулись. Недаром Ллойд Джордж сейчас же за окончанием этого акта мировой трагедии быстро переменил грим и открыл новую игру не только примирения с большевиками, но даже заключения с ними договоров.
Предыдущий акт был им доигран – русское национальное дело было почти погублено.
Главное, самое крупное, что произошло в Восточной России за 1918 и 1919 годы, описано в предыдущих главах. Но расчеты врагов России не оправдались, армия под Красноярском была разбита, но не уничтожена. Цель следующей главы – проследить ее путь и дальнейшую судьбу.
Глава 6 Сибирский ледяной поход
1
После кошмарно-тревожной ночи, закончившей Красноярскую трагедию, наступило славное зимнее утро, одно из тех, что бывают только в России на Святках. Чистый прозрачный свежий воздух. Белый снег блестит серебром и алмазами, нога утопает слегка в его упругой массе и при каждом шаге хрустит мелодичным волнующим звуком. С голубого неба лились потоки ярких, ослепляющих солнечных лучей, их тепло смягчало и без того некрепкий мороз, который только слегка щипал за щеки и бодряще прохватывал все тело. Офицеры и солдаты спозаранок, еще до свету, выбегали из жарко натопленных изб на улицу, чтобы подбросить лошадям сена или зайти к соседям узнать что-либо новое.
Было 7 января 1920 года – 25 декабря старого русского стиля, торжественные праздники Христова Рождества. Колокола высокой каменной церкви, белой с зеленым куполом, пели торжественным перезвоном на все село Есаульское, расходясь звучными волнами далеко, за Енисей, сзывая православных на общую молитву. И тянулись вереницы крестьян с серьезными бородатыми лицами, шли группы улыбающихся молодиц, разрумяненных морозом, блестящих улыбками и ласковыми глазами, проносились ватаги мальчишек, тащивших салазки и с громким смехом и криком перебрасывавшихся снежками. На всех лицах лежала обычная печать того спокойствия и умиротворения, какое столетиями испытывали русские люди в этот великий праздник славы в вышних Богу и мира на земле…
И только небольшие кучки офицеров и солдат, толпившиеся около изб, на церковной площади и по берегу Енисея, не участвовали в общей тихой радости. Они стояли, такие свои, близкие и в то же время отчужденные, ушедшие далеко от обычной жизни, оторванные от нее. У всех на лицах выражение неземной усталости, которая проглядывает во всем: из голоса, из улыбки, из каждого движения; работает все время и пробегает тенями по лицам напряженная мысль, к ней примешались недоумение и постоянное ожидание опасности. В то утро в селе Есаульском было две России: одна – старая, кондовая, спокойная, величавая Русь, другая – усталая, измученная, воюющая Россия, пытавшаяся быть новой, а теперь всеми силами жаждавшая старого счастья, спокойствия и мирного труда. Шесть лет воевали они, эти люди, и конца не видно было впереди…
То там, то тут слышатся разговоры; сообщаются новости, с вновь подходящими делятся сведениями за вчерашний тяжелый день.
– Все наши, кто вышли из боя, повернули теперь на север, прямо вдоль Енисея…
– Куда же они идут?
– Да куда? Прямо на север, чтобы хоть в тундрах укрыться и перезимовать, до весны…
– А много вышло-то вчера из боя?
– Почти половина полегла… – слышится унылый ответ. Как игла впивается свежая новость, жужжит, как несносная комариная песнь.
– На запад не пройти – все дороги и все станции заняты красными.
– Генерал Войцеховский снялся сегодня рано утром с тремя полками из Есаульского и тоже пошел на север. Говорили, что если можно будет, то потом на Ангару выйдут.
– Надо и нам за ними идти.
– Не иначе как тоже на север…
Раздавались торопливые, опасливые заключения немногих, наиболее нервных и потрясенных вчерашним Красноярским боем. Масса же стояла молча, и только все озабоченнее и сумрачное выглядели лица.
В стороне, около сельской школы, на бревнах сидела кучка старших офицеров, обсуждая те же вопросы и по карте намечая путь. Только что подошел еще один небольшой отряд, егеря полковника Глудкина с генералом Д. А. Лебедевым во главе. Они пробились у Красноярска одни из последних и принесли нам последние сведения о красных; объяснилось, почему те не наседают теперь:
– Занялись грабежами огромных обозов, отбитых вчера. Почти все красные теперь в Красноярске. Дальше на восток, если и есть большевики, то отдельные небольшие банды. Надо быстрее, не теряя времени, двигаться форсированными маршами, – тогда пройдем.
Риск некоторый был. Но где его тогда не было?! Путь на север по Енисею лежал местами по ледяной пустыне, без признаков жилья на протяжении в 80–100 верст; затем, даже при условии выхода потом на восток по реке Кану или по Ангаре, снова вышли бы на ту же опасность, пожалуй еще большую, так как это северное направление сильно удлиняло весь путь и вызывало большую потерю времени. Поэтому решено было двигаться на восток, придерживаясь в общем линии железной дороги.
– Запрягать, седла-а-ай, – раздались, звонко перекликаясь по улицам большого села, команды.
Люди встряхнулись и живо, с прибаутками, кинулись по дворам. Через несколько минут выступили передовые дозоры, за ними небольшой авангард, и скоро весь отряд в составе немногим более тысячи людей вытянулся по зимней проселочной дороге. Проводники из местных крестьян обещали провести нас кратчайшим путем, в обход занятых красными деревень, на главный тракт.
Времени терять было нельзя, поэтому шли почти без привалов, со скоростью, какую допускали наши не вполне отдохнувшие кони.
Небольшой отряд, состоявший на одну треть из конницы и на две трети из пехоты и пулеметчиков на санях, бодро подвигался вперед. Настроение было такое же, вероятно, какое бывает у людей, только что спасшихся от кораблекрушения. Разразилась катастрофа, пронеслась буря, сокрушительный, уничтожающий все ураган. И вот заброшенные в волне клокочущей стихии, они случайно, лишь потому, что не потеряли сознания и способности рассуждать, ухватились за обломки, связали из них плот. Внизу ревет бездонная пучина, воет ураган, темно на горизонте; и плот, маленький и несчастный, носится, бьется, трепещет, но все-таки плывет, управляемый слабой рукой человека. Куда они плывут и зачем? Туда, к темному горизонту, где не видно ничего, но где все же есть надежда найти землю; плывут затемно, чтобы не опустить руки, чтобы бороться до конца со стихией и, может быть, победить ее взбунтовавшуюся силу. Главные чувства, которые испытывают люди в такие минуты, – врожденная радость и жажда жизни, безотчетная гордость сознания сил, надежда на успех, вера в победу…
Дорога шла по реке Есауловке, горный поток, бегущий между отвесными скалами. Гигантскими стенами возвышаются они, то голые и гладкие, точно отшлифованные, то отходящие уступами вглубь и покрытые столетним лесом. Кедры, пихты, лиственницы и сосны громоздятся в полном беспорядке, окруженные густой девственной зарослью. Стремнина горной реченьки до того быстра, что местами не замерзает даже в самые трескучие морозы; сани проваливались и скрипели полозьями по каменному дну. Изредка дорога уходила на берег, на узкую полоску его, под самые скалы. Часа через три попалось небольшое жилье сибирской семьи лесного промышленника, охотника. От двора отходит в лес небольшая, слабо наезженная проселочная дорога в соседнее село. Вышел из избушки лесовик. Мрачное, но не хмурое лицо, здорового красно-бурого цвета, острые глаза, смотревшие с добродушным участием на обступивших его егерей и стрелков, широкие угловатые жесты и грубый голос с растяжкой на букву «о». Лесовик объяснил, что рано утром он вернулся из села, куда с вечера прибыла банда красных, человек в триста. Ждали еще.
Выслав в направлении на село, занятое большевиками, боковой авангард от конных егерей, отряд продолжал движение по реке. Горы и лесная чаща еще более дикие, путь еще труднее. В одном месте скалы сошлись вплотную: чтобы выйти на дорогу, пришлось свернуть в лес и пробираться между гигантами-деревьями. Вдруг новое препятствие – обрыв в несколько десятков саженей перед выходом снова в ущелье реки. Остановка, долгий затор и осторожный спуск саней, поодиночке, на руках.
В это время со стороны бокового авангарда послышалась так привычная за последние годы дробь ружейных выстрелов. Несколько пулеметных строчек. Выслали подкрепление и дозор на карьере узнать, в чем дело. Оказалось, что по дороге из села наступала колонна красных, которая, после короткого боя с нашим авангардом, отступила. Стрельба прекратилась, смолкли выстрелы, будившие эхо векового сибирского леса.
Короткий декабрьский день кончался; быстро катилось по синему небу большое красное солнце, а с другой стороны, из-за гор, между кедрами поднималась чистая серебряная луна. Еще прекраснее и сказочнее стала дикая природа – высокие, громоздящиеся друг на друга, как замки великанов, горы, темные глубокие ущелья и зубчатые стены лесов.
Зажглись на небе рождественские звезды. Отряд наш шел уже более десяти часов. Без остановок, без отдыха, без пищи. Наконец, только к полночи, горы стали уходить в сторону, дорога делалась легче, мы приближались к тракту. Вернулись передовые дозоры и доложили, что в ближайшем селе большевиков нет, квартиры отведены. Остановились на ночлег. Спали вповалку, не раздеваясь, тяжелым сном уставших сверх меры людей, но чутким от сознания опасности – спали с винтовками в руках. Несколько раз поднималась тревога. Раздавались одиночные выстрелы, раз разгорелась стрельба. Банды красных подходили к селу и тревожили всю ночь отдых отряда.
Рано, еще не заалелся край востока, все были на ногах, слышалась возня сборов в поход, раздавались в темноте отрывистые, охрипшие от сна и мороза голоса. Наскоро поев, выступили дальше. Теперь мы шли уже по Сибирскому тракту. Старая, много видевшая дорога, широкая, сажен в восемь, с мостами, с разработанными спусками и подъемами; бежит эта дорога на тысячи верст то степью бесконечной, то дремучими густыми лесами, то подымаясь в дикие горы, рассекая каменные твердыни их.
По Сибирскому тракту чаще попадались большие села, где наш отряд мог делать и привалы, и иметь ночлег под крышей. Ho последнее становилось труднее с каждым днем, так как здесь, по тракту, тянулись отдельные сани, небольшие партии и отряды, проскочившие через Красноярск раньше рокового сочельника; все они шли впереди нашего отряда, и ежедневно мы догоняли все новых и новых.
Квартирьерам, которые высылались всегда на рысях вперед, приходилось иметь массу затруднений, иногда чуть не стычек, чтобы найти, занять и отстоять достаточное количество изб для своей части.
Через три дня мы вышли на железную дорогу, у станции Клюквенной. До сих пор кругом нас были полные потемки, в них прорезывались слабыми отдельными проблесками зигзагами кое-какие слухи и отрывочные сведения от местных жителей. Что творится в Иркутске и Владивостоке, каково положение в Забайкалье, где и сколько находится наших русских воинских частей, что делают союзники и их войска? Какого пункта достигла наступающая советская Красная армия? Все эти вопросы до сих пор были полны неизвестностью.
На станции Клюквенной мы нашли довольно много своих – воинские части и учреждения, которые прошли восточнее Красноярска раньше; там же стояло несколько чешских эшелонов и была польская миссия. Здесь царила полная растерянность вследствие той же неясности, запутанности в обстановке. Питались и здесь, главное, слухами. Чехи встречали наших очень недружелюбно, так что на вокзал пришлось поставить от егерей вооруженный караул, чтобы обеспечить нашу безопасность, так как были попытки со стороны чехов обезоружить нескольких одиночных офицеров.
Вся железная дорога оказалась во власти чехов, нечего было и думать получить хотя бы один поезд для наших раненых и больных. Это можно было бы сделать только силой оружия. Как раз в эти дни на станции Клюквенной шел спор между чешским командованием и 5-й польской дивизией; братья-чехи категорически отказывались пропустить на восток даже санитарный польский поезд с женщинами и детьми.
На следующее утро наш отряд, увеличившийся в численности от присоединившихся новых частей, выступил дальше на восток. Целью движения был Иркутск, где, по сбивчивым данным, велся бой между частями атамана Семенова и местными красноармейцами. Стремление было – как можно скорее пройти туда, полнее собрать наши разрозненные силы и соединиться с верховным правителем, о предательском аресте которого мы тогда еще не знали. На станции Клюквенной стало известно, что трактом, немного впереди нас, идут части из состава 2-й армии под начальством генерала Вержбицкого, миновавшие Красноярск без боя за два дня перед главными силами белых армий; шли также из-под Красноярска два полка енисейских казаков.
Движение по тракту стало теперь гораздо труднее: каждой колонне, всякому отрядику хотелось проскочить вперед, никто не стремился добровольно изобразить арьергард и нести его тяжелую службу. Населенные пункты во время ночлега были переполнены сверх меры, причем, опять-таки благодаря расстройству управления, происходило занятие квартир чисто захватным правом, чуть не доводя дело до схваток.
На следующий день к вечеру наш отряд подошел к большому сибирскому селу Рыбному; на несколько верст растянулось оно по обе стороны тракта; две церкви, несколько каменных двухэтажных зданий. Оказалось, что в этом же селе ночуют и отряды генерала Вержбицкого, который вздумал было приказать егерям нашего отряда перейти в другой район. Те взялись за винтовки и пулеметы, и только путем переговоров с Вержбицким и отмены его требования удалось устранить готовое вспыхнуть столкновение.
Село Рыбное поразило всех нас своим богатством. Ведь это был январь месяц 1920 года, то есть пять с половиной лет прошло с начала войны и почти три года Россия билась в конвульсиях своей смертельной революционной болезни. И вот – в каждой избе Рыбного были огромные, неисчерпаемые запасы всякой провизии, именно неисчерпаемые, так как не только всего было вдоволь для самих жителей Рыбного, но сердобольные хозяйки всю ночь пекли нашим офицерам и егерям хлебы, жарили, варили и продавали нам запасы на дорогу. В каждом дворе было по нескольку десятков гусей, индеек, кур, всюду коровы и телята. Была даже такая роскошь, как варенье.
Отношение сибиряков-староселов к нашим отступающим отрядам было самое дружественное; все эти русские крестьяне настроены очень патриархально, привыкли веками, от поколения к поколению, к своему укладу жизни, к прочно сложившемуся порядку, понятиям и традициям. Они религиозны, умели уважать и слушаться начальство, свято чтили царя. И теперь еще во многих избах оставались на стенах портреты покойного государя Николая Александровича, императоров Александра III и Александра II, от отцов и дедов. Революция, как зловонный ветер в чистое место, ворвалась в их жизнь со стороны, чужая, непонятная и враждебная им. В нас они видели своих, таких же противников революции, контрреволюционеров. И относились как к своим. Но не ясно им было: что же мы хотим, чего добиваемся? Или действительно мы воюем за свои «золотые погоны», за свою власть, за господствующее положение? Как и во всем Белом движении, не проявлялось полной искренности, не было сказано все до конца; правда почему-то пряталась и скрывалась. Господа из канцелярий или из беспочвенной либеральной интеллигенции думали, что мужик прогневается, если они будут ясно, определенно и правдиво говорить, что без царя нет спасения страны; крестьяне же, слыша только о единой великой России и ни слова о царе, начинали думать, что и впрямь, пожалуй, господа пошли против царя и оттого-то вся беда и разруха…
Пройдя походом через Сибирь тысячи верст, случалось много раз натыкаться на это явление и тяжелым опытом убеждаться, как все наши политики и политиканы были далеки от жизни…
После Рыбного мы свернули немного на юг, чтобы там пересечь реку Кан. По всем собранным сведениям, в городе Канске, лежащем в месте, где железная дорога сходится с трактом, собрались большие силы красных; брать Канск в лоб для нашего небольшого, бедного патронами отряда было непростительной роскошью, бессмысленным риском – на винтовку было всего от 20 до 30 патронов и больше никаких запасов.
Через день подошли поздно вечером к огромному селу со странным названием – Голопуповка. Несколько длинных параллельных улиц, правильно пересекающихся под прямыми углами, число дворов свыше 4 тысяч. Вот где будет просторный ночлег – думал каждый из нас.
Но не тут-то было. Вся Голопуповка оказалась набитой войсками, улицы были запружены распряженными обозами, во многих местах горели костры, облепленные группами солдат. Это грелись те, которым не хватило места в избах. Наш отряд долго бродил в поисках, где бы остановиться, обогреться и поесть. Наконец с большим трудом, кое-как разместились, прямо втиснулись на окраине села в курных избенках. Зато все были внутренно довольны, что снова собираются мало-помалу русские белые части; через несколько дней мы будем представлять значительную силу, организованную армию.
Но не успели разложиться на ночлег, как в нашу избу вошли три офицера, из состава частей, пришедших в Голопуповку накануне.
– Как хорошо, что вы приехали, ваше превосходительство, – заявили они после первых приветствий, – а то здесь творится что-то невообразимое.
– В чем дело?
– Все деревни по реке оказались занятыми красными отрядами, высланными из Канска, где сосредоточились большие их силы; революционный большевицкий штаб прислал письменное требование о сдаче оружия.
– Сегодня выслали разведку на реку Кан. Разъезды наткнулись на красных. Попробовали взять одну деревню с боем, потеряли убитыми нескольких драгун и отошли, – рапортовал другой офицер.
– Что же думают делать? Кто старший начальник в деревне?
– Ничего нельзя разобрать, ваше превосходительство, мы оттого к вам и пришли. Какой-то Совдеп идет. Собирались два раза на совещание начальников, – каждый свое тянет: кто в Монголию уходит, на юг, а некоторые – так даже большевикам сдаваться предлагают.
Несмотря на поздний час, я с генералом Лебедевым влезли опять в сани и принялись лично объезжать старших начальников всех частей, сосредоточившихся в Голопуповке. Некоторых приходилось поднимать с постели, других заставали на ногах, в сборах к выступлению. Действительно, растерянность была полная. Картина, нарисованная офицерами, оказалась бледнее действительности.
Часть начальников отрядов, а здесь было много мелких частей, остатков от кадровых тыловых полков, во главе с начальником 1-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенантом Миловичем, смотрели уныло и безнадежно. Решили идти в Канск сдаваться красным – обещана-де полная всем безопасность.
– А что же делать, – апатично добавил генерал Милович, – патронов мало, а дальше за Каном, даже если и пробьемся, – еще целый ряд таких же, коли не худших затруднений.
В других местах почти та же безнадежность и неуверенность, но меньше апатии. Там решили повернуть из Голопуповки на юг и через горы уйти в Монголию.
– Да ведь это, господа, безумие! Посмотрите на карту: 250 верст идти без жилья по горам, да и затем только редкие маленькие кочевья монголов. Ведь вы всех погубите!
– Как-нибудь выйдем… А что же иначе делать? – спросил полковник Оренбургского войска Энборисов.
– Пробиваться силой, с боем, на восток.
– Нет, уж довольно. Теперь нас не заставишь больше, ваше превосходительство, – нервно произнес другой из монголов, офицер с русой бородкой, длинными волосами и всем обличьем интеллигента третьего сословия. – Теперь сами решили искать спасения.
Мы вернулись усталые только под самое утро домой, в свою избу; после небольшого совещания решено было отдать приказ, где я, как старший, объединял все части под своим командованием, распределял их на три колонны и в 9 часов утра приказывал выступить из Голопуповки на восток. Приказ заканчивался кратким напоминанием о воинском долге, о действительном значении для нас большевиков, а также указанием сборного пункта, порядка выступления и места явки всех начальников для получения боевых задач.
Окончив приказ и разослав его с ординарцами во все части и отряды, я прилег отдохнуть. В маленькой тесной избе вповалку спали офицеры и солдаты, здесь же прикорнула и большая семья хозяина избы, качалась на круглой пружине зыбка с грудным младенцем, который поминутно просыпался и пищал от непривычной шумной ночи. В комнате трудно было дышать, тяжелый кислый запах мешал заснуть. Я надел полушубок и вышел на улицу.
Темная ночь, зимняя, глубокая, без просвета и без звезд, окутала землю. Улицы тонули в тумане, сквозь который мутными пятнами кое-где просвечивали костры. Часовые у ворот и дозорные нервно окликали каждую тень.
Темно было в деревне; тяжело и смутно было на душе у каждого из 5–6 тысяч русских, занесенных сюда, в эту никому до сих пор не известную Голопуповку. Шестой год скитаний – столько принесено в это время жертв для счастья родной страны. Личное счастье, семья, здоровье, кровь и самая жизнь. И за все это – очутиться загнанными где-то в глуши Сибири, в этой деревне с таким странным названием, как красному зверю в садке. Мрачным казалось настоящее, беспросветно тяжелым, обидными прошедшие пять лет. А там впереди за деревней, на востоке, еще темнее. Там полная неизвестность, может быть, западня, а, кто знает, может быть, и конец страданиям – смерть безызвестная, мучительная, с издевательствами. Все представлялось неопределенным и зловещим. Ясно было одно, – необходимо до конца быть твердым, сохранить бодрость в себе и в других.
Что-то скажет завтрашний решительный день?
2
С раннего утра все улицы Голопуповки пришли в движение; вытягивались запряженные санные обозы, стояли правильными рядами небольшие конные отряды, пехота шагала около саней, пулеметчики тщательно укутывали свои пулеметы, чтобы не застыли.
Зимнее солнце поднималось тусклое и красное из ночных туманов, густых и белых, как паровозный пар. Вверху голубело небо. Воздух был свежий, бодрящий, наполненный крепким сибирским озоном. Настроение в отрядах и даже обозах было приподнятое и как будто довольное. Не замечалось и следа вчерашней растерянности.
Один за другим являлись в избу, где расположился мой маленький штаб, начальники и старшие офицеры, чтобы получить боевую задачу и дать точные сведения о состоянии частей, о числе бойцов, количестве оружия и патронов. Последнее было всего хуже, – бедность в патронах была крайняя, – в некоторых отрядах было на винтовку всего по 15 штук.
Наш отряд, состоявший вначале только из кучки в несколько сот офицеров и добровольцев, вышедших из-под Красноярска, да присоединившихся в Есаульском егерей, теперь увеличился до нескольких тысяч бойцов. Вошли почти все, сосредоточившиеся в селе. 1-я кавалерийская дивизия почти в полном составе не разделяла взглядов генерала Миловича и вошла в армию, как одна из лучших боевых частей.[18]
Из всех частей были составлены две боевые колонны, одна для удара с фронта, вторая обходная, а все обозы и малобоеспособные части вошли в третью колонну, которая должна была следовать по дороге за первой, в виде резерва.
Мороз за ночь покрепчал и здорово кусал щеки, пальцы коченели так, что больно было держать повод. День предстоял трудный: на таком морозе, после пятнадцативерстного перехода, было тяжело вести наступательный бой.
Объяснив начальникам боевой приказ, раздав задачи, я объехал войска и начал пропускать их у выхода из села. Несмотря на самые фантастические костюмы, на самый пестрый и разношерстный вид, чувствовалось сразу, что это были отборные испытанные люди, стойкие бойцы. Красно-бронзовые от мороза и зимнего загара лица, заиндевелые от инея, точно седые, усы и бороды, из-под нависших также белых, густых бровей всюду смотрят глаза упорным, твердым взглядом, – в нем воля и готовность идти до конца.
Это были те же закаленные русские витязи, что с осени 1914 года по бесчисленным полям боевым совершали чудесные подвиги, проявляли высшую красоту человеческого духа. Это те же орлы – или родные братья их, которые, спасая Париж, вторглись могучим порывом в Галицию и Восточную Пруссию, которые брали Львов, Перемышль, Эрзерум, защищали и отстаивали Варшаву, удивляли мир своим геройским отступлением в 1915 году, шаг за шагом, с палками в руках, против вооруженного до зубов противника; про их легендарные подвиги на Карпатах французы складывали песенки, распевавшиеся тогда на всех бульварах Парижа…
Это они рванули в 1916 году снова в Галиции, нанесли вторичный разгром австро-венгерской армии и тем спасли Италию. Это остатки тех, кто подобно урагану, три года вели величайшие бои, в то время как на западе союзники танцевали свою военную кадриль, – метр вперед, полтора метра назад, двадцать пять пленных и трое раненых… Для дела «союзников» за то время легло в братские боевые могилы 3 миллиона этих русских орлов. И теперь, в благодарность за все это, брошенные всеми и всеми преданные, они стояли в далекой Сибири, смыкая свои поредевшие ряды, готовые до конца биться за честь, жизнь и счастье родной страны.
Ведь все это были прямые потомки тех крепких русских людей, наших предков, которые в течение тысячелетней истории бились за Русскую землю под великокняжескими стягами, под царской хоругвью и под славными императорскими знаменами. И Россия могла гордиться этой многовековой боевой службой своих сынов: слава ее гремела на весь мир, а трудами и кровью ее армий была образована величайшая в мире империя, – солнце никогда не заходило на землях Белого царя.
И останься только Россия и армия верными ему! Не поддайся подлой измене в черные дни марта 1917 года. Выполни до конца долг свой перед царем, землей родною и предками своими… Не только русская история – история всего мира пошла другим бы ходом.
Но слишком это было не по вкусу всем врагам России, да, видно, и «друзьям» также. Грянули взрывы. Самые ужасные, ядовитые и зловонные удушливые газы были пущены на русскую силу. Опьянили, отравили ее и общими усилиями разгромили. Вместо светлой победы летом 1917 года, которая возвеличила бы здание Российской империи, начался величайший позор и кромешный ад. Страна наша, вся, целиком, начиная от государя-мученика и кончая трудолюбивым, скромным и добродушным крестьянином, была предана мировому еврейству на распятие…
Русские никогда, ни на одну минуту не должны этого забывать. Помнили об этом и мы все там в далекой белой Сибири, в доблестных белых войсках… но без Белого царя. Час тогда еще не пробил!
Долг свой перед Родиной и предками мы выполняли до конца, – в тяжелом, безрадостном подвиге страданий белые армии боролись до конца за крест против кровавой пентаграммы, боролись за Русь и за веру, заслуживая этой борьбой право для своего народа – громко и радостно кликнуть: «И за царя!» И тогда победить…
Колонны направились из села Голопуповки к реке Кану. Медленно, со скоростью не более 2 верст в час, совершалось движение, – вследствие трудных, ненаезженных дорог, также и из-за того, что передовые части и разъезды шли крайне осторожно, нащупывая противника. Около 3 часов дня первая колонна завязала бой; красные, имея все преимущества – и командующий правый берег реки, и богатство в патронах и артиллерии, и, наконец, возможность держать резервы в избах, отогревать их там, – оказывали нам серьезное сопротивление; все первые атаки были отбиты; наши потери убитыми и ранеными росли.
Надо было торопиться с маневром, который был рассчитан на то, чтобы глубоким обходом, крайнего левого фланга большевиков, прорваться через Канск и ударить оттуда им в тыл. Я со штабом от первой колонны поехал вдоль левого берега Кана ко второй, обходной.
Темнело. Местность западного берега реки идет равниной с ложбинами и обрывами, с низким кустарником, засыпанным тогда на полтора-два аршина снегом. С реки и из оврагов поднимался густой зимний туман и медленно, упорно обволакивал всю равнину.
Несколько наших троек и десятка два всадников продвигались в этом тумане почти наугад, без дороги. Целина, глубокий снег и темнота все гуще. Справа редкие звуки выстрелов, слева глубокая, зловещая тишина. Вот в тумане начинают светиться, как мутные пятна масляных фонарей, далекие костры. Все ближе и ближе. Различаем уже группы людей, громаду обоза и массу лошадей.
– Какая часть? Кто такие?
– Сибирские казаки-и-и, – слышится в ответ разрозненный крик с разных мест.
– А вы кто такие? – спохватился чей-то голос.
– Командующий армией.
Останавливаюсь. Подходят ко мне полковники Глебов и Катанаев. Расспрашиваю, в чем дело, почему стоят здесь.
Оказывается, что это все, что поднялось с Иртыша, из Сибирского, Ермака Тимофеевича, казачьего войска; поднялось и пошло на восток, не желая подчиниться интернационалу, власти Лейбы Бронштейна. Здесь и войсковое правительство, и воинские части, разрозненные сотни нескольких боевых полков, и семьи, старики, женщины, дети, и больные, и раненые, и войсковая казна.
Толпа номадов, точно перенесшаяся за тысячи лет, из великого переселения народов. Больше обозов, чем войска. Но все же – бригада набралась и под командой полковника Глебова двинулась на поддержку первой колонны.
Через час примерно я нагнал обходящие части, которые наступали под командой генерал-майора Д. А. Лебедева.
– Как обстоит дело?
– Наш авангард внезапно атаковал красных, те бежали. Деревня занята нашими уже на восточном берегу.
– Сейчас же усильте авангард и направьте его вниз по реке, в тыл большевикам. В первой колонне вышла заминка.
Маневр удался вполне. Красные, только почувствовав наш нажим в тыл, дрогнули, началась паника, и они, бросая оружие, бежали по направлению к городу Канску. Наши войска, наступавшие в лоб, воспользовались этим, дружно ударили, и уже к 10 часам вечера все наши части были на восточном берегу реки. Захватили много оружия, патронов, взяли несколько пулеметов. Но пленных не было. Неистовство стрелков и казаков было беспредельно. Воткинцы из отряда генерала Вержбицкого, который наступал севернее моей первой колонны, ворвались в одну деревню и истребили в этой атаке несколько сот большевиков, трупы которых лежали потом кучами по берегу реки, как тихие, безмолвные свидетели ужаса Гражданской войны.
Ночь после боев принесла войскам отдых, перерыв в опасности, спокойный ночлег. Характерная подробность. В занятых боем деревнях мы нашли такой обильный ужин, как будто нас ждали радушные хозяева. В каждой избе варилось мясо или свинина, а то даже и птица – куры, гуси, индейки, – жирные наваристые русские щи, пироги, ватрушки и сибирская брага. И всего в изобилии.
– Что, вы нас поджидали, что ли? – добродушно спрашивали хозяек стрелки, уплетая после голодного и холодного боевого дня так, что трещало за ушами.
– Нет, родимые, – с наивной откровенностью отвечали те, – не жда-а-ли. Вишь, понаехали к нам комиссары с приказом, чтобы варить, печь и жарить, что их войска много придет, что белых будут бить тута. Ну, значит, по приказу мы и исполняли.
– Так вы для красных все это наготовили? – следовал грозный, в шутку, вопрос.
– А мы, батюшка, не знам; нам все равно, что красный, что белый. Нам неизвестно…
В последующие недели, при походе через всю Сибирь, приходилось не раз слышать подтверждение этой недоуменной мысли. Это высказывалось только в тех случаях, когда крестьяне относились к нам именно как к своим, не видали в нас начальства, когда откровенность и доверие были не стеснены. И невольно мысль буравила мозг, ища разгадку такого безразличия, такой на первый взгляд преступной неразберихи; все равно, что белые, что красные, никакой разницы! Сначала это возмущало до глубины души, позднее сердило. Но когда разъяснилось, – разгадка оказалась простой; и возмущение, и обида исчезли – только жалость осталась, жалость к ним, нашим серым русским крестьянам, и жалость к нам, к русским белым войскам, и жалость к рядовым сермяжным красноармейцам.
– Нам, батюшка, все равно, что красный, что белый…
Да, в сущности, это было именно так, особенно теперь и в этих глухих, медвежьих углах Сибири. Белые воюют против красных, и воюют страшно, упорно, до смертного конца. А за что? Чего добиваются? Это-то крестьянской массе было и непонятно.
За что воевали белые? За Россию? А разве красные не русские, не такие же там полки, батареи и сотни? Разве не путали мы сами легко, особенно теперь зимою, когда все оделись в разнообразные зимние русские одежды? Разве не ставили мы в наши ряды взятых в плен красноармейцев? Ведь руководители, эти инородцы, слуги интернационала и его пятиконечной звезды, были далеко, и главные из них сидели в Московском Кремле за крепкими латышско-китайскими заставами и караулами.
А большинству наших рядовых офицеров и солдат разве было все ясно? Некоторым – да, они отдавали отчет, причем вначале таких было большинство. Но потом остался только вопрос чести – быть верным до конца, да чувство инстинктивного понимания, скорее веры, что мы сражаемся за нашу родную тысячелетнюю Россию, которая всегда так полно и мощно воплощалась для каждого русского в словах «русский царь».
Вот прозвучи громко это близкое каждому русскому слово. Начертай его Белое движение на своем знамени под святым восьмиконечным крестом. Все бы стало ясно для всех. Раздвинулись бы ставни, развеялся бы туман, исчезло бы недоумение, определилось бы совершенно и стало понятным для всех различие между красными и белыми. И крестьянство бы российское стало все на сторону последних. Да и в красных рядах тогда осталось бы немного русских людей…
После Канска мы шли несколько дней без препятствий. Прорыв линии большевиков и разгром, нанесенный им, нагнал такого страха, что дальше банды их бежали при одном нашем приближении. Мы двигались все время южнее железной дороги, опять оторванные от всего мира, в полной неизвестности, что творилось на западе и востоке, что ждало нас у Иркутска, куда мы так спешили, надеясь соединиться со своими.
Глухие места! Поистине медвежьи углы. Села разбросаны на большом расстоянии одно от другого, разделенные вековым дремучим лесом, сибирской тайгой, по которой ни прохода, ни проезда, особенно в зимнюю пору. Между многими селами совершенно не было дорог.
– Мы туда не ездим, нам без надобности, – отвечали обыкновенно крестьяне на наши расспросы. – Вот к железной дороге, к станции приходится ездить, там есть дорога хорошая.
– Да ты пойми, мы не о том спрашиваем. Войску надо не к железной дороге, а вот в это село, – добивались мы нужной дороги прямо на восток. – Как туда проехать?
Мужики, даже местные старожилы, так называемые чалдоны, становились в тупик и в лучшем случае заявляли:
– Летом, мол, еще можно проехать вдоль речки, а зимою, слыхать, никогда и не ездили туда.
Приходилось сильно забирать на север, затем снова спускаться на юг; чтобы пройти расстояние 40 верст, иногда делали 80 и тратили два дня. К железной дороге и к тракту выходить мы не хотели, так как там было очень тяжело с фуражом. При ежедневном движении, при полном напряжении сил лошадей, этих наших верных друзей, было совершенно необходимо давать им хотя бы по 10 фунтов овса в день. На тракте, в торговых селах, найти его могли только самые передовые отряды, идущим сзади не оставалось ничего. Плохо было и с сеном. К тому же как раз на этом участке были села, сожженные за время пресловутой охраны железной дороги. Через одни такие руины мы прошли на третий день после Красноярска. Огромное село, когда-то богатое, дышавшее довольством, полное своей, русской незлобивой жизни, представляло теперь пустырь, на котором тянулись на версты кучи обуглившихся развалин изб. Кое-где только высились уцелевшие дома, там ютилось теперь по нескольку семейств напуганных и озлобленных крестьян. Да белая церковь стояла одиноко и сиротливо… Печальные следы подвигов защитников прав «русской демократии»!
Некоторые лошади нашего отряда прошли уже не одну тысячу верст и теперь, вследствие беспрерывной работы и бескормицы, начали терять силы, выбывать из строя. Идет из последних сил и вдруг остановится среди дороги; и никакими усилиями не сдвинешь ее с места. А кругом глухая угрюмая тайга, занесенная снегом, трещит сибирский мороз, и чуть не по пятам за нами крадутся большевики. Что делать?
Нет-нет да и натыкаешься на такую картину. Стоят в стороне от дороги сани, выпряженная лошадь бессильно, с какой-то эпической покорностью опустила голову, согнула устало ноги; рядом хлопочут около нее два-три человека, наши офицеры и солдаты, пробуют пробудить в животном энергию; или так просто сидят безнадежно на санях и ждут своей участи, помощи или чуда. Но надо сказать, что никого у нас не бросали, не оставляли товарища в трудную минуту. Таких злосчастных седоков, владельцев отслужившей вчистую лошади, забирали и распределяли с их незатейливым грузом по другим саням.
С каждым днем все больше и больше лошадей выбивалось из сил, оставались навечно в тайге. Весь путь был уставлен, как вехами, этими животными. Проезжает обоз, мелкой, ровной рысью проходит вереница конного отряда, – иначе как гуськом нельзя было проехать по узким таежным дорогам, – оборачиваются мимоходом люди и грустным, тяжелым взглядом окидывают эту картину, которая так часто повторялась в дни Ледяного сибирского похода.
Между столетними деревьями, по колено в снегу стоит понуро лошадь. Почти без движения. Иной раз заботливый, благодарный хозяин набросает перед ней в снегу ворох сена. Не смотрит на него благородное животное. Безучастно и нехотя ухватило оно клок сена и стоит, не жуя, провожая унылыми глазами проезжавшие без конца мимо сани. И во всей позе животного видна такая смертельная усталость, такой бесконечный и безвозвратный расход сил.
Стоит животное долго, упорно, затем ложится в снег, и кончена лошадиная жизнь. Вся тайга на тысячи верст была усеяна трупами таких лошадей, верно отслуживших свою службу. С каждой из них была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни. Сколько печальных мыслей, горьких чувств, сколько безысходного мужского горя и женских слез клубилось около каждой из этих тысяч павших лошадей. Не сосчитать, не представить и не понять…
В нашем отряде десятки лошадей ежедневно выбывали из строя. Положение создавалось трудное, почти страшное. Мы не имели права оставить никого из своих, все мы были связаны узами большими, чем дружба и братство. При каждом отряде ехали немногие семьи офицеров и добровольцев, мы везли всех своих раненых и больных; пока можно было, размещали по другим саням, но всему есть предел. Стало настоятельной необходимостью находить замену ослабевшим и павшим лошадям, искать ремонт у местного населения. Обменивали плохих лошадей у крестьян; пока были деньги, доплачивали, а затем поневоле перешли к тяжелым реквизициям.
Это было действительно тяжело, но неизбежно и неустранимо, как сама судьба. Крестьяне, особенно староселы-сибиряки, понимали, сочувствовали нам и не раз, в откровенном разговоре, высказывали это, а иной раз даже сами предлагали лошадей.
Приходилось поневоле установить реквизиции, кроме лошадей и фуража, также на хлеб и на теплую одежду. Если бы не было реквизиций под расписку старшего начальника и только с его разрешения, то офицерам и солдатам пришлось бы просто-напросто отбирать: не умирать же им было от голода, не оставаться же в дикой тайге на верную смерть от мороза.
– Ты, парень, – утешали солдаты сибиряка-таежника, – дома ведь не замерзнешь, да и лошадь вот мы оставляем тебе, она не гляди, что слабая, она лучше твоей. Ты ее подкорми, так к весне она тебе так заслужит, не в пример против твоей.
И таежник, хотя и скрепя сердце, кивал и сам становился рядом помогать запрячь свою лошадь в сани белого воина. Ведь что это было: столкнулись в необычных революционных условиях два русских крестьянина – один с Волги или с Уральских гор, другой, рожденный в холодной, беспредельной Сибири; несмотря на это, они были так близки, так родственны друг другу, как могут быть только близки сыны одного народа, выросшие в одинаковых жизненных условиях, имеющие одну общую, присущую всем чисто русским людям душу.
Трудно было и с ночлегами. Иной раз на сотни верст в тайге не встретишь ничего, кроме новоселов, с маленькими избами, с плохими дворами, почти без хозяйственных построек, – беднота. А все люди отряда, проделав за день 40–50 верст похода, изголодались, замерзли, застыли, – кровь, казалось, замерзает в жилах. Всем надо дать место под кровом, в теплой избе. Втискивались в маленькие комнатушки почти вплотную – все вместе, от генерала до рядового стрелка. Но на всех не хватало помещений. Разводили костры на улице и по дворам; около огней окоченевшие люди проводили длинную зимнюю ночь, чтобы утром снова двигаться дальше на восток.
Число больных все увеличивалось. Тиф и простуда косили людей. Не редкость было встретить розвальни, на которых пластом лежало три-четыре человеческих тела, завернутых чем только можно и, как мешки, привязанных толстыми веревками к саням. Возница, офицер или стрелок, только изредка оборачивается, чтобы посмотреть, не развязались ли веревки, цел ли его безгласный живой груз. На каждой остановке подходили к ним друзья и несколько сестер милосердия, этих скромных больших героинь отряда, и заботливо распутывали больных, давали пить лекарство, кормили, поправляли и заворачивали снова. В долгий путь!
Не обходилось, естественно, без ссор из-за ночлегов. Квартирьеры что-нибудь напутали или несправедливо распределили избы, то опоздал кто-нибудь. Ездит пять-шесть саней по селу в темноте, скрипят полозья по белому снегу, стучат в каждое светящееся оконце – напрасно ищут пристанища: все переполнено до отказа. В таких случаях приходилось еще уплотнять и назначать таких несчастных, бесприютных на целый район какой-либо части; только по строгому приказу впихивали тогда в полную избу к двадцати – тридцати человекам еще одного-двух.
Много неприятностей было с отдельными самостоятельными отрядами. После Голопуповки, когда мы прорвали Канск, никто, понятно, в Монголию не пошел; выждав время и результаты, все, перед тем будировавшие, двинулись вслед за нашим отрядом. Кроме них появлялись еще и другие части, выныривали совершенно неожиданно откуда-то с боковых дорог. Благодаря постоянному движению не было возможно привести все в порядок, установить какое-либо подобие организации; да и совершенно естественно, что внутри, среди таких отбившихся отрядов накопилась значительная доля деморализованного элемента, не желавшего подчиниться стеснительным подчас приказам. С такими отрядами было всего больше неприятностей и возни из-за ночлегов.
Кем-то из предприимчивых начальников одного из этих летучих отрядов был изобретен не лишенный остроумия способ добычи квартир. Движение наше происходило с частыми встречами и стычками с бандами красных, а при малейшей задержке нас нагоняли с запада авангарды советской армии; естественно, от всего этого нервность в людях сильно повысилась. Вот на этом-то и построили все расчеты наши изобретатели.
Только расположились люди отряда на ночлег или привал, уплотнились выше меры, задали корму коням, поставили самовары. Впереди ночь отдыха. Вдруг с запада, откуда пришли, из тайги, раздается трескотня ружейных выстрелов, пулемет выпускает несколько строчек. Сейчас же высылаются дозоры, разведка, – и в то же время торопливо запрягают обоз. Все тяжелое, небоеспособное снимается и, несмотря на усталость, плетется дальше на восток до следующего селения. Через час-полтора возвращается наша разведка.
– Никаких красных нет. Летучий отряд стрелял в 2 верстах от нашего бивака.
– Что за причина?
– Говорят, что прочищали стволы, – ухмыляются наши разведчики. – Пробовали пулеметы, не замерзли ли.
Через три дня после Канского прорыва наша колонна снова поднялась на север к железной дороге, там переночевали, прошли немного по тракту и спустились опять на юг. Здесь мы совершенно неожиданно встретились с частями генералов Каппеля и Войцеховского, ушедших после Красноярска вниз по Енисею. Радость была полная, – нашли друг друга люди, считавшиеся потерянными навсегда.
Эти отряды перенесли тяжелых невзгод много больше нас. Движение их по Енисею на север, а особенно от впадения в него Кана по этой реке на восток было неимоверно трудно и полно таких лишений, что даже главнокомандующий генерал Каппель отморозил себе обе ноги. Кан в своем нижнем течении бежит сдавленный высокими скалистыми горами, стремнина реки здесь не везде замерзла, несмотря на трещавший тогда сорокаградусный мороз. Генерал Каппель провалился с санями в одну из полыней, промочил ноги, а ехать до ближайшего селения нужно было еще очень далеко и долго, – переход в тот день выдался в 90 верст. В результате обе ноги оказались отмороженными. Сколько было среди них таких страдальцев, сколько было погибших – никто не знал и не узнает никогда.
С генералами Каппелем и Войцеховским шли части, прорвавшиеся из Красноярского разгрома в сочельник; за Есаульской их нагнали еще ижевцы и уральцы, из состава 3-й армии, двигавшейся сзади и обошедшей Красноярск на следующий день после катастрофы.
Теперь, если подсчитать все, что шло в колоннах генералов Вержбицкого, Каппеля, Войцеховского и моей, то можно было составить силу тысяч в тридцать бойцов; не считая бродивших отдельных летучих отрядов, до сих пор никому не подчинявшихся. Необходимо было возможно скорее провести организацию, свести все отряды в полки и дивизии, наладить службу связи и правильность походного движения; равно назревала крайняя необходимость упорядочить вопросы снабжения, добыть фураж, хлеб и патроны – с железной дороги, установить случаи и однообразную форму законных реквизиций. Не менее существенно и важно было поставить себе точную, по возможности определенную и выполнимую цель. До сих пор все шли просто на восток – после разгрома, после крушения всех прежних усилий; до сих пор перед нами не было выбора задачи, потому что не было сил выполнить их; представлялось необходимым как можно скорее пройти тысячи верст угрюмой холодной тайги, чтобы скорее соединиться с русскими национальными войсками Забайкалья.
Теперь же, когда наши отряды составили внушительную силу сами по себе, стало возможным и нужным решить, как мы пойдем дальше.
Надо было разобраться и уяснить себе ту общую обстановку и все ее частности, какая сложилась в Иркутском районе, в Забайкалье и на Дальнем Востоке; до сих пор мы шли в совершенных потемках, верных сведений не имели; большинство же слухов было явно провокационного характера, выпускаемых из враждебных социалистических или чешских кругов. Усиленно поддерживалась версия, что войска атамана Семенова разбиты, сам он бежал в Монголию, все города до Тихого океана в руках советской власти. Цель была – поколебать наши ряды, убить дух, погасить веру в возможность дальнейшей борьбы.
Было решено дойти скорее до города Нижнеудинска и там собрать совещание из старших войсковых начальников, на котором и выяснить все вопросы и принять правильные решения.
Социалисты, считавшие, что они покончили с Белым движением, что армии под Красноярском были уничтожены, встревожились не на шутку, когда до них стали доходить вести о движении на восток массы отдельных отрядов. Но они успокаивали и себя, и свои красные банды тем, что «идут безоружные, разрозненные группы и отдельные офицеры, которых уничтожить, – как писали иркутские заправилы, – нетрудно». Попробовали на Кане – обожглись. Теперь к Нижнеудинску были стянуты большие силы, причем красное командование решило дать нам отпор у села Ук, верстах в пятнадцати западнее города.
Колонна генерала Вержбицкого, имея в авангарде Воткинскую дивизию (сестру Ижевской, составленную сплошь из рабочих воткинских заводов), лихой штыковой атакой обратила красных в бегство; наши полки ворвались в Нижнеудинск на плечах большевиков, которые понесли в этом бою очень большие потери.
От захваченных пленных, из местных прокламаций, приказов, из иркутских газет, частью и от чехов, эшелоны которых были на станциях западнее и восточнее Нижнеудинска, обстановка начала понемногу вырисовываться. Атаман Семенов крепко держал Забайкалье; в Приморье шла неразбериха, но «союзные» части еще оставались там; Иркутск в руках у социалистов, причем фактически там распоряжаются большевики-коммунисты; бывший сотрудник Гайды, эсер, штабс-капитан Калашников был назначен главковерхом, он-то и руководил теперь действиями красных банд для уничтожения «остатков белогвардейщины». Адмирал Колчак заключен в Иркутской тюрьме; социалисты спешно вели следствие, собирали против верховного правителя обвинительный материал. Золотой запас стоит в вагонах на путях станции Иркутска и охраняется Красной армией. Чехословацкие войска решили соблюдать «вооруженный нейтралитет», чтобы сохранить для себя железную дорогу. В этом им помогали все союзники России, объявившие полосу русской железной дороги нейтральной!
Вот те данные, которые выяснились перед военным совещанием, собранным генералом Каппелем в Нижнеудинске 23 января 1920 года. На нем был принят такой план: двигаться дальше двумя колоннами-армиями на Иркутск, стремиться подойти к нему возможно скорее, чтобы по возможности внезапно завладеть городом, освободить верховного правителя, всех с ним арестованных, отнять золотой запас; затем, установив соединение с Забайкальем, пополнить и снабдить наши части в Иркутске, наладить службу тыла и занять западнее Иркутска боевой фронт. Все войска, шедшие от Нижнеудинска далее на восток, сводились в две колонны-армии: 2-я, северная, генерала Войцеховского и 3-я, южная, под моим командованием. Главнокомандование оставалось в руках генерала Каппеля, который со своим штабом двигался при северной колонне.
3
После Нижнеудинска движение начало принимать все более правильный вид, был внесен порядок, приводилось в ясность точное число бойцов, всех следующих с армией людей; старались поднять и боеспособность частей. Результаты стали сказываться с первых же дней.
К этому времени чрезмерно усилился новый наш враг, – разыгрались вовсю эпидемии. Тиф, сыпной и возвратный, буквально косил людей; ежедневно заболевали десятки, выздоровление же шло крайне медленно. Иногда выздоровевший от сыпного тифа тотчас заболевал возвратным. Докторов было очень мало, по одному-два на дивизию, да и те скоро выбыли из строя, также заболели тифом. Трудно представить себе ту массу насекомых, которые набирались в одежде и белье за долгие переходы и на скученных ночлегах. Не было сил остановить на походе заразу: все мы помещались на ночлегах и привалах вместе, об изоляции нечего было и думать. Да и в голову не приходило принимать какие-либо меры предосторожности. Это не была апатия, а покорность судьбе, привычка не бояться опасности, примирение с необходимостью.
На ночлеге для моего штаба отводят дом сельского священника. Входим, а стоявшие там перед нами садятся в сани, чтобы после дневного отдыха продолжать путь до следующей деревни. Старика генерала Ямшинецкого, начальника Самарской дивизии, два офицера сводят с крыльца под руки; узнаю, что он пятый день болеет. Предлагаю генералу остаться переночевать у меня.
– Благодарю, но уж разрешите не отделяться от своей части, – слабым, тихим голосом говорит он.
– Плохо чувствуете себя? Что с вами?
– Да все жар сильный и голова болит. На морозе легче.
– Ну поезжайте с Богом!
Священник и матушка хлопотливо и радушно принимали нас; ужин, огромный медный нечищеный самовар и даже каким-то способом сохранившаяся бутылка вина. За столом, как и всюду, разговоры на больные и близкие для нас темы: о разрухе, о русском несчастье.
– Скажите, батюшка, как настроение крестьян? Чего они хотят?
Священник помолчал минуту и затем ответил:
– По правде скажу, что наши крестьяне так устали, что хотят только спокойствия да чтобы крепкая власть была, а то много уж больно сброда всякого развелось за последние годы. Вот перед вашим приходом комиссары были здесь, все убежали теперь; так они запугивали наших мужиков: белые, говорят, придут, все грабят, насилуют, а чуть что не по ним – убьют. Мы все, прямо скажу, страшно боялись вас. А на деле увидали после первой же вашей партии, что наши это, настоящие русские господа офицеры и солдаты.
На местах была полная неосведомленность, до того, что даже священник не имел никакого представления, какие цели преследовал адмирал Колчак, что такое представляла собой белая армия, чего она добивается.
– Крестьяне совсем сбиты с толку. Боятся они, боятся всего и больше молчат теперь, про себя думы хранят. Ну а только все они, кроме царя, ничего не желают и никому не верят. Смело могу сказать, что 90 процентов моих прихожан монархисты самой чистой воды. А до остального они равнодушны: что белые, что красные, – они не понимают и не хотят никого.
Кончили ужин и долгие разговоры, в которых священник развивал и доказывал эти основные мысли. Ложимся спать. Я уже улегся в кровать, как входит из кухни адъютант, пошептавшийся там о чем-то со священником, и докладывает:
– Ваше превосходительство, вы лучше не спите на этой кровати: здесь отдыхал генерал Ямшинецкий, а у него сыпной тиф.
– Ну какая разница?
И действительно, не все ли равно было спать на этой кровати или на полу рядом. И на каждой буквально остановке были так перемешаны больные и здоровые.
Через день утром выхожу садиться на лошадь, кругом идут сборы в поход; из нашей избы выводят под руки несколько слабых шатающихся фигур. В одной узнаю подполковника К., офицера с Русского острова. Узнал и он меня, смотрит с похудевшего лица огромными, какими-то туманными глазами. Здороваюсь, рука офицера горячая, как раскаленная печь.
– Что с вами, подполковник?
– Виноват, ваше превосходительство, – отвечает он в полубреду, – сыпной тиф.
– Ну, поправляйтесь скорее, будьте молодцом.
– Постараюсь, ваше превосходительство…
С каждым днем все больше и больше больных; почти половина саней, наших длинных обозов, занята ими. Но видимо, свежий морозный воздух Сибири действовал лучше всяких лекарств: смертных случаев почти не было, все, кроме очень пожилых людей, выживали.
Движение колонн было рассчитано так, что пять дней каждая из них должна была двигаться самостоятельно, по заранее составленному маршруту; расстояние между дорогами было от 60 до 90 верст, почему поддерживать связь на походе было почти немыслимо. Единственное, к чему мы должны были стремиться, – это чтобы движение совершалось точно по расчету. Тогда около станции Зима (с городком того же названия) обе армии должны были сойтись в один и тот же день, соединиться снова, чтобы наметить дальнейший план действий.
3-я армия шла южной дорогой через два-три больших старых села и несколько новых деревень, созданных главным переселенческим управлением, в период перед самой войной, для новоселов. И местность, и деревни, и дороги – все было еще более глухое, дикое, заброшенное, жившее своим укладом, своими местными интересами, далекое от гремевших событий, от великой русской трагедии, разыгрывавшейся тогда на необъятных пространствах Руси.
Но и здесь оказалось несколько банд, сформированных социалистами; и здесь они распустили свою вредную паутину, – кооперативы работали вовсю, не столько занимаясь снабжением населения товарами, как политическими интригами. Все эти банды бежали при одном приближении армии, бежали на юг, в горы.
На третий день марша до нас дошли слухи через крестьян, что генерал Каппель умер. Он сильно страдал от невыносимой боли в отмороженных ногах, простуда все больше охватывала ослабевший организм, началось воспаление в легких. Сердце не выдержало, и 25 января ушел от жизни один из доблестнейших сынов России, генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель. Всю свою душу он отдавал русскому делу, став с самого начала революции на борьбу с ее разрушительными силами. В. О. Каппель был полон веры в правду Белого движения, в жизненный инстинкт русского народа, в светлое будущее его, в возвращение на славный исторический путь. Чистый офицер, чуждый больного честолюбия, он умел привлекать к себе людей и среди подчиненных пользовался прямо легендарным обаянием. Смерть его среди войск, на посту, при исполнении тяжелого долга, обязанности вывести офицеров и солдат из бесконечно тяжелого положения, – эта смерть окружила личность вождя ореолом светлого почитания. И без всякого сговора, как дань высокому подвигу, стали называться все наши войска каппелевцами; так окрестили нас местные крестьяне, так пробовали ругать нас социалисты, так с гордостью называли себя наши офицеры и нижние чины.
Я получил уведомление о смерти генерала от Войцеховского на четвертый день пути, одновременно он сообщил мне, что по смерти Каппеля он вступил в главнокомандование белыми войсками.
2-я армия двигалась по Московскому главному тракту, вдоль железной дороги, по которой бесконечной вереницей тянулись поезда чехословацкого воинства. Странная и постыдная картина: в великодержавной стране по русской железной дороге ехали со всеми удобствами наши военнопленные, везли десятки тысяч наших русских лошадей, полные вагоны-цейхгаузы с русской одеждой, мукой, овсом, чаем, сахаром и пр., с ценным награбленным имуществом. А в то же время остатки русской армии в неимоверных лишениях шли ободранные, голодные, шли тысячи верст среди трескучих сибирских морозов, верша небывалый в истории поход. И не имея у себя дома ни одного поезда, ни одного вагона, даже для своих раненых и больных!
Чехи продавали нашим частям продукты и фураж, но требовали расплаты золотом или серебром. Предлагали они нам купить и лошадей, но по ценам в несколько тысяч рублей за каждую. Были, понятно, и среди этих «легионеров» люди, не потерявшие совести и чести, но, к несчастью, таких было слишком немного, почему они и не имели почти никакого влияния.
Чехословацкий военнослужащий
Чех-доктор, лечивший генерала Каппеля, уговаривал его перейти в чешский эшелон и ехать в теплом вагоне, но тот наотрез отказался, – не было никакой гарантии, что те из них, которые предали адмирала Колчака и сотни русских офицеров, остановятся перед предательством и на этот раз.
Некоторые более слабые физически офицеры, много стариков и женщин ехали в поездах, занятых чехами. И мы знаем, в каких ужасных условиях они все были. Вечные угрозы выдачи большевикам, самое грубое обращение, требование исполнять все тяжелые, черные работы и кидание из милости, пренебрежительно, объедков. Пожилых людей, русских генералов, чехи-солдаты заставляли чистить своих лошадей, выносить помои, убирать вагоны, таскать дрова – за корку хлеба и остаток пустых щей. Разжиревшие военнопленные ехали в поездах, везли вагоны награбленного добра, измываясь над русскими людьми!
Ни в одной стране, ни у одного народа было бы немыслимо даже что-нибудь близкое этому безобразно-гнусному явлению. Только наша русская дряблость да муть, поднявшаяся после революции, вызвали к жизни эту позорную страницу в Сибири.
Социалисты, захватившие теперь власть, напрягали все усилия, чтобы рассеять и уничтожить нашу армию. Из Иркутска были высланы к станции Зима красные части около 10 тысяч бойцов при пяти орудиях и даже с двумя аэропланами; главковерх штабс-капитан Калашников выехал сюда же, чтобы лично руководить действиями. Красные были в изобилии снабжены патронами и имели опять то же преимущество обороны в зимнюю стужу: они могли обогревать своих бойцов в теплых избах, в то время как наши стрелки подходили к месту боя иззябшие, продрогшие, с закоченелыми руками. Как тут стрелять и колоть!
Части 2-й армии подошли к станции Зима первыми и повели наступление с раннего утра. Около 10 часов, после упорного боя, красные отступили с передовой позиции, вынесенной западнее станции. К этому времени вышла и моя колонна; авангард быстро наступал, охватывая левый фланг большевиков. Те дрогнули и начали отступать. Главковерх Калашников со штабом уехал поездом в Иркутск; после этого, неожиданно для нас и для красных, выступил конный чешский полк, стоявший в эшелонах на станции Зима. Доблестный начальник 3-й чехословацкой дивизии майор Пржхал решил не оставаться безучастным, его честная солдатская натура заставила принять решение и взять на себя всю ответственность. Он выступил с конным полком своей дивизии и потребовал сдачи красных, гарантируя им жизнь. Большевики положили оружие и были собраны под стражей чехов в железнодорожных казармах.
Наши армии вступили в город Зиму. За помощь, оказанную нам майором Пржхалом, наши офицеры и стрелки были готовы простить все зло, сделанное легионерами и их руководителями раньше. Начали строить, с чисто славянской порывистостью, планы о дальнейших совместных действиях – операции против советской армии. Но уже через несколько часов от Яна Сырового пришли по телеграфу и строжайший разнос майору Пржхалу, и приказание вернуть красным оружие, и требование ничего не давать белогвардейцам, не оказывать нам никакого содействия.
Установившиеся было отношения между нами и чехами были сразу прерваны. Майор Пржхал, показав полученные им телеграммы, заперся в вагон, а его штаб, во исполнение приказа Сырового, захватил отбитый у большевиков денежный ящик и брошенные ими орудия; даже патроны, в которых мы испытывали самую острую нужду, выдавали нам под сурдинку, тайным образом.
Поражение у станции Зима расстроило планы большевиков. Их банды бежали на северо-восток, в направлении на город Балаганск. До самого Иркутска стала распространяться паника, причем даже такие завзятые приверженцы большевиков, как развращенные социалистами рабочие Черемховских копей, сами разоружали банды красноармейцев. Иркутские заправилы попытались взять армию с другого конца, – повели переговоры со стоявшим во главе белых войск генералом Войцеховским. Для этого была использована его старая связь с Чехословацким корпусом. От имени большевиков говорили из Иркутска по прямому проводу чешский представитель Благош и американский инженер Стивенс.
Было понятно само собою, что наша армия не сдастся ни на каких условиях, поэтому эти почтенные дипломаты спрашивали, на каких условиях были бы мы согласны обойти Иркутск, чтобы избежать кровопролития. Генерал Войцеховский собрал совещание старших начальников для составления ответа. Поставленные нами условия сводились в общем к следующему:
1. Немедленная передача адмирала Колчака иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.
2. Выдача российского золотого запаса.
3. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.
4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры.
Но все это с той стороны были только новые вольты, продолжение той же фальшивой игры краплеными картами: большевикам нужно было выгадать время. Поэтому чех и американец начали оттягивать ответ. Штаб с Войцеховским остались еще на один день в городе Зиме, а войска выступили дальше, на восток. Теперь моя армия, 3-я, шла по Московскому тракту, а 2-я армия дорогой верст на 30–40 севернее.
Получились сведения о том, что большевики в Иркутске бьют тревогу – там шла мобилизация рабочих, усиленные формирования, ежедневная спешная эвакуация ценнейших грузов на подводах по Балаганскому тракту на север. Нашей неотложной задачей стало двигаться как можно быстрее, форсированными переходами, чтобы налететь на Иркутск врасплох.
3-я армия шла день и ночь с самыми минимальными отдыхами. В нескольких местах мы встречали высланные из Иркутска красные банды, два раза задерживались на полдня, вели бои. Немало зла и хлопот при этом причинили нам латышские поселки. Императорское Русское переселенческое управление, в заботах обо всех подданных царя, отводило в Сибири большие наделы и безземельным латышам. Здесь образовались целые колонии этой народности, богатые землей и лесом, ни в чем не нуждавшиеся. И вот характерно: в то время, когда русское крестьянство оказывало нам полное содействие, относилось сочувственно даже в дни наибольшей нашей слабости, эти колонисты-латыши организовали банды, чтобы вести против белых партизанскую войну.
Какая поразительная связь с тем явлением, что на протяжении всей грязной русской революции латыши являлись самыми ярыми углубителями ее, надежной опорой всех революционных вождей от Керенского до Бронштейна!
2-я армия встретила на своем пути более серьезное сопротивление, верстах в семидесяти северо-западнее Иркутска. Большевики боялись нашего движения на Балаганск, их базу, куда они вывозили все ценное; для прикрытия этого направления ими были высланы сильные части. Целый день, 6 февраля, и следующую ночь шел упорный бой во 2-й армии, причем она ввела в дело все свои силы.
Моя армия также наткнулась в этот день на значительный красный авангард, но к вечеру рассеяла его и после небольшого отдыха продолжала движение, форсируя его до последнего предела.
Гулко раздавались орудийные выстрелы боя 2-й армии, сначала на одной высоте с нами, затем стали отдаляться все дальше в тыл.
На следующий день после полудня авангард 3-й армии с налета занял станцию Инокентьевскую, что лежит на западном берегу Ангары – против Иркутска. Движение было настолько быстро и так неожиданно было наше появление, что когда я со своим штабом въехал, одновременно с авангардом, в поселок Инокентьевский, то наткнулся на такую картину.
Стоит длинный обоз. По обыкновению, послал ординарца узнать, какой части.
– 107-го советского полка, – отвечали бородачи-обозники, не узнав в наших закутанных в тулупы и дохи фигурах белогвардейцев, как и мы не распознали в них большевиков.
– Для чего приехали сюда, товарищи? – спросил находчивый ординарец.
– За снарядами, в чихаус прислали, нас-то. А вы чьи будете?
– Штаб генерала Сахарова, командующего 3-й армией, – последовал громкий ответ.
Полная растерянность. Руки вверх и мольба о пощаде.
В то же самое время начальник разведывательного отделения штаба армии полковник Новицкий с пятью своими людьми захватил у красных два орудия, причем, обезоружив часть большевиков, остальным приказал держать караул до прихода наших.
Какие богатые склады нашли мы в Инокентьевской! Всего было полно: валенок, полушубков, сапог, сукна, хлеба, сахара, муки, фуража и даже новых седел. Только теперь встало во весь рост преступление тылового интендантства и министерства снабжения, оставивших в октябре нашу армию полуголой. Всю ночь и следующий день шла спешная раздача частям из складов всего, что хотели, – и то больше половины мы должны были оставить в Инокентьевской, – не на чем было поднять; разрешили брать местным жителям.
Занятие нами Инокентьевской облегчило положение 2-й армии, которая, отбив противника на север, свернула к Московскому тракту и должна была на следующий день выйти на Иркутск.
Со всех сторон подтверждалась полная растерянность большевиков. Ясно было, что при быстром проведении операции взять Иркутск не составит большого труда.
Только нельзя было терять времени.
4
Всю ночь, не ложась спать, проработали над составлением плана операции по овладению Иркутском. К утру приказ был готов. Атака назначалась в 12 часов дня. Генерал Войцеховский, прибывший в Инокентьевскую перед рассветом, согласился со всеми соображениями, одобрил план и послал распоряжение 2-й армии согласовать свои действия – ударом на Иркутск с севера.
Утром грянул гром. Сначала был доставлен документ за подписью начальника 2-й чехословацкой дивизии полковника Кречего, адресованный «начальнику передового отряда войск генерала Войцеховского»; в нем заключался наглый ультиматум, – чехи категорически требовали не занимать Глазговского предместья и не производить никаких репрессий по отношению железнодорожных служащих, иначе чехи угрожали выступить вооруженно против нас.
Надо пояснить, что Глазговское предместье расположено на высотах, командующих городом; не занимая его, мы оставляли бы в руках большевиков тактический ключ всей позиции; кроме того, там могли бы сосредоточиться красные в любых силах и бить во фланг наши наступающие части. И все это проходило бы под прикрытием чешских штыков.
Вскоре затем с разных сторон – в том числе и от чехов – поступили сведения, что накануне утром верховный правитель адмирал А. В. Колчак был убит комиссарами во дворе Иркутской тюрьмы. Это печальное известие как громом поразило всех.
Картина смерти за Россию светлого слуги ее, адмирала А. В. Колчака, рисуется так, по рассказам и описаниям многих лиц, пробравшихся затем из Иркутска на восток. Почувствовав, что им Иркутска не отстоять, комиссары рано утром, 7 февраля, вывели из тюрьмы во двор верховного правителя и с ним министра В. Пепеляева. Последний страшно нервничал и умолял пощадить его жизнь. Адмирал хранил полное самообладание, вынул папиросу, закурил ее, отдав серебряный портсигар одному из красноармейцев сопровождавшего его конвоя. Величавое спокойствие адмирала Колчака так подействовало на красноармейцев, что они не исполняли команды комиссара и не стреляли. Тогда адмирал, отшвырнув докуренную папиросу, сам отдал приказ стрелять; по его собственной команде красноармейцы и произвели залп, прекративший жизнь одного из лучших сынов России.
Главная цель нашего быстрого движения к Иркутску – освободить адмирала – не удалась. Но тем не менее нужно было взять город, наказать убийц и искупить жертву великого человека – продолжением дела, за которое он положил свою жизнь. Сведения все более подтверждали, что у большевиков дрожали поджилки и они не рассчитывали удержаться в Иркутске. Масса разведчиков и лазутчиков побывали в городе от нас, много переходило к нам и оттуда, из большевицкого стана. Самое большое и неизгладимое впечатление оставили тогда два солдата-чеха, которые три дня слонялись по Иркутску, побывали во всех большевицких учреждениях, с целью все разузнать. Затем эти добровольные разведчики вышли из Иркутска, пробрались на нашу сторону и явились прямо в мой штаб, требуя допуска ко мне.
Предо мною были два бравых солдата; загорелые, обветренные, добродушные лица, глаза смотрят смело и прямо, во всем облике та внешняя выправка и дисциплина, которая присуща только постоянному солдату.
Чехи рассказали мне, что иркутские красноармейцы трусят нашей атаки и между собой поговаривают о том, что они сдались бы, если бы не боялись с одной стороны своих комиссаров, с другой – жестокой расправы белых.
– Брате генерале, ничего не стоит взять Иркутск, ибо и их комиссары также боятся дюже. А рабочих-коммунистов всего несколько сотен, – закончил один из этих славных чехов.
Другой добавил:
– И позиции их совсем не страшны, они только местами понастроили из снегов окопы и облили их водой, чтобы лед был, но обойти везде можно. Я, брате генерале, в вашем штабе план всех их окопов нарисую. Мы везде были.
– Только скорее надо идти, и сразу Иркутск возьмете.
Это были последние из могикан, остатки тех братьев-чехов, воинов школы полковника Швеца, майора Пржхала; их остались единицы, которые были поглощены морем разнузданной и трусливой массы легионеров новой школы Яна Сырового и всех его политических соратников.
Мы были готовы произвести удар. Но ультиматум, предъявленный, от имени 2-й чехословацкой дивизии, полковником Кречим, произвел на большинство наших начальников отрицательное впечатление.
Генерал Войцеховский собрал военный совет, на котором присутствовало десять старших генералов. Разобрали все данные предстоящей операции, обстановку в случае неуспеха, почти все напирали особенно сильно на ограниченное количество патронов у наших стрелков. Только два мнения – атамана енисейских казаков генерал-майора Феофилова и мое – были за немедленное наступление для овладения Иркутском; остальные высказались за уклонение от боя и обход города с юга. Войцеховский присоединился к этому решению и отдал приказ отменить наступление.
Генерал Феофилов особенно волновался; он прослужил в Иркутске долгие годы, знал каждую складку местности, каждую тропинку. А его молодцы казаки сетью разъездов входили чуть не в самое предместье города с юга. Феофилов доказывал, что мы возьмем Иркутск без всякого риска неудачи. А так, преступно было отказаться от этого и оставить у большевиков массу арестованных офицеров, весь российский государственный золотой запас и богатые военным имуществом иркутские склады.
После военного совета я проверил настроение войск моей армии; все офицеры, посланные мной, принесли самые отрадные впечатления. Части ждали боя, желали его, и почти каждый офицер и солдат мечтал войти в Иркутск. Ультиматум чехов произвел на войска иное впечатление, – все страшно возмущались, накопившаяся ненависть к дармоедам, захватившим нашу железную дорогу, прорывалась наружу.
– Не посмеют чехи выступить против нас. А если и выступят, то справимся. Надо посчитаться!
Посоветовавшись еще с генералом Феофиловым, я отправился на квартиру к Войцеховскому и уговорил его дать мне разрешение произвести налет на Иркутск с юга одними моими силами. Не сомневаясь в успехе, мне удалось убедить в том же и его.
Вернувшись к себе, я только начал отдавать распоряжения для боя, как был получен письменный приказ генерала Войцеховского с новым категорическим запрещением брать Иркутск.
В 11 часов ночи было назначено выступление авангарда для обходного движения города. В Инокентьевской оставался заслон, который должен был демонстрировать подготовку нашего наступления на Иркутск и тем отвлечь внимание большевиков от наших обходящих колонн. Войска выступили сначала в южном направлении, чтобы затем свернуть на восток и через горы выйти к Байкалу.
Темная ночь. Зимняя стужа. Гудит ветер и крутит белыми снежными вихрями; от завывания бурана, от непроглядной темноты ночи делается еще тяжелее на душе. Все нервничают, все недовольны друг другом и собою. Чувствуется, что с этим отказом от овладения Иркутском рвется надежда, пропадает та светлая цель, которая вела нас тысячи верст через тайгу, снега Сибири и ее лютые морозы, через сыпной тиф и красные большевицкие заставы…
Идем час, другой. Все молчат, нахохлились в этой воющей холодной зимней ночи, каждый полный своими невеселыми мыслями. Впереди, авангардом Ижевская дивизия, затем егеря, мой небольшой штаб, генерал Войцеховский со своим штабом и дальше остальные части армии. В бездонной черной пропасти ночи не разберешь, как мы идем, повернули раз, другой, третий – наконец и счет потеряли; не знаем, в каком направлении двигаемся. Из-за темных туч и снежного бурана не видно звезд. Правильно ли идем? А! Все равно: такая безразличная усталость после всего, – при авангарде проводники, авось не собьются.
Прошли лесом, где бурная ночная вьюга стала еще мрачнее и зловещее, спустились в овраг, поднялись. И перед нами замигали сотни огоньков.
Авангард остановился. Я проехал вперед узнать, в чем дело.
– Проводники сбились с дороги. Это Иркутск, – доложил мне начальник Ижевской дивизии, генерал-майор Молчанов. – Наши походные заставы подошли почти к самому предместью. Видно, здесь большевики не ждут нас!
Сама судьба стала за проведение плана генерала Феофилова и моего – захвата города внезапным налетом.
– Что это нарочно вы хотите настоять на своем, ваше превосходительство? – раздался сзади недовольный голос подошедшего к нам Войцеховского. – Ведь я приказал определенно – Иркутска не брать.
Я объяснил причину: проводник сбился с дороги, заплутался; выход к Иркутску для меня и моих подчиненных начальников – полная неожиданность. Но и большевики не ждут нас также. Надо этим воспользоваться и занять город, что теперь можно было сделать почти без боя, без потерь.
Но генерал Войцеховский упорно стоял на своем, не считая возможным менять налаженные и отданные им распоряжения для обходного отступательного марша; он отдал снова приказ двигать авангард на юго-восток – к Байкалу.
Прощай, Иркутск!
Долго и медленно двигались мы, усталые и обозленные. Заалел восток. Раздвинулись тени. Стало светлеть. Мороз усиливался и трещал теперь вовсю, чисто по-сибирски.
Утром мы вышли к деревне, уже верстах в пятнадцати восточнее Иркутска, и здесь остановились на привал. Надо было выкормить лошадей и дать людям обогреться.
Через три часа выступили дальше.
Дикой горной дорогой шли мы весь день и еще одну ночь. Казалось, конца не будет этому длинному утомительному переходу. Мороз крепчал; сильный порывистый ветер вырывался из горных ущелий, с воем и визгом, забрасывая сани, людей и животных целыми ворохами снега. Не было сил, двигала всеми какая-то посторонняя автоматическая воля. На вторые сутки, перед рассветом, наша колонна дотянулась наконец к большому прибрежному селу Лиственичному.
Здесь Ангара вливается в Байкал. Несется прозрачная, как хрусталь, река. Быстрый бег и такая чистота, что видна на дне каждая галька, видны плавающие форели. В самые лютые морозы не замерзает здесь вода. Кругом нависли горы, живописными утесами громоздясь друг на друга. А вдали расстилается ровная бесконечная гладь огромного озера, таинственного, полного мистических легенд, бездонного Байкала.
Снова, второй раз за этот переход, всходило солнце. Первые косые лучи его окрасили ледяную поверхность озера и дальние горы в нежные розовые тона, как цветы вишневых деревьев. Ангара стала еще красивее и бежала с немолчным рокотом, точно живая широкая голубая дорога. Усталые люди, выбившиеся из сил кони подходили к концу своего бесконечно длинного пути.
Богатое прибрежное село Лиственичное раскинулось по берегу Байкала на несколько верст. Большинство жителей рыбаки; они и теперь, в этот крепкий февральский мороз, вытаскивали свои снасти и собирались ранним утром на ловлю. Есть в селе несколько мельниц, фабрика, пароходство и судостроительные доки. Но все теперь, со времени революции, заглохло, приостановилось; жизнь тлела еще кое-как при белых, поддерживаемая надеждой на лучшее будущее. Теперь исчезла эта надежда; впереди стоял призрак смерти и разрушения; приближалась власть красных…
Лиственичное встретило наши войска радушно, тепло, но именно с этим оттенком горечи обреченных на погибель. Они все-таки ждали, что мы выбьем большевиков из Иркутска, займем город, соединимся с Забайкальем и восстановим порядок. Сквозь обычные разговоры, во взглядах, в отношениях просвечивала мысль: «Эх, отчего вы не можете защитить нас?! Да, верно, вы не можете…»
Здесь так же, как и на всем остальном пути нашем, проступало неудовлетворенное и скрываемое чувство отчужденности и недоумения. Что же внутри Белого движения? Какова сущность, чем руководились вожди? Столько раз за эти месяцы пришлось встретить в массе русских людей веру, а еще больше жажду верить, что сущность белых, их внутренняя правда заключается в возвращении к царской власти.
Много, много раз, каждый день на этом тысячеверстном пути, приходилось говорить с крестьянами, с учителями, с купцами и ремесленниками, с сельской интеллигенцией, с тысячами русских людей – и почти у всех на уме была одна эта общая мысль, в сердцах – одно общее чувство. И не упрек, а сожаление – почему не объявили открыто, не сказали громко и прямо? Отчего?.. Тогда подъем народный был бы не таков, – все встали бы на поддержку белых…
Наши части остановились в Лиственичном на продолжительный дневной отдых, чтобы подкрепить силы людей и конского состава для предстоящего на завтра перехода через Байкальское озеро. Ночевать здесь мы не могли, – надо было освобождать место для идущей сюда же 2-й армии. Ее арьергарду пришлось уходить от Иркутска уже с боями, так как большевики, осмелевшие после тревожного ожидания, увидевшие в нашем обходе слабость, решили преследовать, рассеять и уничтожить остатки каппелевцев, как они писали в прокламациях и рассыпали приказы по телеграфу на станции железной дороги, бывшие в их руках.
Несмотря на подход вплотную к Забайкалью, все еще обстановка там, впереди, рисовалась очень неясной: станция Мысовск по ту сторону Байкала была несколько дней тому назад в руках японцев. Как теперь, неизвестно, а было слышно, что будто большевики повели наступление, шел бой. Кто теперь там, где атаман Семенов, каковы его силы – никто в точности не знал. Лиственичное жило и питалось только слухами.
Так же обстояло и с дорогой через Байкал. Раньше в прежние годы ездили прямо из Лиственичного или из Голоустного, верст сорок – сорок пять по льду; теперь совсем не ездят, – незачем, да и опасно, неравно и на большевиков наткнешься на другом берегу. Нам предстояло идти первыми, нащупывая и прокладывая дорогу.
К вечеру стали прибывать в Лиственичное передовые части 2-й армии. Моим войскам нужно было выступать дальше, пройти около 10 верст по льду до поселка Голоустного.
Байкальское озеро вулканического происхождения. Бездонной глубины бездна его бунтуется и клокочет иногда в самую тихую погоду; раздаются раскаты подземных громов, ворчит глухой рокот, и поднимаются черные волны-валы. А зимой, когда морозы сковывают поверхность Байкала, в такие дни толстый слой льда грохочет, ломается, дает глубокие трещины, которые тянутся иной раз на многие версты.
Рыбачьи села, что приютились кругом озера в диких Байкальских горах, живут в вечном страхе, поколение от поколения перенимая легенды о тайне своего «моря». Ни один настоящий, коренной байкалец не осмелится назвать его озером. Священное, таинственное море! Неизведанная, богатая и щедрая природа, но также и дикая, первобытная, полная крайностей, какие неизвестны в других странах. В Лиственичном жители нам рассказывали нескончаемые истории про трудность переезда через Байкал и в обычное то время, когда все рыбаки выезжают на лед уже с ноября, когда шаг за шагом устанавливают и провешивают они дорогу на другой берег. А в этом году еще никто не ходил на лед.
– И есть ли переезд через море, не знаем, не можем сказать, – получали мы ответ.
– Часто гремел Байкал, почти что каждый день; поди, широкие и глубо-о-окие трещины посредине. А только в точности не известно.
– Не иначе как в Голоустное идти вам, а оттуда, может, и найдете проводников в Мысовск, на ту сторону.
– Только и про Мысовск в точности не знаем. Были там японцы две недели тому назад; да, сказывают, большевики наступление на них сделали… Ничего в точности не известно…
Это постоянное «неизвестно» было самое неприятное, тяжелое и давило на дух, на психику людей.
Тысячи белых воинов стояли, как и раньше, весь путь от Красноярска, перед этой полной неизвестностью. Через всю Россию прошли они, своими ногами измерили беспредельные пространства Сибири, пробились сквозь сказочные препятствия. А дальше что?
Изможденные и усталые, закаленные в боях, привыкшие к опасности, смеявшиеся над голой бесстыдной улыбкой костлявой смерти, – они надеялись на заслуженный отдых, верили в возможность продолжения борьбы, в успех своего правого дела, имели впереди цель. Верили до последнего дня.
В рядах белого войска были смешаны люди самых различных слоев русской жизни: гвардейские офицеры и солдаты, кадровые офицеры армии, для которых традиции седой старины, честь мундира и слава старых простреленных знамен были дороже всего. Волжские и уральские крестьяне, оставившие свои черноземные поля, чтобы бороться до победы над захватчиком и насильником, жидом-комиссаром; казаки Урала, Иртыша и Енисея, верные потомки своих предков, строивших ширь и могущество государства Российского; рабочие ижевских, воткинских и других уральских заводов бросили станки свои, чтобы победить врага России; сотни молодежи из сибирских городов – кадеты, студенты, реалисты и техники – составляли отборные партизанские отряды, беспощадные к коммунистам и комиссарам, бесстрашные в боях; и много отдельных русских людей со всех концов земли нашей, тех, что не могли и не хотели примириться с властью темного преступного интернационала, тех, которые поклялись уничтожать большевиков до конца, до самого своего смертного часа.
Среди них были женщины и девушки, раньше избалованные красивой, нежной русской жизнью, – теперь делившие тягости похода и боев наряду с офицером. У многих социалисты-большевики убили, замучили отца, мать, братьев, сожгли дома, разграбили имущество, надругались, растоптали все светлое.
Теперь эти тысячи белых крестоносцев, напрягая остаток сил, дошли до священного Байкальского моря, достигли предела, за которым ждали отдыха, братской встречи, подмоги, опоры для дальнейшей борьбы. А вдруг это только мираж, обман доверчивого воображения?!
Люди от усталости, от измождения трудами, голодом и тифом доходили до галлюцинаций.
Вот высокий стройный полковник, в тонкой серой, солдатского сукна шинели, но в погонах и форме своего родного гвардейского полка, входит легкой походкой в комнату. Лицо как у схимника, худое, прозрачное, с огромными ввалившимися глазами, горящими упорным тусклым огнем. Бескровные губы кривятся судорогой страдания – улыбкой.
– Ваше превосходительство, позвольте доложить – Байкал трещит. Я выступил с авангардом, но пришлось остановиться. Нет прохода, трещины как пропасть…
– Взять доски и бревна. Строить мост. Не терять времени. Продолжайте движение, вы задерживаете все колонны.
– Невозможно, Байкал трещит. И нет дороги…
Подхожу, беру руку полковника, – она горячая, как изразец раскаленной белой гладкой печки. В глазах глубокая пропасть пережитых страданий, собрался весь ужас пройденного крестного пути. Стройное, сроднившееся со строем и войной, тело тянется привычно и красиво, несмотря на то что страшный сыпной тиф проник уже в его кровь и отравил ее своим сильным ядом.
Слабела воля. Падали силы. Терялся смысл борьбы, и сама жизнь, казалось, уходила…
5
Темная ночь окутала и горы скалистого берега, и дали Байкала, и глубокое небо без звезд. Ничего не видно, – черная бездна вокруг. Двумя яркими нитками прорезывают ее два фонаря у переезда-моста, сделанного наскоро через трещину.
– Держи правее, пра-а-ве-е-ей, черт! – слышится по временам крик.
Лошади волнуются, храпят, прядут ушами и неловко дергают, чуя опасность бездонной пучины. Проходит колонна, медленно и осторожно, одни сани за другими.
Лишь к полночи добираемся до Голоустного. Маленькая прибрежная деревушка, всего несколько рыбачьих изб, больших, богатых, рубленных из столетних кедров, – хоромы сибирских староселов.
Останавливаемся на ночлег. Как камни, падают на лавки и на пол люди и засыпают тяжелым сном бесконечно уставшего. Только часовые стоят с винтовками у костров. Да полевые штабы составляют приказ на завтрашний переход, совещаются с проводниками, взятыми из голоустинских рыбаков.
– Господи, а в Мысовске-то, кажется, бой идет. Так и гудит артиллерийская канонада, – раздается нервный отрывистый шепот дежурного офицера, вернувшегося с улицы, с поверки постов.
Все выходят из избы; толпятся темные силуэты на берегу ледяного моря и замерли – жадно слушают, ловят далекие звуки. А там, из открытой черной пасти, несется немолчный рокот, то стихая на минуту, то усиливаясь снова, точно ворчащий звук отдаленной артиллерийской подготовки. Среди группы людей на берегу Байкала идет тихий разговор.
– Несомненно, это бой идет. Только где?
– Это в Мысовске, ваше благородие; прямо вот так, направление берите, туды, – машет рукой один из рыбаков Голоустного.
– Да только что-то больно уж долго и громко шум идет, – раздается один сомневающийся голос, – ведь у нас и на Германском фронте только в самые большие сражения так шумело. А сколько там одной тяжелой артиллерии бывало…
– Нет это не пушки. Байкал трещит!
– Ну вот! Спросите наших артиллеристов – всякий скажет, что это бой идет, артиллерийский. Очевидно, большевики атакуют в Мысовске семеновцев и японцев.
– Э-эх, хоть бы до завтра продержались, пока мы нашим на подмогу придем…
Разошлись, вернулись в избы, полные белогвардейцами, спавшими тяжелым, глубоким сном. Заканчиваются последние распоряжения, рассылаются с ординарцами приказы. Добродушная круглолицая хозяйка избы со своими дочерьми возится около печки и самовара, готовит на завтра подорожники. Добрые глаза их останавливаются на лицах офицеров, на спящих фигурах, с выражением неподдельного участия и печали. За долгие годы войны, передумав и перечувствовав бесконечно много над ее ужасами, теперь впервые увидели эти простые люди армию, тысячи вооруженных солдат в их особом миру отношений, понятий и традиций; и над туманными грезами, над страшными легендами и сказками слегка приподнялся угол завесы…
До зари поднялись все, запряжены сани, поседланы лошади, отряд готов к выступлению, чтобы успеть засветло сделать этот переход в 40–45 верст по ледяной дороге. Предутренний холод пробирает тело, еще не отошедшее от сна. Вытягивается колонна, проходит улицей Голоустного и спускается по отлогому берегу на Байкал. Жители затерянного поселка, рыбаки с семьями, провожают и прощаются добрыми, задушевными словами, идущими из сердца пожеланиями.
Выезжают троечные сани из большого двора, где стоял штаб отряда; хозяйка суетливо бегает около, засовывая жареных кур, хлебы, пироги, рыбу, ее младшая дочь, крепкая четырнадцатилетняя сибирячка, стоит у дверей, кутаясь в толстый платок, и переговаривается с отъезжающими, блестя чистыми, белыми зубами.
– Поедем, Конька, со мной, – обращается один из офицеров, одетый в оленью доху, улыбаясь глазами.
– А чаго-ж и поеду… Только куды-ы-ы с тобой ехать. Нет, не хочу.
– Почему не хочешь?
– Да тебя большевики-то забьют, а с кем я одна останусь? – жеманно отвечает Конька при общем дружном смехе…
Но у всех остается осадок горечи от этих простых, уверенных и жалостливых слов подростка-сибирячки: большевики забьют…
Тяжело было идти по Байкалу. Только местами попадались небольшие пятна, покрытые снегом, который осел, как песок на морских дюнах, тонкими, извилистыми, волнистыми линиями. Все пространство озера было ровной ледяной пустыней. Взошедшее солнце блеском своим сверкало и переливалось на льду миллионами брильянтовых искр. Ветер, вырвавшийся из гор, несся свободно и буйно, завывая по временам и ударяя с такой силой, что валил пешехода с ног. Ехать все время в санях было невтерпеж, – мороз и пронзительный ветер обращали все тело в сплошную ледяшку, ныли кости, останавливалась кровь. Люди выскакивали из саней и бежали пешком рядом, чтобы отогреться. Двигались очень медленно, с остановками, так как при авангарде шел специальный отряд проводников, байкальских рыбаков, с длинными шестами, определяя прочность льда, осторожно отыскивая путь, чтобы не наткнуться на трещину.
Всего труднее было с нашими лошадьми. Кованные на обычные подковы, без шипов, они шли по ледяной дороге Байкала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Бедные животные напрягали все свои силы, видно было, как при каждом шаге вздувались и дрожали мускулы ног, как напрягалась спина и сгибалась шея, чтобы сохранить равновесие. Более слабые лошади выбивались из сил и падали. Пробовали их поднять, провести несколько шагов. И людьми и животными управляли не обычные силы, а сверхъестественное напряжение воли: еще 20–10 верст – и все решится. И может быть, настанет заслуженный покойный отдых после многих тысяч тяжелого, полного опасностей Ледяного похода.
Февральское зимнее солнце поднялось невысоко и быстро стало спускаться по небосклону. Блестело яркими бликами необъятное ледяное пространство Байкала. По дороге попалось несколько старых трещин; на полтора аршина кристаллы льда, как дивные гигантские аквамарины, а между ними черные полосы зияющей бездны бездонных вод. Кругом ровная, ровная пустыня и лишь легкими силуэтами обрисовываются навстречу нам горы восточного берега. Мысовск!
Все меньше сил, все ближе вечер. И все больше падает по нашему пути бедных боевых слуг, наших усталых лошадей. Бредет животное по льду, ноги расползаются в стороны, не за что уцепиться стертыми подковами, не осталось сил в истощенном теле. И лошадь падает, грохается всей своей тяжестью. Нет больше возможности поднять ее. Быстро снимают седло или хомут, кладут на ближайшие сани… и дальше в путь.
К концу дня вся дорога через Байкал чернела раздувшимися конскими трупами. Печальные вехи!
Людей двигала воля и твердость души, но шли из последних сил, изможденные, прозябшие до костей на ледяном ветру, голодные и бесприютные. Также скользили и расползались ноги, также не за что было уцепиться на скользкой дороге, также напрягалось тело, – иногда равновесие терялось, падал человек. Лежит на льду, над бездонной пучиной Байкала, а мимо идут, идут свои, тянется безостановочно вереница пешеходов, саней и конных; кое-кто подойдет с участливым словом и дальше. Отлежится человек несколько минут, мысль стучит в усталой крови: «Вставай, вставай, вставай, – не то смерть, смерть, смерть…»
Подымается, тяжело, точно с похмелья или после тяжкой болезни, и медленно бредет дальше. К близкой уже цели. В Мысовск…
Трудно дать настоящую картину тех дней – слишком необычна она, так угарно-устало прошли они, эти дни, и кажутся такими далекими, как кошмарный сон. Но представьте себе, заставьте себя на минуту, среди обычной вашей жизни в теплой обстановке, вообразить – тысячи верст сибирского векового простора; глухая тайга, куда не ступала нога человека, дикие горы с труднодоступными подъемами, огромные реки, скованные льдом, снег глубиной 2 аршина, мороз трещит и доходит до 40 градусов по Реомюру, затерявшиеся в тайге и засыпанные снегом деревни. И представьте тысячи русских людей, идущих день за днем по этим глубоким беспредельным снегам; целые месяцы, день за днем, в обстановке жуткой по своей жестокости и лишениям. А тут еще чуть не на каждом шагу опасность братоубийственной войны. Бродячие шайки красных рассыпаны всюду, с запада преследует организованная большевицкая сила, советская армия, с востока выдвинуты сильные отряды эсеров.
И полная неизвестность. Где конец? Что будет дальше?
Байкал с его ледяной дорогой – это апофеоз всего Ледяного похода. Белая армия шла через озеро-море, не зная, что ждет ее на другом берегу, ожидая там противника, жестокого и беспощадного врага Гражданской войны.
Но звуки, казавшиеся накануне гулом отдаленного артиллерийского боя, были иллюзией усталого слуха, возбужденного, уже больного воображения. То гудел Байкал, трещал, раскалываясь, лед.
К Мысовску мы подошли под вечер. Маленький заштатный городок расползся своими плоскими домами и избами по невысокому берегу озера, раскинулся одной длинной широкой улицей и несколькими переулками. Жители Мысовска толпятся небольшими кучками, издали наблюдая, как, извиваясь бесконечной лентой, приближается колонна белых войск. Молча, не отрываясь смотрят они, как вступают в их городок эти люди, прошедшие через всю Сибирь. И лишь только тогда, когда вслед за авангардом появляется штабной значок, флаг наполовину русский трехцветный, наполовину белый с синим Андреевским крестом, сами собой снимаются шапки, кучки людей подходят ближе, толпятся около колонны.
– Эх, не так бы вас встречать надо, родные! – раздался голос из толпы. – Да нет у нас ничего.
– Настрадались-то сколько вы.
– Сердечные. Герои!
Сейчас же нашлось масса добровольных квартирьеров, звали наперебой офицеров и солдат к себе. И через час отряды уже отдыхали в просторных теплых избах, обогревались; и снова хозяйки пекли, варили и жарили, как в праздник.
В Мысовске оказалась рота японцев, их передовой отряд; временно оставили, как нам объяснили – если бы еще два дня не пришли белые, то японцы ушли бы на восток, в Верхнеудинск. И тогда Мысовск заняли бы большевики…
Как только наши солдаты увидели первых японцев, которые стояли на железнодорожном полотне, проходящем над озером, радостный гул пошел среди наших. Посыпались остроты, шутки, крики. Маленькие японские солдаты, зябкие и закутанные в непривычные для них меха, стояли навытяжку и отдавали честь вступавшим в Мысовск русским войскам.
Вот отделяется несколько стрелков-ижевцев и бежит к японцам, стоящим зрителями. Рукопожатия. Самураи бормочут что-то на своем непонятном языке и улыбаются узкими раскосыми глазами. Наши хлопают радостно их по плечу.
– Здорово, брат-япоша, ты теперь будешь все одно как ижевец.
– Спасибо, японец, – один ты у нас верный союзник остался.
– Будешь помогать нам большевика бить?..
– Ура!.. Банзай!
Маленькие желтые люди тоже кричат «ура» и «банзай». Сразу устанавливаются близкие, дружеские отношения. И наши солдаты уходят под руки с «япошками» по квартирам.
Тепло, уютно, и появилась уверенность в завтрашнем дне, в том, что кончился тяжелый поход, оправдались частью наши надежды на возможность нового дела, продолжения борьбы за Россию.
В Забайкалье крепко держался атаман Семенов со своим корпусом. В Мысовске оказался присланный им встретить нас полковник, который, впервые за все время, сообщил действительные, правдивые и полные сведения о положении в Восточной Сибири. Узнали мы, что большевики не рискуют еще наступать на Забайкалье из Иркутска, но зато организуют банды из местных жителей, снабжая их оружием, агитаторами и инструкторами. Западная часть Забайкалья кишит такими шайками и с каждым днем все больше волнуется. Передал нам полковник, что адмирал Колчак успел перед своим арестом издать следующий указ:
«УКАЗ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ
4 января 1920 года, г. Н.-Удинск.
Ввиду предрешения мною вопроса о передаче верховной всероссийской власти главнокомандующему вооруженными силами юга России генерал-лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей
Российской восточной окраине оплота государственности на началах неразрывного единства со всей Россией:
1. Предоставляю главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины, объединенной российской верховной властью.
2. Поручаю генерал-лейтенанту атаману Семенову образовать органы государственного управления в пределах распространения его полноты власти.
Верховный правитель адмирал Колчак.Председатель Совета министров В. Пепеляев.Директор канцелярии верховного правителягенерал-майор Мартьянов».Узнали мы также, что японцы оказывают полную поддержку и помощь, которая еще, видимо, усилится с выходом нашей армии, – этого ждали, хотя никто не был уверен.
Скоро были получены из Читы телеграммы; атаман Семенов запрашивал о составе и силах армии и о том, какая и в чем первая неотложная нужда. Японское командование и миссия прислали горячий привет и восхищение перед подвигами Ледяного похода русской армии.
Той же ночью мы получили несколько вагонов продовольствия и теплой одежды. Снова почувствовалась забота, прочная связь и опора, выросла еще более уверенность в том, что кончено тяжелое испытание.
После одного дня отдыха, закончив эвакуацию части больных по железной дороге, двинулись дальше: 3-я армия на Верхнеудинск, 2-я – в район западнее его.
6
Действительно, все пространство Западного Забайкалья кишело бандами, они организовывались по общей схеме, проведенной социалистами по всей Сибири, то есть с привлечением к работе органов кооперации и так называемых земств выборов 1917 года. Все распоряжения шли из Иркутска, оттуда же доставлялось оружие и патроны; военное руководство принял на себя товарищ Калашников, перешедший теперь от эсеров на службу к большевикам. Главным районом сосредоточения банд было большое село Кабанье.
Здесь и произошло первое столкновение. Передовые части 3-й армии после короткого боя выбили красных лихой конной атакой, овладели деревней и рассеяли банды. Путь был открыт. Остальные колонны прошли беспрепятственно до Верхнеудинска.
Трудность движения заключалась теперь в другом. Забайкалье обычно отличается бесснежными зимами, не было исключения и в том году; бедным нашим коням приходилось тянуть сани почти по голой земле или по рыхлому мелкому снегу, перемешанному с песком. Если бы не некоторые участки пути, когда можно было идти рекою Селенгой, по льду, лошади были бы зарезаны окончательно.
Верхнеудинск – большой город с казармами, с каменными домами, магазинами, базарами, гостиным двором, имеет богатое население в несколько тысяч человек. Белые войска были здесь встречены так тепло и искренно, к ним все проявили такую массу заботливости и даже нежности, как могут сделать это только свои близкие люди. Но была и ложка дегтя в этом сладком меду.
В Верхнеудинске, как всюду по Сибири, благодаря неопределенному курсу и слабости тыловых властей эсеровщина пустила прочные корни. Повторялась одна и та же история: все слои коренного населения страстно желали порядка, ненавидели всеми своими силами злую революцию и тосковали по прошлому величию и покою жизни под Царской державой, а кучка пришельцев, наглых инородцев и своих, русских предателей кричала о завоеваниях революции, о правах «демократии» и об опасности реакции.
Как и всюду, здесь они были так же трусливы и наглы. После прихода армии, которую эти иуды предали вместе с ее вождем, они притихли и попрятались. Но через несколько дней была сделана первая попытка: застрельщики направились к генералу Войцеховскому и к японскому командованию, начали разнюхивать и разведывать. И увидели, что эти, видимо не понимая ничего в происходящем, продолжают верить их высокопарным словам о каких-то их правах, как народных избранников, о пресловутой демократии и пр. После первого успеха тотчас же вылезла вся шайка и часами стала заседать в доме генерала Войцеховского. Их работа была направлена теперь на то, чтобы поссорить Войцеховского с атаманом Семеновым и внести смущение в ряды армии.
Генерал С. Н. Войцеховский
Здесь же, в Верхнеудинске, пришлось встретиться с генералом Дитерихсом. Он как-то весь сжался, похудел и смотрел в сторону пустым взглядом своих еще не так давно молодых и вечно полных жизни глаз. Недолго говорил я с ним, не находилось ни с той ни с другой стороны настоящих слов, – слишком велика была пропасть с того дня в Омске, когда он передал мне, в трудную минуту, главнокомандование боевым фронтом, а сам уехал на восток.
С того дня прошло всего три месяца, но по пережитому, казалось, пронеслись годы. Величайшие напряжения спасти положение, непрестанные бои, ряд предательств, катастрофа, тысячи верст Ледяного похода дикой сибирской тайгой – у нас всех; постоянное воспоминание о том, что бросил армию в трудную минуту, думы тяжкие и переживания в одиночестве, здесь в тылу, за Байкалом, – у него и, несомненно, муки совести с сознанием тяжести ответственности, которую снять может только жертва и подвиг да исполненный до конца долг.
Трудно объяснить психологию и связь в целой цепи поступков этого деятеля. Генерал Дитерихс всегда казался полным горячего желания принести пользу Родине, развить живую деятельность и для этого стремился занять центральное место. Но со времени революции слишком много проступало взаимных противоречий в словах, поступках и даже мыслях этого незаурядного человека.
В конце августа 1917 года Дитерихс, приехав из Салоник, идет, как начальник штаба генерала Крымова, как мозг этой армии народного гнева, на Петроград, чтобы ликвидировать Совдеп и покончить с керенщиной. Полная неудача. Крымов стреляется, его армия распыляется агентами Керенского и постепенно подготовляется революционным развратом к принятию Ленина и Бронштейна. Корнилов с помощниками арестован. Дитерихс молча, тихо возвращается в Могилевскую ставку и занимает стул генерал-квартирмейстера у шута-главковерха Керенского.
В конце октября того же года этот главковерх бежит сначала из Петрограда, а затем ночью скрывается и от своей армии. Пропадает на несколько лет. Прапорщик Крыленко с красными матросами наступает на Могилев и убивает доблестного и честного солдата-генерала Николая Николаевича Духонина, который заступил автоматически место главковерха, освобожденное дезертиром Керенским. Дитерихс избегает этой участи, и ему после нескольких дней удается скрыться в Киеве.
Новый этап – он с чехами. В их эшелоне, как начальник штаба, добирается до Владивостока, где его застает весна 1918 года. Общее выступление; при содействии японцев чехи берут и этот город. На помощь сюда спешит отряд русских офицеров из полосы отчуждения Восточно-Китайской железной дороги, но Дитерихс передает, что он будет разговаривать с ними только в том случае, если они положат оружие. Вскоре он появляется в роли начальника штаба Яна Сырового, надевает на себя чешскую форму без погон, защищает узкочешские интересы, зачастую с большой настойчивостью.
Когда чехи ушли в тыл, они стали производить чистку в своих командных верхах и всех русских офицеров убрали вон. Принужден был уйти и Дитерихс. В начале 1919 года он опять во Владивостоке, уже в русской форме, с очень маленькими защитными погонами генерал-лейтенанта.
С разрешения верховного правителя он, в специальном поезде, отвозит на английский крейсер «Кент» для сохранности все вещи, оставшиеся от царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге, тщательно собранные русскими людьми; целый вагон реликвий.
После этого генерал Дитерихс становится во главе следственной комиссии по делу о злодейском убиении государя, государыни и августейших детей. Тщательно ведет он розыски, строит целую систему, отдается весь делу, помогая большой работе следователя Н. А. Соколова.
Когда Гайда пытался, по указке эсеров, пойти против адмирала Колчака и решено было убрать его, генерал Лебедев ездил к Дитерихсу и, предложив ему пост командующего Сибирской армией, составил совместно с ним план действий и исправлений дезорганизации, внесенной Гайдой. Генерал Дитерихс с большою радостью ухватился за это предложение. Он начал с того, что отменил все приказы Гайды и довольно спешно повел армию в тыл, надеясь здесь ее перестроить на новых началах.
Лебедев, которому адмирал верил до конца чуть ли не больше всех, вскоре должен был уйти. Его место занял генерал Дитерихс, сделавшись главнокомандующим фронтом и одновременно начальником штаба верховного правителя. Так что цель, поставленная социалистами Гайде – убрать Лебедева, была достигнута.
Здесь с вершины власти начинается ряд непонятных действий, слов, распоряжений, вплоть до самого ухода генерала Дитерихса с поста и до отъезда его из Омска. То он сам заявляет:
– Подумайте, Пепеляев мне доложил, что он и его генералы требуют созыва Учредительного собрания или земского собора немедленно, – иначе будто дело не пойдет. Я посоветовал им: пустить пулю в лоб, если они так думают. Это какая-то керенщина.
А затем тот же Дитерихс берет в самый трудный момент, снимает армию Пепеляева с фронта и перебрасывает ее по железной дороге в тыл, чем невольно создает смертельную угрозу самому существованию боевой армии; как показали события, эти действия и привели к предательству Зиневича и к Красноярской катастрофе.
Но в это время Дитерихс стал уже горячим сторонником и заступником идеи созыва земского собора в Сибири; идеи, с которой носились омские министры и так называемая общественность.
То он выпускает во Владивостоке, мужественно и открыто, за своей подписью прокламацию о еврейской мировой опасности, о необходимости самой упорной борьбы с ними, общего крестового похода. А затем, получив власть, чуть ли не потакает эсерам, среди которых больше половины были и есть жиды.
– Нельзя, надо считаться с общественностью…
Во время осеннего напряжения армии, нашей победной Тобольской операции, генерал Дитерихс не может подать на фронт ни одного эшелона пополнений, не может заставить тыл, полный складами и людскими запасами, помочь армии, одеть ее, снабдить хотя бы самым необходимым; и повторяет с таинственным видом:
– Важно не то. Надо лишь продержаться только до октября, когда Деникин возьмет Москву. Необходимо до этого времени сохранить верховного правителя и министров. Остальное не важно.
Что он думал, какие мысли роились у него в голове, когда он сидел в своем вагоне, уставленном иконами и хоругвями, и работал за письменным столом целые ночи напролет? Так же трудно понять, как и то, что таилось у него на душе тогда, когда он шел с Крымовым, работал с Керенским, служил у чехов, ехал из Омска на восток, сидел в Верхнеудинске во время нашего тяжелого похода через Сибирь.
Такие же неясные и неопределенные были его мысли и речи здесь, в Верхнеудинске, во время последней встречи. Видно было только, что его оставила или, по крайности, сильно ослабла в нем мистическая уверенность в особом призвании спасти Россию; та неотвязная идея, которая раньше проявлялась во всем и которая дала основание П. П. Иванову-Ринову метко назвать его Жанной д’Арк в рейтузах. Временно опять генерал Дитерихс затих и вскоре уехал в Харбин.
В Верхнеудинске стояла бригада японцев под командой генерал-майора Огаты. Во всем Забайкалье в ту пору одним из важнейших факторов являлись японцы. Их воинские части были ведь настоящей императорской армией, такой как наша в 1914 году. Организация и воинская дисциплина стояли так же высоко, как в обычное время; офицерский корпус и солдаты представляли отличный боевой материал, причем сила дивизии простиралась до 12–14 тысяч штыков и была достаточна для разгрома всех большевицких войск, – если бы японцы решили выступить на помощь белым активно. Этого добивались от них давно и директория, и Омское правительство, и теперь атаман Семенов; давно и напрасно, так как японцы, не говоря окончательно «нет», оттягивали время и в общем держались пассивно.
Необходимо – в целях справедливости и правды, а следовательно, и интересов нашей Родины – сказать о том, что отношение японцев во всех случаях, кроме самого первого периода интервенции, значительно отличалось от всех остальных союзников. Только вначале, в 1918 году, японцы, и то не командование их и не воинские части, а специальные миссии, стремились как можно больше и скорее набрать того, что плохо лежало; это были главным образом секретные карты и планы, делались съемки в районе Владивостокской крепости, занимались казармы в важных стратегических пунктах. Но уже с января 1919 года все это было совершенно устранено, отношения резко переменились в самую лучшую сторону. Поведение японского командования и войск стало вполне союзническим, даже рыцарственным. И они одни остались теперь в Сибири, чтобы помочь русским людям, русскому делу.
Положение их было не из легких. Как раз в те дни, в начале 1920 года, игроки мировой сцены начали перестраиваться. Слабое своей разрозненностью и расплывчатостью Белое движение отшатнуло Ллойд Джорджа, Клемансо и K°, успев их напугать все-таки призраком возрождения сильной национальной России. Видимо, этот испуг и был одной из причин, почему они поспешили приложить преступную руку свою к предательству и погублению белых. Эти современные руководители мировой политики, только что проклинавшие большевиков, призывавшие «всех чистых русских к борьбе с этими врагами не только России, но всего человечества», начали говорить о невмешательстве в русские дела; Ллойд Джордж шел дальше и уже нащупывал почву для переговоров с советским правительством, с теми же большевиками. Под влиянием сложных и путаных причин «союзники» бросили белых и отошли от них, умыв руки.
Остались одни японцы. Они не отходили потому, что, во-первых, дух рыцарства, правила чести и верность слову живы и развиты в народе Восходящего солнца значительно сильнее, чем в народах Европы, всех вместе и в каждом порознь; а во-вторых, – и это было немаловажно, – японцы сильно опасались за Маньчжурию и Корею, где бурлили темные массы под влиянием большевицкой агитации. Надо помнить, что Корея, провинция, присоединенная к империи лишь с 1911 года, представляет собою сильно взрывчатый, опасный очаг: покоренная, насильно подчиненная страна, лишенная своего национального правления, придавленная и имеющая потому много недовольных элементов.
Японские войска оставались на Дальнем Востоке и в Забайкалье, стремясь оказать нам самую полную поддержку. Но в этих своих стремлениях они наталкивались на французские и американские миссии, на своих друзей-англичан. Императорскому японскому правительству приходилось сталкиваться не только с бездействием этих союзников русского народа, но и с открытым подчас противодействием; «союзники» выставляли Японии требование увести из Сибири войска и не помогать, ни в коем случае, колчаковцам, или, как теперь звали наши войска, каппелевцам.
Стоявшая в Верхнеудинске бригада 5-й японской дивизии занимала казармы в самом городе. Командир бригады генерал Огата, человек недалекий и хитрый, с типичным раскосым лицом азиата, а не японца, с постоянной широкой улыбкой, выставил требования, чтобы наши части в городе не становились, указав на решенную общесоюзническим советом нейтрализацию железной дороги. Долго спорили: мы не сдавались, Огата не хотел уступить… Наконец пришли к соглашению: в городе станут штабы с охраной, а части расположатся в военном городке в 8 верстах и в окрестных деревнях.
Там далеко было не спокойно. Красные партизаны, соорганизованные Иркутским штабом и главковерхом товарищем Калашниковым, совершали на деревни нападения, набеги, установили своеобразную блокаду, прекратив подвоз к городу крестьянами продовольствия и фуража. Приходилось снаряжать целые экспедиции, усиленные фуражировки.
Ежедневно много войск отвлекалось на службу охранения и разведки; отдых в Верхнеудинском районе получался очень куцый, а о регулярных занятиях нечего было и думать.
В самом городе охрана неслась японскими солдатами исправно и неутомимо. Ходили патрули этих маленьких людей, так непривычных к морозам, завернутых в торчащий пушистый меховой воротник, в теплых шапках, в валеных сапогах. Трудно было объясняться им со случайными прохожими по ночам на улице, с нашими патрулями, вестовыми и с лицами командного состава. Пробовали установить общий пароль, пропуск и отзыв, – ничего не вышло: слишком различен и труден для каждой стороны язык другой. Выйти из затруднений помогли чувства взаимной приязни. Наши скоро подметили, что японцы с особой симпатией относятся к нашей армии, к каппелевцам. Именем погибшего героя установился сам собою и пароль.
– Капель-капель? – спрашивал ночной японский патруль встречных офицеров и солдат.
– Каппелевцы! – раздавалось в ответ.
Приятной улыбкой скалились зубы маленького желтого солдата, и вместе с морозным паром вылетала какая-то фраза, сопровождавшаяся похлопыванием по рукаву или ласковым смехом.
И расходились…
Было устроено несколько официальных обедов. Японцы дали первый в нашу честь, приветствовали, – как переводчик с чисто восточной пышностью перевел речь генерала Огаты, – героев, сделавших небывалый в мире поход через ледяное море Сибири. Затем мы ответили японцам. Неприятно было только слышать, что в речах японских представителей звучала здесь какая-то неверная, смущавшая нас нотка о нейтралитете союзников, об их общих обязанностях перед чехословаками. Эти нотки начали проходить через все их заверения о дружбе к национальной России, о необходимости борьбы с большевиками, до полной победы над ними. Японцы, как люди очень компанейские, охотно пьют и любят выпить. К концу обеда обычно чувства шире, речи смелей; особенно у молодых офицеров. Эти определенно заявляли о своей готовности драться с нами вместе, плечо к плечу. Только бригадир Огата, даже и под парами, не забывал своего основного мотива, а несколько раз так договорился даже до пространного и несвязного лепета о «демократии и демократичности».
Все это было, несомненно, наносное, под влиянием союзного Совдепа; отразилась также несколько и та двойственная игра, которую генерал Войцеховский вел с местными верхнеудинскими эсерами, этими темными дельцами местных кооперативов и земств. Характерно, что и внешность всех этих милостивых государей была какая-то темная, серая, полупочтенная: угловатые движения, длинные космы, косые воровские взгляды, речь или с еврейским, или польским акцентом. С их помощью вскоре выполз на свет и печальный герой красноярского предательства – генерал Пепеляев, революционный командарм 1-й Сибирской армии.
Сперва было доложено, как слух, что он скрывается в городе в штатском платье, прячась по квартирам верхнеудинских «общественных» деятелей. После проверки этого слуха я приказал доложить это генералу Войцеховскому, который здесь был старшим начальником и от которого потому зависел арест. Ответ от Войцеховского был получен, что он знает о пребывании Пепеляева в Верхнеудинске и будет сегодня же иметь с ним разговор. До этого он просил никаких мер не предпринимать.
Пепеляев появился в штабе командующего армией, держа себя неуверенно и даже робко, проговорили они около двух часов, после чего революционный герой вышел с бодрым и даже веселым видом; через день он появился снова, уже в форме русского генерала.
Считая совершенно вредным такое попустительство офицеру, виновному в государственном преступлении, в предательстве армии под Красноярском, многие офицеры частей, проведшие в рядах армии на фронте все эти пять лет, начали волноваться, ко мне поступали рапорты с выражением недовольства тем, что преступник остается на свободе.
Обо всем этом было снова доложено генералу Войцеховскому; тот, видимо, только для успокоения офицеров заявил, что весь этот вопрос откладывает до решения главнокомандующего атамана Семенова, до Читы.
«Если Пепеляев не выедет к назначенному сроку в Читу, то приказываю его арестовать и отправить под конвоем», – получена была через два дня шифрованная телеграмма из Читы, куда переехал со штабом Войцеховский.
В назначенный день Пепеляев пробрался тайком в теплушку, полную его сторонниками, и отправился по вызову.
На этом сравнительно мелком эпизоде приходится так задержаться, чтобы яснее обрисовались многие стороны тогдашних настроений.
Части 3-й армии, сведенные к этому времени, по моему представлению, в отдельный корпус, были в очень тяжелом положении; более половины личного состава болело тифом, причем многие перенесли обе формы: сыпной и возвратный. Все были измучены и страшно устали от последних месяцев зимней кампании, от многих тысяч верст похода; и физические силы и, еще более, состояние духа требовали предоставления частям продолжительного отдыха; нужно было время, чтобы переформировать части, дивизии свести в полки, уничтожить излишние штабы и учреждения, влить пополнения, вести регулярные занятия. Тогда через месяц-полтора можно было снова начать наступления на запад.
Главнокомандующий генерал-лейтенант атаман Семенов вполне оценивал эту необходимость. Через неделю им была прислана в Верхнеудинск монголо-бурятская дивизия на смену 3-го корпуса, которому было приказано двигаться походным порядком на Читу.
Несмотря на самое благожелательное отношение японского командования и их полное желание нам помочь, не могли предоставить для корпуса достаточного количества поездов. Из Верхнеудинска повезли только больных, раненых и Уфимскую дивизию, сведенную из бывшего Уфимского корпуса. Для остальных частей поезда были обещаны от Петровского Завода.
Петровский Завод отстоит от Верхнеудинска верст на сто сорок – сто пятьдесят, на четыре перехода. Дорога предстояла крайне трудная, так как весь наш обоз, да и большинство пехоты двигались на санях. А этот район, к востоку от Верхнеудинска, отличался еще большим бесснежьем; на десятки верст земля была совершенно обнажена или прикрыта слоем снега толщиною не более вершка.
Войска корпуса были распределены на три эшелона, одна группа двигалась за другой, чтобы таким путем всех обеспечить ночлегом. Местность здесь сильно пересеченная оврагами и холмами, покрыта на три четверти густым девственным лесом; селения до крайности редки, расположены на 30–40 верст одно от другого, дорог очень мало.
Впереди шли ижевцы и егеря, за ними Уральская дивизия, драгуны и волжане, в третьей группе казаки, оренбургские и енисейцы. Последние везли с собою своего маститого, смелого атамана генерала Феофилова, который не избег общей участи и свалился в сыпном тифу.
Тяжелая дорога. Лошади, хоть и отдохнули в Верхнеудинске, с большим трудом тащат сани, скрипят, точно пробкой по стеклу, полозья, задевая землю, проходя по песку, цепляясь за камни. На подъемах из оврагов вечные заторы – приходится сани выносить на руках.
Ночлеги в забайкальских деревнях со старосельческим населением, из тех же «семейных». Так прозвались издавна эти, одни из первых поселенцев угрюмого Забайкалья, староверы Петровской эпохи, которых выселяли сюда с их семьями. Истовые русские крестьяне, чуждые и враждебные не только непонятной им революции, но и всему, что пошло за ней. Повсюду чувствовалась здесь, а иногда открыто высказывалась одна общая основная мысль, причина этой враждебности:
– Зачем отняли и погубили нашего царя? Зачем разрушили нашу жизнь? Что вам еще надо?
На этой почве разрасталось повстанческое движение, именно на почве крайней контрреволюционности крестьянства. Большевики только использовали их, усилив свою агитацию и направив из Иркутска транспорты с оружием и патронами. Банды повстанцев группировались на юго-западе от Петровского Завода. Первой колонне было приказано атаковать их и уничтожить. Егеря и ижевцы повели бой, сильным натиском опрокинули красных и погнали их в горы. Но в этом бою был ранен в обе руки начальник первой колонны генерал-майор Молчанов. Поэтому дело не удалось закончить, – красных потрепали, отогнали, но не уничтожили.
Я со своим штабом шел с волжанами, в полупереходе сзади двигалась Уральская дивизия, на сутки позже шли казаки. Последний ночлег перед Петровским Заводом мы имели в большом бурятском ауле Коссотах.
Среди пустынной всхолмленной местности, слегка запорошенной снегом, разбросано несколько сотен мазанок и кибиток. Посредине высится капище – храм буддистов-бурят. Эти инородцы в массе своей настроены непримиримо к советской власти, к большевикам и всей социалистической братии; как и все инородцы в России, на всем ее необъятном просторе, все инородцы – кроме избранного инородческого племени, обрезанных иудеев. Слуги их, этих держателей мирового золота, объясняют прикосновенность инородцев к контрреволюции и приверженность старому режиму тем, что они все слишком-де мало культурны, неразвиты, темны и не понимают сами своей пользы. Так говорили и до сих пор готовы утверждать почти все, принадлежащие к лагерю «демократов», и даже профессора их лагеря, типа Милюкова; вероятно, в глубине своей души эти господа сознают, что эти их утверждения ложь от начала до конца, но тактика и партийная дисциплина, двигатели современной совести, мало считаются с правдой.
Сохранение инородцами России бережного, святого почитания царского имени, их затаенные мечты о возвращении царской власти основываются главным образом на том, что только эта власть была абсолютно справедлива ко всем без различия национальности и вероисповедания; кроме евреев, по весьма понятной причине, справедливость которой они так наглядно доказали на деле за период 1917–1920 годов; нельзя ставить врагов государства в положение равноправное с остальными верными подданными его. Жизнь каждой национальности развивалась спокойно и естественно, в условиях жизненно прирожденных ей. Редкие отклонения, эксцессы случались, без сомнения. Но ведь где их нет? Только маньяки теоретической политики или заведомые шулера могут утверждать обратное.
А вот когда грянула революция, бунтом обманутого народа были растоптаны царская власть и весь государственный аппарат ее, тут сразу картина переменилась: инородцы стали подвергаться всяческим стеснениям, нарушались их вековые права, попирались обычаи, своеобразные устои жизни; когда же это было на руку новой власти, социалистической, и соседнему населению, русскому, то целые племена инородцев подвергались систематическому угнетению, близкому к уничтожению. Так было с астраханскими и донскими калмыками, уфимскими татарами и башкирами, забайкальскими бурятами.
Немудрено, что здесь среди зимовников бурят-буддистов приходилось встречать повышенное и резко определенное контрреволюционное настроение.
7
С ночлега, из Коссот волжане выступили рано утром, до рассвета. Мой штаб с конвойной оренбургской сотней и квартирьерами 2-й колонны, общим числом не более двухсот всадников, ожидал подхода головного отряда уральцев. Коши были поседланы, небольшой обоз запряжен.
Около половины десятого утра летят верховые буряты, наши добровольные разведчики, и докладывают, что на Коссоты наступает банда красных, человек до тысячи. Вскоре прискакали с такими же донесениями из сторожевого охранения казаки.
Двинув вперед по дороге на Петровский Завод небольшой, в несколько саней, обоз, я приказал нашему маленькому отряду выходить из аула, чтобы затем с двух сторон атаковать красных и отбросить их на подходящих уральцев.
Идем небольшой сомкнутой колонной, легкой спокойной рысью. Только вышли из последней улицы Коссот, как с ближайших холмов затрещали винтовки большевиков, заработал пулемет.
– Ваше превосходительство, скорее, скорее! – кричит мне под ухом начальник штаба корпуса, полковник К.
– Не кричите, – крики всегда вызывают волнение и беспорядок! – только успел я ему ответить, как с боку послышались несколько испуганных голосов:
– Ваше превосходительство, ваша лошадь ранена!
Нагнувшись с седла, я увидал, что действительно из левого плеча Маруси била фонтаном темная, алая кровь. Любимая полукровка, делившая со мной поход от Уфы, напрягала усилия и еще выше выбрасывала в своем легком беге раненую стройную ногу. Виден был сбоку умный карий глаз лошади, смотревший напряженно и печально, но без малейшей тени испуга или страха.
Прошло всего несколько мгновений. Вдруг Маруся рухнула на землю, придавив мою левую ногу, так что с трудом удалось мне ее вытащить. Вторая пуля в голову сразила моего верного боевого товарища насмерть.
Лежа на земле, я видел, как весь небольшой отряд пронесся мимо меня; так что, когда мне удалось встать на ноги, я очутился один среди пустынного поля, одетый в неуклюжие меховые сибирские одежды; вот что было надето на мне: фуфайка, гимнастерка с погонами, шведская куртка, полушубок и меховая доха, а на ногах валенки. Красные, продолжая обстрел, двинулись вперед и приближались. Пришлось пережить несколько жутких минут, самых отвратительных.
Но вот из-за холмов, за которыми скрылся мой конвой, показались четыре всадника. Вскоре подъехали ко мне два офицера, полковник Семчевский и ротмистр Исаев, и два казака-оренбуржца. Подхватили меня и помогли выбраться. А вслед за ними смелый начальник партизанского отряда прапорщик Маландин лично подал из обоза мне тройку. Кошева подъехала, звеня колокольцами под дугой, сделала поворот и, забрав меня и одного раненого драгуна, плавно полетела обратно из-под самого носа красных; успели даже положить с собою мое седло, снятое казаком с убитой Маруси.
Такие минуты способны вознаградить за многие дни, даже месяцы страданий и лишений. То самопожертвование, которое проявили господа офицеры и казаки, красота этого невидного, непоказного, но большого подвига говорит лучше всяких слов о связи начальника с подчиненными, о той настоящей братской связи, которая некогда была присуща всей Российской армии; и эту-то связь с весны 1917 года всеми силами стремились вытравить растлители русской боевой силы: Гучковы, Керенские, Бронштейны со всей их компанией дантистов, акушеров и адвокатов, устремившихся в дни революции на высшие должности в армии…
Волжане, издали услышав перестрелку, повернули назад, на Коссоты, навстречу нам. И очень кстати, так как другая банда красных направилась по дороге к Петровскому Заводу, чтобы отрезать этот путь. Волжская кавалерийская бригада, предводимая лично своим бессменным начальником генералом Нечаевым, разбила большевиков; часть была уничтожена, остальные убежали в леса.
Красные, наступавшие на Коссоты, были прогнаны нашими силами. Часть всадников, спешившись под командой полковника Новицкого, повела на них наступление с фронта, а небольшой отряд пошел с фланга в конную атаку во главе с полковником Семчевским. Большевики бежали.
Вскоре мы соединились с волжанами и уже к полудню без дальнейших помех достигли Петровского Завода.
Большой поселок, основанный еще в царствование Петра Великого, около каменноугольных копей и богатых залежей железной руды; несколько тысяч жителей – рабочие завода, торговцы, скотопромышленники, немного земледельцев. Сплошь почти все они те же «семейные», старообрядцы.
Замечательно то, что по всей Сибири, не только в городах и местечках, но и в больших селах, лучшие дома принадлежат евреям. Здесь наблюдался особый тип сибирского еврея, несколько поколений которого жили в этом суровом, холодном крае Великой Руси. Они утратили многие отталкивающие черты своей расы – юркость, граничащую с мошенничеством, трусливую наглость, безмерную хвастливость; и даже внешне они сделались несколько похожими на степенного бородатого сибирского крестьянина. Но при всем том они сохранили свою непримиримую ритуальную религию, доходя до того, что отказывались давать есть русским из своей посуды; сохранили евреи и принадлежность к кагалу, полную подчиненность этому государству в государстве, и отчужденность от великого русского народа, приютившего их в своей стране. И не только приютившего, но давшего им больше, чем имел сам. Ибо по всей Сибири «бедное гонимое избранное племя» жило во много раз лучше и богаче, чем коренные русские.
В Петровском Заводе мы простояли несколько дней, ожидая, пока будут поданы составы, чтобы погрузить пехоту и штабы, которым был обещан переезд отсюда в Читу по железной дороге. Люди отдыхали, мылись в бане, приходили в себя от всего пережитого ужаса междоусобной войны.
Но не оставляло напряженное состояние, как не прекращались и слухи о новых опасностях. Наша разведка к этому времени была налажена уже хорошо и давала очень полные сведения. Было установлено, между прочим, совершенно точно, что чехи, которые все еще проходили эшелонами на восток, снабжали красные шайки оружием и патронами. В их поездах скрывались большевицкие комиссары, и оттуда шло фактическое руководство военными действиями против замученной усталой русской армии.
На третий день нашего пребывания в Петровском Заводе, на базаре несколько чешских солдат и офицеров продавали русские казенные вещи. А как раз перед тем мной был отдан приказ, запрещающий делать это нашим солдатам под страхом предания суду. Наш патруль, высланный от егерей на базар, отобрал у чехов казенные вещи. Те начали ругаться и грозить, тогда егеря выгнали чехов с базара плетьми.
Через несколько часов разведка доставила сведения, что в эту ночь чехи собираются выступить против нас с целью обезоружить отряды белых, стоявшие в Петровском Заводе.
Были приняты меры, чтобы обезопасить себя. Выставили сторожевое охранение, сильные заставы, на станцию железной дороги отправили патрули. Старшему чешскому начальнику от моего штаба было послано требование, чтобы впредь ни один чех не смел приходить в поселок, во избежание недоразумений. В каждой части было приказано иметь всю ночь дежурные роты и сотни, в полной боевой готовности.
Когда ночью я поверял части, то нашел, что все люди, поголовно, не спали. Все ждали, сжимая винтовки в руках, выступления чехословаков. Настроение наших было самое бодрое, приподнятое и даже радостное.
– Эх, хорошо бы, если бы чехи выступили. Надо им помять бока. Довольно поизмывались они над Россией, – так говорили наши офицеры, солдаты и казаки.
Чехи пробовали своими дозорами пробраться в Петровский Завод. Но, отогнанные нашими заставами, оставили эту затею.
На следующий день начали нам подавать поезда для отправки в Читу.
Довольные, как дети, садились господа офицеры и стрелки в теплушки, лошадей грузили в открытые платформы-углярки; на весь корпус дали всего-навсего один вагон третьего класса. Но и за то мы говорили спасибо от души. Ведь впервые за полтора месяца после Красноярска русские войска получили возможность воспользоваться своей собственной, русской железной дорогой.
Чехи пробовали и на этот раз протестовать, симулировали даже угрозу, но атаман Семенов с помощью дружественных японцев быстро привел этих шакалов Сибири в спокойное состояние, пригрозив, что если со стороны чехословаков последует хоть одно враждебное действие, то ни один из эшелонов не пройдет в полосу отчуждения.
Чехи притихли. А наши войска двинулись дальше на восток по железной дороге. Не хватило составов только для конницы: 1-я кавалерийская дивизия и казаки пошли походом долиною реки Хилок. Насколько был тяжел этот бесснежный путь, можно судить по цифрам: только за пять дней их марша от Петровского Завода до Читы погибло около 30 процентов лошадей.
Железная дорога охранялась японцами. Но, даже несмотря на это, было несколько попыток устроить крушения. В одном месте подорвали путь, портили стрелки, устроили взрыв небольшого моста как раз в момент прохода броневика «Забайкалец», который двигался непосредственно перед поездом моего штаба. Японские саперы быстро исправляли все повреждения; все их части представляли собою отличные организмы, не развращенные революцией, не испорченные демократизацией, так не похожие на остальных представителей наших бывших союзников. Дисциплиной они были проникнуты до того, что не было случая неотдания чести не только своим офицерам, но и нашим.
Бросалась в глаза какая-то даже подчеркнутая ласковость к русским со стороны этих маленьких желтых людей. Они старались угодить каждому от генерала до солдата, до каждого самого мелкого железнодорожного служащего. Особенно велики были их заботы о последних, – им японцы даже доставляли продовольствие.
Не редко можно было видеть одинокого японца, простого солдата, который, попадая среди русских, принимался участливо разговаривать на плохом, ломаном русском языке и сейчас же вытаскивал папиросы, какие-нибудь лакомства, чтобы угостить белых хозяев-собеседников.
Пока мы шли, а затем и ехали до Читы, до новой столицы, приходилось слышать самые лучшие отзывы о новом главнокомандующем, атамане Семенове; среди части населения Забайкалья, даже у эсеров Верхнеудинска, самой ходячей фразой было: «Семенов-то сам хорош – семеновщина невыносима».
Это повторялось почти всеми и на все лады. Когда старались выяснить причины восстаний «семейных», этих крепких патриархальных староверов, обычно объяснения были те же:
– Они воюют не против Семенова, а против семеновщины.
Это был какой-то лозунг дня, подобный тем, которые с несчастного 1917 года туманили русские головы и бурлили массы. Нелепые ложные лозунги, заключавшие в себе полную бессмысленность: так и здесь – атамана Семенова хвалили за его простоту, доступность, за силу духа, за искренность стремлений, твердость в борьбе, за чисто национальный русский курс, за его приемы и старание сделать все возможно лучше для широких масс народа, за справедливость, – и в то же время кляли семеновщину, то есть то самое, что только что нахваливали под другим названием.
В Читу наши части прибыли в конце февраля. Город, игравший все время Гражданской войны исключительное значение, бывший как бы второй столицей полусамостоятельного княжества, а теперь оставшийся единственным центром всего, что сохранилось от колоссальной русской национальной постройки на востоке. Все остальное было залито ядовитыми, смертельными волнами социалистической, интернациональной нечисти: или в виде кровавого жестокого большевизма, или, как переходная к нему ступень, безвольной, слюнявой эсеровщиной.
Чита производила впечатление полного порядка и большой энергичной работы. Внешнее впечатление было, что эта работа имеет все шансы на успех, что на этот раз, наученные горьким опытом больших разочарований и катастрофических неудач, русские люди нашли силы и умение пойти настоящим путем к победе за национальную самостоятельность, к возрождению жизни своей великой страны.
Человек, который стоял во главе и направлял работу и борьбу, был генерал-лейтенант, атаман Григорий Михайлович Семенов. Мне пришлось видеть его впервые теперь. Высокого роста, с большой головой, широкими, могучими плечами, одетый в русскую поддевку, с погонами, со знаком на них монгольской суувастики – форма монгольско-бурятской дивизии, – атаман имел вид богатыря-самородка. Высокий гладкий лоб, из-под которого смотрят спокойные серые глаза, смотрят прямо, открыто и несколько испытующе, выражая большое внимание, постоянную и законченную свою мысль, храня в глубине волю, которой не сломать самым тяжелым испытаниям и неудачам.
Размеренный, спокойный голос. Изредка освещается лицо улыбкой доброй, естественной и искренней. И во всей фигуре, и в лице, в словах, речах и мыслях, во всей жизни и поступках – спокойствие, его главная черта. Редкая способность – оставаться самим собою при самых трудных обстоятельствах, при затруднениях и неожиданностях, которыми так богата стала русская жизнь за последние три года.
После первой встречи у всех устанавливались с ним сразу ровные и доверчивые отношения, несмотря на то что более года, при работе на больших расстояниях, все время шли усилия со многих сторон, чтобы настроить всех против атамана Семенова. При дальнейшем знакомстве усилилось и подкрепилось первое впечатление, что это был человек с недюжинным, все охватывающим умом, с крепкой, совершенно ненадломленной волей и с чисто эпическим спокойствием, которым было пропитано все его существо.
Атаман Семенов не старался казаться, а был действительно доступен всем и каждому. Несмотря на чрезвычайно занятое время – так как ведь вся масса государственных вопросов и организация дальнейшей борьбы падали на него, – он выслушивал каждого, кто имел до него дело; выслушивал и старался дать сейчас же, не откладывая, лучшее, наиболее правильное и справедливое решение. Депутации от крестьян, казаков, бурят, железнодорожников, приехавшая с фронта сестра милосердия или офицер, сельский священник, учитель, вдова солдата – все находили доступ к атаману. И уходили от него почти очарованные, ставшие его друзьями.
Такое впечатление после первой встречи получали даже люди из враждебного ему лагеря, из так называемых демократов, из общественности; понятно, это бывало лишь тогда, когда попадались среди них люди честные.
И еще более крепло и ширилось нелепое крылатое слово: «Семенов сам очень хорош, семеновщина невыносима».
Атамана Семенова не изменила революция; он был и остался русским человеком, преданным без конца Родине и любящим ее всем существом своим. Он был и остался убежденным монархистом, ибо атаман знал, что такое же убеждение, такую же веру исповедуют, в глубине своих душ, массы русского народа; он знал наверное, что вне возвращения на этот исторический путь невозможно ни возрождение России, ни самое существование ее как великой, самостоятельной страны.
По приходе в Забайкалье наши войска были размещены по широким квартирам, 2-й корпус генерала Вержбицкого в Чите и ее окрестностях, 3-й корпус в ближайших деревнях. Начались усиленные занятия, реорганизация, принимались все меры к тому, чтобы добиться возможно большого числа бойцов, поднять боеспособность и через месяц повести наступление, с целью очистить от большевицких банд всю восточную окраину России, от Тихого океана до Байкальского озера.
В то же время намечено было успокоение страны внутри: мерами устроения жизни, путем удовлетворения хотя бы примитивных, повседневных потребностей, так необходимых для рядового обывателя и для массы.
Структура зародыша государственности слагалась так: атаман Семенов, как главнокомандующий и глава правительства, имел несколько помощников – управляющих отделами: внутренних дел, финансов и торговли, путей сообщения и иностранной политики; затем ему же подчинялся командующий Дальневосточной армией генерал-майор Войцеховский. В армию входили три корпуса: 1-й, образованный из забайкальских войск, 2-й и 3-й – из остатков армии покойного адмирала Колчака, вышедших сюда через всю Сибирь.
8
Генерал Войцеховский был и раньше совершенно неясен в своем политическом мировоззрении. Сам он не подпал под новые революционные влияния, не увлекся ни одним из модных, дешевых течений, не сделался социалистом мартовского призыва, но в то же время Войцеховский считал возможным не только общую деятельность и работу с социалистами, но даже допускал компромиссы с ними; он не мог подняться до сознания: что наши русские социалисты – все люди одного лагеря, что для всех них национальная Россия враждебна и именно она-то, национальная Россия, определяется словами «контрреволюция» и «реакция»; что для борьбы с национальной Россией все социалисты готовы объединиться всегда с большевиками, как и доказало их участие в Сибирской белой эпопее.
Генерал Войцеховский, во время переговоров со станции Зима, готов был признать власть преступного политического центра в Иркутске, и только решительный протест остальных генералов остановил это; он разговаривал и вырабатывал совместно с «общественностью», то есть с эсерами, в Верхнеудинске основания для продолжения борьбы против большевиков. Он был другом чехов и оставался им до конца, находя общий язык и общие чувства.
За такое, более чем лояльное отношение к так называемой демократии и общественности Войцеховский был людьми этого лагеря превозносим; даже в самые подлые периоды, когда эта свора накидывалась на армию, в периоды их успеха и победы над национальной Россией, Войцеховского они не трогали. Вот это обстоятельство, в связи с весьма развитой силой характера, повлияло в значительной степени на дальнейшее. Войцеховский сразу занял по отношению к атаману Семенову позицию осторожного, вечно наблюдающего и готового на разрыв, случайного сотрудника, подчеркивая это и стремясь отмежеваться и отвоевать себе возможно больше самостоятельности.
Так продолжалось все пять месяцев пребывания генерала Войцеховского в Чите на посту командующего армией. К сожалению, это сыграло свою печальную роль, в числе других причин, в ускорении конца забайкальского периода.
Враги русского народа пустили в ход опять-таки тот же прием, который они с большим успехом применяли с самого начала революции. И снова русские попались на крючок, пошли на приманку. Всячески стремились внести раскол в армии. Упорной и подчеркнутой работой укрепляли деление офицеров и солдат на два лагеря: семеновцы и каппелевцы. Первым говорили о нежелании каппелевцев воевать, о нежелании подчиниться атаману Семенову, о том, что каппелевцы ненадежны, что их командование даже собирается арестовать атамана; а армии, сделавшей Ледяной поход через Сибирь, твердили о том, что семеновцы гораздо лучше всем снабжены и обеспечены, что, в то время как они, каппелевцы, шли с боями через Сибирь, семеновцы ничего не делали, и т. д. Зарождалась глухая отчужденность, раздвоенность. Временами, особенно под влиянием алкоголя, вспыхивали ссоры и чуть ли не стычки.
Большой работой офицеров и, главное, личным участием в ней атамана Семенова, который объезжал войска, близко подходил к ним и буквально очаровывал, удалось потушить эту рознь. Но не вполне. И через много, много месяцев она снова проступила наружу, как скрытая, не вполне вылеченная болезнь, и опять стала разъедать там русскую массу и мешать ее усилиям в смертном бою за нашу Родину, за ее жизнь и самостоятельность.
Все это не проходило незамеченным для иностранцев. Одни из них, те самые, которые подготовили и помогли разгрому адмирала Колчака, потирали от удовольствия руки. Другие, наши друзья в тот период, японцы, искренно огорчались.
На потомков самураев произвела глубокое и сильное впечатление наша Гражданская война. Вникая во все ее подробности и в самую сущность, зная хорошо истинное положение вещей, японцы стали пылкими врагами большевиков. Все, начиная от генералов до маленького солдата – «муси-муси», желали искренне нашей полной победы над красным интернационалом. Это доказали они не раз делом, самым явным и страшным доказательством, сражаясь бок о бок с белыми войсками, против коммунистов, и кровь самурая окрашивала не раз белые сибирские снега.
Японское командование жадно, пытливо разглядывало условия нашей русской действительности, стараясь понять настроение масс, офицеров, солдат, стараясь уяснить себе, что такое подразумевается под словами «демократия» и «общественность». Особенно чутко относились они к начавшемуся делению на семеновцев и каппелевцев, искали разрешения новой загадки. Японское командование и офицерство прилагали все усилия, чтобы не дать расколу разгореться, чтобы помочь нам слить армию в один могучий, крепкий организм.
На одном обеде, который давали в честь прибывшего нового начальника военных сообщений, генерала Шибо, начальник 5-й японской дивизии генерал Судзуки произнес красивую речь о рыцарстве, устанавливающейся дружбе двух армий, о будущем долгом общем пути двух народов-соседей; желал скорой победы над большевиками и социалистами, чтобы начать спокойно большую работу по возрождению великой страны. Судзуки закончил свою речь фразой:
– И всегда тень императорского японского знамени будет рядом с тенью дружественного знамени великой русской армии.
Эта речь была знаменательна. Впервые определенно заявлялось не только о поддержке, но о совместных действиях. Скоро японские войска стали готовиться к выступлению на передовые позиции, чтобы помочь 1-му корпусу и дать время двум другим корпусам отдохнуть и привести себя в порядок.
Жизнь в Чите в то время била ключом. Все работали для общей цели – усилить армию, быть к весне готовыми к решительному наступлению, наладить в то же время порядок внутри области. Войсковые части пополнялись, снабжались, одевались, целыми днями вели занятия, чтобы выветрить дух партизанщины, невольно привившийся за месяцы длинного похода. Работа кипела вовсю. И впереди, казалось, крепла надежда не только на возможность продолжения борьбы, но и на успех ее.
Чешские эшелоны уходили на восток, и скоро вся область могла очиститься от этого враждебного, вредного элемента. Благодаря приятельским связям генерала Войцеховского с Чехословацким корпусом по его прежней службе в нем чехи получили разрешение выходить в Чите на станцию, а затем и в самый город. Они вели себя наружно гораздо менее нагло, но зато продолжали скрытную работу помощи не только эсерам, но даже и большевикам; так в их поездах проезжали переодетые, под чужими паспортами, большевицкие комиссары, перевозилась регулярно советская почта. Сведения об этом давала своевременно наша контрразведка, агенты которой проникали и в чешские эшелоны; но Войцеховский делал вид, что не верит этому, и был против принятия решительных мер пресечения зла.
Вообще он занял довольно определенную позицию, которая клонилась все больше и больше налево, в сторону не только прощения вчерашних предателей эсеров, но и возможности совместной работы с ними. Атаман Семенов, бывший в то время главнокомандующим войсками, не считал своевременным резко рвать с подчиненным ему генералом, авторитет которого среди войск, вышедших из-под Красноярска, стоял тогда еще довольно высоко. Поэтому начался ряд компромиссов.
Японцы, в сущности, поощряли такую линию поведения, ибо для них, видимо, было всего важнее установление единства и полной согласованности в новом русском военном аппарате, образовавшемся чисто случайным порядком.
Самым жизненным и настоятельным в те дни было решение вопроса в Приморье, и в частности во Владивостоке. Положение в этом городе было до сих пор в переходном состоянии; единственными войсками, охранявшими порядок, оказались там японские части. На них же опиралось и так называемое местное правительство, образовавшееся после всех описанных перипетий; в него вошло несколько безличных господ из партий эсеров и кадетов да местные земцы. Большевики и примыкавшие к ним активные эсеры спрятались снова в подполье, откуда и направляли довольно свободно свою деятельность по организации красных шаек в окрестностях Владивостока, стремясь поднять пожар восстаний среди сельского населения. Из Москвы им была поставлена цель – сформировать Красную армию, которой и обрушиться на Забайкалье с востока, чтобы совместно с советской армией от Иркутска задавить последнюю искру русской государственности. Надо отдать справедливость, что работа социалистов под руководством большевиков шла и на этот раз энергично, без потери времени.
Нам было чрезвычайно важно укрепить свою позицию во Владивостоке, сосредоточить там отборные войска, хотя бы в небольшом сначала числе, сформировать аппарат власти и образовать прочную базу. В этом отношении велась подготовка и шли переговоры атамана Семенова с японцами. Но опять-таки и здесь сказывалась ненормальность во взаимоотношениях начальников, Семенова и Войцеховского; сильно мешало заигрывание последнего с левыми элементами.
В этом отношении дошло до того, что Войцеховский разрешил генералу Пепеляеву вновь формировать дивизию. Пепеляев, робкий вначале от сознания своей огромной вины, смелел день ото дня; окруженный своими сторонниками из революционных офицеров и партийных дельцов, он начал скоро выступать уже открыто; печатать аршинные афиши, призывавшие каждого «честного сына Родины вступать в партизанскую дивизию имени народного героя генерала Пепеляева». Так и печаталось, без всякого стеснения, с присущей демократии наглостью дурного тона. Сам Пепеляев и его компания выступали на устраиваемых ими секретных митингах, заманивая к себе молодых офицеров и солдат, то обещаниями дать новое обмундирование, то указаниями на то, что в «партизанской дивизии» будет установлена «революционная дисциплина, без каких-либо признаков и отрыжек старого режима».
В подтверждение этого была принята особая форма присяги. Пепеляев приказал титулование себя «гражданин генерал» или «брат-генерал». Изобретательность далеко не шла. Все революционные герои играли одними приемами – и товарищ Калашников в Иркутске, Ян Сыровый и другие коммивояжеры – в чеховойске, купец Гучков и Керенский в императорской русской армии; теперь Пепеляев шел той же избитой тропою в Забайкалье.
Так же одинаково были все они трусливы, когда было – к расчету стройся. Гучков убрался заблаговременно, Керенский дезертировал ночью, Пепеляев пробирался по Сибири сначала тайком в санях, а затем в чешском вагоне.
Прошел февраль. В середине марта наступили первые теплые дни, стало чувствоваться приближение весны. Войска вели усиленные занятия; целыми днями шла работа в поле, улицы города с утра были полны стройными колоннами войск, на полигонах раздавалась учебная стрельба.
В это время прибыл в Читу, совершенно неожиданно для всех, атаман сибирских казаков генерал-лейтенант П. П. Иванов-Ринов. Под Красноярском, в день нашей катастрофы, он отбился от колонны штаба генерала Каппеля и очутился отрезанным от своих. Трое суток провел атаман сибиряков в лесу, ночуя в заброшенном шалаше, в стороне от дороги. Затем, истощенный от голода, он пробрался в Красноярск, где и прожил, скрываясь, около двух месяцев, иногда попадая в самую гущу красноармейщины и советских деятелей. Присутствие духа выручало всегда генерала Иванова-Ринова. Нашлись у него и благожелатели, с помощью которых удалось достать паспорт на имя «гражданина Армянской республики»; благодаря этому он пробрался через Иркутск в Забайкалье неузнанным.
Генерал Иванов-Ринов привез самые полные, свежие сведения о состоянии Средней Сибири, попавшей теперь под власть Советов. Общее недовольство наступило уже через неделю после прихода Красной армии, а вслед за нею и Чрезвычаек. В резкую оппозицию большевикам стали все слои населения, даже рабочие заводов и железнодорожных мастерских; особенно сильно проявлялось недовольство новой властью у крестьян. Полки Щетинкина заставили его выступить с оружием в руках против комиссаров. Повсеместно вспыхивали восстания, которые не принимали больших размеров из-за всеобщей усталости, зимних холодов, а главное – потому, что не было вождей, да и все наиболее активные элементы ушли на восток или погибли.
Чрезвычайки проявляли страшную, неслыханную жестокость. Так, на словах была отменена смертная казнь, как милость победителей; но чтобы уничтожить захваченных в плен белогвардейцев, эти десятки тысяч офицеров, солдат и казаков, их сосредоточили в казармах, в особых городках, около Томска и Красноярска, в невозможных, страшных условиях жизни, без воды, пищи и топлива, совершенно вне санитарных условий, без медицинской помощи. И смерть от тифа буквально косила там русских людей; ежедневно умирало по несколько сот. Мертвых не убирали, оставляя лежать вместе с живыми. Томск и Новониколаевск приобрели жуткое название «черных городов».
В городах, с приходом большевиков, исчезли все продукты, жизнь непомерно вздорожала. Комиссары стали тогда организовывать сбор продовольствия по деревням, посылая реквизиционные отряды, что окончательно озлобило крестьян.
В то же время новые властители Сибири ничего не предпринимали для устроения жизни, для удовлетворения самых примитивных нужд населения; и не могли ничего сделать, и не хотели. Гордые своими победами над белыми, комиссары заговорили новым языком теперь даже и с рабочими. Особо уполномоченный комиссар из Москвы, «товарищ» Смирнов, проехал в специальном поезде по всей Сибири до Иркутска, вводя всюду четырнадцатичасовой рабочий день и грозя всем ослушникам расплатой, такой же суровой, как «с контрреволюционерами».
Большевики провели недели через три после завоевания Сибири аннулирование колчаковских денег, причем сделано было это самым беззастенчивым образом: служащим и рабочим выдали буквально накануне жалованье вперед этими самыми сибирскими (колчаковскими) знаками; затем аннулирование денег вводили по районам, и комиссары переезжали из одного города в другой, ведя на этом многомиллионную спекуляцию.
Сибирь, начавши испытывать большевизм, сразу почувствовала его смертельные объятия и начала повсеместно готовиться к свержению его.
Эти сведения подтверждались многими офицерами и казаками, пробиравшимися почти каждый день из Советской Сибири на восток. То же самое говорили и польские офицеры, вырвавшиеся в небольшом числе из большевицкого плена.
Ясно было, что при надлежащей работе в Приморье и в Забайкалье можно было летом получить мощную поддержку в массах Средней Сибири, при движении туда нашей армии. Но, к сожалению, у нас-то самих мало было надежды наладить дело.
Крен влево, взятый штабом генерала Войцеховского, заигрывание с эсерами, непонятная дружба, после всего происшедшего, с чехословацкими войсками. Пепеляев продолжал взращивать свою дивизию, махрово-эсеровского толка; несмотря на определенное несочувствие к этому предприятию главнокомандующего атамана Семенова, вопреки самому настойчивому недовольству со стороны остальной армии, генерал Войцеховский взял его под свое непосредственное покровительство.
Когда же вдобавок ко всему было проявлено желание поставить пепеляевскую партизанскую дивизию снова в тылу наших корпусов, я окончательно решил уйти. Мне был дан отпуск за границу.
Тогда я собрал ближайших мне подчиненных начальников и объяснил им, как смотрю на создавшееся положение, на лежащий перед нами путь, что разрешение нашей задачи вижу в одном: идти в Россию с царским знаменем, поднятым прямо и открыто. Для этого необходимо было предпринять ряд шагов в Европе. На этом заседании присутствовало шесть подчиненных мне старших офицеров, начальников крупных частей 3-го корпуса. Все они согласились с моей точкой зрения, высказали убеждение в необходимости такой подготовки в Европе, а далее работы и в самой России.
Тяжело было уезжать и расставаться с теми офицерами, солдатами и казаками, с которыми вместе проделал всю кампанию, делил радость победы, горе поражения и труды Ледяного похода, которые стали близкими, как братья.
Перед отъездом из Читы я объезжал вверенные мне войска. Во всех частях были парады, служились молебны. Из многих разговоров с офицерами и солдатами приходилось убеждаться, что только открыто поднятый монархический флаг, с именем законного царя, вернет им потерянную веру в свои силы, в правду, в победу.
Подолгу и с полной откровенностью говорил я с атаманом Семеновым. Для меня выяснилось, что главнокомандующий не считал возможным в те дни идти резкими, определенными путями к намеченной цели. То было еще сумеречное время, когда мрак, окутавший Русскую землю в чаду трехлетней революции, не прояснился. Только-только загоралась заря сознания, изредка вспыхивали зарницы национальной мысли и чувства.
Умы масс были еще в состоянии того тяжелого и трудного раздумья, какое бывает после сильного русского похмелья или от оглушительного удара по голове. Руководители и вожди зачастую чувствовали себя неуверенно и даже отставали от масс в ощущении жизненной необходимости, в сознании жизненной исторической правды.
Особенно памятно из дней перед моим отъездом за границу и дорого для меня воспоминание о параде в Ижевской дивизии. Ижевцы и егеря выстроены стальным каре на площади большого сибирского села. Весенний ветер рвет полотнища знамени и хоругвей, когда под живой трезвон выходит из церкви крестный ход. Высокое мартовское солнце заливает ярким светом всю площадь и горит бликами на золотых ризах священников. Служится напутственный молебен. Затем священник произносит короткую проповедь о нашей борьбе за Родину и Веру, о нашем долге победить и освободить русский народ от иноземных захватчиков власти. Старые ижевцы выносят икону Нерукотворного Спаса, которой священник благословляет меня.
Парад. Стройными рядами проходят полки ижевцев и егерей. Серьезные обветренные лица, молодецкая выправка, прямой, открытый взгляд русских витязей. После Ледяного похода все отдохнули, приоделись, подправились.
Затем обед в сельской школе, временном офицерском собрании. Много теплых заздравных речей. И первый тост за святую Русь, за нашу Родину, которая будет жить, будет снова Великой и свободной! Этот тост был покрыт могучими радостными аккордами бессмертного русского гимна.
Боже, царя храни! Сильный державный, Царствуй на славу нам. Царствуй на страх врагам, Царь православный. Боже, царя храни!У многих на глазах слезы; ценные мужские слезы воина текут по огрубелым лицам. А кругом школы гудит толпа егерей и ижевцев, гудит довольная, близкая, гудит не поганым революционным бессмысленным гамом, а близким, братским единением, какое было всегда между русскими господами офицерами и их солдатами.
Среди последних многие, слыша гимн, крестятся. И раздается в толпе часто общая всем мысль: «Господи, неужто по-настоящему придет теперь освобождение!»
Заключение
Чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, которое сделало из них людей так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти, вместо одной, которой подвержены все эти люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из-за угрозы не могут люди принять эти условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к Родине.
Граф Л. Н. Толстой. Севастополь в декабре месяце 1864 г.У нас, русских, есть, конечно, две страшные силы, стоящие всех остальных во всем мире, – это всецелость и духовная нераздельность народа нашего и теснейшее единение его с монархом.
Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. Январь. Гл. 11
Кончился если не блестящий, то, во всяком случае, большой, крупный период нашей русской действительности. Место для оценки его мы все, современники, должны предоставить будущему. Тогда же разберутся и выяснятся все причины, которые привели Белое движение к неуспеху. И скажут, несомненно, беспристрастное слово, сделают правильные выводы. Но нам, современникам величайшего потрясения нашей Родины, принадлежит право, и на нас лежит обязанность – высказать те ясные и правдивые положения, которые подчас многими затемняются и искажаются, умышленно или по недомыслию.
Прежде всего – о Белом движении. Нельзя забывать и преступно замалчивать, что движение белых русских масс вылилось совершенно естественно и вылилось мощной волной, как неизбежное последствие, как ответ на всю революционную подлость и гадость. Белогвардейщина зародилась на всех концах Руси, на всем необъятном пространстве, в каждом углу ее; и это был ответ русского народа на то ужасное унижение, которое, как из бездонного ушата, вылили на страну и на народ творцы и углубители революционной смуты.
Белое движение явилось проявлением чести нации, и поэтому оно было неизбежно и неустранимо. Неустранимо, так как все честные элементы нашей великой России, во всех слоях ее и во всех народностях, не хотели и не могли примириться с захватом государственной власти кучкой презренных инородцев, дезертиров и преступников. Если бы не проявилось Белого движения, то пришлось бы с горьким сознанием поникнуть всем русским людям и опустить глаза; не будь белых, не было бы у России права сказать, что честь и честность в русском народе являются самыми сильными, самыми живучими его свойствами.
Проследите все Белое движение, от его зарождения, через зенит славы, успехов, могущества и до упадка, – и нельзя не увидеть той простоты и естественности, какими все оно проникнуто. Людей поднимало и гнало на величайшие труды и лишения, на смерть, на подвиги – только чувство. Чувство оскорбленной чести за великую Родину, чувство мести низким растлителям родной армии и страны, чувство долга перед Россией. И это было настолько могуче, что двигались на это дело, собирались под белыми знаменами сотни тысяч, миллионы нас, русских.
Не только настоящей книге не под силу, – думается, что многие и многие еще труды не в состоянии будут дать полное отражение всех перенесенных белыми лишений, жертв, трудов и подвигов, совершенных зачастую в обстановке почти полной безнадежности успеха. Но ими двигало горячее, сильное чувство и глубокая вера в правоту своего дела. И потому получались величайшие напряжения, удесятерялись силы, ломались гигантские препятствия, создавался самый успех. Во всем этом – красота Белого движения, такая красота, которая приближает его не к завоевательным войнам, но к скромным, сияющим внутренним светом через чреду веков – Крестовым походам.
В этом-то и заключается моральное значение белых, как бы сила победы в самом поражении. Пускай Ллойд Джордж и Вальтер Ратенау торгуют и договариваются с советским правительством, пусть даже признают их, этих татей, насильников и трусов, равноправными с собою, – лучшие элементы каждой страны и народа стоят и всегда будут стоять на стороне белых, хотя бы только морально. И следующее поколение русских вправе сказать: наши отцы сделали все, что могли, для спасения своей страны от позора, унижения и рабства; не их вина, что многие посторонние причины свели все усилия белых на нет.
Да и так ли это? Действительно ли все труды и жертвы пропали даром, не дали ничего? Это еще спорный вопрос, решит его недалекое будущее; но думается, что семя брошено и придет срок, когда оно даст всходы и свой могучий рост.
Русское национальное антисоциалистическое движение зародилось стихийно по всему простору нашей страны, с первых же дней революции. И надо помнить, как велика была всеобщая ненависть к большевикам и желание скорее с ними покончить; но руководители этих первых тайных организаций берегли их, ждали, пока движение созреет, искали в то же время полного объединения всех сил. И думается, что, предоставленные самим себе, русские сумели бы справиться с большевизмом и уничтожить его с корнем, как то сделали у себя Финляндия, Бавария и Венгрия. На горе вмешались эти «союзники» России, которым выгодно оказалось использовать для себя наше национальное движение, и они вызвали его наружу преждевременно, постарались выявить белых как можно ранее, обещая полную помощь против социалистов (большевиков). А затем когда, несмотря на этот срыв национальных организаций, все же общий подъем русских масс оказался настолько могучим, что обещал конечный успех и возрождение страны, те же иностранцы начали помогать тогда социалистам (эсерам). Белое движение показало истинное отношение иностранцев к России: только благодаря «союзникам» национальное русское движение потерпело крах; «союзникам» до России не было никакого дела, более того, – национальное возрождение России для них явилось нежелательным, как что-то враждебное, опасное. Отныне русский народ должен в корне пересмотреть и изменить свое отношение к так называемой Антанте, этим бывшим своим «союзникам».
В Белом движении необходимо различать еще две стороны, одна из коих до сих пор совершенно замалчивалась. Первая – это то, что Белое движение, будучи исключительно чистым, преследовавшим высокие цели спасти свой народ и вырвать его из цепких лап большевицкого стервятника, явилось в политическом отношении совершенно незрелым и шло вслепую. Все делалось для народа и во имя народа, но что хочет народ, что именно ему жизненно необходимо, никто не только не выявил открыто и прямо, но, видимо, и не мог, не знал этого. Потребовался долгий период белых, чтобы подойти к решению такого основного вопроса; и только Белым движением определенно установилось, что нужно и что примет народ. Белое движение выявило это всем своим путем и подтвердило своим неуспехом, выявило определенно и ясно для всех, не затемненных узкопартийным сектантством; даже иностранцы-очевидцы, искренно относившиеся к России, увидели, в чем должно состоять разрешение вопроса.
Второе – и это чрезвычайно важно не для прошедших годов, а для настоящего и ближайшего будущего – Белое движение в самой сущности своей явилось первым проявлением фашизма. Той волны народных масс, которая все выше вздымает свой вал и в которой человечество готово уже видеть единственное средство от общего паралича государственной власти, знаменующего наше время, начало ХХ века.
Белое движение было даже не предтечей фашизма, а чистым проявлением его. Действительно, если пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белыми, то в них выступает все то же, что создает фашизм в других странах. И не только создает самый фашизм, но и делает его желанным для всех, дает ему стальную силу и крепкую прочную опору, обеспечивает успех.
Невольно может возникнуть вопрос: почему же тогда неудача Белого движения, даже разгром его? Ведь фашизм идет всюду верными шагами к победе – для торжества права, правды и справедливости? Ответ на это лежит в том, что, во-первых, русский фашизм, Белое движение было лишь первым робким опытом его; во-вторых же, этот первый опыт проходил в неимоверно трудных условиях, в которых и явилось много причин его временного крушения. Частью эти причины открыты, по возможности, в предыдущих главах; но все их выяснит и выскажет только исследователь из будущего поколения.
Теперь же можно сказать безошибочно следующее: необходимое условие успеха фашизма, неотделимая от него сущность его – это диктатура. И вот, к несчастью, ни одно Белое народное движение, как и все вместе взятые, не смогло дать диктатора. Не нашлось такой воли и души одного человека, который все подчинил бы себе, а себя самого подчинил бы целиком этой великой идее – служению всему народу путем проявления непререкаемого, безусловного закона, воплощенного в нем одном. Вся та масса больших патриотов, белых офицеров и солдат, отдельные крупные вожди и деятели – все поэтому расплывалось, разбивалось и не могло добиться полной концентрации сил, без чего окончательная победа никогда невозможна.
К этому примешалась и неизбежно вытекающая из отсутствия диктатуры та дряблость, которая везде губила Белое движение. Именно дряблость, ибо она одна допустила не только терпимость к социалистам, но даже и совместную работу с ними. Ведь фашизм всегда и всюду более чем противоположен сущности социализма (марксизма), – фашизм прямо враждебен ему: первое является движением чисто народным, направленным к улучшению, к упрочнению человеческих отношений и устройства государства, второе же – социализм – есть проведение насильно нежизненных, искусственных норм, выводимых из теории, пропитанной завистью и ненавистью к человечеству, презрением к человеку. А потому и приводящий к тем результатам всеобщего горя и разрушения, что социалисты и выполнили так беспредельно в нашей несчастной России.
И несомненно, за эти годы прибавилась к прежним новая заслуга России перед человечеством, перед всем миром: она своим Белым движением сняла маску с социализма и показала его истинное лицо. Тем самым облегчен путь торжествующего, победного фашизма; дано предостережение, что вождь народного фашизма, терпящий социализм, допускающий его деятельность в государстве, хотя бы и подпольную, обрекает народное дело и себя на неуспех.
Возвращаясь к сказанному выше о выяснении через Белое движение того, что хочет народ и что необходимо ему для устройства его жизни, приходится подробнее остановиться на этом, чтобы не было недоговоренности; иначе может показаться людям, смотрящим на русский вопрос предвзято, неувязка и даже противоречие между высказанными положениями. С одной стороны, выявилась определенная и всеми сознаваемая необходимость диктатуры, того, что все называли твердой властью; а с другой, также определенно, сначала робко, но затем все шире и сильней, выявилась не только необходимость, но даже тоска России по монархии, по царской власти. Но это только кажется на первый взгляд, что здесь две стороны. На самом деле это одно и то же.
Не приходится много доказывать, что Россия нуждается и хочет именно такой власти, которая служила бы народу, соблюдая его жизненные интересы, охраняя его труд и жизнь, оберегая его духовные ценности. И народ, в его целом, от крестьянской массы до лучшей интеллигенции, не отделяет в своем сознании этой власти от царя. Только в нем одном видит народ, и теперь яснее, чем когда-либо, соединение всех свойств, необходимых для действительного достижения общенародного блага.
Все партии, начиная от союза русского народа и октябристов до эсеров и коммунистов, являются в глазах народа – да так оно и по существу – противниками этого народного идеала. Ибо каждая из партий заключает в себе партийных вожаков, партийные интересы и солидарность, партийную дисциплину и партийные вожделения, которые все вместе ставят партию в ее сознании и действиях не только превыше народа, но и выше этой народной власти, то есть царя. Это несомненно так; это станет ясно и средним партийным людям, если они дадут себе труд честно проанализировать эти вопросы, для чего используют богатый опыт над Россией всех партий за последнее десятилетие.
Оттого-то ни одна партия, никогда и нигде, не выражала народных масс и не может выразить; оттого-то лучшие и настоящие вожди фашизма в Европе отвергают всякие партии; наконец, оттого-то в нашей России все сильнее и значительнее разрастается число беспартийных. Это именно и есть та масса русского народа, от которой, и только от которой зависит будущее государства Российского и устройство его.
Такими же беспартийными были и те миллионы, которые составляли полчища белых; их беспартийность была совершенно того же характера и направления, как и у массы беспартийных в самой России. Но и те и другие русские люди никогда не считали и никогда не признают монархизм за партию.
Русский народ был всегда монархичен; а теперь, когда на его горбу перебывали и сменились после марта 1917 года сотни владык, от Родзянко, Милюкова до Нахамкеса и Бронштейна, – все эти партийные вожаки, крупные партийные люди, а результат от всех них получался один, то есть все большая и большая разруха, все сильнейшее унижение национального достоинства, – не осталось, думается, ни одного честного русского, который явно или пока тайно не был бы проникнут монархической идеей.
И, бесспорно, Белое движение дало толчок к выявлению этого, доказало силу, значение и жизненность этой идеи.
Но также несомненно – и это также определилось из Белого движения – русский народ желает, даже жаждет осуществления монархической идеи не для самой идеи, а для счастья и пользы России. Народ признает поэтому только действенный монархизм, то есть такой, который сможет устроить Государство, поднять его на высоту и защитить народную жизнь от всего, что было гадко и скверно не только в период революционной смуты, но и до нее, до 1917 года.
Когда за адмиралом А. В. Колчаком шли массы, несли под его знаменем в жертву долгу свои труды, кровь и жизни, – людей охватывал порыв и вера в то, что вождь откроет народу возможности приближения к его, народным, идеалам права, правды и справедливости. Других вождей в то время не было и быть не могло, ибо народ монархичен не на словах, а на деле. До какого предела это могло дойти, видно из следующего: почти всегда, когда адмирал Колчак приезжал в армию, ко мне являлись начальники проходящих частей, дивизий, полков и батарей с просьбой, чтобы верховный правитель вышел к войскам; их солдаты просили: «Покажите нам того, за кого Россия воюет». Крестьяне в Сибири и в Забайкалье называли покойного адмирала в период успехов армии: «царь Колчак». И надо было видеть тот восторг в войсках, какой охватывал их, когда они видели своего вождя. Более тихо, но с глубокой преданностью, почти с обожанием встречали его и крестьянские массы в тех тысячах сел, которые посетил адмирал. Что произошло, бы если бы белые имели конечную, полную победу?..
Вот что приоткрыло и показало еще Белое движение. И ярко, страшно доказало, что слабость, бездействие и забвение простых народных идеалов влечет неминуемо за собою сначала разочарование масс, а затем гибель и еще большую разруху.
Теперь успокаивается, внешне и временно, взбаламученное русское море, затихают его усталые народные массы; но волнение идет, широко и глубоко расходится оно, это волнение чистой монархической идеей, тоской по законному царю. И все больше будут волны, все шире движение, и, быть может, не далек уже тот день, когда вскипит снова русское море и вынесет свой грозный девятый вал. Вознесет для того, чтобы смыть всю нечисть, загрязняющую Россию, а на гребне высоко поднять исконную русскую царскую власть и с нею право, правду и высшую справедливость.
2
В Белом движении была одна ужасная для всех русских сторона, та самая, которая заставляла, быть может, интервентов не раз потирать радостно руки; это взаимное уничтожение русскими друг друга. Народ и страна разделились на два лагеря, на белых и красных.
В стане белых никогда не было не только ненависти и злобы по отношению к красным массам, не было даже и вражды. Кроме отдельных, весьма редких случаев расправы за предательство, за измену и за зверство, никто не может указать на систематическое преследование и истребление, на террор, который широко применялся в противном лагере. Более того, среди белых всегда существовала жалость к своим страждущим братьям и вытекающая из нее мягкость к ним.
И это понятно само собой: тот беспощадный террор, каким пропитана вся красная, большевицкая Россия, направляется и проводится исключительно инородцами, главным образом интернациональным жидовством. Белая же Русь имела вождями и руководителями только своих, русских людей, была строго национальна.
Белые разобрались своевременно и полно в тех расслоениях, на которые делилась тогда часть России, оставшаяся под властью коммунистов-большевиков. Больше всего, на первом плане была масса, вначале одурманенная революцией, но быстро отрезвевшая и потому ненавидевшая социалистов всеми своими силами. Но масса усталая, инертная, бездеятельная и совершенно неспособная сама по себе, своими силами сбросить присосавшихся паразитов. В этой массе кое-где, в очень малом числе, проступали преступные элементы, и то главным образом не среди крестьянства, а из рабочей бедноты. Это были или совершенно люди отпетые, иной раз из каторжан, или ослепленные и тогда еще не прозревшие.
Далее шел весьма значительный слой тех русских людей, из интеллигенции, для которых Россия составляла и составляет все, которые, являясь русскими до мозга костей, не могут жить вне России, для которых понятия родина, вера, царь – не одни слова. Таких было и есть большинство во всех городах русских; с ними все мы связаны неразрывными узами крови и общего духа. Среди этих многих сотен тысяч русских наблюдалось всегда не только полное сочувствие белым, но их горячие молитвы сопутствовали нам, и их желания были направлены в сторону нашей полной и скорой победы.
Многие из них, этих простых, честных и цельных русских людей, принуждены были служить большевицким комиссарам, правда не с первых дней возникновения Белого движения, а примерно с конца лета 1919 года. Кто обрек себя на это тяжкое дело из-за семьи, из-за куска хлеба, многих заставила неизбежность – иначе грозила тюрьма или расстрел.
Только небольшой сравнительно процент русской беспартийной интеллигенции пошел на службу теперешних владык Русской земли, жидовского интернационала, из-за личных расчетов, из-за мелкого честолюбия или по полной беспринципности. Бог и совесть судья им!
А чем лучше те, которых немало нашлось среди самой первой русской эмиграции, из тех таких же беспринципных людей, что в самом начале смуты уехали за границу. Случайно ускользнув от красных, они не примкнули и к белым, выжидая в безопасности, когда на их стороне определится успех. Теперь многие из них начинают прикрываться фарисейскими заявлениями, что будто бы они все предвидели и знали заранее. Ну а это, видимо, просмотрели, упустили и тогда, да и теперь не понимают: если бы все дружно и соединенно пошли с самого начала на поддержку Белого движения, то временные успехи его легко обратились бы в окончательную победу!
Чтобы представить полную картину, как шло расслоение красной стороны нашей общей матери России, остается упомянуть о самом верхнем слое, состоявшем почти сплошь из руководителей; это люди по преимуществу нерусские, для которых Россия, Отечество, Вера, традиции – все это является ненавистным, над истреблением чего они и работают в открытую с первого дня революции.
Кроме этой группы, которая целиком заключается в Рабочей коммунистической партии (РКП), да небольшого числа беспринципных господ, служащих ей не за страх, а за совесть, вся остальная русская масса там была и осталась проникнутой национальным духом. Это, несомненно, так, и доказательства этого рассыпаны во всех днях и событиях пережитого потрясения. Более того, коммунисты сумели использовать для своих целей русский национализм: когда они кричали по России и распространяли в десятках тысяч разнообразные плакаты о том, что белые идут с французской или английской буржуазией, действуют по их указке, бьются за какие-то их скрытые цели, – большевики били в точку.
Получалась ужасная гримаса жизни, страшное извращение. В Белом чисто национальном движении появились со стороны антинациональные течения, примешалась политика интервентов, определенно враждебная (кроме японской) России; а среди красных, управляемых 3-м Интернационалом, забила струя национального русского подъема, непримиримого и ненавидящего все, идущее на Русь извне.
Такие крупные факты, как чехословацкая эпопея в Сибири, спасение Варшавы и усиление Польши ценою предательства армии Юга России, Рижский мир, говорят сами за себя. А сколько было еще более мелких, не так заметных фактов!
Одна из главных причин этой аномалии лежит в том, что большевики нашли силы и умение справиться с эсеровщиной, скрутить ее и извести с корнем. Белые не сумели этого сделать, оставили эсеровщину не только жить, но дали ей работать, чем и впустили к себе это внешнее, антинациональное течение, погубившее их и усилившее красных.
Приходится также с большой грустью установить, что диктатура, которой так не хватало всему Белому движению, у красных нашла полное проявление. На горе России – не в лице национального русского вождя, а в том же 3-м Интернационале, то есть в лице коллективного жида-большевика. Злая, беспощадная диктатура, направленная к разрушению святой Руси, но твердая, со стальной волей, неумолимая и забывающая себя в своей преступной работе, при достижении поставленных целей. И эта диктатура сумела заставить работать и драться всех для того, чтобы сломить Белое движение.
Грустно, бесконечно грустно теперь положение каждого русского. Всюду, и в самой России, в нашем отечестве, и за границами его, во всех странах Старого и Нового Света. Тяжесть непомерная придавила камнем душу, нет не только радости жизни, но исчезает временами надежда на улучшение, самая вера в скорый конец великих испытаний. И приходят дни, когда многим русским, разбросанным по различным углам целого мира, кажется, что нет впереди просвета. Понятны и это настроение, и упадок сил, и даже временная потеря веры в светлое будущее нашей страны. Но долг нас всех вместе и каждого порознь – не допускать в себе уныния, крепко держать в уме мысль, что святая Русь переживала уже на своем величавом тысячелетнем пути такие потрясения, которые длились столетиями; чаще обращаться в родную историю и там черпать силы для веры в светлое будущее.
Оскорблена национальная гордость русского народа. Свыше меры оскорблено это чувство, унижено и уязвлено самолюбие народа. В этом виноваты сами. Одно из главнейших преступлений русской интеллигенции было и есть в том, что одни эту национальную гордость просмотрели, другие умышленно, в припадке какого-то садизма, топтали ее в себе и в других в грязь. А среди наших «передовых» людей считалось чуть ли не за стыд, за какой-то пережиток проявление этого чувства. Над ним всячески измывались, называя его «зоологическим патриотизмом», «чувством дикарей» и т. д.
Кто-то из этого лагеря «передовых» пустил даже крылатую фразу: «Русские любят заниматься самооплевыванием». Какая гнусная ложь! Эта интеллигентская традиция унижения национальной гордости проистекала, помимо других причин, от полной оторванности, отчужденности от народных масс, из-за незнания его быта, жизни, запросов.
Приходилось часто удивляться, слыша другую ходячую фразу от людей, казалось бы по своему рождению, состоянию и образованию обязанных знать дух народных масс: «Наш русский мужик даже не сознает, что такое национальная гордость. Ему видна только его деревня, да землицы бы побольше. Дальше он не видит ничего».
Или во время войны, в периоды неудач, после героических успехов: «Да разве наш солдат понимает войну за Россию, – ему дела до нее нет. Они так и говорят, что, мол, до нас, скопских или калуцких, не дойдет – далеко».
Все это клевета на наш народ, и клевета не только на современников, но и на предков, которые век из века жили и умирали для своей родной великой России. И преступники те русские люди, кто допускает эту клевету на свой народ.
Разве где-нибудь в другом народе возможны подобные рассуждения, допустимы такие фразы? Да если бы и нашелся такой выродок среди немцев, англичан, французов и даже американцев, вылез бы с подобными фразами о своем народе, то нашлись бы сейчас же и здесь же десятки других немцев, англичан, французов или американцев, которые заткнули бы рот своему не в меру «передовому» соотечественнику. И заткнули бы так, что не явилось бы новых охотников клеветать и поносить свой народ. А наша святая Русь молчала! И не только молчала, но продолжала молча творить чудеса подвигов, на которые может подвинуть только высокоразвитое чувство национальной гордости и любви к Родине.
Не надо даже возвращаться мыслью так далеко, как к мировой войне, достаточно взглянуть глазами, не прикрытыми личной злобой, себялюбием или узкой партийностью, на Белое движение. Это сплошь проявление чувства национальной гордости, да притом еще в таких величавых образцах, на которые невольно с уважением смотрели иностранцы. И теперь в эмиграции, во всех странах, если и принимают русских как равных себе, то этим обязаны той героической борьбе, которую вели белые. Годы, протекшие в этой борьбе, не прошли незамеченными для мира; немало искренних, честных иностранцев были при белых армиях, и через них-то, капля по капле, просочилось сознание о подвигах русских войск, об их трудах и великих жертвах, принесенных во имя Родины, и только Родины.
Оскорбленное долгими незаслуженными неудачами мировой войны чувство национальной гордости привело народ в начале марта 1917 года к принятию бунта тыловых солдат за революцию, заставило поверить фарисеям типа Милюкова и истеричным фиглярам Керенским. Еще более униженное и оплеванное то же чувство позором от углубления революции кинуло народные волны в белые ряды, под национальные знамена белых армий. Говоря о национальной гордости, нельзя, понятно, отделять ее от любви к Родине, так как первое чувство проистекает из второго. Все слои русского народа полны этим чувством, все, кроме «передовых» интеллигентов, пропитанных духом космополитизма и поэтому глубоко преступных перед своим народом.
Белое движение сияло любовью к Родине. Господа офицеры, солдаты и казаки, массы населения, учащаяся молодежь – все горело одним желанием: спасти Россию, вернуть ее на путь национальной самостоятельности, очистить Отечество от всей мерзости, которая развелась в нем за последнее десятилетие и которая таким махровым цветом распустилась после февраля 1917 года. Десятки тысяч безвестных героев среди белых принесли великие жертвы только во имя любви к родине.
Да и как можно не любить нашей милой страны! Революционной бурей раскиданы русские люди по всему свету, народилось огромное число новых эмигрантов из России, эмигрантов другого типа, чем были до войны: не тех выродков русской семьи, что ковали гибель своей родины, поклоняясь сатанинскому учению Карла Маркса, а простых, обыкновенных русских людей из числа «беспартийных». Эти невольные изгнанники видят теперь неприкрашенную заграничную жизнь и действительность, сравнивают с тем, что было до революции в нашем Отечестве. И всюду вывод один: все в России было лучшее, все было первосортное, превосходное перед иностранным, все и во всем. Как часто собираются русские эмигранты и мечтательно вспоминают святую Русь. Еще более часто встает в поэтической дымке этого недалекого прошлого наша великая Родина перед очами наших сестер и братьев, живущих в неимоверно тяжелых условиях в Советской Федеративной Социалистической Республике. И эти мечты, и чувства, и кровь, и дух, и вера, и любовь к родине у нас с ними общие; и все же нас разделили и между нами провели черту, пока непреодолимую.
Нас разделяли и разъединяли с первого дня проклятой революции. И мы сами поддавались этому злому разъединению, забыв, что мы должны быть прежде всего русскими, и только русскими. Сначала – деление на партии, затем искусственная, дьявольски проведенная, враждебная отчужденность классов, классовая рознь; после этого на сцену вывели «украинцев», пытались создать самостоятельную Сибирь и казачьи государства. Когда все это валилось, как постройка карточного домика, – общерусское чувство и сила духа сметали эти перегородки, – появилось самое дикое деление по цветам: белые, красные, зеленые. И эти клички привились так прочно, точно наглухо затянули повязкой русским глаза. На целые годы была ими заменена наша сущность, чтобы разрушителям России было тем легче докончить их темное, преступное дело.
На великом русском народе повторилась старая народная сказка об умирающем отце большой семьи и его духовном завещании. Призвал он перед смертью всех своих детей и велел принести веник.
– Попробуйте сломать его, – отдал умирающий отец приказ.
Пытались сыновья сделать это и не были в силах.
– Теперь развяжите его!
Развязали, и рассыпались прутья.
– Попробуйте теперь сломать.
Все отдельные прутья были без труда переломлены детьми.
– Вот так и вы: пока будете вместе жить дружной и крепкой семьей, будете сильны единением, вас никто не тронет. Разъединитесь, рассыпьтесь, и вас, слабых, легко сломает порознь всякий, – завещал умирающий отец.
Забыта была простая народная мудрость. А враги наши использовали это свойство русских начала ХХ века к разъединению зачастую по самым пустякам, способность нашу к непримиримой и разгорающейся розни. Ведь чистое национальное движение белых было бы живительной струей воскресения России, поддержи его те русские, которые уклонились в сторону – из-за программных, партийных и личных разногласий. И давно был бы кончен преступный опыт над нашим отечеством, производимый ничтожной кучкой РКП (Рабочей коммунистической партии), ничтожной по числу, но сильной нашим разъединением и слабостью.
И пока разъединение русских, этот зловредный процесс, не кончится, пока не будут забыты споры и раздоры, пока все не объединится в одной цели спасти Родину и жить только для нее, – до тех пор не можем мы ждать милости Божией и просвета.
Пусть же лозунг русского Белого национального движения ляжет прочно и непоколебимо в сердце каждого: «Наша единственная партия – святая Русь. Наш класс – весь русский народ!»
И да пронижет и соединит весь народ наш право, выстраданное всем Белым движением, – право России вернуться на свой исторический путь, к своему законному царю.
Чешские легионы в Сибири. Чешское предательство
Как тебе имя?
Он сказал: «легион», потому что много бесов вошло в него.
Лк., 8: 30От автора
Все страны мира жалуются на трудности и на лишения послевоенного времени; почти все нации чувствуют себя обиженными; изо всех углов земного шара глядит человеческое горе. Но русские страдания и русское горе перешли все грани, они обратились уже в эпоху, которая подобно древнехристианскому мученичеству заняла свое место на чаше весов истории. На той чаше, на которой находятся правда и честь, а вместе с ними и будущая светлая победа.
Страна наших отцов, Россия, все эти черные годы лежит на своей голгофе, распластанная и пригвожденная. Полноводные реки чистых слез и горячей крови пролиты за истекшие пятнадцать лет на необъятном русском просторе. Многие миллионы человеческих жизней принесены в жертву нашим народом, во всех слоях его. Россия потеряла не только свою великодержавность, но и самое имя ее пытаются стереть с лица земли, заменив его четырьмя буквами: СССР. Международная банда темных личностей поставила Россию на майдан, обратила 150-миллионный народ в рабство.
Нам, современникам, не охватить всей величины и всего значения страданий России и русского человека; страданий там, в священном для нас отечестве, где попраны все божеские и человеческие законы, – и здесь, по другую сторону черты, где более миллиона русских людей томятся в разлуке с родиной, в бесправии изгоя.
Наша родина, ласковая, как улыбка матери, обращена в жестокий, беспощадный застенок; страна, богатая и щедрая, как ни одна другая на земле, поставлена в условия убогой нищей, и народ наш лишен даже права свободного труда. Дети его насильно развращаются, – в СССР запрещена сама молитва к Богу.
Ужасным кровавым террором, небывалым сыском и шпионажем, с помощью своих палачей держит в повиновении российский народ шайка преступного международного сброда, во главе со Сталиным-Джугашвили, Калининым, Бела Куном и им подобными.
Но придет светлый день воскресения России. И все, сохранившие ей верность на чужбине, соединят тогда свою жизнь и свой труд с нашими братьями и сестрами там, внутри страны. К ним теперь обращены наши чувства и мысли, для них главным образом предназначена и настоящая книга. Возрождение России есть наше общее дело, наша общая священная обязанность. Вера в победу Добра над Злом никогда не покидала русского человека. Мы все твердо убеждены, что день этой победы приближается, хотя и медленно и в страшных мучениях.
Настоящий труд имеет своим предметом печальную повесть тех событий, которые и толкнули наше отечество на его многолетнюю голгофу. В этой повести звучит действительным ужасом рассказ о черном, страшном предательстве, совершенном «братьями» и «друзьями». Книга написана прежде всего для русских, написана коротко и сжато, в простом изложении фактической, правдивой стороны, – чтобы ее могли прочесть самые широкие круги нашего народа. Цель настоящего труда – заключительные слова его: напомнить правду, которая с течением лет забывается, которую многие замалчивают, а иные и извращают.
Тяжелой поступью проходят черные годы. Наше русское горе перелило давно через край. Неимоверной ценою платит Россия за старые ошибки. Но еще страшнее была бы расплата и с нею вместе ответственность тех, кто толкал бы наше отечество на путь старых ошибок и промахов. Правильность этого утверждения подтверждается и подчеркивается неумолимо теми великими жертвами, которые принесены всем нашим народом. История этих народных жертв рассказана в этой книге.
Лучшей наградой автора за его труд будет, если все эти руководящие мысли и чувства проникнут глубоко и прочно в сознание нашего народа. Может быть, многим из старого поколения, уже уходящего из жизни, трудно оторваться от прошедшего и от изжитых в нем ошибок, – но то молодое, что идет на смену, все в нем смелое, честное и сильное, – должно понять раз навсегда, – что недопустимо, нельзя сидеть между двумя стульями и что путь колебаний не есть путь к победе.
Понять и твердо провести в жизнь. И тогда наша святая обязанность – восстановление нашего отчего дома – будет близка к осуществлению. Да сохранит Бог Россию навеки!
Предисловие к немецкому изданию
Генерал-лейтенант Сахаров испросил меня написать несколько слов введения к его книге «Чешские легионы в Сибири». Охотно я исполняю это почетное для меня желание.
Politisches Kolleg выпускает в ряде своих книг – этот труд, в котором события изображаются не только очевидцем, но лицом, стоявшим тогда на руководящем посту. Со страниц этого труда звучит обвинение русского патриота, лично пережившего, как его собственные усилия, усилия его старых товарищей и многих тысяч соотечественников были уничтожены фальшивыми и лживыми друзьями – их равнодушием, их эгоизмом и их предательством. Генерал-лейтенант Сахаров не считает себя призванным к научно-историческому труду, с просеиванием и обработкой всех данных. Но ни один историк по профессии не мог бы яснее обрисовать, из-за чего именно разыгрались заключительные события мировой войны в 1918–1920 годах. Мы, немцы, к тому времени уже измученные и истощенные, почти не имели представления о тех событиях, которые вдобавок имели местом своего действия совершенно незнакомые нам края.
Из школы вынесли мы, за редкими исключениями, очень несовершенное представление о пространствах, которые в течение 250 лет были соединены царями под скипетром в одно государство. Для нас – Урал разделял Европу от Азии; сообразно этому – на запад от него лежала Россия, по другую сторону – Сибирь. И вот в ряде картин, которые перед нами разворачивает книга Сахарова, мы видим пространства единого Русского государства, видим их так отчетливо и ясно, до самой глубины, до границы поля зрения. В середине перед нами вырисовывается ядро государства – от Волги до Байкала, от Казани до Иркутска. Уфа и Екатеринбург, Тобол, Омск и Красноярск встают в нашем сознании как центральные пункты этого района. Перед ним расстилается европейская часть, то, что мы до сих пор принимали за понятие Россия, – лишь только как передняя часть страны. За ядром ее, к Тихому океану уходит восточная часть государства. Эта область простирается от Читы до Владивостока и переплетена с восточноазиатской жизнью едва ли менее глубоко, чем Китай и Япония, – подобно тому, как в передней части России, на протяжении от Петербурга до Одессы, до войны интересы восточноевропейского мира были прочно связаны с Пруссией и Австрией. Книга генерал-лейтенанта Сахарова заслуживает внимательного отношения уже из-за одного того, чтобы охватить взором необъятные пространства, принявшие здесь формы.
А к этому прибавляется еще глубокий по содержанию и захватывающий рассказ. Рассказ о самоуничтожении панславизма. С помощью него удалось Западу сделать последний и самый опасный натиск на русский мир XVIII и XIX столетий, утвержденный за время с Петра I до Николая I на прочном основании великодержавности. Цари относились к панславизму с внутренним отрицанием, но не нашли сил для открытой борьбы против него. С наибольшей страстностью проводили это движение перед мировой войной чехи. Так, появился на русской территории и Масарик весной 1917 года, непосредственно после революции. Он, этот духовный проводник чешской идеи, прибыл тогда в Россию подобно победителю, чтобы целый год, до весны 1918 года, играть там роль стряпчего Западной Европы. И благодаря ему Запад получил в свои руки – в виде трех чешских дивизий, образованных в России по приказу Чешского национального совета из Парижа, – орудие, которое давало ему огромное влияние на дальнейший ход русской революции, а вместе с тем и на войну до ее конца.
В первые месяцы 1918 года большевикам удалось захватить власть только внутри и на севере Европейской России. Да и там им приходилось иметь дело с восстаниями крестьян. Поэтому вполне понятно, что среди русских национальных кругов в то время появилась надежда сбросить власть большевиков с помощью Чехословацкого корпуса. Чехи находились тогда на пути к Владивостоку. Известие о том, что они повернуты на запад и в июле – августе дошли снова до Казани, было встречено русским народом с восторгом. Но чешское наступление на Волгу имело единственной целью давление на немецкое командование, чтобы принудить его оставить на Восточном фронте возможно большие военные силы. Этим надеялись увеличить шансы Фоша на победу на Западном фронте. А как только среднеевропейские державы перестали внушать страх, – чешские легионы были обращены на то, чтобы помешать адмиралу Колчаку в его работе по восстановлению России. Дважды поднималась Русь в 1919 году и шла наступлением на большевизм, но оба раза была вынуждена отступить. Первый раз за Тобол, вторично – за Байкал. Чехи не только не подали русским помощи, но они помешали и подаче русских резервов по Сибирской железной дороге. Они не остановились потом и перед открытой игрой с большевиками. Отступая с фронта, чехи ограбили несчастное русское население, и их единственной заботой стало – независимо от того, наступали ли русские или были в отступлении, – увезти награбленное на восток. Это имущество или продавалось чехами по пути к Владивостоку русским же, или отправлялось в Европу.
Чехи заявили, что будут выполнять приказы только француза Жанена, назначенного командовать теми войсками, которые западные державы и Япония направили в Сибирь. Политически же они с самого начала придерживались сторонников Керенского, с которыми Масарик установил связь еще весной 1917 года. В конце августа 1918 года офицерский корпус белой армии пришел к необходимости образования единой русской власти, чтобы дальнейшие военные мероприятия не разбивались политическим разбродом. Под давлением и угрозами чехов правительство это было образовано в своем большинстве социал-революционное и с социалистом-революционером во главе. Еще в начале войны социал-революционеры сумели проникнут в учреждения общественно-хозяйственные, откуда внедрились и в органы самоуправления. Будучи вытеснены большевиками из Петербурга и Москвы, они обосновались восточнее Волги до Владивостока. Провозглашение Колчака в ноябре 1918 года верховным правителем России положило скорый конец социалистическому правительству, но власть Колчака не смогла глубоко проникнуть в толщу страны, там продолжали хозяйничать эсеры в союзе с чехами.
Перед глазами генерал-лейтенанта Сахарова, как русского, в его книге стоит трагедия панславизма, в той роковой роли, которую чехи сыграли для его народа. Для нас, немцев, как для среднеевропейцев, еще понятнее и яснее все то, что говорится в книге о союзе и связи чехов с социал-революционерами. Для России социал-революционеры означают то же, что для Средней Европы социал-демократы. Едва успел Керенский вырвать бразды власти из слабых рук буржуазных революционеров, как пробил час для Средней Европы, для Эберта и Адлера. События, разыгравшиеся в рейхстаге в июле 1917 года, газета Temps могла с полным правом назвать проникновением русской революции в Среднюю Европу. Масарик появляется в пункте соединения социал-демократического движения с панславянским. Он принадлежит им обоим, и с их обоюдным успехом стал он исторической личностью. Панславизм и социал-демократия поддерживали друг друга не только в 1918–1920 годах по ту сторону Волги, – они показали себя, почти с первого дня своего возникновения в Средней и Восточной Европе, как смертельные враги того порядка, что утвердился в Европе в XVII и XVIII столетиях, его основ и прочности, которые были положены при устройстве великих держав, сооруженных тремя правящими домами: Романовыми, Гогенцоллернами и Габсбургами. Это здание разъедалось обоими движениями, как крепкой водкой, еще за десятилетие до мировой войны. То участие, которое панславизм принял в подготовке войны, и то влияние, которое было оказано социал-демократией на ее конец, подкопали общность и силу сопротивления трех великих держав, определив и их судьбу. Поэтому нельзя не признать панславизм орудием Запада, в отличие от социал-демократии. Но он стал еще значительнее от той поддержки, которую от нее получил.
Оценка этому будет различна, соответственно тому, станет ли социал-демократия рассматриваться как факт противный либерализму, или ей будет отведена известная зависимость от него.
При первом возникновении либерализма ему представлялось, что он с помощью буржуазии будет в состоянии изменить порядок, как на Западе, так и в Средней Европе. Но социальное расслоение последней, покоясь своей основой на сельском хозяйстве и на рабочих, оказалось слишком прочным. Потому-то и мог Бисмарк принять вызов либералов на решительное сражение. В двух крупных схватках, в 1862–1867 и 1876–1879 годах, он их отбросил назад. Такие вожди, как епископ фон Кеттелер на Рейне и Карл Люэгер в Австрии, разбили либерализм в Средней Европе наголову. Возможно, что продолжением того же направления является также и Муссолини. Однако с появлением социал-демократии Запад получил опять возможность возобновить борьбу. Только теперь агитация подготовки нападения на существующий порядок была перенесена из буржуазии в пролетариат, на место либеральных надежд были выдвинуты в первую голову социальные требования. Однако политическая воля стремилась, как и прежде, к тому, чтобы в Среднюю Европу пересадить демократию Запада. И в этой цели из-за социал-демократии вновь вынырнул лик либерализма. Во время войны социал-демократия и панславизм выходят на одну и ту же плоскость. Орган германской социал-демократии Vorwärts так проявил свое отношение к убийству в июле 1914 года наследного эрцгерцога: что национальная революция есть предтеча социальной, как равно и революция буржуазии приближает совершение полной революции пролетариата. В мировой войне случилось, однако, обратное: революционное движение социал-демократии открыло пути для национальных революций Восточной и Средней Европы. Для борцов национальных революций оказалось нетрудным выиграть у социал-демократов первое место. Лучшие шансы получило то направление, которое обладало внешнеполитической целью, ибо это увеличивало шансы на победу союзников. Национальные чаяния панславизма были проникнуты именно этой внешнеполитической проблематикой. В противовес чему интернационал социал-демократии есть лишь лозунг, которым она тешит сама себя; ей недостает именно внешнеполитических целей, она озабочена вопросами лишь внутреннего устройства и оплаты труда.
Конечно, и социал-демократия, и панславизм получили в итоге войны лишь столько, сколько им захотели и нашли нужным дать западные державы: социал-демократии иллюзорное участие рабочих союзов в политической власти, а чехам предоставление государственного суверенитета, который на деле только тень его, делая чехов драбантами Франции. С тех пор под давлением учрежденной в Версале новой государственной системы и все больше и больше выступающего оттуда нового социального расслоения Средняя Европа живет в образе гермафродита между западным капитализмом и большевизмом востока.
* * *
20 марта 1917 года газета Vossische Zeitung в № 145 опубликовала мою статью, в которой искалось объяснение только что разразившейся в России революции по линии исторического процесса; равно там делалась попытка дать оценку событиям, составить первую картину случившегося для суждения о значении его. Статья эта оканчивалась так: «Война очень затянулась. Царь, несомненно, пошел бы снова охотно на соглашение с срединными империями. В нем не умер еще здоровый инстинкт к тому, что было хорошо для российской великодержавности, как и для интересов ее дипломатии… Ему не доверяли одинаково ни интеллигенция, ни Англия, зависимости от которых он подпал со времени поражения в Маньчжурии. Они чувствовали себя все время под угрозой, что царь может вернуться к той жизненной политике, под знаком которой началось его царствование. И они вступили против него в заговор, сегодня они его победили и низвергнули. В Германии во время войны неоднократно оживал политический взгляд, что Россия и Германия должны были бы в последнюю четверть столетия поддерживать друг друга и обоюдное стремление к общему господству. За то, что случилось иначе, несет также сильную ответственность общественное мнение Германии и ее политика… Надо надеяться, – наше военное командование своевременно себе уяснило, что Англия могла отвратить сепаратный мир России только ценой более чем безумной игры с огнем. Россия трещит по всем швам. Что принесло бы, если бы молоты Гинденбурга обрушились на нее в эту минуту! Но не утеряна еще и сегодня возможность подвинуть войну значительно вперед к разрешению – прочным ли захватом России, или путем восстановления в ней монархии и с нею здорового направления русской внешней политики, или, – если страна царя действительно распадается, – пусть последнее слово скажет наш меч, а не английская интрига».
Мы не были уже больше в состоянии помочь царю.
И Австро-Венгрия, и Германия вскоре затем очутились также в клещах, которые Запад держал в виде панславизма и среднеевропейской социал-демократии. Наши династии тоже были низвергнуты, и наш народ, наподобие русского, подпал обморочному состоянию.
С той поры русские и немцы переживают время отечественной разрухи. Да будет мне позволено в связи с этим привести в заключение одно личное воспоминание. В январе 1929 года вопросы изучения истории искусства привели меня в замок Зееон к герцогу Лейхтенбергскому. В его кабинете, за чашкой послеобеденного кофе, разговор направился на политические темы. Герцог упомянул о генерале Врангеле и предложил познакомить нас. Никто не мог бы лучше Врангеля мне рассказать, какая глубокая пропасть образовалась между русскими и Западом; он пережил с западными державами только разочарования. Все, кто были в России за тройственное соглашение и сражались за его дело, знают теперь, что будущность России только в возобновлении старых добрых связей с Германией. Я не познакомился с генералом Врангелем. Уже через несколько недель он перешел в лучший мир, летом умер и герцог Лейхтенбергский. Этот разговор пришел мне на память теперь при чтении теплых слов, которые генерал-лейтенант Сахаров посвящает русско-германским отношениям. Общность несчастия направляет тех, кого оно постигло, к естественному сближению. Но в чувствах, которые выражает генерал-лейтенант Сахаров, дело идет не только об этом одном; мы смеем верить, что здесь выступает единственно правильный взгляд на вещи и согласованная с ним политическая воля. Они нам помогут работать на будущее, каждому для своего народа, пока, по воле Господней, мир не примет нового вида.
Профессор Кельнского университета истории доктор М. ШпанГлава 1 Тени мировой войны
Истребление на войне цвета воюющих наций. Идеологическая сторона жертвы. Извращение ее на мирной конференции. Предоставление России интернациональному коммунизму. Отделение России от Германии. Причины этого. Роль России в мировой войне. Конец войны без решительной победы. Два лагеря: выигравших ставку и ограбленных. Удар в спину России. Роль чехов
Мир, потрясенный величайшей из войн, стоит содрогаясь и готовый впасть в новые судороги безумного самоистребления и развалин. Миллионы и миллионы лучших сынов всех главных наций ушли из жизни за годы мировой войны и революций. Полные веры в светлое будущее, положили они души свои за други своя. Когда эти храбрые, честные люди, бывшие в расцвете сил и здоровья, бесстрашно шли вперед и умирали на поле чести, то перед их глазами стояли идеалы правды, права и справедливости. И оттого-то был легок и чист их жизненный конец…
А разве не с верой в победу Добра над Злом бросились в смертную схватку народы мира? Разве не за идеалы правды, права и справедливости лилась многие годы потоками горячая человеческая кровь, ломались без счета кости и отдавалась в жертву жизнь?..
Ответ на эти жгучие вопросы прозвучал из парижских предместий: Версаля, Трианона и Сен-Жермена. Идеалы превратились в иллюзии, и иллюзии разлетелись, как пыль цветочная. На место правды и права вошли в мир, как еще никогда ранее, ложь и насилие. Тяжело должны были перевернуться в глубоких братских могилах останки героев.
Какие же еще результаты долгой и кровопролитной войны? Прежде всего, необходимо заметить, что война, в сущности, не окончена; она прервалась и перешла в иную плоскость, приняла другие формы. Произошло к тому же довольно существенное перемещение факторов войны. Только неизлечимый лицемер или человек с привычкой страуса прятать при опасности голову в песок может оспаривать это и утверждать, что после Версаля человечество получило прочный мир и перестало готовиться к войне.
Россия, страна, занимающая 1/6 суши и имеющая в своей массе примитивное земледельческое население, отдана была на поток и разграбление Коммунистическому интернационалу, то есть преступному сброду из человеческих отбросов всех стран; людей, потерявших последние проблески духа, преданных самому разнузданному материализму и исполненных жестокости бешеного зверя. Русский народ не сразу подпал под это страшное иго; он схватился с коммунистами в смертельной борьбе и вел три года жестокую внутреннюю Гражданскую войну. Когда белые, то есть национальные русские армии были уже близки к победе над красными, то рука из Версаля направила ужасный предательский удар им в спину. И этим ударом помогла утвердиться в России коммунизму больше чем на десятилетие.
Германия, поверженная, но не побежденная, оставалась еще страшна людям, делавшим Версаль. Она была страшна своей внутренней силой: стремлением к единству, дисциплиной, способностью к жертве и волей. Потому-то мирный договор и бросает на те же десятилетия эту крепкую и трудолюбивую страну в унизительные, непосильно тяжелые материальные условия, в моральное рабство. С беззастенчивой улыбкой люди, мечтавшие о реванше, готовившиеся все время к войне и спустившие с цепей ее страшного зверя, приписывают вину одной лишь Германии. У нее отнимают оружие, лишают ее средств обороны и требуют уплаты всех тех миллиардов, которые в течение четырех лет народы Европы выпускали в воздух ежедневным потоком смертоносных снарядов и взрывчатых веществ.
Но и этого мало. Для каждого человека ясна и непреложна мысль: если бы не было государственной слепоты у обеих стран, если бы Россия и Германия были вместе, то никакая война не могла бы возникнуть. Воля двух колоссов, объединенных между собой, была бы непререкаема, а сила непобедима. Эту истину понимают теперь все. А люди, заседавшие в Версале, видели и дальше; для них не подлежало сомнению, что это положение имеет силу не только в прошлом, но и в будущем. Потому-то и была отдана Россия на разложение коммунистам, причем вину и в этом хотели свалить на Германию… Чтобы еще более разделить два народа, русский и немецкий, политики Версаля, Трианона и Сен-Жермена наметили создать между ними физический барьер. Для этого они тело Европы разделили и раскромсали, как мясники разделывают тушу быка. Одевшись наружно в красивую тогу принципов самоопределения народов и прав меньшинства, «творцы мирного договора» выкроили из тела Европы ряд новых государств: Чехословакию с областью судетских немцев, со Словакией и Карпатской Русью; Польшу с коридором, Силезией, Западной Пруссией, Галицией, Волынью и Вильно; Литву с Мемелем; Румынию с Бессарабией и Семиградией.
Вместо одного Эльзаса были созданы после войны десятки. Мирные договоры Версаля, Трианона и Сен-Жермена принесли миру зародыши новой бойни, к которой готовятся изо всех сил «победители», обезоружив для большей верности «побежденных».
Война Антанты с центральными империями Европы окончилась без участия России. Наша страна принесла более всех жертв на дело союзников и только вследствие этого была выведена из строя тяжелой болезнью – революцией. Зато мировая война окончилась при участии Америки, вступившей в ряды борющихся перед самым концом. Не подлежит сомнению, что если бы Америка выступила решительно в 1915 или даже в 1916 году, то война кончилась бы значительно раньше и стоила бы миру намного меньше крови и даже золота. Но в 1914, 1915 и 1916 годах Америка держала нейтралитет и была занята большими выгодными заказами для воюющих. Эти заказы выкачивали золото с материка в Новый Свет.
Мировая война окончилась не победой стран Антанты на полях сражений, а разложением Германии, подпавшей пропаганде пацифизма и интернационала, вступившей подобно России на путь революции. На этот конец империи и на отказ Германии от продолжения войны повлияло в решительной степени вступление в войну Америки и прибытие в Европу ее свежей армии. Америка сыграла свою роль наверняка и заняла положение небывалое раньше по своему влиянию.
Мировая война окончилась не победой Антанты. Версальский мир подобен другому миру этой войны, миру Брест-Литовскому. Как там договаривались здоровые Центральные державы с больной Россией, так и здесь, в Версале, Трианоне и Сен-Жермене, страны Антанты договаривались с больными Германией и Австро-Венгрией. Народы разделились не на победителей и побежденных, а на выигравших ставку и на обиженных.
В стан обиженных отброшена и Россия, заплатившая всех дороже за свою историческую ошибку.
Россия временно повержена, и намного больнее и тяжелее Центральных держав. Но сбросить этот фактор совершенно со счетов союзникам не удалось. Все понимают, что развал великой страны лишь временный, что Россия встанет из пепла, наподобие феникса, возрожденной, очищенной и более могучей, чем раньше. И эта новая будущая Россия по поводу статей 116 и 117 Версальского договора[19] будет говорить не с Германией, Австрией и Венгрией, а с творцами Версальского мира.
Как сказано выше, Россия справилась бы сама со своей бедой, с революционной болезнью, с большевицким разгулом, если бы не злой предательский удар в спину русским. А этот удар, это каиново дело предательства совершили чехи в Сибири, там, где был центр русских усилий, где образовалось ядро новой русской национальной власти и государственности. Другого названия, как «каиново дело», нет этому черному предательству чехов, ибо они все время, даже опуская трусливой рукою сзади кинжал, не переставали называть русских «своими братьями», а Россию – «своей матерью».
В 1923 году пишущим эти строки была издана в Мюнхене книга «Белая Сибирь», где даны описания всего хода Гражданской войны в Сибири за 1918–1920 годы – так, как события были видны из центра величайшей трагедии русского народа, с поста командующего армией и помощника адмирала Колчака. В главе 5 «Чехословацкий корпус» этого произведения обрисована объективно и на основании документов та гнусная роль, какую сыграли чехи в этой трагедии России.
Они предали русскую белую армию и ее вождя, они братались с большевиками, они, как трусливое стадо, бежали на восток, они совершали над безоружными насилия и убийства, они наворовали на сотни миллионов частного и казенного имущества и вывезли его из Сибири с собой на родину.
Следующим местом заканчивается глава 5 «Белой Сибири»:
«Пройдут даже не века, а десятки лет, человечество в поисках справедливого равновесия не раз еще столкнется в борьбе, не раз, возможно, изменит и карту Европы; кости всех этих Благошей и Павлу истлеют в земле; русские ценности, привезенные ими из Сибири, тоже ведь исчезнут, – на место их человечество добудет и сделает новые, другие. Но предательство, каиново дело, – с одной стороны, – и чистые крестные страдания России – с другой – не пройдут, не забудутся и будут долго, веками передаваться из потомства в потомство.
А Благоши и K° прочно укрепили на этом ярлык: вот что сделал Чехословацкий корпус в Сибири!
И Россия должна спросить чешский и словацкий народы, как они отнеслись к иудам-предателям и что они намерены сделать для исправления причиненных России злодеяний?»
* * *
Прошло шесть лет молчания. Чешские политики, строители нового государства, не только не поставили преступников перед судом и предателей к позорному столбу, но пытались их окружить ореолом чести, доблести и героизма. Более беззастенчивой лжи мир не видел. Ниже будут приведены такие «свидетельства» двоих заправил чешской политики, профессора Масарика и доктора Бенеша. Цель этих государственных людей новой республики, выкроенной из тела старой Европы, была, очевидно, обмануть общественное мнение всех цивилизованных стран, усыпить совесть их, чтобы, несмотря на всю подлость и низость, сохранить место среди честных наций и порядочных людей.
До Сибири далеко, в самой России нет национальной власти, вступиться за правду некому, а большевики сами не заинтересованы разоблачать, – так, видно, рассуждали чехи, укрепляя свой обман. А те представители Антанты, которые знали о грязном воровстве и о каиновом деле чехов, хранили и хранят до сих пор глубокое молчание. В силу этого общественное мнение цивилизованных стран – под влиянием чешской пропаганды – находится в заблуждении. Только частью удалось разрушить обман, благодаря тому, что книга «Белая Сибирь» нашла широкий отклик в русской зарубежной и немецкой прессе. Теперь, не так, как до 1923 года, анабазис чехов пишется теперь в кавычках, а лживой чешской похвальбе об их подвигах в Сибири нередко противопоставляется то, что их бегство из Сибири, воровство и грабеж – факты общеизвестные.
Долг осветить эту мрачную картину во всей ужасающей полноте лежит не только на одних русских, это обязаны сделать честные люди всех наций. Дело совести всех истинных демократий (как любят повторять чешские политики) – раскрыть правду. В интересах всего мира – поставить преступления чехов перед Россией к позорному столбу. Иначе в Европе останется государство, которое служит местом укрывательства убийц, воров, насильников женщин, давая им не просто убежище, но предоставляя государственные руководящие места и прославляя их, как героев.
Продолжая собирать дальше документальный материал, касающийся того времени, мы находим своевременным выпустить настоящую книгу, имеющую своим предметом злодеяния чехов в России, тем более что в настоящем, 1930 году исполнится 10 лет со времени совершения предательства чехами в Сибири.
Естественно, что у читателя могут возникнуть вопросы: каким образом попали чехи в Россию? откуда взялся там целый Чехословацкий корпус? как могли они натворить столько зла в Сибири? Краткий ответ на эти вопросы дают следующие главы.
Глава 2 Историческая ошибка России
Возникновение и развитие панславизма. Причины его усиления. Вред панславизма для России. Начало чешской интриги. Формирование чешских воинских частей. Два эпизода из мировой войны. Двойная игра чехов. Увеличение чешских войск после русской революции
Не подлежит спору, что прежняя императорская Россия была больна панславизмом, болезнью, от которой новая Россия – надо надеяться – вылечена навсегда. Хотя эта болезнь и носила чисто внешний, наружный характер, не имея корней ни в самой стране, ни в широких народных массах, – но все же она за последние 50 лет оказывала очень большое влияние на жизнь нашего отечества.
Панславизм возник в середине прошлого столетия, имея вначале чисто теоретические проявления – родственности языка славянских племен, интереса к их литературе, искусствам, народным верованиям, обычаям и укладу жизни. Но очень скоро к этим научным, чисто кабинетным и невинным увлечениям примешалась и политическая игра, подогреваемая известиями с Балканского полуострова о притеснениях турками болгар и сербов. То был век сентиментализма, когда глубоко в жизнь проникали идеи помощи малым страждущим христианским народам, будоражили общество и вызывали сильное желание помочь им и освободить их от ига неверных. Стоит лишь вспомнить лорда Байрона, его личное участие в судьбе греков и в борьбе за их свободу.
Для той же цели возникла и война России с Турцией 1877–1878 годов, закончившаяся освобождением болгар и сербов. Последовало создание этих самостоятельных государств, обязанное обильно пролитой крови сынов России. После этого панславистские течения усилились в русских кругах еще больше. Среди славянофилов видим тогда кроме ученых-теоретиков и ряд влиятельных политиков, главным образом среди военных, как, например, Чернышев, Скобелев и Игнатьев.
Эти люди, имевшие большое влияние на русскую жизнь и на русское общество, сильно культивировали панславизм и обратили его в мощный фактор внешней, да отчасти и внутренней политики. К несчастью, движение это шло нога в ногу с русским национализмом и в царствование Александра III достигло своего апогея.
Две причины, лежавшие вне самой России, влияли в сильной степени на его развитие. Во-первых, это отход Австро-Венгрии и Германии от основ политики Бисмарка. Берлинский конгресс уже вызвал большое разочарование петербургского общества. Традиционные, на протяжении веков укрепленные взаимодействие и дружба русских и немцев, достигшие наибольшего расцвета в Священном союзе, стали тускнеть и отходить на второй план. После блестящей эпохи Вильгельма I проявлялось все большее пренебрежение завещанной Бисмарком идеей бережного отношения к взаимным интересам и идущего рука об руку, взаимно дополняющего развития обоих народов, русского и немецкого. Среди немецких политиков народилось западническое течение, обращение всех надежд и мыслей на Европу; к России стали относиться люди этого порядка или с пренебрежением, или прямо враждебно.
Второй причиной явился заключенный императором Александром III, как противовес германскому панъевропеизму, союз с Францией; по самому существу – противоестественный союз между автократической и патриархальной монархией и разнузданной, развращенной и вечно интригующей республикой. Эти интриги и не замедлил использовать панславизм, чтобы, разжигая его, тем самым увеличить еще сильнее расхождение между Россией с одной стороны и Германией с Австро-Венгрией – с другой.
В последнее царствование Николая II, относившегося с прямым обожанием к политике своего царственного отца, панславистские идеи еще более укрепились, получив официальное признание и поддержку правительства. Как в Петербурге, так и во всех славянских центрах Европы, точно грибы после долгого дождя, выросли панслависты-политики, сделавшие себе из этого профессию, извлекавшие из панславизма выгоды, строившие на нем свою карьеру. В расцвет императорской России все славянские народцы заискивали перед ней, заверяли ее в своей любви и преданности, получая регулярные субсидии и подарки.
А Россия в своей массе была совершенно равнодушна к панславизму, считая его, по справедливости, лишним, ненужным и несущественным и, во всяком случае, чуждым себе.
Да и как же иначе?.. Представьте себе на минуту, что Германия, вместо вполне понятных и естественных забот о Deutschtum, стала бы культивировать «пангерманизм», то есть искать не только общности, но и объединения со всеми странами, включительно до Англии, население которых принадлежит к германской расе или имеет сильную примесь ее. Нельзя упускать из виду следующего: Россия населена в своей главной массе русскими, в жилах которых течет не только славянская кровь, но и туранская; а кроме того, ряд других народностей России не имеет со славянской расой ничего общего. На протяжении нашей истории, при развитии государства Российского, эти народы были для России верными сынами и лояльными подданными. Под русскими знаменами стояли, как сыны России, и русские, и кавказцы, балтийцы и немцы-колонисты, буряты, татары, калмыки, киргизы, башкиры, туркмены, таджики и многие финские племена. В то время, когда чисто славянский народ, поляки, был на всем тысячелетнем историческом пути России заклятый и непримиримый враг ее.
Невольно возникает вопрос: было честно по отношению ко всем этим народностям России культивировать идеи панславизма, допускать влияние его на свою внешнюю политику? Имело ли государство право расходовать средства страны и направлять силу армии на пользу чуждых славянских народцев? Допустимо ли было лить так щедро кровь сынов России для освобождения и самостоятельности всех разбросанных маленьких славянских земель?
Логика дает на это ответ отрицательный: нет, не имела права Россия идти по пути искусственной и выдуманной идеи панславизма. А история последних лет не только подтверждает это, – России пришлось тяжело, непомерно тяжело заплатить за свою ошибку. В то время как Чехословакия, Польша[20] и Югославия, созданные на крови лучших сынов нашего отечества, разбухли и заболели манией величия, – Россия повержена в развалинах, Россия томится в кровавом безумном коммунизме, Россия впала в обеднение. Славянские народы не только не пришли на помощь нашей стране, но постарались все использовать эту смертельную болезнь ее для своих мелких меркантильных интересов, глядя равнодушно на борьбу русских национальных отечественных сил с коммунистами или даже помогая последним.
Еще одно обстоятельство заслуживает самого вдумчивого внимания: все эти новые славянские государства, порожденные в Версале, Трианоне и Сан-Жермене, с самого начала своей жизни стали не только тяготеть ко Франции, но обратились в ее преданных и послушных слуг, действуя по ее указке. Это лучшее доказательство правильности того положения, что хитрая политическая интрига Французской республики сумела в свое время использовать панславизм. России он принес только вред. Но в 1914 году наше государство было могуче и располагало большими, все увеличивавшимися средствами и кредитом. Панславизм рос и ширился, как недобрый дух, как чума. И естественно, что этот рост вызывал не только недовольство, но и прямое противодействие в других странах, особенно в Австро-Венгрии, имевшей под своей короной немало славянских народцев. Панславизм сделался ядом раздора и в конце концов послужил одной из причин, приведших к конфликту.
Мировая война имела своим исходным поводом маленькую Сербию. Россия вошла в войну, руководимая желанием вступиться за права этого славянского народца. Пламя грандиозной небывалой войны охватило всю Европу.
С течением затянувшейся мировой войны политики Антанты решили использовать панславизм как средство для разложения враждебных армий и государств, с одной стороны, и для усиления себя – с другой. Были выкинуты лозунги о самостоятельности Польши и Чехии. В августе 1914 года главнокомандующий русскими армиями, великий князь Николай Николаевич, издал прокламацию с призывом к восстанию ко всем народам Австро-Венгрии. В тех же целях усиления себя и ослабления противника были начаты в странах союзников формирования воинских частей из чехов, поляков и сербов. Уже в августе 1914 года было разрешено и в России формирование одной чешской дружины (батальона) частью из чехов, русских подданных уроженцев Волыни, частью из австрийских чехов, которых война застигла в России. В ноябре того же года эта дружина (около 800 человек) вступила в состав действующей армии.
В то время как в Петербурге и центральных учреждениях, до главной квартиры включительно, относились к чешским формированиям сочувственно – сама армия смотрела на них недоверчиво и презрительно. Особенно когда к первым чехам-добровольцам стали подмешивать военнопленных чехов, строевые начальники стали относиться к ним прямо с опаской. Руководящей мыслью при этом были слова, высказанные одним из старых и доблестнейших боевых русских генералов: «Черт их знает, этих «братушек»! Кто раз изменил, тот легко сделает это и в другой раз. Да и нельзя быть уверенным, что среди этих чехов нет шпионов». Мнение армии взяло верх, и поэтому долгое время дальнейшие формирования чешских частей в России не были дозволены.
Масарик в своей книге[21] пишет, что такой же взгляд вначале существовал и такие же аргументы приводились по отношению к пленным чехам и в Италии, Англии, Америке и даже во Франции.
Что касается до роли чехов, солдат и офицеров Австро-Венгерской армии, то, верно, были случаи перехода на вражескую сторону их частей, их измены знамени и присяге. Но обычно не идейные, а чисто шкурные мотивы двигали этими дезертирами, мелкое и низкое желание спасти свою «драгоценную жизнь».
Помню, какое чувство омерзения вызывали подобные случаи у нас на фронте мировой войны. Среди многих эпизодов галицийского наступления летом 1910 года был в нашей дивизии (3-й финляндской стрелковой) 27 июля старого стиля упорный бой за деревню Лязарувку у Золотой Липы. После горячих атак и контратак с обеих сторон мы заняли эту деревню и захватили свыше 2 тысяч пленных. Германский егерский батальон с австро-венгерскими частями был двинут из резерва против нас. Завязался вновь напряженный бой. Последняя схватка происходила на глазах у пишущего эти строки. Наш 9-й полк удачно охватил фланг и вышел в тыл неприятельской позиции. Благодаря умелому маневру мы захватили снова много пленных, хотя все они дрались и упорно, и хорошо.
И вот когда участь боя была уже решена, дальнейшее сопротивление становилось совершенно бесцельным, наши стрелки принимали и вели сдавшихся в плен, – и все неприятельские офицеры и солдаты были мрачны, усталы и подавленны. Вдруг два фендрика, чехи, вырвались из толпы пленных, кинулись к нашим офицерам с объятиями, с поклонами и попытками целовать руку. Они кричали что-то о своей дружбе, о своей горячей любви к России, о нежелании воевать. Все было ложью, – в их глазах стояло лишь опьянение страхом боя и радостью сохранения жизни.
Неправдою было мнение, будто чешские части, служившие в австрийской армии, сдавались добровольно и без боя. Они вели себя сообразно с тем, в чьих руках были. Вот другой случай. Против нашей дивизии на реке Стрыпе у деревни Гайворонки стоял чешский полк (насколько помню, 88-й пехотный), держался крепко всю зиму 1915/16 года и дрался с отличным упорством. Когда в мае наши полки после трехдневных боев переправились через Стрыпу и начали удлиненными пироксилиновыми зарядами рвать тридцать рядов колючей проволоки, – все чехи этого полка успели отступить в тыл своего расположения; мы взяли их пленными лишь несколько десятков. В тот же день и тем же ударом наша дивизия захватила у деревни Висьневчика на Стрыпе почти целиком 10-й гонведный венгерский полк. А ведь венгры были известны как отличные солдаты. Тогда же мы все высказывали мысль, что рассказы о добровольной сдаче чешских частей – басни. Это была своего рода игра с двойным обеспечением: драться хорошо до победы своих, а в случае поражения или в трудную минуту – прикрыться славянским братством, чтобы и в плену не было плохо.
Несмотря на все хлопоты и интриги, на низкопоклонство чешских политиков типа Масарика и Бенеша, на влияние через Англию и Францию, русское правительство долго не позволяло дальнейших чешских формирований. Только в начале 1916 года чешская дружина была переформирована в чешский стрелковый полк, но все командные должности в нем были замещены русскими офицерами, и командный язык был русский. Чем дольше затягивалась война, тем настроение в Петербурге становилось тревожнее, неувереннее, тем все больше и больше делалось ошибок под влиянием утомления и страха за исход войны. Именно вследствие этого и были разрешены летом 1916 года дальнейшие чешские формирования, – полк развернули в бригаду.
Глава 3 Выступление чехов Ноябрь 1917 – июнь 1918 года
Роль австрийских чехов во время войны. Приезд Масарика в Россию. Заигрывание чехов с большевиками. Муравьев. Стремление «легионеров» уехать из России. Ультиматум большевиков. Русские национальные организации. Выступление против большевиков. Свидетельство современника. Отчет русского строевого офицера. Подъем национальных сил России
Образованный за границей Чехословацкий национальный совет через свое Московское отделение поднес русскому царю 22 ноября 1916 года заверения в лояльности и верности. Надо заметить, что в те годы чешские деятели за границей представляли свою цель в образовании самостоятельного Богемского королевства с королем из иностранной династии, указывая на дом Романовых.
А вот какое свидетельство находим у объективного швейцарского ученого: «Пражский бюргермейстер выражал императору Францу-Иосифу чувства верности и преданности неукоснительно при каждом успехе австрийского оружия. В январе 1917 года Narodni Listi писал… «Действия профессора Масарика грязнят честь чешской нации. Любовь всего чешского народа к династии и отечеству крепка и непоколебима. Все, кто за границей говорит другое, лгуны и предатели. Мы решительно отрицаем, что такие люди имеют право говорить от нашего имени…»
«Депутаты Шмераль, Станек и Масталка подписали королю Карлу (15 февраля 1917 г.) прошение об его короновании в Праге чешской короной, причем они заверяли его в том, что «всегда будут стоять все за него и его преемников, всегда будут верно служить королю и отечеству».
«…Во время мировой войны словаки-солдаты сражались храбро в австро-венгерской армии, а словаки-националисты держали в рейхстаге патриотические речи (как Юрыга 26 апреля и 9 декабря 1915 г.) о готовности их народа к жертве за венгерское отечество».[22]
Когда в марте 1917 года неожиданно разразилась в Петербурге предательская революция, чехи быстро почувствовали родственную среду и перекрасились, стали ярыми республиканцами. От временного правительства (Милюков) они добились уже в марте 1917 года согласия на формирование в России из военнопленных самостоятельной чешской армии. В августе их Национальный совет выпустил заем в 20 миллионов франков для нужд армии и революции. В октябре генерал Духонин[23] подписал приказ о формировании Чехословацкого трехдивизионного корпуса.
Но события шли катастрофическим ходом. Наступала расплата. Октябрьская революция, большевицкий переворот с его лозунгом – прекращение войны и заключение мира. Духонин был убит в Могилеве большевиками, русская армия разваливалась. Положение чехов-военнопленных стало снова под вопросом.
После революции, весной 1917 года, поспешил в Россию Масарик, который подробно описывает это в своей книге Die Weltrevolution, не скрывая, что в Россию императорскую он ехать побаивался. Причина лежит, понятно, не в том, что утверждает Масарик, эта одна из самых знаменитых фигур современности – по своей изворотливости и по умению делать самые грязные дела с благочестивым видом. Книги людей, подобных Масарику, представляют для массы тем большую опасность, что написаны они человеком, обладающим эрудицией и начитанностью; в этих книгах ложь перепутана с правдой во всех случаях, когда это удобно или выгодно автору.
Масарик по приезде в Россию связался, во-первых, со всеми «вождями» революции, которые, по его собственному свидетельству, были ему очень близки; а далее он поступил всецело в распоряжение французской миссии в России. В своей книге Масарик роняет характерную фразу:[24] «Мы (то есть Чехословацкий корпус) были автономной армией, но в то же время были и составной частью французской армии; мы зависели в денежном отношении от Франции и от Антанты».
Чехословацкий корпус осенью 1917 года сосредоточивается на Украине. Сначала чехи ведут переговоры с украинским правительством, но потом делают вольт, и Масарик самолично договаривается с большевицким главнокомандующим Муравьевым,[25] причем между ними устанавливается известная близость. Масарик допускает в чешские полки большевицких агитаторов, результатом чего происходит вполне понятная частичная большевизация чехов.
Почти целый год пробыл отец чешской интриги в России, посетив Петербург, Москву, Киев и Владивосток. Масарик входил в связь со всеми кругами, но, как сам он заявляет с гордостью, он отклонил предложение о сотрудничестве с генералами Алексеевым[26] и Корниловым,[27] начинавшими тогда отечественную работу именно на слишком широком демократическом базисе и на принципе «верности союзникам», которая чуть не превосходила даже верность самой России. Зато Масарик прочно связался с левым русским лагерем; помимо Муравьева, им были укреплены его отношения с рядом революционных деятелей полубольшевицкого типа. Одновременно в Национальный чешский совет в России были набраны левые, ультрасоциалистические люди из военнопленных. Чехословацкий корпус был предоставлен для углубления русской революции. Для чего это было нужно – увидим из следующих глав. За свое почти годичное пребывание в России (с мая 1917 по 1 апреля 1918 года) Масарик провел лишь следующие мероприятия: чехословацкие военнопленные были им переименованы в «легионеров»; впервые это имя появляется в России. Затем эти легионеры были им распропагандированы, – все силы направить на создание своего нового государства, не стесняясь никакими моральными нормами; чтобы это было легче, Масарик заранее пел своим «ребятам» восхваления. Русские офицеры были им постепенно удалены с командных постов.
Все усилия чехов были теперь направлены на то, чтобы уехать из России и переброситься на Западный фронт во Францию. Самым коротким направлением было на Архангельск и Мурманск и затем морем во Францию. Но, как откровенно признается Масарик,[28] от этого пути отказались из-за страха перед немецкими подводными лодками. Был выбран путь через всю Россию к Тихому океану, на что от большевиков было получено согласие. Весною 1918 года Чехословацкий корпус был погружен в вагоны и растянулся по всему Великому Сибирскому пути, от Пензы до Владивостока.
Германское и австро-венгерское правительства потребовали от Советов во исполнение Брест-Литовского мирного договора разоружения этих военнопленных и обратного заключения их в концентрационные лагеря, очевидно с тем, чтобы затем они были возвращены на родину уже не как «легионеры», а как солдаты-изменники и дезертиры. Большевики предъявили в мае 1918 года чехословацкому корпусу ультиматум, требуя сдачи русского оружия.
Моральное состояние чешских воинских частей было в то время очень низкое. После русской революции Чехословацкий национальный совет получил разрешение производить формирования из лагерей военнопленных; это-то и привело к разворачиванию небольшой бригады в армейский корпус. Увеличение в количестве повлекло за собой колоссальное ухудшение в качестве. Ряды бойцов наполнились людьми, желавшими только уйти из-за колючей проволоки концентрационного лагеря, бывшими дезертирами, изменниками знамени и присяге.
На офицерские должности, включая даже и высшие командные, были подготовлены Чехословацким национальным комитетом – на замену русских офицеров – свои из солдат. Они подбирались не по отличиям, не по высоким качествам, а исключительно по преданности Национальному совету и по готовности следовать его «революционной морали». Так появились новые чешские генералы и полковники. Из них только один Чечек был ранее младшим офицером австро-венгерской армии; Гайда обладал стажем фармацевта, Сыровый – коммивояжера и т. д.
Часть чешских эшелонов послушно сдала большевикам пушки, пулеметы и винтовки. Но русские офицеры, остававшиеся тогда еще в штабах и на некоторых командных постах и носившие даже чешскую форму, собрали около себя крепких людей и решили оружие сохранить, отказавшись подчиниться ультиматуму. Эти люди понимали, что безоружные они будут игрушкой в руках советской власти, и решили пробиваться на восток силой.
Последовал ряд выступлений чешских воинских частей против Красной армии, направившей свои отряды для отобрания у чехов оружия. Вот как описывает этот эпизод генерал-лейтенант ***,[29] после большевицкого переворота живший весну и лето на Волге, где он принял активное участие в борьбе с большевиками.
«Весною 1918 года великая война была еще в полном разгаре.
Предсказать ее исход было невозможно. Хозяйничанье Мирбаха в Москве и вывоз из России продовольствия в Германию крайне тревожили наших бывших союзников.
Они готовы были поддержать всякое движение против большевиков.
Восстание чехов как нельзя лучше содействовало планам Франции и Англии о воссоздании восточного фронта на линии Волги или даже Урала, для отвлечения хотя бы части войск с западного фронта.
Использованное агентами Франции и Англии стихийное восстание чехов привело к союзной интервенции в Сибири.
Предполагалось, что чешское движение даст толчок ко всеобщему движению широких слоев русского населения против большевицкого режима, а чехи послужат тем ядром, около которого соберется возрожденная русская армия (как орудие, послушное французской и английской политике. – К. С.).
С военной точки зрения действия чехов в Сибири представляют собою ряд незначительных боевых эпизодов, ибо мало-мальски серьезных боевых сил у большевиков в Сибири не было.
Целый ряд сибирских городов (Омск, Иркутск, Челябинск) был очищен от большевиков даже без участия чехов, русскими офицерами и добровольцами. Чехи с гордым видом победителей торжественно вступали в них без всякого выстрела, принимали как должное овации населения и тотчас же приступали к реквизиции русского казенного имущества.
В итоге все рассказы чешских бардов о легендарном сибирском походе, выражаясь деликатно, страдают большим преувеличением. Весь этот поход не носил характера настоящей войны, а скорее карательной экспедиции, причем потери чехов, начиная от Владивостока и кончая Казанью, в процентном отношении были ничтожны».
Ниже приводится еще выдержка из отчета одного русского строевого офицера, участника всего сибирского периода.
«Преследуя отступающего противника и ведя бои на линии железной дороги Шадринск – Богдановичи (Средний Урал), в конце июля 1918 года наши войска встретили сильное сопротивление у узловой станции Богдановичи. Шадринский отряд (где тогда состоял оперативным адъютантом автор отчета, штабс-капитан В. К. Э.) был направлен в обход на разъезд Грязновку, где после 24-часового боя выбил противника и захватил в плен два красных бронепоезда. Вскоре произошла встреча нашего отряда с чешскими частями, медленно шедшими от Екатеринбурга. Наш отряд, имея задачу быстро выдвинуться на север, передал броневики на временное попечение чехов. Акт об этом был подписан русскими и чешскими представителями.
Договор выполнен не был.
Броневики, взятые трудами Шадринского отряда, чехи не возвратили, присвоив себе. Многократные обращения к чешскому командованию остались без результата.
Август – сентябрь 1918 года были особенно тяжелыми в боевой жизни нашего отряда, переименованного тогда в 19-й Петропавловский полк. Сильное сопротивление встретили мы особенно на участке Ирбитская Вершина – Самоцвет – Кордон, надолго задержавшее наше продвижение.
Начальник боевого участка подполковник Смолин обратился с просьбой о присылке на помощь чешского броневика, так как мы имели только самодельный, из мешков, на обыкновенных платформах.
Двухдневный бой стоил нам больших потерь и имел лишь местный успех. Чешский броневик не поддержал нас, держась все время за прикрытием железнодорожной выемки и даже не выходя вслед нашему самодельному броневику, ходившему в атаку и повредившему большевицкий броневик. Чехи не сделали ни одного выстрела.
После боя чехи заявили о своем уходе, но перед тем командир чешского бронепоезда просил выдать ему удостоверение об участии чешского броневика в бою.
Подполковник Смолин, не зная, что собственно написать чехам, предложил чешскому командиру составить текст удостоверения, надеясь на его скромность.
Я сел за машинку, а чех, диктуя мне, ввел в текст удостоверения фразу, запомнившуюся мне и по сей день:
– «Люди чешски бронепоезда дралися как львы…»
Подполковник Смолин, прочтя готовое удостоверение, долго смотрел пристальным взглядом в глаза чешского командира. Чех даже не потупился. Подполковник Смолин глубоко вздохнул, подписал бумажку и, не подавая чеху руки, пошел к полотну железной дороги.
Через несколько минут чешский бронепоезд ушел навсегда.
Больше за все время наступательной борьбы на фронте я не имел никакого соприкосновения с чехами, только из далекого тыла долетала на фронт популярная в то время частушка:
…друг с другом русские воюют, чехи сахаром торгуют…В тылу, за спиной сибирской армии, шла вакханалия спекуляции, неподчинения, а подчас и откровенного грабежа. Прибывающие на фронт офицеры и солдаты рассказывали о захвате чехами эшелонов с обмундированием, следовавших на фронт, об обращении в свою пользу запасов оружия и огнестрельных припасов, о занятии ими в городах лучших квартир, а на жел. дорогах лучших вагонов и паровозов.
Большое возмущение вызвал слух о том, что генерал Гайда после взятия Екатеринбурга поселился со штабом в доме Ипатьева, где была убита царская семья, велел мыть полы и приводить в порядок, тем самым уничтожая следы преступления. Все это впоследствии подтвердилось».
Чтобы было понятнее дальнейшее, надо окинуть хотя бы коротким взглядом то состояние, в какое пришла в то время Россия. Неподготовленная страна устала выше меры от трех лет ненужной войны за дело Антанты и бурлила уже 14 месяцев в революционном брожении. Царь был в заключении, в центре богатого промышленного Урала, в городе Екатеринбурге. В небольшом особняке горнопромышленника Ипатьева стерегла царскую семью, а затем зверски умертвила большевицкая красная стража. Власть в центре и на местах захватили «во имя народа» большевики-коммунисты, опираясь на чернь и на распущенных, разнузданных революцией матросов и запасных солдат. Играя на их самых низких инстинктах, новая власть декретировала насилия, грабеж и убийство, истребление буржуазии.
Тогда же по всему русскому простору – от Днестра до Тихого океана – стали собираться все лучшие силы страны, всех народностей России, готовясь тайно, в заговоре, чтобы выступить повсюду с оружием в руках и одновременным ударом сбросить ненавистную власть крайних социалистов, блокировавшихся с ворами и убийцами. Национальная Русь собирала свои силы против интернационала.
В каждом городе было в то время такое тайное отделение этих антибольшевицких сил, во главе которых стали спасшиеся от большевиков офицеры. Ясно, что те русские офицеры, которые оставались еще у чехов и которые подняли их восстание, легко и скоро договорились со своими товарищами из тайных организаций. Для того чтобы не упустить благоприятный случай, было решено, даже в ущерб общей готовности, по всему пути чешских эшелонов поддержать их. Повсюду чехам оказали самую деятельную помощь эти тайные организации русских офицеров и казаки.
Справедливость требует сказать, что без этой помощи восстание чехословаков не имело бы успеха, – на каждой станции по уходе чехов снова появлялись бы большевицкие банды, борьба приняла бы затяжной характер в чужой для чехов стране, на железной дороге, длиной 5 тысяч верст, со всеми преимуществами на стороне красных. Чехи были бы разбиты по частям и уничтожены.
Многострадальное русское офицерство встало с оружием в руках на всем пространстве от Волги до Тихого океана против большевиков. Да и самые боевые действия чехословацких полков руководились и направлялись только русскими офицерами (как полковник Ушаков, павший в бою у Байкала, Степанов, Богословский и др.).
Но эти настоящие скромные герои, чтобы обеспечить помощь чехов в дальнейшем, охотно уступали им первое место, сохраняя его для себя только в бою. Население забрасывало своих бывших военнопленных цветами и подарками, как избавителей.
Помню то тяжелое, точно придавленное камнями настроение, которое русские офицеры и казаки испытывали месяцами в Астрахани под гнетом большевиков, в их тюрьме. В этом городе особенно свирепствовал красный коммунист в отместку за неудачное зимнее выступление астраханских казаков и за двухнедельную войну с ними. Все было придавлено, масса людей выбита и брошена в тюрьмы, белая организация насчитывала всего несколько десятков. На самостоятельное выступление не было никаких видов. И вот в те дни пришли известия о действиях чехословаков на Великом Сибирском пути. Большевики тревожно зашевелились и завернули еще крепче кровавый пресс, которым давили население города. Но зато какой восторг вспыхнул в этих измученных и затравленных сердцах! Вера в то, что чехословаки, действительно руководимые высоким порывом, идут на помощь, надежда на скорое окончание тяжелых испытаний и кровавого разгула большевиков – вот что в те дни наполнило сердца русских людей. И это-то сделало в те дни имя «чехословаков» так популярным, что им готовы были приписать все героические подвиги и все свойства доблести и чести.
Этим воспользовались руководители этого корпуса, в первую голову Чешский национальный комитет в России, а за ними и руководители всей чешской интриги Масарик и Бенеш, чтобы составить и пустить по всему миру славу про «анабазис чехов». Ниже, на основании документов и лично виденного, будет мною дана истинная картина этого акта.
Глава 4 «Анабазис» легионеров Июнь – октябрь 1918 года
Воззвания союзников. Приказ из Парижа. Волжский фронт. «Реквизиции». Наступление Красной армии. Связь чехов с революционерами. Уфимское государственное совещание. Требования чеха Павлу. Оставление Казани. Отступление легионов с богатой добычей. Беженцы с Волги. Первые личные впечатления. Уфимская директория и чехи. Приезд в Сибирь Нокса. Ян Сыровый. Самоубийство чешского полковника Швеца. Легионеры бросают фронт и уходят в тыл. Оценка современника. «Добыча» чехов. Антирусская демонстрация чешских политиков. Переворот 18 ноября 1918 года. Адмирал Колчак. Появление Гайды на авансцене. Приезд в Сибирь Жанена и Стефаника
Летом 1918 года правительство стран Антанты и ее объединенное командование были совсем не уверены в исходе войны; наоборот, они опасались своего поражения и полной победы Германии. Поэтому-то Антанта делала решительно все для того, чтобы использовать еще раз как-нибудь Россию, бившуюся в смертельных судорогах большевицкой революции.
После быстрых успехов первого выступления вдоль Великого Сибирского пути чехи были по приказу из Парижа повернуты на запад, к Волге, чтобы там образовать Восточный фронт против Германии и тем оттянуть хотя бы часть ее войск с Западного фронта. Торжественно, как звон большого колокола, прозвучали ноты Великобритании, Японии, Америки, Италии и Франции, обращенные с призывом к народам России сплотиться около русского национального знамени с оружием в руках для борьбы «с Германией и ее прислужниками – большевиками», – как гласил текст. «Ни одна пядь русской земли, – клялись в своих нотах дальше союзники, – не будет занята, и суверенитет России не будет нарушен».
А Бессарабия?.. А Волынь?.. А ранштаты?..
Но тогда взоры всех были устремлены на Сибирь и на Урал. На Волге действительно был образован новый Русский фронт. Русские добровольцы и чехи, повернутые сюда с востока, взяли без особых трудов и потерь города Уфу, Бузулук, Самару, Сызрань, Симбирск, Хвалынск, Вольск… 7 августа 1918 года была занята Казань, что далось также очень легко; неорганизованные большевицкие красные части бежали при приближении чехов и русского офицерского отряда. Отборные советские войска, гвардия революции: полки латышей, китайцев и матросов были отвлечены на Южном фронте против белой русской армии и на подавление крестьян в центре России. Случайно и наскоро набранные красные части из рабочих и запасных солдат, без офицеров, не представляли какой-либо серьезной силы, сопротивление их равнялось нулю, при первом пушечном выстреле эти банды в панике разбегались.
«К тому же расправа чехов, – пишет один из участников того похода, – со своими противниками была короткая. Попавшийся в их руки немец или мадьяр расстреливался на месте. Та же участь ждала каждого русского красноармейца, имевшего в кармане какие-либо ценности».[30]
После взятия Казани был образован Волжский фронт во главе с чехом Чечеком, который был из поручиков произведен в генерал-майоры. Главнокомандование над всеми войсками, действовавшими в районе Волги и Урала, принял на себя Ян Сыровый, назначенный к тому времени Чешским национальным комитетом на должность командира Чехословацкого армейского корпуса. Русские добровольческие отряды шли безропотно в подчинение чешским безграмотным генералам и офицерам, бывшим коммивояжерам и приказчикам.
Порыв в то время, летом 1918 года, был грандиозный. Наша, тогда еще не выбитая и не забитая интеллигенция посылала тысячами свою учащуюся молодежь в ряды Белой гвардии. Офицерство поголовно бралось за винтовки; нередко старые генералы становились простыми номерами к орудиям или рядовыми во взводы. Выдвинулся блестящий военный талант молодого полковника Генерального штаба В. О. Каппеля,[31] который делал чудеса маневра, поспевал всюду, бил красных как хотел и своими обходами расчищал путь для чехов. Их полки, увлеченные нашим порывом, шли вперед вместе с русскими. Их подхватила та же могучая волна и увлекали легкие победы.
И опять-таки вся слава, вся благодарность радостными волжанами, освобожденными от кровавого гнета большевиков, отдавалась чехословакам. Их только-только не носили на руках. И дарили им все, дарили широко, по-русски, от сердца. Забитые и полуголодные бедняки – чехи стали богатеть от русской щедрости. Аппетиты у них разгорелись, и очень скоро у чехов вошло в обычай тотчас по занятии города – нашими ли белогвардейцами или ими – приступать к «реквизиции» русских казенных складов, налагая руку иногда и на частное имущество. Но и к этому вначале наши относились равнодушно, не придавая большого значения: все бери, наплевать, – только помоги с большевиками покончить!
С самого начала образования Восточного фронта Чехословацкий национальный комитет проявил массу усилий и интриг для того, чтобы на освобожденной русской территории вызвать к жизни и укрепить власть из тех кругов, с которыми так сблизился за свое пребывание в России Масарик.
Точно черное воронье летит тучами к месту несчастья – так потянулись на Волгу все революционные вожаки партии Керенского и Чернова.[32] Это сборище социалистов-полубольшевиков, углубителей революции, которым до России и ее судьбы не было ровно никакого дела, которые к тому же являлись рабски послушными исполнителями воли Антанты, нашло полную поддержку в Чешском национальном комитете.
В то время старая политическая власть России была и в центре, и на местах в корне разрушена, и теперь, вследствие стихийности движения и огромных пространств от Волги до Тихого океана, возник сам собою целый ряд органов временной русской власти: в Самаре, главной квартире Чечека, – комитет членов Учредительного собрания или, по существу, полубольшевицкое учреждение; в Уральске – казачье правительство; в Оренбурге – атаман Дутов с Оренбургским казачьим кругом; в Екатеринбурге – Уральское горное правительство; в Омске – Сибирское правительство; в Чите – атаман Семенов;[33] в Харбине и Владивостоке – свои правительства. Чтобы покончить с этой разноголосицей и сумбуром, чтобы привести страну в порядок, было созвано в конце августа – начале сентября в Уфе Государственное совещание для конструкции единой авторитетной всероссийской власти.
В этом совещании приняли участие представители всех перечисленных местных правительств, делегаты от казачьих войск и от политических партий.
Голоса разделились; хотя монархисты на это совещание и не были допущены, но все же большинство оказалось на стороне несоциалистического блока; за этим большинством стояла и фактическая сила, добровольческие отряды и казаки.
Вот тут-то впервые и выступили открыто на политическую сцену чехи. На собрании появился окруженный Национальным комитетом и представителями чехословацкого войска доктор Богдан Павлу и заявил, что если не будет образована единая русская власть, то чехи бросают боевой фронт; законной же властью чехи могут признать, спекулировал дальше чешский политический руководитель, лишь ту власть, которая будет составлена из собравшихся в Самаре членов Учредительного собрания.
Для всякого русского было ясно, что это означало прямое давление на русских людей – призвать к власти снова ту партию, которая раз уже доказала свою неспособность к борьбе, которая не имела воли к победе, которая исполняла приказы иностранцев и работала в их интересах. Партию, которая уже однажды ввергла под руководительством своего лидера Керенского Россию в бездну разрушения, позора и Гражданской войны – в 1917 году.
Но, к нашему несчастью, наглое заявление Павлу на Уфимском государственном совещании, это первое вмешательство чехов во внутренние русские дела не встретило должного отпора; рыхлая масса людей не нашла в себе силы и твердости выгнать зазнавшегося чеха из собрания и обуздать их распущенные банды военнопленных дезертиров. Нельзя, правда, строго винить и осудить тогдашнее собрание: за время полутора лет безумной и кровавой революции слишком устала воля людей. Все страстно хотели иметь помощь против большевиков и тогда еще верили в честь и искренность чехословацких полков. В результате была образована в Уфе на совещании, как единая русская власть, директория из пяти членов под председательством Авксентьева, ближайшего сотрудника и партийного товарища Керенского. Точно так же был установлен приоритет над этой директорией со стороны членов Учредительного собрания.
И вот как раз в те дни, когда эта власть, угодная чехам, была сконструирована, начался развал и отступление чешских войск.
Насколько просто, легко и приятно было первое выступление и занятие городов, настолько оборона Волжского фронта потребовала от чехов настоящей службы, сопряженной с немалыми усилиями, жертвами и потерями. Большевики, встревоженные не на шутку занятием Казани, начали принимать ряд энергичных мер, чтобы овладеть ею обратно. Для них Казань была не только важным стратегическим узлом, – это был также ключ к обладанию богатыми жизненными припасами Поволжья и Прикамья, то есть единственными в то время, вследствие занятия Украины, источниками пропитания центра России. Советская власть направила на Казанский участок все свои лучшие части, во главе с латышскими полками.
Оборона Казани лежала на ветеране чешской дружины полковнике Швеце. Он имел влияние на солдат-чехов, и несколько дней они отбивали атаки красных, которые сосредоточивали под Казанью все больше и больше сил. Привыкнув к легким победам, чехи были буквально ошеломлены яростным натиском красных; боеспособность легионеров понижалась с каждым днем. Полковник Каппель, чтобы выручить их, предпринял со своим добровольческим отрядом обходный маневр в тыл большевикам.
В самую решительную минуту чехи, втянутые своими политиканами в митингование, порешили не выполнять боевого приказа своего начальника Швеца и, вместо поддержки полковника Каппеля движением вперед, категорически отказались оставаться долее на позиции.
Положение русского отряда сделалось крайне опасным, критическим; с большими потерями и лишь благодаря своему искусству удалось Каппелю спасти отряд, но… не Казань. Чехи ушли с Казанского участка тайком, никого даже не предупредив. 9 сентября город попал снова в руки большевиков. Эта «оборона» Казани, замечает один из видных участников тех дней, была лебединой песней чехословацкого выступления.[34]
Через два дня также оставлен Симбирск. Затем отдали Вольск, Хвалынск, Сызрань. Чехи бросали теперь позиции, не выдерживая атак красных. Чехи перестали совсем сражаться. Они уходили при первом натиске большевиков, увозя на подводах и в поездах все, что могли забрать из богатых войсковых складов, – русское казенное добро. Надо иметь в виду, что на Волге оставались тогда еще колоссальные заготовки времени 1916 и 1917 годов для фронта мировой войны.
«Нагрузив на поезда свою богатую добычу, чехи двинулись на восток. За ними хлынула волна беженцев Поволжья.
Прикрытие отступления освободителей-чехов и их военной добычи легло на плечи русских офицеров и добровольцев. Плохо обутые, без теплой одежды, с чувством глубокого возмущения смотрели эти истинные герои на перегруженные теплой одеждой, обувью и прочими запасами чешские эшелоны. Здесь впервые были посеяны те семена отчуждения между чехами и русскими, которые впоследствии дали пышные ростки распри и взаимной ненависти». Такими словами отмечает те дни объективный очевидец.[35]
За чехами тянулись толпы беженцев с Волги, стариков, женщин и детей. То население, которое несколько недель тому назад забрасывало чехословацкие полки цветами и подарками, восторженно приветствовало их, как избавителей, – эти люди шли теперь пешком, – редкие ехали на подводах, потревоженные с насиженных мест, на восток, в неизвестное будущее. Оставаться им по домам было нельзя, ибо не только за помощь чехам, но за простое сочувствие им большевики беспощадно расстреливали целые семьи.
Можно себе представить, какие чувства были у этой обездоленной и преданной толпы!
Царил неописуемый ужас и среди тех сотен тысяч населения приволжских городов, что были брошены теперь поспешным и без боев отступлением чехов на произвол и на расправу Чрезвычаек. И невольно возникал вопрос: зачем было все это?! Лучше бы и не было чехов в России совсем, чтобы они и не выступали…
Действительно, это было бы много лучше, так как самое выступление было преждевременно, оно сорвало тайную работу белогвардейских организаций, творящуюся тогда подпольно на всем пространстве России, сорвало в тот момент, когда дело было еще не подготовлено, не объединено и положение еще не созрело.
На заборах и на стенах всех городских зданий и железнодорожных станций еще пестрели разноцветные бумажки прокламаций чехов, обращения их к русскому населению. Все эти призывы начинались словами: «Русские братья!.. Наши страждущие русские братья и сестры!..» Чехословацкий национальный комитет и командование призывало население Поволжья и Урала к общей борьбе против большевиков, с громкими обещаниями драться до победного конца, до последней капли крови…
А вместо этого – сдача всех позиций, отказ от выполнения боевых приказов, предательство по отношению к русским офицерам и добровольцам. И трусливое бегство стад этих здоровых и откормленных чешских легионеров. До последней капли крови!.. Да, сколько русской крови было пролито в те месяцы в подвалах чека, сколько русских женщин было обесчещено и загублено большевиками из-за чехов. Проклятия неслись им вслед от всего населения с берегов могучей прекрасной русской реки, нашей голубой Волги.
Настроение чешских полков под влиянием всего этого, естественно, упало еще ниже. Начавшееся воровство и новое дезертирство находило себе не только оправдание, но и богатый пример в их руководящем и всесильном органе – Чехословацком национальном комитете. Это были политические авантюристы, темные дельцы и приверженцы – в то время – самой крайней социалистической группы. Чтобы добиться популярности и влияния среди солдатской массы, они обратились к самой грубой и беззастенчивой демагогии.
На их ответственности, главным образом, и на их совести лежит вся кровь, пролитая за те проклятые месяцы, и моря слез русских женщин.
Павлу, Гирса, Патейдль, Медек, Благош были руководителями Чехословацкого комитета, а их вдохновителем – избранный ими «революционный вождь» Фома Масарик.[36]
* * *
С большим трудом и опасностями, под частой угрозой смерти удалось мне с моей женой пробраться к белым, вырвавшись из Астрахани, где свирепствовал разнузданный коммунист-большевик. Частью на лодке по Волге, частью верхом в сопровождении проводников-киргизов сделали мы свыше 500 километров по прикаспийским степям и через Уральск, Бузулук, Самару – достигли Уфы во второй половине сентября.
На Волге впервые пришлось автору этого труда увидеть чехов. Тогда не могло прийти в голову предположение, что видишь сборище трусов, сделавших своей специальностью дезертирство, измену и воровство. Из долгого и мучительного пребывания в большевицком астраханском застенке мы вынесли взгляд на чехов, которым в то время были проникнуты все россияне там, у большевиков. Чехословаков считали героями, исполненными доблести и чести; верили в то, что они совместно с лучшею частью русского народа выступили беззаветно и незаинтересованно против гадости и низости большевиков.
В первый же день действительность принесла разочарование; в легионерах поражала какая-то ненормальная суетливость, бегающие, беспокойные глаза и чересчур большая угодливость, – точно они спешили перед каждым русским принести заранее в чем-то извинения. Все чехи обращались тогда к нам, русским, прибавляя через каждое слово обращение «брат», и были приторно ласковы.
Опытному солдатскому взгляду сразу же бросалось в этой массе легионеров отсутствие настоящей военной выправки, дисциплины и той простой молодцеватости, что свойственна настоящему воину, честному и храброму солдату. Толпы чехов, заполнившие приволжские города, больше напоминали лакеев, переодетых в военную форму.
Больно поразило в первый же день то, что пришлось услышать от своих русских офицеров: чехи не хотят больше сражаться!
Но почему же их не заставят?.. Как это? – солдаты не хотят сражаться?!.. На это же есть военно-полевой суд… и расстрел…
В ответ получался лишь безнадежный взмах руки. Да разве возможно применение таких решительных мер при этой власти, при полубольшевицкой директории, которая сама заискивает перед легионерами?.. А потом, чехи находятся под особым покровительством союзников…
* * *
Богдан Павлу, опираясь на штыки легионеров, грозил на Уфимском государственном совещании уводом чешских полков с фронта, если не будет образована единая российская социалистическая власть. Русские люди проявили недопустимую слабость. Власть эта, угодная чехам, была избрана в лице директории. И только что это случилось, как чехи побежали с фронта, очищая Поволжье, отдавая его на расправу большевикам.
Когда директория, под давлением общественного мнения, напомнила руководителям чешских масс их обязательства, попробовав также воздействовать на них через англичан и французов, то Чешский национальный комитет повел интриги и против директории. Для этого чехи объединились тесно с левыми социал-революционерами во главе с одною из самых грязных фигур русской революции, В. Черновым. Чернов и чешские заправилы призывали уже в октябре население Сибири к восстанию против директории, обвиняя и ее в контрреволюционности.
Но, несмотря и на это, директория продолжала носиться с чехами. Ею было даже оставлено командование всем Уральским фронтом в руках чешского «генерала» Яна Сырового, несмотря на то что уже с сентября все бои и арьергардная служба всей тяжестью легли на русские добровольческие отряды волжан и уфимцев, уральцев и сибиряков. Но директория надеялась этим реверансом перед чехами получить хоть частичную помощь на фронте.
Всякое отступление вносит в ряды войск некоторую деморализацию, – это лежит в самой природе события. А то постыдное отступление, какое осенью 1918 года совершили чешские полки-легионы от Волги на восток, и безнаказанное, сопровождаемое узаконенными грабежами, быстро дополнило их разложение. Этот процесс еще более усилился от той демагогии, которую расплодили и все усиливали тогдашние их руководители, Чешский национальный комитет, верный исполнитель заветов профессора Масарика.
Эти люди кричали на все концы мира, что их цель – «борьба за демократию» и что «вмешиваться во внутренние дела России они не желают и не будут». И в то же время они только и делали, что вмешивались во внутреннюю борьбу русских партий, поддерживая своими штыками все время только крайних социалистов, полубольшевиков, запродавших давно свою совесть и русское чувство.
Среди низов чехословацких полков велась постоянная и все усиливающаяся пропаганда против всякой русской отечественной национальной работы, против всякой сильной личности. Чешские политиканы, обделывая свои темные махинации, уверяли солдатскую массу, что они борются против «реакции» и помогают «соблюдать интересы русского народа»!
На то унижение, на которое пошла директория, вручив командование всем Уральским фронтом бывшему коммивояжеру Яну Сыровому, одетому в форму чешского генерала, чехи ответили новыми наглыми поступками. Сыровый, приняв высокий пост, сам отказался подчиняться распоряжениям, исходящим от русской власти: он заявил, что будет ожидать приезда в Сибирь французского генерала Жанена, назначенного из Парижа главнокомандующим чехами.
Как раз к этому времени, в конце октября, пожаловал в Омск и полномочный представитель Великобритании, генерал Нокс.[37] Не имея желания работать с левой вялой и безвольной директорией, правильнее, не видя в этом никакого толка и пользы для отечества, а скорее вред, пишущий эти строки принял решение ехать во Владивосток, чтобы там подготовить крепкие и надежные кадры офицеров и унтер-офицеров для нового армейского корпуса, с надеждой в будущем им обезоружить преступные и развращенные чешские массы. Перед отъездом мне удалось объехать почти весь Уральский противобольшевицкий фронт, проделав часть этой поездки вместе с Ноксом.
Он лично мне высказывал в те дни, и не один раз, его глубокое возмущение и негодование распущенной чешской солдатней, нежеланием чехов воевать и их грабежами, которые все чехи – и солдаты, и офицеры, и генералы – широко применяли к русскому казенному имуществу.
Даже внешний вид чешских легионеров стал к тому времени гадок и отвратителен. Они потеряли уже и свою «внутреннюю» дисциплину, о которой кричали в самарские дни. Они выглядели теперь как красноармейские банды. Без погон, в умышленно небрежной неформенной одежде, с копной кудлатых волос, с насупленным, злобным и вороватым взглядом из-под заломленной на затылок шапки, вечно руки в карманах, чтобы не отдать по ошибке и по старой привычке честь офицеру, – вот портрет чеха-легионера в Сибири осенью 1918 года.
Толпы их бродили на всех станциях железной дороги, молчаливые, державшиеся кучками в десять – пятнадцать человек, – в одиночку ходить они боялись. Эти банды распущенной солдатни, двойных дезертиров, ничего не делали, кроме обильного и регулярного наполнения своих желудков и бестолковых, бесконечных словопрений на политические темы.
* * *
Мне пришлось встретить в Челябинске в вагоне у генерала Нокса и Яна Сырового. Это был коренастый, неуклюжий и сырой человек лет тридцати пяти. На его вульгарном толстом лице поблескивал мутным недобрым светом и вспыхивал хитростью единственный маленький глаз; другой был всегда закрыт черной повязкой, что, по уверению чехов, придавало ему сходство с их известным гуситом Яном Жижкой.
Держал себя этот командир корпуса более чем развязано; но было видно, что нахальными манерами и тоном чех старался прикрыть свою пустоту и недостаток образования и воспитания, неловкость оттого, что залетела ворона не в свои хоромы.
С жгучим стыдом вспоминаю всегда, как за этим парвеню почтительно выступала фигура русского генерала тоже в чешской форме, одного из лучших специалистов по службе Генерального штаба, неисправимого и усердного «славянофила» – Дитерихса.[38] Он вел всю работу за необразованного Сырового, придавая ему вес и значение, прикрывая своим авторитетом чешское зло.
Нокс пытался уговорить чехов и воздействовать на Яна Сырового, чтобы его полки не оставляли фронта, а сражались против большевиков. Но это ни к чему не повело. Вскоре все чешские полки и батареи бросили позиции совсем, начисто отказавшись воевать и уйдя с оружием в руках в тыл. Молодые, вновь формируемые белые части Сибирской армии заняли их места и сохранили Уральский фронт, отбив все атаки красных. За спиной сибиряков расположились в тылу чешские легионеры.
Среди 50 тысяч Чехословацкого корпуса нашелся лишь один, который не вынес позора развала и разнузданности. Полковник Швец, бравший Казань и пытавшийся оборонять ее, боролся долго против деморализации солдатни и сдерживал массы. Но и его полк отказался выполнить боевую задачу и решительно потребовал увода в тыл. Полковник Швец собрал солдат, долго говорил с ними, грозил, что обращается к ним в последний раз, взывая к их чести и порядочности, требуя выполнения боевого приказа. Полк не подчинился и направился в тыл за другими.
Тогда полковник Швец вернулся в свой вагон и пустил себе в голову пулю. Как раз в те дни, как мне пришлось быть в Челябинске, происходили похороны этого честного солдата. Печальный, серый осенний день. Сеял мелкий дождь. На могиле застрелившегося Швеца чешские политики говорили звонкие речи и лили крокодиловы слезы… Очевидно, их толстая кожа не давала им чувствовать, что вместе со Швецом они хоронили и свою короткую славу, что истинными убийцами этого солдата были они, виновники развала.
* * *
Несмотря на крайние усилия директории и союзнических миссий, чтобы воздействовать на чехов и образумить их, заставить вернуться на фронт, все их части наотрез отказались сражаться. В конце октября Чехословацкий корпус был полностью уведен в тыл. Это точная дата, подтверждаемая документами. И совершенно ложно утверждение доктора Бенеша, который пишет в своей книге:[39] «Переворот Колчака 18 ноября 1918 г. отбросил наши войска от общей военной работы с русскими, так как они не хотели нести части ответственности за внутренние политические события, они постепенно оставили Волжский фронт и удержали в своих руках лишь жел. дорогу для своих целей».
Это ложь. Уже в конце октября, то есть за три недели до переворота, все чехи ушли самовольно в тыл. Генерал-лейтенант *** так говорит о том времени:[40] «В тылу чехи заняли лучшие помещения, а находившиеся вдоль железной дороги их эшелоны, расположившись с комфортом, захватили под жилье и под свою «военную добычу» огромное количество вагонов, что сразу привело к расстройству транспорта. В Челябинске и Екатеринбурге собралось много совершенно свежих и отъевшихся в тылу чешских частей, но выступить на фронт они категорически отказались. Мало того, Чешский национальный комитет поднял вопрос об эвакуации всех чешских войск из Сибири. Мы подчеркиваем этот факт, ибо впоследствии главари чехов имели наглость утверждать, что чехи отказались от дальнейшей активной борьбы с большевиками только потому, что не хотели поддерживать власть Колчака. Между тем в описываемое нами время благополучно здравствовала директория, социалистические тенденции которой не подлежали сомнению».
Уйдя в тыл, чехи стянули туда огромные запасы накраденного русского имущества, которое и охраняли усиленными караулами с винтовками в руках. Вот краткий перечень имущества, вывезенного чехами в первый период после отступления от Волги.[41]
«Добыча чехов поражала не только своим количеством, но и разнообразием. Чего-чего только не было у чехов. Склады их ломились от огромного количества русского обмундирования, вооружения, сукна, продовольственных запасов и обуви. Не довольствуясь реквизицией казенных складов и казенного имущества, чехи стали забирать все, что попадало под руку, совершенно не считаясь с тем, кому имущество принадлежало. Металлы, разного рода сырье, ценные машины, породистые лошади объявлялись чехами военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше 3 миллионов золотых рублей, резины на 40 миллионов рублей, из Тюменского округа вывезено огромное количество меди и т. д. Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета. Точное количество награбленного чехами не поддается даже учету. По самому скромному подсчету, эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов рублей и значительно превышала контрибуцию, наложенную пруссаками на Францию в 1871 г. Часть этой добычи стала предметом открытой купли-продажи и выпускалась на рынок по взвинченным ценам, часть была погружена в вагоны и предназначена к отправке в Чехию. Словом, прославленный гений чехов расцвел в Сибири пышным цветом. Правда, такого рода коммерция скорее приближается к понятию открытого грабежа (или вооруженного воровства), но чехи, как народ практический, не были расположены считаться с предрассудками».
К этому добавим, что чехами было захвачено и объявлено их собственностью огромное количество паровозов и свыше 20 тысяч вагонов. Один вагон приходился примерно на двух чехов. Понятно, что такое количество подвижного состава им было необходимо для провоза и хранения взятой с бедной России контрибуции, а никак не для нужд прокормления корпуса и боевой службы.
Нам, русским офицерам, было ясно тогда же, что эти развращенные и ленивые банды необходимо во что бы то ни стало привести в порядок самыми решительными и беспощадными мерами. Но две причины мешали нам осенью 1918 года привести это в исполнение: первая – наши части были тогда еще слишком слабы; кроме того, они должны были одновременно с формированием вести непрерывную боевую службу против большевиков, держать фронт на Уральских горах. Другой причиной было то, что образованная в Уфе под давлением чешских штыков директория была сама настроена так лево, что ее председатель Авксентьев попал даже под подозрение связи с полубольшевиком Черновым; власть директории была призрачна, а кроме того, как правоверные марксисты, они были готовы карать и давить только все правое, национально настроенное. С чехами же у директории были отношения близкие, родственные.
Зато население Сибири и армия ненавидели чехов с каждым днем все сильнее. Прикажи тогда русская власть расправиться с ними, – вся Сибирь пошла бы охотно, как один человек. Вскоре тогда же, в начале ноября произошел такой показательный случай. Военный и морской министр директории адмирал Колчак прибыл особым поездом в Екатеринбург, чтобы лично ознакомиться с нуждами русского боевого фронта. Разнузданные чешские солдаты начали задевать самой площадной бранью чинов конвоя русского военного министра. Чешские офицеры, стоявшие там же, не только не останавливали, но еще подзадоривали. Один из этих «офицеров» направился к вагонам адмирала, вход куда посторонним был воспрещен. Русский часовой хотел остановить чеха-офицера; со стороны последнего последовала отборная ругань, а затем попытка ударить часового. Тогда русский стрелок пустил в ход оружие, – что он обязан был сделать по закону, принятому для всех армий, – и смертельно ранил чеха.
Все иностранцы проявили возмущение этим случаем, но Чехословацкий национальный комитет стал на сторону безобразников, нарушителей порядка – чехов. Застреленному чеху создали парадные похороны, антирусскую демонстрацию. Политиканы из Чехословацкого национального комитета говорили над могилой речи, полные ненависти к России и русским.
Необходимо было все силы обратить на усиление русской военной мощи и на образование такой власти, которая была бы свободна от партийного намордника и хомута, которая понимала бы всю серьезность и ответственность отечественной работы. Ведь Россия должна была не только победить красные банды большевиков, но и построить крепко и основательно, удобно для всех своих народностей здание государства, разрушенное революцией. А тут еще среди этих грандиозных задач болталось это грязное, чуждое России тело, Чехословацкий корпус, который нужно было обязательно скрутить и обезоружить, иначе успех всего дела становился под серьезную угрозу.
* * *
Общественность всех оттенков и партий, кроме крайних марксистов-полубольшевиков, поняла серьезность момента, объединилась вместе и вручила полную власть одному лицу, адмиралу А. В. Колчаку.[42]
Это был крупный русский патриот, человек большого ума и образованности, ученый-путешественник и выдающийся моряк-флотоводец. Личность его вырисовывается исключительно светлой, рыцарски чистой и прямой. Адмирал Колчак любил правду и стремился к справедливости. Он относился также и к Германии и к немецкому народу безо всякой предвзятости, отдавая должное его трудолюбию, таланту к организации и склонности к порядку.
Не погибни адмирал Колчак, преданный чехами, как и его армия, – история России пошла бы по-иному, и Германия разговаривала бы и заключала договоры не с жалкой кучкой интернационального сброда, не с большевиками, а с национальной русской властью. За это-то французы и окрестили адмирала и его ближайших сотрудников германофилами, а чехи стали с самого начала и до конца в явно враждебное отношение.
Адмирал понимал всю недопустимость дальнейшего пребывания чешской солдатни в таком виде в Сибири, но он в то время не имел еще достаточно силы. А кроме того, А. В. Колчак как человек отличался слишком большой добротой, мягким и даже чувствительным сердцем. Его волевой характер, надломленный революцией, был очень вспыльчив, но и сразу отходчив. Адмирал Колчак принял на себя полноту власти как тяжелый подвиг, руководимый лишь чувством самопожертвования во имя долга, чести и спасения отечества.
Переворот произошел в Омске ночью 18 ноября 1918 года совершенно безболезненно. Члены директории были арестованы, а потом высланы из пределов России. Никто в Сибири не поднялся на их защиту. Одни чехи намеревались выступить открыто против провозглашения верховным правителем России адмирала Колчака, – но не посмели. Они только трусливо будировали и ограничились составлением вместе с черновской партией прокламаций с новым призывом населения Сибири к восстанию. Да, когда были посланы из Омска офицеры для ареста Чернова, чтобы поставить последнего перед военно-полевым судом, то чехи скрыли его у себя, а затем помогли бежать в Россию к большевикам.
На наше русское горе, лишь Гайда, бывший в то время начальником Чехословацкой дивизии, открыто выразил адмиралу Колчаку свои симпатии и преданность, предлагая в первый же день свою поддержку. Хитрый чех знал настроение и намерения русского офицерства и солдат и решил провести игру в целях личного выдвижения; как раз в то время между Гайдой и Сыровым начались нелады и соревнование из-за первенства. Адмирал Колчак поверил искренности Гайды и с тех пор отличал хитрого честолюбивого чеха, взяв его даже тем же чином генерала на русскую службу.
Молодое, очень длинное лицо, похожее на маску, почти бесцветные глаза с твердым выражением крупной, хищной воли и две глубокие упрямые складки по бокам большого рта. Форма русского генерала, но без погон, снятых в угоду чешским политиканам. Голос тихий, размеренный, вкрадчивый, однако с упрямыми нотками и с противным чешским акцентом. Короткие, отрывистые фразы. Позирование на героя, на сильную, волевую натуру военачальника, солдата и вождя.
Так сохранилось у меня в записках первое впечатление об этом человеке, сыгравшем особенно злую роль в русской трагедии десять лет тому назад. Первый раз я видел этого чеха в октябре 1918 года в Екатеринбурге, в одном небольшом военном кругу. Тогда Гайда проводил такую точку зрения: «Русский народ совсем не может иметь теперь, немедленно, парламента. Я в этом убедился, пройдя всю Россию и Сибирь в два конца. И от революции все устали, хотят порядка. По моему мнению, России нужна только монархия и хорошая демократическая конституция. Но теперь нельзя. Надо скорее военную диктатуру. Я поддержу своими полками, если найдется русский генерал, который возьмет власть на себя».
Но он оказался бессилен удержать части своей Чехословацкой дивизии на фронте и в конце концов увел их тоже в тыл. Тут вскоре у него начались скрытые распри с Сыровым – на почве личных вожделений и непомерного честолюбия. Гайда хотел играть первую скрипку. Сыровый мечтал стать вторым Жижкой.
Мнение адмирала о легионерах было совершенно отрицательное. И он не скрывал этого, часто с брезгливой усмешкой, называя их «ворами, трусами, дезертирами и изменниками». Однако предложение своих ближайших сотрудников – разоружить силою чешские полки и батареи – адмирал Колчак отклонял, ссылаясь на то, что тогда с «союзниками не избежать конфликта».
Во второй половине ноября приехали во Владивосток из Парижа генерал француз Жанен[43] и словак Стефаник,[44] первый министр чехословацкого правительства. Этот был из редких среди чехов людей, типа полковника Швеца.
Стефаника даже Бенеш рисует в своей книге «идеалистом» и человеком чести. Стефаник, увидев, что представляет собой чешское воинство, пришел в ужас. И он поставил себе задачей – ликвидировать Чешский национальный комитет, привести чешские воинские части в порядок, наладить в них дисциплину и подчинить их фактически командованию генерала Жанена. Во всем этом он встретил противодействие и среди своего командного состава, и у политических руководителей чехов, и в солдатской массе. Ничего не добившись, Стефаник скоро уехал обратно в Прагу. Перед отъездом он не скрывал перед нами своего возмущения всем виденным среди чехов и своей горечи за то бесчестье, которое легионеры вписали в первые страницы истории «свободной Чехословакии».
Жанен остался в Сибири. Чехи ему подчинялись только номинально. Жанен, безвольная и хитрая креатура, приехавший к тому же с особыми, тайными инструкциями, занял с самого же начала такую позицию: внешне он выражал адмиралу Колчаку почтение и преданность, а русской армии сочувствие и желание помогать, – на деле же, за нашей спиной, он поддерживал все дальнейшие подлости чехов, а может быть, даже и руководил ими.
С приездом Жанена «анабазис легионеров» окончился. Чехи требовали теперь все настойчивее от союзников вывоза их из Сибири морем для возвращения на родину: война с Центральными державами прекратилась и в Версале был рожден новый член Европы – Чехословацкая республика.
Верховный правитель адмирал Колчак и высшее русское командование поддерживали перед союзниками это желание чехов: нам было необходимо для успеха нашего отечественного дела убрать как можно скорее из Сибири этот вредный балласт, 50 тысяч разнузданных, ленивых, вороватых, вооруженных и враждебных России солдат.
Какое это было зло и какая угроза в тылу! Но, к несчастью, союзники не нашли возможным удовлетворить желание чехов. И эти банды были оставлены в Сибири, где они увенчали «анабазис» достойным концом.
Глава 5 Подготовка чешского предательства Ноябрь 1918 – ноябрь 1919 года
Сибирь. Моральный развал чешских легионов. Злоупотребление русским железнодорожным транспортом. Занятие чехами в тылу больших городов. Рост среди чехов скверных болезней. Особое значение Сибирской железной дороги. Чехи занимают ее до Иркутска. Резкое изменение настроения населения Сибири против чехов. Гайда и его интрига у адмирала Колчака. Характерные эпизоды. Весеннее наступление русской белой армии. Выявление лица Гайды. Неудача белых. Наглый выпад Гайды. Исключение его из рядов русской армии. Осеннее наступление белых. Перегиб истории. Пассивность чехов. Контратака красных. Оставление Омска. План новой кампании
Необъятные, на тысячи километров пространства плодородных степей, благословенный чернозем которых дает ежегодные урожаи без какого-либо удобрения почвы. Девственные леса тянутся к северу от степного пояса и занимают поверхность, превышающую во много раз всю Европу. На юг от степей проходят цепи могучих диких гор, почти не тронутых человеком. Среди них берут начала реки, которые широкими полноводными лентами тихо текут, пересекают материк через степной пояс и через девственные леса.
Тайгой зовут леса эти, полны они дичью и пушным зверем. Многоводные реки изобилуют разной рыбой, а в песке речном много россыпей золота. Горы поражают разнообразием и огромными запасами минералов, драгоценных камней, нефти и угля. Богат Божьими дарами край тот, и имя ему Сибирь.
Зима действительно там суровая и долгая, с начала ноября и по конец марта; пять месяцев покрыта Сибирь снегами, а около рождественских Святок трещат морозы выше 30 градусов Реомюра. Но зато какой несравненный чистый воздух, напоенный озоном! Какие единственные по красочности оттенки освещений! Какая зимняя охота и спорт!
Остальные семь месяцев года падают на весну, лето и осень. Летом в Сибири вызревает пшеница и так жарко, как в Южной Германии.
Население Сибири – деревня от деревни отстоит верст за тридцать – самостоятельные, крепкие люди, отличающиеся здоровьем, выносливостью и большой физической силой. Из-под густых бровей, сдвинутых вместе, смотрят серьезные серые глаза, стального оттенка. Твердо, упорно, с большой волей, отражая в прямом взгляде своем честность, веру в Бога и уверенность в себе. Потомки колонизаторов Сибири выработали поколениями свой негнущийся характер. В сибирской семье царит патриархальный уклад жизни и чистота нравов, соединенная с примитивными, близкими к природе отношениями. Искреннее гостеприимство и готовность всегда пойти на помощь отличают сибиряков. И даже революция своими вихрями не потрясла здесь ни прочности семьи, ни крестьянского общества. Нередко было увидеть в старой, рубленной из столетних сосен избе сибиряка-крестьянина в красном углу, пониже дедовских старых икон портреты четырех последних царей. Лето работают в поле, над нивой, или на реке, а зимние месяцы все мужчины – на лыжи, винтовки за плечи и в тайгу…
Такова наша Сибирь. Места, работы и Божьих даров там на всех достаточно, хватит на население в несколько сот раз большее, чем сегодня.
И вот в этой-то стране и разыгрался тот тяжелый акт русской драмы, в котором чехи сыграли преступную роль иуд-предателей.
С осени 1918 года части Чехословацкого корпуса двигались все более в глубокий тыл, чтобы там устроиться безопаснее и среди безоружного населения выжидать возможности эвакуации морем в Европу. Среди чешских масс все шире разливался процесс нравственного разложения, но зато параллельно с ним шло и усиление влияния чешских политиканов. А они, понятно, стали в скрыто враждебные, но непримиримые отношения к новой русской государственности, которая медленно, среди необычайных трудностей, налаживалась постепенно в Сибири адмиралом Колчаком и его сотрудниками. Молодая армия крепко стояла на отрогах Уральских гор.
Вся зима 1918/19 года прошла в передвижении частей Чехословацкого корпуса по железной дороге в тыл и в долгих уговариваниях со стороны французской миссии Жанена стать в тот или другой город или на станцию Сибирской линии. Все чехи стремились к большим, богатым сибирским городам, как Новониколаевск, Красноярск, Иркутск и Владивосток. Всю зиму эти 50 тысяч военнопленных, разжиревших на отличных сибирских хлебах, ровно ничего не делали.
Повсюду в Сибири можно было видеть этих парней. Наглое, одутловатое лицо, чуб, выпущенный из-под фуражки, по большевицкой моде. Развалистой, ленивой походкой сновали туда и сюда группы легионеров, и вечно все они тащили под рукой что-то завернутое в бумагу или платок. Все чехи были одеты щеголями – новая форма, сшитая из русских наворованных сукон, форсистые сапоги бураками, иногда лаковые, на руках перчатки. Нельзя не повторить, что многострадальная русская армия в то же время сражалась на Уральском фронте против большевиков и терпела во всем недостаток.
Как следствие разложения чешского войска, среди их солдат и офицеров появился огромный процент больных скверными секретными болезнями. Для них очистили госпиталя, оборудованные заботами и на средства «союзников» России; этими грязными больными наводнили все города, включительно до Владивостока. Мне лично пришлось наблюдать это на Русском острове, лежащем в океане, против Владивостока. Там была собрана группа русских офицеров и солдат, общей численностью 1500 человек, которые провели четыре месяца в горячей, напряженной работе для подготовки кадров для новых образцовых формирований. Результаты работы скоро сказались: был установлен порядок, введена воинская дисциплина, люди обратились снова в хороших, исполнительных воинов, сбросив с себя нездоровый революционный налет. И когда три батальона этих отборных людей, в тесных, сплоченных рядах, отбивая по-военному шаг, шли по улицам Владивостока, то впечатление получалось сильное.
В 2 верстах от моего офицерского батальона, на Русском же острове, помещался огромный, еще довоенного времени госпиталь, оборудованный теперь одной миссией для венериков-чехов. Первые недели приходилось наблюдать, как эти негодяи тянулись по белому снегу к нашим казармам и потом подолгу стояли, наблюдая со злобной и насмешливой миной лица за нашей работой, особенно за строевыми занятиями и за боевой подготовкой в поле. В противовес установившемуся у нас порядку эти чехи вели себя как бродяги, распущенно, нахально и грубо. Из-за этого возникали недоразумения, и нескольким чешским солдатам наши били морду. Как начальник гарнизона Русского острова, я принужден был отдать приказ, что впредь таких чешских солдат, нарушителей порядка и установленных правил воинской дисциплины, задерживать и предавать военно-полевому суду.
Полное бездельничанье и разгильдяйство среди чехов стали нормальными явлениями. Единственное было занятие – они развили торговлю и спекуляцию не только награбленным ранее имуществом, но и новыми товарами, привозимыми ими с Дальнего Востока. Для этой цели чешское командование и их политические руководители начали беззастенчиво использовать русскую железную дорогу, которая при всем напряжении не могла удовлетворить потребностей боевой русской армии, населения Сибири и нахлынувших туда волн беженцев Поволжья.
Довольствие 50 тысяч чехов брало одну треть всего наличного транспорта, обращавшегося тогда на Сибирской железной дороге, что давало на каждого чешского солдата по несколько десятков пудов ежемесячно. На действительные потребности войсковых частей Чехословацкого корпуса шла меньшая часть этого, – львиную часть транспорта составляли разные ходкие товары, поступавшие потом от чехов на сибирский рынок. Надо вспомнить, что Сибирь, после долгой войны и революции, испытывала большой товарный голод. Не удовлетворяясь этой спекулятивной, незаконной торговлей, чешские руководители скоро стали передавать за очень большие, понятно, деньги частным лицам, ловким спекулянтам, свое «право» на целые вагоны.
«Особенное признание должно быть по заслугам уделено хозяйственным, финансовым и культурным (?) работам нашей сибирской армии. На этом всего лучше обнаружился гений нашей (чешской) расы. В массе наших (чешских) войск отыскались скоро сильнейшие индивидуальности, которые сумели организовать и направить работу. Но эта работа была понята каждым рядовым солдатом и поддержана его содействием…» Так наивно и в то же время нагло заявляет руководитель чешской дипломатии, отделываясь общими фразами.[45]
Так вот, взглянем на фактическую сторону, как именно проявлялся в те ужасные годы страданий русского народа «гений чешской расы» в Сибири. Уже к зиме 1919 года возникло несколько громких судебных дел, – чешские руководители были пойманы в употреблении русского транспорта на незаконную торговлю. Однако Омское правительство оказалось принужденным потушить эти преступные случаи: не было достаточно сил, чтобы резко и круто прекратить преступления чехов, а союзнические миссии закрывали на них глаза, генерал же Жанен играл общую с чехами игру. Крикливая часть русской общественности, сочувствовавшая втайне большевикам, носила лишь маску преданности и единения с адмиралом Колчаком; эти люди, давние друзья Масарика, открыто поддерживали чехов. Армия же и русское население Сибири терпеливо ждали, когда эти «доблестные» легионеры-спекулянты уберутся вон из России.
Адмирал Колчак решил положить в будущем конец этому вопиющему безобразию. Он сдерживал себя до того времени, когда можно будет всех чехов выбросить во Владивосток, чтобы там перед их посадкой на суда произвести ревизию всех их грузов. К участию в этой ревизионной комиссии намечено было привлечь и представителей от союзных миссий, которые не могли бы уклониться от этого. И тогда преступление чехов стало бы во весь свой рост. Воров и грабителей уличили бы с поличным.
Это намерение адмирала Колчака стало известно чехам, повлияло сильно на их руководителей и заставило пойти на открытое предательство. Ясно, что чем крепче установился бы порядок в тылу, чем сильнее упрочилась бы там государственная организация, – тем неотвратимее была бы расплата для преступных чешских элементов. Данные же были налицо, что усиление государственности и порядка в Сибири, несмотря на все препятствия и трудности, шло верными шагами вперед. И виделся день освобождения, когда русская национальная мощь окрепнет в тылу, даст усиление боевому фронту и очистит всю Россию от разной преступной мерзости.
Вот тогда-то и состоялось тайное соглашение между чешскими руководителями, так называемым Чешским национальным комитетом, и русскими полубольшевиками, оставшимися тогда в Сибири в виде партии эсэров и сумевшими захватить в свои руки такие необходимые для жизни общественные органы, как кооперативы. Это соглашение перекинулось незримыми нитями из Сибири к большевикам, в Москву.
План предательства этим комплотом, зачатым Масариком еще в Киеве осенью 1917 года, заключался в следующем: чехи будут всемерно содействовать свержению правительства адмирала Колчака и переходу власти в руки партии эсеров (полубольшевиков), за что получат право вывоза всех своих грузов и ценностей, награбленных на Волге, на Урале и в Сибири. Такова основа соглашения. Рука руку моет…
Все это в то время проделывалось, понятно, в глубокой тайне; тогда мы не могли установить деталей и времени этого дьявольского плана, мы только угадывали его; лишь перед немногими государственными людьми тогдашней России ясно вырисовывалась нависшая смертельная опасность от «братцев»-чехов. Теперь, post factum, это ясно каждому, кто возьмет на себя труд познакомиться с событиями, происходившими в далекой Сибири в годы 1918–1920, кто отнесется к этим событиям объективно и добросовестно.
Объяснение сродства и той близости, что установились между чешскими политиканами и русскими полубольшевиками, мы находим и в книгах Масарика и Бенеша. Последний указывает и на истоки этой дружбы висельников. Вот что пишет он:[46] «Пребывание в Париже привело меня в круг русских революционеров 1905 года, которые произвели на меня глубокое впечатление. В годы 1900 и 1907 я вращался в обществе этих революционеров и был членом их союза. По возвращении в Прагу я оставался в связи с ними».
В сущности, полное соглашение между русскими полубольшевиками и чехами установилось давно, с первых дней революции, с марта 1917 года. С той поры велась и общая их разрушительная работа, направленная во вред России. Обе стороны боялись, что отечество наше встанет из революционных обломков и протянет руку Германии, протянет крепко, честно и напрочно, по-русски.
Бенеш, стоявший все время мировой войны у самого котла большой чешской интриги, отмечает,[47] какой страх царил во Франции в правительственных и общественных кругах в конце 1917 года и в начале 1918, – что Германия приложит все силы к соглашению и соединению с «новой Россией», то есть с той, которая должна была образоваться тогда же, после большевиков, на место царской России, рухнувшей в обломках революции. И дальше: какое облегчение испытывал Париж, когда его опасения не оправдались!..
Другой заправила интриги, старый Масарик, пытался это чувство страха в союзниках снова пробудить и усилить. В его книге[48] приведен меморандум, который он подал союзникам 10 апреля 1918 года в Токио, по возвращении своем из России. В пункте I Масарик советует союзникам признать большевицкое правительство de jure и de facto и даже поддерживать его. Дальнейшие 12 пунктов заключают обоснование к этому; в них чешский политикан призывает союзников к борьбе с Германией и Австро-Венгрией на русской почве, – выставляя как пугало, что германские агенты завладеют постепенно в России всем, начиная от промышленных акций и кончая прессой.
* * *
Союзники России, приехавшие помогать нам против большевиков, образовали железнодорожный комитет, который взял на себя явочным порядком регулировку вопросов эксплуатации дороги и движения на всем участке, от Омска до Владивостока. И хотя зачастую русские интересы, даже интересы боевого фронта, приносились в жертву различным интернациональным целям, которыми была пропитана вся интервенция 1918–1919 годов, русскому министру путей сообщения приходилось подчиняться.
Дело в том, что Сибирь не располагала ни одним заводом для постройки паровозов, вагонов и запасных частей. Все это заказанное и частью оплаченное еще царским правительством в Соединенных Штатах и Канаде было теперь обещано доставить и передать правительству адмирала Колчака. Во Владивосток прибыло большое количество запасных частей, осей и колес, несколько паровозов. Интернациональный железнодорожный комитет выдавал все это русскому министру путей сообщения, при условии его подчинения распоряжениям комитета. Можно видеть на одном примере чехов, как подобные отношения вредно отзывались на деле, как сильно мешали работе и вредили русским интересам.
Ведь только на этой почве наши бывшие военнопленные, составившие в 1917 году «союзные» войска чешские, а затем польские, румынские и т. п., захватили в свои руки огромное количество подвижного состава. Только за тремя чешскими дивизиями числилось 20 тысяч вагонов!
Исключительно лишь вооруженной силой можно было заставить этих «интервентов» вернуть захваченные паровозы и вагоны. А все русские войска были отвлечены на фронте, где с каждым месяцем борьба становилась интенсивнее, упорнее, тяжелее. Русским железнодорожникам приходилось принять факт этого ограбления и изворачиваться тем подвижным составом, который оставался в распоряжении русского министра путей сообщения.
Сибирская магистраль тянется на тысячи верст и проходит густою тайгой или беспредельными степями. Большевики и их агенты в Сибири направили все внимание на эту важнейшую артерию, питавшую армию и страну, обеспечивавшую также вывоз сырья. Они организовали несколько больших банд, которые, укрываясь в тайге, в глухих местах, производили оттуда систематические нападения, устраивали крушения поездов.
Чтобы иметь крепче и вернее железную дорогу в своих руках, Интернациональный железнодорожный комитет решил поставить свои войска на охрану ее: от Владивостока до Байкала – японцы, около Байкальского озера – 30-й американский полк и румыны, участок Иркутск – Томск – Новониколаевск – три чешские дивизии, Новониколаевск – Барнаул – Бийск – поляки.[49] Чехи не хотели долгое время становиться на охрану, но союзники припугнули их, что не дадут им в будущем морского транспорта в Европу. Тогда легионеры подчинились приказу.
Но охрана железной дороги неслась ими крайне своеобразно. Если учащались случаи нападения банд на какой-либо участок со стрельбой, с убийствами часовых и с крушениями поездов, то усиливались караулы, ловили нескольких разбойников, вешали их, а банду отгоняли в тайгу. И на этом успокаивались. Когда местная русская власть предлагала им дело довести до конца, преследовать банду и уничтожить ее с корнем, – получался стереотипный ответ:
– Это не наше дело…
Если же большевицкие банды после этого производили повторные нападения на караулы, то чехи устраивали так называемую карательную экспедицию. На угрожаемом участке чешские «охранители порядка» сжигали два-три богатых сибирских села – за их якобы отказ выдать преступников-бандитов.
Это вызывало вполне понятное страшное озлобление мирного крестьянского населения, сыновья которого сражались за русское национальное дело в рядах белой армии. Чехами разжигалась вражда, и ряды большевицких шаек пополнялись. На всех станциях железной дороги, от Иркутска до Томска и Новониколаевска, были чешские коменданты, которые гнули спины перед представителями Антанты, были сдержанно вежливы по отношению к русским властям и проявляли недопустимое высокомерие и хамское пренебрежение к русскому населению.
Таково было положение на Сибирской железной дороге в то время, когда роль ее выдвигалась на первое место и приобретала огромное значение в деле обеспечения успеха в великой русской отечественной задаче.
К весне 1919 года чехов разместили вдоль железной дороги по квартирам. Но они заявили, что поездов, 20 тысяч вагонов, они не отдадут; чешское командование выставило к этим вагонам, нагруженным краденым добром, усиленные караулы. Все это делалось под покровительством чешского главнокомандующего, французского генерал-лейтенанта Жанена.
* * *
В середине марта 1919 года на меня было возложено поручение адмиралом Колчаком осмотреть гарнизоны всех больших городов Сибири. Проездом из Владивостока некоторые из них я посетил вместе с английским генералом Ноксом. В Иркутске нас пригласил к себе командующий войсками округа, генерал-лейтенант Артемьев. Во время разговора он развернул перед нами ужасную картину разнузданности чехов-легионеров и вреда, приносимого ими населению. Старый боевой русский генерал-лейтенант трясся от гнева и от сдерживаемого негодования – поставить на место эту трусливую, развращенную массу чехов, которых в свое время взял немало в плен и корпус генерала Артемьева в Галиции и в Польше.
Представитель Великобритании Нокс, который был отлично в курсе всего, который и сам возмущался в интимном кругу воровством и разнузданностью чехов, теперь только пожимал плечами и говорил, что надо терпеть, так как «в будущем чехословацкие войска могут-де принести пользу».
Ненависть и презрение к дармоедам, обокравшим русский народ, призвавшим его к совместной борьбе с большевиками, а потом трусливо спрятавшимся в тыл, возрастала в массах населения сибирских городов, в деревнях и в армии. Проезжая по улицам Иркутска, Красноярска и Новониколаевска, я обращал внимание Нокса на пестревшие на заборах во многих местах надписи мелом и углем: «Бей чехов! Спасай Россию».
Нокс пожимал плечами и бормотал что-то о несдержанности русского народа.
Весну, лето и начало осени 1919 года чехи провели в тылу Сибири. Ни одна чешская часть, ни один легионер не принял участия в борьбе против большевиков.
Как было упомянуто ранее, сейчас же после переворота 18 ноября 1918 года, чехи заняли по отношению к адмиралу Колчаку враждебную позицию. Только Гайда прислал ему в первый же день телеграмму с выражением своей преданности и готовности поддержать его. Этот жест усилил еще более расхождения между чешскими генералами. Положение Гайды сделалось очень непрочным, так как Чехословацкий национальный комитет стал всецело на сторону Сырового. Гайда представил все дело адмиралу Колчаку так, что его-де, за преданность русскому верховному правителю, выживают с высокого командного поста. Колчак, поддавшись своему доброму сердцу и импульсивности характера, сделал чеху почетное предложение – занять пост командующего 1-й Сибирской армией. С низким поклоном и со словами льстивой благодарности принял Гайда милость высокого русского военачальника. Таким образом Гайда вступил в ряды русской армии и был зачислен в нее чином генерал-майора.
Лучшим русским обществом и офицерством эта весть была принята как унизительная пощечина. Уже и тогда ходили в Сибири слухи, что Гайда самозванец, что он на самом деле бывший фельдшер, обманным способом принявший чин офицера при его дезертирстве из австро-венгерской армии в Черногорию. Но эти слухи опровергались официально, а адмирал Колчак, поверивший Гайде безгранично, запретил распространение их под угрозой суровой кары. Чехи же скрывали правду, по вполне понятным причинам.
Теперь, по истечении десяти лет, положение вещей выяснилось. Оказывается, в этом человеке все ложно, начиная с имени.[50] Не Radola Gaida, а Rudolf Geidl, окончил курс четырех гимназических классов в Богемии в 1908 году. Два года затем он изучал при университете косметику, после чего поступил фармацевтом в аптекарскую лавку.
Начало мировой войны застает Гейдля в австро-венгерской армии на должности санитарного унтер-офицера. В 1915 году он в плену у черногорцев и здесь решает назвать себя доктором Гайдой, по специальности врачом. Черногорцы поверили ему, и из фармацевта вылупился врач. Гайда служит на этой должности в черногорской армии до ее конца в 1916 году. Тогда он решает перекочевать в Россию. На итальянском корабле отплывает в Одессу и под именем Радоля Гайды вступает в чешские войска. Здесь предприимчивый и не стесняющийся ничем чех доходит быстро до верха, заняв вскоре место начальника дивизии и генерала. Адмирал Колчак не только принял этого проходимца на русскую службу, не только доверил ему командование русской армией и осыпал его наградами, но и считал своим другом.
Ранней весной 1919 года белые армии предприняли наступление с Уральского фронта к Волге. Порыв был очень смелый и сильный, молодые войска, составленные главным образом из добровольцев, горячо рвались в бой. Высокая идея – спасение отечества – руководила тем порывом. Последовал ряд боев и блестящих успехов; в течение марта и апреля Западная армия генерала Ханжина продвинулась до Волги, сделав по плохим весенним дорогам в общем протяжении 500–600 верст, с тяжелыми боями.
Красные полчища бежали перед натиском белых. Вот если бы в то время Чехословацкий корпус поддержал хотя бы частью своих сил это блестящее наступление, то с большевизмом в России было бы покончено. Но чехи и не пошевелились. Более того, Сибирская русская армия, вверенная адмиралом Колчаком чеху Гайде, в это горячее и решающее время бездействовала, хотя и была по своему составу более чем в полтора раза сильнее Западной армии. В течение марта и апреля в Сибирской армии не было ни одного боя. Гайда сосредоточил свои главные силы на направлении Пермь – Глазов – Вятка – Котлас, надеясь отсюда быстро войти в связь с английскими силами, бывшими в то время в Архангельске, и занять Москву. Уже в то время честолюбивые планы безмерно высоко заносили мысли этого типичного авантюриста.
Никакая сила не могла заставить Гайду сдвинуться с этого направления, чтобы ударом на юг поддержать усталую Западную армию и ее успехи обратить в решительную победу. К несчастью и на собственную гибель, адмирал Колчак верил тогда еще в этого чеха, в его дутую репутацию военачальника, верил этому человеку без совести, без чести и даже без собственного имени.
Следующая сценка записана у меня из тех дней весны 1919 года.
«Гайда, со своим начальником штаба, генералом Богословским, приехал в эти дни в Омск с докладом. Мастерски сделанные схемы наглядно показывали, какую силу представляет из себя теперешний состав Сибирской армии, ее организацию, группировку и намеченное увеличение. Гайда горячо отстаивал свою идею движения на Вятку, доказывая, что, взявши ее и Казань, очень легко будет дойти до Москвы.
После доклада верховный правитель оставил всех нас обедать; разговор за обедом не касался этого вопроса и шел на самые обыденные темы. Но затем, уже вечером, в кабинете адмирала остались он, Гайда, с начальником штаба Богословским, генерал Д. А. Лебедев и я. Снова мы стали доказывать необходимость приложить все силы, чтобы развить наступление на Поволжье и соединиться с Добровольческой армией; иначе вставала угроза, что Западная армия не выдержит. Вставал призрак катастрофы.
Здесь впервые прозвучали те ноты, которые вскоре мне пришлось слышать в Екатеринбурге. Гайда стал очень искусно затушевывать и преуменьшать сделанное Западной армией, восхваляя в то же время общий стратегический план, вспоминая и рассказывая эпизоды из своей армии, набрасывая широкие перспективы занятия им Казани, Вятки, соединения с Архангельском, легкой подачей оттуда английского снаряжения и товаров. Нарисовал положение Москвы, которая легко и скоро будет занята тогда Гайдой. Все это он пропитывал струйкой тонкой, умелой лести, вплетая уверения о своей беспредельной преданности верховному правителю, и делал это так искусно, что только постороннее внимание могло заметить неискренность и затаенную мысль.
Разговор все делался интимнее и ближе. Часовая стрелка подходила ко времени отхода поезда Гайды. Перед самым отъездом адмирал Колчак обнял его, расцеловал и, обращаясь к остальным, сказал слова совершенно неожиданные и глубоко нас поразившие:
– Вот что, послушайте, – он обратился, называя Д. А. Лебедева и меня, – я верю в Гайду и в то, что он многое может сделать. Если меня не будет, если бы я умер, то пусть Гайда заменит меня.
Было больно слышать и видеть, как после этого Гайда, этот очень хитрый и очень волевой человек, склонился к плечу адмирала, чтобы скрыть выражение своего лица, – торжествующая улыбка змеилась на его тонких губах; тихим, неслышным нам шепотом что-то нашептывал он в самое ухо верховному правителю.
Вскоре Гайда уехал; вопрос о координации действий Западной и Сибирской армий остался нерешенным».
Укрепив свое положение у Колчака, Гайда постепенно снова сблизился и вошел в тесные сношения с Чешским национальным комитетом. Этим политическим интриганам было необходимо использовать положение Гайды в своих целях. Играя на чрезмерном, нездоровом честолюбии, они легко вошли в доверие и окружили его своими людьми, введя их в штаб, захватив в руки своих сторонников такой важный и жизненный отдел, как информационный, типографии и все средства пропаганды Сибирской армии.
В начале мая пишущий эти строки был командирован адмиралом Колчаком в Екатеринбург для инспекции там новых формирований Сибирской армии.
Те дни и последняя встреча с Гайдой записаны у меня так:
«Печать Екатеринбурга и Перми, – захваченная, как почти всегда, либералами и социалистами, – вела искусную кампанию. День ото дня все усиливая, пели они дифирамбы Гайде, восхваляя его демократизм, называя его спасителем России, единственным человеком, способным на это великое дело. И опять Москва выставлялась как близкая заветная цель. Гайда должен войти в Москву первым!
Вскоре приехал в Екатеринбург и верховный правитель, который в эти тяжелые дни старался личным присутствием помочь на фронте. К приходу его поезда на станции собрались все высшие чины, был построен почетный караул, пешая часть и какие-то конные в фантастической форме, что-то среднее между черкесской и кафтаном полковых певчих. В стороне важно и неприступно прогуливался Гайда, изредка подходя к кому-либо из старших начальников и обмениваясь короткими фразами. Очень интересный и показательный разговор был у меня с ним.
– Что это за часть? – спросил я, показывая на всадников в коричневых кафтанах, расшитых галунами.
– То мой конвой.
– Что за оригинальная форма у них?.. Сами придумали?
– Нет, та форма, генерал, исторична.
– Это еще почему?
– Ибо всегда в Руссии все великие люди, ваш император, Николай Николаевич, все имели коуказский конвой. Я думаю, что если войти в Москву, то надо иметь и мне тоже такой конвой.
– Что же, они у вас с Кавказа набраны, ваши коуказские люди?
– Нет, мы берем здесь, только тип чтобы близко подходил к коуказскому…
На носках приблизился ординарец и почтительно доложил Гайде:
– Поезд подходит, брате-генерале!
Так было принято у Гайды, по-чешскому. Чтобы больше на демократа походить.
Подана команда «на караул». Оркестр играет «Коль славен». Из вагона выходит адмирал Колчак, слегка сгорбленный, с бледным исхудавшим лицом и остро-блестящими глазами, от бессонных ночей на фронте. Губы плотно сжаты, опустились углы их, и около легли две глубокие складки тяжелых дум. Рапорт… Обходит ряды почетного караула, смотря, по своей привычке, пристальным взглядом в лицо каждого солдата.
– Спасибо, братцы, за отличный вид!
– Рады стараться, ваше… ство-о-о…
– Я только что объехал геройские полки Западной армии; им трудно, на них обрушились свежие части коммунистов. Но, даст Бог, одолеем врагов России. Надо только помочь нашим…
– Рады стараться, ваше… ство-о-о! – гремит ответ в воздухе. И все лица смотрят радостно и возбужденно.
Затем адмирал с Гайдой и еще с несколькими лицами проехали в штаб армии. Здесь начальник штаба, генерал Богословский, сделал оперативный доклад по последним сводкам; положение было таково, что само собою напрашивалось решение. Западная армия несколько отступила, и теперь Сибирская армия имела фронт впереди, сильно выдалась и как бы нависла с севера на фланге у красных. Ударить отсюда сильно, – и полчища большевиков снова побегут к Волге.
Верховный правитель сдавался на это решение, но снова зазвучал тихий, размеренный и настойчивый голос Гайды, снова пошли уверения, что нельзя нарушать плана, что помощь Западной армии гадательна, а здесь он наверняка-де возьмет Казань и Вятку. И опять вопрос остался нерешенным.
Затем был смотр корпуса, который формировался в Екатеринбурге и составлял резерв Гайды. Как курьез: в него входил «бессмертный батальон имени генерала Гайды» с коричневыми погонами и шифровкой на них: «Б. Б. И. Г. Г.». У всего корпуса были нашивки на руках «черно-красный угол», как в дни керенщины. Медленно и внимательно обходил адмирал Колчак все части, держа все время руку у козырька фуражки; остро-пронзительно вглядывался он в каждое лицо, как будто хотел запомнить его, как будто хотел передать свою волю, свою горячую любовь к отечеству и желание спасти его. После обхода части прошли церемониальным маршем. Вид людей был хороший, да и обмундирование вполне сносное; подготовка еще не закончилась вполне, но для развития успеха вместе со старыми частями можно было послать и эти.
После обеда у Гайды, в его особняке, верховный правитель, усталый донельзя и от парада, и от стратегических споров, уехал. Вопрос о Сибирской армии был решен так, что она будет продолжать выполнение своего прежнего плана, движения на Вятку – Котлас. Между прочим, Гайда в этот день говорил лично мне, что может взять город Глазов (на этом направлении) в любую минуту; действительно, там было сосредоточено силы более половины его армии.
– Что же вы не берете?
– Сейчас еще не своевременно. Прикажу взять, когда надо будет.
По долгу русского офицера – я доложил об этих словах Гайды адмиралу Колчаку. И снова горячо убеждал его заставить хитрого чеха помочь нашей Западной армии переходом в энергичное наступление главными силами на юг. Верховный правитель выслушал меня, печально кивая опущенной головой. Когда он поднял ее, я увидал впервые в его глазах такое большое горе. И он тихо, не улыбаясь, произнес:
– А вы знаете, что английский король прислал Гайде, через генерала Нокса, орден Бани?
И устало махнул рукой…»
* * *
Белая русская армия генерала Ханжина, не поддержанная Сибирской армией Гайды и ослабленная двухмесячными боями, не смогла сдержать натиска большевиков, которые бросили все свои силы на Волгу. Как раз в это время Гайда отдал приказ своим войскам перейти в наступление и занять город Глазов. Это было выполнено легко, почти без потерь. Но впечатление в тылу получилось сильное, – еще бы, успех всегда дает радость, а особенно на фоне других неудач!
Однако большевики, навалившись на Западную армию, разбив ее наступление на Волгу и оттеснив за реку Белую, сосредоточили теперь удар своих главных сил на Сибирскую армию Гайды. И сейчас же вслед за взятием Глазова начались у него неудачи, которые с каждым днем принимали все больший размер и обратились наконец в катастрофу. В некоторых частях Сибирской армии, подпавшей пропаганде чешских и доморощенных политиканов, начались восстания и переход на сторону большевиков; это сопровождалось, как всегда в таких случаях, избиением многострадального русского офицерства.
Гайда использовал эти затруднения по-своему. Он прислал в Омск, минуя верховного правителя, прямо в кабинет министров ноту, в которой излагал, что причина неудач лежит не на нем, а в неумелом руководстве армиями; он грозил, что дело погибнет, если не передадут управление всеми русскими силами ему, Гайде. Особенно он нападал на начальника штаба верховного правителя, на генерала Лебедева. Тон ноты был угрожающий, – что-де если не подчинят все армии Гайде, то он или уедет совсем, или повернет штыки своей армии на Омск.
Там поднялась большая тревога. Адмиралу Колчаку пришлось ехать самому в Екатеринбург, на свидание с Гайдой; оттуда оба они вернулись в Омск. Здесь шли долгие колебания, переговоры, а Сибирская армия в это время отходила все дальше. Верховный правитель хотел прогнать Гайду, так как уже выяснились почти все его закулисные замыслы и интриги, как равно и связь его с чешскими политиканами. Но в конце концов адмирал не решился на этот крайний, как тогда ему казалось, шаг и пошел на уступки. Гайде была подчинена Западная армия – в оперативном отношении.
Но действия приняли такой оборот, что через два дня уже пришлось этот приказ отменить. «Бессмертный батальон имени генерала Гайды» перешел на сторону большевиков; это печальное явление повторялось почти ежедневно на различных участках фронта Сибирской армии. Неудача ее, вместо обещанных легких успехов, действовала удручающе на войска и на население, а усиливавшаяся пропаганда большевиков и их агентов в Сибири ввергла массы снова в крайне нервное состояние, полное волнений и брожения. Этим и объясняются измены воинских частей и переход их на сторону большевиков. Все это происходило как раз в то время, когда внутреннее положение в соседней Западной армии, командование которой в те тяжелые дни адмирал Колчак возложил на меня, становилось все прочнее; чисто народное движение против большевиков увеличивалось там с каждым днем. И в моей армии не было ни одного случая измены.
Сибирская армия, так недавно еще сильная и многочисленная, таяла и исчезала. Кроме указанных выше причин, много способствовало этому безостановочное отступление, почти без попыток образовать резервы и переходом в наступление остановить натиск красных. Без боев была оставлена Пермь с заводами, с потерей огромного количества снабжения, складов, с потерей всей нашей речной флотилии. Эта безнадежность, вытекавшая из полного неумения и неспособности фармацевта-генерала, действовала на сибирские части все хуже и хуже.
В эти дни верховный правитель решил устранить от командования Гайду и заменить его другим лицом. Гайда пытался противодействовать, выступил снова с угрозами, отказался подчиняться. Тогда адмирал Колчак издал приказ об увольнении Гайды в отставку, с лишением его права носить русский мундир.
В особом поезде, увозя все свои ценности, в сопровождении близких ему клевретов, под покровительством Чехословацкого национального комитета и француза Жанена выехал авантюрист Гейдль, минуя Омск, во Владивосток. И там засел он до осени.
* * *
Мы справились в те дни с бедой. Сибирь – эта страна неиссякаемых источников, страна будущего, – дала силы, а русская выдержка все переборола. Вместе с отходом вглубь Сибири мы производили необходимые реформы, пополняли свои ряды и готовились к новому периоду нашей отечественной борьбы.
В тот 1919 год в Сибири была очень мягкая и запоздалая осень. Золотые дни, румяные закаты, нежные зори, и даже ночи были теплые, лишь с легким дыханием приближающейся зимы. Необозримые поля Западной Сибири убегали к бледно-голубому горизонту, волнуясь и переливаясь пышными темно-золотыми колосьями созревших хлебов. Урожай был тогда повсюду на редкость обильный. Теплая, сухая осень напоминала собою весну и была очень подходящим временем для широких активных действий.
Наши армии снова перешли в наступление и ударили по большевикам. Весь сентябрь и начало октября, без перерыва, мы успешно атаковали красных и разбили в ряде боев их силы. Армия, действовавшая на главном направлении, вдоль железной дороги Челябинск – Уфа – Самара, была под моим командованием. Три корпуса ее гнали в течение сентября красных от реки Ишима до Тобола, преследовали их на протяжении более 200 верст. Операции закончились полным успехом. Но дались они нам нелегко, потери убитыми и ранеными почти обескровили мою армию. Мы были принуждены, прогнав красных за Тобол, остановиться на этом рубеже, чтобы пополниться, дать частям отдых и снабдить их теплой одеждой для предстоящего зимнего похода.
В штаб моей армии поступали сведения о состоянии большевиков в те дни: их полк, во время учения за Тоболом, разбежался при появлении кучки конных, принятых красными за наших казаков. А пленные красноармейцы и перебежчики от них показывали в один голос:
– Вся Красная армия решила, что, коли белые будут дальше гнать, дойдем до Челябинска с боями, а там все рассыпемся, разбежимся и комиссаров перебьем…
Опять был момент перегиба истории. Поддержи нас чешские легионеры, хотя бы одной дивизией, хотя бы всего 10 тысячами из 50, – то красных не существовало бы, не было бы и угрозы 3-го Интернационала над всем миром. Русский народ был бы освобожден от кровавой его диктатуры. Но обленившиеся и заплывшие жиром банды чехов предпочитали сидеть в тылу, охраняя с оружием в руках наворованное добро.
А большевики, понимая опасность создавшегося положения, все силы направили против нас, бросили все, что было свободного в резервах, снимая части с других фронтов. В середине октября начались снова ожесточенные кровопролитные бои. Моя армия, не успевшая получить пополнений, таяла с каждым днем. Наконец, на четвертый день непрерывных боев, красным удалось переправиться через Тобол, прорвав растянутый фронт нашего левого фланга. Нестерпимо мучительно было переживать те дни, когда кучки наших храбрецов, только что совершивших победоносный марш к Тоболу, были принуждены из-за халатности тыла и преступного предательства отступать снова на восток.
Весь октябрь и ноябрь шли неравные бои. Большевики не потеряли времени даром. Они влили в свои ряды пополнения, усилились свежими частями и были числом сильнее нас во много раз. Наши белые армии отходили все более на восток, отбиваясь на каждом рубеже, терпя жестокие лишения. Начиналась сибирская зима, а наши части были только наполовину снабжены теплыми вещами и полушубками. Зато чешские склады и вагоны ломились от награбленного русского сукна, обмундирования и теплых вещей.
15 ноября большевики заняли Омск, бывший все время столицей правительства адмирала Колчака. Под прикрытием отступавшей армии спешно производилась эвакуация на восток в поездах по железной дороге всех раненых, больных, семей офицеров и добровольцев, а также и военных грузов.
Наш план заключался теперь в том, чтобы уйти на зиму в Восточную Сибирь, спасти кадры армии и удержать ими на зиму фронт в дефиле примерно на линии Мариинска. В течение зимы провести решительные меры для водворения порядка в тылу, извлечь из него все боеспособные элементы, пополнить ряды армии и весною 1920 года повести новое, решительное наступление на Волгу для освобождения Москвы.
План этот был тем выполнимее, что массы населения России и Сибири, познавшие на себе всю жестокость и всю нежизненность большевицкого режима, оказывали нам свою полную поддержку. Для выполнения этого плана в руках отечественных русских сил были три данных, три основы: живая сила армии, выдержавшей все испытания, ее вождь, адмирал Колчак, вера в которого не поколебалась до конца, и государственное русское золото, поезд которого, тридцать полных вагонов, сопровождал адмирала.
И все эти последние русские ценности были погублены предательством чешских легионов.
Глава 6 Чешское предательство Ноябрь 1919 – февраль 1920 года
Паническое бегство чешских легионов. Закупорка ими Сибирской магистрали. Трагедия русских санитарных и беженских поездов. Мероприятия адмирала Колчака. За кулисами чешского предательства. Восстание, поднятое чехами во Владивостоке. Гайда во главе его. «Меморандум» чехов. Мнение современника. Отъезд адмирала Колчака от армии. Арест его чехами в Нижнеудинске. Пять флагов союзников. Восстание в Иркутске. Чехи выдают адмирала Колчака революционерам. Цена крови. Приказ большевицкого комиссара Смирнова о расстреле. Приказ передается чехами. Награда чехам от революционеров. Обращение чехов к населению Сибири. Предательство чехами русской армии. Приближение белых к Иркутску и ультиматум чехов. Ненависть Сибири и армии к легионерам. Жестокости легионеров по отношению к военнопленным. Расстрел музыкантов судетско-немецкой капеллы в Хабаровске. Расправа в Красноярске с пленными венгерскими офицерами
Как испуганное стадо животных, кинулись панически на восток чешские воинские части при первых серьезных неудачах на нашем фронте, когда русские армии отступили за Омск. Разнузданные солдаты чешских легионов, доведенные пропагандой Чехословацкого национального комитета и потакательством их главнокомандующего Жанена почти до степени большевиков, – силой и угрозами оружия отбирали паровозы от нечешских эшелонов.
Наиболее трудным участком железной дороги сделался узел станции Тайга; на магистраль здесь выходила Томская ветка, на которой была расположена самая худшая из трех чешских дивизий – 2-я. Ни один поезд не мог пройти восточнее станции Тайга. На восток от нее двигались бесконечной лентой исключительно одни чешские эшелоны, увозившие не только откормленных на сибирских хлебах, здоровых и сильных мужчин, дезертиров и военнопленных, но и награбленное ими на многие сотни миллионов долларов русское имущество. Число чешских эшелонов было непомерно велико, – надо вспомнить, что на 50 тысяч чехов было ими захвачено свыше 20 тысяч вагонов.
Западнее станции Тайга образовалась железнодорожная пробка, которая с каждым днем увеличивалась. Из русских эшелонов, стоявших западнее Новониколаевска, раздавались мольбы, а затем понеслись вопли о помощи, о присылке паровозов. Помимо риска попасть в лапы красных, вставала угроза смерти в нетопленых вагонах от голода. Завывала свирепая сибирская пурга, усиливался и без того крепкий мороз. На маленьких разъездах и на перегонах между станциями стояли десятки эшелонов с ранеными и больными, с женщинами, детьми и стариками. И не могли их продвинуть вперед, не было даже возможности подать им хотя бы продовольствие и топливо. Положение становилось поистине трагическим: тысячи страдальцев русских, обреченных на смерть, – а с другой стороны десятки тысяч здоровых чехов, стремящихся ценою жизни русских спасти свою шкуру.
Командир Чехословацкого корпуса – Ян Сыровый – уехал в Красноярск, их главнокомандующий, глава французской миссии, генерал-лейтенант Жанен, сидел уже в Иркутске. Все мероприятия русского министра путей сообщения, инженера Устругова, – невзирая на его кипучую деятельность и полную самоотверженность на самых трудных местах, – оставались безрезультатными. Одичавшая от страха чешская толпа дезертиров продолжала бесчинствовать. На телеграммы адмирала Колчака к Сыровому и Жанену с требованием прекратить гнусные безобразия Чехословацкого корпуса оба отвечали, что они бессильны остановить «стихийное» движение. Ян Сыровый вскоре принял недопустимо наглый тон, примешивая к своим отговоркам обвинения русского правительства в его «реакционности и недемократичности».
В те дни начала декабря 1919 года наступило для русских людей и армии самое тяжелое время. Все усилия, жертвы и подвиги за весну, лето и осень в борьбе с красным интернационалом были подвергнуты страшному испытанию. И мы вышли бы из него с успехом, если бы не этот предательский удар в спину от «братушек»-чехов… Удар этот был нанесен в самый критический момент. Это, поистине, каиново дело корпуса чешских легионеров. Новый «анабазис»!
Вот краткое описание со слов очевидца происходившей тогда трагедии на железной дороге к западу от станции Тайга.[51]
«Длинной лентой между Омском и Новониколаевском вытянулись эшелоны с беженцами и санитарные поезда, направлявшиеся на восток. Однако лишь несколько головных эшелонов успели пробиться до Забайкалья, все остальные безнадежно застряли в пути.
Много беззащитных стариков, женщин и детей были перебиты озверевшими красными, еще больше замерзло в нетопленых вагонах и умерло от истощения или стало жертвой сыпного тифа. Немногим удалось спастись из этого ада. С одной стороны надвигались большевики, с другой лежала бесконечная, холодная сибирская тайга, в которой нельзя было разыскать ни крова, ни пищи.
Постепенно замирала жизнь в этих эшелонах смерти. Затихали стоны умирающих, обрывался детский плач, и умолкало рыдание матерей.
Безмолвно стояли на рельсах красные вагоны – саркофаги со своим страшным грузом, тихо перешептывались могучими ветвями вековые сибирские ели, единственные свидетели этой драмы, а вьюги и бураны напевали над безвременно погибшими свои надгробные песни и заметали их своим белым саваном.
Главными, если не единственными виновниками всего этого не передаваемого словами ужаса были чехи.
Вместо того чтобы спокойно оставаться на своем посту и пропустить эшелоны с беженцами и санитарные поезда, чехи силою стали отбирать у них паровозы, согнали все целые паровозы на свои участки и задерживали все, следовавшие на запад. Благодаря такому самоуправству чехов весь западный участок железной дороги сразу же был поставлен в безвыходное положение».
Русский народ проклял тогда чехов, совершавших это позорное каиново дело.
Верховный правитель, адмирал Колчак, пытался все время остановить безобразия легионеров. Их главарю Сыровому было заявлено, что если чехи не перестанут своевольничать, то русское командование пойдет на самые крайние меры. Одновременно командующему войсками Забайкальского военного округа генералу атаману Семенову был послан шифрованной телеграммой приказ – занять все тоннели на Кругобайкальской железной дороге: а в случае, если чехи не изменят своего образа действий, не прекратят своеволий, будут так же панически-нагло рваться на восток, то приказывалось один из тоннелей взорвать. На такую крайнюю меру верховный правитель пошел потому, что чаша русского терпения переполнилась: чешские полки начали пускать в дело оружие, отнимая все паровозы, не пропуская теперь ни одного поезда, кроме своих, на восток – в своем стремлении удрать скорее к Тихому океану.
«Мотивы предательства чехами эшелонов с русскими беженцами, т. е. с ранеными, больными и семьями офицеров и добровольцев, будут понятны, если мы обратимся к цифрам, – пишет[52] один из авторитетных очевидцев, генерал-лейтенант ***. – Цифры же говорят нам следующее: более 50 процентов имевшегося в руках чехов подвижного состава было занято под запасы и товары, правдами и неправдами приобретенные ими на Волге, Урале и в Сибири. Для эвакуации этих запасов были захвачены чехами все паровозы. Тысячи русских граждан, женщин и детей были обречены на гибель ради этого проклятого движимого имущества чехов. Не будет преувеличением сказать, что русской кровью пропитан каждый фунт кофе, каждый кусок хлеба и тюк товара, вывезенные из Сибири в Чехию».
Но этого мало. Чехам для завершения их дьявольского плана было необходимо предать на уничтожение и русскую государственность, то есть власть адмирала Колчака, признанную в то время всей национальной Россией; им надо было погубить и русскую армию. Для этого Чешским национальным комитетом были организованы в тылу армии восстания.
Первое восстание было поднято во Владивостоке (17 ноября 1919 года). Гайда, этот герой темных интриг, живший во Владивостоке в отдельном вагоне, под особым покровительством некоторых «союзных» миссий и чешских политиканов, сформировал штаб, собрал банды чехов и русской голытьбы, главным образом портовых рабочих, и поднял бунт, открытое вооруженное восстание. Сам Гайда появился в генеральской шинели, опять без погон, призывая всех к оружию за новый лозунг: «Довольно гражданской войны. Хотим мира!»
Средство, испытанное Лениным и Троцким еще осенью 1917 года, приведшее к развалу русской армии…
Но на другой же день около Гайды появились «товарищи», его оттерли на второй план, как лишь нужную им на время куклу. Были выкинуты лозунги: «Вся власть Советам! Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика!»
На третий день бунт был усмирен учебной инструкторской ротой, прибывшей с Русского острова; банды рассеяны, а Гайда с некоторыми из его сотрудников арестованы. Да и не представлялось трудным подавить это восстание, так как оно не встретило ни у кого поддержки. Народные массы Владивостока были поголовно против бунтовщиков.
Адмирал Колчак послал телеграмму-приказ: судить всех изменников, и в том числе Гайду, военно-полевым судом, причем в случае присуждения кого-либо из них к каторжным работам верховный правитель, на основании его права, в той же телеграмме повышал это наказание – до расстрела.
«Чехи, для выручки своего агента, – пишет генерал-лейтенант ***, – прибегли к излюбленному шантажному приему – запугиванию союзников и Розанова возможным вооруженным выступлением чешских солдат на выручку Гайды».[53] И, к сожалению, командовавший тогда Приморским военным округом генерал Розанов проявил излишнюю непонятную мягкость, приказа не выполнил, а донес по телеграфу, что должен был, вследствие требования союзных миссий, передать Гайду и его начальника штаба чеха Гусарека чехам, на поруку их генерала Чечека.
Когда владивостокские газеты отозвались о Гайде по его заслугам, как о трусе и авантюристе самой низкой марки; о том, что он оставил свою родину австрийским фельдшером с несколькими кронами в кармане, а возвращается теперь туда чешским генералом и очень богатым человеком; что, видимо, чехи имеют понятие о доблести и чести совсем иное, чем все прочие люди, то дипломатический представитель Чехословакии выступил с требованием прекратить нападки на Гайду, – ввиду его «прежних заслуг перед Россией…».
На это в русских газетах был дан ответ, что заслуг за Гайдой перед Россией не числится. Но если бы даже такие заслуги и были в прошлом… то не следует забывать, что до своего предательства и Иуда Искариот был апостолом Спасителя…
Чтобы покончить с этим печальным и гнусным эпизодом, остается упомянуть, что руководителем всего заговора был Гирса. Чешский штаб снабжал заговорщиков оружием и снаряжением. Для своей пропаганды и на расходы по восстанию Гайда сумел мошенническим путем, при помощи подложного ордера, получить из Русской кредитной канцелярии 300 тысяч иен.[54] Доктор Гирса, состоявший официальным представителем новорожденной Чехословацкой республики при Омском правительстве, послал после падения Омска Гайде во Владивосток телеграмму следующего содержания: «Начинайте, все готово».
Все относится к тому, что Бенеш в своей книге отмечает как особые заслуги чехов в Сибири, на которых всего лучше обнаружился «гений их, чешской, расы».
Почти одновременно с восстанием во Владивостоке появился так называемый меморандум чехов, за подписями доктора Гирсы и Б. Павлу, обращенный ко всем «союзным правительствам». Более наглого вмешательства в чисто русские внутренние дела нельзя себе представить. Чехи, то есть те, кто проявил себя как воры, трусы и дезертиры, говорили в этом меморандуме языком законности и высшего права, они надели маску гуманности – и требовали или вывоза их на родину, или «предоставления им свободы воспрепятствования бесправию и преступлению, с какой бы стороны они ни исходили»…
В начале меморандума эти обогатившиеся русским добром и золотом политические шулера обращаются к «союзным державам с просьбой о совете, каким образом чехословацкая армия могла бы обеспечить собственную безопасность и свободное возвращение на родину, вопрос о чем разрешен с согласия всех союзных держав…».
Далее говорится о произволе русских военных органов, об «обычном явлении расстрелов без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности», «об ответственности за все это перед судом народов всего мира, почему мы, имея вооруженную силу, не воспротивились этому беззаконию…».
Это точные цитаты из документа. И все в них – от начала и до конца – ложь, даже касательно расстрелов так называемой русской демократии, то есть полубольшевиков и им сочувствующих.
К сожалению, это было не так, – ибо если бы действительно это широко применялось, то был бы жив до сих пор наш вождь, адмирал Колчак, существовала бы его армия и сумела бы она освободить многострадальную Россию от кровавых натисков интернационала. И тогда чехи действительно стояли бы перед судом народов мира, но за воровство, за предательство, за насилия и убийства безоружных.
Во всем меморандуме правда лишь в его начале, – а именно в просьбе совета, каким образом чешским эшелонам выбраться из Сибири на родину и вывезти все захваченные богатства. Цель же меморандума была одна – оправдать заранее участие чешских войск в мятежных и изменнических восстаниях.
И цепь этих гнусных предательств чехов продолжалась. Генерал-лейтенант *** пишет об этом так:[55]
«Чехи лгут, ссылаясь на стихийность всего происшедшего. Хаос на Сибирской железной дороге был создан самими же чехами, притом совершенно преднамеренно, по заранее разработанному плану.
Как ни тяжело сложилась обстановка на железной дороге, но значительную часть погибших эшелонов спасти все же было возможно.
Начать с того, что, по местным условиям, большевики не могли наступать быстро, тем более что уцелевшие части Сибирской армии далеко не потеряли своего высокого воинского духа.
Войска, совершившие в 40-градусный мороз легендарный поход через всю Сибирь и дошедшие до Забайкалья, не будь у них в тылу анархии, созданной чехами, конечно, смогли бы оказать наступлению красных более или менее упорное сопротивление. Независимо от сего, в Новониколаевске находилась вполне боеспособная и дисциплинированная польская дивизия. Большевицкие отряды вдоль линии железной дороги были сравнительно немногочисленны. Здоровые, сытые чехи, имевшие броневые поезда, без особого труда могли обеспечить железную дорогу от их нападений. Что касается до восстаний в Красноярске и Иркутске, то последние были организованы при ближайшем содействии самих чехов».
Чтобы обеспечить свой выезд из Сибири со всем награбленным имуществом, золотом и деньгами, чехам было необходимо свалить правительство адмирала Колчака и помочь большевикам уничтожить русскую армию.
К великому несчастью, адмирал Колчак тогда продолжал все еще относиться с доверием к военному представителю Франции, генералу Жанену. Он дал себя уговорить и, вопреки настойчивому предупреждению своих ближайших помощников, отделился от армии, поехал вперед с пятью поездами, один из которых был полон золотого российского государственного запаса. Адмирал сделал величайшую ошибку, за которую заплатил жизнью своей, а мы разгромом наших сил.
Чехи пропустили поезда адмирала на восток, но уже за Красноярском были допущены только два поезда. И сейчас же вслед за тем в этом городе было поднято восстание с тем же лозунгом, что и во Владивостоке: «Довольно гражданской войны!..» Этим восстанием адмирал был отрезан от армии.
Когда поезда адмирала Колчака подошли к станции Нижнеудинск, то они оказались окруженными чешскими ротами с пулеметами. Это произошло 18 декабря 1919 года. Небольшой конвой адмирала приготовился к бою. Но верховный правитель России запретил предпринимать что-либо до окончания переговоров. Он хотел лично говорить с Жаненом.
Напрасно штаб адмирала добивался этого «высокого представителя союзной страны», делая попытки пригласить его к прямому проводу. Жанену было некогда. Он не мог выбрать времени, чтобы переговорить с верховным правителем России! Жанен стремился скорее выехать из Иркутска на восток.
В Иркутске самом, после выступления чехов против Колчака, власть, с их же опять-таки помощью, была захвачена полубольшевиками, под названием Политический центр. Верные правительству войска после двухдневных боев на улицах города были принуждены отступить на восток, ввиду явно угрожаемого положения, занятого легионерами. Чехи предательски напали на отряд генерала Скипетрова, высланный из Читы атаманом Семеновым на помощь Иркутску. Чехи, окружив этот отряд, обезоружили его, причем в награду себе за это новое предательство они присвоили денежный ящик отряда.
Жанен прислал адмиралу Колчаку телеграмму, в которой, среди обычных учтивостей, он просил адмирала – для его же благополучия – подчиниться неизбежному и отдаться под охрану чехов. Иначе он, генерал Жанен, снимает с себя всякую ответственность. Как веский аргумент, для убеждения адмирала и его приближенных, в телеграмме Жанена было высказано, что адмирал Колчак будет охраняться чехами под гарантией пяти великих держав. В знак чего на окна вагона – единственного, который чехи ему и свите предоставили, – были по приказу Жанена навешаны пять флагов: великобританский, японский, американский, чешский и французский.
Конвой верховного правителя был распущен. Охрану несли чехи. Но понятно, это была не почетная охрана вождя, а унизительный караул пленника.
Один из современников и участников большой сибирской драмы, который может стоять вне подозрений в реакционности и антидемократичности, так рассказывает об этом предательстве:[56] «Восстание в Иркутске началось, когда Жанен и чехи решили избавиться от адмирала Колчака и заменить его эсеровской властью. Цель их была – дать чехам возможность бесконтрольно вывезти из России их имущество и ценности. Еще раз, накануне своего ареста в Нижнеудинске, адмирал Колчак послал во Владивосток телеграфный приказ о проверке огромного имущества, товаров и ценностей, вывозимых чехами на родину. Никаких переговоров Жанен о пропуске вагона адмирала Колчака не вел, да и надобности не имел, так как вся магистраль восточнее Иркутска была в его руках».
Поезд с вагоном адмирала Колчака и золотой запас медленно подвигались на восток. На станции Черемхово, где находятся большие каменноугольные копи, была сделана первая попытка со стороны большевиков овладеть этими обеими ценностями. Большевики-рабочие, уже вооруженные к тому времени с помощью чехов, захватили власть в Черемхове и потребовали выдачи им адмирала Колчака и золота. Чешскому коменданту было предписано свыше уладить этот инцидент и пойти на компромисс, допустив к участию в охране также и отряд рабочей Красной гвардии.
Когда подъезжали к Иркутску, тот же чех – комендант поезда предупредил некоторых офицеров из свиты адмирала, чтобы они уходили, так как дело безнадежно. На вопрос, какая же именно грозит опасность, ответа не было дано. А когда адмирал потребовал этого ответа, то чешский комендант попросту уклонился и доложил, что ему ничего не известно, что генерал Сыровый ведет переговоры по прямому проводу с Жаненом, находящимся на станции Байкал.
В полной неизвестности прошла ночь. Утром вагон с адмиралом был подан на станцию Иркутск и поставлен на запасном пути на задний тупик. По словам сопровождавших адмирала лиц, чувствовалось, что нависло что-то страшное, молчаливое и тяжелое, как самое гнусное преступление. Верховный правитель, увидев на путях станции Иркутск японский эшелон, послал туда с запиской своего адъютанта, старшего лейтенанта Трубчанинова; но чехи задержали его, вернули в вагон и не дали возможности исполнить поручение. Японцы не предприняли ничего, так как они верили заявлению генерала Жанена, что охрана чехов надежная и что адмирал Колчак будет в безопасности вывезен на восток. Это заявление мне лично было сделано спустя несколько месяцев со стороны японских официальных лиц.
Чины свиты адмирала Колчака так передают дальнейший ход событий.
Около 4 часов дня чешский офицер явился к адмиралу и заявил, что решено выдать его революционному правительству Иркутска.
– Почему?! – спросил адмирал Колчак, и его пылающие глаза смотрели прямо на чеха. Тот опустил свой взор и забегал им по сторонам.
– Революционные власти Иркутска ставят выдачу вас условием пропуска всех чешских эшелонов за Иркутск. Я получил приказ о вашей выдаче от нашего генерала Сырового…
– Но как же, мне генерал Жанен гарантировал безопасность?.. А эти флаги?! – показал адмирал Колчак на молча и убого висевшие флаги – великобританский, японский, американский, чешский и французский…
Чех молчал, потупясь в землю, не смея поднять глаз.
– Значит, союзники меня предали! – вырвалось у адмирала.
Через некоторое время в вагон вошли представители этой новой революционной власти, полубольшевики, в сопровождении конвоя от своей Красной гвардии. Чехи передали им верховного правителя России. В сопровождении нескольких адъютантов адмирала Колчака повели пешком в городскую тюрьму города Иркутска. Туда же отправили и его премьер-министра Пепеляева.
«Революционная власть города Иркутска торжественно заявила, что она назначает Чрезвычайную комиссию для расследования преступлений адмирала Колчака и его премьер-министра Пепеляева, виновных в преследовании демократии и в потоках пролитой крови».
А. Гутман-Ган определяет, что «голова адмирала Колчака была залог в руках чехов». Искусная инсценировка «народных восстаний с помощью эсеров (полубольшевиков) была проведена чехами, чтобы генерал Жанен мог представить верховным союзным комиссарам бесспорные факты народной воли, требующей свержения белой диктатуры». Гутман-Ган устанавливает, что Жанен и чехи были связаны между собой общностью интересов и солидарностью действий.
Со стороны большевиков – которых никто не может заподозрить в единомыслии с нами, белыми, – есть также свидетельства низости и подлого предательства чехов. Председатель Иркутского революционного комитета Ширямов пишет: «Голова адмирала Колчака должна была служить выкупом за свободный уход чехов на восток».
Другой, еще более видный большевик, председатель Сибирского революционного комитета Смирнов, в его книге «Борьба за Урал и Сибирь» приводит договор, заключенный между ним и чешским командованием на станции Куйтун в 9 часов утра 7 февраля 1920 года, Пункт 5 этого договора гласил: «Чешские войска оставляют адмирала Колчака и его сторонников, арестованных Иркутским революционным комитетом, в распоряжение советской власти, под охраной советских войск и не вмешиваются в распоряжения советской власти по отношению к арестованным».
В тот же день Смирнов послал в Иркутск телеграмму с приказом расстрелять адмирала Колчака. Большевик Смирнов говорит об этом так:[57] «Нас отделяло от наших товарищей в Иркутске пятьсотверстное расстояние. Каким же образом нам удалось сноситься с осажденными в Иркутске товарищами? И даже по такому щекотливому вопросу, как судьба верховного правителя? К немалому нашему удивлению, чешское командование, давая нашей делегации провод для сообщения в Иркутск о ходе мирных переговоров, не чинило препятствий к передаче вышеуказанной телеграммы Иркутскому революционному комитету о расстреле адмирала Колчака».
Доктор Гирса и Богдан Павлу взывали к суду народов всего мира, готовясь к этому кровавому и подлому преступлению, замыслив уже его.
Характерно, что новая власть в Иркутске, которой чехи предали адмирала Колчака и русский золотой запас, образовала так называемый Политический центр – из харьковского шибера Фельдмана, Косминского и поручика-дезертира. Первое распоряжение этой новой опереточной всероссийской власти, опиравшейся на чешские штыки, был приказ их министра финансов Патушинского, переданный по телеграфу управляющему Владивостокской таможней Ковалевскому: «Беспрепятственно и без всякого досмотра пропустить к погрузке на пароходы все, что пожелают вывезти чехи, ввиду их заслуг перед Россией».
Ведь все это факты документальные! А создатели Чехословацкой республики и новой чехословацкой нации, при жизни вознесшие друг друга в «великие», Масарик и Бенеш, не только умалчивают о них, но ложью вводят общественность в обман.
Впоследствии, уже дойдя до Владивостока и приготовляясь к выезду из Сибири, чешские политики выпустили обращение к населению Сибири. В нем они заявляют, что, взяв адмирала Колчака под свою охрану, чехи предали его «народному суду не только как реакционера, но и как врага чехов, так как адмирал приказал атаману Семенову не останавливаться перед взрывом тоннелей, для того чтобы задержать чешское отступление на восток».
Не отступление, а позорнейшее бегство с наворованным имуществом! И не адмирал Колчак, а с его согласия я, бывший в те дни главнокомандующим войсками Восточного фронта, отдал распоряжение атаману Семенову не останавливаться перед взрывом тоннелей на Кругобайкальской железной дороге.
Каждая черточка всех этих действий чехов, их попыток обелить себя путем нот и обращений – перлы не только самой беззастенчивой подлости, но и наивности, граничащей с глупостью. Это А. В. Колчак-то реакционер! Да если отчего он и погиб, отчего рухнуло и возглавляемое им русское отечественное дело, так это главным образом оттого, что он делал слишком много уступок, терпел крен налево и всю низость «чешской демократии», допускал на русской территории самовольство чешского командования, не пресек суровыми мерами – вплоть до военно-полевых судов – распущенности чешского войска, распущенности, перешедшей, как было показано в настоящей главе, в преступления.
За все это адмирал Колчак заплатил своей кровью, которая не столько на большевиках, сколько на руках чешских политиков и дипломатов.
* * *
Предатель-чех не ограничился этим, он вонзил нож в спину русского воина, которого он раньше осмеливался лицемерно называть святым словом «брат».
Чешские политики, оперировавшие своей пятидесятитысячной распущенной солдатней, взорвали тыл Сибири рядом восстаний, лишив белую армию ее базы и коммуникации. Это было проделано как раз в то время, когда армия напрягала все силы, чтобы задержать вторжение большевиков в Сибирь.
Когда в армии стало известно об этом, когда докатились слухи, что в ряде городов чернь, под руководством и при участии чехов, захватила власть, когда железная дорога перестала питать войска на фронте, когда, наконец, стало известно, что сам верховный правитель России и русский золотой запас захвачены чехами и отвезены в Иркутск, то было решено оторваться от наступавших большевиков и быстрыми переходами направить армию на восток, к Иркутску. Была поставлена цель – как можно скорее достичь этого пункта, выбить из него бунтовщиков, освободить адмирала Колчака, золото и богатые иркутские склады, соединиться с Забайкальем и затем, западнее Иркутска, образовать новый фронт против большевицкой Красной армии.
Это была не простая задача, а один из труднейших маневров военного искусства. Обстановка создалась чрезвычайно трудная. С запада преследовали нас части регулярной Красной армии. С востока выдвинулись на главнейшие рубежи полубольшевицкие банды, чтобы перехватить наше движение на Иркутск. Эти банды были отлично и богато снабжены и вооружены из иркутских складов. Железная дорога была захвачена чехами и для армии не действовала. Стояла зима с крепкими сибирскими морозами, а вдобавок ко всему наша армия не имела достаточного количества ни теплой одежды, ни боевых припасов.
Тем не менее армия пробила себе путь на восток, имея ряд боев с большевиками, пережив много критических дней, понеся большие потери. Подробно об этом писать здесь нет места.[58] 7 февраля 1920 года авангард моей армии занял с налета станцию Инокентьевскую, лежащую в нескольких километрах от Иркутска. Это было сделано до того неожиданно, что мы захватили там большевицкую артиллерию, не сделавшую ни одного выстрела, а большевицкие обозы принимали наши части за свои.
Всю ночь проработали над планом и подготовкой взятия Иркутска. Подтягивались главные силы. На следующий день подошла и 2-я наша армия. И в то же время грянуло, как гром среди ясного неба, ужасное известие, что 7 же февраля во дворе Иркутской тюрьмы был большевицкими комиссарами расстрелян верховный правитель России, адмирал А. В. Колчак. Почти одновременно с этим известием был доставлен документ за подписью начальника 2-й чешской дивизии, занимавшей в то время Иркутск, полковника Крейчего, в нем заключался наглый ультиматум, предъявленный остаткам белых армий: в случае боя против иркутского предместья Глазово чехи угрожали выступить вооруженно против нас на стороне большевиков.
Был собран военный совет старших начальников. На нем выяснилась печальная картина, что у наших войск, прошедших с боями через Сибирь, оставалось в среднем по 10–15 патронов на стрелка и почти не было совершенно артиллерийских снарядов. Большинство начальников высказалось за решение обойти Иркутск с юга и, перейдя по льду Байкальское озеро, направиться в Читу на соединение с силами атамана Семенова.
После этого случая ненависть, которую легионеры сумели возбудить к себе, возросла до крайних пределов. Чехи воочию доказали, что они, поднявшие когда-то восстание против большевиков, идут теперь вместе с ними против русских, против России.
Остатки многострадальной русской армии, проделавшей Ледяной поход, принесшей все возможные жертвы для спасения отечества, шли теперь и дальше по снегам Сибири пешком и в санях; а рядом русскую железную дорогу заняли вооруженные до зубов наши же военнопленные, бывшие дезертиры, трусы и воры – с гордым именем «чешские легионеры». Еще раз русский народ проклял их. Имя чех стало в Сибири ругательством!
Чехи не только везли в своих поездах награбленное многомиллионное имущество, но также оружие и патроны для большевицких банд, которые с их помощью большевики организовывали теперь и в Забайкалье. Чехи перевозили регулярно большевицкую почту из России в Харбин и Владивосток. В их же поездах находили себе убежище большевицкие агенты и комиссары, те, которые впоследствии захватили власть в Забайкалье и Приамурье.
Закончу эту главу описанием случая, свидетелем и участником которого пришлось мне быть. После стычек с большевицкими бандами, уже перейдя через Байкальское озеро, части моей армии заняли большой рабочий поселок Петровский Завод. На базаре чешские офицеры и солдаты проходившего эшелона продавали русские предметы обмундирования и солдатскую обувь. А как раз перед тем мною был отдан приказ, запрещающий это делать нашим солдатам под угрозой предания военно-полевому суду. Наш патруль, высланный от егерей на базар, отобрал от чехов казенные вещи. Те начали ругаться и грозить силой. Тогда наши егеря выгнали чехов с базара плетьми.
Через несколько часов разведка доставила сведения, что в эту ночь чехи собираются выступить против нас с целью обезоружить мои части, как это им удалось сделать с отрядом генерала Скипетрова.
Были приняты меры, чтобы обезопасить себя. Выставили усиленное сторожевое охранение, сильные заставы, на станцию железной дороги были направлены патрули. Старшему чешскому начальнику было послано от моего штаба требование, чтобы впредь ни один чех не смел входить в поселок. В каждой воинской части было приказано иметь всю ночь дежурные роты и сотни в полной готовности.
Когда ночью я проверял свои части, то нашел, что все люди поголовно не спали. Все ждали, сжимая винтовки в руках, выступления чехов. Настроение наших было самое бодрое, приподнятое и даже радостное.
«Эх, хорошо бы, если бы чехи выступили! Надо им намять бока. Довольно поизмывались они над Россией». Так говорили наши офицеры, солдаты и казаки.
Чехи пробовали своими дозорами пробраться в Петровский Завод. Но, отогнанные нашими заставами, отошли назад и выступить, к сожалению, не решились.
Настроение, подобное описанному, было не только у войск. Все русские в те годы сжимали в руках винтовки на предателя-чеха. И только то, что страны-союзницы взяли их под свое покровительство, остановило расправу в то время. Но она придет…
* * *
Оценка и характеристика действий чешских легионов в Сибири была бы не полна, если бы не упомянуть, как эти вооруженные банды военнопленных и дезертиров вели себя по отношению к другим военнопленным, к немцам и венграм, как они расправлялись с ними на русской территории. Понятно, всестороннее освещение этих темных дел чехов должно составить предмет специального исследования. Соответствующие немецкие и венгерские учреждения заняты сбором материалов и, надо думать, не замедлят с его обработкой и опубликованием.
Ряд писем, воспоминаний, фотографий и документальных описаний отдельных случаев имею под рукой и я, получив все это уже здесь, за границей, от немцев, австрийцев и венгров, бывших в те годы нашей отечественной борьбы в Сибири. На основании этих документов, после поверки их, я считаю необходимым дополнить характеристику действий чехов в Сибири еще установлением, что они на нашей Русской земле творили неслыханные, возмутительные, зверские жестокости и насилия над беззащитными своими бывшими товарищами.
Это действительно заслуживает того, чтобы быть поставленным перед судом всех цивилизованных и культурных народов… как то в свое время в ноябре 1919 года взывали лицемеры и лжецы, руководители чешских орд.
Естественно, что мне самому не приходилось в Сибири сталкиваться с этими уродливыми жестокостями чешских легионеров, так как в наших районах, где были русские власти, там чехи не смели их проявлять из боязни ответственности и наказания; в наших районах военнопленные были под охраной закона. Но в самом начале борьбы, когда русская власть еще не была организована, или позже, на охране железной дороги, если чехи случайно становились хозяевами положения, то они были зверски жестоки по отношению к пленным немцам и венграм.
Я ограничусь приведением лишь нескольких выдержек из имеющегося у меня материала, полагая это достаточным по объему и содержанию книги. И в уверенности, что за нею последует обширное и подробное изложение всех случаев.
Расстрел музыкантов судетско-немецкой капеллы в Хабаровске
Документ подписан очевидцем, Августом Шульце, попавшим в плен 26 августа 1914 года, после затопления малого германского крейсера «Магдебург». Штигхорст при Билефельде, № 152.
В начале октября 1915 года казаки выгнали большевиков из Хабаровска и захватили город. Начались аресты и расстрелы всех подозрительных в большевизм. Вместе с казаками вошли в город и чешские легионеры. Среди них особой жестокостью отличался Елинек, занимавший командный пост.
Однажды на главной улице послышались громкие крики и шум толпы. Август Шульце, поспешивший туда, увидел, как чехи гнали по улице музыкантов судетско-немецкой капеллы Паризека, игравшей обычно в кафе «Чашка чая». Чехи избивали их нагайками, особенно свирепствовал Елинек, грозя музыкантам расстрелом.
Попытки русских обывателей Хабаровска, мужчин и женщин заступиться за избиваемых, указать Елинеку на его ошибку – что все это были безобидные музыканты, которые играли для русского Красного Креста, – успеха не имели. Похвалы же подливали только масла в огонь. И русские получали в ответ от зазнавшегося чеха: «Смотрите, и вам всыплю нагаек. А если не успокоитесь, и вас расстреляю!»
Русские обыватели и с ними вместе Август Шульце провожали процессию на берег Амура. Там несчастные музыканты, едва державшиеся на ногах, были поставлены к цоколю памятника, и Елинек обратился к ним с вопросом: «Согласны ли вы стать чехами?» Музыканты ответили на предложение решительным отказом. Тогда Елинек отдал приказ стрелять. После нескольких залпов немецкие военнопленные лежали на земле в крови. Кто еще шевелился, были приколоты штыками. Трупы этих зверски убитых людей были брошены чехами в реку. Август Шульце заканчивает свой рассказ тем, что видел он много случаев, когда военнопленные различных лагерей, а также и русские люди были убиты чехами. «Военнопленные, выводимые чехами из лагеря, должны были сами для себя копать могилу. Когда яма была достаточной глубины, копавшие застреливались чехами во время работы. О подобных жестокостях чехов можно было бы исписать томы».
«В местностях, занятых чехами, от них высылались специальные патрули, для осмотра и для обыска деревень. Если в них находили военнопленных венгров, которые жили часто целые годы рабочими у крестьян, сжились с ними, деля мирный крестьянский труд, – чехи забирали таких военнопленных, сгоняли их в одну кучу и избивали. Заступничество и просьбы русского крестьянского населения не помогали. Иногда достаточно было, чтобы человек говорил по-венгерски, чтобы он подвергся аресту чешского патруля и почти всегда следующему затем расстрелу! Каждый из вернувшихся на родину военнопленных венгров передавал рассказы о зверствах чехов».
Расстрел венгерских военнопленных офицеров
«20 июля 1919 года в Красноярске, который в то время был глубоким тылом нашей белой армии, возник в одном из запасных полков бунт, под влиянием большевицкой пропаганды. Для усмирения взбунтовавшихся были направлены небольшие белые части, бывшие в том районе. Весь день продолжалась стрельба, и бунт был подавлен. Русские власти сделали с самого начала заявление в лагере военнопленных, что их никто не тронет, если они будут сидеть тихо и спокойно.
Но вечером вступил в лагерь 12-й чешский легион и арестовал всех членов «венгерского объединения», организации, существовавшей с разрешения русских властей. Ночью 17 венгерских офицеров были выведены чехами в поле, поставлены около большой ямы и расстреляны в спину. Остальные военнопленные были спасены благодаря энергичному вмешательству шведского Красного Креста и его ходатайству перед адмиралом Колчаком».
Глава 7 Возвращение на родину
Сосредоточение чехов в Харбине и Владивостоке. Ограбление чехами Иркутска. Русский золотой государственный запас. Договор чехов с большевиками. Захват железной дороги. Отношение чехов к русским. Убийства. Два документа по поводу воровства чехами 32 вагонов автомобильных шин. Грабежи и вандализм чехов. Погрузка краденого на транспорты для отправки. Открытое обвинение в воровстве. Ответ чешского дипломата в Токио
Итак, длинною цепью предательств и преступлений чешские политики подготовили свой отъезд из Сибири на родину, в Чехословакию, это новорожденное дитя Версаля. И возвращение не просто как-нибудь, а с полными кошельками, набитыми полновесным русским золотом или ценной иностранной валютой. Бедные, голодные и худые военнопленные превратились в раскормленных «героев», отягощенных имуществом самого разного вида и рода. В далекой, богатой Божьими дарами и патриархальной Сибири развернулась эта сказка наших дней.
После предательства русской государственности, армии и адмирала Колчака первые чешские эшелоны вышли в полосу отчуждения Китайско-Восточной железной дороги и добрались до Харбина. Вот как отмечает это прибытие очевидец:[59]
«Интересную картину представлял Харбин в дни прохода чешских эшелонов. Прежде всего, прибытие чехов отмечалось резким падением рубля. Китайские менялы сразу учитывали, что на рынок будет выброшено много рублей, и играли на этом. Меняльные лавки были полны чехами, менявшими русское золото и кредитки на иены и доллары. На барахолке шла бойкая распродажа движимого имущества, начиная от граммофонов и швейных машин и кончая золотыми брошками и браслетами.
На станции железной дороги распродавались рысистые лошади и всякого рода экипажи».
Передав в руки Иркутского революционного комитета верховного правителя России, адмирала Колчака, сдав Политическому центру российский золотой запас, чехи перед отъездом из Иркутска захватили наличную кассу казначейства и клише экспедиции заготовления государственных бумаг – для печатания денежных знаков. Купюры эти они начали усиленно печатать в пути и во Владивостоке, преимущественно билеты тысячерублевого достоинства.[60]
Генерал-лейтенант *** отмечает это так в своей брошюре:[61]
«Чехословацкие отряды, как документально установлено, конфисковали в Иркутском казначействе значительную партию бумажных денежных знаков, на довольно значительную сумму, которую точно определить очень трудно. Деньги были упакованы в мешках и в специальном багажном вагоне отправлены на восток. Вес этих мешков, наполненных деньгами, определяют в несколько десятков пудов. Реквизированы главным образом вновь выпущенные 200-рублевые выигрышные займы и 5000 руб. казначейские обязательства. Большое количество этих знаков попало на харбинский денежный рынок, где появление их вызвало панику на местной бирже».
Кроме того, в разоруженном около Иркутска бронированном поезде генерала Скипетрова конфисковано было чехами 8 миллионов рублей, которые ими забраны под видом «военной добычи».
Охрана золотого запаса чехами была установлена – после ареста верховного русского правителя – своя. По прибытии золота в Иркутск оказалось, что один вагон, наполненный ящиками, содержавшими золотые монеты 5-рублевого достоинства, всего тысячу пудов, и находившийся под охраной чешских солдат, совершенно расхищен.
Номинальная стоимость украденного золота составляет свыше 25 миллионов золотых рублей. Кроме того, чехи, доставив остальное золото в Иркутск, сдали его «под расписку» Политическому центру, то есть трем проходимцам, ими же поставленным к власти; Политический центр принял золотой российский запас от чехов не считая.
Во всяком случае, падение цен на золото и на золотые монеты, отмеченное в те месяцы в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги, объясняется именно тем обстоятельством, что на рынке появились в огромных партиях золотые монеты, которые спешно разменивались чехами проходивших эшелонов на американскую и японскую валюту. Китайцы-менялы, которыми кишат специальные кварталы всех китайских городов, были сначала ошеломлены этим наплывом золота и даже сначала приняли его за фальшивые монеты. После пробы, убедившись, что это полноценное золото, они бросились скупать его по пониженным ценам.
Особенно богаты были передние чешские эшелоны, где ехало высшее чешское командование и все эти политические руководители, ближайшие сотрудники и по сегодня господ Масарика и Бенеша. У них-то наиболее пышно расцвел найденный последним «гений чешской расы».
Задние эшелоны растянулись, естественно, далеко на запад, ибо продвижение всех 20 тысяч вагонов требовало времени. А в это время все пространство на запад от Иркутска бродило уже большевизмом. Трусливое чешское стадо не подумало о единственной честной возможности – соединиться с белой русской армией и дать большевикам отпор. Руководители чехов во главе с Яном Сыровым остались верны себе до конца. Они пошли с комиссарами на мировую сделку и заключили упомянутое выше условие на станции Куйтун.
Этот позорный документ был вывешен большевиками на всех больших станциях железной дороги. В нем, кроме пункта 5 о выдаче большевикам адмирала Колчака, были еще обязательства чехов разоружать белые отряды, выдавать белых офицеров и добровольцев, устанавливалось расстояние между последним чешским эшелоном и регулярной Красной армией в один перегон, обязательство чехов по проходе не портить железнодорожные мосты и инвентарь станций.
А кроме того, чехи обязались помочь большевикам путем снабжения местных красноармейских банд оружием и боевыми припасами. Чехи возили в своих поездах большевицких агентов; было тогда же установлено, что они провезли, например, видного коммуниста Виленского, руководителя борьбою против атамана Семенова и будущего комиссара всего Забайкалья.
Бесконечно тяжело было положение многих русских офицеров, добровольцев и их семей, которые почему-либо отбились от нашей армии, двигавшейся усиленными маршами на выручку адмирала Колчака к Иркутску. Эти люди, по большей части больные или старые, а также женщины и дети должны были ехать в санях одиночным порядком. Так как «русских» поездов не было, вся железная дорога была захвачена чехами и набита их эшелонами, то естественно, что многие обращались с просьбой о месте в вагоне к чешским офицерам, рассчитывая на их самое примитивное благородство.
Чехи имели в своих поездах мест более чем достаточно; не надо забывать, что на 50 тысяч чехов было 20 тысяч вагонов. Им не стоило ничего принять в свои эшелоны несколько тысяч отбившихся от армии русских.
Но всего чаще на эти просьбы следовал грубый и циничный отказ. Иногда чехи принимали в свои поезда таких пассажиров, но затем на одной из ближайших станций выдавали их большевикам – для расстрела.
За разрешение проехать в нетопленом конском вагоне чехи брали от 5 до 15 тысяч рублей. От женщин они требовали золотые вещи, то, что еще осталось последнее у несчастных при себе. Но и плата не обеспечивала жизни и доставления в Забайкалье, где была в то время безопасная от большевиков зона.
Генерал-лейтенант *** приводит случай, имевший место около станции Оловянная.[62] Там из проходящего чешского эшелона было сброшено с моста в реку Онон три мешка. В этих мешках оказались трупы русских женщин, принятых чехами в свой эшелон, а потом, после надругательств, убитых чешскими солдатами. Нет возможности установить хотя бы приблизительно синодик замученных, погубленных и преданных чехами в Сибири, за этот период их движения к океану для отправки на родину.
На станцию Яблоновую, в Маньчжурии, явились однажды в период эвакуации чехов хунхузы, с требованием, чтобы находящаяся там крупная лесная концессия внесла им немедленно 300 иен. На протест управляющего концессией против такого сверхобычного побора предводитель хунхузов вежливо объяснил, что из проходящего мимо эшелона чехи продали хунхузам два пулемета с лентами и требуют немедленной уплаты.
Управляющему концессией – так сообщает газета «Дело России» (1920. № 13) – осталось подчиниться. Деньги были даны, и пулеметы получили от чехов хунхузы.
Дойдя до Владивостока, чехи стали постепенно, по мере предоставления им «союзниками» транспорта, грузиться на суда, стаскивая сюда же и награбленное имущество. Никто не мог защитить интересы нашего народа и страны, так как все русское национальное было тогда уничтожено или принуждено было скрываться, остатки белой русской армии совершали свой тяжелый поход через Сибирь, а затем отстаивали Забайкалье; временно у власти оказались полубольшевики. Эти люди были слеплены из одного теста с чешскими политиками, и они помотали чехам дополнить их запасы, не забывая и себя.
«Они расхищают частное имущество, частные грузы, частью отдают их чехам по баснословно дешевой цене, частью грузят при содействии чехов на иностранные пароходы, будто в советскую Россию». Так писали в те дни газеты Дальнего Востока.
Потому-то не было возможности не только защитить от вороватых чешских рук русское имущество, но даже собрать все документы о том, зарегистрировать все. Только частью удалось тогда выполнить эту задачу некоторым русским людям, по своей частной инициативе.
На этом ведь и был построен весь расчет чешской банды, – они надеялись, что все им сойдет с рук безнаказанно. Для того они и предали на убийство главного свидетеля – адмирала Колчака.
Ниже два таких документа, помещенные в газете «Дело России» (1920. № 10):
«Верховному контролю чеховойск. Товариществу российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», г. Владивосток.
В 1918 году, апреля 26-го дня, было отправлено из Петрограда за пломбами товарного двора тридцать два вагона груза, принадлежащего товариществу «Треугольник» и содержащего в себе резиновые автомобильные и грузовые шины. При следовании в пути, в мае месяце 1918 года, груз находился на станции Чишма, около Уфы, в период наступления на эту местность чеховойск. При оккупации этой местности и в виду потребности чеховойск в автомобильных и грузовых шинах для военной цели весь означенный груз, в количестве тридцати двух вагонов, был реквизирован отрядом чеховойск и продвинут на станцию Челябинск, а затем далее, на станцию Екатеринбург, в адрес технической авточасти чеховойск. По прибытии груза на товарный двор станции Екатеринбург в наличии оказалось только двадцать восемь вагонов с грузом, которые и были там приняты автомобильной ротой чеховойск, остальные же четыре вагона были в пути использованы чеховойском для своих нужд. В декабре 1918 года двадцать восемь вагонов с грузом распоряжением чеховойск были продвинуты на станцию Курган, где и оставались до марта 1919 г., а затем были отправлены до станции Зима, на которую прибыли в апреле месяце 1919 года. На станции Зима груз частично был переупакован в ящики и повагонно, разновременно отправлен во Владивосток, в адрес автопарка чеховойск. На станцию Владивосток 1 марта 1920 г. прибыли восемнадцать вагонов, были перегружены на пароход «Мадо-Васко» с чехо-войском и отправлены в Чехословакию. Следующие семь вагонов с означенным грузом прибыли на ст. Владивосток в адрес автопарка чеховойск 21-го числа марта сего года и также подготавливаются к погрузке на очередной пароход с чеховойском, для отправки в Чехословакию, остальные же три вагона находятся еще в пути следования по тому же назначению во Владивосток.
Основываясь на том положении, что при условиях гражданской войны частные грузы, реквизируемые какими-либо частями войск враждующих сторон, не составляют военной добычи, а должны быть возвращены владельцу по принадлежности, в случае же использования таковых грузов для надобности военных частей последние обязаны возместить владельцу груза стоимость такового. Вышеозначенный груз – собственности товарищества «Треугольник», отделение которого находится во Владивостоке. Стоя на страже интересов фирмы и принимая во внимание факт реквизиции чехословаками вышеозначенного груза и намерение вывезти таковой из пределов России, отделение товарищества «Треугольник» обращается с просьбой к верховному контролю чеховойск – возвратить фирме находящийся еще во Владивостоке груз и уплатить стоимость вывезенного количества груза, согласно прилагаемого при сем перечня.
Согласно прилагаемой описи на все вышеозначенные 28 вагонов груза, стоимость таковых определяется по ценам 1918 г. в период реквизиции его чеховойсками в сумме 38 692 815 (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот пятнадцать рублей).
Владивосток, марта 28-го дня, 1920 г.».
Ответ:
«Отделение высшего контроля чеховойск в России. № 437, мая 4 н. ст. 1920 г. Владивосток. Товариществу российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» во Владивостоке.
В ответ на Ваше заявление от 28 марта с. г. имеем честь сообщить, что Вашу претензию относительно уплаты рубл. 38 692 815, к большому нашему сожалению, признать не можем, так как отсутствуют доказательства, что упомянутые 32 вагона резиновых шин во время их захвата чехословацкими войсками представляли собственность фирмы «Треугольник».
Произведенное расследование показало, что весь означенный товар составлял часть военного имущества Красной армии, отнятого у ней в бою. Решить же вопрос законности приобретения резиновых шин со стороны красноармейских властей мы не имеем ни права, ни основания, даже несмотря на то, что автомобильный резиновый материал во все военное время составлял предмет государственного реквизиционного права и означенный товар, по всей вероятности, уже заранее перешел во владение военного ведомства.
Начальник отделения высшего контроля чеховойск в России капитан Шимунский».
Но тем не менее владивостокский консул одной из союзных стран остановил погрузку этой резины на чешские пароходы, – ведь были затронуты не только интересы русских, а и иностранных подданных, общество было российско-американское. А самый тон ответа чешского капитана напоминает отговорку того любителя чужих золотых часов, который, будучи пойман на улице с поличным, начинает спрашивать у собственника часов, где у того свидетельство из магазина о покупке их.
Когда интересы иностранцев не были затронуты, то они смотрели на коммерческие подвиги чешского «гения» холодно, равнодушно и только иной раз – кто почестнее – с презрением.
Владивостокская газета «Слово» так описывает в те дни то, что представляла оборотная картина ликвидации «анабазиса»:
«В Гнилом Углу (часть Владивостока) несколько огромных зданий, бывших паровозных мастерских, заняты ликвидационной комиссией чеховойск.
Чего-чего тут только нет – и весы, и швейные машины, и телеграфные аппараты, и инструменты, словом, все, от булавки до автомобиля, как пишет «Изо экспорт и K°.» (японская фирма). Разница одна: «Изо экспорт и K°.» – фирма с безупречной репутацией, у ликвидационной же комиссии чеховойск репутация не так-то уж чиста. Хотя комиссия и работала чисто!
Взять хотя бы весы. Комиссия тщательно окрасила все весы, в надежде замазать надписи, указывающие, с какой дороги эти весы увезены были «доблестными» войсками. Но явилась русская железнодорожная комиссия и стала откапывать. Там на гирях отметка: «Пермская ж. д.», тут на платформе весов выступает: «Сибирская жел. д.», там оказалась: «Китайско-Восточная ж. д.», а на инструментах нет-нет да и находили надписи: «депо Тайги», «депо Перми». Пришлось чехам уступить эти вещи, а там, где признаки хищения не были отлиты или выгравированы, комиссия ничего не могла сделать. Неужели и русская администрация ничего не может сделать, чтобы защитить народное достояние от такого наглого расхищения?
Не лишено интереса и следующее – чеховойска открыли торговлю оптом и в розницу, продают муку, макароны пудами и фунтами, выдают счета, но наотрез отказываются оплачивать счета гербовым сбором».
Газета «Русский голос» приводила заметку о вандализме чехов: «В ожидании парохода, чехи жили в классных вагонах. Уезжая, чехи сняли зеркала, вывинтили все медные части, вплоть до винтов, сняли линолеум со стенок и пола, обивку с диванов и конский волос, которым эти диваны были набиты. Одним словом, взяли все, что представляло какую-либо ценность. Железнодорожные власти, принимая эти вагоны, вынуждены были составить акты о грабеже вагонов».
Отдельные русские люди и противобольшевицкая пресса Владивостока и Харбина пробовали протестовать, опубликовывая отдельные вопиющие факты открытого, безнаказанного ограбления России. Чехи или оставляли без ответа, или отвечали отписками, только подтверждающими эти факты.
Так, например, русским ведомством снабжения и продовольствия отпускался чехам, начиная с 1918 года, сахар в кредит. При их отъезде в новорожденную родину – Чехословакию чешскому штабу был предъявлен ведомством счет с расписками чешских частей в разновременном получении сахара на 648 796 иен. Чехословацкий штаб дал следующий ответ: «Не отрицая факта передачи нам русскими властями продовольственных продуктов, мы в данное время не можем произвести этой передаче необходимый учет и контроль, так как наше интендантство эвакуировано. Вся переписка по этому делу будет направлена в Прагу с первым отходящим транспортом, и до получения распоряжения оттуда мы произвести расплаты не можем».
Распоряжения из Праги не последовало никогда. Обычно иностранцы хранили молчание, лишь наблюдая со стороны, как ловко чехи обворовывали Россию, превращаясь из голодранцев в довольно состоятельных, а некоторые так просто в богатых людей. Но вот в номере от 1 мая 1920 года английской газеты Japan Advertiser (Kobe) была помещена телеграфная корреспонденция, из Владивостока, следующего содержания: «Вчерашний отъезд транспорта «Президент Грант» оставил еще 16 000 чехов для эвакуации. Транспорт для них еще не предусмотрен и не ожидается раньше конца июня. Есть предположение зафрахтовать японские пароходы, так как ничем не занятые чехи суть причина постоянных волнений и недоразумений. «Президент Грант» увез 5500 чехов, а также сотни тонн золота, серебра, меди, машин, сахара и всяких других продуктов, как и другое награбленное добро, которое чехи увозят с собой из Сибири».
Чехословацкий посланник в Токио, Перглер, один из ближайших сотрудников Масарика, не счел возможным на этот раз смолчать и дал такой классический ответ, помещенный в том же Japan Advertiser и в русской дальневосточной прессе. Приводится ниже в подлиннике, без изменения:
«Газеты содержат сообщение из Владивостока от 28 апреля касательно возвращения на родину чехословацкой армии из Сибири, а также относительно отъезда американского транспорта «Президент Грант», увозящего 5500 чехословаков. Сообщение газеты: «Президент Грант» увозил 5500 чехословаков, сотни тонн золота, серебра, меди, машин, сахара, снаряжений и другого награбленного добра, которое чехи увозят с собою из Сибири». Газеты озаглавливают это сообщение следующими словами: Чехи увозят награбленное из Сибири и чехи грабят Сибирь. – Словарь определяет слово «награбленное» как обозначающее грабеж в связи с вой ной и всеобщим расстройством порядка. Чехословацкие солдаты, таким образом, обвиняются в весьма серьезном преступлении.
Обязанности дипломата, насколько я (т. е. Перглер) их понимаю, заключают в себе также защиту доброго имени своей страны и своих сограждан. Эта обязанность особенно существенна, когда ставится вопрос о добром имени армии, которою восторгался весь свет, как в данном случае чехословацкой армией в Сибири. Тот факт, что чехословаки увозят из Сибири, в этом случае на американском транспорте свое собранное имущество, приобретенное на свои же собственные деньги. Чехословаки находились в Сибири очень долго. Эти солдаты все воспитанные люди, многие из них окончили университеты, интеллигентные рабочие и ремесленники. Как солдаты, они получали известное количество денег. Вместо того чтобы расходовать свое жалованье, они сложили свои финансы и основали большое торговое общество, а также значительные банки, банк чехословацких легионеров. Эти доходы увеличивались при русских условиях потому, что жалованье было уплачиваемо во франках и выплачивалось по курсу русскими деньгами. Солдаты скупали большое количество запасов, и именно эти запасы теперь увозят в республику. Для них было особенно важно купить хлопок, необходимый в текстильной промышленности, и в этих покупках они дошли до таких размеров, что в октябре русский экономист рекомендовал сокращение покупок хлопка чехами, это, очевидно, доказывает, что эти сделки были законные, основанные на обычных методах покупки и продажи.
Что чешские солдаты делают со своим жалованьем, как бы незначительно оно ни было, видно из того, что в 1918 году они подписали пять миллионов франков на заем Чехословацкого национального совета для поддержки этой же армии».
Таков ответ чешского дипломата. Чего в нем больше – глупости, наивности, самолюбования или наглости, – решить нелегко.
Заметим только одно чешскому дипломату: не одни «чехословацкие солдаты» обвиняются в серьезном преступлении. Главным образом их руководители и их командование. И еще: тот, кто не только покрывает и замазывает преступление, а еще и старается отрицать его и ввести общественное мнение в заблуждение, тот сам делается участником преступления.
Из следующей главы мы увидим, что не только господин Перглер делает это, но и его «высокие» руководители.
Глава 8 Наслоения чешской лжи
Две книги чешских политиков. Восхваление Бенешем «анабазиса» и «гения чешской расы». Признание его о характере темной работы на Парижской конференции. Самолюбование Масарика. Курьезы. Его «любовь» к России. В 1915 году Масарик монархист для Богемии и русофил. Его меморандум Independent Bohemia. Роль Масарика в России после революции. Осторожные похвалы «анабазиса». Признание морального развала легионов. Ложь о хозяйственной стороне «анабазиса». Приговор Масарика о всей чешской интриге. Чешская пропаганда. Возложение чехами своей вины и на другие народы Чехословакии. Этнографический состав этого государства. Участь других народностей. Несколько слов о словаках. Заключение
В предыдущих главах представлена хотя и кратко, но исчерпывающе и документально история чешского воинства в Сибири и отъезд его на родину, в новорожденную в Версале республику Чехословакию.
Масарик и Бенеш, два видных чешских государственных деятеля, не только скрывают правду об этих печальных событиях, но стараются украсить «анабазис» чехов словами восхищения, героизма и чести. Но ведь не могли не знать эти руководители чешского заговора всего того, что творилось их легионерами в Сибири, не могли не знать всего ужаса чешского предательства и трусливого бегства, всей грязи и грабежей.
Бенеш не дает себе даже труда включить в свою книгу отдельную главу с обзором всей деятельности Чехословацкого корпуса в России. Он вскользь говорит лишь о разочаровании их войск уже в начале октября 1918 года тем, что на Волгу не пришла от союзников обещанная помощь, и будто тогда же чехи признали, что русская антибольшевицкая акция не будет иметь успеха; затем, что переворот 18 ноября 1918 года адмирала Колчака отколол чехов от работы с русскими (это ложь!) и с тех пор чехи только и ждали и даже требовали скорейшей отправки их на родину.
Эту скомканную и умышленную, извращенную историю одного из самых драматических эпизодов Бенеш заканчивает так:[63]
«Вот краткая история нашего сибирского анабазиса до конца 1918 года, без подробностей и без ее прекрасного романтического блеска. Анабазис был в военном и общечеловеческом отношении – красивое и достойное удивления явление, а политически имел огромное значение для нашей борьбы. Наши простые солдаты из Богемии, Моравии и Словакии были призваны в австро-венгерские полки, перешли на сторону русских, после тяжелых лишений и страданий, а главное, среди революционного хаоса, вступили в ряды добровольной и импровизированной армии, дрались некоторое время на фронте против тех, от кого они дезертировали, затем под эгидой своего великого вождя прошли через безграничную Россию и Сибирь, заняли, невзирая на все преследования, 8000 километров железной дороги и огромную, прямо необъятную область, – чтобы достичь Европейского театра войны кругосветным путешествием и принять своевременно участие в борьбе за свободу своей нации. Они привлекли к себе взоры почти всего света, когда им удалось создать затруднения большевицкому режиму, который был очень неприятен союзникам. И хотя они не достигли своевременно Европейского театра войны, но оказали своим выступлением на другом конце света, своими удивительными романтическими похождениями значительные услуги всем, а в первую очередь их родине.
Неожиданная и единственная история! Все было импровизацией – военные легионы, их хозяйственная, финансовая и культурная деятельность, их солдатская жизнь, их традиции и развлечения, их вожди, командный состав и люди. Это были солдаты – selfmademen революции, тип своей расы, по существу не военной. Между ними и не было военных гениев, но большинство были добрые, солидные, добросовестные солдаты с огромным позывом свершить что-то значительное и существенное. Их масса представляет отлично чешскую национальную психологию: сильная жизнерадостность, стремление к практическим, без фантастики решениям, известная крепость и выдержка в борьбе за свою цель, но также раздражимость, известная впечатлительность, фанатизм, несколько нездоровая ревность, пессимистическая легковерность при затруднениях и склонность к критиканству в спорных случаях. Те же свойства проявлены в общем и большинством наших солдат во Франции и в Италии.
Генерал Сыровый, как их начальник, был хороший тип. Он внушал солдатам доверие своей солидностью, прямотой, честностью и своими здоровыми суждениями. Солдаты знали, что он их не поведет на авантюру.
Особенного значения заслуживает хозяйственная, финансовая и культурная работа нашей сибирской армии. В ней проявился, как я думаю, всего лучше гений нашей расы. В массе наших войск быстро отыскались сильные индивидуальности, которые сумели организовать и направить работу, но эта работа была понята и поддержана содействием каждого рядового солдата. Нельзя недооценить общую способность создать быстро и успешно большие хозяйственные предприятия – во время горячей борьбы в Сибири. Далее – эти предприятия вести, поддерживать сообщения, торговлю и связи с Японией и Западной Европой, вызвать к жизни финансовые учреждения и организации, культурные заведения, газеты, театры, певческие хоры, оркестры, места развлечений – целый культурный аппарат значительно высокого уровня. Все это выказывает нас как нацию, наши склонности, способности, достоинства и недостатки».
Что же добавить к этому после всего рассказанного на страницах настоящей книги?! Если бы это писал простой человек, то его еще можно извинить наивностью, глупостью или незнанием или тем, что его ввели в заблуждение. Но это ведь министр Чехословакии и один из главных руководителей всего чешского дела. Такой человек может допустить всю эту ложь только заведомо и умышленно. И изучение его книги доказывает, почему он это сделал. Со страниц ее так и выступает, так и бьет тот цинизм, с каким Бенеш не только рассказывает, но похваляется своей не всегда чистой ролью во время мировой войны в передних министров Антанты. Он сам и его клика все время тогда дрожали и боялись, что союзники заключат мир с Центральными державами, а особенно с Австро-Венгрией. Последнее обстоятельство, пишет Бенеш,[64] заставило его действовать еще быстрее и стремительнее, чтобы создать возможно большее число faits accomplis и тем путем связать союзников все новыми и возможно решительными актами.
И он делает неожиданное признание, что при этом их сибирская армия, то есть те самые легионеры, которые предали на расстрел адмирала Колчака, ограбили Россию и погубили ее национальное, государственное предприятие, – эта армия облегчила и сделала возможной для них борьбу и успех на Парижской конференции, на которой он, Бенеш, достиг гораздо большего, чем осмеливался надеяться в начале войны.[65]
По свидетельству объективного ученого,[66] чехи работали на мирной Парижской конференции с самыми сомнительными средствами и темными приемами, доходящими до обмана конференции включительно, например относительно смешанных немецко-чешских областей или обещаниями устроить новое государство, наподобие Швейцарии, с действительным обеспечением прав всех входящих народностей. Далее, чехи подавали документы с подтасовкой и даже подделкой исторических фактов, надеясь через то получить свою часть в дележе контрибуции.
Как после всего этого должны звучать слова Бенеша о том, «что старая история была для них (чехов) всегда хорошим учителем, – еще лучшим учителем должна быть новая история, в которой еще и сегодня действительны живущие в ней интересы, стремления, цели и идеи».
«В конце концов, – восклицает Бенеш,[67] – и дипломат нового пошиба, – оказывается, что путь правды, честности и прямоты есть путь национальных интересов. Ложью и насилием до сих пор не могла обеспечить себя от ударов судьбы ни одна нация, ни большая, ни малая».
Да, без сомнения, так и будет! И та ложь, то грязное предательство, интриги и та кровь, на которых взошла чешская самостоятельность, уже влекут неудержимо справедливое решение. Чем скорее придет оно, тем лучше для всего человечества.
* * *
Книга Масарика написана еще более фальшиво и двулично. Масарик не только хочет обелить себя и своих чехов, но задается намерением показать, что он всегда все предвидел вперед, чуть ли не один на всей земле; что поэтому-то он и допускал то или иное действие, которое, в сущности, было или обманом, или предательством.
Уже Бенеш, который являлся во всей интриге и в заговоре подручным Масарика и теперь хвалит последнего, как апостола своей нации, как «великого», вводит эту ноту якобы прозорливости старого чеха; он говорит, что Масарик с самого начала поставил себя против русской антибольшевицкой акции, вследствие чего и чехи-легионеры всегда были против русских и уже в июне 1918 года взяли путь на Францию.[68]
Масарик в своей книге подробнейшим образом описывает себя самого, своих личных друзей, свое окружение, а затем уже общий ход мировой войны. Но в центре всегда стоит Масарик. Все совершается вокруг него. Старый чех, видимо, страдает манией величия. Некоторые места его книги годятся для юмористического журнала. Так, он пишет:[69] «Как курьез, упомяну, что царь прислал мне через Стефаника (летом 1916 года) очень дружеский поклон и просьбы продолжать мою политику и дальше». После первой, Февральской революции Масарик некоторое время выжидал для верности, – как это обычно делает всякий чересчур хитрый и в то же время трусливый человек; когда же он «был достаточно информирован, то послал 18 марта телеграмму Милюкову и Родзянко, в которой выражал свое удовлетворение переворотом».[70]
Вскоре затем он и сам поспешил в водоворот русской революции, чтобы принять участие, приложить и свою руку к развалу страны. Здесь Масарик роняет такую фразу: «Во время царского правительства я не спешил в Россию, – так как я знал предубеждение реакционных элементов против меня и союзников».[71]
А описывая свое долгое пребывание в течение 1915 и 1916 годов в Лондоне с массой подробностей, с упоминанием мелочей из своей частной жизни, со всеми встречами, – Масарик забывает упомянуть, что в апреле 1915 года им был представлен сэру Эдуарду Грею меморандум Independent Bohemia с приложением карты – Map of United States of Bohemia. В этом меморандуме сказано буквально следующее.[72]
«Для Богемии и для балканских славян самое существенное – это дружба России. Богемские политики считают, что Константинополь и проливы должны принадлежать только России. Богемия проектируется как монархическое государство; богемская республика находит защиту только у немногих радикальных политиков. Вопрос династии мог бы быть решен двумя способами. Или союзники могли бы дать одного из своих принцев, или могла бы быть заключена персональная уния между Богемией и Сербией. Русская династия, все равно в какой форме, была бы особенно популярна».
Итак, в 1915 году Масарик русофил, монархист, возлагает все надежды на «братьев русских», заискивает перед Россией и перед династией. А в 1917 году, после революции, он заявляет, что «он царизм и его неспособность давно разгадал и осудил».[73] Книга Масарика полна затаенной ненависти против России, против русских и всего русского; пренебрежение, хула и ложь на наше отечество брызжут почти с каждой страницы, точно ядовитая слюна змеи.
Чешским легионам в России и Сибири Масарик посвящает больше места, чем Бенеш. Он признает частично их грабежи, когда говорит следующее:[74] «Нам помог революционный развал России, так как мы часто снабжали себя из русских магазинов brevi manu». Местами дает Масарик и картину распущенности своей солдатни, упадка дисциплины, излишнего политиканства, сочувствия большевизму. Он и сам содействовал этому, потакая низким инстинктам толпы, чтобы приобрести среди нее популярность, эту тень авторитета. Но самого авторитета у него не было и быть не могло. Ибо на лжи никто еще и никогда авторитета напрочно не строил.
Послушаем, что пишет чех, отец всей их интриги, что он сообщает о своих «ребятах» в России и Сибири:[75]
«О так называемом анабазисе я собираюсь сказать лишь столько, сколько необходимо для уяснения и для дополнения моего настоящего отчета о нашей политической работе за границей.
Я (т. е. Масарик) находился в Японии, когда возникло роковое столкновение в Челябинске. Как мне было тогда донесено, уже позже, в Америку, в Челябинске 14 мая немецким военнопленным был ранен один из наших ребят, – и тотчас же немец был убит на месте. Большевики взяли сторону немецких и венгерских военнопленных, последовали дальнейшие события, кончившиеся занятием нашими войсками города. В конце мая наши части решили из Челябинска продолжать путь на Владивосток. 25 мая началась борьба, воинственный анабазис».
Последовали известия о занятии городов: Пензы, Самары, Казани и т. д. Это вызвало восхищение в Америке, где Масарик пустил в ход все средства, чтобы раздуть паруса. «Как всегда, поддерживали Масарика евреи, – пишет он,[76] – особенно в Америке рентировала себя Гильснериада». Так называет он свое выступление в 1899 году защитником в процессе одного еврейского рабочего, по имени Леопольд Гильзнер, обвиненного в убийстве девушки.
«События достигали по прямому кабелю раньше Америку и находили там сильнейший отзвук, чем в Европе. Легионеры были уже в начале августа 1918 года в Америке очень популярны, в Европе немного позже.
Конечно, доходили до меня, – пишет Масарик далее, – скоро и плохие известия, как в каждой войне и не может быть иначе. Это были известия о различных недостатках нашей армии. После некоторого времени, начиная с августа, наша армия оставила все занятые города на Волге. Борьба на таком длинном фронте была, конечно, трудна, и занятие приволжских городов было стратегической ошибкой. Спустя немного распространились плохие известия и о моральной стороне наших войск в Сибири. Это началась контрпропаганда большевиков и всех наших политических врагов».[77]
Последнее утверждение есть не более чем расчет на неосведомленность широкого круга читателей, один из наиболее излюбленных приемов этих «пропагандистов»-чехов. Ниже, на той же странице, Масарик сам опровергает себя.
«Мне были гораздо неприятнее известия от союзных офицеров, которые прибывали из России и Сибири и изображали упадок дисциплины в нашей армии; эти известия проникали в общественность лишь в ограниченном числе, но все же они нам, естественно, вредили. И тем не менее симпатии огромного большинства общественного мнения и правительственных кругов оставались за нами».[78]
К кому же относит Фома Масарик «союзных офицеров» – к «большевикам или к политическим своим врагам»?!
«Наши войска, – говорит президент Чехословакии дальше,[79] – вынесли добровольно и долгое время материальные недостатки и выстрадали морально от долгой разлуки с семьями и с родиной, – известное ослабление дисциплины поэтому можно было ожидать. Но, несмотря на это и на многие разочарования, армия не была деморализована. Отдельные части прошли через тяжелые кризисы, как свидетельствует добровольная смерть Швеца».
Вся книга наполнена подобными извращающими истину утверждениями; расчет на наивного и неосведомленного читателя и надежда на то, что вся тонко проведенная через иначе освещенные факты ложь останется без возражений. Дело именно в том, что весь Чехословацкий корпус в Сибири подвергся высшей степени разложения, охватившего всего его, от рядового до командира. И доблестный Швец только подчеркнул это своей трагической кончиной.
В том же тоне и с той же развязной манерой говорит Масарик и о грабежах, воровстве, мошенничестве и насилиях чехов в Сибири:
«О духе нашей сибирской армии должно судить также и по ее невоенной деятельности. Наши солдаты вели всюду и постоянно, наряду с военной, также и разнообразную хозяйственную работу. Очень скоро они организовали при армии рабочие товарищества (август 1918 г.). Несколько позже были основаны торговая камера, сберегательная касса и банк. На Урале и в других местах наши солдаты организовали промышленные предприятия (?!). Я (Масарик) не могу не упомянуть очень прилично устроенную военную почту. Все это должно идти на учет, если говорят о нашей армии в России и Сибири. Дело идет не только о славе героического анабазиса; мы не хотим его преувеличивать, но было бы несправедливо его рассматривать как мгновенно вспыхнувшую ракету.
В связи с этим следует отметить, что и наши немцы начали в Сибири записываться в нашу армию; из них были образованы рабочие отделения».[80]
О последнем мы скажем несколько слов в конце книги. Что касается до остального, то к сказанному выше остается лишь добавить, – сведения о промышленных предприятиях, основанных чешскими солдатами на Урале и в других местах, высосаны Масариком из пальца. Кроме огромного подвижного, на рельсах, склада краденого и награбленного имущества, не было ни одного предприятия.
Старый чех оказался все же не так осторожен, как молодой; Масарик проговаривается больше Бенеша. Последний только хвалил и восхищался. Но оба чеха обращаются с правдой и с историческими фактами преступно фамильярно. Оба они прикрывают все темные деяния своих ребят в России, – следовательно, к ним обоим в еще большей степени приложимо сказанное по отношению к их посланнику в Токио, господину Перглеру.
Не лишено интереса, что Масарик, как ученый, приносит уже в этом приговоре свою долю.
В 1887 году он выпустил в Вене книгу, под заглавием: Masaryk Th.G. Versuch einer concreten Logik. Vien: Verlag C. Konegen, 1887. В ней на с. 149, развивая критику предательства, он пишет буквально следующее: «Кавур сказал, – если бы мы предприняли для себя то, что мы сделали для Италии, то мы были бы, конечно, величайшие подлецы. А мы (т. е. Масарик) скажем, что для нас низость действий есть и останется той же самой, – будет ли она проведена для самих себя, для отечества или для какой иной цели».
Масарик и Бенеш оставили далеко позади себя графа Кавура; действия и вся политическая иностранная интрига последнего перед чехами – детская игра.
* * *
Здесь необходимо только сказать в дополнение несколько слов о двух обстоятельствах: первое – об усиленной чешской пропаганде, которая продолжает расползаться повсюду; и второе – о том вреде, который эта пропаганда приносит не только отдельным странам, но и всему человечеству.
Золото и все ценности, на которых лежит пятнами кровь неповинных, привезенные из Сибири через океан в Европу, дают чехам богатые возможности развить целую сеть органов своей пропаганды. Во всех странах и на всех языках издаются ими книги, подобные двум приведенным выше, целый ряд брошюр, памфлетов, журналы и газеты. Под негласным руководством пражского министерства иностранных дел создаются акционерные издательские общества, имеющие местом своего действия заграницу. Чтобы замаскировать чешское руководство и придать этим, в сущности, разведывательно-информационным органам Праги нейтральное лицо, в их состав привлекаются и иностранцы.
Излюбленным приемом чешских политиканов является не опровержение фактов, тех фактов, которые приведены и в настоящей книге, которые в отдельности приводились и раньше, на протяжении десяти лет, – так не опровержение этих фактов приводят обыкновенно чехи, а стараются путем клеветы и инсинуаций опорочить личность того, кто берет на себя смелость сказать правду. Благодаря же широкой сети своей пропаганды и большим средствам чехи надеются таким образом часть людей запутать, а другую парализовать.
Ясно, что борьба для сегодня трудна, а для многих и непосильна.
Но тем не менее борьба с ложью и с преступлением чешских легионеров должна быть проведена. И будет проведена. Иначе было бы слишком печально, ибо в противном случае пришлось бы признать, что человечество потеряло совесть, что преступление может не только пребывать безнаказанным, но и рядиться в тогу добродетели и героизма, как мы это видели на примере двух руководителей Чехословакии, на престарелом Масарике и его подручном и ученике, Бенеше.
И эта задача – борьба с чешской ложью – лежит не только на нас, русских, но и на представителях всех наций включительно до новоизобретенной, чехословацкой. На последней, пожалуй, больше других. И вот почему.
Как уже было упомянуто, чехи получили путем очень искусной и сложной интриги не только свою самостоятельность, но включили под себя ряд других народностей. Получилась мозаика, как называет новое государство профессор Базельского университета Гуго Гассингер. По его труду (Hassinger H. Op. cit.), состав населения Чехословакии следующий:
Таким образом, на 6,4 миллиона чехов приходится 6,8 миллиона других народностей. Но к этому еще – статистика в Чехии, по словам профессора Гассингера, подвергается самой произвольной обработке. Ряд официальных давлений и подтасовок. Достаточно здесь указать на то, что солдаты чешской армии все годы устройства нового государства пользовались правом выборов и входили в счет населения, передвигаясь с одного места на другое.[81]
Так вот все эти 6,8 миллиона, то есть более половины населения Чехословакии, должны нести на себе пятно чешского преступления, – пока они остаются в границах этого государства, пока они, согнув шею и подставив спину, несут на себе «почетное» имя чехословаков. Пока они молча участвуют в политическом строении Бенеша, Масарика и K°, эти миллионы разделяют ответственность с чехами. Недаром вышеприведенная фраза Масарика, что «наши немцы начали в Сибири записываться в нашу армию». Отец чешской демократии уже заранее перекладывал и на честные немецкие плечи отвратительный груз чешского преступления.
Все эти невиновные фактически словаки, русины, немцы, венгры и евреи, при их молчаливом поведении и дальше, рискуют очутиться у одного позорного столба с Масариками и братией. Особенно это будет тяжко для следующих поколений нечешских народностей, которые вырастут в новом государстве и выучатся в его школах. А чешские руководители прилагают все усилия и методы чехизации других народностей, вошедших по искусственному договору в Чехословакию.
К тем сухим цифрам, что приведены выше, к этому распределению народностей надо прибавить все те муки, слезы, унижения и даже кровь, которая уже пролита была чехами в пределах их нового мозаичного государства.
О притеснениях судетских немцев приходится часто читать в прессе; о том же говорит и профессор Г. Гассингер в своей книге.[82] О том гнете, преследованиях и жестокостях, которые испытывают 700 тысяч венгров, имевших несчастье подпасть под владычество чехов, собраны подробные материалы.
Вот что говорит тот же объективный ученый о том, какими сомнительными путями вели чехи игру, чтобы включить в свое государство 3,5 миллиона немцев: «Те средства, которыми манипулировали чехи на мирной конференции, и теперь можно видеть в различных меморандумах, поданных на ней, – о чем мы уже упоминали. Центральное место среди всех этих записок занимает по своему значению меморандум III, содержание которого приводится в приложении. Невольно задаешь себе вопрос, что в этом документе заслуживает наибольшего удивления. Та ли беззастенчивость, с которой было использовано незнакомство дипломатов с придунайской Средней Европой, или смесь лицемерия и жестокости, или доводы – софизмы, которые местами выглядят опять-таки ученически наивно…» «Но этот меморандум необходимо рассматривать, – что именно тогда и имелось в виду, – как государственный документ; в нем, как и в других меморандумах, всегда говорится от имени правительства».[83] Профессор Гассингер разбирает подробно и показывает, что меморандум III изобилует фальшивыми данными.[84]
Только здесь, в Европе, где мы, лишенные вследствие предательства чехами нашего отечества, принуждены жить долгие эти годы, узнали мы, что словак сильно отличается от чеха, что иногда между ними такая же пропасть, как между русским и поляком. Словаки в большинстве – простой, скромный и религиозный народ. Чех – характеристика этого человека без религии и совести достаточно выявлена на их делах в Сибири. Русский народ понял своим живым инстинктом это различие раньше: хотя корпус и назывался официально Чехословацкий, но проклятия населения Сибири неслись только чехам. И на стенах сибирских городов пестрели надписи: «Бей чехов!»
Не лишено интереса, каким путем словаки были поставлены в подчиненное чеху положение.
Во время долгой подпольной работы Масарика и K° ими был заключен ряд договоров с заграничными словаками о самостоятельности или о самой широкой автономии Словакии. 10 мая 1915 года, так называемая Московская декларация,[85] по которой для Словакии устанавливался свой парламент, автономия языка и управления. В 1915 году, октября 27, такие же условия в Клевеландском договоре (Америка).
30 июня 1918 года в Питтсбурге был подписан в числе других и Масариком им же составленный договор, по которому Словакия получала свое собственное управление, администрацию, свой парламент и суды; словацкий язык признавался государственным.[86]
Все это оказалось только на бумаге. Словаки подверглись еще большему гнету от чехов, чем другие народы, – создатели нового государства захотели их чехизировать без остатка. Все условия и договоры были цинично брошены под стол, за которым вчерашние заговорщики засели, как правители.
Масарик в своей книге[87] пробует вывернуться из этого государственного вольта. Он признает, что 30 июня 1918 года было подписано между словаками и чехами соглашение в Питтсбурге. И сейчас же подчеркивает: «Но соглашение, а не договор!» И далее: «Это соглашение было заключено к успокоению малой словацкой фракции, которая мечтала Бог знает о какой самостоятельности. Я (т. е. Масарик) подписал соглашение без промедления, так как это было местное дело американских словаков и чехов между собою». А в соглашении, в Питтсбургском договоре было, как узнаем и из слов Масарика, что Словакия получит собственный ландтаг, администрацию и суды; что словацкие народные представители будут решать сами все подробности словацких проблем.
Но в то время политическая чешская интрига не была далеко закончена, и Масарику нужно было устроить сбор долларов среди американских словаков. Теперь же словаки, напоминающие об этом договоре в Питтсбурге, сажаются в Чехословакии в тюрьмы, предаются суду, как за измену.
* * *
Можно было привести еще много подобных фактов, но это приходится оставить до другого раза, цель настоящей книги – история о том, никогда не бывалом, переходящем все границы по своей низости, – предательстве чехов в Сибири. Это предательство, разыгранное в 1918–1920 годах, встанет в свое время, вполне освещенное во весь свой уродливый и ужасный рост, и оно требует само от человечества суда и отмщения. Наш долг – собрать возможно больше документального материала и не дать чешской лжи безнаказанно отравлять человечество.
Правда одна, и правда – рано ли, поздно ли – должна победить.
Примечания
1
Это было 19 сентября 1918 года. (Здесь и далее примеч. авт.)
(обратно)2
Медведев, Огарев и др.
(обратно)3
Опять-таки и тут послали они в Сибирь большею частью своих агентов из иудейского племени, русских эмигрантов, настроенных к России и к русскому народу непримиримо враждебно.
(обратно)4
Из пласта, выходящего прямо на поверхность земли.
(обратно)5
Селяба – по-башкирски значит яма.
(обратно)6
Моя телеграмма главнокомандующему от 9/IX № 04003 и его ответ № 0716. оп.
(обратно)7
21-ю советскую.
(обратно)8
Моя телеграмма Главковостоку от 13 октября 1919 года № 05299.
(обратно)9
Насколько помню, 88-го пехотного.
(обратно)10
Славянофил. Чехословаки // Дело России. 1920. № 12.
(обратно)11
Славянофил. Указ. соч.
(обратно)12
Чехи и с. – ры // Дело России. 1920. № 10.
(обратно)13
Чехи и с. – ры // Дело России. 1920. № 10.
(обратно)14
Славянофил. Указ. соч.
(обратно)15
Там же.
(обратно)16
«Они расхищают частное имущество, частные грузы, частью отдают чехам по баснословно дешевой цене, частью грузят при содействии чехов на иностранные пароходы, будто в Советскую Россию, а частью сами распродают исподтишка японцам и другим иностранцам.
Члены правительства Медведева спешат за границу. Бежит жена министра финансов Никифорова, кооператор Ландсберг с 12 чемоданами платины, Огарев и др. Власть приказывает не осматривать их вещей».
(обратно)17
То есть господин Перглер. Весь документ, письмо Перглера в редакции газет, приведен точно без изменения. (Курсив везде мой. – К. С.)
(обратно)18
Под командой полковника Семчевского.
(обратно)19
«Ст. 116. Германия признает независимость всех областей, принадлежавших 1 августа 1914 г. к прежней Российской Империи, и обязуется уважать эту независимость длительно и нерушимо. Германия признает окончательно объявление недействительным как Брест-Литовского мира, так и всех других соглашений и сделок, заключенных ею со времени большевицкой революции в ноябре 1918 г. с какими бы то ни было образовавшимися на территории бывшей Российской Империи правительствами или политическими группами.
Союзные державы особенно настаивают на праве России требовать от Германии соответствующих началам договора восстановлений и возмещений.
Ст. 117. Германия, обязуется признать всю законную силу договоров и соглашений, которые будут заключены союзными державами с государствами, кои образуются на всей территории бывшей Российской Империи, в том виде, в каком она была к 1 августа 1914 года, или на какой-либо части ее. Германия, далее, обязуется признать границы этих государств, как они будут установлены означенными договорами и соглашениями» (Мирный договор между Германией и странами Согласия / Редакция перевода с оригинальных текстов В. Я. Назимова. Берлин, 1920).
(обратно)20
За Польшу и на полях Польши пролиты были потоки лучшей крови сынов России.
(обратно)21
Masaryk T. G. Die Weltrevolution. S. 164.
(обратно)22
Hassinger H. Die Tschechoslowakei. S. 312, 313, 477.
(обратно)23
Генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин был последним начальником штаба (Ставки) Верховного главнокомандующего в Могилеве, а после исчезновения Керенского заступил и место главнокомандующего. Оставался на своем посту до конца. После большевицкой революции был арестован 3 декабря 1918 года прапорщиком Крыленко (новым главковерхом). Большевики-матросы в тот же вечер вытащили генерала Духонина из вагона и зверски убили его.
(обратно)24
Masaryk T. G. Op. cit.
(обратно)25
Муравьев, бывший офицер императорской полиции, занял у большевиков осенью 1917 года пост главнокомандующего в Малороссии. Оттуда он был назначен на Волжский фронт также командовать армией, но возбудил в большевиках подозрение и был застрелен в затылок комиссаром.
(обратно)26
Генерал Алексеев был последним начальником штаба государя Николая II в Могилеве. Играл в России и в военном мире одну из выдающихся ролей.
(обратно)27
Генерал Лавр Георгиевич Корнилов – самая яркая фигура войны и революции. Раненный при Горлицком прорыве в мае 1915 года, попадает в плен в Венгрию. В 1916 году бежит из плена через Румынию в Россию, где получает в командование корпус. После революции становится на сторону республиканцев, но борется всеми силами против развала армии. В августе 1917 года арестован в Могилеве по приказу Керенского и заключен в тюрьму. После большевицкого переворота бежал из тюрьмы со своими сторонниками на Дон, где вместе с генералом Алексеевым приступил к созданию белой добровольческой армии. В рядах ее убит разрывом снаряда во время руководства боем под Екатеринодаром 13 апреля 1918 года.
(обратно)28
Masaryk T. G. Op. cit. S. 207.
(обратно)29
Генерал-лейтенант ***, бывший начальник Генерального штаба в Санкт-Петербурге и один из ближайших сотрудников адмирала Колчака, выразил мне пожелание, чтобы его псевдоним не был открыт. Причина – как и в других аналогичных случаях, когда на этих страницах мы принуждены вместо полного имени ставить инициалы или звездочки, – заключается в следующем: руководители чешской «политики», чтобы закрыть рот, не останавливаются перед личным преследованием и местью. Все документы, доказывающие аутентичность изложенного, имеются и своевременно будут обнародованы.
(обратно)30
*** Чешские аргонавты в Сибири. Токио, 1921. С. 5.
(обратно)31
Полковник, впоследствии генерал В. О. Каппель – один из ближайших сотрудников адмирала Колчака. Во время сибирского Ледяного похода зимою 1919/20 года простудился, заболел воспалением легких и умер.
(обратно)32
Керенский и Чернов принадлежали к партии социал-революционеров (марксистов). После революции февраля 1917 года и до большевицкого переворота играли выдающуюся роль, служа целям углубления революции, состоя послушными выполнителями указаний «союзников».
(обратно)33
Генерал атаман Семенов (Забайкальского казачьего войска) поднял с 1918 года борьбу против большевиков при поддержке Японии.
(обратно)34
*** Указ. соч. С. 9.
(обратно)35
*** Указ. соч. С. 9.
(обратно)36
Masaryk T. G. Op. cit. S. 192.
(обратно)37
Генерал великобританской службы Нокс был долгое время военным атташе Англии в Санкт-Петербурге до войны, а также и во время войны. В самом начале Белого движения в Сибири, осенью 1918 года, Нокс был командирован из Англии в Сибирь, где впоследствии занял место равноценное с французом Жаненом – в вопросах снабжения «союзных» войск.
(обратно)38
Генерал-лейтенант М. К. Дитерихс – раньше генерал-квартирмейстер Юго-Западного фронта, потом начальник русской бригады в Салониках и, наконец, помощник покойного генерала Духонина в Могилеве. После его убийства большевиками поступил на службу к чехам и оставался там начальником штаба корпуса до конца 1918 года.
(обратно)39
Benesch Е. Die Aufstand der Nationen. S. 552.
(обратно)40
*** Указ соч. С 11
(обратно)41
Дело России. Токио, 1920. № 12.
(обратно)42
Адмирал Александр Васильевич Колчак родился в Санкт-Петербурге в 1873 году, окончил морской корпус в 1894 году. Принимал участие в двух научных полярных экспедициях (1900–1904 и 1908–1910); за научные труды был награжден большой золотой Константиновской медалью. В Русско-японскую войну командовал миноносцем «Сердитый», а затем сухопутной крепостной батареей. После войны провел ряд важных работ по воссозданию русского флота. Во время мировой войны занимал ответственный пост в Балтийском флоте, а в июне 1916 года был назначен командующим Черноморским флотом с производством в вице-адмиралы. Обладая огромным влиянием на людей, адмирал Колчак долго сдерживал после революции разложение флота. Но пробил и здесь час – матросня потребовала разоружения офицеров. А. В. Колчак бросил свою золотую саблю в море, отказался дальше командовать флотом и уехал в Петербург. Вскоре он был командирован в Соединенные Штаты Северной Америки, а в 1918 году вернулся в Россию, на Дальний Восток, где и принял живое руководящее участие в отечественной борьбе. Был застрелен большевиками в Иркутске 7 февраля 1920 года.
(обратно)43
Генерал Жанен (французской службы) был долгое время в России, говорил по-русски и уверял всегда в своей любви к России, а с некоторыми из русских генералов был даже на «ты». Во время мировой войны состоял некоторое время военным атташе Франции при русской главной квартире. Когда в Париже возникла мысль еще раз использовать Россию против Центральных держав, Жанен был послан в Сибирь, как главнокомандующий всеми «союзными» силами против большевиков.
(обратно)44
Стефаник был товарищем Бенеша и Масарика в течение их заграничной революционной подготовки против Австро-Венгрии. Из Парижа он был послан в Сибирь с Жаненом. Вернувшись оттуда, Стефаник, военный министр Чехословацкой республики, спешил на аэроплане на родину. Уже на чешской территории аэроплан был обстрелян чешскими солдатами, потерпел аварию и упал на землю. Стефаник был убит. Случай этот до сих пор не расследован, и в нем таится много темного.
(обратно)45
Benesch E. Op. cit. S. 554.
(обратно)46
Benesch E. Op. cit. S. 2.
(обратно)47
Ibid. S. 511.
(обратно)48
Masaryk T. G. Op. cit. S. 212–216.
(обратно)49
5-я польская дивизия, сформированная французами в Сибири и впоследствии также преданная большевикам чехами.
(обратно)50
Münchener Neueste Nachrichten. Januar 1928. № 25, 26. «Der Hochstapler als Generalstabschef».
(обратно)51
Славянофил. Указ. соч.
(обратно)52
*** Указ. соч. С. 19.
(обратно)53
*** Указ. соч. С. 17.
(обратно)54
Там же. С. 15.
(обратно)55
*** Указ. соч. С. 19.
(обратно)56
Гутман-Ган А. Белое дело. Т. III. С. 173–179.
(обратно)57
Смирнов. Борьба за Урал и Сибирь. С. 311.
(обратно)58
Подробный отчет дан в книге: Сахаров К. В. Белая Сибирь. 1923.
(обратно)59
Славянофил. Указ. соч.
(обратно)60
Славянофил. Указ. соч.
(обратно)61
*** Указ. соч. С. 12.
(обратно)62
*** Указ. соч. С. 21.
(обратно)63
Benesch E. Op. cit. S. 553.
(обратно)64
Benesch E. Op. cit. S. 591.
(обратно)65
Ibid. S. 610, 695.
(обратно)66
Hassinger H. Op. cit. S. 326.
(обратно)67
Benesch Е. Op. cit. S. 343, 345.
(обратно)68
Ibid. S. 512.
(обратно)69
Masaryk T. G. Op. cit. S. 99.
(обратно)70
Ibid. S. 133.
(обратно)71
Ibid. S. 134.
(обратно)72
Hassinger H. Op. cit. S. 330, 331.
(обратно)73
Masaryk T. G. Op. cit. S. 134.
(обратно)74
Ibid. S. 172.
(обратно)75
Ibid. S. 287.
(обратно)76
Masaryk T. G. Op. cit. S. 85, 249.
(обратно)77
Ibid. S. 289.
(обратно)78
Ibid.
(обратно)79
Masaryk T. G. Op. cit. S. 294.
(обратно)80
Ibid.
(обратно)81
Hassinger H. Op. cit. S. 169–171.
(обратно)82
Hassinger H. Op. cit. S. 99–116, 125–176.
(обратно)83
Ibid. S. 325.
(обратно)84
Ibid. S. 582.
(обратно)85
Hassinger H. Op. cit. S. 477.
(обратно)86
Ibid. S. 478.
(обратно)87
Masaryk T. G. Op. cit. S. 233.
(обратно)


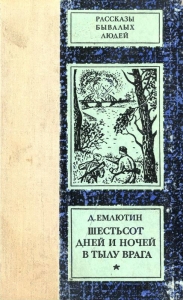
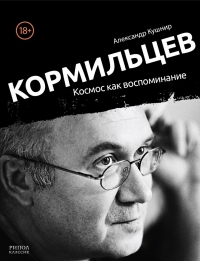

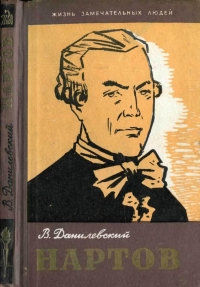
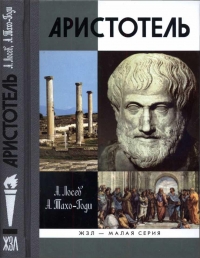
Комментарии к книге «Белая Сибирь. Внутренняя война 1918-1920 гг.», Константин Вячеславович Сахаров
Всего 0 комментариев