Себастьян Сми Искусство соперничества Четыре истории о дружбе, предательстве и революционных свершениях в искусстве
Sebastian Smee
THE ART OF RIVALRY
Copyright © 2016 by Sebastian Smee
All rights reserved
© Н. Роговская, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®
* * *
Джо, Тому и Лейле с любовью
Введение
В 2013 году я отправился в Японию, там сел в сверхскоростной поезд (синкансэн – «поезд-пуля») Фукуока – Китакюсю и поехал смотреть картину Эдгара Дега. Готовность преодолеть огромное расстояние ради встречи с одним-единственным произведением искусства почти всегда чревата непомерно завышенными ожиданиями. Вы пускаетесь в путь как паломник – с надеждой и благоговением. И когда приходит час долгожданного свидания, невольно подхлестываете себя: вам хочется испытать тот градус волнения, который оправдал бы затраты душевных сил, времени и денег. В противном случае вам грозит страшное разочарование.
Во время своей японской поездки я, впрочем, не испытал ни того ни другого. Картина, ради которой я приехал, – это двойной портрет друга Дега, художника Эдуара Мане, и жены Мане – Сюзанны (цв. ил. 1). Бородатый, с иголочки одетый Мане развалился на диване, на лице у него отсутствующее выражение, поза расслабленная – он полусидит-полулежит, опершись на локоть. Напротив него за пианино сидит Сюзанна.
Картина совсем небольшая – ее легко взять в руки, даже не слишком разводя их в стороны. И какая-то очень свежая – как будто написана только вчера. Никакой риторики и высокопарности. Скорее наоборот – от нее веет холодком отстраненности, беспристрастности; и, по счастью, в ней нет ничего придуманного и надуманного.
Вот почему (несмотря на мое классическое паломничество) о разочаровании говорить не приходится. Но и сказать, что картина заставила меня испытать прилив эмоций, тоже было бы неверно: стоя перед ней, я невольно проникался ее странной не-эмоциональностью.
Дега и Мане были близкими друзьями, это мне, конечно, известно. Но в картине чувствуется сдержанность, перерастающая в недосказанность, которая так и не находит своего разрешения. Нельзя с уверенностью утверждать, в каком состоянии пребывает Мане на картине, пока он сидит и слушает игру жены (очень, кстати, хорошей пианистки), – то ли это мучительное оцепенение, ступор, апатия, иссушающая волю и дух, то ли, напротив, счастливое забвение, миг полного и безмятежного блаженства, которое далеко уносит его от всего, что может рассеять грезу…
Чета Мане позировала для портрета зимой 1868/69 года. Прошло всего каких-то пять лет с тех пор, как Эдуар создал «Завтрак на траве» и «Олимпию» (обе – 1863), скандальные полотна, вызвавшие у критиков шок, а у публики хулу и насмешки. (Надо ли говорить, что с сегодняшней точки зрения это две самые знаменитые картины той эпохи.) Затем в течение еще нескольких лет Мане переживал удивительный творческий подъем. Но его работы по-прежнему провоцировали у зрителей бурный протест. Его одиозная репутация только упрочилась.
Чего это ему стоило? Возможно, Дега в 1868 году уже видел перед собой человека, изнуренного своими геркулесовыми подвигами, надломленного недоброжелательством толпы? Или он имел в виду что-то более сложное и более личное?
Здесь пора сказать о том, что в Японию я приехал посмотреть не на ту картину, которую изначально написал Дега, а на то, что от нее осталось после неполного восстановления. Довольно скоро после ее создания часть полотна была откромсана. Ножом полоснули прямо по лицу и телу Сюзанны.
Самое интересное, что безумный акт вандализма совершил вовсе не какой-нибудь музейный посетитель-психопат – вроде тех, что нет-нет да и плеснут кислотой на Рембрандта или грохнут скальным молотком по Микеланджело. Вандалом был сам Мане. И это не может не удручать. Потому что все – все, кто был с ним знаком, – искренне любили Мане. Очаровательный человек – легкий, незаносчивый, сама галантность и обходительность. И вдруг такая дикая выходка, да еще в то время, когда их с Дега считали друзьями (и действительно, создание семейного портрета, предполагающее совместные усилия, указывает на довольно тесную дружбу). Меня эта история всегда ставила в тупик. Расхожее объяснение – будто бы Мане не понравилось, как нелестно Дега изобразил Сюзанну, – звучит более или менее правдоподобно; и все-таки здесь налицо очевидная несоразмерность повода и поступка. Чтобы кромсать картину ножом, должна быть причина посерьезнее.
Я отправился в Японию не для того, чтобы раскрыть тайну, но чтобы к ней приблизиться. Тайны в буквальном смысле действуют как магнит. Но они далеко не всегда притягивают к себе свидетельства. Зачастую они лишь обрастают новыми загадками, новыми, все более и более сложными вопросами и все более странными предположениями.
Стоит ли удивляться, что после инцидента с ножом Мане и Дега на время разошлись. Отношения вскоре восстановились. («Разве можно надолго рассориться с Мане?» – по слухам, сказал Дега.) Но прежними уже не стали. А через десять с небольшим лет Мане умер. Еще через тридцать лет умер Дега – одинокий брюзга, он доживал, окруженный своей коллекцией, которая включала не только порезанную картину (он забрал ее у друга и попытался восстановить), но и три выполненных им карандашных портрета Мане и целых восемьдесят работ самого Мане. Не говорит ли это о том, что и много лет спустя после своей смерти Мане вызывал у Дега особый и, может быть, даже сентиментальный интерес? И если да, то как это понимать?
На мой взгляд, в истории искусства не последнюю роль играют личные отношения, хотя в учебниках про это не пишут. Собственно, моя книга – попытка восполнить этот пробел.
Книга называется «Искусство соперничества», однако «соперничество» не следует понимать слишком буквально, как борьбу не на жизнь, а на смерть двух мускулистых мачо, заклятых врагов, непримиримых противников, которые с бычьим упрямством стараются во что бы то ни стало доказать свое превосходство и в художественном, и в общественном плане. Нет, это книга о способности прислушаться, настроиться на волну другого человека, с открытой душой воспринять чье-то влияние. Коротко говоря, она о восприимчивости. Некоторые закономерности – в частности, то, что восприимчивость характерна для ранних этапов творчества и что всякое влияние недолговечно (длится до известного предела), – по сути, и составляют предмет разговора в книге. Отношения такого типа по определению непрочны. Психодинамика их чрезвычайно шаткая, и описать их с какой-либо исторической достоверностью очень нелегко. И конец у них, как правило, несчастливый. Иными словами, если это книга о соблазнении, то в какой-то мере она также о разрывах и предательстве.
Разрыв отношений всегда оставляет горький след. Даже если удается что-то со временем залатать, всегда непросто ответить на проклятый вопрос – отчего все пошло вкривь и вкось. Чтобы дать ответ, нужно было бы самому дистанцироваться, а это практически невозможно. Слишком велика личная вовлеченность и крепко въевшееся в вас сознание, что вы в долгу перед тем, другим. Каким образом, в свете случившегося, соизмерить пользу и понесенный вами ущерб? Или же оценить ущерб, который причинили вы? Подобные вопросы кажутся отвлеченным теоретизированием. Но их бурлящий шлейф хорошо виден в кильватере четырех историй, составляющих эту книгу.
В начале 2000-х в Лондоне я познакомился с художником Люсьеном Фрейдом. В молодости он дружил с Фрэнсисом Бэконом, и во всем британском искусстве XX века не сыскать дружбы более легендарной. Но и здесь все закончилось разрывом, оставившим тягостный осадок обиды и боли: хотя со смерти Бэкона прошло уже десять лет, мне не советовали упоминать его в разговоре с Фрейдом.
При всем том любой, кто оказывался у Фрейда дома, не мог не заметить на стене гигантское полотно Фрэнсиса Бэкона: жутковатый призрачный образ двух свирепо совокупляющихся любовников-мужчин – зубы оскалены, фигуры и постель словно в тумане. Фрейд купил картину за 100 фунтов на одной из первых персональных выставок Бэкона, незадолго до того, как в их дружбе наметились трещины. Он наотрез отказывался ее продавать. И (за одним-единственным исключением на протяжении полувека) не давал ее выставлять. Почему? Что за этим стоит?
И говорит ли что-нибудь о непростой дружбе Джексона Поллока и Виллема де Кунинга – двух самых прославленных американских художников XX века – тот факт, что меньше чем через год после внезапной смерти Поллока в автокатастрофе де Кунинг завел роман с любовницей Поллока Рут Клигман, единственной выжившей в той роковой аварии?
И что говорит о значении Матисса для Пикассо то обстоятельство, что после смерти Матисса в 1954 году Пикассо не только продолжал создавать изощренные картины-поклонения, отдающие дань Матиссу-живописцу, но и держал на почетном месте в доме написанный Матиссом портрет дочери, Маргариты (портрет, в который сам Пикассо со товарищи, по слухам, на глазах у того же Матисса метал игрушечные дротики)?
Как вы заметили, все восемь художников, героев моей книги, – мужчины. Период, о котором я пишу, – примерно с 1860 по 1950 год – условно считается временем рождения и становления нового, «современного», искусства, однако вся культура этого периода была бесспорно патриархальной. Конечно, и в этот период нередко возникали личные и творческие связи между мужчиной и женщиной и реже – между двумя женщинами-художниками, примеров тому немало, но самые известные среди них (на память приходят прежде всего такие пары, как Огюст Роден и Камилла Клодель, Джорджия О’Киф и Альфред Стиглиц, Фрида Кало и Диего Ривера) несут в себе романтическую составляющую, а это так или иначе затуманивает и усложняет те аспекты дружбы-вражды в искусстве, которые я как раз и пытаюсь здесь выявить. Отношения, не осложненные гетеросексуальным влечением или чувством априорного превосходства сильного пола над слабым, можно было бы условно назвать «гомосоциальными». Они подразумевают – при одинаковом мужском статусе – острую конкуренцию, недоверчивую, осторожную дружбу, восхищение творческим гением и просто любовь, а также стремление подняться на верхние ступени иерархической лестницы, которое на самом деле никогда не иссякает.
Несмотря на вышесказанное, в каждой главе книги женщины играют важнейшую роль. Среди них есть первоклассные художницы – Берта Моризо и Ли Краснер; отважные коллекционеры – Сара Стайн, Гертруда Стайн и Пегги Гуггенхайм; и блестяще одаренные, самостоятельно мыслящие сподвижницы – Каролина Блэквуд и Маргарита Матисс.
Все восемь художников, как известно, знали в своей жизни и другие дружбы, других соперников, другие влияния и стимулы. Но иногда – а по моему глубокому убеждению, как правило – отношения с каким-то одним собратом по творчеству оказываются намного более важными для художника, чем отношения со всеми остальными. Пикассо, думаю, отдавал себе отчет в том, что никогда не написал бы «Авиньонских девиц», свое выдающееся, революционное произведение, и не совершил бы, вместе с Браком, прорыва в кубизм, если бы не поддался соблазну Матисса. И Фрейд тоже сознавал, что так и рисовал бы в своей жесткой, зажатой, мелочно-скрупулезной манере и не стал бы великим живописцем, певцом неприкрашенного человеческого тела, без дружбы с Бэконом. И де Кунинг не открыл бы своего творческого метода и в 1950-х не появились бы его первые бесспорные шедевры без влияния Поллока. И Дега навсегда остался бы художником прошлого, не вышел бы из мастерской на улицу, в кафе, в балетный класс, если бы не подпал под обаяние Мане.
Итак, это книга о роли соперничества в творческом становлении восьми художников, каждый из которых по праву считается одним из величайших мастеров так называемого современного (modern) периода в искусстве. В четырех главах книги рассказывается о четырех знаменитых парах друзей-художников и о том особом этапе жизни – как правило, это три-четыре чрезвычайно насыщенных года, – который целиком прошел под знаком некоего кульминационного события, будь то позирование для портрета, обмен картинами, визит в мастерскую или посещение вернисажа.
В каждом случае два различных темперамента – два типа харизмы – испытали магнетическое взаимное притяжение. В этот момент и тот и другой стояли на пороге важнейшего творческого прорыва. И тот и другой прошли уже огромный путь; но узнаваемый, «фирменный» стиль еще не сложился; заветная, единственно правильная формула истины и красоты еще только угадывалась среди множества разрозненных идей. Гигантский потенциал, и только.
Затем их отношения начинают развиваться – иногда осторожно, шаг за шагом, иногда с ходу на полную катушку, – и тут включается знакомый всем механизм. Допустим, один художник обладает завидной легкостью и спонтанностью (не только в творческом, но и в человеческом плане), тогда как другого не сдвинешь с места. Один не раздумывая идет на риск, пока другой все осторожничает, цепляется за только ему понятный перфекционизм, без конца бьет в одну точку и не может отпустить внутренний тормоз. И когда такой художник-педант встречает более легкого, спонтанного, отважного собрата, для него это как прозрение – и путь к свободе. Ему вдруг открываются неведомые прежде возможности. Меняется не только подход к творчеству – меняется подход к миру, к жизни. Это переломная точка его биографии.
Но дальше все становится намного сложнее. Влияние, поначалу одностороннее, вскоре оказывается взаимным. И хотя наш от природы «подвижный» художник по-прежнему рвется вперед, к нему приходит осознание собственного несовершенства, ведь ему так очевидно недостает определенных технических навыков и фанатичного упорства, которыми с избытком наделен тот, другой.
Каждая из четырех историй очерчивает общую динамику от сильнейшего притяжения к промежуточной фазе амбивалентности, или взаимовлияния, и наконец к полной самостоятельности – тому самому главному в любом творчестве, что зовется «обретением собственного голоса». Это стремление к независимости, к внутренней несхожести с другими, хотя оно вечно борется с потребностью в единении и товариществе, – естественная часть процесса становления всякой действительно мощной творческой индивидуальности. Это стремление подогревается очень современным желанием быть уникальным, оригинальным, неподражаемым, желанием утвердить свое право на одиночество, исключительность, величие.
Неслучайно в каждой выбранной мной паре оба художника – великие и безоговорочно современные: именно такой динамикой – метаниями между одиночеством и признанием, между исключительностью и принадлежностью к группе – пронизана вся история модернизма.
Если существует принципиальная разница между творческим противостоянием в современную эпоху и аналогичным соперничеством во времена более отдаленные – а я считаю, что такая разница есть, – то заключается она в том, что у современных художников сложилась в корне иная концепция «величия». На смену незыблемому принципу (в совершенстве овладев живописной традицией, вписать новую главу в ее развитие) пришла жажда прослыть радикально, эпатажно оригинальным.
Откуда такое стремление?
Прежде всего это реакция на новые условия жизни – на превалирующее ощущение, что новое, индустриальное городское общество, хотя оно и олицетворяет собой в известном смысле вершину западной цивилизации, в то же время в чем-то обездолило человека. У многих появилось тревожное чувство, что новый мир лишает их счастливой возможности жить в единении с природой, или пить из источника духовной жизни, или погрузиться в мир фантазий. Недаром Макс Вебер писал, что мир расколдован.
Отсюда и быстро растущий интерес к альтернативным возможностям. Новые соблазны и увлечения открыли перед художниками огромные неосвоенные пространства. Но, отказавшись от традиционных стандартов, полученных в наследство от прежних эпох, художники неизбежно оказались без руля и без ветрил. Они обрубили все концы – не только закрыли себе давно проторенные дороги к успеху (официальные салоны и премии, торговцы искусством, коллекционеры, меценаты), но и лишились внутреннего мерила, всех ценностных критериев, с которыми могли бы сверяться.
В этих обстоятельствах проблема качества стала насущной. Если художники отвергают общепринятые в их собственной культуре стандарты, то откуда им знать, насколько хороши они сами? Если, к примеру, они (как Матисс) превыше всего ставили искусство детей и на него ориентировались, то как определить, чем замечательно их собственное искусство – чем оно лучше детского? Чем оно превосходит работы тех, кто годами учился мастерству, чтобы не остаться на детском уровне?
Если они, как Поллок, разостлав на полу холст, с помощью простой палочки разбрызгивали по нему краску, кто взялся бы утверждать, что такой творческий метод – шаг вперед по сравнению с живописью художника, который, следуя освященной веками традиции, долго и упорно совершенствовал приемы работы красками и кистью, день за днем проводя с палитрой перед этюдником? Да, конечно, всегда были художественные критики. Как правило, тенденциозные и еще более консервативные, чем публика. Были сочувствующие поэты и писатели. Но никто из них не мог до конца постичь суть этой творческой битвы – для этого нужно самому быть художником.
Иными словами, необходим собрат-художник. Художники даже больше, чем критики и коллекционеры, заинтересованы в том, чтобы раньше других открыть новый потенциал творческих идей и принять участие в отливке новых критериев. Если и других художников удастся поставить под свои знамена, то новые критерии постепенно завоюют доверие и со временем могут даже стать нормой. И твоя аудитория – круг поклонников твоего таланта – будет неуклонно расти. Романтизм Делакруа и реализм Курбе сначала получили признание собратьев-художников, а уж за ними в конце концов потянулся истеблишмент; точно так же произошло с импрессионизмом; так происходило и дальше – с плоским насыщенным цветом Матисса, с гранеными кубистскими формами Пикассо, с брызгами краски Поллока, с размытыми лицами Бэкона и так далее.
Во всяком случае, на этом пути брезжил луч надежды. И потому неимоверные усилия тратились на всевозможные способы вербовки сторонников. В кипящем котле конкуренции немалый вес имела личная харизма. Отношения между художниками, естественно, становились все более доверительными, но и более сложными… Потому что, как знать, вдруг кто-то из собратьев-художников лучше тебя умеет впечатлить и обворожить самых важных на этом этапе коллекционеров – скажем, Стайнов в Париже? Что, если интерес конкурента к африканскому искусству и Сезанну не совсем такой, как у тебя, и в нем есть некое качественное отличие? Что, если невооруженным глазом видно: твой собрат намного сильнее тебя как рисовальщик – или обладает, не в пример тебе, безошибочным врожденным чувством цвета? Что, если твой друг и соперник, а не ты, рожден для успеха?
Эти вопросы носят далеко не абстрактный характер – они болезненно остры и взяты из самой жизни. В так называемую современную эпоху противоборство уже не сводилось только лишь к спору, кто выше в художественном отношении, кто самый отважный и важный. На кону стояли и вполне земные, осязаемые блага. Ну и конечно, соперники нередко сходились в поединке на полях любви и дружбы.
В этом смысле искусство соперничества вырастает из самой природы всяких близких отношений: с одной стороны, судорожные попытки стать ближе, еще и еще ближе, а с другой – необходимость как-то их уравновешивать борьбой за сохранение индивидуальности.
Мане и Дега
Без хитрости, коварства и порока не бывает картины, как не бывает преступления.
Эдгар ДегаВ конце 1868 года Эдгар Дега написал портрет своего близкого друга Эдуара Мане. Вернее, двойной портрет. На картине (цв. ил. 1) изображен Мане, вальяжно полулежащий на диване, и его жена Сюзанна – за фортепиано, спиной к нему.
Иными словами, это портрет семейной жизни.
Сегодня картину можно увидеть в малоизвестном музее современного искусства на самом южном японском острове Кюсю. Музей находится на вершине холма в пригороде Китакюсю, промышленно-портового города, обращенного в сторону материкового Китая. Прекрасный вид на лесистые рощи и сады создает атмосферу покоя и уединения. Но само здание 1970-х годов являет собой печальное зрелище безликой модернистской руины. Облицовка кубических объемов облупилась и потускнела, огромные залы внутри неестественно пусты, и в целом этот музей, проникнутый бодрым духом урбанистического идеализма, но при этом словно бы стыдливо спрятанный подальше от людских глаз, неприятно диссонирует с тихой, полусонной камерностью картины Дега.
Жена Мане изображена в профиль. Русые волосы зачесаны наверх, открывая маленькое, аккуратное ухо и толстоватую шею с тонкой черной бархоткой. Черные полосы на широкой светло-серой, с голубым отливом, юбке подчеркивают складки ткани, мягко ложащейся на пол. Блузка из газа (материя, представляющая большую сложность для всякого живописца), через который просвечивает розовая кожа, за исключением нескольких непрозрачных участков, например на швах, с двойным слоем ткани, – прием, который позволил художнику щегольнуть виртуозной техникой. В картине почти нет яркого цвета – только красный на подушке (примерно в центре композиции) и нежно-мечтательный бирюзовый, с тропической томностью льнущий к фигуре Сюзанны.
Холст, выбранный художником для портрета четы Мане, не слишком большой, горизонтального формата. Картина прекрасно смотрится в резной золоченой раме. Если бы не одна вопиющая несуразность.
Она заметна даже на расстоянии: большой кусок справа – четверть, если не треть полотна – оставлен пустым, на нем нет живописи! Подойдя поближе, вы понимаете, что на самом деле часть старого холста просто отрезана и заменена новым. Этот добавленный участок был загрунтован и покрыт тонким светло-коричневым подмалевком, вероятно с намерением восполнить утрату; однако намерение так и не было реализовано. В полудюйме от стыка можно разглядеть неровную вертикальную дорожку из крошечных гвоздиков. В правом нижнем углу незаписанного участка – подпись Дега красной краской.
Фоном для портрета служит квартира Мане на четвертом этаже дома по улице Санкт-Петербург в квартале Батиньоль, неподалеку от площади Клиши. Здесь, у подножия холма, где впоследствии состоится столь знаменательное знакомство Пабло Пикассо с Матиссом, и жили супруги Мане вместе со своим сыном-подростком Леоном и овдовевшей матерью Мане, Эжени-Дезире. Сюзанна была родом из Голландии – крепко сбитая, миловидная блондинка с румянцем на щеках. Она прекрасно играла на пианино, так что Дега не случайно усадил ее за инструмент. По четвергам у Мане регулярно собирались гости (Дега на правах близкого друга бывал у них запросто и в персональном приглашении не нуждался), и Сюзанна всегда радовала их своей игрой.
Все, кто лично знал Мане, его обожали. Очаровательный, сердечный и при этом бесстрашный человек – о таком друге можно только мечтать. Как и многие другие, Дега искренне его любил. К началу работы над этим семейным портретом Дега уже семь лет дружил с Мане. Но возможно, он полагал, что еще не сумел узнать его по-настоящему, и предложил позировать для портрета не только в надежде прочнее скрепить узы дружбы (чуть окрашенной негласным добродушным соперничеством), но и для того, чтобы подобраться к нему как можно ближе, проникнуть в интимную жизнь этого приятнейшего из людей.
Дега, так же как Люсьен Фрейд, интуитивно тянулся к разгадке внутренней тайны людей, в особенности тех, с кем он был близок. Ему не давало покоя то, что, при всей светскости, легкости, шарме, у Мане за душой несомненно есть нечто, надежно укрытое от посторонних глаз. И это нечто, по убеждению Дега, каким-то образом связано с Сюзанной. Чем теснее переплетаются судьбы двух этих художников, тем больше Дега уверяется в справедливости своей догадки. И вот, словно гончая, взявшая след, он рвется вперед, повинуясь инстинкту, не в силах ему противиться, даже если погоня обернется во вред ему самому.
Нам неизвестно, как долго продолжались сеансы позирования. Неизвестно, играла ли Сюзанна на пианино, пока Дега работал, и если да, то что именно. Зато доподлинно известно, что, закончив картину, Дега – справедливо удовлетворенный результатом своих усилий – преподнес ее в дар Мане.
То, что за этим последовало, до сих пор ставит в тупик биографов и искусствоведов.
Некоторое время спустя (точнее никто сказать не может) Дега нанес визит в мастерскую Мане. Украдкой взглянув на свою картину, он сразу заметил неладное. Кто-то полоснул холст ножом. Прямо по лицу Сюзанны.
Потребовав объяснений, Дега с изумлением узнал, что злоумышленник – сам Мане. Что тот сказал в оправдание своего поступка – остается тайной. Вполне вероятно, Дега был слишком ошарашен и не слушал. Он просто встал и вышел, как он позднее вспоминал, «не попрощавшись», и забрал свою картину.
Вернувшись к себе, Дега снял со стены маленький натюрморт Мане (который тот великодушно подарил ему, после того как Дега за ужином случайно разбил салатницу), упаковал его и отослал назад Мане, приложив, по свидетельству Амбруаза Воллара, записку со словами: «Месье, возвращаю Ваши „Сливы“».
Эдуар Мане – непутевый старший сын почтенных родителей, принадлежавших к так называемому высшему буржуазному сословию, haute bourgeoisie. Отец Огюст Мане занимал высокие посты в Министерстве юстиции. Мать Эжени-Дезире была дочерью французского эмиссара в Швеции, и ее крестным отцом стал наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, с 1818 года – шведский король Карл XIV. Жизненный путь ее первенца Эдуара был предопределен – ему предстояло пойти по стопам отца и заняться юриспруденцией. Однако ни талантом к наукам, ни прилежанием он своих родных не радовал. «Полностью непригоден», – гласил вердикт, вынесенный наставниками коллежа Роллен, престижного парижского лицея, с которым юный Мане вскоре и распрощался. Единственным его увлечением было искусство. Брат матери, Эдмон-Эдуар Фурнье, разделял пристрастие племянника и даже сам давал ему первые уроки рисования. В сопровождении Фурнье мальчик вместе со своим лицейским приятелем Антоненом Прустом стал бывать в Лувре (там же, в Лувре, через десять с лишним лет он познакомится с Дега).
В 1848 году, когда Европу сотрясали революции, юноша выпросил у отца разрешение поступить в военно-морскую академию, но провалил вступительные экзамены. У него оставался шанс предпринять еще одну попытку, если он хорошо зарекомендует себя во время плавания на учебном судне через Атлантику в Рио-де-Жанейро. И он поплыл, мучительно страдая от морской болезни («…Качает так, что находиться внизу, под палубой, просто невозможно», – писал он матери). Он пересек экватор – знаменательное событие для всякого моряка; упражнялся в фехтовании; делал зарисовки своих товарищей-матросов. Когда корабль наконец прибыл в Рио, он увидел бразильский карнавал и рынок рабов («отвратительное зрелище для людей вроде нас»), а во время вылазки на остров в бухте Рио его укусила змея.
Он мечтал поскорее вернуться в Париж. Там ему разрешили повторно сдать вступительный экзамен, и он снова его провалил. Отец смирился с неизбежностью и позволил сыну учиться на художника. В следующем, 1850 году он уже посещает мастерскую Тома Кутюра, прогрессивного по тем временам художника академической выучки. Кутюр, хоть и оставался академистом в выборе сюжетов, отнюдь не держался за ветхие принципы и готов был экспериментировать с ярким цветом и фактурой. Мане проведет в его ателье шесть долгих лет.
1850 год знаменателен еще и тем, что тогда начался его роман с Сюзанной Леенхоф, молодой голландкой, которую родители Мане наняли учить сыновей игре на пианино. Тайные свидания в квартире Сюзанны на улице Фонтен-о-Руа привели к тому, что весной 1851 года она забеременела. Сюзанне было двадцать два. Мане только девятнадцать. В начале 1852 года Сюзанна родила сына – Леона.
Связь с нанятой отцом учительницей музыки довершила череду проступков и неприятностей, которыми юный Мане доставлял родителям массу огорчений. Он плохо учился, и путь в юриспруденцию был для него закрыт; он дважды провалил экзамен в морскую академию и в довершение всего вбил себе в голову, что хочет стать художником. Сплошные разочарования. Но мало-помалу родители усвоили, что судьба наградила их непутевым и очень упрямым сыном и что из попыток заставить его подчиниться родительской воле толку все равно не будет.
Однако беременность Сюзанны – совсем другое дело: это полная катастрофа. Внебрачный ребенок, да еще родившийся у матери-иностранки, которая по своему происхождению стояла на несколько ступенек ниже новоиспеченного отца, – само по себе скандальное нарушение всех норм буржуазной морали. А в данном случае ужас положения усугублялся особым статусом Мане-отца – судьи, заседавшего в парижском Дворце правосудия, в суде первой инстанции департамента Сена, где ему, между прочим, нередко приходилось разбирать дела об отцовстве. Стоит ли говорить о том, каким позором это могло обернуться для респектабельного главы семейства? Чтобы Огюст Мане принял в семью бастарда – о таком даже помыслить было нельзя, и его провинившийся сын на этот счет, конечно, не заблуждался.
Необходимо было все сохранить в тайне.
По счастью, Мане мог довериться матери. Она немедленно взяла дело в свои руки и списалась с матерью Сюзанны, которая примчалась из Голландии в Париж. Леон родился 29 января 1852 года. В книге регистраций появилась следующая запись: «Коэлла, Леон-Эдуар, отец – Коэлла, мать – Сюзанна Леенхоф» (никакого упоминания о Мане), а для всех непосвященных ребенок был младшим братом Сюзанны, последним из детей женщины, которая в действительности приходилась ему бабкой.
Мане стал крестным отцом ребенка. С тех пор он на протяжении многих лет сновал между родительским домом и квартирой в Батиньоле, где жили Леон, Сюзанна, ее мать, а позже и ее два брата, тоже переехавшие из Голландии в Париж.
Иными словами, Мане вел двойную жизнь – не по своей воле, а под давлением обстоятельств. В его жизни с юных лет имелась тайна, которую нужно было свято от всех хранить. И ее хранили. Семейство Мане настолько в этом преуспело, что нам до сих пор доподлинно не известны подробности рождения и младенчества Леона. Все надежно укрыто плотной завесой тумана. И можно только гадать, до какой степени это повлияло на дальнейшую судьбу и характер Мане. Одно кажется несомненным: все это часть того нерва, который ощущается за внешней жизнерадостной беспечностью его живописи.
По своим убеждениям Мане был республиканец. И когда в конце 1851 года Луи-Наполеон совершил переворот, приведший Францию к режиму Второй империи, он не скрывал своего отчаяния. Грубая диктатура, подавление свободомыслия надолго лишили республиканцев всех надежд, вскруживших им голову после бурных событий 1848 года. Жестоко разочарованные политическим курсом страны, молодые художники и писатели отошли от больших общественных тем и обратились к более частным, камерным сюжетам. Мане не остался в стороне от этой тенденции, но в нем под маской внешней невозмутимости пылал республиканский огонь. Недаром он со своим другом Прустом вышел на улицы 2 декабря 1850 года, когда Луи-Наполеон (или Наполеон III, как он повелит именовать себя всего год спустя) узурпировал власть. В тот день молодые люди стали свидетелями царящего кругом хаоса и кровопролития. Их даже арестовали и на несколько ночей заперли в участке – больше, впрочем, ради их же собственной безопасности.
Под тягостным впечатлением от государственного переворота Мане вместе с другими студентами из ателье Кутюра ходил на монмартрское кладбище, куда свозили тела жертв уличных столкновений, и делал натурные зарисовки. Нотка горечи, которая будет слышна во многих его работах, – возможно, эхо печального личного опыта. Она несомненно звучит в «Мертвом тореро» (1864), в «Казни императора Максимилиана» (1868–1869) и в «Самоубийстве» (1877); ее отзвук – словно покорившая Фрэнсиса Бэкона «тень жизни, проходящая сквозь времена» в полотнах кумира Мане, испанского художника Диего Веласкеса, – угадывается даже в его, казалось бы, искрящихся радостью картинах. Да, за легендарным шармом Мане скрывалась изрядная доля меланхолии, если не черной тоски. Именно этот диссонанс много лет спустя так заинтриговал Дега, который сам, надо сказать, был рефлексирующим интровертом.
Вечная головная боль родителей, никудышный, ни к чему не способный старший сын, Мане годам к двадцати пяти каким-то чудом превратился в приятного, импозантного молодого человека. Позади были годы ученичества у Кутюра – мэтра достаточно прогрессивного, чтобы позволить начинающему художнику искать новые пути, и достаточно академичного, чтобы тот же молодой художник восстал против его ретроградства и обрел наконец свое неповторимое лицо. Мане выработал в итоге очень энергичную, живую, новаторскую и свежую манеру письма с опорой на чувственный, гибкий мазок, сильный контур и внезапные переходы света и тени. Все это разбудило интерес критиков. Перед выставленной в Салоне 1861 года картиной «Испанский певец» (на пустом темном фоне изображен гитарист, гитареро, примостившийся на синей скамейке) не смог устоять никто – и консерваторы, и апологеты прогресса наперебой превозносили Мане.
К тому времени парижский Салон уже больше века служил важнейшим во всем западном мире смотром искусства, здесь, и только здесь создавалась репутация художника. Это было официальное, финансировавшееся из государственной казны мероприятие. Просторные, от пола до потолка завешанные картинами залы собирали толпы зрителей, которые приходили посмотреть на актуальный срез современной живописи. В Салоне царила эклектика. Все мыслимые стили были здесь представлены, и все они спорили между собой за внимание публики и критики. Амбициозные живописцы, не жалея сил, создавали гигантские композиции, бойко перепевая на новый лад старые сюжеты. В своем подавляющем большинстве выставленные работы были продукцией официальной культуры с ее незыблемым принципом: без традиционной техники не бывает эстетического совершенства. Сюжеты, воспевающие буржуазные добродетели и – при каждом удобном случае – немеркнущую славу Франции, всегда приветствовались. А потому едва ли не все они были обращены в прошлое – исторические, библейские, мифологические сцены нравоучительного содержания. Такие полотна служили укреплению великой, но изрядно выхолощенной традиции. Произведений, которые отражали бы настоящую жизнь современного Парижа, на главной парижской выставке попросту не было. Вскоре все изменится. Но тогда, в 1860-х, успех в Салоне воспринимался как первая необходимая ступень в карьере живописца. И Мане, несмотря на свой веселый и легкий нрав, искренне в это верил. В последующее десятилетие он из года в год прилежно посылал работы в отборочную комиссию Салона. Иногда их принимали, иногда нет. Его удручало засилье клише в искусстве, и своим творчеством он последовательно восставал против устоев Салона. Его совершенно не интересовали набившие оскомину подвиги Геракла или помпезные триумфы Наполеона. Он отнюдь не был равнодушен к женской красоте, но фарфоровая гладкость и сусальная чувственность салонных венер, прикрытая фиговым листком благонравия, ничего, кроме презрения, у него не вызывали. Но больше всего его возмущало единодушное нежелание салонных живописцев запечатлевать на холсте хотя бы некоторое подобие подлинной жизни, личных пристрастий, духа времени, в котором они жили.
Старых холщовых туфель музыканта и повязанного у него на голове белого фуляра под черной шляпой оказалось достаточно, чтобы автора «Испанского певца» записали в «реалисты». Тем самым в глазах публики он с первых шагов оказался в одной компании с Гюставом Курбе, чьи бескомпромиссные полотна с сельскими тружениками, лесистыми пейзажами и откровенно эротичными обнаженными начиная с 1850 года не переставали сотрясать истеблишмент. Шумный, бесцеремонный, сам себя продвигавший к успеху Курбе на дух не переносил мещанской мелочности в искусстве и всегда хранил верность неприкрашенной правде жизни, что очень импонировало Мане (а в будущем произведет громадное впечатление на Люсьена Фрейда). Курбе тошнило от назойливой эксплуатации в официальном искусстве заезженной мифологии и подвигов давно минувших дней. Больше, чем кто-либо из художников его поколения, он хотел, чтобы его картины говорили о том, что значит жить здесь и сейчас.
Но Курбе был по сути своей провинциал, его волновала сельская жизнь – не городская. Применительно к городу (а в то время ни один город мира не мог сравниться с Парижем по своей разноликости и рафинированности) слишком буквально трактуемый Курбе реализм мог показаться довольно примитивным и грубым. Мане хотелось найти его городской, просвещенный эквивалент. Повинуясь скорее интуиции, чем точному расчету, он вырабатывал новый подход, в котором сочетались бы прямота Курбе и уклончивость, игривость, своенравие – словом, все то, что отражало его собственную личность.
Живописные подробности «настоящей жизни» в картинах вроде «Испанского певца» намеренно отходят от реализма, как его понимал Курбе. И хотя у Мане есть вкус к жизни и свежесть восприятия, иными словами нечто совершенно новое для живописи той эпохи, в его веселых стилевых пастишах чувствуется провокационная ирония эрудита. Его картины словно бы лукаво подмигивают понимающему зрителю. Когда кто-то заметил, что гитарист в «Испанском певце» – левша, а струны на инструменте в его руках натянуты для правши, Мане ничуть не смутился и всю вину возложил на зеркало. «Что тут скажешь? – рассмеялся он. – Так вышло, что голову я написал в один присест. Работал часа два, потом посмотрел на картину в зеркальце и решил, что все в порядке. Больше к ней не притрагивался».
Короче говоря, «реализм» Мане – никакой не реализм, или, если угодно, это реализм понарошку, непринужденная и в то же время замысловатая эстетическая игра, которой он тогда только начал овладевать. Здесь главное не правила – правила могут меняться, – а сам дух игры. В Салоне его обманчиво простые, но хитро задуманные картины произвели сильное впечатление.
Молодые художники, дружной ватагой нагрянувшие в Салон 1861 года, по свидетельству критика Фернана Денуайе, в растерянности застыли перед полотном никому неведомого Эдуара Мане, «мучительно роясь в памяти и спрашивая себя, откуда он взялся, этот Мане». Было в картине что-то особенное – не только в сюжете, но и в его беспечной трактовке, – что-то, сулившее, как им почудилось, освобождение от рутины. То был знаменательный час – поворотный момент. Художники все вместе отправились к Мане, прихватив с собой и кое-кого из литераторов, в частности поэта и художественного критика Шарля Бодлера и критика и романиста Эдмона Дюранти. Мане радостно приветствовал восторженную молодежь. С того дня он, сам на то не претендуя, фактически стал лидером молодого поколения живописцев, мечтавших изменить генеральный курс истории искусства.
С Дега Мане познакомился в том же 1861 году, бродя по залам Лувра. Ему было почти тридцать, Дега – двадцать шесть или двадцать семь. Мане увидел молодого человека с недовольной миной на печальном лице, короткой бородкой, высоким лбом и бездонно-черными глазами под приспущенными веками. Устроившись в одной из больших галерей Лувра с подрамником и офортной доской, он бился над гравюрой по картине Веласкеса «Инфанта Маргарита».
Поскольку Мане сам переживал затяжное увлечение Испанией и превыше всех художников ставил прославленного придворного летописца Филиппа IV, нет ничего удивительного в том, что он забрел в галерею, где висел небольшой портрет светловолосой инфанты (позднее луврский портрет стали приписывать «мастерской Веласкеса», но это к делу не относится). К тому же с недавних пор Мане и сам с увлечением постигал тайны искусства офорта и имел на сей счет кое-какие соображения.
Он неторопливо приблизился к Дега и сразу же увидел, что тот не справляется. Мане кашлянул и в легкой, дружелюбной манере обронил несколько дельных советов. При других обстоятельствах такой непрошеный урок мог неприятно задеть страшно ранимого и самолюбивого Дега. И если слова коллеги возымели обратное действие, то заслуга в этом целиком принадлежит Мане, умевшему расположить к себе кого угодно. Впоследствии Дега написал, что никогда не забудет полученного в тот день от Мане урока – «как и его многолетней дружбы».
Дега был старшим и самым любимым из пятерых детей в семье, которая, подобно семейству Мане, жила в большом достатке. Его дед Илер немало повидал на своем веку. В начале пути он занимался спекуляциями на зерновой бирже и валютными операциями. В 1792 году его невесту отправили на гильотину за пособничество врагам революции. Илеру грозила та же участь, но его вовремя предупредили, и в следующем году он бежал из Парижа. Позже он принял участие в Египетском походе наполеоновской армии и в конце концов осел в Неаполе, там он женился и основал банк. Дела его шли прекрасно, и вскоре он стал личным банкиром нового неаполитанского короля Иоахима Мюрата, приходившегося зятем самому Наполеону благодаря браку с его родной сестрой. Даже после низложения Наполеона и повторной реставрации монархии Бурбонов Илер продолжал набирать обороты и сколотил огромное состояние – его палаццо в центре Неаполя насчитывало сотню комнат. Своего сына Огюста, будущего отца Дега, он поставил во главе парижского филиала семейного банка. Огюст женился на Селестине Мюссон, семнадцатилетней креолке, дочери преуспевающего торговца хлопком, который незадолго до этого перебрался в Париж из Нового Орлеана. Она умерла, когда ее первенцу, Эдгару Дега, было всего тринадцать.
Дега учился в лучшей парижской школе – лицее Людовика Великого (Луи-ле-Гран); среди ее прославленных выпускников были Мольер, Вольтер, Робеспьер, Делакруа, Жерико, Гюго и Бодлер. Дега был способным и весьма требовательным к себе юношей. Его отец увлекался искусством и свою любовь передал сыну, хотя и в мыслях не держал, что сын может сам стать художником; Эдгар должен был пойти по его стопам – изучать юриспруденцию. И Дега начал учиться на юриста, но очень быстро понял, что ничего из этого не выйдет: он заболел искусством. Принимая во внимание его несомненный талант и твердость намерения, отец в конце концов согласился пойти навстречу желанию сына – при условии, что заниматься он будет всерьез. Огюст самолично выбрал сыну наставника – известного в то время художника Луи Ламота, и пристально следил за его успехами. Дега, со своей стороны, искренне желал оправдать надежды отца и жил как аскет, полностью посвящая себя искусству.
Рано лишившись матери, Дега рос в мужском окружении. Помимо овдовевшего отца, у него было два деда (оба вдовцы) и по меньшей мере четверо холостых дядьев. Во Франции эпохи Второй империи на холостяков смотрели косо. Тогдашняя медицина связывала холостяцкий образ жизни с нервными расстройствами, а общественное мнение – с безнравственностью (склонностью к гомосексуализму, либертинизму и прочим опасным причудам) или, того хуже, с импотенцией, вызванной сифилисом. Позже, в 1870-х годах, в ходе полемики вокруг новой конституции Третьей республики даже предпринимались попытки лишить холостяков избирательного права.
Несмотря на общественное порицание, примеров стойкого нежелания жениться вокруг было немало – не только в семье Дега, но и в богемной среде, с которой молодой художник все больше себя ассоциировал. Так, почти все художники из числа будущих импрессионистов не спешили связывать себя узами брака. На своих многолетних подругах они зачастую женились уже после рождения детей.
В молодые годы, будучи в Италии, Дега подумывал о монашеской жизни. Он выбрал искусство. Но монашеский склад ума был ему, несомненно, присущ. «Все самое прекрасное в искусстве, – говорил он, – идет от самоотречения».
Вскоре после судьбоносного знакомства в Лувре в 1861 году Мане и Дега стали видеться по нескольку раз на неделе. Их многое сближало – не в последнюю очередь принадлежность к определенному слою общества, выделявшая их из основной массы собратьев по цеху. Но дело не только в этом. Мане несомненно оценил блестящий и самобытный талант Дега.
В студенческие годы Дега без устали совершенствовал свой рисунок. У него был феноменальный дар рисовальщика, намного превосходящий рисовальный талант Мане. И он знал, что такое дисциплина. Он навсегда запомнил напутствие своего кумира, великого неоклассициста Энгра, которого он, молодой студент, посетил, трепеща от благоговения, в 1855 году: «Рисуйте линии, молодой человек, линии и снова линии, по памяти и с натуры, – и станете хорошим художником».
Для Дега и всех людей его поколения Жан Огюст Доминик Энгр был воплощением высокого, непререкаемого авторитета. Сам же Энгр боготворил классическую античность. Никто другой не испытывал такого восхищения, граничившего с одержимостью, искусством Древней Греции и Рима, его благородной простотой, совершенством линий. В отношении Энгра к античности ощущался налет мистицизма. «Древние все видели, все понимали, все чувствовали, все изобразили», – говорил он. По Энгру, линия в искусстве превыше всего – и не только с точки зрения техники. О нравственной составляющей его позиции свидетельствуют многие высказывания мэтра, в частности хрестоматийная формула «Рисунок – это высшая честность искусства». Подобные постулаты указывают на то, что в художественном творчестве Энгр отстаивал принципы благонравия и соразмерности. Незыблемые ценности.
Надо оговориться, что художник Энгр был смелее и свободнее собственной забронзовевшей репутации. Однако он выдвигал сугубо академическую концепцию искусства, в основе которой лежит четко разработанная система стандартов и профессионального образования. Отсюда неизбежно следовало, что постижение мастерства – дело непростое, многотрудное.
Энгр олицетворял собой все, против чего инстинктивно восставал Мане. Мане – но не Дега. Строгий, дисциплинированный, идеологизированный подход Энгра не только встречал полное одобрение со стороны Де Га – отца, он в чем-то главном соответствовал внутреннему устройству, складу личности Дега-сына. Если Мане чем дальше, тем больше стремился к эффекту спонтанности и раскованности (ему хотелось, чтобы его картины были лаконичны, искрометны, точны, как реплика острослова), то Дега – возможно, под влиянием отца – почти не мог обходиться без отрадного чувства, что он постоянно преодолевает трудности и, значит, относится к своему делу ответственно. «Уверяю вас, – скажет он много лет спустя, – нет искусства менее спонтанного, чем у меня. Все, что я делаю, – это результат размышлений и штудирования великих мастеров». Одним из тех великих, кому все и впрямь давалось титаническим трудом, был Энгр. Его обнаженные, как и его светские портреты, излучают безмятежный покой, но, чтобы этого добиться, он буквально изводил себя. Его не устраивало то одно, то другое, и так до бесконечности. «Если бы они только знали, сколько я бьюсь над их портретами, – сказал он по поводу одного особенно мучительного для него заказа, – они бы меня пожалели». Он снова и снова делал подготовительные наброски и этюды. Нередко полностью отказывался от своего замысла после месяцев, а то и лет изнурительной работы. А потом в вечной погоне за совершенством вновь возвращался к прежним сюжетам, и так по многу раз на протяжении своей долгой карьеры. В этом смысле Дега был истинным преемником Энгра. Он тоже культивировал трудности. Для каждой новой композиции он делал десятки подготовительных рисунков. В уже написанных, тщательно продуманных картинах он постоянно что-то исправлял и переделывал. В отличие от Мане, который выдавал картины одну за другой, почти, кажется, не задумываясь, словно для него не существовало понятия «завершенности» (недаром на многих его картины производили впечатление эскизов), Дега испытывал невероятные терзания, еще на подступах к той стадии, когда он мог бы сказать, что картина закончена. Дега навсегда сохранил почтение к Энгру. Но в конце 1850-х, проведя два года в Италии, он попал под влияние Гюстава Моро – отважного экспериментатора в технике живописи, а по своим вкусам законченного эклектика (и – в будущем – учителя Анри Матисса). От Моро Дега пришел к Делакруа, главному сопернику Энгра. Делакруа, к тому времени уже, образно говоря, старый, усталый лев, во многом сам мог считаться консерватором. Но за ним прочно закрепилась слава радикала, представителя свежей силы в искусстве, какой в 1820–1830-х годах был романтизм.
Эжену Делакруа не было никакого дела до Энгра с его невротической одержимостью железной дисциплиной рисунка. Он совершенно сознательно метил в священные догмы классицистов, заявляя, что «в природе нет линий». В мире, где все выпукло (трехмерно), предметы выявляют себя благодаря окрашенному свету, который меняется под воздействием окружающей атмосферы и постоянно преобразующихся условий бытия. По его убеждению, неоклассицизм в своем стремлении дотянуться до вечных истин сплошь и рядом искажал истинную картину мира, искусственно погружая его в состояние некоего статического равновесия (stasis). Для Делакруа жизнь, миф, история пребывают в вечном движении.
Неудивительно, что его взгляды нашли горячий отклик у молодого поколения живописцев, в том числе у Мане, который перенял у Делакруа любовь к цвету, свободный, ясно различимый мазок (резко контрастирующий с манерой Энгра, у которого красочный слой всегда идеально гладкий) и акцент на динамике.
Делакруа голосовал за то, чтобы жюри Салона 1859 года приняло картину Мане «Любитель абсента» (сумеречное полотно, на котором изображен пьяница-тряпичник по имени Колларде, промышлявший на улицах вблизи Лувра). Голос Делакруа оказался единственным, и картину отвергли. Но по-видимому, Делакруа отметил молодого Мане и хотел его поддержать.
Многие положения теории Делакруа – особенно его идеи относительно цвета и движения – Дега считал заслуживающими внимания. Поэтому, несмотря на скептическое недоумение отца, он начал экспериментировать с более свободной живописной манерой, насыщенным цветом и динамичной композицией. Дега вознамерился найти способ скрестить две противоборствующие концепции – неоклассицизм Энгра и романтизм Делакруа.
Такое желание едва ли можно назвать оригинальным: в середине XIX века многие художники пытались проложить срединный путь между полюсами классицизма и романтизма. Но Дега мечтал о собственном, никем еще не испробованном синтезе. На протяжении многих лет он писал большие полотна, иллюстрирующие подчеркнуто условные эпизоды из истории и мифологии, в надежде выработать оригинальный художественный язык, который вобрал бы в себя стилистику обоих направлений. Эти живописные эксперименты замечательны своей яркой самобытностью – до сих пор недооцененной. Но мучительная битва с самим собой доводила Дега до изнеможения. Он был подавлен, удручен, во всем сомневался и чувствовал, что снова и снова заходит в тупик. Ему стоило неимоверных усилий довести картину до желаемого результата – в голове у него роилось столько идей и все они так плохо уживались друг с другом, что в эстетическом плане он неизбежно оказывался между двух стульев. Над полотном «Юные спартанцы» («Спартанские девушки вызывают на состязание юношей»), начатым в 1860-м, он трудился два года, но в итоге остался им недоволен. (Восемнадцать лет спустя Дега вновь полностью его переработал.) Задумав картину «Эпизод средневековой войны», он выполнил десятки этюдов – среди которых есть настоящие шедевры, причисляемые к лучшим рисункам человеческой фигуры в искусстве XIX века, – но законченное полотно, представленное в Салоне 1865 года, сильно отдает фальшивой натужностью какой-нибудь музейной диорамы, претенциозной и нелепой. Больше двух лет он работал над своей самой масштабной и амбициозной исторической картиной «Дочь Иеффая», которая знаменует пик влияния Делакруа на Дега, но в конце концов ее забросил. Картина осталась незавершенной.
Знакомство с Мане пришлось как нельзя кстати. Оно хорошенько встряхнуло мятущегося молодого художника. Мане был одарен природным обаянием. В нем удивительно уживались мальчишеское озорство и взрослая обходительность, одно постоянно перетекало в другое, молниеносно и незаметно, так что вы покорялись его шарму прежде, чем успевали это осознать. У него было живое, выразительное лицо, в его чертах Золя углядел «нечто утонченное и энергичное». По словам одного приятеля, он являл собой редкий тип мужчины, поскольку умел говорить с женщинами; подразумевается, что он умел слушать. Слегка кивая головой, он давал понять собеседнику, что весь внимание, а когда чем-то восхищался, то одобрительно прищелкивал языком и улыбался в пшеничную, с рыжиной, бороду.
У него была легкая, плавная походка, изящная стопа. Слова он произносил чуть небрежно, подражая выговору парижского рабочего люда, хотя одевался щегольски – пиджак в талию, светлые брюки (иногда английские бриджи-джодпуры) и высокий цилиндр. Костюм дополняли жилетка с золотой цепочкой, перчатки и трость. В модной одежде он чувствовал себя непринужденно и держался соответственно – просто, раскованно, с налетом беспечности.
В глазах восторженных почитателей Мане являл собой совершенное воплощение светского человека, парижского фланера времен Второй империи. Каждый день, отобедав в кафе «Тортони», в самой гуще стекавшегося на Большие бульвары парижского общества, он на пару с Бодлером прогуливался в саду Тюильри и заодно делал быстрые зарисовки с натуры. У него сложилось романтическое представление об особом статусе Веласкеса при дворе испанского монарха Филиппа IV – статусе, позволявшем художнику всегда оставаться благородным, неподкупным, объективным летописцем эпохи, и Мане с лукавой многозначительностью именовал себя в шутку «Веласкес из Тюильри». Ближе к вечеру, между пятью и шестью, он возвращался в «Тортони», где обычно собирались его поклонники, показывал им сделанные днем наброски и выслушивал похвалы.
В гостях у друзей, в обстановке более камерной и неформальной, Мане любил сидеть на полу по-турецки; слегка подавшись вперед, расслабив плечи, он довольно потирал руки и смотрел на всех с веселым прищуром.
Такая же раскованность, без оглядки на общепринятые правила, видна в его живописи. Широкими, размашистыми мазками он энергично наносил прямо на холст живые, сочные краски, словно не ведая о традиционной практике постепенного построения красочного слоя от более темных слоев к светлым. Он предпочитал прием фронтального освещения (отчего все предметы еще больше уплощались), свободную манеру в духе Франса Хальса и Делакруа и насыщенный черный цвет (резко контрастировавший с его преимущественно светлой палитрой), беспечно пренебрегая промежуточными переходными тонами. Зрителя не оставляет ощущение, будто художник любил все, что писал, и в самой его поспешной небрежности чувствуется не только налет эротики, но и натиск, как если бы сама идея любви была сродни боксерскому скользящему удару.
Мане обладал искристым юмором и вечно подтрунивал над своими друзьями; его разговор был пересыпан ироничными остротами, но обижаться на его беззлобные насмешки могли разве что недотроги и параноики. Когда (через несколько лет после знакомства Мане с Дега) Золя послал ему предисловие ко второму изданию своего скандального романа «Тереза Ракен», Мане сердечно поздравил друга: «Браво, дорогой мой Золя, отличное предисловие, здесь Вы встаете на защиту не только целой группы писателей, но и целой группы художников». Но напоследок, как повелось, вставил маленькую шпильку: «Должен заметить, что всякий, кто умеет парировать удары так, как Вы, наверное, только и ждет, чтобы его атаковали».
Мане никогда не завидовал успеху своего брата художника. Как говорил его приятель Фантен-Латур, он «всегда хвалит живопись тех, кто ему симпатичен».
Воодушевленный успехом «Испанского певца», Мане создает один новаторский шедевр за другим: за «Мальчиком со шпагой» (1861) последовали «Лежащая молодая женщина в испанском костюме» (1862), «Уличная певица» (1862), «Музыка в Тюильри» (1862), «Лола из Валенсии» (1862–1863) и серия офортов! Вызывающе смелые, яркие, полные жизни образы. Тогда у Мане было такое чувство, что ему все по плечу. Он нарядил брата в костюм матадора и написал его портрет в полный рост («Салютующий матадор», 1866–1867) – то же самое он уже проделывал со своей новой любимой моделью, Викториной Мёран («Мадемуазель В. в костюме эспады», 1862), эскизно изобразив на заднем плане сцену корриды. Большого смысла в этом нет. И не надо. Зато художественная интуиция и пристрастия Мане пребывают в полной гармонии с его возможностями и техническим арсеналом. Ему достаточно было внутренней убежденности в том, что его идеи, пусть даже самые фантастические, как-нибудь пробьются, – пробился же в 1861 году его «Испанский певец»!
«У Мане есть почитатели, даже фанатичные приверженцы, – признавал Теофиль Готье. – Вокруг этой новой звезды уже вращается несколько сателлитов».
Дега никогда не согласился бы на роль «сателлита». Но ему, переживавшему период мучительных поисков, смотреть на бурное творческое фонтанирование Мане было, вероятно, удивительно и, что греха таить, завидно. В то время как Мане увлеченно импровизировал, буквально брызжа уверенностью в своих силах и с каждым шагом приближаясь к своей скандальной славе, Дега старательно копировал распятия Андреа Мантеньи, отдавая лучшие молодые годы бесконечным переделкам умозрительных, схематичных композиций и неоправданно трудоемким попыткам отразить последние открытия ассириологов в полотнах вроде «Семирамиды, строящей Вавилон» – полотнах, несмотря на все его титанические усилия, мертворожденных.
Пока Мане вкушал плоды первых успехов своего беспечно-игривого отношения к прошлому – даже к таким кумирам, как Веласкес и Делакруа, – Дега всерьез мерился силами с великими живописцами былых эпох. «Наш Рафаэль, – иронизировал его отец, – все работает, работает, только результатов пока не видно, а годы между тем идут». В другом письме, пару лет спустя, он написал: «Что Вам сказать об Эдгаре? Мы с нетерпением ждем открытия выставки. У меня есть все резоны полагать, что он не уложится в срок».
Бесконечно исправлявший свои незаконченные полотна, Дега не мог равнодушно смотреть, как легко, словно по наитию, Мане – «его глаз и рука – сама уверенность» (по отзыву того же Дега) – поверял холсту свои впечатления от увиденного. «Проклятый Мане! – скажет Дега английскому художнику Уолтеру Сикерту. – Все, что он делает, у него сразу получается как надо, а я столько мучаюсь, и всегда что-нибудь не так».
Вероятно, не без зависти наблюдал он и за успехом Мане в обществе. Болезненный для его чувствительного самолюбия пример Мане во многом сослужил ему добрую службу. Точно так же, как Фрэнсис Бэкон раздвинул границы внутреннего мира Люсьена Фрейда (научив его получать настоящее удовольствие от новых людей и ситуаций, от новых форм социального и эстетического потенциала современной жизни), Мане помог Эдгару Дега выбраться из скорлупы. Его пример заставил Дега осознать, чего можно достичь, если отбросить страхи и сомнения. Вероятно, на этом этапе самое сильное впечатление на него производило присущее Мане чувство уверенности. Дега понял, что ему необходимо развивать в себе подобную смелость.
В годы, последовавшие за их первой встречей, Дега распрощался с исторической живописью и аллегориями. Он обратил свой взгляд на современную ему жизнь Парижа эпохи Второй империи – ту самую жизнь, которая так пленяла Мане. Выйдя из каземата собственной души и собственных навязчивых идей, он вступил в шумный, многоцветный, головокружительный мир Мане и влюбился в образ неугомонного города. Он сам превратился в «заядлого посетителя театральных премьер, фланера, завсегдатая кафе», как написал его биограф Рой Макмаллен. А главное, представление Дега о том, к чему он стремится в своем творчестве, стало более масштабным и гибким.
Разумеется, в этом смысле на него повлиял не только Мане. Нельзя не упомянуть Курбе: его страстная живописная манера, как и сама личность шумного, бесцеремонного орнанца, стали мощным стимулом для французских художников еще в предыдущем десятилетии. Товарищи Дега, Уистлер и Тиссо, тоже внесли свою лепту. И тем не менее самыми полезными, плодотворными и перспективными для всей последующей карьеры Дега стали его отношения с Мане.
Вечный холостяк Дега взирал на известные ему супружеские пары – в том числе на Мане и Сюзанну – с горьким сожалением, отдающим неприязнью. Хотя где-то глубоко внутри он немного завидовал тем, кто обрел счастье в браке. В юности он однажды поверил своему дневнику сентиментальную надежду на будущее семейное счастье: «Хорошо бы мне найти себе славную женушку, простую и тихую, которая поняла бы странности моей души и с которой я мог бы вести скромную трудовую жизнь. Приятно ведь помечтать?» Но в возрасте тридцати пяти он уже производил впечатление «закоренелого холостяка, насквозь пропитанного желчью тайных разочарований», как выразился один из встретивших его после долгого перерыва приятелей.
Отношения между мужчинами и женщинами, как внутри института брака, так и вовне его, постоянно занимали Дега в качестве сюжетов картин. У него был нюх на скрытые разногласия и недовольства, которые возникали между представителями противоположного пола, и с фанатичным упорством он разрабатывал эту тему в своих полотнах. Одна за другой его ранние картины – особенно «Юные спартанцы» и «Эпизод средневековой войны» – рисуют женщину или группу женщин слева в некоем антагонистическом противопоставлении мужчине или группе мужчин справа. К концу 1860-х, когда он приступил к двойному портрету Мане и Сюзанны, странная озабоченность не только конфликтом полов, но и браком как таковым достигла в его творчестве звенящего накала.
Сказать, что отношение к женщинам у Дега было сложным, значит не сказать ничего. С одной стороны, женская красота его глубоко трогала, и общество умной женщины он находил приятным и даже пленительным, а с другой – как типичный мужчина XIX века, он побаивался пресловутой женской «мягкости» – умения исподволь уговорить, обезоружить, подчинить себе мужчину. Если обратиться к творчеству писателей и художников той поры, легко убедиться, что такой взгляд отнюдь не редкость. В романе «Кузина Бетта» (1846) Бальзак показал, какой катастрофой обернулась женитьба для талантливого молодого скульптора. Герой романа братьев Гонкур «Манетта Саломон» художник Наз де Кориолис искренне убежден в том, что, только храня безбрачие, творец может сохранить и свою свободу, свою силу, ум и совесть. Слишком многих художников, по мнению Кориолиса (прообразом которого послужил отчасти Дега), сгубили жены, вынудив принести талант в жертву моде и тщеславию, сиюминутной выгоде и коммерции, так что от прежних чистых идеалов не осталось и следа. А ведь брак – это еще и бремя отцовства. Где уж тут вспоминать о высоком призвании! Недаром художники Курбе и Коро упорно не хотели жениться, полагая, что связывать себя серьезными обязательствами перед женщиной – значит понапрасну тратить отпущенную тебе творческую энергию. «Женатый человек всегда реакционер», – провозгласил Курбе. Делакруа и тот пришел в несвойственное ему возбуждение, когда молодой художник рассказал ему о своем намерении жениться. «А если вы любите ее и она хороша собой, то пиши пропало, – заключил он. – Вашему искусству крышка! Художник не может позволить себе никакой страсти, кроме творчества, и ради творчества он должен жертвовать всем».
Дега, по словам Макмаллена, принимал подобный образ мыслей близко к сердцу. К «женам», как некой обобщенной категории, он неизменно относился с покровительственным высокомерием. Что же до собственного решения остаться холостяком, то он объяснял это так: «Больше всего я боялся, что однажды закончу картину и жена скажет: „А что, очень мило“».
Его общий настрой, прочный сплав самозащиты и презрения, не мог не сказаться и на отношении к непостижимому, на взгляд постороннего, союзу Мане и Сюзанны.
Историки искусства не пришли к единому мнению по поводу скептического отношения Дега к браку – искать ли причину в преданности музам и веяниях времени, или же тут нечто иное, не столь очевидное, и художник носил в себе какую-то мрачную тайну. «Искусство – не жена, а любовница, – обмолвился он однажды. – На любовнице не женятся, ее берут». В литературе о Дега эту эпатажную метафору часто связывают с одной весьма двусмысленной и частично стертой записью в его дневнике за 1856 год, когда художник был очень молод, двадцати одного года от роду. По всей видимости, запись подверглась цензуре самого Дега. Однако загадочные обрывки позволяют предположить, что речь идет о не самом целомудренном свидании:
«Не могу выразить, как я ее люблю, потому что для меня она… Понедельник, 7 апреля. Не могу противиться… как стыдно… беззащитная девушка. Постараюсь повторять это как можно реже».
Догадки строить легко, но выяснить, что в действительности произошло, невозможно. Однако, что бы там ни было, это событие всколыхнуло чувства, справиться с которыми молодому Дега было совсем непросто.
Парижский маршан Амбруаз Воллар, впоследствии сыгравший ключевую роль в карьере Матисса и Пикассо, был одним из тех, кто близко знал Дега и решительно отвергал набивший оскомину трюизм, будто бы Дега терпеть не мог женщин. «Никто не любил женщин больше Дега», – торжественно заявил он. По мнению многих друзей, главной его проблемой была робость – боязнь быть отвергнутым – или же излишняя щепетильность, не позволявшая настойчиво добиваться той, которая ему приглянулась. Истоки его болезненной робости, как уверяли некоторые, крылись в импотенции, но вполне вероятно, что это не более чем домыслы. Так или иначе, несомненно одно: столь характерный для творчества Дега отстраненный взгляд наблюдателя, подчас с оттенком вуайеризма, привносил в его сюжеты элемент тайной драмы.
Иногда самая трудная вещь на свете – быть самим собой. Впрочем, Мане, если судить по внешнему впечатлению, подобных трудностей не испытывал. Иное дело Дега. Никакая броня светскости не могла скрыть тот факт, что ему неуютно в собственной шкуре. Должно быть, Мане смутно об этом догадывался. Сам Дега несомненно отдавал себе в этом отчет и очень этим терзался. После двадцати он был неимоверно на себе зациклен и к тридцати годам написал без малого сорок автопортретов. То, что вскоре после знакомства с Мане он с автопортретами покончил, говорит само за себя. Оставил он и все попытки добиться признания благодаря масштабным историко-мифологическим полотнам. Он переключился на портреты. Портреты других людей.
Последний из его автопортретов написан в 1865 году. Точнее, это двойной портрет – Дега изобразил себя вместе с приятелем-художником. Характерно, что на этом этапе своей биографии Дега не пожелал увековечить свою дружбу с Мане или с кем-то еще из ярко одаренных живописцев, которых он к тому времени хорошо знал лично, – возможно, избегая нелестных для себя сравнений. Он выбрал Эвариста де Валерна – неудачника, бездарность, заслуженно забытое нынче имя.
Дега симпатизировал Валерну, его смелым амбициям, его уверенности, что успех не за горами. Вряд ли Дега сам заблуждался на его счет. Но (как он написал Валерну в трогательном письме несколько десятилетий спустя) он и собственные перспективы оценивал невысоко. «Я чувствовал себя таким неумелым, таким неоснащенным, таким слабым, в то время как мои выкладки относительно искусства казались мне такими правильными. Я клял весь мир и клял себя». Дега сам открыто признавал, что являет собой «причудливый экземпляр». Близких друзей у него было наперечет, и, похоже, никто не знал наверняка, что творится у него внутри и что он в действительности думает о ком-либо из своих знакомых. Взгляд его темных, глубоко посаженных глаз всегда был обращен внутрь, в некое закрытое от всех, сугубо личное пространство, где проще выносить непредвзятое суждение. И если под его взглядом другим становилось неуютно, то справедливости ради заметим, что Дега и себе не давал спуску: его дневники пестрят самообличениями. А его ранние автопортреты – выстраданный итог горького, беспощадного самоанализа, не имеющего аналогов в искусстве.
Со временем Дега научился эффективно компенсировать все эти несчастные свойства своей натуры. Начать с того, что он бывал убийственно остроумен, и никому не хотелось попасть ему на прицел. И у него был нюх на слабости в характере других людей, особенно родственные его собственной уязвимости. Много лет спустя, в 1880-х, английский художник Уолтер Сикерт, наслышанный о разящих оценках Дега и оттого отчаянно робевший в его присутствии, попытался преодолеть свой страх и, как это нередко бывает, впал в болтливость и позерство. (Кстати, Люсьен Фрейд очень любил вспоминать эту историю.) Дега же, напротив, вел себя на удивление сдержанно, пока наконец однажды не повернулся к Сикерту со словами: «Напрасно стараетесь, Сикерт, вам все равно не скрыть, что вы джентльмен».
Чтобы объяснить, какое воздействие оказал на Дега в начале 1860-х Эдуар Мане с его специфическим подходом к искусству (и, соответственно, против чего именно Дега довольно скоро начал восставать), необходимо прежде сказать о влиянии на самого Мане поэта Шарля Бодлера.
Мане был денди. Его главной любовью стал город: городские типы, маски, секреты, калейдоскоп иллюзий – все, что во времена Второй империи составляло жизнь Парижа, города сложного, социально противоречивого, до крайности театрального и непрестанно меняющегося. Париж вдохновлял Мане. Но у него не было намерения создавать сугубо реалистический портрет города. Потому что еще одним источником вдохновения ему служил Бодлер.
Некоторое время, в начале 1860-х, Мане встречался с поэтом почти ежедневно. Бодлер оказал на него глубочайшее влияние, но не своими теоретическими, программными установками, а скорее своим особым восприятием, образом мыслей и чувств, всем своим поэтическим темпераментом. За маской пресыщенности скрывалась больная, мятущаяся душа. Аполитичный мечтатель и сенсуалист, Бодлер был тем не менее сполна наделен гуманистическим состраданием к униженным и отверженным – это был певец всех мучеников. «Пусть весь людской род ополчится против меня, – однажды написал он. – Это станет моей единственной радостью, единственным утешением». Уживавшиеся в Бодлере непримиримые крайности делали общение с ним на редкость интересным, а его дружбу чрезвычайно лестной.
Он родился в 1821 году, то есть был на добрый десяток лет старше Мане. Плодовитый автор, заядлый наркоман, бич буржуазии. К журналистике – прежде всего к художественной критике – он обратился в 1842 году. К началу дружбы с Мане, в середине 1850-х, его главные критические сочинения – самые замечательные и прозорливые работы об искусстве XIX века – были уже написаны. Его возлюбленная, Жанна Дюваль, к тому времени уже больше десяти лет влачила печальную жизнь инвалида, а сам Бодлер не только страдал от сифилиса, но и погряз в долгах. Мане был одним из многих, к кому поэт обращался за помощью и кто оказывал ее без всякой надежды вернуть ссуженные деньги.
В своем самом знаменитом и поныне эссе «Художник современной жизни» Бодлер выступил адвокатом частной – преходящей, относительной, прихотливой красоты, противопоставив ее красоте обобщенной – вневременной, абсолютной, классической. «Не все заключено в Рафаэле», – писал он. Модное платье, элегантный веер, последний шедевр модистки – не что иное, как подлинные приметы современности, свидетельства переменчивой жизни города, и в самой их недолговечности заключена по крайней мере половина (возможно, самая интересная) двуединого целого – красоты. Он призывал художников смелее изображать «картинки из жизни высшего света и беспорядочного существования тысяч обитателей городского дна»; характерные «движения, торжественные или гротескные позы»; случайных прохожих, «чье промелькнувшее лицо заворожило» взгляд, и даже атрибуты моды, ибо «в тяге к украшениям один из признаков благородства, искони присущего человеческой душе», – иными словами, запечатлевать «красоту нынешних времен и теперешних нравов», все то, чего избегали авторы картин, выставлявшихся в ежегодных Салонах. Страстные призывы Бодлера оказались удивительно созвучны собственным убеждениям Мане. В работах 1860-х годов ему хотелось выразить мысль, которая у Бодлера отлита в формулу «всем векам… присуща своя красота». Мане задался целью представить панораму городской жизни во всем ее многообразии и совершенно по-новому.
Ни художник, ни его друг – поэт и критик – не были бесстрастными репортерами, которые смотрят вокруг холодным, отстраненным взглядом. Нет, для обоих Париж – неисчерпаемый источник вдохновения, город, где правят тайна и театральность, черствость и чувствительность, город, который изменялся «быстрей, чем сердца́». В отношении Бодлера к современному городу было много глубоко личного, сиюминутного, дразнящего. В его поэтическом лексиконе повторяются эпитеты «безжизненный, праздный, тайный, сокрытый, уединенный»; их визуальные эквиваленты можно обнаружить в излюбленных мотивах Мане: черная кошка, букет цветов, черная лента, ниспадающее волнами платье, наполовину очищенный апельсин, веер и пустое, отрешенное лицо.
В 1863 году, через два года после успеха «Испанского певца», три картины и три офорта Мане были включены в выставку работ, отвергнутых жюри официального Салона. В историю искусства эта выставка вошла под названием «Салон отверженных». Жюри в том году свирепствовало как никогда, возмущенные художники подали протест, и Наполеон III лично распорядился устроить альтернативную выставку отклоненных работ, чего никогда прежде не случалось. Для Мане такой неожиданный поворот был вдвойне неприятен – после успешного дебюта в Салоне 1861 года он не рассчитывал оказаться в компании неудачников.
Одна из его картин, выставленная под названием «Купание», – всем известный ныне «Завтрак на траве». Сюжет этого лукавого пастиша из ренессансных картин (упомянем только «Сельский концерт» Джорджоне) очень прост: пикник на лоне природы; на первом плане трое – обнаженная женщина и двое одетых мужчин. Для картины позировали девятнадцатилетняя Викторина Мёран (с нее Мане еще раньше писал свою «Уличную певицу»), брат художника Эжен и брат Сюзанны Леенхоф Фердинанд.
Даже на наш сегодняшний взгляд, картина кажется эксцентричной – хотя от нее невозможно оторваться. Совершенно очевидно, что ее не следует воспринимать как сцену из реальной жизни. Однако именно так ее и восприняли первые зрители, у которых фантазия Мане вызвала гневное недоумение. Безобразие – голая женщина посреди парка! Что она себе позволяет? И почему, если на то пошло, мужчины рядом с ней полностью одеты? Они нимало не смущены, как будто это самая естественная вещь на свете, только женщина почему-то смотрит с картины прямо на зрителя. А как прикажете понимать купальщицу на заднем, кое-как проработанном плане? Никто не знал. Один из критиков высказал догадку, что холст Мане не более чем мальчишеская выходка – «все равно как выставить напоказ безобразную болячку».
Другие картины Мане, выделявшиеся на фоне обычной салонной продукции благодаря смелым пятнам локального цвета, плоскостному, как на афише, решению и резким тональным контрастам, тоже успеха не имели. Публика валом валила в Салон отверженных – поглумиться. Главной мишенью насмешек стал Мане, частично потому, что его работы сразу привлекали внимание, а частично потому, что пример черни подал сам император. Явившись на выставку с официальным визитом, он якобы на мгновение задержался перед «Завтраком» Мане, состроил брезгливую мину и в молчании прошествовал дальше. Вкус Мане, написал один критик, «безнадежно испорчен пристрастием ко всяческим вывертам». «Я бессилен проникнуть в смысл этой вульгарной загадки», – недовольно заметил другой.
Но Мане был редкий упрямец. В 1861 году он изведал вкус успеха. Он понимал, что отступать нельзя. И тогда, при горячей поддержке сторонников, он решил пойти на риск, еще смелее экспериментировать со стилем и сюжетом.
Однако с каждой новой попыткой на него обрушивался поток хулы, который раз от раза становился все яростнее. Мане держался стойко, хотя в душе тяжело переживал нападки недоброжелателей. В 1864 году в ответ на критику картины «Эпизод корриды» – за «неудачное» плоскостное решение пространства – он разрезал холст на несколько частей. В 1865 году Мане представил на суд жюри «Олимпию» – большое полотно, на котором натурщица Викторина Мёран запечатлена в образе куртизанки, поджидающей клиента. Вместе с «Олимпией» Мане послал в жюри Салона религиозную картину «Мертвый Христос и ангелы». Само сочетание духовного и мирского несло в себе провокационный заряд. Картины были приняты. «Мертвый Христос» успеха не имел. Даже те, кто прежде поддерживал Мане и помогал ему мириться с неудачами, теперь отпускали колкости. Курбе, к тому времени уже бунтарь с солидным стажем, раздраженный скандальной славой младшего товарища, ехидно поинтересовался, с чего это Мане взял, что у ангелов пышные бедра и большущие крылья, не иначе он с ними коротко знаком. Даже Бодлер, честно старавшийся исподволь укрепить ряды сторонников Мане, не удержался от замечания: рана от копья на теле Христа сместилась справа налево.
Но все это сущие пустяки по сравнению с той бурей, которую вызвала «Олимпия»: ничего подобного в анналах истории искусства вы не найдете. Мане вновь изобразил Викторину нагой – на ней нет ничего, кроме бархотки на шее, золотого браслета на руке и атласных туфелек. Женщина лежит на приготовленной постели, опираясь спиной на подушку, и с циничным бесстыдством в упор смотрит на зрителя. Картина открыто перекликается с Тициановой «Венерой Урбинской», но вместе с тем вызывает в памяти стихотворение «Украшения» из сборника Бодлера «Цветы зла»: «И разделась моя госпожа догола; / Все сняла, не сняла лишь своих украшений». Его «госпожа» ведет себя как опытная жрица любви: «…прилегла на диван, / Улыбается мне с высоты безмятежно… / Насладилась игрой соблазнительных поз / И глядит на меня укрощенной тигрицей…» (перевод В. Микушевича).
Критика отзывалась об «Олимпии» с неслыханной резкостью. «Искусство, павшее столь низко, недостойно даже осуждения», – постановил Поль де Сен-Виктор. Эрнест Шесно, незадолго до того сам купивший одну работу Мане, не мог простить художнику «почти ребяческого незнания азов рисунка» и непонятной тяги «к чудовищной пошлости». Женщина на картине, так называемая Олимпия, по его мнению, была просто «смехотворна», как и «громогласное заявление [Мане] о попытке создать нечто значительное – хороша претензия при полной беспомощности исполнения»! Другой критик про выставленные в тот год картины Мане сказал: «…безобразные полотна, как нарочно сделанные, чтобы дразнить толпу, – то ли розыгрыш, то ли пародия, не поймешь».
Публика реагировала не лучше. По свидетельству Эрнеста Филлоно, перед полотнами Мане зрителей охватывала «эпидемия истерического смеха». Но раздавались и угрозы, причем от слов поборники морали порывались перейти к делу. Картину пришлось перенести в самый дальний зал и повесить высоко над дверью, чуть ли не под самый потолок, так что было уже не разобрать, «смотришь ты на кусок голого тела или на груду белья». (Двумя годами раньше на персональной выставке Мане в галерее Мартине какой-то разгневанный господин попытался ткнуть тросточкой в картину «Музыка в Тюильри».)
«В общественном мнении образовалась яма под названием Мане – как вмятина в сугробе, куда провалился незадачливый путник», – написал критик, апологет реализма, Шанфлёри в письме Бодлеру во время работы злополучного Салона. Художника поносили так громко, так единодушно и так обидно, что Мане на грани нервного срыва воззвал к Бодлеру: «Оскорбления сыплются на меня градом, никогда еще не попадал я в такой переплет… Мне очень нужно было бы знать Ваше мнение о моей работе, от этих криков у меня голова кругом, но одно очевидно: кто-то здесь не прав».
Кто-то не прав. Но кто?
Бодлеру не нужно было объяснять, через какие испытания пришлось пройти Мане. В 1857 году, после выхода в свет сборника стихов «Цветы зла», Бодлера, его издателя и типографа отдали под суд и оштрафовали за оскорбление общественной морали. Шесть стихотворений пришлось из книги изъять (запрет на публикацию оставался в силе почти сто лет), а имя Бодлера стало синонимом разврата.
Но, несмотря на собственный печальный опыт и любовь к Мане, Бодлер не захотел подарить художнику утешение и поддержку, в которых тот отчаянно нуждался. В его ответном письме к Мане проскальзывает легкая досада. После непринужденного вступления, где он с усмешкой роняет: «Никак Вы удостоились чести внушать ненависть», Бодлер, как будто бы обреченно вздохнув, переходит к делу:
«Итак, я должен поговорить с Вами о Вас. Должен доказать Вам, чего Вы стоите. Ваши претензии просто нелепы: над Вами, видите ли, смеются; насмешки Вас расстраивают; к Вам все несправедливы и т. д. и т. п… Вы всерьез думаете, что до Вас никто никогда не оказывался в таком положении? Вы полагаете себя гениальнее Шатобриана или Вагнера? Над ними потешались ничуть не меньше, и они от этого не умерли. А чтобы Вы не возгордились, я добавлю, что они оба пример для подражания – каждый в своей области, причем в эпоху, исключительно богатую талантами, тогда как Вы всего лишь первый на фоне нынешнего упадка изобразительного искусства. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за прямоту и не усомнитесь в моем дружеском к Вам расположении».
Бодлер, по его собственному признанию, принадлежал к тем «счастливым натурам, кого ненависть окружающих согревает, а презрение возвеличивает» в собственных глазах. Мане был далеко не столь неуязвим, и больной поэт прекрасно это понимал. Но когда твой друг на грани истерики, лучшее средство привести его в чувство – отхлестать по щекам. Так что нарочитая резкость Бодлера объясняется просто.
На следующий день в письме их общему другу Шанфлёри Бодлер заметил: «Талант у Мане сильный, такой талант выстоит. Но характер у него слабый. Кажется, он совершенно убит и безутешен. Я все-таки не перестаю удивляться на глупцов, потирающих руки от радости, что теперь ему точно конец».
Реакция Бодлера, помимо всего прочего, напоминает нам о том, сколь шатким было тогда положение Мане. Сама природа его творчества вызывала массу вопросов. Мало кто понимал, можно ли принимать его всерьез. Что, если он просто паяц, провокатор, пустышка, художник-однодневка? Сегодня мы смотрим на 1860-е в биографии Мане как на десятилетие творческого прорыва, когда было создано множество самых знаменитых и смелых его работ. Но вместе с тем это было время постоянно нарастающего давления извне, время деморализующих поражений. Каждый год Мане проводил, так сказать, смотр своих резервов, тщательно продумывал стратегию и тактику наступательной операции и снова, как и год назад, штурмовал Салон, посылая туда лучшие свои картины. И год за годом повторялось одно и то же: ему либо сразу давали от ворот поворот (когда жюри отклоняло его работы), либо позволяли сполна испить чашу унижения (в качестве мишени для бешеной злобы толпы). Во всем XIX веке не найти другого художника, который подвергался бы таким жестоким, грубым нападкам. У человека, жаждавшего общественного признания и мечтавшего об официальных почестях, многочисленные громкие провалы выбивали почву из-под ног. Из очередной передряги он выходил с видом пловца, изнуренного борьбой с океанским прибоем: вот он стоит пошатываясь, ветер треплет выгоревшие на солнце волосы, и он даже улыбается (в конце концов, его никто не заставлял тягаться с волной), но с каждым годом силы убывают, и храбриться ему все труднее.
К 1867 году он впал в уныние и больше не верил в удачу. В последующие два года Мане пишет всего десяток-полтора картин – это он, художник, славившийся своей плодовитостью! Внешне он все тот же милый бонвиван, но круг его ближайших друзей заметно сузился. «Бесконечные выпады против меня сломали во мне какой-то жизненно необходимый элемент, – скажет он позже. – Никто не может представить, каково постоянно сносить издевательства. Это подрывает силу духа и медленно тебя убивает».
В отношениях Мане и Бодлера давно зрело зерно разочарования. Хотя бы потому, что Бодлер был поэт, а не художник, к тому же на десять лет старше Мане. Он несомненно оказал огромное влияние на художников молодого поколения, но сам хранил верность своему давнишнему кумиру Делакруа и не всегда понимал молодых – что именно они хотели выразить и зачем им понадобилось изобретать какие-то особые средства выразительности.
Поэтому профессиональный совет, стимул, одобрение Мане мог получить никак не у Бодлера, а только у своего брата живописца. И в этом смысле никто не мог сравниться с Эдгаром Дега.
В Дега он обрел не просто друга, но единомышленника. В то время, когда он больше всего нуждался в поддержке, о таком можно было только мечтать. Однако Мане прекрасно понимал, что с Дега нельзя обращаться свысока, как с каким-нибудь протеже или прислужником, если не хочешь накликать беду: Дега не стал бы мириться с ролью подчиненного, это было не в его характере. И разумеется, Мане знал, насколько Дега честолюбив. Пока они в первые несколько лет осторожно друг к другу присматривались, Мане не раз имел возможность убедиться в превосходных профессиональных навыках своего нового товарища. В середине 1860-х они часто ходили вместе на скачки. На нескольких мастерски сделанных Дега набросках Мане стоит в цилиндре, непринужденно засунув руку в карман сюртука, и всматривается в даль – само воплощение естественной элегантности. Эти и другие рисунки, которые Мане видел в мастерской Дега, поражали исключительной, почти пугающей виртуозностью. Дега-рисовальщик был под стать Энгру, с той лишь разницей, что пожелай он, и его послушная рука мгновенно обретала энергию и спонтанность Делакруа.
Начиная с середины 1860-х Дега незаметно набирался сил – и в плане техники (рисунок и композиция), и в плане характера (железная целеустремленность), – то есть развивал в себе те качества, которых зачастую недоставало Мане. Рисунок его сплошь и рядом хромал, композиция и правила перспективы устраивали разные каверзы. Не раз и не два – если перспектива не давалась или в композиции отсутствовал нужный баланс – проблему приходилось решать с помощью ножа, и на продажу шли потом отдельные части.
Неуклюжие попытки Дега награвировать копию с картины прямо в Лувре могли на первых порах внушить Мане ощущение собственного технического превосходства, но исходная расстановка сил очень скоро изменилась на прямо противоположную. По части техники Дега был безупречен, оставив Мане далеко позади. Восхищаясь его мастерством, Мане не мог не досадовать на собственное несовершенство, даже если замечал с тайной радостью, что молодой друг находится под огромным его, Мане, влиянием.
В ту пору Мане и Дега принадлежали к постоянно расширявшемуся кружку художников, писателей, музыкантов; им всем было под или чуть за тридцать. Во второй половине 1860-х годов излюбленным местом их встреч стало кафе «Гербуа». В «Гербуа» было два длинных смежных зала. В первом, с выходом на улицу, восседала на высоком стуле кассирша. Зал был оформлен с претензией на шик знаменитых кафе Больших бульваров, в частности пролегавшего неподалеку Итальянского бульвара: зеркала, белые стены, позолота. Роскошь в стиле эпохи Второй империи.
Раз или два в неделю здесь за двумя специально оставленными для них столами собирались участники так называемой Батиньольской группы (по названию квартала Батиньоль, где находилось кафе «Гербуа»). Среди них были художники Фантен-Латур, Альфонс Легро, Альфред Стевенс, Джузеппе Де Ниттис, Пьер Огюст Ренуар, Фредерик Базиль, Джеймс Уистлер (хотя время от времени он жил в Лондоне), а иногда также Клод Моне и Сезанн. И не только художники. К ним регулярно присоединялись фотограф Надар, поэт Теодор де Банвиль, музыкант и меценат Эдмон Метр, несколько писателей и критиков, в том числе Эмиль Золя, Теодор Дюре и друг Дега, его «соумышленник» Эдмон Дюранти.
В этих регулярных многолюдных собраниях ощущалась сплоченность, надежность, как будто все эти люди и впрямь представляли некую организацию. Но в другие вечера в «Гербуа» они разбивались на группки по двое или по трое, пили кофе, играли в бильярд в заднем зале. Атмосфера здесь была более камерная, ряды колонн поддерживали невысокий потолок. Игра шла на пяти бильярдных столах, которые, как правило, тонули в клубах дыма. В тусклом газовом свете люди проступали неотчетливо, словно зал населили какие-то тени, – играли в карты, сидели, развалившись, на красных банкетках, то выдвигались из-за колонн, то вновь за ними скрывались.
Хозяин заведения Огюст Гербуа с большой симпатией относился к облюбовавшим его кафе художникам и писателям и всячески их привечал. Вспоминая атмосферу этого места и характер тогдашних разговоров, Клод Моне тридцать лет спустя писал: «Для нас не было ничего более увлекательного, чем эти словесные баталии. Они не давали уму лениться, они вселяли веру в бескорыстные поиски истины, они окрыляли: полученного заряда энтузиазма хватало на многие недели, пока твой замысел обретал конкретную форму. Мы расходились, чувствуя себя закаленными для борьбы, с окрепшей волей, прояснившейся целью, просветленной головой».
Мане (которого только недавно в одном газетном обзоре перепутали с Моне) не менее, а может быть, и более, других нуждался в ободряющем духе товарищества – в «заряде энтузиазма».
В любом сообществе, даже самом неформальном, постепенно складывается своя иерархия, и нет ни малейших сомнений в том, что неофициальным лидером Батиньольской группы был Мане. При всем непонимании со стороны критики и широкой публики в среде художников-единомышленников его особый статус никем не оспаривался. Разумеется, этому способствовало его человеческое обаяние, но главную роль играл профессиональный авторитет. Во всей когорте прогрессивных художников, писателей и поэтов не было человека смелее, решительнее и упрямее Мане. И уж точно ни о ком другом столько не говорили.
Дега ничуть не заблуждался относительно первенства Мане в кругу батиньольцев. Но поскольку у него с Мане сложились отношения более близкие, чем у большинства художников их группы, он в некотором роде купался в лучах славы Мане. В кафе «Гербуа» он редко сидел на месте. В заднем зале (бильярдной) он переходил от одной группы к другой, возникая словно ниоткуда и роняя остроумные, меткие, полные иронии и сарказма реплики. Он не выносил глупцов и презирал сентиментальность. Но держался скромно и бывал очень забавен, – по слухам, он бесподобно подражал голосу и манерам общих знакомых. Несмотря на свое привилегированное происхождение, он вел спартанский образ жизни, всего себя отдавая искусству. Если он и «задирал нос», то, как выразился критик Арман Сильвестр, это был «нос следопыта».
Общение Мане и Дега не ограничивалось парижскими кафе – между их семьями установились тесные связи. Пятнадцатилетнего Леона устроили работать посыльным в банк к отцу Дега, Огюсту. Несколько раз в неделю приятели-художники бывали друг у друга в гостях. Желая отплатить Мане и Сюзанне за гостеприимство, Огюст Дега тоже стал устраивать музыкальные вечера для узкого круга друзей. Потом к ним еще прибавились домашние концерты у мадам Моризо, матери трех очаровательных сестер – Ив, Эдмы и Берты.
Если в компании у Гербуа Мане бесспорно верховодил, то в камерной обстановке домашних вечеров они с Дега выступали практически на равных. Острый ум Дега сверкал тогда особенно ярко, а его меланхоличный облик казался особенно гипнотическим в декорациях буржуазной гостиной, где тон по преимуществу задавали женщины. Из них двоих Дега несравненно лучше понимал музыку, и любой исполнитель, Сюзанна в первую голову, не мог этого не отметить. Возможно, он не был рожден мгновенно располагать к себе самых разных людей, как Мане, но он больше читал и мог со знанием дела изящно и точно высказываться по поводу таких предметов, о которых Мане не слишком задумывался.
Когда ты кем-то очарован, в душе у тебя поднимаются разом две волны: уступая неодолимому влиянию извне, ты в то же время ощущаешь равновеликое, хотя и прямо противоположное инстинктивное желание сохранить себя, собрать все силы – и дать отпор. А если твое самосознание еще не до конца сформировано, как это было в случае Дега, тебе лучше поскорее в себе разобраться.
У тебя нет иного выхода, поскольку тот, другой, продолжает тебя искушать и попутно, сам того не ведая, раскрывает тебе глаза на все, что составляло слабость и ущербность твоего прежнего «я». Такой принудительный самоанализ дает сумасшедший импульс творчеству. Но не способствует прочности отношений.
В 1860-х годах, когда Дега, казалось бы, все больше сближался с Мане – не только как друг, но и как художник, обращавшийся к тем же сюжетам и перенимавший какие-то стилистические приемы, – он чувствовал и нарастающую потребность жестко разграничить свои и Мане эстетические принципы.
Главное их несогласие начало проявляться около 1865 года и мало-помалу развело друзей по разные стороны четко очерченной границы. Чтобы заметить различия между художниками, достаточно посмотреть на холсты, но сейчас речь не столько о живописной манере или тематике произведений, сколько о философии искусства. А конкретнее – о совершенно несовпадающем понимании, что есть правда.
Для Мане правда трудноуловима и многолика. Соответственно, его увлекает внешняя игра отношений, флирт, шутка. Он наряжает своих героев в экзотические костюмы, упивается эфемерной природой того, что называют «неповторимая человеческая индивидуальность», принципиальной непознаваемостью людей, постоянно меняющих свои личины.
Дега же склонялся прямо к противоположному, и у него на смену интуитивному пониманию постепенно приходила убежденность, которая вскоре срастется с ним, как личная подпись или печать. В нем вызревала решимость прорвать карнавальную завесу и доискаться правды. Его не оставляло навязчивое ощущение потаенных истин, которые необходимо вытащить на свет. Такое намерение должно было насторожить Мане: в его собственной частной жизни было много такого, что он сознательно от всех скрывал.
Постоянно размышляя и наблюдая за своим талантливым приятелем, Дега, по-видимому, заметил, что и с ним все не совсем так, как кажется. Мане слыл дамским угодником, однако у него имелась жена Сюзанна, и они вместе заботились о мальчике – Леоне. Мане и Сюзанну связывали многолетние отношения, это было очевидно. Супруги жили вместе с матерью Мане, а Леона представляли то как крестного сына художника, то как младшего брата Сюзанны. Что-то тут было не так. Они поженились в 1863 году, почти сразу после смерти отца Мане, респектабельного чиновника, судьи высокого ранга. Возможно, с его смертью исчезло какое-то препятствие для их брака? Во всяком случае, складывалось такое впечатление.
Огюст Мане оставил службу в 1857 году из-за потери речи. Парез развился вследствие нейросифилиса – последней, смертельной стадии третичного сифилиса, приведшего также и к слепоте. Он прожил еще пять лет, но речь уже не вернулась. «На него нельзя смотреть без слез», – писала мадам Мане одному из его сослуживцев незадолго до его кончины.
Мане скрывал свою связь с Сюзанной так долго и так умело, что даже близкие друзья несказанно удивились, когда узнали о его планах жениться на голландке. «Мане только что сообщил поразительную новость, – писал Бодлер. – Нынче вечером он отбывает в Голландию и вернется оттуда с женой». Уж если Бодлер ни о чем не догадывался, то Дега, к тому времени знакомый с Мане всего год, и подавно.
На момент их свадьбы Леону было одиннадцать лет. Позже Леон уверял, что никогда не знал наверняка, кто его отец. Так или иначе, он стал любимой моделью Мане и запечатлен на семнадцати его полотнах, установив своеобразный рекорд среди моделей художника. Переменчивая внешность юноши на этих изображениях породила множество спекуляций, и по сей день его личность окутана облаком нездорового ажиотажа. Высказывалось предположение, что настоящий отец Леона – Огюст Мане. Но эта гипотеза, выдвинутая в 1981 году Миной Кертис и подхваченная в 2003 году Нэнси Локк, остается маловероятной. Кертис довольствовалась слухами. Локк, спустя много лет обратившись к этой версии, сосредоточилась на загадочном обстоятельстве: почему Леон так и не был официально признан сыном художника, даже после того, как Мане и Сюзанна наконец поженились. По мнению автора, все легко объясняется, если отцом мальчика был Огюст Мане, потому что в таком случае Леон рожден не просто вне брака, но в результате адюльтера. (Согласно тогдашнему французскому праву, такой ребенок не мог быть узаконен.)
Однако этот факт можно объяснить гораздо проще. В том общественном слое, к которому принадлежала семья Мане, внебрачных детей – даже по прошествии одиннадцати лет – признавать было не принято. Да, такие случаи не редки в богемной среде импрессионистов, друзей Мане, но они были выходцами из другого, более низкого сословия. Конечно, это обстоятельство печально сказалось на будущем Леона. Он пребывал в неведении или, как минимум, в сомнении относительно собственного происхождения. Даже на похоронах матери он оставил визитную карточку, на которой отрекомендовался ее младшим братом. Путь к образованию ему был закрыт, хотя, носи он фамилию Мане, перед ним распахнулись бы двери любого престижного коллежа. Вместо того чтобы учиться в университете или военной академии, он служил мальчиком на побегушках в банке отца Дега.
Возможно, отказ официально признать Леона исходил от Сюзанны. Такой точки зрения придерживался один из первых биографов Мане Адольф Табаран, обвиняя Сюзанну в «чрезмерном почтении к лицемерной морали, к тому, „что скажут люди“». Но негласные предписания общества – особенно для аутсайдера, каковым являлась Сюзанна, – действовали порой неотвратимее закона.
Мане, по-видимому, согласился участвовать в хитроумном семейном обмане, но сам жестоко страдал. Табаран убежден, что это «отравило ему жизнь». Многочисленные портреты Леона – которые подразумевают долгие часы общения с ним – действительно наводят на мысль о попытке хоть как-то воздать юноше за все, чего он был лишен.
При всей справедливости утверждения, что пример Мане пробудил у Дега желание стать по-настоящему современным, выражать свою эпоху и создавать новое искусство, не менее справедливо и другое: Дега искал собственный ответ на вопрос, что значит быть передовым и современным. Для Дега этот вопрос затрагивал в первую очередь психологию личности, новые условия и способы существования в мире, новые аспекты формирования и сохранения своего «я». Дега хорошо чувствовал грань между внутренним миром индивида и его внешними проявлениями, грань труднопреодолимую и даже труднообъяснимую. (Его провидческие догадки во многом стали первым образом тех внутренних состояний – вызванных бездомностью, неприкаянностью человеческой души, – которые впоследствии так драматично воплотят Пикассо и Бэкон.) Постепенно он утвердился в мысли, что его модели больше расскажут о себе, скорее выдадут свои секреты, если их застигнуть врасплох – когда они думают, что их никто не видит, или удивлены чьим-то внезапным появлением. Поэтому, вдохновленный отчасти фрагментарностью и асимметрией японских гравюр, Дега примерно с 1865 года начал экспериментировать с произвольно смещенными, перенасыщенными фигурами, разбалансированными композициями. На первых порах его картины еще жестко связаны с рисунком – в котором он был необычайно силен – и следуют традиционным принципам моделировки с постепенным переходом от темных тонов к светлым. Однако медленно, но верно в них стало проступать нечто новое, нечто такое, что способен был создать только он, Дега.
В 1865 году он написал картину, которую можно считать подлинным творческим прорывом: «Женщина у вазы с цветами» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Женщина – вероятно, жена приятеля Дега Поля Вальпенсона – задумалась о чем-то своем, явно не подозревая, что за ней наблюдают. Первое, что бросается в глаза, – асимметричность композиции. Фигура сдвинута к краю холста, словно ее вытеснил пышный букет августовских цветов. Этот прием, как, впрочем, и почти все детали картины, вплоть до поднятой к уголку рта руки (жест, который будет повторяться у Дега снова и снова), создает ощущение нерешительности. По сравнению с гротескными искажениями и утрированной драматизацией лица, ставших в портрете XX века обычным явлением, инновации Дега могут показаться едва заметными. Но до него ничего подобного в портретной живописи просто не было.
И здесь самое время рассказать о дружбе Дега с Эдмоном Дюранти. В отличие от Мане, постоянно и тесно общавшегося с писателями, начиная с Бодлера и заканчивая Золя и Малларме, Эдгар Дега литераторов в общем не жаловал. Но в 1865 году – когда была написана «Женщина у вазы с цветами» – он познакомился с Дюранти и сразу к нему расположился, как будто знал его давным-давно. Романист и критик Дюранти печатал в газете «Фигаро» заметки об искусстве, отличавшиеся суховатой точностью стиля и высокой культурой речи. Поговаривали, будто бы он внебрачный сын Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» (на сюжет которой Жорж Бизе написал еще более знаменитую оперу), но слухи так и остались слухами. Вместе с Шанфлёри он в 1856 году стал выпускать ежемесячное литературно-художественное обозрение «Реализм», правда дальше шести выпусков дело не пошло, издание разорилось, но Дюранти продолжал писать об искусстве, о поисках новых тем, о попытках живописцев идти в ногу со временем.
Для Дюранти – и для Дега тоже – быть новатором означало бескорыстно служить Истине, всегда говорить только правду. Культивируя в себе холодную объективность ученого, они взялись изводить сентиментальность и объявили войну клише. В полемическом запале Дюранти не замечал никакого противоречия в том, что, с одной стороны, он выступает пламенным борцом за дело реализма, а с другой – восхищается теми самыми мастерами, против которых художники-реалисты и восстают. В этом, как и во многом другом, они с Дега были похожи. Дюранти разделял давнюю любовь Дега к холодноватому неоклассицизму Энгра. Размышляя о живучести традиционных пристрастий, Дега мучительно искал свой стиль, который был бы сдержаннее и спокойнее, не таким страстным и откровенно живописным, как сногсшибательный стиль Мане.
Среди множества общих интересов самым большим увлечением Дега и Дюранти была физиогномика – искусство распознавать характер и склонности по чертам лица. Приятели часто обсуждали этот занимательный предмет, и, по-видимому, прямым следствием их бесед стал опубликованный в 1867 году, то есть через два года после их знакомства, памфлет Дюранти «О физиогномике».
Физиогномика была одной из главных точек опоры всей литературы начала девятнадцатого столетия; о ее роли в искусстве говорит уже тот факт, что физиогномика считалась обязательным элементом художественного образования.
Широкую популярность теория физиогномики приобрела еще в конце XVIII века благодаря швейцарскому богослову и поэту Иоганну Каспару Лафатеру, который, в свою очередь, развивал идеи работавшего в XVII веке французского художника и теоретика искусства Шарля Лебрена.
В трактате Лебрена «О методе изображения страстей» (1668) была представлена наглядная классификация различных выражений человеческого лица, что позволяло использовать трактат в качестве пособия для упражнения, называемого «tête d’expression» («выразительная голова»), – академической штудии лица, которое, как зеркало, отражает характер и душевное состояние, например печаль, испуг, упрямство или скуку. В книге было множество рисунков, иллюстрирующих разные «типы» лица. У художников она пользовалась большой популярностью, особенно ее карманное издание.
К середине XIX века многие умозаключения Лебрена и даже Лафатера казались давно отжившими и надуманными. Но сама идея, что характер и общественное положение человека можно «прочитать» на его лице, была жива как никогда. Для этого имелись причины социально-политического свойства. Начиная с революции 1789 года французское общество вступило в эпоху нескончаемых, зачастую кровавых перемен, которая на момент описываемых событий продолжалась без малого семьдесят лет. При очередном политическом потрясении прежняя иерархия классов, подобно карточной колоде, перетасовывалась снова и снова, а к этому еще добавилась индустриализация, которая стремительно меняла облик города. Все это привело к тому, что буржуазия и высшие классы были охвачены подозрительностью и страхом. Даже мода и вообще манера одеваться не служили больше надежным ориентиром – по одежке теперь нельзя было судить о социальном статусе. Гардероб отражал скорее социальные чаяния. И те, чей статус прежде был относительно благополучен, остро нуждались в иных критериях. Им хотелось вернуть себе уверенность в том, что жизнь в городе подчиняется определенным правилам, которые можно понять и усвоить, что неузнаваемо изменившаяся городская среда управляема – хотя бы потенциально. (Не случайно жанр детективного романа, где герой раскрывает самые загадочные преступления благодаря сверхъестественной способности видеть потаенные приметы и связи, возник именно в это время.) В новых условиях крайней социальной нестабильности (фактор, во многом определяющий природу индустриального общества) такая псевдонаука, как физиогномика, оказалась невероятно востребованной. Друг Бодлера Альфред Дельво утверждал, что, внимательно наблюдая за лицами горожан, способен «разделить парижскую публику на слои так же легко, как геолог – напластования пород». Насколько спокойнее жилось бы в большом городе тому, кто овладел бы этой наукой!
Дега был слишком умен, слишком плоть от плоти позитивизма своего века, чтобы безоговорочно уверовать в физиогномику. Но он был одержим тайной человеческого лица. Поэтому лицо, с его разнообразными выражениями, заняло центральное место в попытках художника модернизировать эстетику своего творчества, осовременить его иным, отличным от Мане способом.
И действительно, характерной чертой портретов Мане стал пустой, непроницаемый взгляд. Художник последовательно отказывался акцентировать внимание на лице модели – особенно это касается изображений Викторины Мёран и его сына Леона, – и это часть той загадки, которую несут в себе его картины. Критик Теофиль Торе упрекал Мане в исповедовании «своего рода пантеизма: голова для него значит ничуть не больше дамской туфельки». Но разве не лицо – заветный ключ к портрету? Не напрасно же люди веками уделяли лицу повышенное внимание? Мане отказался следовать общему правилу. Он готов любоваться старой туфлей, белым платьем, розовым поясом, веером, чем угодно – не обязательно лицом.
Дега увидел в этом удобный случай решительно размежеваться с Мане. Надо сказать, что он, как и многие другие художники, ревниво относился к литературе. Ему дорога была точка зрения, что чисто визуальными средствами – будь то лицо или обстановка – можно поведать о внутренней жизни персонажа полнее, чем с помощью нескончаемого нагромождения слов девятнадцативекового романа. Начиная с картины «Женщина у вазы с цветами», Дега проводит важную для него мысль: хороший, глубокий портрет не есть простое отображение в лице и общем облике модели некоего набора индивидуальных черт. Нет, портрет должен соответствовать новаторскому духу времени, духу перемен, а значит, отражать саму внутреннюю жизнь, нестабильную, переменчивую, трудноуловимую, но оттого не менее существенную для характеристики персонажа.
Да, лицо – ключ к характеру, этого никто не отменял; вопрос только в том, что именно ты хочешь с его помощью выразить, и Дега пытался найти свой ответ.
Его убежденность в своей правоте и привела к той драме, с которой связана загадочная история двойного портрета Мане и Сюзанны. «На портретах изображать людей в привычных, типичных для них позах, – сделал он заметку на память в своей записной книжке незадолго до того, как приступил к работе над семейным портретом Мане, – а главное – следить за тем, чтобы лицо и тело выражали одно состояние».
Под влиянием Бодлера Мане тоже связывал современную, урбанизированную жизнь с непрерывным движением, нестабильностью. Но для него весь смысл заключался в самой шараде под названием жизнь, в игре, маскараде, в осознании, как это емко сформулировал Эдгар По в рассказе «Убийство на улице Морг», что «в глубокомыслии легко перемудрить». Мане по душе было остроумное наблюдение того же По: «Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, всегда лежит на поверхности». Оно как нельзя лучше описывает подход Мане к искусству. Самые известные его картины отражают ту часть его личности, которая побуждала его «радоваться жизни, пленяться самыми обыденными вещами и уклоняться от сложностей». Для своей именной почтовой бумаги он выбрал подходящий стоический девиз: «Tout arrive» (эти два слова могу означать «Всему свое время», «Все приходит и проходит» или «Всякое бывает»).
Приоритетная ценность того, что «лежит на поверхности», как и авторский произвол, усиливают ощущение скрытого подтекста в картинах Мане. Их смысл – и в его время, и в наше – до конца неясен. В творчестве большого художника редко встретишь столько вопиющих аномалий: неподходящий случаю костюм (или полное отсутствие одежды); странная мешанина жанров; головокружительное сочетание современного реализма и отсылок к истории искусства. Легион загадок. Но все они на поверхности, их разгадки не столь уж важны, куда важнее удовольствие от них самих.
Вероятно, какими-то сторонами такого чародейства Дега восхищался. Но не настолько, чтобы следовать тем же путем. Дега с самого начала подходил к искусству с этической меркой, как к занятию, которое требует не только смелого, но и здравого суждения, и потому подход Мане – его «пантеизм» – стал казаться ему дорогой к нравственной зыбкости, к чему-то сомнительному, что далеко не реализует подлинных возможностей искусства. Он не желал тратить себя на пустяки, вроде авторской прихоти, а к иллюзиям питал стойкую неприязнь. Он верил в то, что искусство должно служить истине. И его дело – открыть эту истину: выследить ее, застигнуть врасплох, подловить. В этом смысле Дега-художник напоминал вышедшего на охоту хищника.
«Без хитрости, коварства и порока не бывает картины, как не бывает преступления», – однажды сказал он.
Мане попытался переиграть критиков, устроив собственный павильон за воротами Всемирной выставки 1867 года. Он развесил там пятьдесят своих работ. Но этот гамбит вышел ему боком. Картины не продавались, и он не сумел вернуть матери долг, баснословную сумму – 18 000 франков. В конце года ему стало по-настоящему страшно. К его неудачам добавился траур по навсегда ушедшему близкому другу: 31 августа 1867-го умер Бодлер. Мане почти потерял способность работать. Зачем? Что бы он как художник ни выпустил в свет, его детище всякий раз возвращалось к нему на порог в смоле и перьях.
Летом он ненадолго съездил на побережье, в Трувиль, куда ему ежедневно доставляли почту – в основном свежую порцию разгромной критики, которую он встречал словами: «Опять поток грязи – новый прилив!»
Видеть Мане таким поникшим и слабым, остро нуждающимся в поддержке было для Дега огорчительно, однако в известном смысле, возможно, небесполезно. За предыдущие два-три года художники очень сблизились, поэтому неудивительно, что к началу 1868 года Дега почувствовал: с другом творится неладное. Он был встревожен. И вместе с тем, вероятно, заинтригован, даже втайне слегка возбужден, как это нередко с нами бывает, когда кто-то из дорогих нам людей переживает внутренний разлад.
Так продолжалось до лета 1868 года, которое Мане проводил с семьей в Булони-сюр-Мер. Он тосковал, не находил себе места, мучимый сознанием своего полного фиаско. В мыслях он постоянно возвращался к Дега. Понятно почему: в Дега он видел живое доказательство собственной значимости. Одним из первых увидеть в современнике талант и знать, что среди многих сил, этот талант формирующих, есть и твоя рука, всегда отрадно – тем более если мэтр сам вступил в полосу кризиса и растерял былую уверенность в себе. Что, как не пример Мане, побудило Дега оставить историю и мифологию и обратиться к современным темам? И разве не пример Мане заставил Дега полюбить жизнь современного большого города? Или понять очарование – и в искусстве, и в жизни – беззаботности, импровизации, остроумной краткости взамен изнурительных, скучных и слишком рассудочных усилий?
От подобных мыслей Мане мог немного воспрянуть духом. И в надежде расшевелить себя он пишет Дега: «Я задумал небольшое путешествие в Лондон. Не составите мне компанию?»
Чтобы предложение прозвучало как можно беспечнее, он объяснил, что его соблазняет главным образом дешевизна поездки: «Билет из Парижа в Лондон и обратно первым классом обойдется в 31 франк 50 [сантимов]». Однако легкий тон нарушает убедительная просьба поспешить с ответом: «Известите меня безотлагательно, потому что нужно связаться с Легро [знакомым художником, постоянно проживающим в Лондоне] и сообщить ему, когда мы прибудем, чтобы заручиться его услугами в качестве нашего переводчика и провожатого».
На самом-то деле Мане был близок к отчаянию. «Я по горло сыт неудачами, – сетовал он в письме Фантен-Латуру примерно в то же время. – Сегодня мое единственное желание – заработать денег. И поскольку я, как и вы, понимаю, что в нашей дурацкой стране, где население сплошь чинуши, рассчитывать особо не на что, хочу попытаться выставить картины в Лондоне».
О том же, только в разрезе общих интересов, он пишет Дега: «Думаю, нам нужно исследовать тамошнюю почву, вдруг она окажется благоприятной для нашей продукции». Он вложил в письмо листок с расписанием и предложил наметить выезд на 1 августа, воскресенье. Поезд отходит днем, и, таким образом, пояснил он, они успевают на полуночный паром.
«Пришлите ответ с обратной почтой, – пишет он в завершение. – В дорогу возьмите лишь самое необходимое».
В Лондон Мане влекла не только перспектива продаж. Они с Дега оба были англофилы. Побывав на Всемирной выставке 1867 года, Дега с восторгом отзывался об английской живописи, которую там увидел. Мане, завсегдатай парижского кафе «Лондон» (Café de Londres), восхищался английскими «охотничьими» гравюрами, на которые ориентировался в тех редких случаях, когда работал над сценами скачек. Оба приятеля высоко ценили традицию английской карикатуры.
Как известно, Лондон – родина дендизма, особой манеры одеваться и вести себя, воплощавшей отношение индивида к миру. Отношение, в котором сочетались независимость и непринужденность, элегантность и оригинальность, и все это как будто без больших усилий. Мане и Дега слыли поклонниками дендизма, основоположником которого в Лондоне XIX века был неподражаемый Бо (Красавчик) Браммел; одной из его реинкарнаций стал общий друг Мане и Дега художник Джеймс Уистлер, заботливо культивировавший свой эксцентричный образ. И конечно, Мане надеялся повидаться с ним в Лондоне.
Все вышесказанное интересно нам только потому, что примерно в это время Дега в своей записной книжке сделал заметку, которая имеет самое прямое отношение к его портрету Мане, небрежно развалившегося на диване в щегольской жилетке и остроносых туфлях. «Есть такие, кто худо обращает во благо; и другие, кто благо обращает в худо». Не приходится сомневаться, что место Мане в первой категории: его естественной раскованности в одежде и повадке какой-нибудь претенциозный Уистлер мог только завидовать. Судя по всему, это присущее Мане свойство Дега и имел в виду, цитируя в той же записной книжке французского денди середины века Барбе д’Оревильи: «В неловкости есть та непринужденность, которая, если я не заблуждаюсь, грациознее самой грациозности».
Обе эти цитаты несомненно сидели у него в голове, пока он писал портрет четы Мане в конце 1868 года. Вероятно, Мане был польщен. За одним-единственным исключением: Дега не утаил и оборотной стороны изящной небрежности денди Мане – скуки, тоски, апатии. С налетом презрения.
Дега не откликнулся на призыв Мане сопроводить его в Лондон. Никто не знает почему. Возможно, просто не нашел времени. Но скорее всего, Дега наконец почувствовал, что пришел срок – и представился случай – утвердиться в своей творческой независимости. Явиться в Лондон в качестве младшего по рангу, эдакого оруженосца при Мане, и смиренно наблюдать, как гораздо более живой, обворожительный, приятный в общении и, уж конечно, более знаменитый Мане окажется в центре внимания, отодвинув его в тень, было не в интересах Дега.
В итоге Мане поехал в Лондон один. Английская столица привела его «в полный восторг», как он признался Фантен-Латуру, и всюду, где бы он ни появлялся, ему оказывали радушный прием. Правда, с Уистлером повидаться, увы, не удалось – тот отправился в вояж на чьей-то яхте. В общем и целом путешествие пошло ему на пользу, он вновь с надеждой смотрел в будущее. «По-моему, там может что-то получиться, – писал он. – Ощущение от страны, атмосфера – все мне по душе, и я настроен попробовать выставить там свои работы на следующий год».
Одного он никак не мог взять в толк: почему Дега (который к тому времени почти наверняка планировал написать портрет Мане и Сюзанны) отказался с ним ехать. «Напрасно Дега не поехал со мной, с его стороны это большая глупость», – написал он Фантену. В следующем письме, спустя две недели, Мане снова помянул его: «Скажите Дега, что ему пора бы мне написать. От Дюранти я слышал, что он становится художником „большого света“. Почему бы и нет? Жаль, что он не поехал в Лондон…»
Интуиция не обманула Дега: если он хотел покорить Лондон, ему лучше было делать это на своих условиях. В конце концов он так и поступил. Через три года он сам отправился в Лондон – один, без Мане, – а еще через год уже продавал картины при посредничестве Томаса Агню, владельца галереи на Бонд-стрит. К 1880-м годам Дега стал в Англии знаменитостью. Его величали «главой импрессионистов» и превозносили за «интересные, блестящие, полные жизни» произведения. Уолтер Сикерт, главный среди многочисленных английских протеже Дега, провозгласил его «живописцем номер один во Франции, одним из величайших художников, каких видел свет». Художники следующего поколения, творческие наследники Сикерта, Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд, тоже были верными почитателями Дега. У Бэкона в мастерской хранились репродукции «обнаженных» Дега; художник-модернист искал отгадку способности Дега посредством рисунка не просто отображать, но «интенсифицировать» реальность – именно к этому Бэкон стремился в собственном творчестве. В домашней коллекции Фрейда в Ноттинг-Хилле были две статуэтки Дега, которые он время от времени рассеянно поглаживал…
Пока его друга Мане в клочья раздирала пресса, а публика пригвождала к позорному столбу, Дега неприметно трудился в его тени. В отличие от Мане, он за славой не гнался. К официальным почестям относился скорее с презрением.
«Вы, Дега, выше этого, – скажет ему Мане несколько лет спустя, – не то что я. Если я вхожу в омнибус и не слышу: „Месье Мане! Как вы поживаете, куда держите путь?“ – мне досадно от мысли, что я не знаменит!»
На протяжении 1860-х годов Дега время от времени посылал работы в Салон, но делал это скрепя сердце, отнюдь не разделяя наивного энтузиазма Мане. Со своей стороны, Мане, вероятно, подозревал, что под маской высокомерного презрения Дега к Салону, критикам и, что греха таить, к большинству собратьев по живописному цеху скрывалась тайная гордыня. Если Мане всегда радовался похвале, от кого бы она ни исходила, то Дега брезгливо относился к восторгам профанов, ибо такое признание не делает художнику чести. «В известности есть что-то постыдное», – напишет он в своей записной книжке.
В последний раз Дега представил свою работу в Салон в 1867-м, за год до того, как написал портрет Мане и Сюзанны. Кстати, отобранная им для Салона картина – тоже семейный портрет. Ныне признанный ранний шедевр Дега, портрет семьи Беллелли, запечатлел любимую тетушку Дега Лауру с дочерьми, Джулией и Джованной. Их отец (и муж Лауры) Дженнаро сидит в кожаном кресле спиной к зрителю, но голова его повернута в сторону, так что виден бородатый профиль, рыжеватые волосы и белесые ресницы.
При внешне бесстрастной манере исполнения картина внушает зрителю странное беспокойство. В «Семействе Беллелли» художник, как написал в 1924 году Поль Жамо, в полной мере проявил присущее ему «чувство семейной драмы» и стремление выявлять «тайную неприязнь в отношениях между людьми».
Вообще-то, Дега написал картину десятью годами раньше. Он трудился над ней несколько лет, начав во Флоренции, где два года жил в доме Беллелли, и завершив в Париже. Амбициозное – как по своим размерам, так и по замыслу – полотно далось ему нелегко и еще долго служило источником постоянных сомнений. Этой картиной Дега когда-то планировал дебютировать в Салоне, но, не сумев добиться результата, который бы его удовлетворил, отложил портрет до лучших времен и занялся историческими и мифологическими сюжетами, более приемлемыми с точки зрения салонного жюри и его собственного отца. Портрет семьи Беллелли – это, образно говоря, альбатрос: символ тех неимоверных трудностей, которые ему пришлось преодолевать в начале своей карьеры.
Картина была ему дорога. И только теперь, по прошествии многих лет, он решился показать ее широкой публике. Перед отправкой портрета в Салон 1867 года он спешно внес кое-какие изменения. Картину приняли. Но повесили так, что лишь считаные зрители сумели ее увидеть, и никто – буквально никто – ни словом о ней не обмолвился.
Дега был взбешен. Он столько сил вложил в эту работу, столько лет ждал подходящего момента, чтобы ее выставить, и вот теперь, когда он наконец выпустил ее из своей мастерской, ее попросту игнорировали. Дега дал зарок никогда больше не подвергать себя салонному унижению. Раз и навсегда он запретил себе брать в расчет официальный путь к славе и состоянию. Как только Салон закрылся, он забрал картину из Дворца промышленности и вернул ее в мастерскую. Там свернутое в рулон полотно простояло в углу до самой его смерти.
Картина прекрасна – она изумительно написана, композиционно выверена, радует глаз «брызгами» роскошного цвета. Но если анализировать ее с психологической точки зрения, то атмосфера этой домашней сцены до крайности напряжена. Две маленькие дочери Беллелли, в темных платьях с большими белыми передниками, составляют единую группу с матерью; позы их несколько скованны и в то же время неспокойны. Между родителями, Лаурой и Дженнаро, явно ощущается отчуждение с оттенком взаимной неприязни. Это не просто видимость. В то время, когда Дега писал портрет тетушки Лауры, она чувствовала крайнюю безысходность, оказавшись запертой, как она говорила в письмах племяннику, в «ненавистном чужом краю», да еще с мужем, которого считала человеком «чрезвычайно беспардонным и бесчестным». Он не занят никаким серьезным делом, писала она, и потому не может справиться со своим дурным настроением. Она вконец отчаялась. Не блещущая здоровьем Лаура была беременна третьим ребенком и носила траур по недавно умершему отцу (отсюда на картине ее траурное платье и портрет покойного деда Дега на стене позади нее). Она не на шутку опасалась за свой рассудок. «Вот увидишь, я так и умру здесь, на чужбине, вдали от всех, кому я еще дорога», – писала она племяннику, которого искренне любила и в котором обрела единственное утешение и поддержку.
Жизнь в доме Беллелли – единственный в биографии молодого Дега опыт непосредственных, личных впечатлений от супружеских взаимоотношений, и опыт этот нельзя назвать удачным. Вкупе с его собственными природными наклонностями он окончательно убедил Дега в том, что серьезное творчество и женитьба – вещи несовместные.
Возвращаясь к злополучному портрету Мане и его жены, следует уточнить, что это картина не только о семейной паре, но и о музыке. Дега не случайно решил изобразить Мане в ту минуту, когда он слушает игру Сюзанны. С тех пор как Дега стал регулярно бывать у Мане в квартире на улице Санкт-Петербург, он успел хорошо узнать Сюзанну. Сам большой меломан, он не мог не оценить ее незаурядный музыкальный талант. Судя по отзывам, она была блестящей пианисткой. Она не только играла дома для гостей, но старалась познакомить свой ближний круг с другими музыкантами, в том числе с четырьмя сестрами Клас – их струнный квартет часто приглашали выступать в разных местах. К ее кругу примыкали и такие популярные в то время композиторы, как Эммануэль Шабрие и Жак Оффенбах.
Кроме того, по средам он, как правило, встречался с Сюзанной на вечерах у художника Альфреда Стевенса, а по понедельникам отец самого Дега устраивал небольшие концерты у себя, на улице Мондови. Во всех случаях общество собиралось главным образом для того, чтобы послушать музыку. Французы тогда уже открыли для себя Вагнера, от которого многие, например Бодлер, пришли в неистовый восторг. Теперь же у всех на языке был еще один немец – Шуман. В кружке Мане музыку Шумана кто-то впервые услышал в исполнении Сюзанны.
Сам Мане музыкальным слухом, по-видимому, не обладал. Иногда он мог с удовольствием послушать какой-то концерт (говорят, ему нравился Гайдн), но дальше этого его интерес не простирался. Дега, напротив, был истинный меломан и с двадцати лет брал сезонный абонемент в оперу. Что касается его музыкальных вкусов, то Дега шел обычно против течения: высмеивал культ Вагнера, предпочитая ему Верди. Среди прочих композиторов он выделял Глюка, Чимарозу и Гуно, иначе говоря, был в своих пристрастиях довольно консервативен. Он водил дружбу с композиторами (упомянем Жоржа Бизе) и музыкантами, среди которых, не считая Сюзанны, были пианистка-любительница мадам Камю, фаготист Дезире Дио и его сестра пианистка Мари, а также тенор и гитарист Лоренцо Паган. Все перечисленные музыканты изображены на картинах Дега в момент исполнения, чаще всего вместе с каким-нибудь слушателем, как на портрете Мане и Сюзанны.
Эти картины с музыкантами, играющими в домашней обстановке, датируемые периодом между 1867 и 1873 годом, представляют собой важнейший переходный этап в постепенном продвижении Дега к живописным циклам, которые сделали его по-настоящему знаменитым – истинным «Дега»: заполненные музыкантами оркестровые ямы, представления в кафе-концертах, а самое главное – репетиции в балетном классе. Эти более поздние, прославившие Дега композиции, эти схваченные на лету, словно тайком подсмотренные сценки фокусируются преимущественно на физическом движении, тогда как картины с домашними исполнителями и слушателями по-прежнему глубоко связаны с движениями души – с психологией.
Музыкальные вечера в узком кругу были для Дега не только приятным развлечением. Он вовсе не стремился проиллюстрировать или расцветить свою любовь к музыке посредством соответствующих жанровых сценок. Нет, он искал здесь чего-то иного, чего-то, что не давало ему покоя с тех пор, как он написал «Женщину у вазы с цветами». В этой связи он сделал одно любопытное наблюдение: когда люди слушают музыку, они забываются. Их склонность так или иначе преподносить себя, невольно настораживаться, поймав на себе чей-то взгляд, внезапно испаряется и уже не мешает видеть правду. Они теряют способность каждый миг себя контролировать. И значит, в такие минуты что-то более глубинное и подлинное проступает, блуждает на лицах. Дега вознамерился это ухватить.
Почему все-таки Мане и Сюзанна согласились позировать Дега? К тому времени Сюзанна уже хорошо знала Дега, и ей, вероятно, пришлось по сердцу, что один из самых одаренных художников современности, к тому же образованный человек из хорошей семьи, пожелал увековечить – и тем самым, пусть очень опосредованно, легитимизировать – ее союз с Мане.
Мане в свою очередь находился под впечатлением от нескольких рисунков и гравюр, на которых Дега его запечатлел между 1864 и 1868 годом. Это были легкие по настроению, обаятельные образы: подкупающе жизнерадостный, элегантный Мане стоит, наблюдая за скачками, или непринужденно сидит на деревянном стуле в своей мастерской. Глядя на эти портреты, нельзя не почувствовать искреннее восхищение художника своей моделью. Наверное, Мане не прочь был посмотреть, что получится у Дега в красках, если образ будет решен примерно в том же духе. Однако первые пробы сил на бумаге (сопоставимые по решаемым в них задачам с тремя рисунками, которые Люсьен Фрейд сделал с Бэкона, прежде чем приступить к его портрету) не были, как стало понятно задним числом, самоцелью: с их помощью Дега подбирался к решению задач иного уровня. Учился проницательнее смотреть, глубже анализировать.
В то время многие художники-батиньольцы с увлечением писали друг друга в повседневной обстановке – дома и в мастерской, весело импровизируя и по-дружески состязаясь друг с другом. Так что задуманный Дега портрет Мане и Сюзанны был вполне в духе этого поветрия. Один из самых известных групповых портретов той поры создал Фредерик Базиль в 1870 году – вскоре после того, как Дега завершил семейный портрет Мане (всего через несколько месяцев Базиль погибнет в бою на полях Франко-прусской войны). На картине Базиля Мане с видом наставника стоит перед полотном на мольберте в мастерской, которую Базиль снимал на пару с Ренуаром. Холст на мольберте – работа Базиля. На стенах, как немой упрек жюри парижского Салона, висят полотна Базиля и Ренуара – все они, большие и маленькие, были в разное время отвергнуты. В дальнем углу за пианино – Эдмон Метр. Другие присутствующие, личность которых доподлинно не установлена, – возможно, среди них есть Закари Астрюк, Клод Моне и Ренуар, – разбившись на группы, о чем-то беседуют. Картина отражает добрые приятельские отношения, связывавшие молодых художников-единомышленников, но вместе с тем подчеркивает бесспорный авторитет Мане (он единственный из шестерых бородатых мужчин изображен в шляпе) и его готовность с высоты этого авторитета руководить своими менее опытными товарищами и даже что-то подправить в их работе. Базиль уверял, что Мане собственноручно добавил долговязую фигуру с палитрой в руке справа от мольберта: это не кто иной, как сам Базиль, и, судя по его позе, он с благодарностью ловит каждое слово Мане.
Дега не единственный, кто запечатлел облик Мане в живописи, – незадолго до него это сделал Фантен-Латур, но были и другие. Да и сам Дега написал несколько портретов знакомых художников, в том числе Джеймса Тиссо, прежде чем взялся за портрет Мане и Сюзанны. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что никто из батиньольцев («банды Мане») ни разу не попытался написать портрет Дега.
Позировать для портрета означает жертвовать своим временем. От модели требуется немалое терпение. Выдержка. Смирение. Вполне возможно, что никто из батиньольцев просто не мог себе представить в этой роли блестящего молодого Дега, хотя он и был один из них. А может быть, они побаивались, что он не удержится от критики, причем не столь доброжелательной и необидной, какую они привыкли слышать от дипломатичного Мане.
В отличие от Мане, который в любом обществе чувствовал себя как рыба в воде, Дега был рожден одиночкой. И других мерил собственной меркой – меркой абсолютной преданности делу. «Есть любовь, и есть дело, – говорил он, – а сердце у нас одно».
Во всяком случае, таким он был в глазах окружающих. Догадывались ли его друзья, что это тот самый Дега, который наедине с собой чувствовал себя «таким слабым», как он признался в письме Валерну? Который, несмотря ни на что, втайне тосковал по семейным радостям, по детям? Который страшился одиночества и мучился сознанием, что сердце – «инструмент, который от долгого бездействия ржавеет»? Который риторически вопрошал: «Без сердца какой ты художник?»
К началу работы над портретом Мане и Сюзанны Дега столько размышлял о браке, что эта тема обрела для него характер навязчивой идеи. В Рождество 1867 года – вскоре после неудачи с показом «Семейства Беллелли» – он сделал первый эскиз для работы, которую впоследствии станет называть «моя жанровая картина». Ее провозгласят «шедевром» – если не «главным шедевром» – Дега, а ее датировка, 1868–1869 годы, полностью совпадает с датировкой портрета Мане и Сюзанны.
На картине (цв. ил. 2) мужчина и женщина в полутемной спальне, тусклый свет падает от настольной лампы в центре. Женщина в нижней рубашке, спадающей с плеча, сидит в левой части картины спиной к мужчине, словно убитая горем или стыдом. Ее накидка и шейный платок брошены в изножье кровати, на полу валяется корсет.
Картина, больше известная сейчас как «Интерьер», долгое время бытовала еще и под названием «Насилие» – с легкой руки литераторов, лично знавших Дега и утверждавших, будто бы это и есть авторское название. (Впрочем, другие свидетели из круга знакомых Дега уверяли, что художник вовсе не вкладывал такой смысл в свой сюжет и страшно негодовал по поводу широкого хождения этой версии.) Второй персонаж картины – высокий, бородатый, полностью одетый мужчина – стоит, заложив руки в карманы, у противоположной, правой стены, спиной опираясь на дверь, словно преграждая женщине выход; от его фигуры на дверь ложится зловещая тень. Композиция мгновенно рождает ощущение загнанности, безысходности. В центре комнаты, на круглом столике, прямо под лампой стоит раскрытая шкатулка для шитья, изнутри обитая красной тканью. Из-за вспышки красного цвета шкатулка притягивает к себе взгляд. Раскрытая, выставляющая напоказ свое содержимое, она намекает на грубое вторжение в мир интимных тайн.
Картина Дега – результат напряженных раздумий. По устоявшейся традиции «жанровые» картины рисуют сцены из повседневной жизни и, как правило, включают в себя элемент повествования и сопутствующую мораль. Но морализаторство всегда было чуждо Дега – даже в начале 1860-х, когда он упорно трудился над амбициозными салонными полотнами, иллюстрирующими эпизоды из истории и мифологии. В то же время Дега, как это явно следует из его ранних работ, питал повышенный интерес к отношениям между полами. Стремясь привести свое творчество в соответствие с духом времени, он искал способ выразить наболевший вопрос современным языком. В итоге ему пришла в голову мысль решить картину как сцену из спектакля с соответствующими театральными декорациями.
Что же это за спектакль, какая драма разыгрывалась в его воображении? Хотя законченная картина не является прямой иллюстрацией, художник, по-видимому, отталкивался от вполне конкретных сцен в двух только что опубликованных романах Эмиля Золя – «Тереза Ракен» и «Мадлена Фера».
Золя был другом Мане. Они особенно сблизились за два предыдущих года, после того как Золя пылко вступился за художника, когда жюри Салона 1866 года отвергло его картину «Флейтист». Вскоре он влился в кружок Мане, где Дега с ним и познакомился. Хотя впоследствии отношения их испортились (Золя считал, что Дега слишком «зажат», «закрыт на все замки»; Дега же говорил, что Золя «незрелый», вечно «ребячится», и остроумно сравнивал его с «исполином, штудирующим телефонную книгу»), первые года два или три они прекрасно ладили.
В 1867 году Золя написал небольшой очерк о творчестве Мане, выступив адвокатом его искусства. В том же году был опубликован один из его ранних романов, «Тереза Ракен», – он печатался в газете частями и вызвал бурную реакцию. Шумиха вокруг Золя, как и давно устоявшаяся в общественном сознании близость Мане к скандальной фигуре Бодлера, не шла на пользу репутации художника. «В „Терезе Ракен“ есть описание картин, – заметил один въедливый критик, – которые могли бы служить образчиками всего самого энергичного и самого отвратительного, что только способен явить реализм».
В «Интерьере» Дега предпринял попытку – которую никогда больше не возобновил (поскольку это его последняя «жанровая» картина) – помериться силами с литератором, так сказать, на его поле. Он задумал создать картину не менее эмоционально нагруженную, многозначную, психологически сложную, чем какая-нибудь сцена из реалистического романа.
В кульминационной двадцать первой главе «Терезы Ракен» описана ночь после свадьбы Терезы и ее любовника Лорана. Задумав и осуществив свой преступный план избавиться от первого, больного мужа Терезы (в конце концов его утопили), сообщники больше года выжидали, прежде чем пожениться. За это время, терзаемые чувством вины, они внутренне отдалялись друг от друга, так что брачная ночь стала для них тяжким испытанием. Глава начинается так:
Лоран тщательно затворил за собою дверь; минуту он неподвижно стоял, прислонившись к косяку, и тревожно, в смущении, оглядывал комнату. […] Тереза сидела на низеньком стуле, справа от камина. Подперев подбородок рукой, она пристально смотрела на яркое пламя. Когда Лоран вошел, она не обернулась. Она была в нижней юбке и ночной кофточке с кружевами, и жаркий свет камина подчеркивал резкую белизну ее одежды. Кофточка немного спустилась с плеча, обнажив розовое тело…
Камина у Дега нет, зато все остальное почти полностью совпадает. А где не совпадает (скажем, узкая кровать на картине плохо согласуется с идеей брачной ночи), там Дега, вероятно, заимствовал детали (обои в цветочек, «удивительно узкая для двоих кровать», «коврик под круглым столом», «кроваво-красные плиты пола») из столь же драматичной сцены в романе Золя «Мадлена Фера», вышедшем в свет осенью 1868 года.
Но дело не столько в совпадении деталей, сколько в психологической сути этой сцены в «Терезе Ракен»: из-за общей тайны, которая оказалась для них слишком мучительной, Тереза и Лоран утратили способность любить друг друга. Они добились чего хотели, они теперь муж и жена, но, подобно супругам Беллелли, «обречены жить вместе словно чужие».
Когда до Дега дошел слух, что кто-то из попечителей крупного нью-йоркского музея подумывает о приобретении «Интерьера», но не вполне уверен в благопристойности сюжета, художник с присущей ему циничной безапелляционностью заметил: «Я мог бы с чистой совестью приложить к картине свидетельство о браке».
Интригующее совпадение: Дега писал «Интерьер» в то же самое время, когда работал над портретом Мане и Сюзанны. Трудно удержаться от соблазна провести параллели между двумя картинами. На обеих мужчина и женщина разведены к противоположным концам вытянутой по горизонтали композиции. На обеих женщина изображена в профиль (мы видим изящное, тонко выписанное ушко), спиной к мужчине. На обеих в центре некий предмет загадочно красного цвета. Более того, «Интерьер», как и портрет Мане и Сюзанны, показывает нам супружескую пару, в которой нет душевной близости.
Портреты Сюзанны, созданные Мане в разные годы, говорят о его глубокой и длительной привязанности к этой женщине. Но их роман начался, когда ему было всего девятнадцать, и, несмотря на его осторожность и скрытность, нет сомнений в том, что он далеко не всегда был ей верен. Он любил красивых женщин, и они отвечали ему взаимностью. В картине Дега незримо, словно бесплотный дух, присутствует третий персонаж – одна из упомянутых выше красавиц, художница Берта Моризо.
Моризо вошла в кружок Мане и Дега под конец 1867 года. С Мане ее познакомил Фантен-Латур, и случилось это в Лувре – там же, где Мане в свое время повстречался с Дега. Лувр был одним из немногих мест, где художники обоих полов могли свободно общаться, куда они приходили, чтобы самостоятельно, без посредничества учителей и академий, усваивать уроки великих мастеров прошлого. На сей раз их свел не Веласкес – как это было восемь лет назад, когда Мане впервые увидел Дега; Моризо копировала Веронезе, а Мане – висящего неподалеку Тициана.
Моризо была чутка и восприимчива, разбиралась в литературе и уже – в свои двадцать восемь лет – прекрасно владела живописным ремеслом. Прелестное живое лицо обрамляли темные волосы, глубоко посаженные глаза смотрели пристально, испытующе. Между ней и Мане почти тотчас вспыхнуло необъяснимое взаимное влечение.
Она была одной из трех сестер с ярко выраженными артистическими наклонностями. Сестры Моризо были в каком-то смысле зеркальным отражением Мане и двух его братьев – никто из троих сыновей высокопоставленного судейского чиновника не сделал служебной карьеры. Берта и ее сестра Эдма брали уроки живописи у Камиля Коро. (Не говоря о том, что они приходились внучатыми племянницами знаменитому художнику минувшего, восемнадцатого столетия Жану Оноре Фрагонару.) Картины Берты получали благожелательные отзывы критиков и признание коллег по цеху. Во многих отношениях она превосходила большинство современных ей художников-мужчин. Но, подобно другим одаренным женщинам своего класса и века, она разрывалась между стремлением посвятить себя искусству и куда более банальным, но оттого не менее настоятельным желанием полюбить и выйти замуж. К несчастью, репутация талантливого, прогрессивно мыслящего и имеющего все шансы добиться успеха художника была неважным подспорьем для женщины, которая надеялась создать семью в шестидесятые годы XIX века. На этот счет Берта Моризо ничуть не заблуждалась.
Мане увековечит свое чувство к Моризо в серии картин, которые создаст за несколько последующих лет. Эти картины – всего их двенадцать – одно из самых вдохновенных признаний в любви во всей истории искусства. Внешне вполне целомудренные, они источают тайную муку желания (цв. ил. 3). В быстрой смене характера мазков, в чувственной игре оттенков черного, в понятном только двоим кодовом языке атрибутов, которыми он наделяет Берту (веер, бархотка на шее, букетик фиалок, письмо), нельзя не увидеть, что здесь всегдашняя милая беспечность Мане уступает пылкости чувств. Пожалуй, самая поразительная черта этих портретов – взгляд: умный, прямой, отважный взгляд Моризо. В отличие от лиц на прочих портретах Мане, ее лицо всегда выразительно. В этом случае Мане не собирался ни льстить, ни играть – он пытался совладать с напастью. В этом случае он, вопреки обыкновению, смотрит на модель не как актер, иронично играющий свою роль, – он смотрит и видит ее как она есть. Видит ее как личность.
Через Мане Дега тоже познакомился с сестрами Моризо – и тоже был очарован ими. Вообще, весь круг их знакомых с радостью принял Берту и ее сестер, Ив и Эдму. Довольно скоро и Дега, и супруги Мане стали регулярно бывать на вторничных вечерах у мадам Моризо, а сестры Моризо по четвергам приходили к мадам Мане.
Девицам Моризо, кажется, удалось расшевелить Дега. Особенно ему нравилась Берта, и, хотя он едва ли мог не знать о чувстве, вспыхнувшем между ней и Мане, он пытался за ней ухаживать.
Уж не думал ли он помериться силой с Мане? Во всяком случае он мог быть уверен в том, что у него, как у холостяка, прав на это больше, чем у его женатого соперника. Сестры Моризо, со своей стороны, были заинтригованы господином Дега. И у них появилась возможность узнать его поближе. Иногда – не так уж редко – он целыми днями пропадал у них в доме на улице Франклина. Он покорил их тем, что говорил с ними на равных, как с мужчинами. Он был умен и насмешлив. Он был саркастичен. Он откровенно говорил им, что думает. Он их забавлял, тешил их самолюбие, поддразнивал. И в то же время сбивал их с толку своими играми в галантное ухаживание, порой заходя слишком далеко, почти за границу допустимого. В начале 1869 года Берта пишет Эдме: «Месье Дега вошел и сел подле меня с таким видом, будто собрался флиртовать, но весь его флирт ограничился пространным комментарием в духе Соломоновой премудрости: „Женщина – горе для праведника“».
Вскоре после знакомства с Бертой Мане попросил ее позировать для картины «Балкон» – его последней (и неудачной) попытки произвести благоприятное впечатление на посетителей Салона. По меркам того времени подобная просьба могла повлечь за собой нежелательные последствия: отец сестер Моризо был чиновником высокого ранга, а мать – респектабельной хозяйкой светского салона. Позировать для неведомо какой картины живописца, широко известного своими странными фантазиями и небрежным стилем, – рискованный шаг, и любая другая почти тридцатилетняя незамужняя дама хорошо бы подумала, прежде чем согласиться. Но у Берты были веские причины принять это предложение. Как художнику, ей, конечно, хотелось увидеть Мане за работой: она следила за его достижениями и давно оценила его смелый дар. Она хорошо знала его сильные, а возможно, и слабые стороны. (В письме Эдме она сравнивает его картины с «дикими и, пожалуй, слегка недозрелыми плодами» – удивительно меткое наблюдение! – и добавляет: «Это вовсе не значит, что они мне не по вкусу».)
Для новой картины Мане позировала не только Берта. Моделями для других участников группы на балконе послужили скрипачка Фанни Клаус (близкая подруга Сюзанны; ее присутствие должно было, по-видимому, несколько отрезвить Мане), художник Антуан Гийме и Леон, которому исполнилось уже шестнадцать, – его лицо едва различимо в полутемной глубине комнаты. (Заметим в скобках, что в основе композиции – картина глубоко почитаемого Эдуаром Мане Гойи.) Сеансы позирования, происходившие, вероятно, в тот же период, что и сеансы для двойного портрета Дега, растянулись на несколько месяцев, показавшихся Берте целой вечностью. И все это время мать Берты, взявшая на себя роль дуэньи, сидела с рукоделием в уголке мастерской; от ее зоркого взгляда не укрылось смятение дочери и лихорадочное возбуждение Мане, необъяснимые перепады его настроения: в один миг он был полон бодрости и оптимизма, а в следующий вдруг сникал, парализованный мучительными сомнениями.
Несмотря на все ухищрения и внешние приличия, взаимное влечение стало, для Мане и Моризо в равной мере, источником душевной драмы. Берта искала и находила поддержку у сестер и матери. Но в марте 1868 года Эдма дезертировала – вышла замуж за морского офицера, и Берта впала в уныние. Сосредоточиться на собственной работе мешали назойливые попытки родни подыскать ей подходящего мужа. На портретах Мане она выглядит взволнованной и одновременно сердитой, терзаемой тайной тоской.
А тут еще Мане, как назло, увлекся – правда, мимолетно – талантливой молодой испанской художницей Евой Гонсалес. Ей было всего двадцать. Испанофил Мане просто не мог пройти мимо такого чуда. Она напросилась к Мане в ученицы (Моризо всячески этого избегала), и тот вскоре принялся писать ее портрет. Однажды мать Берты, мадам Моризо, нагрянула в мастерскую Мане – под предлогом вернуть взятые у него книги – и застала там позирующую Гонсалес, о чем немедленно доложила в письме дочери. «Нынче не ты у него на уме, – писала она. – Мадемуазель Г. – вот кладезь всех добродетелей, всех мыслимых достоинств».
Вряд ли это улучшило Берте настроение. Возможно, мадам Моризо не меньше других симпатизировала Мане, но сложившаяся нездоровая ситуация ее не устраивала. Она беспокоилась за дочь. В письме Эдме она рассказала, как вошла в комнату Берты и увидела, что та лежит «в постели, уткнувшись носом в стену, чтобы никто не видел ее слез… На этом с художниками покончено, – заключила она. – Они все безмозглые пустозвоны. Флюгеры! Им бы только играться».
Но Эдма не была убеждена в справедливости столь сурового вердикта. Она призналась Берте, что ее «безумное увлечение Мане» осталось в прошлом (да и как иначе, она теперь замужняя женщина), но что ее по-прежнему интригует Дега. Он совсем другое дело, уверяла она, ему не откажешь в уме, он насквозь видит притворство и ханжескую высокопарность. «Толкование Соломоновой премудрости наверняка вышло у него очень мило и пикантно, – предположила она в письме Берте. – Может быть, я глупа, думай как знаешь, но когда я перебираю в памяти всех этих художников, то говорю себе, что четверть часа разговора с ними стоит многих незыблемых истин».
Когда сегодня читаешь давно написанные письма, не так-то просто понять, что в них можно принимать за чистую монету: где там налет иронии, игры ума, а где, напротив, прямое, откровенное высказывание. Нам остается только гадать, с каким намерением Дега вдруг взялся толковать Берте «премудрость Соломона» и насколько серьезны были его ухаживания. Как большинство художников, он лучше изъяснялся посредством образов. Примерно в то же время, в начале 1869 года, он подарил Берте веер, на котором изобразил довольно странную сцену: писатель-романтик Альфред де Мюссе (известный своими любовными похождениями, в частности бурным романом с Жорж Санд), аккомпанируя себе на гитаре, поет серенаду одной из испанских танцовщиц. Другие мужчины – участники этой вымышленной сцены падают ниц или стоят на коленях перед женщинами, умоляя их о любви.
Моризо до конца своих дней не расставалась с подарком Дега. В трогательном автопортрете с сестрой, написанном вскоре после ее замужества, Берта и Эдма, в одинаковых белых платьях в горошек, с оборками на воротнике, в одинаковых черных бархотках на шее, уютно сидят у себя дома на диване с цветочной обивкой. На стене у них за спиной хорошо виден расписанный Дега веер.
Пока Мане бился над портретом Евы Гонсалес, Дега все больше времени проводил в доме у Моризо, тем более что у него появился прекрасный предлог: он уговорил одну из двух старших сестер Берты, Ив, позировать ему для портрета. Это обстоятельство могло сильно действовать Мане на нервы, ведь ему самому дозволялось видеться с Бертой только под бдительным надзором мамаши Моризо или ее доверенных лиц. Пытался ли он отвадить Дега от Берты? В сущности, у него не было на это права – он был женат. Но на Берту он повлиять пытался, это факт. Он хорошо знал Дега, знал его слабые места. И постарался использовать это на все сто. Так, в разговоре с Бертой он дал понять («в презабавной манере», по словам Берты), что Дега малый не вполне «естественный» и, хуже того, он «не способен любить женщину и еще меньше – сказать ей, что любит, или как-либо ей это доказать».
Подобные инсинуации нельзя расценить иначе как попытку настроить Берту против Дега. И надо сказать, он своего добился. Берта передала их разговор сестре в выражениях, которые говорят о ее солидарности с мнением Мане. «Я определенно не считаю, что характер у него [Дега] приятный, – писала она. – Он остряк, и только».
Если бы Дега слышал, как отзывается о нем старший товарищ, он, вне всякого сомнения, был бы страшно задет. «Презабавный» отзыв Мане был слишком близок к правде, чтобы легко от него отмахнуться.
Возможно, так же близок к правде был и написанный Дега портрет Мане и Сюзанны? В конце концов, хороший портрет выявляет суть человека. Двойной портрет – такой, как Дега написал в 1868–1869 годах, – выявляет не просто суть двух разных людей, но суть их союза. Мане был тогда слишком уязвим, чтобы легко отмахнуться от правды, проступавшей на его семейном портрете.
Конечно, брак никогда не сводится только к отношениям двоих. А брак Мане в тот момент был многолюден сверх меры. Впрочем, Мане нравилось большое скопление людей, людская толпа. (Особенно толпа маскарадная.) Но он любил и тайну личной жизни. У него были свои секреты, и он не намерен был их разглашать. В портрете Дега – портрете, рисующем его брак, – Мане разозлила, скорее всего, не такая маловразумительная и банальная вещь, как якобы недостаточно лестное изображение Сюзанны (именно этим обычно объясняют его дикий поступок, когда он отрезал ножом часть холста с фигурой жены). Куда более вероятно, что картина подлила масла в огонь и без того уже крайне опасной для него ситуации.
Попросту говоря, Дега слишком близко подобрался к семейной жизни Мане и тайнам, которые должны были оставаться тайнами. Даже если допустить, что портрет Мане и Сюзанны скорее выражал отношение Дега к браку вообще (отношение, уже обозначенное им в «Семействе Беллелли» и в «Интерьере»), он отражал и его мнение по поводу брака Мане в частности. С невозмутимостью зоркого наблюдателя Дега изобразил Сюзанну полностью ушедшей в свое музицирование; ее равнодушному к звукам мужу видна только ее спина. Он тоже где-то далеко от нее, в каком-то своем мире, в мечтах, быть может, о другой. Быть может, о Берте Моризо.
В таком случае наброситься на картину с ножом его, вероятно, побудило непрошеное вторжение Дега в щекотливую ситуацию его, Мане, отношений с Моризо. Возможно, здесь не обошлось и без смутного подозрения – подогретого отказом молодого друга ехать с ним в Лондон, – что Дега больше не приятель и протеже, а серьезный соперник, который теперь на коне, тогда как его, Мане, засасывает трясина. И ко всему еще Дега слишком много о нем знает, он слишком догадлив и вообще занимает в его жизни непомерно большое место.
Разумеется, можно предложить и другое объяснение: яростной вспышки Мане не случилось бы, если бы собственная семейная жизнь его не разочаровала. В конце концов, он полоснул ножом не наугад, а по изображению Сюзанны. Не потому ли, что портрет Дега совсем некстати напомнил ему: в их семейном союзе изначально присутствовала какая-то горечь, тайная суетливость, как будто им было что скрывать? Не потому ли, что они с Сюзанной в тот вечер повздорили и произошла бурная сцена? Хотя в целом они, кажется, были вполне совместимы и неплохо ладили, в их брак (еще до того, как он был официально заключен) проникла отрава лицемерия и обмана. В тяжкий для него период упадка творческих сил и мучительного романа с Бертой Моризо он мог даже допустить в свое сознание мысль, что всем известное предубеждение Дега против брака как такового, возможно, не лишено смысла. Разве не были бы у него развязаны руки для творческих экспериментов – и вообще для чего угодно, – если бы не постылая обязанность сохранять декорум из уважения к брачным узам?
Помимо всего этого, главным раздражителем, скорее всего, был особый взгляд Дега, его способ ви́дения, в художественном плане день ото дня становившийся все совершеннее, – беспощадный, холодный, аналитический взгляд! Дега с хирургической точностью препарировал все, что видел. Это вам не Мане с его интуитивным, целостным, помноженным на чувство и воображение восприятием мира – нет, Дега расчленяет целое, разбирает на волокна взаимосвязи, чтобы дознаться, из чего все состоит. Трудно при этом не задеть какие-то чувствительные нити. Наверное, увидев себя и свой брак глазами Дега, Мане яснее, чем когда-либо, убедился в разнице мировосприятия – своего и Эдгара Дега – и решил, что с него довольно.
Но все вышесказанное – не более чем попытка взглянуть на инцидент с точки зрения Мане. А как к этому отнесся Дега? Как-никак его полотно изуродовали. И тут возникает вопрос: сознавал ли он, что делает, когда писал двойной портрет Мане? Не было ли тут умысла, холодного расчета? Намерения навредить?
Вероятнее всего, нет. В таких случаях обычно срабатывает механизм более сложный и не всегда осознанный. Современный английский поэт Джеймс Фентон однажды написал о непростых отношениях Сэмюэла Тейлора Кольриджа и Уильяма Вордсворта, отметив, что Кольридж признавал авторитет Вордсворта и его лидирующее положение в их кружке. Несомненно, Кольридж и сам обладал ярким дарованием – и большим честолюбием, – но несокрушимое самомнение Вордсворта подавляло потенциальных соперников. В этом смысле он, подобно Энгру, являл собой гигантскую и ревнивую артистическую личность, для которой «мысль о возможном соперничестве невыносима». По тем или иным причинам Кольридж не замечал этой стороны Вордсворта и болезненно реагировал на попытки мэтра принизить его творческие достижения – особенно на его насмешки по адресу поэмы «Кубла-хан». Однако – поразительная вещь – это не помешало впоследствии самому Кольриджу в своей двухтомной «Литературной биографии» посвятить целую главу недостаткам – характерным дефектам! – поэзии Вордсворта, не вполне отдавая себе отчет, как уверяет нас Фентон, «что он, Кольридж, творит».
«Он не мог разлюбить Вордсворта, – заключает Фентон. – Не мог оставить его в покое».
Разрезав картину Дега, дав выход своему гневу, Мане сам написал портрет Сюзанны за тем же пианино – лиричный, сочувственный портрет. Он словно хотел сказать: «Смотрите! Вот как это делается».
Или хотел извиниться – кто знает?
Еще раньше, в 1865 году, он написал портрет Сюзанны в белом платье на белом диване, а фоном ей служат белые кружевные занавески на широком окне. Лицо ее повернуто к зрителю – миловидное, как у фарфоровой куклы: голубые глаза, белокурые волосы, задорный вздернутый носик. (В 1873 году Мане переписал картину, добавив фигуру Леона, к тому времени уже взрослого, который на заднем плане стоя читает книгу.)
После того как он отрезал фигуру Сюзанны от написанного Дега двойного портрета, Мане был решительно настроен запечатлеть жену в ином, обновленном обличье. Себя он из картины исключил, сосредоточившись только на ней. Сюзанна изображена в профиль (как и на портрете Дега), на ней строгое черное платье, взгляд прикован к нотным листам, пальцы перебирают клавиши. Позади нее в зеркале на стене отражаются часы, которые в 1831 году преподнес матери Мане в качестве свадебного подарка ее крестный, шведский король Карл IV Бернадот. По всей видимости, Мане порядком намучился с этой картиной. Контур носа Сюзанны, в итоге вышедший совсем неплохо, пришлось много раз переписывать, это заметно даже на окончательном варианте. Он не успокоился, пока не добился правильной линии. Ему было важно, чрезвычайно важно, чтобы в портрете жены все было правильно.
Дружба Мане и Дега на этом не прекратилась. Как и их соперничество. В 1870-е годы, после осады Парижа прусскими войсками, когда оба художника бок о бок сражались за любимый город, и провозглашенной затем Парижской коммуны (положившей конец Второй империи), они часто обращались к одним и тем же сюжетам, словно и впрямь соревнуясь друг с другом: лавки модисток, дамы в модных платьях, кафе-концерты, куртизанки, скачки. Каждый не прочь был уколоть другого в споре, выясняя, кто из них первый обратился к той или иной современной теме. Каждый насмехался над тем, каким способом другой ищет признания у публики. Каждый время от времени отпускал по адресу другого обидные замечания личного свойства. Но в целом напряженности в их отношениях со временем стало меньше.
Даже обмениваясь колкостями, они нередко делали друг другу завуалированные комплименты. «Мане в отчаянии, – заявлял Дега, – потому что не умеет писать такие чудовищные картины [как Каролюс-Дюран] и получать за это награды и почести». В другой раз, в разгар жаркого спора с Мане по поводу официальных лавров, Дега внезапно сказал ему с какой-то обезоруживающей искренностью: «В душе все мы давно удостоили вас ордена Почета, как и многих других, еще более лестных титулов и званий».
Оба живописца не стояли на месте, продолжая искать и совершенствовать новые подходы и приемы. В 1870-е годы их манеры в известной мере сблизились, поскольку в работах каждого появилась спонтанность и эскизность, внешнее впечатление незавершенности, традиционно ассоциирующееся с импрессионизмом. Надо отметить, что после «Интерьера» Дега больше не экспериментировал с нарративностью и постепенно избавился от своей чрезмерной сосредоточенности на выражениях лица. Через десять лет, когда в сюжетах Дега на первый план выйдут прославившие его балерины, лошади и занятые туалетом женщины, о лицах на его картинах можно будет сказать только одно: их просто нет. Ему намного интереснее стала женская спина.
Пройдет почти сорок лет, прежде чем он снова напишет портрет семейной пары.
В свой черед Мане перестал увлекаться постановочным студийным псевдореализмом – с переодеваниями, ролевыми играми и эффектными вариациями на тему старых мастеров. Под влиянием Клода Моне он обратился к пленэрной живописи, и чем дальше, тем большую роль в его картинах стал играть свет. Новых предложений съездить вместе в Лондон или позировать друг другу не последовало. Они остались друзьями, но уже без прежней близости, без чувства, что они во всем заодно. И все-таки, если верить Джорджу Муру, который хорошо знал обоих художников, такого друга, как Мане, у Дега больше не было.
Одно можно сказать с уверенностью: Дега не переставал восхищаться Мане-художником, хотя и старался не подавать виду. Один их общий приятель так рассказывал о визите Дега в мастерскую Мане: «Дега посмотрел на рисунки и пастели. Притворился, что от усталости у него болят глаза и он не очень хорошо видит. Он почти ничего не сказал. Вскоре Мане встретил знакомого, и тот вдруг ему говорит: „На днях я столкнулся на улице с Дега. Он только что вышел из вашей мастерской и был в полном восторге, в потрясении от всего, что вы ему показывали“. Мане покачал головой: „Вот стервец…“»
Берта Моризо тоже не перестала любить Мане. Но их роман не мог привести к счастливому концу. Мане сам подталкивал ее к браку со своим родным братом Эженом, и она рассудила, что ей, пожалуй, стоит согласиться: это лучше, чем выйти замуж за кого-то еще, раз уж ей не суждено быть женой Мане. Хотя все могло обернуться не лучше, а хуже: Эжен далеко не Эдуар. «Мое положение безысходно, с какой стороны ни посмотри», – печально заключила она, взвешивая все за и против. В конце концов она все же дала согласие на этот брак, и Дега не упустил случая (как всегда) тут же написать портрет Эжена.
У Берты и Эжена родилась дочь Жюли Мане, которую Берта обожала.
Эдуар Мане умер весной 1883 года. Он длительное время страдал от спинной сухотки (локомоторной атаксии – нарушения чувствительности конечностей), развившейся вследствие запущенного сифилиса, и последние полгода жизни художник терпел неотступные режущие боли. В марте 1883 года ему поставили диагноз «гангрена левой ноги», и в апреле ногу ампутировали. Операция его не спасла. Через одиннадцать дней он умер.
Дега среди многих других остро переживал утрату друга.
После смерти Мане в его личной коллекции не было обнаружено ни одной работы Дега. Зато после смерти Дега в 1917 году миру предстало богатое собрание неизвестных прежде «мане»: восемь живописных полотен, четырнадцать рисунков и свыше шестидесяти гравюр.
Свою великолепную коллекцию (одно время он даже подумывал о создании музея) Дега собрал в 1890-е годы, десять с лишним лет спустя после безвременной смерти Мане. В то время Дега начал зарабатывать достаточно денег, чтобы позволить себе коллекционирование, которое стало его страстью. Помимо многочисленных произведений Мане (некоторые хранились у него еще с прежних времен), он приобретал картины и рисунки своих кумиров – Энгра, Делакруа и Домье. Покупал он и работы художников молодого поколения, включая Сезанна и Гогена; гравюры и пастели Мэри Кэссет; картины Камиля Коро. Кроме того, в его коллекции оказалось более сотни ксилографий, иллюстрированных книг и рисунков японских художников.
Двадцать лет спустя, к началу Первой мировой войны, о его баснословной коллекции знали только по слухам. Под конец жизни Дега практически ослеп и никого к себе не допускал. Когда собрание покойного живописца попало на рынок, художественный мир был потрясен. «Событием сезона» назвал журнал «Искусство» (Les Arts) три аукциона в марте и ноябре 1918 года, на которых распродавалась коллекция Дега. (Еще на пяти торгах с молотка пошли работы самого Дега.) Американские коллекционеры, вроде Луизины Хэвмейер, и музеи ранга Метрополитен в Нью-Йорке спешно слали распоряжения своим парижским агентам. Лувр тоже не остался в стороне, тем более что большинство представленных в коллекции Дега художников были французы. Но сливки достались Лондону. Видный экономист Джон Мейнард Кейнс, входивший кружок английских интеллектуалов, писателей и художников под названием Группа Блумсбери, прислушался к мнению своего друга, художественного критика Роджера Фрая, и понял, что такой случай упускать нельзя. Он сумел убедить Британское казначейство выделить не имевшей собственных средств лондонской Национальной галерее разовую целевую субсидию в размере 20 000 фунтов для участия в торгах.
Кейнс лично отправился в Париж, когда в Европе еще полыхала война. Немцы вплотную подошли к городу и обстреливали его из тяжелых орудий. Обстановка была нервозная. В аукционный зал галереи Жоржа Пети доносился грохот канонады. Спутник Кейнса Чарльз Холмс вспоминал, что после очередного разрыва, прогремевшего как будто совсем рядом, «люди повскакали с мест и устремились к дверям», позабыв про торги и думая только о собственной безопасности. Большинство из покинувших зал так туда и не вернулись, и в результате многие шедевры пошли в тот день с молотка при сильно сократившемся числе претендентов на покупку. Кейнс и Холмс проявили хладнокровие – и британские любители искусства оказались в выигрыше.
Коллекционирование – даже если коллекционер и сам художник – занятие, в основе которого лежит механизм сублимации, преобразующий жажду удовольствия в разумную деятельность, хаос в порядок. А еще это способ что-то возвратить, восстановить, воскресить.
С этой точки зрения собранная Дега коллекция произведений Мане может поведать удивительную личную историю. На многих из них изображены люди, сыгравшие ключевую роль в короткой, но яркой жизни Мане и, пусть опосредованно, оставившие свой след в жизни Дега. Был там, например, портрет Берты Моризо – в живописном варианте и в виде гравюры. На нескольких гравюрах запечатлен Леон. Прекрасный офорт с головой Мане-отца, два других – с портретом Бодлера. Все вместе они составляют компанию знакомых лиц. Дега жил среди этих изображений, и они постоянно напоминали ему о том, что было время, когда он обладал особым пропуском в такой заманчивый и мало кому доступный таинственный мир Мане.
Впрочем, даже тогда он чувствовал, что есть дверь, которая всегда будет для него закрыта. И в этом смысле его коллекция отчасти компенсировала то, чего недоставало в жизни. Она позволяла ему, несмотря на ход времени, по-прежнему ощущать связь с теми, кого в реальности он так и не сумел до конца узнать, понять, удержать. И первым среди них был Мане.
Что касается поврежденных картин – в частности, той, которая стала камнем преткновения в его дружбе с Мане, – то у Дега срабатывал инстинкт самосохранения, и подобные травмы не были для него губительными. Он не мог вечно обижаться на Мане за то, что тот изувечил его работу. «Разве можно надолго рассориться с Мане?» – сказал он Воллару.
Пожалев о том, что в сердцах отослал Мане подаренный натюрморт («Как он был красив, этот маленький этюд!» – сокрушался он), Дега попытался его вернуть, но, увы, было уже поздно: Мане его продал.
Дега собирался восстановить испорченный портрет Мане и Сюзанны. Он уже и холст подготовил, как следует из его рассказа Воллару, с намерением дописать фигуру Сюзанны и потом вернуть картину Мане. Да так и не собрался – «откладывал со дня на день, и в итоге все осталось как есть».
Примечательно, что спустя годы он приложил немало усилий, чтобы восстановить другой разрезанный холст – не свой, а Эдуара Мане. Речь идет об одной из четырех картин, написанных Мане в конце 1860-х годов – примерно в то же время, когда Дега создал портрет Мане и Сюзанны. Все они были посвящены казни смещенного мексиканского правителя Максимилиана (цв. ил. 4). Картины носили характер политической декларации Мане и выражали протест против жалкой и беспринципной внешней политики Наполеона III. В них он предпринял попытку совместить собственный оригинальный стиль с отжившим свой век жанром исторической живописи.
Поскольку Мане всегда оставался самим собой – и поскольку в крови у него бурлил азартный дух репортажа, побуждая ценить неопределенность настоящего более, чем слежавшуюся пыль прошлого, – сюжетом этих «исторических» картин стало злободневное событие. Австрийский эрцгерцог Максимилиан Габсбург по инициативе французского правительства Наполеона III получил титул императора Мексики. В стране был установлен марионеточный режим, целиком зависевший от поддержки европейских держав, и прежде всего Франции. Но когда мексиканские республиканцы подняли восстание против Максимилиана, французы бросили своего ставленника на милость победителя. В 1867 году мятежники взяли его в плен и расстреляли. Французские газеты замалчивали эту новость, но пресса других стран широко ее освещала, и вскоре нелицеприятная правда вышла наружу. Европейская общественность содрогнулась от ужаса и стыда.
Попытки Мане совладать с актуальной для того времени темой растянулись на три года (те самые три года, когда они с Дега были особенно близки: 1867–1869). Мексиканские события все время обрастали новыми подробностями и уточнениями, по мере того как на поверхность всплывали скрываемые ранее факты. Замысел Мане тоже не раз трансформировался. Стоявшие перед ним задачи в чем-то перекликались с теми вопросами, на которые стремился ответить Дега, работая над «Интерьером» и портретом Мане и Сюзанны. Как можно посредством картины рассказать некую историю – или, наоборот, как уйти от рассказа? На каких весах отмерить оптимальную меру эксплицитности? Какой конкретно момент запечатлеть? Роковую долю секунды, разделившую жизнь и смерть, самый миг убийства? Или здесь уместнее проявить широту и гибкость, охватить временной диапазон, который вобрал бы в себя исторический контекст и подразумевал бы моральную оценку?
А дальше, конечно, возникала проблема выразительности лиц. До какой степени детализировать лица солдат расстрельного взвода? И насколько эмоциональными должны быть лица Максимилиана и двух его генералов, глядящих в лицо смерти?
В итоге Мане создал четыре больших варианта на эту тему. В наши дни их причисляют к шедеврам, в которых драматический накал сюжета парадоксальным образом усилен холодной, как бы лишенной всякого авторского отношения трактовкой. Но в то время титанические усилия Мане, как это нередко с ним случалось, пропали втуне. Мексиканская трагедия была все еще слишком на слуху, слишком очевидно бросала тень на французское правительство, и власти запретили художнику выставлять картины.
«Какая жалость, что Эдуар упрямо продолжал напрасную работу! – сокрушалась Сюзанна, вспоминая постигшую его неудачу. – За это время он мог бы написать столько прекрасных вещей!»
Незадолго до смерти Мане разрезал один из вариантов «Казни императора Максимилиана» – тот, что хранился в его мастерской (причина опять-таки нам неизвестна). На отрезанном куске оказалась часть фигуры Максимилиана и фигура казненного вместе с ним генерала Мехи. После смерти художника его наследник Леон, сперва продержав полотно в каком-то непригодном для живописи хранилище, разрезал его еще на несколько частей. «Я подумал, что сержант лучше смотрится без ног, а то брюки висели, как тряпка», – объяснял Леон. Центральную часть полотна – сбившихся в кучу солдат со вскинутыми ружьями – он позже продал Воллару.
К тому времени Дега уже выкупил у Леона другой кусок расчлененной картины, на котором сержант заряжает ружье, чтобы добить раненых. По воле случая Воллар и Дега отдали свои куски в работу одному и тому же реставратору, и тот показал Воллару фрагмент, доставшийся Дега. Узнав от Воллара, что они независимо друг от друга купили две части, вырезанные из одной картины, Дега пришел в бешенство. Он послал Воллара к Леону для спасения недостающих частей и потом как мог собрал всё воедино.
(Этот не полностью восстановленный холст был приобретен Кейнсом на распродаже коллекции Дега в 1918 году и висит теперь в лондонской Национальной галерее.)
Когда кто-то из его гостей останавливался перед склеенной из кусков картиной, Дега сердито ворчал: «Семья и здесь постаралась! Уж лучше вовсе без семьи!»
Всего через полтора года после смерти Мане Дега написал другу: «В сущности, я не склонен к любви. А если когда-то и был, то эта способность не развилась за неимением семьи и прочих невзгод. Со мной осталось лишь то, чего у меня не отнять, – не много… Это говорит Вам тот, кто желал бы провести остаток дней и умереть в полном одиночестве, и не надо мне никакого счастья».
Он проживет еще тридцать три года.
Матисс и Пикассо
Стоило одному приметить в работе друга смелую находку, как тут же все заделались смельчаками.
Анри МатиссВесной 1906 года, рассудив, что бояться ему нечего, Анри Матисс впервые посетил мастерскую Пабло Пикассо. Он пошел не один: с ним были его дочь Маргарита (Маргерит) и коллекционеры Гертруда и Лео Стайн, брат и сестра, американские евреи, незадолго до того перебравшиеся в Париж.
Мастерская Пикассо находилась на Монмартре – на другом берегу Сены. Стоял погожий весенний день, и все четверо решили пройтись пешком. Лео был высокий, жилистый, с косматой бородой. Брат и сестра одевались весьма странно. Оба разгуливали в кожаных сандалиях, а Гертруда вдобавок носила мешковатый костюм из коричневого вельвета. Двенадцатилетняя Маргарита очень переживала, как бы кто-нибудь из знакомых не увидел ее на модной авеню Опера́ в такой чудно́й компании. Но Стайнов совершенно не заботило, что о них думают другие.
Пикассо было тогда двадцать четыре, Матиссу тридцать шесть. Оба подошли к очень важному, во многом решающему моменту в своей карьере. Их положение было еще непрочно, но впервые за годы борьбы и сомнений оба начали получать какое-то, быть может временное, признание. И главную роль в этих едва наметившихся переменах к лучшему – если оставить в стороне творческий гений художников – несомненно играл Лео Стайн. В предыдущие несколько месяцев они с Гертрудой установили прочные связи с каждым из художников в отдельности и теперь, по вполне понятным причинам, решили их познакомить. Стайнам хотелось посмотреть, как с самого начала будут складываться их отношения, а в том, что эти отношения окажутся плодотворными, у американцев не было ни малейшего сомнения.
У себя в студии Пикассо с волнением ожидал гостей. Показать свои работы художнику-конкуренту – значит все поставить на кон. Живший в XVI веке итальянский скульптор фламандского происхождения Джамболонья любил рассказывать историю, ставшую впоследствии знаменитой (в 1995 году ее прекрасно изложил английский поэт Джеймс Фентон). В молодые годы, еще не освоившись в Риме – точно так же, как Пикассо еще не освоился в Париже, – он представил на суд великого Микеланджело небольшую, вылепленную из воска, но виртуозно проработанную скульптурную модель. Поверхность ее была настолько безупречна, что казалось, фигура вот-вот оживет. Микеланджело, бывший тогда в зените славы, взял модель в руки, внимательно рассмотрел со всех сторон, потом опустил на стол, занес кулак и со всей силы обрушил его на восковую фигурку. И так он проделал несколько раз, пока не превратил ее в бесформенную кучку воска. Все это на глазах у Джамболоньи. И так же у него на глазах Микеланджело стал лепить из воска что-то свое. Закончив, он вручил молодому человеку новую модель со словами: «Теперь иди и, прежде чем изощряться в отделке, научись сперва моделировать фигуру».
Матисс никогда бы не стал вести себя подобным образом. Хотя бы потому, что, несмотря на их с Пикассо разницу в возрасте, его статус в мире искусства не имел ничего общего со статусом Микеланджело в эпоху Высокого Возрождения. Но дело не только в этом – поступок Микеланджело слишком напоминает реакцию человека, который почуял в другом серьезную угрозу собственному авторитету. В отличие от великого итальянца, Матисс гордился своей способностью не просто терпеть соперников, но благодаря им открывать в себе новые возможности. Индивидуальность художника формируется в борьбе, в столкновении с другими индивидуальностями, сказал он однажды, а в другой раз признался, что, конечно, испытывал влияния, но всегда умел над ними возвыситься.
С тех пор как Пикассо переехал из Барселоны в Париж, не прошло и двух лет. Он еще не научился свободно говорить по-французски. Но у этого низкорослого, крепко сбитого испанца такая харизма, что даже сильным и ярким личностям приходится порой посторониться. Он живет со своей любовницей Фернандой Оливье и держит дома большую собаку по кличке Фрика – помесь немецкой овчарки и бретонского спаниеля. Втроем они ютятся в скудно обставленной комнате ветхого барака, общежития для нищих художников, прозванного за свою нелепую архитектуру «плавучая прачечная» – Бато-Лавуар. Эта же комната служит ему мастерской, куда ни глянь – всюду кисти, холсты, краски, мольберты. Летом там невыносимое пекло, зимой зуб на зуб не попадает от холода: уголь для печки стоит дорого.
У Матисса коротко остриженные волосы и густая борода, на лбу глубокая поперечная морщина, на носу очки, и живет он на другом конце города. На первый взгляд между самими художниками и обстоятельствами их жизни нет никакого сходства. Начать с того, что Матисс женат. Но ему тоже приходилось несладко. Долгие годы он и его жена Амелия (Амели) с трудом сводили концы с концами, пока Матисс с завидным упрямством пытался доказать, что как живописец чего-то стоит: он сравнительно поздно начал заниматься искусством и далеко не сразу нащупал свой путь. Временами дела его шли так худо, что он не мог позволить себе новый холст: приходилось соскребать краску со старых и использовать их повторно.
Всего три года назад, в 1903-м, Матиссы пережили страшный позор: родители Амелии, Катерина (Катрин) и Арман Парейр, сами того не ведая, оказались замешаны в грандиозной финансовой афере, разорившей бесчисленное множество кредиторов и вкладчиков по всей Франции. Правительству грозила отставка, банки балансировали на грани банкротства, по стране прокатилась волна самоубийств. Во главе мошеннической схемы стояла Тереза Юмбер, жена депутата парижского Городского собрания, которому супруги Парейр преданно служили – не просто вели дела, но были доверенными лицами депутата, всегда и во всем его поддерживали. Из-за столь тесных связей подозрение пало и на Парейров. Отца Амелии взяли под стражу, повсюду, даже в мастерской Матисса, шли обыски, обманутые вкладчики угрожали расправой. Родители Амелии в одночасье превратились в изгоев без гроша за душой.
Эта катастрофа донельзя осложнила положение неудачливого живописца. В родном городке на севере Франции его «неумелые картинки» и раньше никто всерьез не принимал. (Да и то сказать, разве это занятие для мужчины? Просто курам на смех!) Матисс не выдержал стресса – перенес нервный срыв и на два года практически прекратил писать.
Со временем он пришел в себя. Но после скандала вокруг аферы Юмбер Матиссам было чрезвычайно важно – в отличие от молодых и беспечных Пикассо и его подружки Фернанды Оливье – поддерживать репутацию добропорядочной, респектабельной семьи. К тому же у них было трое детей, и значит, им, родителям, тем более следовало вести себя осмотрительно и всегда помнить о приличиях. Младшему, Пьеру, еще не было шести. Жану исполнилось семь. Старшей, Маргарите, было на пять лет больше. У нее была ямочка на подбородке и вьющиеся пушистые волосы, которые она собирала в хвост или свободный узел на затылке. На шее она носила бархотку, оттенявшую блеск больших черных глаз. Но бархотка служила не просто украшением: под ней скрывался некрасивый шрам.
Пикассо был наслышан о Матиссе задолго до их личного знакомства. Едва ли он мог оставить без внимания тот факт, что маршан Амбруаз Воллар, походив несколько лет кругами, в 1903 году устроил Матиссу первую персональную выставку, поскольку еще раньше, в 1901-м, тот же Воллар устроил персональную выставку ему самому. Тогда девятнадцатилетний Пикассо даже не был парижским жителем, хотя и надеялся им стать. Предложение Воллара давало шанс осуществить мечту. Рецензии на выставку тоже внушали надежды. Критик Фелисьен Фагю с похвалой отозвался о «потрясающей технике» молодого испанца.
Пикассо привык быть в центре внимания. Он вырос в интеллигентной семье и, сколько себя помнил, со всех сторон слышал про свою одаренность. Но выставка у Воллара не принесла желаемых плодов, хотя успех, казалось, был не за горами. Следующие три года жизни Пикассо были отравлены трагическим происшествием.
Первую поездку в Париж Пикассо предпринял в октябре 1900 года в связи с тем, что его картину «Последние мгновения» – большое, драматическое по сюжету полотно в духе так называемого каталонского модернизма – отобрали для показа в Испанском павильоне Всемирной выставки, и это само по себе было невероятным достижением восемнадцатилетнего художника. Чтобы полнее насладиться своим торжеством, Пикассо поехал в Париж не один, а вместе с закадычным другом художником Карлесом Касахемасом. Касахемас, старше Пабло всего на год, но намного более образованный (он был сыном дипломата), психологически являл собой полную ему противоположность. Чувствительный, ранимый, вечно неуверенный в себе юноша питал неодолимую слабость к морфию – и к Пикассо, полагая, что только несокрушимая энергия и бойцовский характер друга способны уберечь его, Касахемаса, от душевной катастрофы. Они оба отказались учиться в академии и вели богемный образ жизни бунтарей-модернистов. В Барселоне они на пару снимали студию, на пару и отправились в Париж, где сразу попали в круг обитавших на Монмартре испанских экспатриантов. Они вместе ходили на выставки и оба пристрастились к танцзалам и кафе Монмартрского холма. У них все было общее – жилье, модели, любовницы.
Одной из таких любовниц была двадцатилетняя натурщица-прачка Лора Флорантен, присвоившая себе имя Жермена. Касахемас совершенно потерял из-за нее голову, но в конце концов она его отвергла, якобы по причине его импотенции. Дружба Пикассо и Касахемаса не обходилась без шпилек и насмешек, по большей части односторонних: так, Пикассо охотно упражнялся в шаржах на Касахемаса, утрируя его унылый облик, длинный нос и тяжелые веки. На слухи о его импотенции Пикассо откликнулся рисунком: голый Касахемас боязливо прикрывает руками гениталии.
В декабре 1900 года приятели вернулись в Испанию и вместе встретили в Малаге Новый год. После чего Пикассо на время уехал в Мадрид, а Касахемас – обратно в Париж в надежде вновь покорить Жермену.
17 февраля 1901 года доведенный до отчаяния Касахемас созвал друзей на ужин в монмартрском кафе. В девять часов он поднялся с места, сунул Жермене в руки пачку писем и разразился безумной и бессвязной речью. Верхнее письмо было адресовано начальнику полиции. Едва заметив это, Жермена заподозрила неладное. Она нырнула под стол в ту самую секунду, когда Касахемас выхватил из кармана пистолет и выстрелил в нее. Не сообразив, что промахнулся, он приставил пистолет к виску и с криком «А это мне!» застрелился. Той же ночью в больнице он умер.
Нелепая, жуткая смерть Касахемаса ввергла Пикассо в состояние, близкое к невменяемости. Происшедшее неотвязно его преследовало – тем более что вскоре Жермена стала его любовницей… Он снова приехал в Париж: спал с Жерменой в постели Касахемаса и работал в его опустевшей мастерской.
С этого начался его так называемый «голубой» период. Все больше погружаясь в нищету и депрессию, он писал откровенно меланхоличные, пронизанные безысходностью картины, которые мало кому могли прийтись по вкусу. Под стать его тогдашнему настроению была голубая палитра; круг сюжетов охватывал нищих и слепцов, циркачей и бродячих музыкантов – у всех изможденные фигуры и глубоко запавшие глаза.
Все вокруг считали, что он попусту тратит свой талант и упускает шанс, который давала ему выставка у Воллара.
И действительно, после пяти лет нужды и разочарований он столкнулся с тем, что все обсуждают не его, а Матисса. Минувшей осенью, после судьбоносного лета на побережье Средиземного моря, в Коллиуре, где Матисс увлеченно работал на пару с Андре Дереном, художник выставил серию небольших пейзажей и портретов, ошеломивших зрителей неестественным буйством цвета. Было это на Осеннем салоне 1905 года. Основанный в 1903 году Огюстом Роденом и Пьером Огюстом Ренуаром Осенний салон представлял собой альтернативу нескольким ежегодным выставкам последних достижений в области изобразительного искусства, отличаясь от них более молодым составом участников и более свободным подходом к отбору произведений. Публика встретила работы Матисса враждебно, отзывы критики в большинстве своем тоже были резко отрицательными. По словам депутата-социалиста Марселя Семба, «почтенная публика увидела в нем воплощение Беспорядка, грубого и бесповоротного разрыва с традицией… фигляра в дурацком колпаке». Крик поднялся такой, что Матиссу хватило одного визита на выставку, а жене Амелии он и вовсе запретил там появляться из опасения, что ее могут узнать и прилюдно оскорбить.
Все это еще больше осложнило положение Матисса в родственных кругах. Его собственные родители ни в грош не ставили его усилий. Когда он привез в родной Боэн одну из своих работ, его мать Анна просто оторопела. «Это не картина!» – заявила она. Матисс тут же взял нож и искромсал холст в клочья. После аферы Юмбер им с Амелией меньше всего нужны были новые скандалы.
Но в мастерской наедине с собой он продолжал свои эксперименты – пути назад для него уже не было; и собратья по живописному цеху носом чуяли во всем, что он делал, силу мысли и дерзость новизны. Ту самую дерзость, которую всякий заинтересованный в будущем развитии искусства не может не оценить.
Через полгода на его горизонте уже маячили влиятельные фигуры мира искусства. Журнал «Жиль Блас» (Gil Blas) провозгласил Матисса вождем новой школы живописи. Его вторая персональная выставка – пятьдесят пять картин плюс скульптуры и рисунки – должна была открыться в галерее Дрюэ весной, вскоре после его визита в мастерскую Пикассо. На следующий день после вернисажа у Дрюэ его смелое новаторское полотно «Радость жизни» планировали перевезти в «Салон независимых» (как называлась основанная в 1880 году ежегодная публичная выставка художников, не желавших сковывать себя узкими рамками официально санкционированного искусства).
Короче говоря, в тот день, когда Матисс пешком поднимался на Монмартр, он мог с полным основанием сказать себе, что после долгих творческих поисков и мытарств он открыл по-настоящему революционное направление и что после тяжких лет бедности и унижения в его жизни наметились радужные перспективы.
За это, последнее, ему следовало благодарить Стайнов. Безошибочно угадав в работах Матисса нечто новое, волнующее, Гертруда и Лео купили «Женщину в шляпе» (цв. ил. 5), самую поразительную из его картин, показанных на Осеннем салоне 1905 года. Этот портрет жены художника Амелии вошел в коллекцию Стайнов на улице Флёрюс. Коллекция с каждым месяцем разрасталась, все дальше отходя от традиционных обывательских предпочтений.
Точно так же, как Воллар устроил персональную выставку Пикассо, прежде чем переключить внимание на Матисса, Лео Стайн приобрел две работы Пикассо, прежде чем начал покупать Матисса. Так что испанец и здесь быстро сдавал позиции.
Первым из приобретенных Стайном «пикассо» была большая гуашь «Семья акробатов с обезьяной»: чета циркачей нежно склонилась над младенцем; на полу, с интересом за ними наблюдая, сидит бабуин. Вторым стала еще бо́льшая по размеру и амбициям картина маслом: девочка-подросток стоит в полный рост, в профиль, но лицо ее обращено к художнику, которому она позирует. У нее бусы на шее и лента в густых темных волосах. Больше на ней ничего нет. В руках, смущенно сведенных на животе, корзинка с ярко-красными цветами – эффектная деталь, парадоксально усиливающая впечатление угловатости не вполне сформировавшегося девичьего тела.
Для картины позировала известная в округе цветочница Линда с соседнего рынка. По ночам она работала возле «Мулен Руж», торгуя не только цветами, но и собой. Первоначально Пикассо намеревался изобразить девочку (с которой, скорее всего, и сам тоже спал) в наряде для первого причастия. Это была бы весьма характерная для богемной среды скабрезная шутка, подсказанная попыткой друга художника Макса Жакоба «перевоспитать Линду», записав ее в католическое Общество детей Девы Марии. Но Пикассо отказался от своей затеи и написал ее голышом.
Когда Лео привел сестру посмотреть на «Девочку с корзинкой цветов», Гертруда вовсе не пришла в восторг: ей категорически не понравилось, как написаны ноги девочки, а двусмысленное несоответствие полудетского тела и взрослого лица видавшей виды женщины Гертруду просто возмутило. Но Лео все равно купил картину. «В тот день я припозднился к ужину, и Гертруда уже сидела за столом и что-то ела, – вспоминал он позднее. – Я сказал ей, что купил картину, а она отбросила вилку с ножом и заявила: „Ты испортил мне аппетит!“»
По иронии судьбы, Пикассо очень скоро станет любимчиком Гертруды, и в этом свете ее первая реакция на его картину представляется вдвойне забавной. А для Пикассо это была большая удача: его работу купил коллекционер, на глазах у всех превращавшийся в одного из самых влиятельных законодателей вкуса нового столетия. И даже если Пикассо не мог на равных говорить с Лео (он не разделял страсти американца к интеллектуальным спорам), он был достаточно умен, чтобы почувствовать внутреннюю силу и азартность Стайна и понять, насколько важно заручиться его поддержкой. Желая потрафить своему новоявленному патрону, он сделал и подарил Лео его портрет – быстрый рисунок гуашью на картоне.
У Лео Стайна, как и у Матисса, была внешность профессора: длинная рыжеватая борода, очки в золотой оправе. Ему было двадцать восемь, когда они с Гертрудой приехали из Сан-Франциско в Париж посмотреть Всемирную выставку 1900 года; тогда же свою первую поездку в Париж предпринял и Пикассо.
В то время Лео еще метался в поисках смысла и цели в жизни, а поскольку в Америке у него никаких обязательств не было, он решил пожить в Европе. Сперва он из Парижа подался во Флоренцию и там подружился с историком и знатоком искусства Бернардом Беренсоном (как выяснилось, они оба учились в Гарварде у Уильяма Джеймса). Потом надумал стать художником и снова вернулся в Париж, где снял квартиру на улице Флёрюс, на Левом берегу, и с головой ушел в изучение художественных сокровищ французской столицы.
Лео не собирался становиться коллекционером, но у него был пытливый ум, и стоило ему купить одно произведение – картину ученика Гюстава Моро (среди учеников Моро был, кстати, и Матисс), – как он уже не мог остановиться. Положение американского еврея в Париже в чем-то сближало его с изгоями – со всеми непризнанными, непокорными, не поддающимися классификации, – и его маленький личный бунт выразился в тяготении к искусству спорному, темному, странному. По сравнению с другими американскими коллекционерами в тогдашнем Париже, он располагал весьма ограниченными средствами. Но он был дотошен и любопытен, и вскоре к его быстро растущей коллекции добавились работы Боннара, Ван Гога, Дега и Мане.
Его сестра Гертруда (по словам жены Беренсона Мэри, она была «толстая, своенравная, вся какая-то бронзовая… но у нее великолепная, скульптурная голова, недюжинный ум и добрейшее сердце – поистине редкая женщина») переехала к нему жить в 1903 году. Бросив учебу на медицинском факультете, Гертруда некоторое время путешествовала по Европе и Северной Африке и теперь собиралась вплотную заняться Парижем. Она явилась прямо к открытию первого в истории Осеннего салона. Под обширную выставку отвели сырой и душный подвал Пти-Пале. После первого похода они с Лео наведались туда еще несколько раз – Лео рыскал взад и вперед в поисках ярких открытий; Гертруда не разделяла его фанатизма (об искусстве у нее были только самые общие представления), просто рассматривала то, что ей нравилось и вызывало у нее внутренний отклик независимо от каких-либо посторонних соображений.
Лео и Гертруда производили странное, но вместе с тем внушительное впечатление. Впрочем, они недолго оставались единственными Стайнами в Париже; и они не единственные Стайны, сыгравшие решающую роль в судьбах Пикассо и Матисса. В начале 1904 года их брат Майкл со всем своим семейством – женой Сарой, маленьким сыном Алленом и нянькой-домработницей – тоже перебрался из Сан-Франциско в Париж и даже поселился на той же улице, где жили Лео с Гертрудой. Правда, очень скоро Майкл и Сара перебрались оттуда на близлежащую улицу Мадам, в просторную квартиру на четвертом этаже.
Сара Стайн, особа на редкость проницательная и энергичная, не уступала Лео в настойчивом стремлении как можно больше знать о состоянии дел в современном искусстве, и вскоре между ней и ее золовкой Гертрудой началось негласное состязание.
Когда Лео познакомил Гертруду с Пикассо, они сразу почуяли друг в друге родственную душу – и не важно, что его портрет цветочницы Линды ей не понравился. Зато Пикассо, для которого шутовство стало второй натурой, умел ее рассмешить. В ней с первого взгляда ощущалась личность – неординарная, властная, импульсивная, и смеялась она громко, от души, недаром приятельница Стайнов Мейбл Викс сравнивала ее смех с сочным бифштексом. Пикассо понял, что если постарается, то сумеет расположить ее к себе. И он постарался. При первой же встрече он предложил ей позировать ему для портрета. Она не раздумывая согласилась.
Обычно Пикассо писал портрет за день-два, ему хватало одного сеанса, а иногда и этого не требовалось – он часто писал по памяти. Необычную способность он развил в себе еще подростком и эксплуатировал на протяжении всей жизни. Портрет Гертруды стал редким – и самым знаменитым – исключением из правила. Впоследствии она скажет, что позировала Пикассо девяносто раз! Это значит, что несколько раз в неделю она ехала на омнибусе через весь город и потом пешком поднималась на Монмартр. Словно желая подчеркнуть серьезность своих намерений, Пикассо выбрал для ее портрета холст, полностью совпадающий по размерам с самой ценной на тот момент картиной в собрании Стайнов – большим портретом кисти Сезанна, на котором художник запечатлел свою жену с веером в руке. До сих пор неясно, Пикассо ли стремился проводить с Гертрудой больше времени, или она с ним. Одно несомненно: между двумя гипнотическими личностями возникло взаимное притяжение, и надолго затянувшиеся сеансы все еще продолжались, когда Гертруда и Лео привели Анри Матисса с дочерью в мастерскую Пикассо. Матисс, должно быть, знал о работе над портретом и сгорал от любопытства.
Время, затраченное Пикассо на портрет Гертруды Стайн, окупилось сторицей. Гертруда станет одним из самых верных его приверженцев. Благодаря последующей литературной славе ее версия событий тех лет, изложенная в «Автобиографии Элис Б. Токлас» и других сочинениях, возобладает над версиями (высказанными и невысказанными) Лео и Сары Стайн. Однако в то далекое время Гертруда играла отнюдь не первую скрипку в семейных решениях о покупке художественных произведений (по словам Жоржа Брака, ее представления об искусстве «не шли дальше представлений обычного туриста»). Ее брат и золовка, Лео и Сара, не только лучше разбирались в искусстве, но как коллекционеры были намного более последовательны – и бесстрашны.
Уж не промахнулся ли Пикассо? Может быть, из симпатии к Гертруде он поставил не на ту лошадь? Покуда он бился над портретом Гертруды, внимание Стайнов к его самоотверженным усилиям стало на глазах ослабевать и переключаться на старшего по возрасту, но более «актуального» Матисса.
Все произошло очень быстро. Вскоре после того, как Лео познакомил Гертруду с Пикассо, он вместе с Сарой и Майклом посетил Осенний салон 1905 года – тот самый, на котором ославили Матисса. Третий по счету ежегодный Осенний салон, уже завоевавший репутацию главного смотра нового искусства, проходил в Гран-Пале. Наряду с маститыми художниками там была представлена молодежь, а кроме того, в двух соседних залах проходили посмертные ретроспективные выставки двух мастеров девятнадцатого столетия – Жана Огюста Доминика Энгра (умершего в 1867 году) и Эдуара Мане (умершего в 1883 году). И Матисс, и Пикассо посетили обе ретроспективы, Стайны тоже.
Лео отчаянно хотелось приобрести работу Мане, и он жадно вглядывался в картины художника, среди которых был один из лучших портретов Берты Моризо: лицо в три четверти, черное платье, коричневый фон; у Берты темные глаза, аккуратный задорный носик и бархотка на шее.
Через три десятка лет после создания картины стиль Мане, некогда считавшийся броским и вызывающим, теперь никого не смущал. Черно-коричневая гамма портрета Моризо скорее могла показаться образцово спокойной в разрезе последних достижений парижского авангарда, и прежде всего – решительной эмансипации цвета, провозглашенной постимпрессионистами и поднятой на новую ступень последними экспериментами Матисса. И все же зрителей не переставала восхищать уверенная точность мазка, непреходящая современность великого Мане. Лео не хуже других знал, какие страсти кипели вокруг его работ на официальных салонах 1860-х годов. Он мысленно ставил себя на место тех немногих смельчаков, кто отважился подать голос в защиту художника посреди оглушительной хулы. Нетрудно представить себе, что Стайны невольно сравнивали портрет Моризо кисти Мане с портретом Амелии, жены Матисса, который был выставлен на том же салоне в зале номер семь.
Зал этот немедленно окрестили «залом буйнопомешанных» и самым опасным безумцем объявили Матисса. Главный вопрос, занимавший тех, кто там оказывался (а молва разлетелась быстро, и народ повалил валом): нужно ли принимать эти картины всерьез? Пейзажи – просто дичь. Портреты вообще не поддаются описанию. Матисс изобразил свою Амелию наподобие Моризо: она сидит и держит в руке что-то вроде веера. Лицо ее повернуто к зрителю – бедняжка не подозревает, что вместо черт у нее свистопляска брошенных наугад красок, никакой моделировки, ни единого намека на завершенность: какие-то зеленые, желтые, розовые и красные пятна над желто-оранжевой шеей. А взгляд! В нем словно отражается дерзкий вызов Матисса.
Художников, представленных в зале номер семь, с легкой руки критика Луи Вокселя стали именовать фовистами. Увидев среди режущих глаз картин статуэтку в псевдоренессансном стиле, Воксель воскликнул: «Донателло среди дикарей [les fauves]!» «Горшок с краской, брошенный в лицо публике» – вот что такое их творчество, по отзыву другого критика, Камиля Моклера. Возмущению публики не было предела. Надо признать, что первое впечатление от «Женщины в шляпе» у Лео тоже было далеко не лестное: «Какая-то мазня, ничего противнее в жизни не видел». Но в отличие от многих Стайны – Лео, Гертруда и особенно Сара, первая из всех разглядевшая в картине достоинства, – снова и снова возвращались в зал номер семь. Как пишет Хилари Сперлинг в биографии Матисса, «Женщина в шляпе» не отпускала их от себя. «Молодые художники просто животы надрывали от хохота, – вспоминала молодая американка, гостившая в то время в доме у Майкла и Сары. – Но Стайны – Лео, Майк и Салли [Сара] – подолгу стояли перед картиной и смотрели на нее молча и очень серьезно».
Стайны приняли вызов. Вняв пылким аргументам Сары, Лео выложил за «Женщину в шляпе» 500 франков и повесил ее на видное место в квартире на улице Флёрюс. Так что Пикассо, регулярно бывая у Стайнов на субботних вечерах, всякий раз видел этот портрет и слышал, как Лео, Сара и даже Гертруда без конца о нем говорят, пытаясь уверить гостей в том, что хозяева дома отнюдь не сошли с ума – заодно с Матиссом. Гости чаще всего смотрели на них с большим сомнением.
Для Матиссов продажа картины случилась как нельзя более кстати с точки зрения их финансового и душевного состояния. Заметно повлияла она и на оба дома Стайнов. Отныне характер двух коллекций – той, что на улице Флёрюс, и той, что на улице Мадам, – решительно изменился. В сущности, Стайны простились с девятнадцатым веком. Отважно устремившись в новое, двадцатое столетие, они огляделись вокруг в поисках надежных проводников и больше, чем кому-либо другому, доверились Матиссу.
Их личное знакомство с художником состоялось вскоре после знаменательной покупки. Не приходится сомневаться, что он произвел на них сильнейшее впечатление – своим интеллектом, умением сохранять достоинство под шквалом нападок, удивительным сочетанием благовоспитанности в частной жизни и какой-то отчаянной смелости в искусстве. И еще, конечно, своим обаянием. Как много позже скажет его помощница Лидия Делекторская, он умел привлечь к себе людей, внушить им, что они незаменимы. И он любил рисковать. Стайнам это нравилось.
Его семья им тоже понравилась. С первой же встречи Гертруда расположилась к Амелии. Это была женщина с характером. «Я чувствую себя в своей стихии, когда в доме пожар», – призна́ется она много позже, оглядываясь на свою жизнь. Решившись приобрести «Женщину в шляпе», Стайны попытались, как водится, несколько снизить заявленную цену. Матисс тут же выразил готовность уступить – других желающих купить картину не было и в помине, но Амелия стояла насмерть: 500 франков, и точка.
Маргариту, дочь Матисса, Стайны просто обожали. Ее познакомили с сыном Сары и Майкла, и дети подружились. Почти сразу обе коллекции Стайнов пополнились ее портретами: Сара и Майкл приобрели работы 1901 и 1906 года, а Лео с Гертрудой – портрет Марго в шляпе, который повесили прямо под «Девушкой с корзинкой цветов» Пикассо; от этого соседства портрет несовершеннолетней проститутки вдруг показался салонно-пресным.
В детстве Маргарита переболела дифтерией, инфекционным заболеванием верхних дыхательных путей. Однажды, во время острого приступа удушья, врачу пришлось срочно интубировать трахею – прямо на кухонном столе, пока Матисс крепко держал дочку. Разрез на горле открыл доступ воздуху, но еще какое-то время жизнь девочки висела на волоске. Ее увезли в больницу, там она пошла на поправку, но заразилась брюшным тифом и снова едва не умерла. В конце концов ее выходили, но последствия остались, и Маргарита никогда уже не была такой, как до болезни. Хрупкое здоровье не позволяло ей ходить в школу, так что она получила домашнее образование.
Матерью Маргариты была не Амелия (родившая Матиссу двух мальчиков), а бывшая любовница художника, модистка и натурщица по имени Камилла Жобло. Они прожили вместе пять лет, пока бесконечные неудачи Матисса-художника, превратности богемной жизни и рождение дочки не положили конец их союзу, рухнувшему под гнетом суровой реальности. Пара распалась в 1897 году, Маргарита осталась с матерью и была очень несчастлива, пока через несколько лет отец, тогда уже женатый на Амелии, не забрал ее к себе. Амелия приняла Маргариту как дочь, и отношения у них сложились самые теплые. Но настоящая, нерушимая связь всю жизнь была у нее с отцом. На его глазах она дважды едва не умерла. На его глазах она страдала и чахла от разлуки с матерью. Сама же Маргарита с ранних лет была свидетелем его извилистого творческого пути. С годами мастерская отца превратилась для нее в излюбленное пристанище, и, по мере того как она взрослела, Матисс все больше и больше от нее зависел. Она наводила в мастерской порядок, подготавливала ему краски, кисти и холсты. Позировала ему. Неприметно, без лишних слов она делала все, чтобы обеспечить ему душевный покой.
В отличие от андалузского вундеркинда Пикассо, Матисс начал заниматься искусством очень поздно. Впервые он взял в руки краски, когда ему исполнилось двадцать. Случилось это в его родном городке Боэн-ан-Вермандуа, когда он приходил в себя после операции и был еще очень слаб. Но странное дело: пока он забавлялся с кисточками и красками, на него словно снизошла благодать. И когда семилетняя Маргарита оказалась на пороге смерти, он вспомнил об этом и в попытке вернуть себе те счастливые мгновения все лето рисовал выздоравливавшую дочку. И вот теперь, спустя еще пять лет, она вступила в пору отрочества – и вновь выздоравливала после тяжелого недуга годичной давности. Как и прежде в подобных обстоятельствах, опасаясь за ее жизнь, Матисс попросил девочку позировать ему. Днем он писал ее с книгой в руках, с головой ушедшей в чтение. Вечером она позировала обнаженной (скованная поза, волосы собраны в узел на затылке) для скульптурного портрета в рост.
Маргарита была для отца-художника не просто удобной моделью. Она сама и ее младшие братья стали его музами. В последнее время он уделял особое внимание их собственным рисункам и картинкам красками: вдохновленный ими, он начал создавать большие полотна, имитируя приемы детского творчества. Одна из таких картин, решенная в нарочито плоскостной, «детской» манере, – портрет Маргариты с розовыми щечками, темно-зелеными, в тон ее кофточке, волосами и черной бархоткой на шее (цв. ил. 6).
В 1894-м, в год рождения Маргариты, младшая сестра Пабло Пикассо, горячо любимая им Кончита, тоже подхватила дифтерию. В Ла-Корунье, городке на северо-западе Иберийского полуострова, куда семья Пикассо за три года до этого переехала из южной Малаги, разразилась эпидемия. Кончите было семь, Пабло тринадцать. К религии в семье относились спокойно. Но, глядя, как угасает Кончита, они только и могли, что уповать на Бога да еще храбриться и обещать малышке, что все будет хорошо.
Но ничего хорошего ждать не приходилось, и Пикассо знал это. Он мучился от сознания собственного бессилия. На тот момент единственное, что он умел делать в жизни – и только в этом была его сила, – полностью исчерпывалось искусством. Все наперебой восхищались его рисунками. Природа одарила его так щедро и так явно, что даже отец, сам художник и учитель рисования, понимал, что за сыном ему не угнаться. Вот почему в поступке Пикассо, о котором поведал его биограф Джон Ричардсон, была своя логика.
Перед лицом утраты любимой сестренки Кончиты он дал Богу обет: если ей будет дарована жизнь, он никогда, никогда больше не возьмет в руки ни кисть, ни карандаш.
Через десять дней после Нового года, вечером, Кончита умерла дома, в своей постели. На следующий день им доставили новую антидифтерийную сыворотку, которую доктор заказал в Париже много недель назад.
Смерть Кончиты не оставляла Пикассо в покое до конца его дней. Именно тогда, когда его подростковое «я» распирало от гордого осознания собственных творческих сил, смерть сестры разверзла перед ним страшную пропасть полного бессилия человека перед лицом судьбы. И вместе с тем эта трагедия парадоксальным образом утвердила его в своем призвании, – казалось, Бог выбрал его искусство, пожертвовав жизнью сестры.
Свой тогдашний уговор с Творцом Пикассо почти от всех держал в секрете (уже взрослым мужчиной он рассказал об этом лишь некоторым своим возлюбленным), но с тех пор его не покидало беспокойное чувство вины. Конечно, нечто подобное испытывает всякий, кто потерял брата или сестру, а сам уцелел. Но к этому, вероятно, примешивалось и чувство вины молодого человека, который ощущает в себе непомерно большой талант, призвание и, не умея пока еще правильно им распорядиться, терзается соблазном от него отказаться. Клятва Пикассо у смертного одра любимой сестры сама по себе вполне естественна. Вот только была ли она чистосердечной? Маловероятно. Скорее всего, в глубине души он знал, что не сдержит слово.
Этот эпизод чрезвычайно важен для понимания всей жизни Пикассо и отчасти объясняет то, что Ричардсон назвал характерной Пикассовой «двойственностью по отношению ко всему, что он любил». И возможно, здесь кроется причина разнообразных способов, с помощью которых он всю жизнь, по словам того же Ричардсона, вынужден был «так или иначе приносить на алтарь своего искусства молодых женщин, молоденьких девушек».
Через два года, когда ему исполнилось пятнадцать, Пикассо попытался то ли заново пережить, то ли изгнать из души неизбывное чувство вины, претворив его в цикле работ на тему болезни и смерти. На всех изображены девочки или молодые женщины; названия говорят сами за себя: «Умирающая и скрипач», «Молящаяся у постели ребенка» и «Поцелуй смерти». Своей кульминации эта тема достигает в большой картине «Последние мгновения», на которой изображена сцена смерти девушки. Как уже говорилось, работа была отобрана для Испанского павильона на Всемирной выставке 1900 года в Париже, благодаря чему молодой Пикассо впервые посетил французскую столицу. Картина осталась незамеченной и вскоре вернулась в мастерскую художника. Однако на следующий год, вновь отправившись покорять Париж, Пикассо взял ее с собой.
…Пройдя пешком весь Париж, Матисс с Маргаритой, Лео и Гертруда начали подниматься по Монмартрскому холму к Бато-Лавуар – ветхому бараку, переоборудованному из старой фортепианной фабрики в общежитие для неимущих художников. Со стороны улицы строение было одноэтажным, но задняя часть выходила на крутой склон и вмещала несколько этажей.
Бато-Лавуар, или «плавучая прачечная» (названная так за сходство с баржей, на которой в старину прачки стирали белье), являл собой специфически богемную среду обитания. Там царил веселый дух анархии, в бесконечных переходах и каморках вечно смеялись, дурачились, мечтали, влюблялись и при случае нарушали закон. В те пять лет, что Пикассо прожил в Бато-Лавуар, его соседями были композитор Эрик Сати, художники Амедео Модильяни, Андре Дерен, Морис Вламинк, Хуан Грис и Жорж Брак и даже математик Морис Пренсе.
Но больше всех других постояльцев Пикассо интересовала Фернанда Оливье. Она была на голову выше Пикассо, статная, полноватая, с миндалевидными глазами и повадками праздной красавицы, знающей толк в удовольствиях. Ее воспитала одинокая тетушка, которая поспешила сбыть ее с рук: едва племяннице исполнилось восемнадцать, ее выдали за приказчика по имени Поль Эмиль Першерон. Муж обращался с ней отвратительно, а уходя на службу, запирал на замок. Фернанде удалось от него сбежать, но прежде у нее случился выкидыш. Ее приютил скульптор Лоран Дебьен, или Гастон де Лабом, как он себя называл, и с тех пор она зарабатывала на жизнь, позируя художникам. В своих мемуарах она напишет, что в юности «мечтала свести знакомство с художниками. Мне казалось, они обитают в волшебном мире и жизнь там настолько прекрасна, что с моей стороны наивно было бы мечтать когда-либо к ней приобщиться».
Лабом и Фернанда поселились в Бато-Лавуар, месте «странном и убогом», где, по воспоминаниям Оливье, «каждый звук разносится по всему зданию, и хоть бы кого-нибудь это смущало!». Лабом, как и ее постылый муж, вел себя грубо, и все же она оставалась с ним – до лета 1901 года, когда однажды застала его в постели с голой девчонкой лет двенадцати-тринадцати, которая приходила к нему позировать. «Лицемер! – записала она в дневнике. – Чего стоят все его прекраснодушные речи о красоте, о детской ранимости!»
Через три года она случайно столкнулась с Пикассо – он только недавно окончательно перебрался в Париж. «В последнее время, куда бы я ни пошла, непременно на него натыкаюсь, – писала она, – и он смотрит на меня огромными бездонными глазами; взгляд у него пронзительный и в то же время тяжелый, как будто в глубине тлеет огонь». Она не могла понять, к какому кругу общества он принадлежит и сколько ему лет. Загадочная личность. Она была заинтригована, но по понятным причинам опасалась вновь довериться мужчине (да еще такому, который почти не говорит по-французски).
Пикассо между тем был сражен наповал. Он без памяти в нее влюбился. В его отношении к Фернанде в начале их романа есть что-то бесконечно трогательное. Он буквально упивался ею – как никем и никогда больше. «Он все готов бросить ради меня, – писала она. – В глазах у него стоит мольба, и любая оставленная мною вещь для него свята. Если я засыпаю, то, проснувшись, вижу его у своей постели – он не сводит с меня беспокойных глаз». Несмотря ни на что, Фернанда долго не соглашалась переехать к нему насовсем. Ее не соблазняла перспектива поселиться в его убогом жилище, к тому же она успела заметить, что он ревнив, и это ее настораживало. И когда он принялся увещевать ее бросить работу натурщицы, Фернанда решила поставить точку. Она пришла к нему в мастерскую и объявила, что им нельзя быть любовниками, но они могут остаться друзьями. По ее словам, Пикассо был «раздавлен», но для него это было все же «лучше, чем ничего».
Пикассо вступил в полосу душевного разлада, с одной стороны, и безудержного экспериментирования – с другой. Он не желал отступиться от Фернанды (устроив у себя в комнате что-то вроде алтаря в честь возлюбленной), но при этом таскался по борделям и пылко дружил с двумя поэтами – Максом Жакобом и Гийомом Аполлинером. Жакоб познакомил Пикассо с поэзией Бодлера, Рембо и Малларме. Эти двое, Жакоб и Пикассо, были как братья. Какое-то время они жили в одной комнате, по очереди спали в одной постели, обменивались понятными только им словечками и шутками. Жакоб не раз говорил, что встреча с Пикассо перевернула всю его жизнь. Но самое большое влияние на Пикассо оказал Аполлинер. Еще в пору своего поэтического становления Аполлинер подпольно начал выступать как прозаик – автор жестких (даже по сегодняшним меркам) порнографических сочинений. Тогда он еще не пробовал себя в художественной критике, хотя его последующий вклад в теорию авангардного искусства трудно переоценить. Во взглядах Аполлинера была радикальность, присущая всякому бескомпромиссному поиску нового. Радикальность, дотла сжигающая все случайное и отжившее, захватила воображение Пикассо. Зачарованный Аполлинером, он теперь иначе смотрел на собственные усилия последних лет, окрашенные сентиментальным пафосом, суеверием и жалостью к себе; он начал яростно избавляться от набившей оскомину литературности в попытке овладеть чувствами и формами, о которых можно было бы сказать: да, это новое слово в искусстве, ничего подобного еще не было!
Тем временем Фернанда стала встречаться с красивым каталонцем по имени Жоаким Суньер. В Париж он приехал из Барселоны, где принадлежал (как и Пикассо) к группе художников-анархистов, собиравшихся в кафе «Четыре кота». Он писал сценки из жизни ночного Парижа в манере Дега. В конце концов Фернанда перебралась к нему, и шансы Пикассо резко пошли на убыль. Однако в новом раскладе ее тоже не все устраивало. В отношениях с Суньером превалировала физическая страсть, но Фернанде не хватало любви. «Я не могу быть с мужчиной, если не уверена, что он меня любит». Она по-прежнему виделась с Пикассо и, несомненно, делилась с ним своими сомнениями, недаром полагаясь на его сочувствие. Он готов был использовать любую возможность, лишь бы удержать ее подле себя. Однажды он сказал ей, что в доме у друзей курил опиум, и пообещал купить все необходимое – масляную лампу, трубку и спицу, – чтобы они с Фернандой могли покурить вместе.
«Во всяком случае, это что-то новое, я сгораю от любопытства», – записала она в дневнике. В тот первый раз, когда она пришла к нему пробовать опиум, они уснули только под утро. Следующие три дня она не выходила от Пабло. «Возможно, благодаря опиуму я постигла истинный смысл слова „любовь“», – написала Фернанда. Как по мановению волшебной палочки, она прониклась доверием и нежностью к Пикассо. «Чуть ли не с первого мгновения во мне родилась уверенность, что я должна связать с ним свою жизнь, – призналась она. – Я больше не помышляла о том, чтобы встать среди ночи и в безумной жажде наслаждения идти разыскивать Суньера, как случалось еще недавно».
Пикассо, не столько религиозный, сколько сверхсуеверный, не мог не узреть в чудесных переменах вмешательства некой магической силы. Стоило ему бросить в воздух щепотку волшебного порошка – снадобья, именуемого «опиум», – как сбылись его заветные желания!
Фернанда быстро стала своей в компании эксцентричных, безденежных и беспутных друзей, которые к тому времени сплотились вокруг Пикассо. В так называемую «банду Пикассо» (bande à Picasso) входили Жакоб и Аполлинер, поэт Андре Сальмон, многие постояльцы и гости Бато-Лавуар, а также сменяющие друг друга художники, натурщицы, циркачи. Не последнюю роль в этой богемной молодежной среде играл опиум, и за эйфорическими взлетами часто следовали провалы в глухую депрессию. Пикассо не мог обуздать приступов ревности, которые омрачали его отношения с Фернандой весь следующий год, пока он продолжал избавляться от сентиментальности своего «голубого» периода ради более жесткого и неприкрашенного изобразительного языка.
Как художник Пикассо вступал в период иной зрелости. Его эмоции простирались уже за пределы собственного «я». Он стал меньше жалеть себя, круг его интересов заметно расширился. Его дружеские связи – прежде всего с Жакобом и Аполлинером – по пылкости чувств иной раз не уступали его привязанности к Фернанде, которая в конце 1905 года все-таки к нему переехала. Под воздействием любви, опиума и поэзии искусство Пикассо становилось одновременно и более масштабным, и более личным.
Едва у Пикассо завязались отношения со Стайнами, Фернанда, как и он сам, быстро смекнула, какие огромные возможности сулит ему новое знакомство. «У нас в мастерской были удивительные посетители, – записала она. – Они американцы, брат и сестра, зовут их Лео и Гертруда Стайн… Они искренне восхищаются авангардистами, и, кажется, у них есть чутье, а это своего рода талант. Они точно знают, чего хотят, и в первый же визит купили картин на 800 франков – такое нам и во сне бы не приснилось!»
К тому времени Гертруда уже дала согласие позировать для портрета. Стайны пригласили молодую пару к себе на ужин, и с тех пор Пикассо и Фернанда стали завсегдатаями субботних вечеров на улице Флёрюс.
Однако вечера у Стайнов обернулись непростым испытанием для Пикассо – хотя бы из-за его скверного французского. К тому же вскоре ему пришлось мириться с новым фаворитом Стайнов, Матиссом, что было вдвойне тяжко. Солидный, респектабельный Матисс то и дело пускался в пространные рассуждения на своем родном французском, его сдержанный шарм и авторитетный тон неизменно производили впечатление. Он был убедителен. Его умение владеть собой внушало почтительную робость, его спокойная, солидная манера ничего общего не имела с панибратством, принятым в кругу Пикассо и его друзей по Бато-Лавуар и ночным клубам Монмартра. В присутствии Матисса Пикассо должен был остро чувствовать свою второсортность едва ли не во всем – в признании, в зрелости, а главное, в бесстрашии творческого поиска.
Матисс, со своей стороны, едва ли мог не заметить амбициозности молодого Пикассо, как и его гениальной одаренности, о которой ему кто-нибудь непременно бы шепнул, даже если бы он сам не сразу это понял. Распознал ли Матисс в нем соперника – неизвестно; если да, то он не готов был в этом признаться даже себе, не говоря о других. Скорее складывалось впечатление, что он воспринимает испанца почти как младшего брата. Молодой художник несомненно чем-то выделялся, чем-то подкупал. Никакой враждебности к нему Матисс не испытывал, напротив, он был само великодушие.
Несмотря на все осложнения, Пикассо прекрасно понимал, насколько важно ему не пропускать вечера у Стайнов. К тому же его, как и Матисса, притягивали развешенные на стенах работы из коллекции Стайнов. «Если вам хочется отдохнуть от разговоров, – писала Фернанда Оливье, – там всегда есть на что посмотреть: повсюду, куда ни глянь, произведения искусства, и, кроме того, у них очень хорошая коллекция японских и китайских гравюр, поэтому можно уютно устроиться в кресле где-нибудь в тихом уголке и получать удовольствие от этих чудесных шедевров».
Вслед за Пикассо Фернанда не могла не отметить появления у Стайнов все новых и новых «матиссов», как в квартире на улице Флёрюс, так и дома у Майкла и Сары на улице Мадам. Она внимательно присматривалась к Матиссу. «У него были правильные черты, густая золотистая борода – классическая внешность мэтра», – вспоминала она. Он был доброжелателен и приятен в общении. Но когда речь заходила об искусстве, «говорить мог без умолку – спорил, доказывал, убеждал, пока не добивался от слушателей согласия. Он обладал поразительно светлым умом и доводы свои излагал всегда ясно и четко».
Пока Пикассо работал над портретом Гертруды, Фернанда часто присутствовала на сеансах и читала вслух что-нибудь из басен Лафонтена. А когда женщины оставались одни – в квартире у Стайнов или в студии на Монмартре, – Фернанда пускалась с Гертрудой в откровенности: рассказывала о перипетиях своей любовной жизни, жаловалась на ревность Пикассо, восхищалась его фанатичной работоспособностью, хвасталась его привязанностью. Вероятно, о Матиссе она тоже не прочь была посудачить. Фернанде нельзя отказать в наблюдательности. От нее не укрылось, что Матисс, несмотря на всю его разговорчивость и внешнюю открытость, «далеко не так прост, как хочет казаться».
Пикассо, с его сверхъестественной способностью видеть у окружающих их слабые места, скорее всего, тоже это приметил. Едва состоялась их личная встреча, он должен был почувствовать, что уверенный и невозмутимый на публике Матисс живет под тяжким гнетом. И верно, он страдал от приступов необъяснимого страха, носовых кровотечений и бессонницы; его изводили тревожные мысли о непрочности его положения. За бесстрашие в стенах мастерской и веру в свою творческую интуицию приходилось платить большую цену. Его эксперименты с цветом не имели аналогов в истории западного искусства. Он сам испугался, выпустив такого джинна из бутылки и не зная наперед, оправдан ли риск. По словам Хилари Сперлинг, вечно точившее его сомнение заставляло художника жадно ловить каждое слово зрителей, с сочувствием относившихся к его творчеству.
Возможно, Матисс отчасти надеялся, что Пикассо окажется одним из таких «сочувствующих зрителей» и даже что ему, Матиссу, удастся сделать молодого испанца своим последователем. Он всюду искал поддержки и был согласен на кого угодно, на что угодно, лишь бы отстоять самостоятельный путь в искусстве. Он уже привлек на свою сторону Дерена, Брака и других. Так отчего не завербовать и Пикассо?
В то же время Матисс не мог не видеть того, что видели все: гипнотической личности Пикассо. И не мог не признать, что у испанца исключительный талант рисовальщика, – его легкости и мастерству Матисс мог только завидовать. И потому другой частью своего сознания Матисс должен был понимать, насколько маловероятно, чтобы молодой да ранний Пикассо согласился быть чьим-то последователем.
Приглашая Матисса к себе в мастерскую, Пикассо рассчитывал, вероятно, частично вернуть утраченные позиции – как в отношениях со Стайнами, так и в наметившемся соперничестве с Матиссом. Бато-Лавуар хоть и слыл трущобой и гнездом разврата, все же был в глазах Пикассо суверенной территорией, и он всегда с гордостью показывал ее визитерам, кем бы они ни были. По свидетельству Фернанды, летом в его студии было «жарко, как в печке», поэтому он раздевался чуть ли не догола (точнее – до набедренной повязки) и в таком виде, с поистине королевской небрежностью к правилам хорошего тона, принимал посетителей. Сохранился рассказ о том, как однажды к нему без предупреждения нагрянула Гертруда вместе со своей молодой знакомой из Калифорнии Аннет Розеншайн. Гертруда повернула ручку, толкнула дверь и увидела сцену, до странности напоминавшую «Завтрак на траве» Эдуара Мане. «На голом полу в необставленной комнате лежала красивая женщина, а по сторонам от нее – двое мужчин, один из них Пикассо… Мужчины были полностью одеты, – уточняет Розеншайн. – …Все отдыхали после богемных излишеств минувшей ночи… Ни Пикассо, ни его друзья не захотели – или просто не смогли – подняться и не пытались нас удержать, и мы ушли».
Другими словами, Бато-Лавуар – не светский салон, где интеллектуалы ведут заумные споры и бесконечно что-то объясняют; здесь все решают молодость, пылкость чувств, непредсказуемость поступков. Расчет Пикассо был точен: какие бы перспективы ни открывались перед Матиссом, ему уже не стать своим в безалаберном молодежном царстве Бато-Лавуар. Как это свойственно людям двадцати с чем-то лет – свободным от брака, от детей, от финансовой ответственности, от необходимости подчинять свою жизнь чему-либо, кроме своих фантазий, – Пикассо с радостью ухватился за шанс козырнуть своей неограниченной свободой перед человеком значительно старше его по возрасту. Если дома у Стайнов Пикассо волей-неволей чувствовал себя приниженным, то здесь, в Бато-Лавуар, его преимущества будут всем очевидны.
Как только Матисс с Маргаритой в сопровождении Гертруды и Лео добрались до Бато-Лавуар, Матисс, должно быть, и сам почувствовал, какая пропасть отделяет его нынешнюю жизнь от жизни Пикассо. Не то чтобы он совершенно не представлял себе той, другой жизни, как справедливо уточняет Хилари Сперлинг. Было время, когда он тоже жил в бедности с веселой, вполне богемного склада подругой в окружении друзей-художников. И ради пригоршни монет тоже шел на разные ухищрения – закладывал часы, перебивался случайными заработками, да и одевался кое-как, мало беспокоясь о своем внешнем виде. Правда, он пока еще не дорос до того, чтобы романтизировать те «славные деньки», – слишком живы были воспоминания о нужде, слишком много сил отдал он в борьбе с нею, и, положа руку на сердце, он не мог сказать, что борьба эта позади. Его тогдашняя подруга – мать Маргариты – исчезла из его жизни, и ее место заняла жена. Вместе они стали сильнее. Но положение их было непрочно, перед ними по-прежнему маячил призрак бедности.
Когда вся компания зашла наконец в студию Пикассо, там сразу стало тесно. Гертруда, надо думать (тут нам остается только строить догадки), держалась по-хозяйски бесцеремонно и шумно, то и дело разражаясь своим знаменитым «сочным» смехом. Лео, конечно, жадно озирался по сторонам в надежде высмотреть что-нибудь новенькое, многообещающее, будь то живописный образ или манера… Оба они, вероятно, настроились не упустить ни единого проявления напряженности в отношениях двух художников. (Идея соперничества – всегда подогревавшая отношения между самими Стайнами – очень их занимала.) Фернанда, скорее всего, приветствовала Матисса радушно и почтительно, хотя не исключено, что в душе она немного волновалась за Пикассо. «Матисс в подобных обстоятельствах блистал, – напишет она впоследствии, – он великолепно владел собой, тогда как Пикассо был скован, робел и казался букой». Желая разрядить обстановку, она, наверное, переключила внимание на Маргариту – это было бы вполне естественно, тем более что после выкидыша в период ее кошмарной связи с Першероном сама она не могла иметь детей. (Пикассо узнал об этом незадолго до описываемых событий, эта тема еще не утратила для него злободневности. Надо сказать, на протяжении всей жизни он не считал для себя зазорным довольно жестоко насмехаться в своем искусстве над близкими людьми, вот и тогда он, словно бросая упрек Фернанде, вдруг начал писать серию картин на тему материнства.)
Можно предположить, что Матисс говорил с Пикассо о Маргарите, пытаясь объяснить ему свой профессиональный интерес (крайне нетипичный в те времена) к творчеству собственных детей. Пикассо был заинтригован: этот интерес удивительным образом перекликался с недавно проникшим в его картины сочувствием к невинности и чистоте. Но Пикассо есть Пикассо: на всякий интерес и всякое влияние у него непременно наслаивалось что-то еще. И почти всегда это «что-то» имело отношение к сексу. Секс и связанная с ним жажда визуального обладания – ключ ко всему специфическому ви́дению Пикассо. Когда он рассматривал рисунок или эстамп, случайного наблюдателя больше всего удивляло, «как что-то остается на бумаге, – настолько всепоглощающим был его взгляд» (Лео Стайн). Бесчисленные женщины всех возрастов, начиная с Фернанды Оливье, свидетельствуют, что его взгляд вызывал у них точно такое же ощущение. В таком случае почему бы не допустить, что Матисс с беспокойством заметил, как Пикассо поглядывает на Маргариту.
Неизвестно, какие картины в тот день висели на стенах или стояли на полу в мастерской Пикассо, – хотя Матисс, хищно поблескивая стеклами очков, вполне мог высмотреть незавершенный портрет Гертруды. Среди прочего там должны были быть и какие-то недавние картины начала «розового» периода: юноши, матери с детьми, циркачи. Прекрасные работы, выше всяких похвал. Но ничего экстраординарного. Ничего отдаленно напоминающего по дерзости последние достижения самого Матисса. Бояться ему было нечего, так что он мог позволить себе обронить несколько ободряющих слов и даже задать какие-то вопросы по существу. Наблюдательный Лео Стайн говорил, что Матисс вообще «любил высказать свое мнение», но не меньше любил послушать мнение других. При несомненной зрелости он был «по складу характера вечный ученик: всегда готов учиться – как угодно, чему угодно, у кого угодно».
Разумеется, обсуждать с автором его творчество – дело тонкое. Того и гляди дашь маху. То ненароком проскочит покровительственная нотка, то вдруг чувствительную душу творца кольнет пустячное замечание – и тотчас ему померещится завуалированный упрек, даже если ничего такого у вас и в мыслях не было… Что бы Матисс ни сказал, независимо от общего тона и конкретных слов, его велеречивость, скорее всего, подействовала на Пикассо как красная тряпка на быка. «Матисс все говорит и говорит, – обиженно сказал он как-то Лео Стайну. – Я сам говорить не могу, поэтому отвечал только „oui oui oui“[1]. Все равно это полная чушь!»
Наконец Пикассо с Фернандой проводили Матисса и компанию к выходу, рассыпаясь в благодарностях вперемежку с шутками и наилучшими пожеланиями, и четверо гостей отправились в обратный путь. Нетрудно представить, как в тот момент у Пикассо стучала кровь в висках! Вообразим, как спустя немного времени он вернулся в свою студию и потребовал, чтобы его оставили одного. Глаза его неподвижно уставились на знакомые картины, потом он зажмурился, отвернулся, снова посмотрел на них и снова зажмурился, пытаясь заставить себя трезво сравнить все, что было здесь, с «матиссами» у Стайнов. И с каждой минутой в нем росла решимость доказать, что Матисс ошибался, – ему, Матиссу, было чего бояться.
Спустя всего несколько дней после первого визита Матисса в Бато-Лавуар художник выставил в Салоне независимых свою последнюю картину «Радость жизни» (Le Bonheur de Vivre). Увидев ее, Лео чуть не лишился дара речи. Новое полотно Матисса представляло собой лучезарное видение некой счастливой Аркадии: томные девы, слившаяся в объятии пара, юноша, играющий на двойной античной флейте-авлосе, танцующий хоровод… Все безмятежно резвятся на природе в обрамлении извилистых деревьев, образующих разноцветный полог над головой. Райская картина, вот только все в ней до невозможности странно. Фигуры выполнены с откровенным пренебрежением к масштабу и сами лишены разумных пропорций. Некоторые к тому же обведены толстым цветным контуром. Непонятно, как они связаны друг с другом, да и связаны ли? Цвет ослепительно, запредельно яркий. Впрочем, образ в любом случае не имел отношения к реальности или к какому-либо ее подобию. Как некий опыт передачи сочного, пронзительного цвета картина стояла особняком, сопоставить ее было не с чем. Большинство зрителей она повергла в ступор.
Лео Стайн, как и в случае с «Женщиной в шляпе», быстро оправился от первого потрясения и вскоре уже провозгласил новую картину Матисса «самым выдающимся произведением нашего времени». Он купил ее и повесил у себя на улице Флёрюс, где она благодаря своей невероятной палитре приковывала всеобщее внимание; неудивительно, что «Радость жизни» стала самой обсуждаемой картиной в его коллекции.
Пикассо был ошеломлен. Ностальгия по Аркадии – идиллической обители невинной простоты и безоблачного счастья – была как нельзя более созвучна духу времени. За минувшие полвека во Франции появилось несколько новых переводов «Буколик» Вергилия (литературного источника Матиссовой живописной идиллии): в стране, уставшей от политических катаклизмов, волшебная греза пленяла воображение поэтов и художников и находила благодарный отклик у публики. Так, Пюви де Шаванн в своих монументальных циклах неоднократно обращался к этой теме, трактуя ее в духе неоклассической аллегории. Тогда как Поль Гоген воспринял призыв о бегстве в мир наивной гармонии – столь красноречиво прозвучавший в стихотворении Бодлера «Приглашение к путешествию» – вполне буквально, отправившись на поиски утраченного рая в Южные моря. Его собственный пасторальный шедевр «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» был отправлен в Париж с острова Таити и в 1898 году выставлялся в галерее Воллара, где его, вероятно, и видел Матисс.
Заразившись общим поветрием, Пикассо не один месяц вынашивал замысел картины «Водопой» на подобный буколический сюжет: большое полотно должно было изображать обнаженных юношей и лошадей у водопоя. Задумывалось оно как символическое возвращение к истокам, архаической простоте, исполненной безыскусности и покоя, в противоположность сумбуру и грохоту современной метрополии. Этой картиной Пикассо рассчитывал заявить о своих новых творческих притязаниях.
Одного взгляда на картину Матисса ему было достаточно, чтобы понять: его опередили. Он тут же забросил «Водопой». Какой смысл показывать работу, заведомо уступающую «Радости жизни»? Матисс не пошел по пути бледных, худосочных подражаний древним грекам, или Гогену, или Пюви де Шаванну. Что бы кто бы ни думал о его полотнах, им нельзя было отказать в новизне, в бесспорной оригинальности.
В следующие полтора года разыгралась величайшая драма в истории искусства модернизма. В поединке сошлись два гения изобретательности – равно одаренные, но полностью противоположные по своему темпераменту и всему строю чувств, – сошлись, чтобы выяснить, кто из них двоих истинный новатор и реформатор искусства. По большому счету речь шла о величии. Но это в перспективе более отдаленной, а в ближайшей важнее было выяснить, насколько каждый из них способен увидеть другого – увидеть по-настоящему, то есть понять, – и насколько каждый, напротив, предпочтет отгородиться от другого, то есть предпочтет не видеть или видеть заведомо предвзято.
Как ни странно, Матисс долгое время словно бы не замечал, что вовлечен в непримиримое противостояние. Большинство рассказов об этом периоде времени, написанных задним числом, когда Пикассо уже прославился, представляют дело так, будто Матисс с первого дня распознал в Пикассо соперника. Но все его поведение свидетельствует скорее об обратном, а точнее, только о том, что он восхищался талантом молодого художника и готов был с ним познакомиться и подружиться, но не видел в его работах никакой серьезной угрозы.
Художники часто встречались – не только у Стайнов, но и в мастерской у Матисса, куда Пикассо регулярно наведывался. Они вместе прогуливались по Люксембургскому саду. Оба обладали своеобразным шармом и получали, вероятно, несмотря на разницу в возрасте и скверный французский Пикассо, искреннее удовольствие от общения: с интересом прислушивались к мнению друг друга о предшественниках и современниках в искусстве (в том числе, возможно, об архетипическом противостоянии Делакруа и Энгра, о дружбе-соперничестве Мане и Дега; наверняка о Гогене и Сезанне) и обменивались шутками по адресу общих знакомых – тех же Стайнов или Воллара.
На этом этапе своей карьеры, когда положение его было еще очень непрочным, Матисс страшно зависел от мнения окружающих. Постоянно чувствуя на себе любопытные взгляды знакомых и просто зевак, он вдвойне охотно протянул руку дружбы молодому испанцу: ободрял и хвалил его, проявлял заботу и внимание, приглашал к себе, познакомил с семьей, с Амелией, с Маргаритой, которая вечно пропадала в отцовской мастерской – когда позировала, когда помогала прибраться… Такая линия поведения лишний раз убеждала всех в благородстве Матисса и давалась ему без труда.
Отчасти Матисс, конечно, строил далекоидущие планы, поскольку и он, и Пикассо, и другие художники их круга были вовлечены в большую общую борьбу. Всех их объединяла принадлежность к модернизму, а борьба велась за зрителя. Они рисковали на каждом шагу, хотя награды за риск могли и не дождаться – у всех в памяти живы были истории предшественников: сколько лет прозябали в бедности импрессионисты, сколько оскорблений выпало на долю Мане, сколько мыкался Ван Гог, пока не свел счеты с жизнью, сколько лет самоотверженно трудился Сезанн, пока не умер в безвестности. Тех, кому улыбнулась судьба, можно было по пальцам пересчитать. Художникам-новаторам признание всегда давалось нелегко, и вряд ли Матиссу и другим тогдашним авангардистам стоило рассчитывать на то, что это правило на них не распространяется. И потому имело смысл поддерживать друг друга. Они сидели в одной лодке, и от успеха каждого выигрывали все.
Таковы были основные, наполовину инстинктивные побуждения Матисса. Но поскольку он к тому времени был уже признанным «вождем новой школы», то мог позволить себе и соответствующую манеру держаться – своеобразное воплощение noblesse oblige[2] под видом равноправного товарищества. Пикассо смотрел на вещи иначе. Он всю жизнь был окружен людьми, признававшими его превосходство. Сама мысль о том, чтобы стать чьим-то последователем, была для него неприемлема.
Много лет спустя Матисс сказал Пикассо, что он как кошка: «Какое бы сальто-мортале вы ни выкинули, всегда приземлитесь на четыре лапы». На что Пикассо ответил: «Да, лучше не скажешь, а все потому, что у меня сызмальства чертовски развито чувство равновесия и композиции. Что бы я ни затеял как живописец, шею я себе не сверну».
Зато Матисс как живописец в 1906 году едва не свернул себе шею. А ревниво наблюдавший за ним Пикассо – впервые в жизни – был выбит из равновесия. Речь идет не об одном-единственном нокаутирующем ударе, от которого он вскоре сумел бы оправиться, призвав на помощь свою звериную интуицию. Нет, это испытание продолжалось неделю за неделей, по мере того как в мастерской Матисса и на стенах домашней галереи Стайнов одна за другой появлялись новые, ни на что не похожие, завораживающие взгляд работы, – ничего смелее, ярче, резче, ослепительнее Пикассо в жизни своей не встречал. На протяжении всего 1906-го и нескольких месяцев 1907 года Пикассо был вынужден снова и снова перенастраивать свое внутреннее мерило, приспосабливая его под то, что открывалось его глазам. Если добавить к этому особые обстоятельства (всегда убедительный, авторитетно теоретизирующий Матисс; превозносящие его на все лады Стайны, умевшие заразить своей верой многочисленных гостей; и, наконец, сам Пикассо, угрюмый молчаливый наблюдатель, с раздражением встречающий вопросы о собственном творчестве – вопросы, на которые у него не было ответа), то станет понятно, чего ему все это стоило.
С каким облегчением он возвращался к себе на Монмартр! По воскресеньям, после очередного субботнего вечера у Стайнов, Пикассо и Фернанда отсыпались. Около одиннадцати они шли вниз на площадь Сен-Пьер, где под стенами еще недостроенной базилики Сакре-Кёр шумел местный рынок. Пикассо разгуливал в синем комбинезоне парижского мастерового, Фернанда набрасывала на плечи испанскую мантилью. На рынках бурлила жизнь, а Пикассо только этого и надо было, чтобы восстановиться после мучительных посиделок у Стайнов и целой недели изнурительной, не приносящей удовлетворения работы в мастерской. Фернанда уверяла, что Пикассо «любит шумную простонародную толпу: она помогает ему развеяться, отвлечься от постоянных мыслей о творчестве».
Между тем Матисс набирал очки. Его «Радость жизни» произвела впечатление не только на Стайнов, но и на 56-летнего текстильного промышленника из России по имени Сергей Щукин. Щукина преследовали несчастья: сначала утрата сына, потом любимой жены. И когда этот состоятельный, но сломленный горем человек увидел картину-видение Анри Матисса, он испытал ни с чем не сравнимое потрясение и тут же попросил Воллара представить его художнику. На протяжении следующих десяти лет он станет самым отважным, самым крупным и – после Сары Стайн (к тому времени уже настолько «заболевшей» Матиссом, что вскоре они с Майклом сосредоточатся на коллекционировании исключительно его картин) – самым преданным его патроном.
Картина «Радость жизни», с ее большими пятнами плоского насыщенного цвета и атмосферой мятежного самозабвения и упоительной чувственности, вызвала небывалый приток посетителей в квартиру на улице Флёрюс, 27, который оттуда плавно устремился на улицу Мадам, 58. В тогдашнем Париже оба дома Стайнов превратились в главные центры паломничества для всех неравнодушных к новейшему искусству, а таких набралось немало. Новому веку исполнилось шесть лет. В воздухе витало ощущение неслыханных перемен. В XIX веке Париж был столицей мира искусства. Сохранит ли город – с его вонзившейся в небо башней, просторными, заполненными экипажами и людьми бульварами, всемирными выставками, подземным лабиринтом труб пневматической почты и созвездием железнодорожных вокзалов, – сохранит ли он свое главенство в веке двадцатом? Люди хотели знать – и устремлялись в Париж. В то время, если оставить в стороне какофонию ежегодных салонов, единственным местом, где был представлен официальный срез нового искусства, был Люксембургский музей. Однако на фоне последних достижений даже этот музей, заполненный вполне традиционными по стилю пейзажами, портретами и образцами исторической живописи, выглядел анахронизмом, принадлежностью былой эпохи. Куда как интереснее было то, что открывалось взгляду на расположенной в двух шагах от него улице Флёрюс. Вот где действительно можно было увидеть подлинно новые работы Матисса и Пикассо, соседствующие с картинами Мане, Сезанна, Боннара, Мориса Дени, Эжена Делакруа, Тулуз-Лотрека и Ренуара. Оба дома Стайнов изрядно обогатились картинами Матисса с его второй персональной выставки, прошедшей весной 1906 года в галерее Дрюэ.
Поначалу посетители приходили к Стайнам когда вздумается. Но чем больше их становилось, тем меньше времени для себя оставалось у хозяев, и в конце концов Гертруда не выдержала. Она уже начала заниматься литературным творчеством, а ее рабочий кабинет находился там же, на улице Флёрюс. Чтобы решить проблему, посетителям отвели определенные часы, и, кроме того, в субботу вечером обе квартиры Стайнов были открыты для любого, кто пришел по рекомендации. Как следует разглядеть картины получалось не всегда, поскольку ни в одной из квартир Стайнов не было электрического освещения. При свечах живопись Матисса сильно проигрывала (Пикассо, напротив, всю жизнь любил смотреть на волшебные эффекты, возникавшие на его работах при свете свечи). В итоге многие гости просили разрешить им прийти снова, в дневное время, и Стайнам было неловко отказать. По словам Воллара, это были «самые гостеприимные люди на свете». В общем, толпы посетителей все прибывали и прибывали.
Для многих поход к Стайнам был чем-то сродни бесплатному представлению. И впрямь, чем не театр? Для труппы (художников) и дирекции (в лице коллекционеров) дело архисерьезное, но для скептически настроенного большинства – балаган, да и только. Как прикажете понимать все эти нелепые картины на стенах и атмосферу торжественной благоговейности, которой их тут окружили? Хоть смейся, хоть плачь. Пикассо, всегда державшийся немного особняком, возможно, и сам не прочь был бы примкнуть к недоумевающим скептикам – тем более что всех интересовал Матисс, почти исключительно Матисс. Его Матисс тоже интересовал.
Среди многочисленных посетителей Стайнов был Воллар. В конце апреля он решился и купил в мастерской у Матисса работ сразу на 2200 франков (в пересчете на сегодняшние деньги примерно 10 000 долларов). Для художника это было как дар небес. При других обстоятельствах он, скорее всего, отказался бы, поскольку не доверял Воллару, но деньги подоспели как нельзя кстати. Несмотря на все внимание к его творчеству, дела его шли из рук вон плохо. А тут еще Стайны попросили подождать с деньгами за «Радость жизни», потому что землетрясение, разрушившее Сан-Франциско 18 апреля 1906 года, привело их финансы в беспорядок…
Всего неделю или две спустя Матисс получил от Стайна письмо с удивительным известием: «Не сомневаюсь, Вам приятно будет узнать, что Пикассо заключил сделку с Волларом. Он продал не всё, но достаточно, чтобы ни о чем не беспокоиться до конца лета, если не дольше. Воллар забрал 27 картин, в основном старых, несколько более свежих, но ни одной крупной работы среди них нет. Цена Пикассо более чем устроила».
Продать одним махом столько картин для Пикассо было большой удачей. Он переживал острый творческий кризис. Несмотря на пресловутые девяносто сеансов, портрет Гертруды не двигался с места. Изначально он думал написать ее грузную фигуру в той же небрежно-властной позе, в какой Энгр некогда изобразил влиятельного журналиста и издателя Луи-Франсуа Бертена. Несложный вроде бы замысел на практике обернулся сущей мукой. Сколько он ни бился, все получалось не то. Всякий раз он обнаруживал новые проблемы, новые изъяны. Всякий раз, вернувшись от Матисса или от Стайнов, он понимал, что зашел в тупик. Портрету – всей его концепции – недоставало смелости.
Да и сами сеансы в последнее время стали для него испытанием. Если раньше в мастерской были только он с Гертрудой – ну, изредка еще Фернанда, – то теперь к ним то и дело присоединялся Лео. А поскольку все Стайны, и Лео в особенности, были помешаны на Матиссе, который не сходил у них с языка, получалось, что Матисс тоже незримо присутствует в его мастерской – стоит у него за спиной и подглядывает!
В конце концов Пикассо сдался. Он соскоблил Гертрудино лицо и заявил, что ставит на этом точку. «Смотрю на вас и не вижу – перестал видеть», – сердито объяснил он.
Наступила продолжительная пауза. Близилось лето, и благодаря нежданным вливаниям Воллара оба, Матисс и Пикассо, смогли выехать из Парижа. Пикассо, как никто, нуждался в смене обстановки: прочь от Бато-Лавуар, от Гертруды, от суббот у Стайнов, а главное – прочь от Матисса!
Матисс отправился в Северную Африку. Проведя две недели в Алжире, он переплыл Средиземное море и вернулся во Францию, в Коллиур, где пробыл до конца октября. Пикассо же поехал домой, в Испанию. Вместе с Фернандой он сначала навестил Барселону, а оттуда двинулся в Госоль – затерянную в Пиренейских горах деревушку.
Барселона встретила его с распростертыми объятиями. Там, среди старых друзей, Пикассо снова стал местной знаменитостью, гениальным молодым художником, в свое время настолько ярко заявившим о себе на родине, что дальше ему была одна дорога – в Париж, центр мирового искусства. За минувшие пять лет вундеркинду пришлось хлебнуть лиха. Но теперь, благодаря постоянной поддержке Стайнов и вновь вернувшемуся расположению Воллара, он наконец мог что-то предъявить. Он так радовался встрече с родней и давними знакомыми, так гордился своей новой подругой Фернандой! Поездка оказалась благотворной – к нему вновь вернулась пошатнувшаяся было уверенность в себе.
Мало того, в Госоли, где обосновалась молодая пара, случилось нечто еще более знаменательное. В этой богом забытой деревушке влюбленные пережили своего рода медовый месяц, а Пикассо еще и подлинное творческое перерождение. Для него вообще любовный подъем и творческий стимул были неотделимы друг от друга – и тогда, и позже, но их животворная связь никогда не была прочнее и продуктивнее, чем в то лето в Госоли.
Они жили у местного трактирщика, бывшего контрабандиста, девяностолетнего старика по имени Жосеп Фондевила, который несколько раз позировал Пикассо. Молодые люди быстро втянулись в повседневную жизнь деревни: не только ходили посмотреть на деревенские праздники, но и сами принимали в них участие, например в чествовании Санта-Маргариды, святой покровительницы Госоли. Здесь, вдали от сутолоки большого города, где все продается и покупается; вдали от поэтов, и порнографов, и наркотиков, и мелодрам Бато-Лавуар; вдали от маршанов и коллекционеров; вдали от собратьев-художников, – здесь они наконец стали самими собой и познали счастье. Здесь Фернанда была для Пикассо не объектом поклонения и не источником жестокого разочарования, а просто любимой. «В Испании я увидела Пикассо, – напишет Фернанда, – который был полной противоположностью парижскому Пикассо: веселый, намного менее вспыльчивый, зато более живой и остроумный, способный проявлять свой интерес к чему бы то ни было в почти спокойной, уравновешенной манере; иными словами, он почувствовал себя в своей стихии. Он весь светился от счастья, его характер, поведение – все преобразилось».
Сама Фернанда тоже никогда раньше не ощущала себя так хорошо и спокойно: «Там, на высоте, над облаками, вдыхая чистейший воздух, окруженные людьми невероятного дружелюбия и радушия, людьми без камня за пазухой… мы открыли для себя, каким бывает счастье».
Пикассо словно прозрел, его могучий творческий потенциал вновь проснулся. Госоль подействовала на воображение Пикассо так же, как рыбацкая деревушка Коллиур на Матисса. Он работал без устали. Танцы жителей горной деревни завораживали его не меньше, чем Матисса – танцы рыбаков в Коллиуре. Волшебные чары роскошного тела Фернанды вливали в него новые силы и веру в себя: рисунок становится тверже, решительнее – художник словно высекает из пространства объем и массу, расчетливо, экономно, но оттого еще более выразительно. Худосочные циркачи и субтильные эфебы, еще недавно населявшие его полотна, уступили место широким в обхвате, полногрудым фигурам с выпирающими животами и крепкими руками. Глядя на эти образы, трудно избавиться от ощущения, будто художнику промыли глаза, избавив их от сора сомнений и заблуждений. Он вдруг снова обрел способность видеть – ясно, без этой вечно искажающей его взгляд Матиссовой призмы.
Освободившись от сентиментального пафоса «голубого» и «раннерозового» периодов, работы нового этапа в творчестве Пикассо обрели взамен монументальность, неподвластную времени незыблемость и величавую отрешенность. В своих исканиях Пикассо шел от греческой архаики, древней иберийской скульптуры, неоклассических грез Энгра – всего, что служило примером самодостаточности линии, «голой наготы» (на его картинах тела безволосы) и навевало далекий аромат примитивной, «невоспитанной» юности. В его новых опытах явственно чувствуется целенаправленное движение к прошлому, попытка заново создать лаконично обобщенный образ, который свободен от наслоений цивилизации и лишен каких-либо социальных характеристик, поскольку непричастен к жизни общества.
Однако «жизнь общества» не желала оставаться в стороне, и под ее натиском идиллии влюбленных неожиданно пришел конец. Десятилетняя внучка трактирщика Фондевилы, к которой Пикассо успел привязаться, заболела брюшным тифом – той самой страшно заразной, нередко смертельной болезнью, которую в детстве перенесла Маргарита Матисс. После смерти сестренки Кончиты любая болезнь вызывала у Пикассо панический страх, поэтому они с Фернандой тут же снялись с места и бежали из деревни без оглядки. Началось долгое и многотрудное возвращение в Париж. Они двинулись на север через Пиренеи – сперва на мулах (встреча с табуном диких пони чуть не закончилась катастрофой: мулы понесли и сбросили с себя поклажу, так что рисунки, статуэтки и свернутые в рулоны холсты пришлось долго собирать в дорожной пыли), потом в дилижансе и наконец на поезде.
До Парижа добрались к концу июля, в разгар летней жары, когда студия в Бато-Лавуар больше напоминала раскаленную печь. Пока хозяев не было, мыши сгрызли все, до чего смогли добраться, а в постели поселились полчища клопов.
Пикассо навестил Гертруду и попросил ее снова позировать ему для портрета. Он заново написал лицо (взамен ранее стертого): на полотне опять возникли ее черты, теперь сильно упрощенные в соответствии с геометрической «огранкой» лица. Глаза Гертруды, загадочно асимметричные, наводят на мысль о внутреннем зрении, о слепоте ясновидящей. Глядя на законченный портрет и вспоминая связанную с ним творческую драму («Смотрю на вас и не вижу – перестал видеть»), понимаешь, что выход из тупика был найден и что выход этот в новаторском смещении акцента – с внешнего ви́дения на внутреннее.
Гертруде хотелось, чтобы Матисс тоже написал ее портрет, но тот уклонился. Это не прошло бесследно для их отношений, перемена стала особенно заметна на фоне стремительного сближения Матисса с Сарой Стайн. Но Гертруда уже получила, что хотела. У нее был шедевр Пикассо – совершенно оригинальная работа, замечательная хотя бы тем, что автор сознательно отказался идти за Матиссом в вопросах цвета (портрет Гертруды можно назвать симфонией в коричневых тонах). Да и в других принципиальных вопросах Пикассо старался скорее отмежеваться от Матисса. Для новаторских картин Матисса и других фовистов характерны не только кричащие цвета, но и впечатление незавершенности, видимое отсутствие предшествующего живописи рисунка – все это вместе и навлекло на революционеров от живописи обвинения в анархии и помешательстве. Тогда как новые работы Пикассо отличались сдержанным колоритом, классической симметрией и анатомической точностью.
Однако только лишь противопоставить себя Матиссу было явно недостаточно, потому что Матисс не собирался останавливаться на достигнутом. Как свидетельствовала «Радость жизни», он уже начал отходить от фовизма. Возможно, отчасти подгоняемый Пикассо, он пытался набросить узду на анархическую составляющую своего откровенно чувственного отношения к цвету – не то чтобы приглушить его (напротив, цвет у него и дальше будет интенсифицироваться), но найти альтернативные способы добиться ясности и порядка целого. Ключевую роль в решении этой задачи приобретал рисунок. Очерчивая участки плоского, немоделированного цвета, варьирующиеся по толщине линии помогали ему достичь желанного композиционного «спокойствия».
В своем стремлении к ясности и порядку Матисс пошел не традиционным академическим курсом, в русле которого двигался Пикассо, – ответы на свои вопросы он искал в нарочито примитивном, «нецивилизованном» подходе. Критики и раньше обвиняли его в искажении натуры. И вот теперь, словно для того, чтобы пуще их раздразнить, он стал активно разрабатывать идею деформации.
Пока Пикассо дорабатывал портрет Гертруды в свете своих новых художественных решений, Матисс по-прежнему был в Коллиуре и писал портрет молодого рыбака (в двух вариантах). Коллиур стал для Матисса излюбленным пристанищем, к которому он испытывал нежное, трепетное, почти религиозное чувство. Оживленная рыбацкая деревня на берегу живописной бухты в окружении опаленных солнцем отрогов Пиренейских гор – тех самых, через которые совсем недавно перебрались вернувшиеся в Париж Пикассо и Фернанда, – находилась почти на границе с Испанией. Тут и там росли веерные пальмы, голубоватые остролистные агавы, смоковницы, финиковые и банановые пальмы, гранат и персик… Деревня специализировалась на производстве сардин и анчоусов в рассоле, рыбу чистили и засаливали прямо на пристани, и дух там стоял соответствующий. По своему географическому положению эта часть Франции – самая близкая к Африке, и неудивительно, что здесь во всем заметно сильное мавританское влияние: многовековой торговый и культурный обмен не мог не оставить свой след. Именно в Коллиуре в 1905 году Матисс работал вместе с Дереном и, очарованный коллиурским светом, создал первые фовистские картины. Сюда же, всего год спустя, он и вернулся, полный творческих сил и замыслов.
Моделью для портрета матроса (рыбака) послужил местный подросток, соседский сын. Матисс усадил паренька на стул, придав ему непринужденную, слегка наклонную позу, чем-то сродни позе Гертруды Стайн на портрете Пикассо. В первом из вариантов рисунок грубый, но вполне традиционный, живописная манера следует принципам фовизма, то есть довольно свободная, эскизная. Второй вариант, на холсте точно такого же размера, затевался как всего-навсего вольная копия первого, но в процессе работы, размышляя о том, какими средствами усилить выразительность, Матисс начал менять контуры, уплощать и схематизировать лицо, утрировать рифмы и ритмы силуэта фигуры и складок одежды. На смену разноцветному фону первого варианта пришел однородный целлулоидно-розовый; штаны и блуза, первоначально закрашенные лишь частично, с характерной эскизной незавершенностью, тоже превратились в участки равномерно насыщенного плоского цвета.
По меркам того времени даже первый вариант был весьма вызывающим. Второй могли расценить как откровенное издевательство – какая-то сплющенная пародия на портрет! Уже не первый раз в своей карьере Матисс и сам растерялся от того, что сотворил. Предвидя возможную реакцию, он волновался больше обычного. В Париже он показал картину Лео Стайну (одному из наиболее расположенных к нему зрителей), выдав ее за поделку деревенского почтальона.
Возможно, Матисс открестился от авторства картины просто в шутку – он почти сразу признался, «что это его собственный опыт», – но шутка родилась неспроста. В который раз его творческая отвага и чутье опережали свое время и толкали его за грань допустимого.
Несмотря на то что в ушах у него все еще звенели проклятия и обвинения в надругательстве над зрителем, Матисс все больше убеждался: деформация – искажение контуров и пропорций фигур для усиления экспрессивности – указывает верный путь. К этой мысли он пришел самостоятельно. Но она была созвучна идеям, которые высказывал его друг – поэт и художественный критик Мечислав Гольберг. Умирающий от чахотки Гольберг помогал Матиссу писать небольшое эссе, которое художник надеялся опубликовать. «В искусстве, – рассуждал Гольберг, – деформация есть основа всякой выразительности. Чем больше проявляется характер, тем яснее проступает деформация».
Этот тезис не мог не понравиться Матиссу, потому что идея экспрессии, или выразительности, была стержневой в системе его взглядов на искусство. Понравилась ему и парадоксальная связь деформации и «ясности».
Впоследствии Лео назвал второй вариант «Молодого матроса» первой вещью Матисса, в которой художник применил «насильственную деформацию». Картину он не купил. Не польстились на нее и Сара с Майклом, хотя они приобрели первый вариант. По всей видимости, второй вариант показался совсем уж неудобоваримым – больше, чем другие работы Матисса, написанные им к тому времени. Тем интереснее – и тем опаснее – оказывалась эта картина для Пикассо.
Пикассо не просто признавал установку на то, чтобы, в идеале, проявить характер модели, но видел в этом свою главную задачу, а значит, формулировка Гольберга должна была и ему прийтись по душе. Но если проводить идею деформации в собственном творчестве, необходимо найти способ делать это по-своему. Интенсификация цвета и, как следствие, все более и более плоскостной характер изображения (по примеру Матисса) его не увлекали. Куда интереснее были ему деформации иного рода – скульптурные, связанные с передачей трехмерного пространства. Экспериментировать со «скульптурными» искажениями (с оглядкой, вольной или невольной, на эксперименты Матисса) Пикассо начал, отчасти вдохновившись щедрым телом Фернанды, но в большей степени – древней иберийской скульптурой, которую он незадолго до того открыл для себя. Вырезанные из песчаника изваяния, свидетели давно исчезнувшей культуры, поражающие выразительностью лаконичных, грубо проработанных форм, созданы на протяжении длительного периода между бронзовым веком и римским завоеванием Иберийского полуострова и несут на себе печать ассирийского, финикийского и египетского влияния. В Лувре Пикассо увидел обнаруженные во время недавних раскопок иберийские статуэтки V–VI веков до н. э., которые околдовали его загадочной отрешенностью лиц и схематичностью форм. Помимо всего прочего, родиной древних шедевров была Испания – Андалузия! Пикассо так воодушевился ими, словно у него были на них особые права.
Так или иначе, творческий прорыв не заставил себя ждать – его воплощением стали две обнаженные, упругие, словно надутые до предела, женские фигуры, стоящие в профиль к зрителю, лицом друг к другу: короткие массивные ноги, выпирающие треугольники грудей и обобщенные, как на только что завершенном портрете Гертруды Стайн, «граненые» лица. На тот момент это было самое странное – и странно впечатляющее – полотно Пикассо.
По части заимствований Пикассо ничем не отличался от сороки-воровки. Не было на свете такого, чего бы его алчный взгляд тут же не схватил и не «заглотил», чтобы потом переварить и преобразовать в нечто совершенно иное. Однако примерно в это время он начал, похоже, сознавать, что все его прежние изобретения, в сущности, изобретены не им. И все они не безусловно революционны, в отличие от инноваций Матисса. Пикассо прошел через фазу Тулуз-Лотрека, фазу Эль Греко, фазу Ван Гога, Гогена… Он до самозабвения увлекался Пюви де Шаванном и Энгром, греческой архаикой, потом романским искусством Каталонии и вот теперь иберийской скульптурой… И то, как он все это усваивал и перерабатывал, весьма и весьма впечатляло. Но – хотя чему тут удивляться: художнику было всего двадцать пять! – его попытки пока не претворились во что-то настоящее, существующее по своим законам. Пикассо несомненно куда-то шел, но столь же несомненным было и то, что он еще не пришел. Картина «Две обнаженные», с ее диковинными деформациями, возвестила: он почти у цели. Да, можно указать влияния, проследить этапы пути. И все же в этом полотне было нечто особенное – свежее, дерзкое и никем, кроме него, не опробованное.
Тогда-то, ближе к концу 1906 года, Пикассо и начал обдумывать картину, которая, по его расчетам, должна была сразу позволить ему вырваться вперед, оставив Матисса позади.
Первоначально задуманная как аллегория блуда с сопутствующими мотивами «дурной болезни» и возмездия за грех, картина изображала компактную группу из пяти проституток в борделе, бесстыдно выставляющих напоказ свои прелести; все пять призывно смотрят на клиента, в роли которого выступает зритель. В окончательном варианте женские фигуры занимают почти всю поверхность холста, изображение создается совмещением фрагментов разных живописных плоскостей, в цветовой гамме выделяются охристо-розовые, льдисто-голубые и нейтрально-коричневые тона. Но прежде чем картина, получившая впоследствии название «Авиньонские девицы» (Les Demoiselles d’Avignon) (цв. ил. 7), обретет свой окончательный вид, пройдет очень много времени.
Сюжет возник частично под впечатлением от порнографического романа Аполлинера «Одиннадцать тысяч розог»: Пикассо прочел его еще в рукописи. Это предельно откровенная книжица с описаниями садомазохизма, некрофилии, педерастии и оргии в борделе. Пикассо не только прочел ее, но и высоко оценил. Но разумеется, были и другие источники вдохновения, включая личный бордельный опыт Пикассо и прочно укоренившееся в нем после смерти Касахемаса и романа с Жерменой ощущение, что секс, смерть и творческий подъем неразрывно связаны.
Он вознамерился создать полотно, которое никто, кроме него, написать бы не смог. Добиться этого, как он интуитивно понимал, можно единственным способом: если сделать картину отражением сугубо личных психосексуальных проблем – потаенной драмы своего противоречивого желания видеть и не видеть. Мотив вуайеризма в декорациях публичного дома прямо связывает это желание с отношением Пикассо к женщинам и девочкам. Но и с отношением к Матиссу тоже, поскольку одержимость Пикассо фигурой своего главного соперника, самого значительного из современных ему авангардистов, была сродни вуайеризму: он испытывал острую потребность видеть все, что делает Матисс, и в то же время скрывал свою потребность от Матисса, преобразуя ее в нечто иное, как будто бы с Матиссом никак несоотносимое.
Работа над картиной, всколыхнувшая эту таящуюся под спудом драму, продолжалась мучительные девять месяцев и выжала из него все соки. Он работал в полном уединении, в основном по ночам. На деньги, полученные от Стайнов, он снял вторую, маленькую, студию этажом ниже его основной мастерской. Там можно было от всех спрятаться и остаться в тишине и одиночестве. По воспоминаниям друга художника Сальмона, Пикассо стал «невозможным: поворачивает холсты лицом к стене, швыряет кисти. Он пишет днем и ночью… Никогда еще труд не был так мало сопряжен с радостью…».
После летней госольской идиллии убожество жизни в Бато-Лавуар, с его грязью, холодом, крысами, плохо сказывалось на отношениях Пикассо и Фернанды. Романтический испанский шлейф скоро развеялся. Обуреваемый жаждой превзойти Матисса, Пикассо начал постепенно отодвигать Фернанду на задний план. Судя по всему, он не стал делиться с ней своим амбициозным замыслом – разве только иногда вслух сравнивал ее с проститутками, которых писал. К тому же в нем опять заговорила ревность. Застигнув подругу флиртующей с другим, Пикассо стал запирать ее в мастерской на замок, и выйти оттуда ей разрешалось только вместе с ним. Но в таком случае он больше не мог рассчитывать на ее помощь с разными мелкими поручениями. Поначалу Фернанда отнеслась к своему новому положению философски. «Что с того, что Пикассо ревнив и запрещает мне выходить? – размышляла она. – Где мое место, как не подле него?» Но так не могло продолжаться вечно, атмосфера неизбежно накалялась. Все еще оставаясь его музой, она превратилась в сильнейший раздражитель из-за своего ежесекундного присутствия. «В горном парадизе Госоли, – писал Джон Ричардсон, – он обращался с Фернандой как с богиней и соответственно изображал ее в живописи. Вернувшись в Бато-Лавуар, он обращался с ней как с вещью, а изображал как шлюху».
В отместку или просто от безысходности Фернанда каким-то чудом исхитрилась – вероятно, в начале 1907 года – завести интрижку с поэтом Жаном Пеллереном. После чего Пикассо с удвоенной яростью принялся расправляться с ней на своем полотне.
Почти все время, пока Пикассо работал над «Авиньонскими девицами», Матисс был в Коллиуре. Но в марте он вернулся в Париж и привез с собой картину, которая вновь грозила перечеркнуть все надежды и труды его молодого соперника.
История повторялась: совсем недавно задуманная Пикассо большая композиция «Водопой» рядом с Матиссовой «Радостью жизни» сразу поблекла в глазах амбициозного испанца; вот и теперь последняя работа Матисса – единственная, выставленная им в том году в «Салоне независимых», – вынудила Пикассо радикально пересмотреть свой собственный новый замысел. Картина «Синяя обнаженная. Воспоминание о Бискре» возникла под влиянием поездки Матисса в Северную Африку. Обнаженная женщина в довольно искусственной, перекрученной позе, подняв над головой согнутую в локте руку, лежит на фоне небрежно написанного декоративного фриза с пальмовыми листьями. Здесь впору вспомнить о том, что самым ценным своим сокровищем Матисс считал маленькую картину Сезанна «Три купальщицы». Для своей обнаженной он заимствовал сезанновскую сине-зеленую палитру и одержимость ритмами, которые расходятся по полотну, словно шорох листвы или рябь на воде. Но в сравнении с Сезанном картина Матисса казалась откровенно грубой. Его голая женщина меньше всего ассоциировалась с соблазнительной нежностью и чарующими изгибами. В ней было что-то брутальное, разрушительное. Прием деформации, введенный Матиссом во втором варианте «Молодого матроса», достигает здесь нового уровня. Художник не пытается скрыть многочисленные поправки, напротив, он словно нарочно открывает зрителю весь мучительный процесс рождения своего неуклюжего детища. При всей интенсивности цвета и формальной смелости картина оставляла странное ощущение – как будто автор внезапно бросил работу и больше к ней не вернулся.
Создание «Синей обнаженной» связано с драматическим эпизодом в мастерской Матисса. Прообразом картины послужила глиняная статуэтка лежащей обнаженной с экспрессивно деформированной фигурой, над которой Матисс исступленно работал (к слову, многим живописным нововведениям на ранних этапах его карьеры предшествовали эксперименты со скульптурой), пока случайно не смахнул ее на пол. Она разлетелась на куски. Матисс был вне себя. Амелии пришлось увести его из дому на прогулку, чтобы он немного успокоился. Досада, горечь утраты и привели к созданию «Синей обнаженной».
Когда картина появилась на выставке, поднялся истошный вой – уже третий раз подряд, из года в год все шло по одной и той же схеме. Многие критики попросту отказывали ей в праве называться произведением искусства, пусть даже неудачным. Публика сочла ее очередным надувательством – если только автор не вознамерился окончательно убедить всех в своем безумии. Даже собратья-художники не знали, что думать: Дерен, по слухам, в отчаянии воздел руки и отказался впредь идти по стопам Матисса.
А вот Стайны купили «Синюю обнаженную» и тут же повесили ее у себя на улице Флёрюс. В один из субботних вечеров Пикассо стал перед ней как вкопанный, подвергая себя привычному самоистязанию: он и хотел бы ее не видеть, да не мог не смотреть. За этим занятием его и застал Уолтер Пэч, молодой американец, только что окончивший факультет искусств в нью-йоркском университете. Внезапно Пикассо повернулся к нему и спросил:
– Впечатляет?
– Вообще-то, да, – ответил Пэч, однако, заметив странное возбуждение испанца и опасаясь, что допустил промах, поспешно сменил курс: – Впечатляет – как удар между глаз. Я не понимаю, что он имеет в виду.
– Я тоже, – сказал Пикассо. – Хочет писать женщину – пусть пишет женщину, узор – так узор. А здесь ни то ни другое.
Вероятно, в Госоли или сразу после, еще не остыв от любовной горячки, Пикассо и Фернанда надумали взять приемного ребенка. Свое намерение они осуществили 6 апреля 1907 года в приюте по соседству с Бато-Лавуар. «Хотите взять сироту? – сказала им директриса. – Выбирайте».
Они выбрали девочку по имени Раймонда, лет двенадцати-тринадцати. Ее мать француженка, была проституткой в тунисском борделе. Одна семейная пара, голландский журналист с женой, пожалели девочку и увезли ее с собой во Францию, но после почему-то от нее отказались, и она попала в приют на Монмартре.
Даже если идея взять ребенка принадлежала Фернанде, она никак не могла пойти на такой шаг без согласия Пикассо. А учитывая расстановку сил в их отношениях, невозможно представить себе, чтобы Пикассо одобрил серьезную перемену в жизни вопреки собственному желанию. Кроме того, если главной целью рискованного эксперимента было стремление дать Фернанде шанс испытать радость материнства, тем более непонятно, почему они взяли на воспитание не младенца, не маленького ребенка-несмышленыша, а девочку-подростка возраста Маргариты Матисс. Конечно, можно допустить, что Пикассо заботился о Фернанде и думал лишь о том, что с девочкой у нее скорее сложатся близкие, доверительные отношения. Или надеялся, что так он крепче привяжет ее к дому и наконец полностью освободит себя для творчества, избавится от вечных подозрений. Так или иначе, идея пришлась ему по душе, и на то у него были свои причины. И все-таки трудно отделаться от мысли, что в голове у Пикассо сидел образ болезненной, но удивительно одухотворенной Маргариты, которой в ту пору, по странному совпадению, тоже было тринадцать. После их знакомства весной 1906 года Пикассо регулярно встречался с ней в мастерской у Матисса, где она играла роль доброй феи. Должно быть, он внимательно наблюдал за девочкой и, наверное, втайне завидовал Матиссу и мечтал: хорошо бы и у него в Бато-Лавуар поселилось такое же милое существо – помощница, единомышленница, муза.
Итак, их выбор пал на Раймонду, и они забрали ее к себе в Бато-Лавуар. Стояла ранняя весна (со дня первого визита Матисса и Маргариты прошел год), но Пикассо, к большому огорчению тесного кружка друзей, все больше уходил в себя. С Раймондой их жизнь переменилась, словно в затхлый чулан ворвался свежий ветерок. Фернанда баловала девочку, она ведь сама была незаконнорожденной и немало натерпелась от воспитавшей ее бессердечной тетки. Она наряжала Раймонду в красивые платья, без конца расчесывала ей волосы, а перед школой аккуратно заплетала их в косы. Другие обитатели богемного общежития тоже не могли нарадоваться на девочку. Макс Жакоб и Андре Сальмон вечно приносили ей подарки и сладости. Сам Пикассо рисовал ей веселые картинки. Но, по всей видимости, в глубине души ее присутствие смущало его. Ричардсон прямо говорит, что «молоденькие девочки возбуждали Пикассо. К тому же они его нервировали. Напоминали ему об умершей сестренке Кончите».
Не дожидаясь закрытия салона в конце апреля, Матисс снова уехал в Коллиур. Пикассо тем временем заново переосмыслял и переделывал свою новую большую композицию. Спустя месяц, решив, что неплохо продвинулся, он начал показывать «Девиц» избранным приглашенным гостям. После стольких самоотверженных трудов его ждал холодный душ. Зрители были в недоумении. Что это за картина? Она не укладывается ни в одну известную жанровую категорию. Лица как на неумелом детском рисунке, глаза неподвижные, как у истуканов, асимметричные… Зачем? А что значат все эти треугольники? Почему такой безобразный рисунок, где объем, глубина, где завершенность? Сплошное уродство, смехотворное в своей вопиющей нелепости.
К тому же ни от кого не укрылось, в каком опасном состоянии находился Пикассо. Взвинченный, расстроенный, одержимый фантомами, он, казалось, и сам не понимал, что сделал. Даже прикладывая к «Девицам» собственные новоизобретенные критерии, он не мог с уверенностью сказать, что добился желаемого результата. Возможно (как он надеялся и смутно чувствовал), он был почти у цели – возможно. Но если и так – он все равно не знал, каким должен быть следующий шаг, чего не хватает для завершения. И не было никого, кто мог бы ему это сказать.
Впрочем, один человек, еще минувшей осенью, невольно дал ему ключ к возможному решению.
Тогда, шестью месяцами раньше, Пикассо, как повелось, явился в субботу на улицу Флёрюс. Матисс был уже там. Он показывал Гертруде Стайн свое недавнее приобретение, купленное в лавке экзотических диковин на улице Рен с колоритным названием «Папаша Дикарь» (Le Père Sauvage). Матисс частенько заглядывал в лавочку, благо она находилась всего в нескольких минутах ходьбы от Стайнов. А там, как он впоследствии вспоминал, «целый угол был завален деревянными негритянскими статуэтками». Произведения неизвестных скульпторов поразили Матисса уже тем, что отнюдь не следовали принятым у европейцев принципам анатомического построения. Зато шли «от материала, приноравливая к нему вымышленные плоскости и пропорции». В тот день он по пути к Стайнам зашел в лавку, заплатил пятьдесят франков и вышел с покупкой, которую теперь и демонстрировал Гертруде. Это была деревянная статуэтка, сделанная мастером из племени вили в Конго: сидящая фигура с непропорционально большой головой-маской – пустые прорези глазниц и длинная щель рта; руки подняты к подбородку (в этом жесте, очевидно, был скрыт какой-то таинственный смысл).
В тот период Матисс пытался преодолеть в своем творчестве разрыв между описательностью в изображении объектов и их эмоциональным воздействием. Он всюду искал те формы, которые позволили бы ему зафиксировать свои чувства и ощущения. И в африканской скульптуре он увидел новый путь к раскрепощению: она была совершенно свободна от культурной традиции, предписывавшей строго следовать сложившемуся скульптурному канону. Образцы африканского искусства подтверждали его догадки, которые он пытался воплотить в живописи, усиливая экспрессивность посредством деформации. Подтверждали они и неслучайность его интереса к творчеству собственных детей – не потому, что африканское искусство он считал наивным и примитивным, а потому, что, напротив, восхищался его изобретательностью и видел в нем богатейшую, не скованную условностями альтернативу отжившим западным клише.
Как раз в тот момент, когда Матисс показывал Гертруде конголезскую статуэтку – и, несомненно, пытался заразить ее своим энтузиазмом, объясняя что-то про «вымышленные плоскости и пропорции», – в комнату вошел Пикассо. Матисс переключился на него. По его словам, они немного «поболтали». Вероятно, Пикассо взял у него статуэтку, повертел в руках, слушая и в то же время как бы не слыша все, что говорил о ней Матисс.
Репутация Матисса была к тому времени уже столь высока, что под влиянием его идей в среде художников-авангардистов началось повальное увлечение искусством примитивных, неевропейских цивилизаций. Его соратники-фовисты и многие начинающие художники, жаждавшие свежих стимулов, принялись рыскать по парижским магазинам и сметать все подряд африканские маски и статуэтки. Их логику нетрудно понять: если Матисс говорил, что в этих вещицах что-то есть, значит стоило к ним приглядеться.
Нетрудно также понять, почему Пикассо не сразу поддался модному поветрию. Африканское искусство, должно быть, затронуло в нем какие-то струны, но сам факт, что оно оказалось глубоко созвучно исканиям Матисса, стал на первых порах серьезным препятствием. Ни при каких обстоятельствах Пикассо не согласился бы числиться в последователях Матисса. А кроме того, он был увлечен собственным открытием – стилизованными формами иберийской скульптуры, которые по возвращении из Госоли начал смело внедрять в свое творчество.
Но просто закрыть глаза на африканское искусство тоже не получалось. Пикассо прекрасно видел, какую небывалую свободу обрел в последнее время Матисс, – чего стоила его «Синяя обнаженная»! И вообще, в артистических кругах все только и говорили о «негритянском искусстве», словно внезапно прозрели и не могли оправиться от изумления. Поэтому едва ли исключительно по воле случая – спустя полгода после того, как Матисс показал ему конголезскую статуэтку, и в разгар напряженной работы над «Авиньонскими девицами» – Пикассо забрел в Этнографический музей Трокадеро.
Музей Трокадеро переживал тогда не лучшие времена и больше напоминал заброшенный склад экспонатов – всюду пыль, неухоженность, запустение. Словом, впечатление «отвратительное», как вспоминал через три десятка лет сам Пикассо в интервью Андре Мальро. «А запах!.. – продолжал он. – Я был один, больше никого. Хотел сразу уйти. Но не ушел. Я остался. Остался. Я понял, что это очень важно – со мной что-то происходило…»
Пикассо интуитивно уловил нечто необычное в предметах, окружавших его в Трокадеро, особенно в масках. По его словам (в которых ярко проявилась склонность испанского художника к драматизации), африканские маски нельзя рассматривать как обычные скульптурные работы.
Нет! Это магические предметы… intercesseurs – обереги: тогда я и узнал это французское слово. Они оберегают от всего – от неведомых злых духов… Я понял, что я тоже оберегаюсь от всего. Я тоже верю в то, что всё неведомо, всё – наш враг! Всё! Я знаю, для чего неграм нужны эти вещи… Фетиши… это оружие. Чтобы помочь людям не попасть снова под власть духов, помочь им стать независимыми.
«Наверное, в тот день я и понял, как нужно писать „Девиц“, – подытоживает Пикассо, – и дело не в формах, а в том, что этот холст – мой первый опыт экзорцизма. Да, именно так».
В литературе о знаменитом шедевре Пикассо огромное значение придается этому визиту в Трокадеро и последующему, сильно запоздалому рассказу о нем. Еще бы. Если верить художнику, не где-нибудь, а там, в Трокадеро, окончательно сложилась вся его творческая философия, и произошло это в тот момент, когда он осознал связь между страхом ви́дения – сексуально окрашенным смертельным страхом столкновения с другими, прежде всего с женщинами, – и магическими, преображающими силами, которыми, по его убеждению, наделено искусство. Это решающее осознание – на разные лады драматизированное, акцентированное и бесконечно перепеваемое – и легло в фундамент художественной карьеры Пикассо, обеспечив его работам беспрецедентное разнообразие и пиротехнический блеск.
Но визит в Трокадеро был не менее важен и с точки зрения его тогдашнего соперничества с Матиссом. Для того, кто, не жалея сил, бился за свою независимость, мечтал избавиться от влияния соперника и сполна реализовать свой врожденный талант, интуитивное прозрение возможностей, таящихся в ритуальных африканских масках, трудно переоценить. Недаром он обмолвился, что маски – это оружие, которое помогает «стать независимым».
Когда Пикассо наконец повернулся лицом к африканскому искусству, его было уже не остановить, впрочем бешеный напор был свойствен ему во всем. В течение весны и лета 1907 года он написал целую серию нещадно «африканизированных» обнаженных. Как и его прежние стилизованные иберийские головы, они подверглись радикальному упрощению: у них угловатые тела, серповидные носы, а на щеках грубая параллельная или перекрестная штриховка, имитирующая скарификацию (шрамы и насечки) на деревянных африканских масках.
Одновременно он с новым осознанием цели возвращается к своим «Девицам». В серии этюдов пером и тушью впервые появляется характерная штриховка – на заднем плане и по краям рисунка, – напоминающая пальмовые листья в «Синей натурщице» Матисса. Вслед за Матиссом, а точнее, вслед за Сезанном (которого Пикассо почитает теперь не меньше, чем Матисс) Пикассо добивается визуальных рифм, которые обеспечили бы композиции цельность, связав воедино передний и задний планы. Но в отличие от столь любимой Матиссом плавной, извилистой, непрерывной линии, у испанца рифмообразующим элементом выступают острые углы и мотив фрагментации, раздробленности, возможно созвучный его тогдашнему душевному состоянию.
Вне всякого сомнения, Пикассо внушал себе, что урок, который он извлек из знакомства с африканским искусством, не имел ничего общего с тем, как это искусство понимал Матисс. Его, Пикассо, подход намного более радикальный и перспективный. Его открытие (в его собственном изложении) выглядит не просто как событие намного более значительное, чем заурядный визит Матисса в сувенирную лавку, но и намного более интригующее, связанное с древними верованиями, духами, магией.
Матисс никогда не стал бы подобным образом драматизировать свою художественную концепцию. Это было не в его интересах: все и без того считали его помешанным. Благоразумнее держаться «плоскостей и пропорций», чем выпячивать магию и экзорцизм.
В любом случае идея гармонии, достигаемой путем сублимации, Матиссу была намного ближе, чем Пикассо. Матисс всегда всеми силами противостоял хаосу. Для Пикассо диссонанс был питательной средой. Из столкновения и разлада он умел извлекать пользу.
На том этапе карьеры Пикассо, о котором идет речь, все свелось к вопросу, сумеет ли он справиться со своим большим полотном – сделать его настолько мощным и эпатажным, что все диссонансы Матиссовой «Радости жизни» и деформации «Синей обнаженной» померкнут. Он хотел резко поднять ставки по обеим указанным позициям, а заодно покончить с роковой, по его мнению, половинчатостью Матисса (помните: «узор» или «женщина»?). Лица всех пяти проституток с широко раскрытыми глазами изначально были выполнены в стилизованной иберийской манере, которую Пикассо усвоил после портрета Гертруды. Но в июне или июле иберийские головы перестали его устраивать. В середине лета 1907 года, пока Матисс был еще на юге, Пикассо принимает судьбоносное решение. Лица двух проституток в правой части картины (одна сидит на корточках, другая стоит позади нее) он заменяет африканскими масками. Теперь у обеих длинные клиновидные носы на грубых вытянутых лицах с маленьким открытым ртом. У стоящей фигуры один глаз полностью черный, словно зияющая, пустая глазница, а у сидящей на корточках глаза разноцветные, асимметричные, с точками черных зрачков. Иберийские лица трех других женщин Пикассо трогать не стал. Взгляд у них более пристальный, но и более привычный, в то время как африканизированные лица двух правых фигур напоминают устрашающие маски. Они обращены к нам, но нас не видят. В них чудится что-то совершенно нам чуждое, неведомое, и ни о каком соблазне здесь говорить не приходится. Не заманить нас хотят они, а отпугнуть.
Теперь все уже привыкли к диссонирующим элементам «Авиньонских девиц» – общепризнанного шедевра Пабло Пикассо. Живописные диссонансы вообще давно никого не изумляют, в большой степени потому, что в дальнейшем творчестве Пикассо сделал их своей визитной карточкой, а его последователи из числа художников-модернистов растиражировали этот принцип, превратив его в общее место всего современного искусства. Но в то время он, по-видимому, и сам был отнюдь не уверен в своей правоте, не говоря о реакции окружающих. Не слишком ли далеко он зашел? Не загубил ли картину? Можно ли считать ее законченным произведением?
Единственное, в чем не приходилось сомневаться, – созданное им полотно не имело аналогов в истории искусства. Но удалось ли ему сказать новое слово, или вся эта мешанина – асимметричные лица, заимствованные элементы африканской и древней иберийской скульптуры, фигура сидящей, навеянная «Тремя купальщицами» Сезанна, которых так высоко ценил Матисс, – не более чем горячечный бред, он сам еще не знал.
Между тем домашняя жизнь Пикассо тоже несла на себе печать безумия. Последствия оказались трагическими для удочеренной сироты Раймонды, прожившей у новых приемных родителей в Бато-Лавуар всего четыре месяца. Судя по всему, в какой-то момент Фернанда заметила, что Пикассо начал проявлять к девочке нездоровый интерес, и запретила ему находиться в комнате, когда та занималась своим туалетом, переодевалась или примеряла обновки.
Ее обеспокоенность могла быть вызвана – или подтверждена – рисунком Пикассо: девочка сидит на стуле, задрав ногу, и разглядывает стопу. На полу перед стулом стоит таз с водой. Сама по себе поза девочки вполне невинна и восходит к знаменитой римской бронзе «Спинарио», или «Мальчик, вынимающий занозу»; нельзя не упомянуть также импрессионистическую скульптуру Матисса «Извлекающий занозу», которую художник выполнил годом раньше и для которой ему, возможно, позировала Маргарита. Вскоре, летом, та же поза будет использована Пикассо для сидящей африканской обнаженной и в конце концов – с оглядкой на заново переосмысленную правую фигуру в сезанновских «Трех купальщицах» – получит неожиданное развитие в фигуре сидящей на корточках проститутки в «Авиньонских девицах». Однако в рисунке Пикассо слишком явно ощущается отталкивающий налет вуайеризма. Рисунок девочки – не более чем беглый набросок, и демонстративный акцент на гениталиях тем неприятнее.
Немного спустя Фернанда поняла, что у нее нет иного выхода, как вернуть Раймонду в приют. Собравшись в квартире Аполлинера, обитатели Бато-Лавуар устроили прощальную вечеринку. Стоит ли удивляться, что Раймонда была растеряна и молчалива. Жакоб уложил ее куклы и мяч в коробку, перевязал все бечевкой, потом взял девочку за руку и «с бесконечно печальной улыбкой» повел назад в сиротский дом.
В начале сентября, после долгого лета на юге, Матисс вернулся в Париж. К этому времени Пикассо был совершенно измучен и разбит. После расставания с Раймондой Фернанда и сама довольно скоро от него съехала. Их затяжной роман, как видно, подошел к концу. В работе Пикассо не стоял на месте, но творческий прогресс давался дорогой ценой. Одержимость «Авиньонскими девицами» – картиной, из-за которой Фернанда чувствовала себя униженной и даже поруганной, поскольку автор, похоже, вымещал на холсте свое недовольство ветреной подругой, – оттеснила ее далеко на задний план. А теперь она и вовсе исчезла из его жизни.
Как сложится судьба картины, пока было совершенно неясно. Единодушное неприятие его замысла на первом, доафриканском этапе со стороны друзей, коллекционеров и торговцев, вероятно, в не меньшей степени, чем визит в Трокадеро, повлекло за собой радикальную переработку всей композиции. Однако две африканские маски в новой версии картины сделали ее и подавно неудобоваримой для зрителей. Пикассо продолжал терзаться сомнениями: картина не покидала его мастерскую еще долгих десять лет. Очевидно, все это время он не мог прийти к решению, считать ли этот вариант окончательным.
Возможно, Матисс тоже сыграл свою роль. Среди всех знакомых Пикассо он был одним из немногих авторитетных судей, кто при желании мог бы рассеять сомнения молодого художника, – хватило бы простого сочувствия его новаторским поискам. Но здесь сработала уже его, Матисса, собственная неспособность увидеть, объективно оценить достигнутое – последние два года, начиная с фовистской эскапады, он сам страдал от приступов неуверенности. Это стало для него сущей мукой.
Еще до возвращения в Париж Матисс был наслышан о тяжелом душевном состоянии Пикассо и о его в высшей степени странной новой картине. В конце июля – начале августа он на время покинул Коллиур и съездил в Италию. Там, особенно во Флоренции, где Матисс встретился с Гертрудой и Лео Стайн, он подпал под очарование итальянских примитивов, мастеров Проторенессанса, таких как Джотто и Дуччо. Изумительные фрески, с их округлыми, скульптурными, лаконично-значительными формами, указали ему путь к решению задачи, как уравновесить и обуздать стихийные импульсы, ворвавшиеся в его живопись под влиянием африканского искусства. К тому же он увидел в них нечто созвучное его собственному интересу к чистому, плоскому цвету и упрощенным контурам детских рисунков. Но самое главное – они были исполнены одухотворенности, строгой чистоты и тишины; в сравнении с ними пышная, богато расцвеченная масляная живопись венецианцев показалась ему испорченной, растленной.
Во время совместного путешествия между Лео Стайном и Матиссом неожиданно стали возникать трения. Репутация Матисса в артистическом мире была необычайно высока (не в последнюю очередь благодаря поддержке тех же Стайнов), и, вполне возможно, это невольно задевало Лео – неудавшегося художника. Но непосредственная причина крылась в их вынужденном тесном общении посреди флорентийского эстетического изобилия. Матисс откликался на все, что видел во Флоренции, с жаром сопричастного искусству человека, одержимого жаждой немедленно «прибрать к рукам» любой новый опыт, употребить его для собственных нужд. Восприимчивость Стайна была принципиально иной. Он реагировал с искренним энтузиазмом, но без личной заинтересованности, с чуждой Матиссу позиции сугубо интеллектуальной оценки. Оба гордеца – в равной степени интеллигентные, умеющие облекать свои впечатления в слова и желавшие непременно донести свою правду до окружающих – безуспешно пытались достучаться друг до друга, и чем дальше, тем больше действовали друг другу на нервы.
Взаимное недовольство так до конца и не изгладилось, даже когда оба вернулись в Париж.
К тому же с течением времени Гертруда и Лео вступили в нешуточное соревнование с Майклом и Сарой, которые всей душой были преданы Матиссу и пользовались его полным доверием. Кризис в итоге разрешился тем, что Лео и Гертруда начали отворачиваться от Матисса и все более весомо поддерживать Пикассо. Так получилось, что «Синяя обнаженная» стала последней приобретенной ими картиной Матисса. Довольно скоро они почти всех своих «матиссов» уступили Саре с Майклом.
Матисс впервые увидел «Авиньонских девиц» вскоре после своего возвращения в Париж, когда вместе с художественным критиком и коллекционером Феликсом Фенеоном нанес визит в Бато-Лавуар. Картина его, мягко говоря, удивила, и, вероятно, он вновь допустил ошибку – наговорил лишнего, или сказал что-то не то, или не сказал того, чего от него ждали. По одной версии, Матисс и Фенеон, взглянув на полотно, громко расхохотались. Спустя четверть века Фернанда утверждала, что Матисс очень рассердился и чуть ли не пригрозил Пикассо, – дескать, тот еще поплатится за свою выходку и будет «умолять о пощаде». Все это крайне неправдоподобно. Куда большего доверия заслуживает рассказ, согласно которому Матисс обиженно проворчал: «Стоило одному приметить в работе друга смелую находку, как тут же все заделались смельчаками». Если он и впрямь это произнес, то смысл его упрека сводится к следующему: в то время как он, Матисс, положил многие годы на мучительные поиски и эксперименты ради подлинного эстетического переворота в искусстве, молодчик Пикассо просто ворует чужие идеи, не удосужившись толком в них разобраться, и выдает нарочито бессмысленно уродливую картину; спрашивается – зачем? А затем, чтобы тоже прослыть смельчаком.
Справедливости ради надо заметить, что Пикассо вложил в «Девиц» весь свой талант. Но его усилий никто не оценил, наградой ему было единодушное порицание. Те, в чьей поддержке он нуждался больше всего, от него отступились.
Даниэль Анри Канвейлер, галерист и маршан, который сыграет решающую роль в успешной карьере Пикассо (после неудачной попытки завязать отношения с Матиссом), объявил «Авиньонских девиц» творческой неудачей. Расположенный к Пикассо русский коллекционер Щукин горестно воскликнул: «Какая потеря для французской живописи!» Собратья-художники, по признанию Андре Сальмона, начали его сторониться. Дерен, прекрасно зная, какие надежды связывал Пикассо с этой картиной, всерьез опасался за душевное состояние приятеля и полушутя предрекал, что «в одно прекрасное утро» автора найдут «в петле рядом с его большим холстом». Даже Аполлинер промолчал.
И вот теперь, в довершение всего, признанный лидер парижских авангардистов, мыслящий художник, чей ум Пикассо имел возможность оценить при близком общении в доме у Стайнов и чья творческая отвага не вызывала сомнений после всего, что Пикассо видел на выставках и в мастерской Матисса, – этот художник, на собственном опыте познавший, каково оказаться одному против всех, перечеркнул его работу как образец дурновкусия, жалкий пастиш, пародию!
Спору нет, многое в «Авиньонских девицах» должно было задеть Матисса за живое. Многое словно прицельно било по нему. Если в его собственных полотнах, даже самых «грубых», во главу угла всегда ставились целостность, уравновешенность, покой, в Пикассовых «Девицах» все дробилось, кричало, торчало. Вся их конструкция от начала до конца шла вразрез с принципами построения итальянских фресок, которыми Матисс только недавно восхищался. И мог ли он не возмутиться раскоряченной фигурой справа, нагло пародирующей фигуру в «Трех купальщицах» Сезанна? Ведь этот «сезанн» – самое дорогое, что у него было! Мог ли он не заметить африканские маски вместо лиц у сидящей на корточках и стоящей позади нее? Ведь это он, он сам привлек внимание Пикассо к африканскому искусству; конечно, он и в мыслях не держал, что его открытие может быть использовано другим так буквально, так вульгарно!
Но в картине Пикассо было нечто еще, нечто более фундаментальное, не имеющее отношения к заимствованиям, стяжательству, саботажу: свирепая сила вражды. Пикассо явно хотел смутить зрителя (и себя заодно) образом бесстыдной сексуальности. Эффект был в чем-то сродни впечатлению от «Олимпии» Мане, только без лукавого подмигивания зрителю. Здесь все было чудовищно преувеличено, спрессовано и откровенно агрессивно.
Так или иначе, Матисс не сумел распознать в «Авиньонских девицах» шедевр современной живописи. Эти хищные обнаженные и олицетворяемая ими смертоносная сексуальная энергия оказались ему, как и многим другим, не по зубам. А зашифрованный в картине месседж – авторское послание, адресованное персонально Матиссу, – был настолько мудреным и двусмысленным, что адресат не сумел его правильно прочитать. Даже если он углядел в картине завуалированный поклон-оммаж, то все равно отнесся к нему с подозрением: своими «Девицами» Пикассо ясно давал понять, что никогда не согласится на роль протеже или последователя Матисса и превыше всего ценит свою независимость. Пикассо – это Пикассо. Да, они оба стремятся к одной цели – добиться славы великого художника-модерниста, но свою задачу они понимают совершенно по-разному.
В тот решающий момент влияние Матисса на искусство авангарда было как никогда значительным, его верховенство – бесспорным. На открывшемся в начале октября Осеннем салоне 1907 года (с большими ретроспективами Берты Моризо и Поля Сезанна) зрителям могло показаться, что каждый второй молодой художник пытается подражать «самому дикому из диких», как окрестил Матисса Аполлинер. От вида бесчисленных и бездумных эпигонов Матисс хватался за голову. Большинство из тех, кто слепо имитировал его стиль, понятия не имели, чего он добивался. Все было бы не так печально, если бы их нелепые потуги не лили воду на мельницу его обличителей. (Пикассовы «отсылки» в «Авиньонских девицах», хотя и были совсем иного свойства, могли раздражать его по той же причине и несли в себе ту же угрозу.)
Мало было ему забот с горе-подражателями, так подоспела новая беда. Некоторые из наиболее талантливых и вдумчивых его последователей, включая ближайшего соратника Дерена и более независимого Брака, начали от него откалываться. Они были с ним заодно, пока продолжался недолгий период фовизма. Но дальше Матисс пошел каким-то новым, одному ему ведомым путем. После «Радости жизни» и «Синей обнаженной» – признавая мощный новаторский потенциал этих полотен – они уже не могли или не хотели идти вслед за ним.
И наконец, Матисс по складу характера был одиночка, не рожденный возглавлять группы и движения. Однако именно на этом витке творческой биографии, когда его работы воспринимались многими как вопиющее уродство и несуразица («Откуда взялось это отвратительное презрение к форме?» – возмущался критик, увидев полотно Матисса «Роскошь» (Le Luxe), живописную грезу с тремя диспропорциональными женскими фигурами, исполняющими таинственный ритуал на морском берегу), – именно теперь ему не меньше, чем Пикассо, требовались одобрение и поддержка извне.
Гертруда Стайн, уже прочно обосновавшись в лагере Пикассо, вскоре начала делить мир на «матиссистов» и «пикассистов». Другие сторонники Пикассо тоже не упускали случая подлить масла в огонь.
Пикассисты понимали, почему «Авиньонские девицы» обернулись разочарованием для Пикассо, понимали, в чем корень зла: больше всего Пикассо удручала необходимость прозябать на вторых ролях. Для честолюбивого испанца такое положение было невыносимо. Лео Стайн вспоминал, как рассвирепел Пикассо, когда однажды ему пришлось стоять в очереди на остановке омнибуса. «Это неправильно! – кипятился он. – Сильный должен идти первым и получать, что ему надо!»
Однако, при всех несомненных сложностях, сами художники отнюдь не порывали отношений и даже оставались как будто на дружеской ноге. В противном случае трудно объяснить, почему в конце осени они надумали обменяться работами.
Обмен был обставлен со всей тщательностью. В мастерской у Пикассо в Бато-Лавуар по такому случаю устроили ужин, на котором присутствовали Сальмон, Жакоб, Аполлинер, Брак, Морис де Вламинк и Морис Пренсе. По-видимому, друзья приложили руку к устройству вечера, поскольку сам Пикассо, судя по отзывам, большого радушия не выказывал.
Атмосфера в мастерской была далеко не радужная. В углу стояли «Девицы», завешенные простыней. Фернанда и Раймонда к тому времени уже съехали. Друзья искренне сочувствовали Пикассо, но пока не понимали, чем ему можно помочь. «Я хотел бы, чтобы вы оценили весь героизм этого человека, – написал Канвейлер полвека спустя. – Пикассо душевно был ужасно одинок, потому что не нашлось ни одного художника из его друзей, который последовал бы за ним. Картина, которую он только что создал, казалась всем чем-то безумным и чудовищным». Сейчас до конца неясно, как именно происходил обмен, но, судя по всему, Пикассо еще раньше получил возможность выбрать одну из работ Матисса во время визита в его студию, и теперь настала очередь Матисса сделать свой выбор.
Пикассо выбрал портрет Маргариты, выполненный в псевдонаивном стиле; сверху большими буквами, как на детском рисунке, было выведено: MARGUERITE. Картина была не маленькая, и Матисс, наверное, устал, пока донес ее под мышкой до жилища Пикассо на Монмартре. Полтора года назад тот же путь проделала с ним Маргарита, во плоти. На сей раз – только ее портрет.
Почему Пикассо выбрал «Маргариту»? Вероятно, не в последнюю очередь потому, что незадолго до этого лишился своей тринадцатилетней приемной дочери. Может быть, он тосковал? Не пытался ли он – движимый подспудной завистью или, может быть, воспоминаниями об умершей сестренке Кончите – символически завладеть Маргаритой? Или дело просто в том, что он симпатизировал дочери Матисса?
Доподлинно известно только одно: с ее портретом он не расставался до конца жизни.
В свою очередь Матисс выбрал недавно написанный Пикассо натюрморт «Кувшин, пиала и лимон»: острые углы, хорошо читаемые рифмы и необычайно – для Пикассо той поры – насыщенные цвета. В своем хрестоматийном описании этого обмена Гертруда Стайн утверждает, что художники только притворялись, будто выбирают картину, которая им искренне нравится, тогда как в действительности «каждый безошибочно взял у другого наименее интересную картину». «Потом, – продолжает она, – каждый использовал выбранную картину как пример недостатков другого». Рассказ Гертруды Стайн больше говорит о ее намерении выставить художников врагами, чем о сути происшедшего. На самом же деле в обеих работах чувствуется несомненная уверенность, убежденность. Пикассо приятно было увидеть, что Матисс не оставил без внимания его, Пикассо, интерес к угловатым формам и новым пространственным отношениям, точно так же как Матиссу было приятно получить подтверждение, что Пикассо всерьез воспринял его, Матисса, увлечение детским творчеством. «Тогда мне показалось, что это знаковая картина, – признался Пикассо под конец жизни. – Мне и сейчас так кажется».
За ужином время тянулось бесконечно. Пикассо был угрюм и немногословен. Остальные чувствовали себя скованно. Странная, напряженная обстановка ничего общего не имела с тем, как обычно проходили вечера на Монмартре. Друзья Пикассо винили в этом Матисса. По отзыву Сальмона, тот держался важно и отстраненно. Он не умел веселиться (полагал Сальмон), не видел удовольствия в беззаботности, дружеских шутках, розыгрышах – во всем, что скрашивало жизнь обитателей Бато-Лавуар. Признание, недавно пришедшее к Матиссу, только усугубляло их неприязнь. В тесной студии Пикассо было не повернуться, а тут еще изволь вести себя чинно, уважая «седины» Матисса, – словом, молодежь с трудом выносила эту муку. Сразу после ужина Матисс откланялся. Едва за ним закрылась дверь, приятелей словно прорвало.
Вот что поведал Сальмон: «Мы гурьбой пошли на улицу Абесс [в двух минутах от Бато-Лавуар] и там – даром что бедные, зато ради веселья готовые на любые жертвы! – купили на базаре набор игрушечных дротиков с присосками на конце и потом, когда вернулись в студию, отвели душу: можно было сколько угодно метать дротики в картину и не бояться ее повредить. „Есть! Точно в глаз! Получай, Маргарита!“ – „А этот в щечку!“ Потешили себя на славу».
Разумеется, все это было затеяно, чтобы развеселить Пикассо. С той же благой целью его друзья-приятели бегали по Монмартру и оставляли на стенах и заборах надписи, имитирующие строгие предупреждения государственной медицинской службы под лозунгом «Осторожно, Матисс!»: «Матисс провоцирует безумие», «Матисс опаснее алкоголя», «Ущерб от Матисса тяжелее, чем от войны».
Эти выходки наглядно показывают, какое место в сознании Пикассо занимал тогда Матисс: как одно его присутствие выводило Пикассо из себя, как его бесило исходившее от Матисса ощущение превосходства (хотя тот вовсю старался излучать благодушие) и как отчаянно жаждал Пикассо поменяться с ним местами.
В конце 1907 года, когда первые впечатления от «Авиньонских девиц» и обмен картинами еще были свежи в памяти, Матисс дал интервью для статьи, которую собирался написать Аполлинер. Заказал статью смертельно больной друг Матисса Мечислав Гольберг. Известность Матисса и тот факт, что никогда прежде он интервью не давал, открывали перед Аполлинером редчайшую возможность (кстати, с этой статьи и началась его карьера художественного критика). Но поэт боялся прослыть предателем в глазах Пикассо и долго не принимался за дело. Он дотянул до того, что сорвал все сроки. Статья вышла за считаные дни до смерти Гольберга и не там, где тот хотел ее видеть, а в конкурирующем издании.
В небольшом очерке Аполлинер привел всего четыре высказывания самого Матисса (который ему не доверял, а вскоре и вовсе его невзлюбил). Последнее из них – в свете его наэлектризованных отношений с Пикассо – кажется особенно тщательно продуманным:
Я никогда не избегал влияния других. Я счел бы это трусостью и самообманом. Я полагаю, что индивидуальность художника развивается и утверждается в противоборстве с другими индивидуальностями. Если схватка оказалась роковой, если индивидуальность не сумела себя сохранить, значит такова ее судьба.
Матисс сумел сохранить себя. Но в последующее десятилетие расстановка сил изменилась. Никогда уже Матисс не будет обладать таким неоспоримым превосходством в художественном мире, как в 1906–1907 годах. Отныне все взоры устремятся на Пикассо – великого мастера устраивать фейерверки и срывать аплодисменты.
В 1908 году картины Матисса выставлялись в Москве, Париже, Берлине и Нью-Йорке, а в конце года прошла его ретроспективная выставка в Осеннем салоне. Но, несмотря на столь очевидные свидетельства успеха и признания, Матисс все больше превращался в одинокую, особняком стоявшую фигуру.
Он пытался сопротивляться и для борьбы с опасным непониманием его творчества даже занялся преподаванием. При поддержке Сары Стайн он в начале 1908 года основал частную школу («академию») живописи, правда просуществовала она недолго. Что касается его предполагаемых последователей, то они совсем отбились от рук. Вот как написал об этом американский поэт и публицист Гелетт Берджесс:
Матисс отказывается нести ответственность за выходки своих непрошеных «учеников». Бедный Матисс, всегда такой терпеливый, упорно прокладывающий путь сквозь джунгли искусства, вынужден смотреть, как его последователи разбредаются направо и налево, не ведая, куда идут. Его собственные слова, скорее мысли вслух, возвращаются к нему искаженными, перевранными… Допустим, он скажет: «В моем представлении равнобедренный треугольник есть символ и проявление абсолюта. Если в картине присутствует это абсолютное свойство, она становится произведением искусства». И тут же маленький, хитрый как черт Пикассо, не будь дурак (хоть и чокнутый), мчится в свою студию и в два счета малюет голую великаншу, сплошь состоящую из треугольников, – и выдает ее за шедевр. Надо ли удивляться, что Матисс качает головой и даже не улыбается!
Дерен и Брак, еще недавно его верные соратники-фовисты, переметнулись в лагерь Пикассо. Теперь они все время пропадали в Бато-Лавуар и полюбили приглушенную палитру, напрочь отринув цветовое пиршество Матисса. Для него это был чувствительный удар – оба считались одними из самых талантливых художников во Франции.
Между тем окружение Пикассо, по сути, объявило Матиссу войну: они поднимали на смех его школу, его степенность и рассудительность, а заодно и его последние работы – за их якобы легковесность, декоративность и полнейшую несерьезность. Рассказывают, что однажды Матисс заглянул в кафе и, увидев там Пикассо со товарищи, подошел поздороваться. Никто и головы не повернул.
Надо думать, для Матисса, после того как он целых два года постоянно общался с Пикассо, радушно принимал его в своей студии и даже подарил ему портрет Маргариты, столь резкая перемена в отношении была мучительной и обидной.
Когда первый шок от «Авиньонских девиц» прошел, Матисс внутренне примирился с новым, дерзким Пикассо, который вышел из роли его потенциального протеже и превратился в яркого новатора, следовательно с ним теперь приходилось считаться, а возможно, не лишне было чему-то у него и поучиться. Не желая, чтобы их отношения переродились в глупую открытую вражду, Матисс, как и прежде, проявлял сочувствие к нелегкой участи молодого художника, восхищался его талантом и старался сохранить его дружбу. Словно в доказательство, что не держит на него зла, Матисс в конце 1908 года привел к нему в мастерскую русского коллекционера Сергея Щукина – своего самого важного клиента. Вдохновленный увиденным, Щукин вскоре стал оказывать Пикассо поддержку и охотно покупал его работы.
Примерно в то же время, в 1908 году, Брак, бывший протеже Матисса, взяв за отправную точку некоторые элементы «Авиньонских девиц» и суммировав свой опыт пристального изучения Сезанна, вплотную подошел к тому, чтобы открыть совершенно новый стиль живописи. Отправившись в излюбленный Сезанном Эстак, под Марселем, художник усердно экспериментировал и вот теперь представил на Осеннем Салоне несколько новых картин.
Матисс, которому на том же Салоне устроили ретроспективную выставку, входил в отборочное жюри. Увидев виды Эстака, Матисс почувствовал себя вдвойне преданным. Брак не только отошел от принципов Матисса (в первую очередь – от преобладания окрашенного света), но и с Сезанном – его кумиром, его талисманом («Если прав Сезанн, то прав и я», – заявлял Матисс) – обошелся не лучше, в корне неверно его истолковав.
Матисс не сомневался, что разгадал хитрость нового стиля Брака. Описывая его картины критику Луи Вокселю – тому самому, который изобрел словечко «фовизм», – Матисс сказал, что они все состоят из «кубиков». Для наглядности он даже сделал беглый набросок, точь-в-точь как учитель, демонстрирующий на грифельной доске заблуждение ученика.
Картины Брака не прошли отбор, и в этом – справедливо или нет – обвинили Матисса. Однако у нового направления появилось имя – кубизм.
Кубизм совершит революцию в организации живописного пространства и, как следствие, поведет живопись по новому пути развития. Уже в следующем году Брак совместно с Пикассо, которого легко увлек за собой, детально разрабатывает принципы своего нового стиля. Имперсональные, намеренно избегающие матиссовского яркого цвета (преобладают коричневатые и серые тона), кубистические композиции поражали изобретательной игрой ума и какой-то новой, неведомой поэтичностью. Картина отказывалась и дальше служить своеобразным окном в упорядоченный, статичный, бесконечно удаляющийся в глубину мир, подчиненный непреложным физическим законам; теперь она напоминала скорее подвижный полупрозрачный театральный занавес, на котором то выдвигались вперед, то чуть отступали назад, прячась в складках, многочисленные грани изображения. В этом смысле кубистические композиции можно было бы уподобить человеческому сознанию, и, по мнению некоторых современников, они прямо перекликались с новейшими научными теориями, ломавшими традиционную картину мира. Но, помимо всего прочего, кубистические картины Пикассо и Брака были чрезвычайно остроумны. В них было что-то от перешептывания и пересмешек старшеклассников на задней парте. Изображение превращалось в игру-обманку вроде «видишь – не видишь».
Новое течение быстро завоевывало популярность. Матисс, растерянно застыв посреди классной комнаты, изо всех сил старался не обращать внимания на непочтительный шум в задних рядах. Он счел за лучшее следовать собственному расписанию и все больше погружался в соблазнительные глубины насыщенного цвета, экспрессивной декоративности и вновь открытых формул монументальной простоты. Таким образом ему удалось создать несколько работ, ставших величайшими достижениями не только его, Матисса, творческой карьеры, но и всего искусства XX века. Но около 1913 года не замечать очевидного стало невозможно. Фонтанирующая изобретательность Пикассо и Брака с неимоверной скоростью обеспечила им положение новых лидеров панъевропейского авангарда.
Разумеется, у них была мощная поддержка. За Пикассо, в частности, стояли Канвейлер, блестяще направлявший из-за кулис карьеру испанца, Гертруда Стайн, способствовавшая зарождению «мифа Пикассо» (особенно за пределами Франции), и Аполлинер, придумавший антиматиссовские граффити под видом официальных предостережений службы здравоохранения. В последующее десятилетие за Аполлинером закрепится репутация самого влиятельного художественного критика среди представителей его поколения. Матисса он причислит к «интуитивным кубистам». Можно вообразить досаду художника, который, по злой иронии, сам случайно дал название новому победоносному стилю.
Кубизм задавал тон в авангардном искусстве и распространился по всей Европе, от Италии (где на его основе возник футуризм) до Великобритании (где им вдохновлялись вортицисты). Матисс все больше отходил на периферию современных художественных процессов. Но к 1913 году, словно исполнившись мрачной решимости хранить верность своему правилу не прятаться от влияний, он начал осваивать – хотя и осторожно – кубистические приемы. Стараясь не реагировать на провокации («Он сдался! Он у нас в кармане!» – заголосили кубисты), Матисс ограничил использование ярких красок, заменив их выразительными оттенками серого, матово-черного, размыто-синего. В последующие три-четыре года в его живописи преобладают умышленная геометризация, предельное упрощение формы и сложные пространственные отношения между фигурой и фоном – все это прямо указывает на его интерес к новомодной художественной концепции. Он даже сделал новую версию по мотивам любимого голландского натюрморта[3], который раньше уже копировал, – в откровенно кубистической манере. В результате ему удалось избежать возможного поражения на главной арене авангардного искусства, но кубисты рано радовались его смирению: вобрав в себя их опыт, Матисс невероятно обогатил и обновил свой собственный оригинальный стиль.
После первого разрыва, случившегося еще в 1907 году, Пикассо и Фернанда помирились. Но потом, из-за ее связи с итальянским футуристом Убальдо Оппи, пара окончательно распалась. Словно в отместку, Пикассо завел роман с близкой подругой Фернанды – Евой Гуэль.
К 1913 году Пикассо впервые в жизни обрел финансовое благополучие и смог выбраться из Бато-Лавуар. И он сам, и его дилер Канвейлер чувствовали себя более чем уверенно. Но в том же 1913 году умер отец Пикассо, а вскоре Пабло слег с какой-то тяжелой, до конца не распознанной болезнью, от которой еле оправился, да и то не скоро.
Пока он медленно выздоравливал, Матисс его навещал, приносил цветы и апельсины. К тому времени художники уже готовы были забыть друг другу старые обиды. В конце концов, творческий гений каждого из них был всем очевиден и творческой энергии обоим было не занимать. А если «банда» последователей Пикассо, изо всех сил старавшихся не отстать от лидера, была многочисленнее последователей Матисса, это еще не доказывало, что Матисс слабее Пикассо. Но расстановка сил, вне всякого сомнения, существенно изменилась, и оттого оба художника – соблюдая светские правила приличия и признавая творческие достижения друг друга (теперь, когда оба могли не опасаться за свою репутацию) – по-прежнему сохраняли дистанцию и бдительности не теряли.
И вот, вскоре после выздоровления Пикассо они, к превеликому удивлению досужих наблюдателей, стали совершать прогулки верхом – втроем, в компании с Евой Гуэль. «Пикассо хороший наездник, – написал Матисс в письме Гертруде Стайн. – Мы вместе скачем по округе, отчего все приходят в недоумение». Отчего бы всем приходить в недоумение? Может быть, оттого, что публике хотелось бы видеть художников заклятыми врагами, каковыми они никогда не были.
В том, что кубизм вызывал у Матисса раздражение, сомневаться не приходится. Все сложилось вопреки его ожиданиям. Неукротимый испанец так и не стал его протеже. Он оказался куда как более волевым, изобретательным и бешено честолюбивым, чем мог предвидеть Матисс, когда на первых порах встречался с ним у Стайнов, а потом в мастерской – у себя или у него, – где они вели беседы и внимательно смотрели по сторонам, мысленно делая заметки на память, или когда вместе прогуливались по Люксембургскому саду.
Тем больше поражает, с какой последовательностью, с каким фантастическим упорством Матисс сдерживал свою, в общем-то естественную, реакцию. Он наотрез отказывался вымещать на Пикассо свое недовольство. Не позволял себе прятать голову в песок и закрываться от возможного влияния. Он избрал прямо противоположную тактику и сам, по доброй воле, старался извлечь из кубизма полезный урок – точно так же, как до этого Пикассо усердно усваивал его уроки.
Как известно, эта модель – открыться влиянию, по-своему его преломить, преодолеть и снова открыться, как будто оба без устали отрабатывали тактику и стратегию ведения боя на полях искусства, – будет воспроизводиться с определенной периодичностью вплоть до смерти Матисса в 1954 году. Непростые отношения двух выдающихся мастеров станут предметом крупных художественных выставок и бесчисленных публикаций. Со временем историки искусства исследуют и все составляющие этой модели (подчинение и ответный вызов, почитание и протест) вдоль и поперек, от картины к картине, от рисунка к рисунку, от скульптуры к скульптуре. В какие-то периоды Пикассо внимательнее вглядывался в Матисса, в какие-то Матисс в Пикассо. Но ни один из них не упускал другого из виду, никогда.
Одним из самых необычных созданий Матисса 1913–1917 годов стал очередной портрет Маргариты. Он стал кульминацией серии картин, для которых в 1914 и 1915 годах позировала дочь художника, к тому времени уже почти двадцатилетняя. Маргарита все больше обретала черты уверенной в себе молодой женщины, ощутившей вкус к нарядам. На каждой картине из этой серии, несмотря на идентичность позы, она изображена в новой шляпке (непременно убранной цветами); ее блузки и платья также ни разу не повторяются. Даже простая черная бархотка на шее – напоминание о перенесенной в детстве болезни – в трех из пяти портретов украшена золотой подвеской.
Первые четыре портрета серии не представляют собой загадки: нанесенные тонким слоем яркие масляные краски и нарочито упрощенный язык форм очень напоминают прежние портреты дочери Матисса в характерном псевдодетском стиле. Но в какой-то момент ему, вероятно, захотелось новизны. Он задумчиво посмотрел на Маргариту и сказал: «Картина тянет меня в другую сторону. Ты не будешь против?»
Маргарита дала согласие на эксперимент.
Матисс принялся переписывать картину, пока она не превратилась в один из самых удивительных портретов во всем его творческом наследии. «Голова в белом и розовом» (под таким названием эта работа стала известна впоследствии) насыщена цветом и чистой, дистиллированной эмоцией в той мере, какая была подвластна только Матиссу. Но столь же очевидно, что замысел этой композиции пропущен через призму кубизма. Угловатые формы словно не желают оставаться в пределах ограничивающих их контуров, размывая границу между передним и задним планом; пересечения линий создают линейные рифмы; глаза и губы низведены до чистых символов и при желании, кажется, могут быть с легкостью перекомпонованы. Все это делает полотно своеобразной данью Пикассо, не отменяя доминирующего присутствия Маргариты.
«Голова в белом и розовом» поставила дилеров Матисса в тупик, они просто не понимали, что им с ней делать, и, немного выждав для приличия, попросили автора избавить их от странной работы. Матисс не стал спорить, и до конца его жизни картина хранилась у него дома – точно так же, как портрет тринадцатилетней Маргариты хранился у Пикассо.
Фрейд и Бэкон
Пока не вооружишься лупой, почти невозможно разобрать, чем заняты фигурки на снимках Майбриджа – борются или совокупляются.
Фрэнсис БэконПортрет друга, художника Фрэнсиса Бэкона, выполненный Люсьеном Фрейдом в 1952 году, удивляет своими скромными размерами – примерно с книжку карманного формата (цв. ил. 8). Вернее, удивлял: портрет исчез со стены немецкого музея в 1988 году, и с тех пор его никто не видел.
На нем крупным планом голова Бэкона. «Все вокруг считали, что внешность у него никакая, – говорил позже Фрейд, – но лицо у него было очень даже своеобразное. Мне хотелось, как я сейчас помню, вытащить Бэкона наружу, проявить то, что скрыто за этой невнятностью».
На законченной картине узнаваемо широкое, щекастое, с тяжелой челюстью лицо Бэкона заполняет все пространство от края до края, уши почти касаются боковых границ. Глаза полузакрыты, смотрят куда-то вниз, но не в пол. Взгляд печально-задумчивый, отрешенный, словно человек на портрете целиком ушел в себя. Трудноуловимое, но незабываемое выражение, в котором странно соединились горькая печаль и проблеск подспудного гнева.
Впоследствии Фрейд добьется мирового признания благодаря телесному изобилию своих картин в сочетании с характерной живописной манерой (плотный слой густой масляной краски). Но в 1952-м, когда он писал Бэкона, манера у него была совершенно иная. Поверхностное натяжение – вот его тогдашний конек. Он предпочитал малый формат, а краску накладывал аккуратными, ровными, невидимыми для зрителя мазочками, чтобы поверхность получилась максимально гладкой. Контроль был превыше всего. И еще – равномерное внимание, скрупулезная проработка каждого микроучастка поверхности картины.
При всем этом контраст между правой и левой стороной замечательной грушевидной головы Бэкона бросается в глаза – и чем дольше смотришь, тем больше. Правая (имеется в виду правая у Бэкона), немного затененная, – воплощение невозмутимости. Но на левой все куда-то съезжает и сползает. S-образный завиток (можно сосчитать в нем все тоненькие прядки) отбрасывает на лоб лихую тень. Правая сторона рта загнута кверху, и рядом с уголком на щеке образовалось небольшое вздутие, как от пчелиного укуса. С этой стороны нос лоснится от пота. И даже ухо – левое ухо – как будто бы недовольно корчится и съеживается. Но поразительнее всего ведет себя левая бровь Бэкона – ее энергичный арабеск упирается прямо в поперечную морщину в центре лба. Реализмом в буквальном смысле слова тут и не пахнет: никакая нормальная бровь так не своевольничает. Но в ней мотор, движущая сила всего портрета, точно так же как этот портрет – ключ к истории самых интересных, плодотворных – и непрочных – отношений в британском искусстве XX века.
В 1987 году, через тридцать пять лет после создания и всего за несколько месяцев до кражи, эта миниатюрная картина отправилась в Вашингтон. Если бы она не была написана на меди, можно было бы приклеить на обороте марку, указать адрес и послать ее по почте как открытку. Но ее аккуратно упаковали в бумагу, уложили в ящик и вместе еще с восемьюдесятью одной работой отправили в столицу Соединенных Штатов. Там по инициативе Андреи Роуз из Британского Совета была организована ретроспективная выставка Фрейда, проходившая в Музее Хиршхорна в самом центре Вашингтона, на Национальной аллее.
Несмотря на малый размер, портрет Бэкона стал одним из самых популярных произведений на выставке. Этому, несомненно, способствовало то, что изображенный на портрете художник, который в то время еще жил и творил (он умер в 1992-м), был уже знаменит. В мире его знали намного лучше, чем Фрейда. Начиная с 1960-х годов его крупные персональные выставки проходили не только в Лондоне, где он жил, но и в зарубежных музеях, таких как Гран-Пале в Париже и Гуггенхайм и Метрополитен в Нью-Йорке. Ни одному другому британскому художнику XX века не посчастливилось получить такую поддержку критики. Но ни один и не добирался до таких потаенных уголков обывательского воображения, ни один не мог похвастаться таким корпусом работ – одновременно смелых и классических, судя по их огромному влиянию. Бэкон был, без преувеличения, звездой международной величины.
Фрейд являл собой совершенно иной тип художника. Он был скорее «беспокойный и докучливый сосед», как отозвался о нем критик Джон Рассел, – упрямый, фанатично работоспособный, не подверженный моде, зато со своими причудами. Он регулярно выставлялся, начав, еще когда ему было немного за двадцать (на момент вашингтонской выставки ему исполнилось шестьдесят четыре), и в художественной жизни Англии играл достаточно заметную роль, чтобы удостоиться ордена Почета, но за пределами Британских островов его в расчет почти не принимали. В Америке о нем, можно сказать, никто не слышал.
Менее эпатажные (по крайней мере, на первый взгляд) в сравнении с полотнами Бэкона, работы Фрейда воспринимались как относительно традиционные, с упором на верность натуре. Подобная живопись – фигуративная, или предметная, основанная на наблюдении, – к тому времени уже сто лет как вышла из моды. Его непосредственными предшественниками были не Поллок с де Кунингом (с этим американским художником голландского происхождения чаще всего сравнивали Бэкона) и уж точно не Дюшан с Уорхолом, чье влияние формировало художественный климат в 1970-е и в начале 1980-х, а живописцы XIX века – Курбе, Мане и особенно Дега.
Кроме того, его картины были некрасивы. Его стилистика – бескомпромиссный реализм, въедливая детализация, мелочное фокусирование на потной, воспаленной, обвисшей коже – могла оттолкнуть кого угодно. Нездоровая, неприятная на вид человеческая плоть. Еще и потная. Казалось, от картин разило. Это определенно шло вразрез с представлениями музейного мира Америки о передовом искусстве, в котором начиная с 1960-х годов прослеживалась тенденция к минимализму, абстракции, концептуализму – словом, к большей гигиеничности.
И тем не менее, несмотря на всю специфику Фрейда – на то, что он был в каком-то смысле несовременен, – все большее число британцев (критиков, арт-дилеров, собратьев-художников) интуитивно понимали: мастер приближается к пику своих творческих возможностей. Почти два десятка лет он стабильно выдавал картины такой узнаваемости, такой неослабевающей силы и убедительности, что игнорировать их было просто невозможно, хотя они и не вписывались ни в одну из очевидных категорий или концепций современного искусства.
Задавшись целью познакомить с творчеством Фрейда зарубежных зрителей, Британский Совет и задумал собрать выставку Фрейда, которую можно было бы отправить в заграничное турне. Организаторы из Совета отобрали работы и договорились с владельцами картин (большинство работ Фрейда находилось в частных коллекциях). К выставке выпустили солидный каталог со вступительной статьей Роберта Хьюза, влиятельного художественного критика из лондонского журнала «Тайм». В первом же предложении Хьюз обращается к портрету Бэкона. В ровном свете, пишет он, «чудится что-то фламандское»; малый размер отсылает к готическому миру «миниатюры»; «работа компактная, точная, скрупулезная и (самая эксцентричная подробность для конца пятидесятых – эпохи скороспелых поделок на мешковине) выполнена на меди». Но бесспорный гипнотизм этой картины, как подчеркивает Хьюз, обусловлен ее невероятной современностью. Фрейд «ухватил совершенно особую правду зрительного образа, которая до XX века в живописи почти не встречалась, – пишет он, – в ней уживаются резкий фокус и загадочная глубина». И уж совсем непонятно, как Фрейду удалось придать «грушевидной физиономии Бэкона безмолвную гремучесть гранаты за миллисекунду до разрыва».
Британский Совет без труда договорился о выставочных площадках в Париже, Лондоне и Берлине, но в США с этим возникли сложности. Фрейда плохо знают, объясняли американские кураторы, в его работах много плоти и мало красоты, широкая публика такого не любит. И потом, он слишком англичанин, слишком старомоден, слишком реалистичен. Американский куратор Майкл Опинг впоследствии рассказал, каково было единодушное мнение: столкнуться с творчеством Фрейда в контексте американского послевоенного авангарда – «все равно что на безупречно белой музейной стене вдруг обнаружить вонючую плесень».
Но Британский Совет не сдавался. Обратились к Джеймсу Деметриону, тогдашнему директору Музея и сада скульптур Хиршхорна, который входит в группу вашингтонских музеев под управлением Смитсоновского института, и объяснили ему сложившуюся ситуацию. Деметрион молча выслушал англичан. Про себя он очень удивился, что ни один нью-йоркский музей не проявил интереса к предложению Британского Совета. «Как видно, Фрейд и впрямь был недостаточно известен вне Англии, и это меня, честно говоря, ошеломило», – признается он много позже. Он согласился принять выставку. Его решение обернулось большой удачей не только для него самого и для Музея Хиршхорна, но и для Фрейда – в первую очередь для Фрейда.
Открытие персональной выставки Фрейда состоялось в Музее Хиршхорна (первой из четырех международных площадок) 15 сентября 1987 года. Через пять лет Фрейду должно было исполниться семьдесят. И это была первая представительная презентация его работ за пределами Великобритании.
Вопреки всем ожиданиям, успех был грандиозный. Рецензии авторитетных критиков в ведущих газетах, еженедельниках и художественных журналах по всему Восточному побережью, вступительная статья Хьюза в каталоге (перепечатанная в «Нью-Йоркском книжном обозрении» – The New York Review of Books) и большой очерк о жизни и творчестве в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» (The New York Times Magazine) – все это помогло придать выставке статус важнейшего культурного события, от которого нельзя остаться в стороне. Международной карьере Фрейда был дан старт. Вскоре он уже отказался от услуг своего английского агента и решил продавать работы исключительно через престижные нью-йоркские галереи. Не прошло и десяти лет, как его стали называть самым прославленным художником – не только Великобритании, но, возможно, и всего мира. В мае 2008 года его картина «Спящая соцработница» побила рекорд цены для работы здравствующего автора – российский миллиардер Роман Абрамович заплатил за нее 33,6 миллиона долларов. (Еще одна картина с той же натурщицей, Сью Тиллил, ушла в 2015 году за 56,2 миллиона.)
Пробыв положенное время в Хиршхорне, выставка переместилась поочередно в Париж и Лондон. Последняя остановка была в Берлине, с открытием в конце апреля 1988 года. Город, где Фрейд родился и рос, предоставил для его выставки залы Новой национальной галереи. Другие немецкие музеи также проявили к выставке большой интерес и согласны были на все условия и расходы, но Фрейд, по словам Андреи Роуз, «и слышать об этом не хотел». Или в Берлине, или нигде в Германии – таково было его условие. По иронии судьбы, сама берлинская Новая галерея энтузиазма не проявляла. Почти никаких расходов по выставке галерея взять на себя не пожелала, от участия в подготовке каталога уклонилась и даже не собиралась откомандировать своего представителя на выставку в Вашингтоне, Париже и Лондоне. Англичане, уже не на шутку встревоженные предстоящим приемом в Берлине, все-таки настояли на приезде немецкого куратора в лондонскую галерею Хейворд. Только там, как свидетельствует Андреа Роуз, немцы наконец осознали, что выставка намного больше, чем они ожидали, и что им придется срочно готовить дополнительные залы. (Изначально они планировали разместить выставку в отделении графики – на площади, вчетверо меньше необходимой.)
Новая национальная галерея – здание из стекла и стали, последний завершенный проект легендарного архитектора Миса ван дер Роэ, – расположена внутри большого зеленого микрорайона, где сосредоточено множество музеев, концертных залов, научных центров и библиотек. С севера его ограничивает знаменитый берлинский парк Тиргартен, с юга – Ландвер-канал. Настоящий tiergarten – зоопарк – находится к западу от музея, а Потсдамер-плац – к востоку, всего в десяти минутах ходьбы.
До своих восьми лет, пока семья не переехала в Англию, Фрейд жил в этом районе, сначала в одной квартире, потом в другой. В детстве он гулял в Тиргартене, играл там с мальчишками и однажды, катаясь на коньках, провалился под лед («Незабываемые впечатления», – вспоминал он). У барыг, толкавшихся вокруг Потсдамер-плац, он выменивал сигаретные вкладыши. «За трех Марлен Дитрих давали одного Джонни Вайсмюллера… ну и так далее».
Когда Гитлер пришел к власти, семье Фрейда пришлось бежать из Германии. Сам он видел фюрера лишь однажды, прямо на площади, где они жили (напротив их дома теперь и находится Новая национальная галерея). «По бокам от него стояли такие огромные люди – сам-то он был крошечный».
Выставка Фрейда открылась 29 апреля 1988 года. До падения Берлинской стены оставался еще год, и город был разделен. Событие хорошо освещалось в западногерманской прессе, каталог раскупили в первые недели. И пусть здесь не было такого фурора, как в США, родной город оказал своему давно потерянному сыну теплый прием и по достоинству его оценил. Зрителей пришло больше, чем ожидалось.
Но через месяц после открытия – дело было в пятницу, ближе к вечеру, – один из посетителей заметил неладное. В самом начале экспозиции, где были представлены работы раннего периода, на стене зияло пустое место, несомненно отведенное под картину. Посетитель переполошился. Кому сообщить? Музейная служба безопасности в то время существовала скорее номинально, ее сотрудников нужно было искать днем с огнем. Согласно одному сохранившемуся донесению, в тот день на выставке между 11.00 и 16.00 не было ни одного дежурного смотрителя. Если бы кому-то пришло в голову сунуть миниатюрный портрет во внутренний карман плаща и спокойно выйти на улицу, то этого никто бы не заметил.
Бдительный посетитель разыскал кого-то из персонала и сообщил о пропаже картины. Новость по цепочке быстро передали наверх. Начальство вызвало полицию. Здание заблокировали, опросили и обыскали всех, кто еще оставался в музее.
Безрезультатно. Постепенно все – и сотрудники музея, и полицейские – поняли, что время упущено. Вор или воры выскочили из ловушки. А скорее всего, просто спокойно ушли еще до того, как ловушку расставили.
Директор Новой галереи Дитер Хониш и его подчиненные чувствовали свою вину, однако не желали закрывать выставку раньше оговоренного срока, который должен был наступить еще через три недели. Фрейд и Британский Совет категорически возражали. Немцы – при поддержке британского посла в Германии – сопротивлялись и настаивали на продолжении показа. Тогда Фрейд пригрозил обратиться к частным коллекционерам – владельцам выставленных картин – с просьбой изъять свои вещи. Немцам пришлось уступить, и выставка закрылась.
Полиция и Британский Совет договорились о том, что назначат небольшое вознаграждение за помощь в поимке вора. Вокзалы, порты и аэропорты получили соответствующее уведомление. Потом поступила пара наводок, их проверили. Но все без толку.
Ничто не указывало на действия профессиональной преступной группы. Ни взлома, ни оружия, ни поспешного бегства с добычей. Больше всего это походило на авантюрную кражу по наитию. Однако неумелые любители не сработали бы так чисто. Картину не просто сорвали с крепления. Преступник, по всей видимости, воспользовался инструментом – предположительно отверткой, – чтобы снять пластины, крепившие раму к стене. То есть краже предшествовала некоторая подготовка. Но если преступление планировалось заранее, тогда почему никто не потребовал выкуп, как часто бывает в подобных случаях? Хотя и не всегда.
Словом, загадочная история.
Все обратили внимание еще на одно обстоятельство. В день кражи в музее было полно студентов. В Германии, как и во всем мире, у портретируемого, Фрэнсиса Бэкона, было море поклонников. Один из самых ярких представителей художественного авангарда, он со временем превратился в глазах любителей искусства, особенно из поколения молодых, в фигуру почти культовую. Бэкон, вне всякого сомнения, был гораздо более популярен, чем Фрейд, который для большинства немцев, даже интересующихся искусством, оставался по-прежнему неизвестной величиной. Узнаваемым в нем было одно – его фамилия (он приходился внуком Зигмунду Фрейду). Так не логично ли предположить, что портрет Бэкона украл кто-то из студентов, один или с помощью своих приятелей?.. Роберт Хьюз пытался утешить Фрейда тем, что кражу произведения можно трактовать как извращенный комплимент автору: неизвестный злоумышленник должен был просто влюбиться в картину, чтобы рискнуть ее выкрасть! Но Фрейд на это не клюнул. «Да? Вы так думаете? – с сомнением произнес он. – Не уверен, что соглашусь с вами. Я бы скорее предположил, что этот неизвестный без ума от Фрэнсиса».
Тринадцать лет спустя галерея Тейт (которой до кражи принадлежал портрет Бэкона и которая временно предоставила его берлинскому музею) принялась энергично готовить новую большую ретроспективную выставку Фрейда. Художнику было уже семьдесят девять лет. Он работал над портретом английской королевы – размером побольше портрета Бэкона, но не настолько, чтобы не влезть в коробку из-под обуви (там он и хранился в перерывах между сеансами). И одновременно пытался как можно скорее закончить портрет беременной и с каждым днем все больше раздувающейся Кейт Мосс. Тогда же он работал и с другими моделями – назову лишь его сына Фредди, которого он писал обнаженным, стоящим в углу мастерской Фрейда в Холланд-парке; его любовницу, журналистку Эмили Бирн; его помощника по мастерской Дэвида Доусона и симпатичную, но нервную левретку Доусона – Эли. Несмотря на плотный рабочий график, Фрейда не покидало предчувствие, что это будет его последняя большая прижизненная выставка. И естественно, он сам и галерея Тейт хотели наилучшим образом представить его творчество на всех этапах долгого пути в искусстве. Одной из ключевых вещей был портрет Бэкона: Фрейд писал его три месяца подряд в далеком 1952 году, сидя напротив Бэкона буквально колени в колени. Необходимо понимать, что это одна из первых его картин – и на тот момент, несомненно, лучшая, – в которой наряду с ощущением предельной близости художника и модели есть налет безжалостной объективности, а именно сочетание этих качеств и станет со временем характерной приметой его зрелого творчества. Иными словами, портрет – важнейшая веха в карьере художника, незаменимое звено между его ранними, во многом ученическими работами и мощными произведениями более позднего периода.
А что, если через столько лет после кражи снова попытаться вернуть портрет?
Оставалось придумать, как обратиться к общественности. Предприятие было не совсем безнадежное. В процессе подготовки выяснилось, что, согласно германскому закону о сроке давности, виновный в преступлении такого рода не может быть привлечен к уголовной ответственности по истечении двенадцати лет с момента его совершения. Воры могли не бояться наказания, если бы согласились вернуть картину.
Андреа Роуз из Британского Совета и ее муж Уильям Фивер, давний друг Фрейда и куратор предстоящей итоговой выставки, вместе пришли к остроумной идее: напечатать броский плакат под шапкой «Разыскивается». Идея Фрейду понравилась. Он тут же набросал эскиз. В окончательном варианте (ил. 1 в тексте) слово «Разыскивается» было напечатано крупными красными буквами над репродукцией украденного портрета Бэкона, который занял место обычной на таких объявлениях фотографии преступника. Ниже предлагалось щедрое вознаграждение – 300 тысяч немецких марок (около 15 тысяч долларов). Главное, к чему стремился Фрейд, – «сделать объявление предельно лаконичным, как в вестернах. Эти объявления в вестернах мне всегда очень нравились».
В готовом плакате появился еще короткий пояснительный текст на немецком и номер телефона для обращений.
1. Люсьен Фрейд. Разыскивается. Плакат. 2001. Цветная литография. Частная коллекция / © The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images
Репродукция портрета была черно-белой. После пропажи картины Фрейд принципиально не разрешал воспроизводить ее в цвете. «Отчасти, – как он объяснял, – потому, что нет ни одной приличной цветной репродукции, а отчасти в знак траура… Я подумал, что это такой шутливый эквивалент траурной ленте на рукаве. В смысле – портрета больше нет с нами!» Плакат напечатали тиражом две с половиной тысячи экземпляров и расклеили по всему Берлину. Газеты и журналы не остались в стороне и воспроизводили его на своих страницах. Фрейд даже обратился через прессу с личной, совершенно нетипичной для него, исключительно вежливой просьбой: «Не согласится ли тот, кто в настоящее время держит у себя картину, предоставить мне ее на время выставки, которая состоится в следующем июне?»
Плакат, кампания в прессе, вежливая просьба… все было впустую. Ретроспектива в Тейт прошла без портрета. Предприятие провалилось, но у входа в мастерскую Фрейда еще долго красовался плакат с репродукцией. Изо дня в день художник смотрел на него, прежде чем войти и приняться за работу.
Кражи произведений искусства всегда производят убийственное впечатление. Даже если имеются ценные свидетельства, позволяющие потомкам судить об утраченных шедеврах, главное, что остается, и в этом вся суть, – пустота. У каждой великой картины своя аура, и часть этой ауры – неповторимость. В мире только один «Шторм на Галилейском море» Рембрандта. Только один «Концерт» Вермеера. Только один «Тортони» Мане. Все три картины были украдены из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, и сегодня, четверть века спустя, их отсутствие по-прежнему отмечают пустые рамы на музейной стене, как будто в надежде, что аура великих творений каким-то чудом останется здесь, хотя самих картин больше нет.
Если картина к тому же портрет – само собой разумеется, речь идет о хорошем портрете, – то ее аура, ее особливость еще сильнее. Неповторимость образа дополняется, усиливается неповторимостью личности модели. Так что украденный портрет можно считать в некотором роде двойной потерей. И вот пострадавший пытается всеми доступными способами вернуть пропажу, но что, в сущности, ему так хочется вернуть? Картину? Или тех двоих, какими они когда-то были, – портретируемого, разумеется, но еще и самого портретиста?
В своей портретной живописи Люсьен Фрейд всегда стремился трактовать двоякую неповторимость как нечто неразделимое. «Мое понимание портретной живописи, – сказал он однажды, – идет от неудовлетворенности портретами, которые похожи на людей. Я хочу, чтобы мои портреты были людьми, а не просто были похожи на них. Мне нужно не сходство, а человек». Складывается впечатление, что он вознамерился ни больше ни меньше воплотить своим творчеством миф о Пигмалионе – легендарном ваятеле, влюбившемся в статую собственного изготовления.
Но если так, насколько же остро он переживал потерю портрета Бэкона, который, по словам критика Лоренса Гоуинга, обладал «такой сокрушительной магией образа, что ее чарам покоряется сам прототип»?
Фрейд был правдолюб. Он брезговал иллюзиями и не тратил время на сентиментальность. И неоднократно заявлял, что ему совершенно все равно, где находятся его картины. Но в случае с этой картиной ему было далеко не все равно. Причин набралось несколько, и не последняя среди них – вопрос качества. Маленький, с виду вполне традиционный портрет обладал исключительной силой. И Фрейд это знал.
Была и другая причина, более личного свойства (хотя она прямо связана с качеством картины). Какая? В портрете нашли отражение самые важные в его творческой жизни отношения с другим человеком.
В молодости Фрейд был очень живой, импульсивный и непредсказуемый; мало кто мог противиться его обаянию. Благодаря высокому покровительству его семье удалось в 1933 году бежать из гитлеровской Германии. Когда он приехал в Англию, ему было десять лет. По-английски он говорил, но неуверенно и к общению не стремился. Необузданный и скрытный, он любил своевольничать и терпеть не мог, когда ему указывали. Фрейда вместе с братьями отправили в Дартингтон – прогрессивную школу-пансион в Девоне. Уроки там разрешалось посещать по желанию, поэтому Фрейд себя не утруждал. Он пропадал на конюшне, нередко там и спал, вместе с лошадьми. С утра пораньше он садился на одну из самых резвых лошадок и гнал ее во весь опор, чтобы после, когда на ней поедут другие, она была поспокойнее. Много лет спустя он скажет, что первое в жизни чувство влюбленности испытал к тамошнему юному конюху; его детские блокноты заполнены рисунками лошадей и мальчиков, сидящих на лошадях, целующих лошадей в морду и разве что на лошадей не молящихся.
Порывистому, юркому мальчишке, который привык поступать по наитию и понятия не имел о благовоспитанности, животные были милее и ближе людей. В 1938 году Фрейда исключили из Брайанстона – другой школы, в Дорсете (всего лишь четырьмя годами раньше там действовал молодежный лагерь дружбы между английскими бойскаутами и немецкими подростками из гитлерюгенда), – за то, что он посреди улицы в Бурнемауте спустил штаны и показал прохожим голый зад. Правда, он любил рисовать. В шестнадцать лет родители отдали его в Центральную художественную школу (приемная комиссия одобрила его работу – вырезанную из песчаника статуэтку трехногой лошади), но требования и строгости этого заведения ему быстро надоели и через два-три семестра он учебу забросил. Его рисунки той поры по-детски неумелы и сумбурны, с силой вдавленные линии разбегаются по листу бумаги, как трещины по тонкому льду. Только в 1939 году он оказался наконец в окружении, которое пришлось ему по душе: он поступил в Школу живописи и рисования в Дедхеме, в графстве Эссекс, которой руководили Седрик Моррис и Артур Летт-Хейнс; обстановка там была скорее дружеская, неформальная. Живописная манера Морриса – энергичная, без прикрас, с каким-то даже тщеславным презрением к виртуозности – оказала на Фрейда сильнейшее влияние.
У Фрейда было два брата, но он был мамин любимчик, и, конечно, знал это. Все его поведение, и в юности, и потом, – его гонор и уверенность в своей безнаказанности, а наряду с этим приливы нежности и неожиданные проявления чуткости – поведение сына, выросшего под крылом обожающей матери. «Мне нравится анархическая идея человека из ниоткуда, – признался он однажды. – Но, я подозреваю, это потому, что у меня было безоблачное детство».
На всех, кто его тогда знал, молодой Фрейд производил незабываемое впечатление. Родство с основателем психоанализа определенно содействовало его популярности, особенно в период расцвета сюрреализма (сюрреализм и вырос из учения Зигмунда Фрейда о бессознательном). Однако привлекал он отнюдь не светскостью и уж подавно не интеллектуальностью: в нем было что-то завораживающее. Лоренс Гоуинг разглядел в нем «неусыпную бдительность свернувшейся в кольцо змеи; внезапность, которая грозит зазевавшемуся ядовитым укусом». Джон Ричардсон, историк искусства и впоследствии биограф Пикассо, однажды с интересом наблюдал за недовольством Фрейда, когда его нарочитое оригинальничанье вызвало нелестную реакцию. А вот Джон Рассел сравнивал его с юным Тадзио, сводившим с ума героя новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции»: «Великолепный юноша, само появление которого не только возвещает Творчество, но, кажется, способно остановить чуму… Ему все подвластно».
Еще подростком Фрейд познакомился с поэтом Стивеном Спендером через своего приятеля (и любовника Спендера) Тони Хиндмена. В 1936 году Спендер вдруг взял и женился на Инес Пирн. Хиндмен записался в Интернациональные бригады и уехал сражаться в Испанию. Спендер последовал за ним – спасать от обвинения в дезертирстве (Хиндмену грозила смертная казнь). Друга он спас, но свой брак погубил. В начале следующего, 1940 года Спендер по приглашению Фрейда приехал на север Уэльса, где сам Фрейд и его товарищ по художественной школе Дэвид Кентиш сняли на зиму стоявший на отшибе маленький шахтерский дом в Кейпел-Кериг; там они рисовали и писали этюды. Оба раньше учились у Спендера в Брайанстоне. Спендер только что опубликовал роман «Отсталый сын» (The Backward Son) и вместе с Сирилом Коннолли и Питером Уотсоном готовился открыть литературный журнал «Горизонт» (Horizon). У него был с собой издательский макет, так называемая кукла, с пустыми страницами, и Фрейд день за днем, устроившись под лампой, заполнял его смешными рисунками в том «озорном, хулиганском» духе, который восхищал Спендера в У. Х. Одене, а Фрейда – в Спендере. «Он целый день рисует, а я пишу, – сообщал Спендер в письме. – После знакомства в Оксфорде с Оденом я не встречал человека умнее Люсьена. Внешне он похож на Гарпо Маркса и удивительно талантлив – и все понимает, мне кажется».
Рисунки в издательской кукле пестрят рискованными шутками и двусмысленными намеками, и под стать им тональность переписки между Фрейдом и Спендером, относящейся примерно к тому же времени, которая всплыла только в 2015 году. Письма наводят на мысль, что Фрейда связывали с поэтом сексуальные отношения, хотя тот и был в два раза старше (Фрейд подписывал письма скабрезными псевдонимами, вроде Lucianos Fruititas и Lucio Fruit), хотя, возможно, дело ограничилось флиртом.
Кроме шутливых рисунков, Фрейд той зимой сделал несколько портретов и автопортретов. Весной его автопортрет напечатали в одном из первых выпусков «Горизонта» – в том же номере, где опубликована статья художественного критика Клемента Гринберга «Авангард и китч».
Фрейд был женат дважды – оба раза в возрасте до тридцати. Но за свою жизнь он стал отцом тринадцати или больше детей, а любовных связей у него было столько, что никакому дотошному биографу не под силу их сосчитать. При этом в канун своего восьмидесятилетия Фрейд уверял, что влюблялся всего раза два или три. «Я не говорю о привычном или истеричном, – пояснил он. – Я говорю о настоящей, полной, абсолютной заинтересованности, когда все, что связано с другим человеком, тебя волнует, тревожит или радует».
Возникает законный вопрос: кто же эти два-три предмета большого чувства? Трудно сказать. Но первое серьезное увлечение Фрейда («первая, кто меня зацепила», как он позднее сформулирует) – Лорна Уишарт, богатая, искрометная, обольстительная. Пегги Гуггенхайм говорила о ней: «…красавица, каких не видел свет». При этом Лорна была на одиннадцать лет старше Фрейда, мать троих детей. Вспоминая ту давнюю историю, Фрейд заметил, что Лорна всем нравилась. «Даже моей маме», – добавил он.
Замуж за издателя Эрнеста Уишарта Лорна вышла, когда ей было всего шестнадцать. От мужа она родила двоих детей; один из них, появившийся на свет в 1928 году, – художник Майкл Уишарт. Отцом третьего ребенка, девочки по имени Ясмин, был поэт Лори Ли – с ним у Лорны был длительный роман еще до встречи с Фрейдом, в конце 1930-х – начале 1940-х. Во время Гражданской войны в Испании Ли уехал сражаться на стороне республиканцев, и Лорна, по слухам, посылала ему однофунтовые банкноты, предварительно обмакнув их в «Шанель № 5». Майкл хорошо помнил, как мать заглядывала к нему в комнату сказать «спокойной ночи» – чаще всего одетая в облегающее, с блестками платье для танцев. Ясмин говорила о матери, что та была женщина, в сущности, «аморальная, чего уж там, но ей все прощали, потому что она кого хочешь могла расшевелить».
В 1944 году Фрейд занял место Ли подле Лорны. Ему всего двадцать один, ей немного за тридцать. Эта связь перевернула жизнь молодого художника. Лорна была не просто старше и опытнее, она была необузданной, романтичной, непредсказуемой – о такой спутнице пылкий юноша может только мечтать. Позже Ясмин так и напишет: ее мать была «мечтой всякого мужчины творческого склада, потому что давала ему стимул. Она прирожденная муза, источник вдохновения».
В 1945 году Фрейд написал два портрета Лорны – один с нарциссом, другой с тюльпаном. В лавке таксидермиста на Пикадилли она купила Фрейду голову зебры, которая стала для него чем-то вроде талисмана. Он называл эту зебру своим сокровищем и запечатлел ее в картине, которую Лорна сразу же купила на его самой первой выставке. Картина представляла собой затейливую сюрреалистическую композицию: потертый диван, цилиндр, пальма и голова зебры (черные полосы поменяли цвет на красный), торчащая из проема в стене.
Но вскоре Лорна узнала, что Фрейд завел интрижку с молоденькой актрисой. Она немедленно с ним порвала, и, несмотря на все его усилия вернуть ее – от угрозы устроить пальбу под окном, если она к нему не выйдет (в конце концов он таки выстрелил), до трогательного подарка (белый котенок в коричневом бумажном пакете), – он остался ни с чем.
О Фрэнсисе Бэконе Фрейд узнал от художника старшего поколения Грэма Сазерленда. Дело было в 1945 году. Фрейд жил тогда в идущем на снос здании в Паддингтоне. «Иногда я (садился в поезд и) ездил повидаться с ним [Сазерлендом] в Кент, – рассказывал Фрейд в 2006 году. – Я был молодой и нахальный, поэтому без тени смущения спросил его: „Кто, по-вашему, сейчас лучший художник в Англии?“ – хотя мог бы сообразить, что лучшим он, конечно, считает себя, и не только он, если на то пошло. А он мне ответил: „Ты о нем наверняка даже не слышал. Совершенно уникальный тип. В основном играет в Монте-Карло, потом вдруг возвращается. Если пишет картину, то, как правило, сам же ее уничтожает“ – и все в таком духе. Меня этот тип заинтересовал. И я написал ему, а может, просто к нему нагрянул, так вот с ним и познакомился».
Сазерленд не ошибся в оценке. Бэкон, которому пошел четвертый десяток, был на подъеме. Возможно, он мучительно сомневался в себе, если верить тому, что он сам впоследствии говорил об этой поре своей жизни. Но он писал картины, которые уже выделяли его из общей массы, – тревожные и тревожащие полотна. Иные прозорливые зрители усматривали в их зловещих образах отдаленное подобие шевелящейся, пробуждающейся от спячки рептилии.
По словам биографа Фрейда Уильяма Фивера, художники могли познакомиться, заранее сговорившись о встрече, на лондонском вокзале Виктория, где вместе сели в поезд и поехали на уик-энд к Сазерлендам. Представляю себе эту поездку! Они друг друга стоили – и тот и другой редкие, экзотические птицы. Фрейд, с его молниеносной реакцией, своенравными замашками, обескураживающей смесью застенчивости и позерства. И Бэкон – озорной, ироничный; даже когда он, не церемонясь, говорит грубости, это тоже непостижимым образом работает на его обаяние, устоять перед которым невозможно. Война еще не окончена. За их встречей по-отечески, по-эдиповски присматривает Сазерленд; у него двойная задача – вовремя ободрить и вовремя одернуть.
Оба молодых человека хороши собой: у Бэкона лицо широкое, но интересное, располагающее; у Фрейда лицо у́же, черты острее, нос орлиный, рот аккуратный, а волосы вечно всклокочены. И четыре невероятных глаза – об этом говорят и пишут абсолютно все. Фрейд к этому времени уже пользовался определенной известностью в кругу старших по возрасту поэтов, писателей и художников гомосексуального склада, включая Спендера и Уотсона, Седрика Морриса и Артура Летт-Хейнса (оба, напомню, его наставники в художественной школе в Дедхеме, в Восточной Англии). Все перечисленные и иже с ними сыграли ведущую роль в поддержке не вписывавшихся в академическую систему молодых талантов в военные и послевоенные годы. Ко всей этой гомо- и бисексуальной братии – назовем еще Уишарта, Джона Минтона, Сесила Битона и Ричардсона – Фрейд относился с большим теплом, любопытством и сочувствием.
Так, может быть, здесь не обошлось без сексуального интереса? Как складывалась их беседа? Наверное, каждый прощупывал почву и не спешил раскрываться, сразу почуяв в другом соперника? Или все происходило легко и невинно в свете совместной поездки, задуманной, в сущности, шутки ради. Ответов на эти вопросы мы уже не получим. Оба мертвы. Какая непростительная ошибка, скажет кто-то, надо было вовремя спрашивать – спрашивать и спрашивать. Но, судя по всему, спрашивать было бы едва ли не большей ошибкой. Ведь, если разобраться, во многом именно невозможность наверняка, доподлинно знать характер, мотив, чувство или социальный статус – то есть все те характеристики, на которых веками зиждилась портретная живопись, – вскоре после этой встречи станет для обоих художников непреложным условием творчества.
Так или иначе, каждый увидел в другом что-то – что-то невероятно подкупающее. Три десятилетия спустя они прекратят всякое общение. Но тогда они и дня не могли прожить друг без друга.
Через два года после разрыва с Фрейдом великодушная Лорна представила его своей племяннице Китти, дочери скульптора Джейкоба Эпстайна. У Китти были теткины огромные глаза, но не было ее уверенности и прыти. Застенчивость Китти импонировала Фрейду, который и сам иногда прятался в раковину. У них завязался роман, в 1948 году они поженились, и в том же году родился их первый ребенок, девочка Анни. Они жили в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд, у западной границы Риджентс-парка, в получасе ходьбы от холостяцкой квартиры Фрейда на Деламер-террас, в квартале Маленькая Венеция, где теперь была его мастерская.
Возможность находиться то тут, то там облегчала Фрейду плетение сложных любовных узоров, вкус к которым он чем дальше, тем больше в себе ощущал. Несмотря на брак с Китти, он завел длительный, хотя и с перерывами, роман с художницей Энн Данн, дочерью канадского сталелитейного магната Джеймса Данна. Она позировала Фрейду для портрета в 1950 году, когда уже вовсю шла подготовка к ее свадьбе с Майклом Уишартом, сыном Лорны. Свадебный пир, продолжавшийся два дня и три ночи, запомнился участникам как «первый после войны настоящий большой прием» (Дэвид Теннант). Уишарт, жених, в то время принимал опиум. В своих мемуарах («Нырнуть в высоту» – High Diver) он оставил описание зала, где праздновалась свадьба: «много места… мало мебели… веселенький ситчик… бархатные диваны и кушетки». Там царил «дух былого великолепия с привкусом ностальгии по невозвратной эдвардианской элегантности».
Джону Ричардсону эта свадьба запомнилась как «решительный выход из тени новой разновидности богемы». Среди гостей, по его словам, были «члены парламента и оксфордские профессора, а наряду с ними „профессионалки“, „дебютантки“ и трансвеститы». Уишарт хвастался: «…купили две сотни бутылок „Боленже“ для двухсот приглашенных, но этого оказалось мало, и пришлось посылать за новой партией, потому что набежала толпа незваных гостей… Я взял напрокат сотню „золотых“ стульев и пианино. Мы танцевали три ночи и два дня».
С этой свадьбой для Фрейда все окончательно, дьявольски запуталось. Не только потому, что жених был Лорнин сын, а сам он был женат на Лорниной племяннице Китти, одновременно поддерживая интимные отношения с невестой Энн Данн, но и потому, что Фрейд и Майкл Уишарт, когда-то, в ранней молодости, живя в одной комнате сначала в Лондоне, а потом, после войны, в Париже, друг с другом тоже согрешили. В столь необычных обстоятельствах, имея за плечами сексуальную связь и с невестой, и с женихом, и с матерью жениха, Фрейд, вероятно, рассудил, что правильнее всего ему на этот праздник не являться. Если верить Данн, в нем говорила ревность – не только к ней самой. Так или иначе, он поручил Китти быть его глазами и ушами, и, пока продолжалось веселье, она послушно докладывала ему по телефону о ходе событий.
Эта знаменитая свадьба 1950 года отмечалась в доме, где жил Бэкон. Жил (еще одна невообразимая комбинация!) со своим любовником Эриком Холлом, господином средних лет, и с Джесси Лайтфут, пожилой женщиной, которая когда-то была няней Фрэнсиса. Квартира находилась на первом этаже дома на Кромвель-плейс, в Южном Кенсингтоне, который раньше принадлежал знаменитому художнику Джону Эверетту Миллесу. В задней части квартиры, в просторном помещении бывшей бильярдной, Бэкон устроил мастерскую. До него квартиру снимал фотограф Э. О. Хоппе, который использовал бильярдную под фотоателье. Эмигрант из Мюнхена, завоевавший репутацию лучшего фотопортретиста в Лондоне Эдвардианской эпохи, Хоппе стал связующим звеном между «живописной», предпочитающей мягкий фокус старой фотографией и жесткими, резко сфокусированными фотопортретами эпохи модернизма. Хоппе подвизался и как театральный художник. После него остались разные аксессуары – занавеси, непроницаемо-черная накидка, которой фотограф накрывал себя вместе с аппаратом, и широкий помост, – словом, все, что Хоппе использовал для создания изысканно-лестных портретов светских красавиц и сильных мира сего, теперь оказалось в распоряжении Бэкона и перекочевало в портреты совсем иного стиля.
В этой мастерской Фрейд впервые увидел живопись Бэкона, а точнее – недавно законченную работу, которая так и называлась: «Живопись» (цв. ил. 9). Даже спустя полвека Фрейд не забыл своего тогдашнего впечатления от картины: «Та, совершенно бесподобная, с зонтом».
И действительно, на тот момент это самое блестящее достижение Бэкона. В комнате цвета сосисочного фарша, с опущенными лиловыми шторами, человек во всем черном сидит на фоне освежеванной туши в черной как ночь тени зонта. Лица не видно, из тени выступают только подбородок и рот – открытый рот с рядом нижних зубов, и вместо верхней губы кровавое месиво. Хотя краска наложена свободными широкими мазками, композиция изобилует деталями: желтый цветок у мужчины в петлице, под белым воротничком; восточный ковер у него под ногами, написанный с размашистым шиком, в небрежно пуантилистской манере; полукруглое ограждение, внутри которого заключено пространство наподобие цирковой арены (этот прием Бэкон, любитель театральных эффектов, в последующие десятилетия будет эксплуатировать снова и снова).
Этой картины Фрейд никогда не забудет.
Детство Бэкона ничем не напоминало детство Фрейда. Он родился в Дублине, вторым из пяти детей в семье. Впрочем, как и у Фрейда, у него в роду имелся знаменитый предок – лорд-канцлер и философ Елизаветинской эпохи, в честь которого Бэкона и назвали. Его отец, отставной армейский капитан, в составе Даремского пехотного полка принимал участие в последних сражениях Бурской войны. Он провел в действующей армии четыре месяца и был награжден медалью участника. В отставку он подал незадолго до женитьбы на Уинни Ферт, из семьи богатых шеффилдских сталепромышленников; сам он до конца жизни именовал себя «капитан Бэкон». Человеком он слыл неприятным и вздорным, образ жизни вел скорее пуританский. Спиртного в доме не держали, но капитан позволял себе играть на скачках – без особого успеха. Семья была вышколена на армейский манер.
В детстве Фрэнсис подолгу жил в графстве Лейиш, в Ирландии, у бабушки со стороны матери. Но когда оказывался дома, его всякий раз – несмотря на тяжелую хроническую астму – заставляли ездить верхом на пони. Одной поездки хватало, чтобы он на несколько дней слег в постель с приступами удушья. Вознамерившись «сделать мужчину» из своего больного сына, капитан Бэкон регулярно приказывал конюхам «учить» его плеткой. А сам смотрел – если верить Бэкону. (Об этом периоде его жизни мы знаем почти исключительно со слов самого Бэкона, который любил сгустить краски, иногда, возможно, жертвуя правдой.) Несмотря на это, Бэкон ходил за конюхами по пятам («мне просто нравилось отираться возле них») и в конце концов с их помощью приобрел свой первый сексуальный опыт.
Накануне пятнадцатилетия Бэкона отправили на два года в школу-пансион в Челтнеме. Примерно к этому времени он полюбил наряжаться в женское платье. Через год-другой отец застал сынка перед зеркалом – тот примерял материно нижнее белье. Отец пришел в бешенство и вышвырнул его из дома. Униженный, отлученный от семьи, сам себя не понимавший (позже он будет утверждать, что испытывал сексуальное влечение к папаше – да, и к нему тоже), Бэкон подался в Лондон. В конце концов его определили на житье к взрослому кузену, который взял его с собой в Берлин. Новый опекун – заводчик чистокровных скаковых, как и отец Бэкона, – получил наказ быть с мальчишкой построже. Но кузен оказался бисексуалом и к тому же (как доверительно сообщил Бэкон Джону Ричардсону) «страшным развратником».
После Берлина Бэкон, которому не исполнилось еще двадцати, провел полтора года в Париже, там-то он впервые и увлекся искусством. Он смотрел кинокартины и ходил по художественным выставкам. Одна особенно поразила его воображение – в галерее Поля Розенберга были выставлены неоклассические, вдохновленные Энгром рисунки Пикассо. Он немедленно подпал под чары многоликого испанского Протея – единственного, по словам Ричардсона, современного художника, чье влияние он признавал.
Вернувшись в 1928 году в Лондон, Бэкон ненадолго заделался художником-декоратором – разрабатывал мебель и ковры в модернистском стиле. С ним вместе жила его старая няня Джесси Лайтфут, которая значила для него много больше живущей вдали матери. Единственная постоянная величина в его жизни, няня Лайтфут всегда и во всем его поддерживала. Днем она обычно сидела с вязаньем в дальнем уголке мастерской, а ночью спала чуть ли не на кухонном столе. Старушка почти ослепла. И все же она в каком-то смысле присматривала за Бэконом, помогала ему готовить. Регулярного дохода у них не было, и няня Лайтфут при случае не гнушалась мелким воровством, правда чаще она просто «прикрывала» Бэкона, когда тот выходил на рискованную «охоту». Еще она помогала ему устраивать домашнюю рулетку, что было, конечно же, противозаконно. Выручка не всегда покрывала расходы на обильное угощение, но игра тем не менее стоила свеч: неотлучно дежуря у входа в единственный туалет, няня Лайтфут получала от упившихся гостей щедрые чаевые.
В амурной жизни Бэкона она также выполняла роль строгого привратника. Под псевдонимом Фрэнсис Лайтфут в колонке частных объявлений газеты «Таймс» (в те времена их печатали на первой полосе) Бэкон предлагал свои услуги джентльменам в качестве «компаньона». Откликов было хоть отбавляй, по свидетельству биографа Бэкона Майкла Пеппиатта. Кандидатов рассматривала и отбирала няня Лайтфут, руководствуясь прежде всего финансовыми критериями.
Среди откликнувшихся джентльменов был Эрик Холл – «очень серьезный и очень красивый», по воспоминаниям Бэкона. Влиятельный бизнесмен с замашками эпикурейца, Холл занимал разные почетные должности – мирового судьи, члена местного городского совета, председателя правления Лондонского симфонического оркестра. Человек он был семейный, но, пожив несколько лет на два дома – то с семьей, то с Бэконом и его няней, – решил обосноваться у них более прочно.
Еще в 1933 году Бэкон написал картину «Распятие», по мотивам «Трех танцовщиц» Пикассо (1925). Приняли ее прохладно, и затем почти десять лет он возвращался к живописи лишь от случая к случаю, экспериментируя с сюрреализмом, постимпрессионизмом и кубизмом. Перед войной Бэкона признали негодным к службе, но он пошел добровольцем в отряд противовоздушной обороны. Однако оттуда его тоже списали: во время очередной бомбежки Лондона Бэкона накрыло облаком пыли, и у него начался тяжелый астматический приступ. Холл увез его на время за город, в Хэмпшир, и там, в сельском доме, он работал над картиной, толчком для которой послужила фотография выходящего из машины Гитлера во время одного их нацистских сборищ. Эта работа не сохранилась, но сам принцип – некий знаменательный образ, навеянный фотографией, – открывал широкие возможности.
В 1943 году Холл арендовал квартиру на первом этаже в доме на Кромвель-плейс. Там Фрейд и увидел «Живопись» Бэкона.
Начиная с 1945 года Фрейд частенько наведывался в мастерскую на Кромвель-плейс и регулярно сталкивался с Бэконом в Сохо. Когда они познакомились, Фрейду было двадцать два, Бэкону тридцать пять. Теперь он отдавался живописи с бешеной энергией, и то, что происходило в его мастерской, ошеломило Фрейда. Бэкон бесцеремонно выдергивал британский модернизм из благодушного, литературного, неоромантического прошлого и приводил его в соответствие с новой действительностью – с миром, изувеченным войной, опустошенным, разуверившимся.
Должно быть, немало изумлен был и Бэкон. Он уже добился какого-то внимания в довольно узких и провинциальных британских артистических кругах, но потрясения пока что никто не испытывал. Только в 1944-м, за год до знакомства с Фрейдом, ему удалось нащупать нечто новое, необычное, выбивающее из равновесия – в триптихе, названном «Три этюда для фигур у распятия». Упомянутые в названии фигуры – какие-то жуткие, горбатые, безволосые формы: пасти разинуты, глаза завязаны или вовсе отсутствуют, шеи безобразно вытянуты, ноги как палки. Зрители получили возможность увидеть их в следующем году на групповой выставке в лондонской галерее Лефевр – той самой, которая годом ранее устроила первую персональную выставку Фрейда.
Своеобразие Бэкона отчасти в том, что в его фантазии преломились не только очевидные всем модернистские эталоны, импортированные из континентальной Европы, но и совершенно новый строй образов, рожденный фотографией и кинематографом. С тех пор как он посмотрел в Берлине «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна и «Метрополис» Фрица Ланга и увидел хронофотографии Эдварда Майбриджа – пофазовые снимки движущихся людей и животных, ему не давала покоя специфика фиксации жизни с помощью новой техники, сочетание скорости и дробности, а главное – возникающее в связи с этим ощущение утраты, разъединенности и смерти. Многое в его экспериментах оказывалось холостым выстрелом, выходило неуклюже, надуманно или было откровенно плохо скомпоновано, и такие неудачные пробы Бэкон безжалостно уничтожал. Но по крайней мере никто не дышал ему в затылок.
Фрейд не мог опомниться от увиденного. И сам подход Бэкона к творчеству, и буйство его фантазии – все было внове для Фрейда. «Иногда, – рассказывал он, – я заходил к Фрэнсису днем после обеда, и он говорил: „Сегодня сделал потрясную вещь – нет, правда“. И действительно сделал, от начала до конца, за один неполный день! Поразительно… Иногда он мог полоснуть картину ножом. Или вдруг скажет: все, хватит, это никуда не годится, – и просто все уничтожит».
По словам Бэкона, картина «Живопись» – это «ряд событий, которые громоздятся одно на другом». «В моем случае если что-то когда-то и получается, – сказал он в другой раз, – то получается начиная с той минуты, когда я перестаю осознавать, что делаю».
Нетрудно представить, какое электризующее действие такие речи производили на Фрейда. Его собственное творчество, при всей его угловатой прелести, все еще сильно отдавало ученичеством. Это были портреты и натюрморты или комбинации того и другого. «Колючие» штудии асимметричных объектов, будь то люди или животные, растения или неодушевленные предметы – все, на что он обратил свой дотошный, придирчивый взгляд. В рисунке еще больше, чем раньше, проступала скрупулезность и стилизация. Веселая подростковая разбросанность и беспардонность вступила в фазу обуздания. В последнее время он пристрастился к перекрестной штриховке и так называемой пунктирной манере – и то и другое заимствовано из арсенала технических приемов гравировки. Его линия теперь классически спокойна и в плане ассоциаций отсылает скорее к веку девятнадцатому, к Энгру, а пристальное внимание к складкам и узорам одежды только усиливает это впечатление. Еще он играл с необычными световыми эффектами, старательно воспроизводя, например, каждую крошечную по́ру на кожуре подсвеченного сзади неспелого мандарина. Он рисовал молодых людей в щегольских пиджаках, с шарфами или галстуками – непременно с огромными, влажными глазами. В волосах он прорисовывал каждую прядь. Самая впечатляющая его картина той поры – натюрморт, мертвая птица: на плоской поверхности лежит цапля с растопыренными крыльями, каждое перышко на ее спутанном оперении – своего особого оттенка серого.
А тут Бэкон с его рискованными творческими эскападами, с его бравурной театральностью! С полным отсутствием сантиментов по поводу собственных усилий. Мог ли Фрейд устоять? «Я сразу понял, – скажет Фрейд много лет спустя, – что его творчество напрямую связано с тем, как он воспринимает жизнь. Мое же, наоборот, показалось мне ужасно вымученным. Потому что мне и правда все давалось с мучительным трудом… А Фрэнсису придет в голову какая-то идея, он ее сразу воплощает, не понравилось – выбросил и быстро сделал заново. Его подход к делу, вот что меня подкупало. Ему было совсем не жаль усилий».
Другое важное качество Бэкона – его инстинктивная любовь к масляной живописи. Он писал так легко и быстро, что Фрейду, на тогдашней стадии его живописного мастерства, подобное не могло и присниться, сам он умел только методично заполнять краской участки, ограниченные контурами рисунка. В манере Бэкона было что-то импульсивное, эротичное. И конечно, его целеустремленность тоже бросалась в глаза. «Он был невероятно дисциплинирован», – вспоминал Фрейд. Да, он мог целыми днями, а иногда и неделями бездумно наслаждаться жизнью. Но когда нужно было творить – как правило, перед открытием выставки, – он запирался в мастерской и работал без отдыха.
Все это, несомненно, производило впечатление, и Фрейд был заворожен не только творчеством Бэкона, но и его удивительным отношением к жизни. Экспансивность, широта, умение найти с людьми общий язык и не растеряться в любых обстоятельствах – все это стало для Фрейда полнейшим откровением. «Его творчество меня впечатлило, – признавался он, – но покорила меня его личность».
На вопрос, какое же впечатление произвел на него Бэкон, когда они познакомились, Фрейд ответил с раскатисто-гортанным немецким «р» (родимое пятно берлинского детства): «Роскошное, просто роскошное! Приведу вам один простой пример. По молодости лет я то и дело ввязывался в драки. Не потому, что я драчун, просто, когда меня задирали, я не понимал, как еще реагировать – только врезать. Если рядом был Фрэнсис, он говорил: „Тебе не кажется, что лучше было бы попробовать им понравиться?“ И я думал: ну надо же!.. Раньше я никогда особо не задумывался о своем „поведении“. В голове как-то само собой возникало, что́ я хочу сделать, и я это делал. Довольно часто мне хотелось кого-то ударить. Фрэнсис меня не поучал, этого и в помине не было. Но, вероятно, подразумевалось, что, если ты взрослый человек, вроде как распускать руки некрасиво? Наверное, есть другой способ решить проблему».
К 1950 году Фрейд и Бэкон были уже близкими друзьями. Но у Фрейда были и другие друзья-художники, во многих отношениях не менее важные для него, – например, Франк Ауэрбах, который до конца оставался самым близким из старых друзей, самым верным его конфидентом. После военных лишений люди с удвоенной энергией возвращались к жизни, повсюду царил дух вседозволенности. «Атмосфера в полуразрушенном Лондоне была, если можно так выразиться, сексуальной, – вспоминал Ауэрбах. – Всеми овладело странное чувство свободы, потому что каждый, кто жил тогда, так или иначе избежал смерти». (Ауэрбах, как и Фрейд, родился в Берлине, но ему повезло меньше: его родители погибли в концентрационном лагере в 1942 году, через три года после того, как отправили сына в Англию.) По вечерам все встречались в Сохо, не столько намеренно, сколько случайно, – все ходили в одни и те же места. Бэкон облюбовал ресторан «Уилерс». Другим популярным местом был клуб «Горгулья», располагавшийся под крышей на углу улиц Дин и Мирд: танцевальный зал, гостиная и кофейный салон – здесь витал дух (по свидетельству очевидца Дэвида Льюка) «тайны и томного эротизма». К оформлению некоторых интерьеров приложил руку Анри Матисс, другие были решены в мавританском стиле – стены там были выложены зеркальными осколками. Напротив «Горгульи» на той же Дин-стрит располагалась «Колони Рум», или «У Мьюриэл» (по имени хозяйки Мьюриэл Белчер), – комнатушка на верхней площадке убогой лестницы, где, по словам приятеля Бэкона Дэниэла Фарсона, «вы не бог весть что получали за десятку, зато могли даром получить все, о чем можно мечтать». В этих местах мужчины и женщины в перерывах между игрой в покер или рулетку пили, говорили и танцевали. О живописи разговор заходил нечасто.
Фрейд редко засиживался в увеселительных заведениях допоздна: он любил работать ночами и всегда назначал для позирования вечерние часы. Бэкон возвращаться домой не спешил, являлся иногда только под утро. Он работал как кутил – взахлеб, в отличие от более систематичного Фрейда.
Фрейд диву давался, как Бэкон умеет всех вовлечь в свою орбиту, всех очаровать, – обаяние извергалось из него, точно лава из вулкана, и изливалось на всех без разбору. В каком бы обществе Бэкон ни оказался, он, по воспоминаниям Фрейда, «мог разговорить кого угодно, на самые невообразимые темы. Вот он подходит к незнакомому человеку – скажем, к типичному бизнесмену в деловом костюме – и ни с того ни с сего заявляет: „Не надоело вам быть таким важным и благовоспитанным? В конце концов, мы живем только раз, и запретных тем у нас быть не должно. Ну же, расскажите мне о своих сексуальных предпочтениях!“ И довольно часто человек шел с нами обедать, и тут уж Фрэнку ничего не стоило его очаровать, и напоить, и в чем-то даже немного изменить его жизнь. Да, конечно, нельзя вытащить из людей то, чего в них нет, – но я был потрясен, сколько в них есть!» Фрейд держался совершенно иначе. У него был дар говорить по душам и откалывать номера. Но он далеко не был таким экстравертом, как Бэкон, и никогда не раскрывался до конца.
Фрейду импонировала язвительность Бэкона, его безоглядные и часто уморительно смешные выпады, полные желчи и яда. Много позже он назовет Бэкона «мудрейшим и дичайшим» из всех известных ему людей. Оба определения не случайны и выражают безмерное восхищение. Но прозвучат они спустя десятилетия, когда Бэкона давно уже не будет на свете. На первых же порах их знакомства восхищение Фрейда было не дистанционно-почтительным, а непосредственным, живым, сиюминутным. Оно было сложным.
Как и следовало ожидать, их дружба вызвала ревность Эрика Холла, который возненавидел Фрейда, – вероятно, как пояснил Фрейд в беседе со мной, «он считал, ошибочно, что у Фрэнсиса со мной какие-то там отношения».
Энн Данн уверяла: Фрейд «был от Бэкона без ума, сделал из него кумира, хотя я не думаю, что между ними что-то было». Бесспорным представляется одно: их отношения были асимметричными. Фрейд был по-своему привлекателен для Бэкона, хотя бы своими проницательными суждениями об искусстве; Бэкон настолько проникся его речами, что даже пытался ему подражать. Кроме того, Бэкон не слишком уверенно чувствовал себя в рисунке и был не прочь перенять полезные навыки у своего молодого друга. Не зря Фивер говорил, что Фрейд «интереснее и умнее среднестатистических обожателей Бэкона». Но к его творчеству Бэкон оставался (по мнению Фрейда) равнодушен. (На вопрос, был ли его интерес к творчеству Бэкона взаимным, Фрейд ответил: «Мне казалось, что ему совершенно все равно. Но точно я не знаю».) Фрейд же, вопреки своему обыкновению, оказался полностью во власти другого человека.
Всякое влияние эротично. Фрейд был молод и подвержен влиянию – открыт для соблазна. И все-таки, возводя Бэкона на пьедестал, он со временем стал замечать в себе признаки внутреннего сопротивления, борьбы за верность собственному курсу в искусстве. У него все больше раскрывались глаза на то, что их разделяло, – на различия, скорее всего непреодолимые, в темпераменте, таланте и восприимчивости. Двойственность его тогдашних реакций – опасливая настороженность, с одной стороны, и нервическая восторженность, с другой, – ощутима в его словах, сказанных несколько десятилетий спустя: Бэкон «рассуждал о том, как много всего можно вложить в одно-единственное движение кистью, и я слушал его раскрыв рот, но про себя-то знал: мне до этого как до луны, нечего и пытаться».
В их отношениях был еще один осложняющий фактор. Фрейд долгое время пользовался щедростью Бэкона. Время от времени Бэкон протягивал ему пачку банкнот и говорил что-нибудь вроде: «У меня этого добра хватает, а тебе, я думаю, может пригодиться».
«В моем положении это в корне меняло ситуацию месяца на три», – признавался Фрейд.
Давление, которое Фрейд испытывал в те годы, нетрудно представить и невозможно измерить. Он сознавал, что в художественном отношении Бэкон его опережает. Но сказать, что сам он к этому времени не добился никакого успеха, тоже нельзя. По некоторым параметрам он Бэкона обошел. Он первый из них двоих стал выставлять в Лондоне свои работы. И хотя за пределами узкого круга сочувствующих его не знали, не так уж мало людей – причем влиятельных – внимательно за ним следили. Пегги Гуггенхайм, которой суждено будет открыть миру Джексона Поллока, еще в 1938 году включила несколько ранних рисунков Фрейда (по настоянию его матери, как уверяет Фивер) в выставку детского творчества, проходившую в ее лондонской галерее. Постоянный интерес к его работе проявлял выдающийся историк искусства, директор лондонской Национальной галереи Кеннет Кларк, а это много о чем говорит.
Отдельного упоминания заслуживает Питер Уотсон, пресыщенный роскошной жизнью наследник маргариновой империи и видный коллекционер современного европейского искусства. У Уотсона, по словам известного острослова, было «лицо лягушки, когда она превращается в прекрасного принца». Еще у него была слабость к молодым красивым мужчинам. Одевался он в шикарные двубортные костюмы. Один из богатейших людей Англии, Уотсон не переносил претенциозность и показуху. Души в нем не чаявший Сирил Коннолли говорил, что это «самый умный, щедрый и скромный из покровителей искусства, самый творчески одаренный из знатоков». Как свидетельствует Майкл Уишарт, от скуки Уотсон спасался тем, что окружал себя молодежью. Благодаря усилиям Уотсона, в период вынужденной изоляции военных лет кружок его британских подопечных не утратил связи с современным искусством Европы и Америки. И этот человек поддерживал и пестовал молодого Фрейда.
Юный Фрейд, которому не исполнилось еще двадцати, часами пропадал в квартире Уотсона на Палас-Гейт, в окружении картин из его коллекции – Клее, де Кирико, Грис… Пуссен. Уотсон снабжал его книгами. С томом фотографий египетских древностей, «Geschichte Aegyptens», Фрейд не расставался до конца жизни. «Это была его заветная книга, его пособие по живописи – его библия…» (Уильям Фивер). Уотсон сам вызвался внести плату за обучение Фрейда в художественной школе и подыскал ему квартиру.
Но, несмотря на значительный интерес к его персоне – вызванный не только творчеством, но и само́й его яркой, непредсказуемой личностью, – он до конца 1940-х годов не создал ни одной работы, которую можно было бы назвать революционной.
И здесь Бэкон явно шел впереди. Не считая тех нескольких сеансов, когда они друг другу позировали, Бэкон и Фрейд не наблюдали друг друга за работой. И тем не менее Фрейд отчетливо понимал, что подход Бэкона к творчеству – прямая противоположность его собственному. Если Фрейд корпел над своими портретами неделями и месяцами, то Бэкон всегда ставил на свое хитроумие и эффект неожиданности – в его удачных вещах это срабатывало. Он считал, что определенное сочетание случайности и острой эмоции – гнева, отчаяния, разочарования – открывает «клапаны восприятия». Но он же говорил о чувстве безысходности, которое охватывает его во время работы над картиной, и в порыве откровенности признавался: «…просто беру краску и просто что-то делаю, что угодно, лишь бы не следовать формуле, по которой строится иллюстративный образ, – то есть просто размазываю все тряпкой или кистью, или еще чем-нибудь все явное стираю, или плесну на холст скипидару, краски, чего попало, чтобы разрушить преднамеренность, артикулированность, чтобы образ вырастал, так сказать, спонтанно, по законам своего собственного устройства».
Тридцать лет спустя, когда художники уже раздружились, Бэкон сказал одному приятелю: «Знаешь, что не так с живописью Люсьена? Она реалистична, не будучи реальной». Если бы это нелицеприятное замечание было брошено не в 1988 году, а в сороковые или пятидесятые, оно довольно точно отражало бы суть дела, и Бэкону даже незачем было бы произносить это вслух: Фрейд не мог не чувствовать осуждения со стороны старшего друга и ментора, пусть оно выражалось не в словах, а в воображаемом невнятном гуле, общий смысл которого сводился к тому, что Фрейд ретроград, робкий, наивный и провинциальный в своей приверженности традиционным методам работы, в своей жалкой верности внешнему облику изображаемых объектов.
В 1946 году Фрейд отправился в недавно освобожденный Париж (деньгами и связями его обеспечил Уотсон). Там его познакомили с Пабло Пикассо – посредником выступил племянник Пикассо, художник Хавье Вилато. В следующем году, после пятимесячного пребывания на греческом острове Порос, он встретил Китти Гарман, они поженились, и Фрейд начал писать серию портретов Китти, которые теперь числятся среди его самых известных работ. Некоторые выполнены пастелью, другие маслом; названия непритязательные, с иронично-романтичным флером: «Девушка с листьями», «Девушка в темном жакете», «Девушка с розами», «Девушка с котенком» (цв. ил. 10).
Все портреты написаны в течение двух первых лет после знакомства Фрейда с Бэконом и явно свидетельствуют о новых творческих амбициях художника, о всплеске эмоциональной составляющей в его живописи. В них достигается совершенно новый для него уровень психологизма – по силе гипнотического воздействия на зрителя их можно считать предвестниками портрета Бэкона.
Майкл Уишарт писал, что позировать для Фрейда – «мучительное испытание, сопоставимое с тончайшей хирургической операцией на глазах. От тебя требуют полной неподвижности, и пытка продолжается целую вечность. Если ты случайно моргнешь, когда [Люсьен] рисует твой большой палец, тебе нет прощения». Надо думать, он несколько преувеличивал. Хотя незабываемые миндалевидные глаза Китти на портретах и впрямь кажутся припухшими и набрякшими от слез – не потому ли, что она из последних сил старается не моргать? В глазах Китти не только отражается, но словно бы умножается, как в увеличительном стекле, пристальный взгляд художника. Каждая ресница, каждый выбившийся волосок, мельчайшая морщинка на верхней губе – все запечатлено на холсте с дотошной обстоятельностью. В результате возникает, выражаясь языком физики, эффект поверхностного натяжения, своего рода психологический эквивалент линзы, выпуклого мениска, растянутого на всю поверхность картины, которая едва сдерживает незримую, непостижимую силу. «Невозможно представить, – заметил Лоренс Гоуинг, – что модель не подрагивает от напряжения».
В портретах Китти Фрейд прежде всего передает состояние человека, сознающего, что его пристально разглядывают. Взгляд художника угрожающе настойчив, особенно это чувствуется в шедевре серии – «Девушке с котенком», – который изображает Китти, сжимающую в руках кошечку. Но это отнюдь не угроза насилия, скорее угроза нарушить душевный покой модели, а такое намерение вполне подходит под определение чувства любви.
Портреты Китти – результат подлинного эмоционального взаимодействия между художником и моделью; это не просто изображения неких объектов вроде мертвых птиц, веточек утесника, неспелых мандаринов и так далее, это портреты отношений между двумя людьми. А отношения не бывают застывшими. Вот почему, несмотря на их тревожную напряженность, несмотря на мучительную скрупулезность трактовки, портреты Китти стали для Фрейда огромным шагом вперед. Возможно, в них просочилось что-то от внутреннего разлада самого Фрейда, вызванного не только неровными отношениями с Китти, которая очень быстро забеременела, но и попытками противостоять Бэкону, не дать ему сбить себя с собственного курса.
Бэкон отчасти сам удалился от орбиты Фрейда. В 1946 году он надолго уехал в Монте-Карло, где прежде не раз бывал и где все было ему хорошо знакомо; на протяжении следующих четырех лет Монте-Карло станет его основным местом жительства. Время от времени они с Фрейдом встречались в Лондоне или Париже, но в основном каждый жил своей жизнью.
Бэкон упивался атмосферой Монте-Карло. «Есть в этом какое-то величие, – обмолвился он однажды, – пусть даже величие пустоты». Царивший здесь дух величия, как и сама игра, были созвучны жизненной философии Бэкона, которую в последующие десятилетия Фрейд рьяно адаптировал к своему намного более интуитивному мировосприятию. «Поскольку существование – это большая пошлость, – любил повторять Бэкон, – так почему бы не попытаться сделать из него что-то величественное – все лучше, чем плыть по течению и не оставить по себе никакой памяти». Фрейд инстинктивно соглашался с этим, но в общем и целом грандиозность ему претила.
А что до пошлости, то она давно и прочно поселилась в кафе и барах Лазурного Берега, который Бэкон исколесил в компании Эрика Холла. Когда читаешь высказывания Бэкона об этих местах, то, кажется, видишь декорации к пьесам Беккета или Сартра: «Довольно скоро тебя охватывает такая скука, что просто сидишь и диву даешься». Не менее удручающее впечатление производили на него порой казино и отели Монте-Карло. Недаром Бэкон отмечал, что Монте-Карло как магнит притягивает к себе эскулапов – специалистов по омоложению; оно и понятно, достаточно было взглянуть на «скопище немыслимых старух, с утра выстраивающихся в очередь перед входом в казино».
Но все это он и любил в Монте-Карло. Было в тамошних казино что-то такое – немного зловещее, ритуально-танцевальное, театральное, удушливое, – чем он не мог надышаться. Отдельные детали интерьера, в частности полированные металлические перильца вокруг рулеточного стола, он часто включал в свои картины. Ему нравилось проигрывать, глядя на средиземноморский закат. Еще больше ему нравилось выигрывать. «Вам не понять страшной притягательности игры, если вы сами не были в шкуре человека, который отчаянно нуждался в деньгах и сумел добыть их игрой».
Фрейду не нужен был пример Бэкона, чтобы пристраститься к игре. Он всегда любил рисковать. «Он летел навстречу опасности и искушал судьбу всеми мыслимыми и немыслимыми способами, насколько хватало его фантазии», – написал один его старинный приятель. Так, в мастерской у него был огромный стол со столешницей из оконного стекла, и он постепенно все больше его нагружал, чтобы узнать, в какой момент стекло разлетится на осколки. Он рано увлекся игрой и играл всерьез. Вот его воспоминания военных лет: «Я посещал подвалы, где играли на деньги, народ там собирался еще тот. Когда я продувался в пух и прах – а это бывало очень часто, потому что я страшно нетерпелив (во всем, кроме работы, где терпение вовсе не главное), – я про себя думал: „Ура! Можно снова идти работать“. Но иногда бывает, что проигрываешь и проигрываешь и уже соберешься уходить, как вдруг возьмешь да и выиграешь, ну и сидишь дальше, снова проигрываешь. Иногда я просиживал в этих подвалах по шесть, семь, восемь часов – и это выводило меня из себя. Но, как правило, я все спускал и убирался оттуда довольно скоро. Крайне редко случалось, чтобы я вдруг быстро выигрывал и сразу уносил ноги».
Игра для Фрейда означала лихорадочное возбуждение, раж, азарт и еще, возможно, способ выразить свое презрение по адресу обывательских представлений о жизненных приоритетах. В то же время игра не стала для него образом жизни – и уж тем более философией, – как для Бэкона, хотя гораздо более экстремальная и театральная приверженность Бэкона к игре, его вдохновенная риторика, когда он брался объяснять свою игорную страсть, завораживали Фрейда. Отношение Бэкона к игре и его отношение к живописи – явления одного порядка: ставка на риск, на спонтанный взмах тряпкой или рукой, размазывающей краску по холсту; опасное колдовство, которое может обернуться кошмаром, катастрофой; постоянная готовность не только созидать, но и разрушать. Так Бэкон работал, а его творчество, вспоминая слова Фрейда, было прямо связано с тем, как он воспринимал жизнь.
Все это почти ничего общего не имело с педантичным методом Фрейда. Подход Бэкона к живописи диктовался ментальностью игрока: «если не заходить слишком далеко, то далеко не пойдешь», как он сам это сформулировал. По правде говоря, многое в своем подходе он сильно преувеличивал, и в большинство его картин, особенно созданных в 1940–1950-е годы, вложено немало труда. Тем не менее его метод разительно отличался от терпеливого, сосредоточенного наблюдения Фрейда, от его медлительного заполнения холста линиями (копирующими натуру) и штриховкой (стилизованной). В те же годы, когда Фрейд месяцами корпел над одним портретом, Бэкон разглагольствовал об образах, которые приходят к нему в готовом виде, возникают у него в мозгу один за другим, как картинки в фильмоскопе.
В середине века Бэкон вступил в самый плодотворный, новаторский этап творчества. Тем, кто следил за его прогрессом, казалось, что теперь ему подвластно абсолютно все. Он добился признания публики, все больше привлекал к себе внимание художественных галерей, критиков и собратьев-художников. Он увлекся изображением голов – как бы смазанных, в серой гамме – на фоне вертикальных полос, создающих странное, противоречивое пространство. Эти призрачные полосы перекликаются одновременно и с вертикальным штрихом фона поздних пастелей Дега (почитаемого и Фрейдом, и Бэконом), и с устремленными в ночное небо лучами прожекторов, которые использовались в световых шоу, сопровождавших гитлеровские нюрнбергские съезды. В работах Бэкона подобных парадоксальных, разнородных аллюзий великое множество.
Вскоре Бэкон, вдохновленный знаменитым портретом папы Иннокентия X Диего Веласкеса, приступил к созданию вариаций на эту тему. По словам художника, ему захотелось «написать что-то в манере Веласкеса, но с текстурой кожи бегемота». Он одержим разинутыми, вопящими, оскаленными ртами, человеческими и звериными (разницы для него не было), и возвращается к этому мотиву снова и снова. «Если угодно, мне нравится вид раскрытого рта – его цвет и влажный блеск, – однажды признался он своему другу, художественному критику Дэвиду Сильвестру, – и я мечтал когда-нибудь написать рот так, как Моне писал закат».
Между тем Фрейд тоже постепенно приобретал известность. В Париже он вращался в элитарных кругах. Подружившись с Диего Джакометти, он часами беседовал с его братом, скульптором Альберто Джакометти, который дважды его нарисовал (рисунки не сохранились). Он свободно общался с людьми ранга Пикассо, Бальтюса, Мари-Лор де Ноай (патрон и друг Сальвадора Дали, Ман Рэя и Жана Кокто), поэта и либреттиста Бориса Кохно и его любовника, театрального художника Кристиана Берара; этого последнего Фрейд рисовал с рекордной неторопливостью – целых шесть недель, пока Берара на репетиции мольеровской пьесы не настиг сердечный приступ, от которого он и скончался.
Двери в этот круг открылись для Фрейда благодаря рекомендациям Питера Уотсона, но помогли, несомненно, и его знаменитая фамилия, и внешность, и заразительная пылкость. Дома, в Лондоне, он тоже действовал на людей гипнотически. Критик Джон Рассел вспоминал, что в те годы Фрейд жил так, как будто «для него не существует ни проблем, ни обязательств». «Фрейд не то чтобы был вне закона, – писал он, – скорее закон при соприкосновении с ним делается эфемерным; жить по правилам его не устраивает, и на каждую конкретную ситуацию он реагирует так, словно ничего подобного прежде ни с кем не случалось».
В этот период Фрейд все еще писал мертвечину. В 1950-м – мертвую обезьяну, годом раньше – мертвую каракатицу, истекающую чернилами рядом с колючим морским ежом. В следующем году он продвинулся до отрубленной петушиной головы с ярким гребешком. Но непростая задача изображения живых, одушевленных объектов, которые существуют в неопределенно длящемся интервале времени, не давала ему покоя, и чем дальше, тем неотступнее. И в 1951 году на большом холсте, предоставленном Советом по делам искусства, Фрейд написал «Интерьер в Паддингтоне», свою самую амбициозную на тот момент картину, – портрет старого друга Гарри Даймонда в полный рост. Под ногами у Даймонда красный казенный ковер, с которым диссонирует расстегнутый, бесформенный длинный плащ. На лице очки, в одной руке сигарета, другая сжата в кулак. Кулак – подобно припухшим глазам на портрете Китти – вносит в картину тревожную ноту. Он задает общий тон, и потому все подробно прописанные детали (сбившийся край ковра, отмирающие листья пальмы, торчащий из-под брючины шнурок ботинка) складываются воедино, до краев наполняя образ грозной энергией. Этот эффект сродни гневному напряжению – готовности в любую секунду взорваться так, что чертям станет жарко, – на некоторых портретах Энгра (особенно показательны портреты месье де Норвена и месье Бертена), и не случайно Герберт Рид тут же окрестил Фрейда «Энгром экзистенциализма».
«Интерьер в Паддингтоне» – первая большая студийная картина Фрейда, первая его целенаправленная попытка перенести мощь своих маленьких портретов на большой формат.
В 1951 году у Бэкона внезапно ушла почва из-под ног. Пока он был вдали от дома – играл в Монте-Карло, – его любимая няня Лайтфут умерла. Он страшно казнил себя, ходил как потерянный; его отчаяние принимало такие формы, что все только разводили руками.
«Глядя на Фрэнсиса, можно было подумать, что он ищет смерти», – вспоминал Уишарт. Он разорвал отношения со своим давним партнером Эриком Холлом. Он переуступил уже выплаченную аренду за мастерскую на Кромвель-плейс другому художнику. И следующие четыре года буквально не находил себе места. На какое-то время поселился в одном доме с художником Джонни Минтоном, но и оттуда сбежал. Между 1951 и 1955 годом он успел сменить по крайней мере восемь адресов.
На заре этого периода – еще в 1951-м – Фрейд и Бэкон заключили любопытный уговор: каждый должен был сделать портрет другого, притом что раньше они друг друга не изображали. Для каждого это был повод попробовать что-то новое. Первые попытки вышли комом. Но, по-видимому, сам факт такого творческого и дружеского обмена и привнесенный им элемент состязательности открывали перед обоими новый путь развития.
Можно с полной уверенностью утверждать, что ни один известный художник не изображал своего собрата в позе, которую Фрейд запечатлел на трех карандашных набросках Бэкона в 1951 году (ил. в тексте 2). Бэкон, в расстегнутой рубашке, стоит, заложив руки за спину и выпятив бедра; ширинка на брюках не застегнута, и в открывшемся треугольнике проглядывает краешек нижнего белья, а над ним – беззащитный живот.
По версии Фрейда, позу Бэкон придумал себе сам. «Давай сделаем так, потому что, по-моему, то, что там, внизу, довольно-таки важно». Фрейд никогда не навязывал модели ту или иную позу (как правило, портретируемый просто принимал самое естественное или удобное для него положение), но охотно шел навстречу любым прихотям экстравертных позирующих. Так, в 1990-е он напишет серию портретов австралийского художника, мастера перформанса Ли Бауэри в самых невероятных позициях, включая, например, и такую: Бауэри лежит на деревянном полу в мастерской Фрейда, головой опираясь на ворох тряпок, которыми художник вытирает кисти; одна нога закинута на кровать, между бедрами болтается огромный пенис. (Бауэри, мягкий и обаятельный, но экстраверт по природе, славился своим эпатажным поведением на публике и, вероятно, на позднем отрезке жизни Фрейда до некоторой степени служил заменой Бэкону.)
2. Люсьен Фрейд. Фрэнсис Бэкон. Набросок. 1951. Частная коллекция / © Lucian Freud / The Lucian Freud Archive / Bridgeman Art Library
Глядя на три родственных по духу наброска Бэкона, выполненных Фрейдом, замечаешь в его манере нечто, прежде ему несвойственное. Первое, на что обращаешь внимание, – быстрое движение руки рисовальщика в попытке зафиксировать арабеск бедер. Результат не вполне удовлетворительный: линии слишком сглажены; торс Бэкона неправдоподобно строен; глаза (на том единственном из трех рисунков, где они видны) прикрыты веками, их робко-покорный взгляд плохо сочетается со всем прочим; рот невыразительный, безжизненный. Стараясь раскрепоститься, попасть в резонанс с бэконовской фонтанирующей творческой энергией и как бы невзначай приоткрыть что-то потаенное, интимное, Фрейд растерялся и с задачей не справился. Да и не мог справиться, это был не его путь. Но сама идея попробовать что-то новое – примерить на себя одежду друга, если так можно выразиться, и посмотреть, как она сидит, – многое говорит о том, какую власть Бэкон постепенно обретал над Фрейдом. И что еще важнее, все вместе эти рисунки словно бы создают удивительный, очень камерный микроклимат, погоду наибольшего благоприятствования во всех планах – сексуальном, творческом, личном.
В то время, как утверждает Дэвид Сильвестр (который жил в квартире прямо под Бэконом и Минтоном), Фрейд «был явно без ума от Фрэнсиса». На этот счет Сильвестр заблуждаться не мог, – по собственному признанию, он и сам был без ума от Бэкона: «Мы оба копировали бэконовскую „униформу“ – однотонный темно-серый двубортный костюм, от модного портного с Сэвил-роу, однотонная рубашка, однотонный темный галстук, коричневые замшевые туфли».
Раззадоренный, вероятно, рисунками Фрейда (на которых он, Бэкон, предстал в расстегнутых штанах), Бэкон позвал друга позировать ему в мастерской. Возникшая в результате картина стала первым портретом Бэкона с указанием имени портретируемого. Уже по одной только этой причине значение работы трудно переоценить: жанр портрета станет ведущим в зрелом творчестве Бэкона. С середины 1960-х, когда он достиг вершины славы, подавляющее большинство его картин составляли портреты нескольких близких друзей (вроде портретов Фрейда, прошлых и будущих).
Означало ли это, что не только Фрейд испытал явное влияние Бэкона, но и сам Бэкон отчасти проникся фрейдовским подходом к живописи? Трудно сказать. Если Фрейд и повлиял на Бэкона, то далеко не так явно, как Бэкон на Фрейда, прямых свидетельств тут не сыщешь. В первую очередь потому, что Бэкон прославился задолго до Фрейда. Фрейд без утайки говорил о колоссальном воздействии Бэкона. Но Бэкону, который всегда рьяно открещивался от каких бы то ни было предшественников, а в качестве ориентиров называл только художников континентальной Европы (Веласкес, Энгр, Сутин, Ван Гог, Пикассо), совершенно незачем было признавать влияние своего более молодого английского протеже, тем более что к тому времени он с Фрейдом уже разошелся, а крупные зарубежные критики и искусствоведы едва ли принимали его в расчет. Это не отменяет того, что Фрейд и тогда, и после производил сильное впечатление почти на всех, кто его знал. По природе анархичный, аморальный и глубоко эгоистичный, он тем не менее обладал подкупающим даром близко сходиться с людьми. «Оказаться с ним один на один – все равно что сунуть палец в электрическую розетку и на полчаса замкнуть цепь», – сказала как-то о Фрейде Луиза Лиддел, багетный мастер и впоследствии его натурщица. Не остался равнодушным к его харизме и Бэкон.
«В молодости, – призна́ется Бэкон позднее, – мне непременно нужен был для картины экстравагантный сюжет. Потом, когда я стал старше, я понял, что все нужные сюжеты есть в моей собственной жизни». Не исключено, что прийти к такому пониманию ему помог Фрейд, с его умением учуять в интимности душок зачаточной анархии. Во всяком случае, сосредоточенность Бэкона на изображении одних и тех же персонажей из узкого круга близких знакомых, ведущая отсчет со времени его знакомства с Фрейдом, дает веский повод говорить о влиянии молодого собрата-художника.
Самым неожиданным в работе над первым неанонимным портретом Бэкона (хотя в дальнейшем это стало правилом) было то, что к моменту, когда Фрейд пришел к нему в мастерскую позировать, портрет уже стоял на подрамнике и был почти закончен. На картине молодой мужчина в сером костюме, изображенный в полный рост, опирается на угол стены, как можно судить по размытому контуру опоры (ил. в тексте 3). От нижней рамы к нему протянулась некая плоская черная форма, наподобие тени фотографа на курортном снимке. Руки и ноги мужчины (номинально – Фрейда) только грубо намечены (Бэкон никогда не был силен в передаче сочленений конечностей), у него маленькие глазки-пуговки и бесформенный мясистый подбородок – черты лица, даже отдаленно не напоминающие прототип.
Как выяснилось, вместо того, чтобы писать портрет с самого Фрейда, Бэкон воспользовался неким визуальным триггером – в данном случае фотографией молодого Кафки на фронтисписе первого издания книги Макса Брода «Франц Кафка. Биография». При чем тут Кафка, никому не ведомо, да скорее всего, и к делу не относится: речь здесь идет о неосознанной, почти случайной ассоциации. Как таковой портрет ничем не замечателен. В нем еще только угадывается намек на смелые искажения, вдохновенные деформации, которым Бэкон будет в дальнейшем подвергать свои модели в попытке передать так называемую «брутальность факта», пользуясь его собственным выражением. Интересен портрет не сам по себе, а как наглядный пример отношения Бэкона к портретируемому, в корне отличного от отношения Фрейда, по крайней мере на тот период времени.
3. Фрэнсис Бэкон. Портрет Люсьена Фрейда. 1951. Холст, масло. Художественная галерея Уитворта, Манчестерский университет. / Whitworth Art Gallery, The University of Manchester, UK / Bridgeman Images. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved / Artists Rights Society (ARS), New York / DACS, London
Бэкону хотелось уловить неповторимую «пульсацию личности», и Фрейд загорелся этой идеей, не зря он впоследствии говорил, что человек воздействует на окружающее пространство, и признавался в стремлении запечатлеть не только портретируемого, но и атмосферу вокруг него: «Аура, исходящая от человека, такая же органичная его часть, как и его плоть». Но Бэкон не скрывал того, что присутствие модели в мастерской мешает ему работать. Он предпочитал писать в одиночестве. «Возможно, у меня просто невроз, – говорил он Сильвестру, – мне лучше работать по памяти или по фотографии, чем смотреть на живую модель, на человека, который мне позирует».
На протяжении многих лет он прибегал к разным, но одинаково эффектным способам объяснить свою особенность. Так, когда Сильвестр спросил его, действительно ли он считает, что процесс работы над картиной «почти сродни процессу вспоминания», Бэкон не мешкая подтвердил: «Да, я так считаю. И еще я думаю, что методы, которые при этом применяются, настолько искусственны, что присутствие модели – по крайней мере, в моем случае – только мешает этой искусственности, мешает воссоздать объект». Живое присутствие, по его словам, только вредит, потому что «если человек мне симпатичен, я не хочу при нем деформировать его черты, как я всегда делаю в своей работе. Мне гораздо спокойнее заниматься деформациями наедине с собой, так я могу намного точнее зафиксировать факт – факт личности».
Но что заставляло Бэкона «заниматься деформациями»? Любой однозначный ответ на этот вопрос будет пустой банальностью. Впрочем, достаточно посмотреть на портреты Бэкона, чтобы уяснить: отклонения от традиционно понимаемого портретного сходства, уже успевшего стать сферой фотографии (щелк – и готово), наполняют образ многозначностью. Эта многозначность – не просто «смешанные чувства» (что подразумевает некое растворение и слияние), а отчетливо противоположные чувства – составляла суть бэконовского взгляда на дружбу и любовь. Настоящая дружба, говорил он, это когда «двое готовы разорвать друг друга в клочья». Его великолепные локальные расчистки и широкие взмахи кисти выражают, согласно догадке Сильвестра, «одновременно нежность и агрессию». В 1960-х в разговоре с Сильвестром Бэкон даже припомнил известное изречение Оскара Уайльда – «любимых убивают все», – которое перекликается с записью в дневнике Дега: «Кого больше всех любишь, того больше всех и возненавидишь».
Применительно к его отношениям с Фрейдом концепция портрета как акта увечья особенно интересна еще и потому, что Фрейда Бэкон писал на протяжении нескольких десятилетий. Во всех этих портретах, по наблюдению Пеппиатта, обращает на себя внимание «необычайная сила сопротивления и энергия» Фрейда.
«В то время как некоторые из бэконовских любимых моделей-мужчин… того и гляди сдадутся на милость победителя под яростным натиском его разящей кисти, Фрейд снова и снова доказывает свою способность выдержать худшее и устоять под ударами краски – растерянный, сбитый с толку, но неукротимый».
В работе над портретом Бэкон не всегда использовал фотографии портретируемого. Более плодотворным источником могла оказаться фотография животного, или подходящий кадр из фильма, или смятая репродукция картины кого-то из старых мастеров, или изображение увечья из медицинского пособия, или последовательность стоп-кадров Эдварда Майбриджа, пионера пофазовой фотосъемки движущихся объектов. Бэкон не только использовал уже существующие фотографии, но и заказывал новые – своему другу и собутыльнику Джону Дикину. Художник-неудачник, Дикин блестяще овладел фотокамерой. Его фотопортреты завсегдатаев Сохо 1950-х годов (отпечатки, в большинстве своем измятые и порванные, нашли после его смерти в коробке под кроватью; негативы утрачены) считаются теперь классикой жанра. Как выразился его друг Дэниэл Фарсон, они производят эффект «магшота, выполненного настоящим художником». Как и реальные магшоты (фотоснимки преступников после задержания), это образы «скорее отталкивающие, брутальные портреты крупным планом, так что виден каждый изъян на лице».
У Дикина были друзья, но недоброжелателей было больше. Джордж Мелли, большой ценитель сюрреализма и джаза, оставил незабываемую характеристику Дикина: «…гнусный маленький забулдыга, настолько изобретательный по части коварства и злобной стервозности, что удивительно, как он не захлебнулся собственным ядом».
Но Бэкона зловредность привлекала. За несколько лет Дикин выполнил для него больше сорока фотопортретов. Для достижения эффекта непреднамеренности (как если бы снимок попал к нему в руки случайно) Бэкон предпочитал работать по фотографии после того, как она хорошенько поистрепалась или вовсе порвалась, – отпечатки, как опавшие листья под ногами, валялись среди мусора на заляпанном краской полу в его мастерской.
Как и многие другие художники-модернисты, Бэкон считал, что насквозь видит лживость реализма, не делая исключения даже для изобретенного в конце XIX века изощренного городского реализма Мане и Дега. Претензия реализма на объективность и правду жизни, его рабская верность натуре – все это, по его убеждению, имеет сомнительную ценность в новой, экстремальной и фрагментированной действительности XX века. Лицо на традиционном портрете едва ли способно передать движение, не говоря уже о полной гамме психологических состояний, таких как ощущение конечности и никчемности жизни, безысходность, чудовищный кошмар недавней мировой истории, а между тем именно это представлялось Бэкону основополагающим для характеристики современной ему реальности и потому было гораздо более «реально», чем внешний облик объектов. Бэкон мучительно искал ответа на вопрос, как рассказать обо всем этом языком живописи. Вдохновленный отчасти Пикассо, Матиссом и сюрреалистами, он рассуждал об искажении образа во имя истины высшего порядка. Не в его характере было методично, как Фрейд, вести наблюдение часами, днями и месяцами; ему гораздо больше нравилась идея внезапной атаки из засады. Он хотел, по словам Рассела, «устроить ловушку с приманкой, так чтобы традиционное „сходство“, казалось бы напрочь отсутствующее, в конце концов невзначай попалось в капкан».
«Скажи мне, – спросил Бэкон Сильвестра годы спустя, – кому из нынешних удалось зафиксировать то, что мы воспринимаем как факт реальности, не исказив образа, не исказив радикально?»
Наверное, подобные разговоры не прошли для Фрейда бесследно. Но он по-прежнему хранил верность внешнему облику изображаемого. Он, вопреки Бэкону, твердо стоял на том, что внешний облик объекта имеет отношение к истине и попытка запечатлеть его как можно более правдиво (художник наедине с моделью: рука и глаз, чувство и интуиция – все слито в едином усилии) сама по себе несет заряд истины. Именно в этом пункте – работа по фотографии, необязательность личного присутствия модели – Фрейд и оказал самое упорное сопротивление мощному, потенциально всепоглощающему влиянию Бэкона.
Для Фрейда удачный портрет – это всегда картина отношений в их развитии. Это межличностное взаимодействие, трансакция, как он позднее выразится. Длиться такое взаимодействие может месяцами, а то и годами: протяженность во времени его только обогащает. Да, художнику отведена решающая роль; но сам процесс требует от обеих сторон постоянной смены уровней доминирования и подчинения. («В культуре фотографии, – скажет Фрейд позднее, – мы утратили то напряжение, которое в живописном портрете обеспечивается цензурными полномочиями портретируемого».) Писать в присутствии модели для Фрейда было важно потому, что это позволяло достичь совершенно иного «уровня чувств обоих участников трансакции. Фотографии это доступно лишь в малых пределах, для живописи никаких пределов нет».
Эти интуитивные открытия Фрейд сформулирует много позже, но уже в то время они составляли стержень его творческого кредо. Это те принципы, которым он неотступно следовал многие годы и которыми не мог поступиться. Однако в том, как именно он им следовал, была известная ограниченность, и он сам это понимал. Ему казалось – и не зря, – что в радикальном подходе Бэкона можно отыскать ключ к преодолению собственных недостатков.
Когда Фрейд упросил Бэкона позировать ему для знаменитого маленького портрета, он собирался (по крайней мере, так он это преподносил) повесить готовую работу в рыбном ресторане «Уилерс» в Сохо, который облюбовал Бэкон со своей свитой. Фрейду хотелось написать его, вспоминал художник за год до смерти, «не просто как представителя художественного мира, но как… не знаю… как друга, что ли. Я часто писал людей, когда хотел их получше узнать».
Бэкон не возражал. Фрейд управился месяца за три, работая каждый день, – «не так уж долго», по его словам; на портреты зрелого периода у него частенько уходил и год, и больше. Его представление о портрете неразрывно связано с неспешным, терпеливым наблюдением, с методичной аккумуляцией характерных деталей, с дотошным вниманием ко всем нюансам атмосферы и настроения.
Для Бэкона, с его темпераментом, это была сущая пытка. «Я не способен долго сидеть на месте, – жаловался он Сильвестру. – Даже в удобном кресле мне не усидеть… Это одна из причин, почему я всю жизнь страдаю от высокого давления. Со всех сторон только и слышишь: расслабься! О чем они? Я никогда не понимал, как это люди расслабляют мышцы и вообще полностью расслабляются, – я так не умею». (Для сравнения приведем высказывание Фрейда: «В моем понимании досуг – это такое роскошное чувство, будто времени у тебя сколько хочешь и совсем не нужно чем-то его заполнять».)
Нетерпеливость и непоседливость Бэкона – именно то, что Фрейду удалось передать в законченной работе. В этом и заключается главный секрет поразительной силы портрета. Но три месяца ежедневных сеансов, по нескольку часов каждый, были, вероятно, нелегким испытанием как для художника, так и для модели. Много позже Фрейд вспоминал, что Бэкон «страшно ворчал из-за позирования… он вечно ворчал, по любому поводу… только жаловался он не мне, нет. Я слышал об этом от других – в пабе, например». То было поистине великое сидение: Фрейд сидел так близко к Бэкону, что колени их соприкасались и медная доска лежала у Бэкона на ногах. Трудно вообразить обстановку более наэлектризованную. Особенно учитывая, что́ Бэкон на том этапе значил для Фрейда.
Портрет был завершен, но в ресторан не попал: в конце 1952 года его вместе с другим ранним шедевром Фрейда, портретом Китти под названием «Девушка с белой собакой», приобрела галерея Тейт.
Фотография Бэкона, которую Дикин сделал в конце того же года, позволяет прийти к выводу, что фотограф видел портрет Бэкона, пока Фрейд над ним работал. Как и миниатюрная картина Фрейда, фотография представляет собой крупный план головы Бэкона, освещенной с одной стороны. «Линии обреза» фотографии и картины также совпадают, за небольшим исключением: на портрете голова Бэкона дана полностью, со всеми волосами, тогда как на фотоснимке верхний край проходит чуть выше линии волос надо лбом.
«Я безумно люблю эту свою фотографию Фрэнсиса Бэкона, – говорил Дикин, – может быть, потому, что я очень люблю его самого и восхищаюсь его странной, истерзанной живописью. Он далеко не прост – такой от природы нежный и щедрый, но иногда у него случаются проявления жестокости, особенно по отношению к друзьям. Мне кажется, в этом снимке я сумел уловить отголосок страха, который несомненно лежит в основе этих противоречий в его характере».
Форма изложения мало напоминает речь Фрейда – тот никогда не излагал свои мысли так доходчиво, – но под мыслями как таковыми он вполне мог бы подписаться. Что такое украденный портрет Бэкона, если не «магшот, выполненный настоящим художником»?
Джонни Минтон, с которым Бэкон пополам снимал дом, увидел портрет Бэкона работы Фрейда незадолго до того, как картина попала в Тейт. Работа его впечатлила, и он заказал Фрейду свой портрет. У Минтона было вытянутое лицо, густые всклокоченные волосы и темные страдальческие глаза. Отношения с Бэконом складывались у него непросто. Минтон был очень талантлив, рано обратил на себя внимание как живописец и получил широкое признание как иллюстратор двух первых кулинарных книг Элизабет Дэвид. Кроме того, он с успехом преподавал в Королевском художественном колледже. Но его творческая карьера близилась к закату; Бэкон же, напротив, быстро пошел в гору. Вера Минтона в собственные возможности с каждым месяцем таяла, и зависть не давала ему покоя. «Я уверен, что он кусал локти, глядя на восхождение Фрэнсиса», – писал Фарсон.
Будучи сильной, амбициозной личностью, Фрейд обладал некоторым иммунитетом против зависти. Он слишком любил Бэкона и слишком им восхищался, чтобы успех друга мог отравить ему жизнь. Ко всему прочему он был моложе, а это помогает легче переваривать такие коллизии. Должно быть, он наблюдал за развитием отношений между Бэконом и Минтоном с большим интересом, заодно извлекая уроки на будущее – чего лучше избегать при общении с Бэконом. С учетом всех обстоятельств, работа над портретом Минтона, помимо всего прочего, давала возможность присмотреться к сложившейся ситуации.
Бэкон и Минтон оба любили быть в центре внимания и почти открыто боролись за первенство, «устраиваясь каждый со своей свитой в противоположных концах [„Колони Рум“], соревнуясь друг с другом в широких жестах – „Всем вина!“ – и разнузданности», как пишет Пеппиатт. И по крайней мере один из таких вечеров закончился тем, что Бэкон вылил шампанское Минтону на голову. В целом Минтон держался так, будто в коммерческом успехе и фамильном состоянии Бэкона было что-то постыдное. «Давайте спустим что еще у меня осталось от трастового фонда!» – с такой традиционной присказкой Бэкон обычно заказывал выпивку всем своим друзьям-собутыльникам.
На портрете Фрейда у Минтона длинное, лошадиное лицо, в остекленевшем взгляде безысходность. Из состязания с Бэконом он вышел проигравшим и постепенно скатился к алкоголизму и душевному расстройству. Через пять лет после портрета Фрейда его нашли дома мертвым. Он проглотил горсть снотворного.
По странному и, вне всякого сомнения, необъяснимому для обоих совпадению, именно в тот момент, когда их дружба достигла пика близости и интенсивности, и Фрейд, и Бэкон завели романы, которые в жизни каждого из них станут самыми важными, самыми тяжелыми, самыми фатальными. Эти романы – у Фрейда с Каролиной (Кэролайн) Блэквуд, у Бэкона с Питером Лейси – возникли в начале 1950-х годов и подвели обоих художников к опасному краю самопознания, перевернув все их прежние представления и спровоцировав саморазрушительную, почти суицидальную реакцию.
Жизнь любви, несмотря на потуги биографов, остается непроницаемо частной. Но история любви обрастает соглядатаями, свидетелями и соучастниками, в разной степени заинтересованными и вовлеченными. И если над историей любви Фрейда и Блэквуд витал злой ангел в лице Бэкона, то историю любви Бэкона и бывшего летчика-истребителя Питера Лейси наблюдал – более трезвым, скептическим, изумленным взглядом – Фрейд.
«Каролина – самая большая любовь в жизни Люсьена, – говорила Энн Данн, которая и сама тогда время от времени встречалась с Фрейдом. – С Каролиной он был как шелковый. Совсем не похож на себя. Впрочем, ни одну из нас он не любил. Наверное, он знал, что она его любит, а это дорогого стоило». Несмотря на их пятилетний роман (из них четыре года в браке), Фрейд впоследствии признается, что Каролина осталась для него в каком-то смысле загадкой. «Как ни смешно это прозвучит, – сказал он, – я не так уж хорошо знал Каролину».
Фрейд всегда ценил непознанное и непознаваемое в людях, несмотря на то что все люди постоянно втягивали его в свою жизнь. «Когда вдруг видишь что-то очень трогательное, – говорил он Фиверу, – хочется поскорее закрыться, чтобы поменьше про это знать. Или вот когда влюбишься – совершенно не хочешь знакомиться с родителями».
Мать Каролины, Морин Гиннесс, была наследницей пивного магната. Отец, четвертый маркиз Дафферин-Ава, погиб, сражаясь в Бирме, в 1945 году. Овдовевшая маркиза взяла бразды правления знаменитой пивоварней в свои руки. И тут ее дочь затеяла роман с Фрейдом.
Застенчивая, умненькая девушка, прекрасно владевшая словом (со временем она стала довольно известной писательницей), Блэквуд работала секретаршей в издательстве «Халтон-пресс», где выходил журнал «Пикчер пост» (Picture Post) – светские новости и немного политики, – для которого Блэквуд иногда тоже что-то писала. Юная, хрупкая, проворная… Под глянцевым лаком хорошего воспитания нет-нет да и проглянет смышленый уличный сорванец. «В обществе она терялась – беспокойная, вся как на шарнирах; то вдруг что-то брякнет, то молчит невпопад, – рассказывал ее друг, журналист Алан Росс. – Мягко говоря, своеобразная девица, непредсказуемая. За такими поклонники не бегают».
Фрейд, несмотря на некоторую театральность в повадке, тоже был застенчив и непредсказуем. Но он стал за ней бегать. Познакомились они на балу, который устроила Энн Ротермир. В 1950 году Фрейд написал ее портрет. Энн вела привилегированную и весьма свободную жизнь. После того как в 1944 году ее первый муж погиб на фронте, она вышла замуж за виконта Ротермира – Эсмонда Хармсворта, владельца газеты «Дейли мейл» (Daily Mail), не прекращая, впрочем, длительного романа с Иэном Флемингом, биржевым брокером, который во время войны служил в морской разведке, а теперь, к началу 1950-х, приближался к созданию литературного образа Джеймса Бонда. Начиная примерно с 1948 года Энн подолгу жила на Ямайке, якобы в гостях у своего приятеля, драматурга Ноэля Кауарда, а на самом деле все время проводила с Флемингом. В 1951 году муж узнал об их связи; они развелись, и на следующий год Энн – беременная от Флеминга уже во второй раз (первый ребенок родился мертвым в 1948 году) – вышла за него там же, на Ямайке.
Между тем сама она устроила жизнь на широкую ногу в особняке Уорик-хаус по соседству с Грин-парком в центре Лондона. Лишения послевоенных лет ее, как видно, не коснулись: она устраивала роскошные приемы, где аристократы встречались с избранными представителями новой богемы, среди которых были и Фрейд с Бэконом.
К Фрейду она прониклась особой симпатией, а вот Флеминг смотрел на него косо, подозревая – безосновательно, – будто у них с Энн роман. Фрейд вспоминал, как однажды она позвала его «на один из ее великолепных приемов, наполовину королевский – знати там было видимо-невидимо… И говорит мне: „Надеюсь, ты найдешь, с кем тут потанцевать“, что-то в этом роде. И вдруг я вижу – вот то, что мне надо, и это была Каролина».
Больше чем полвека спустя на вопрос, что заставило его задержать на ней взгляд, Фрейд ответил: «Она была такая милая, во всех смыслах, и еще видно было, что ей нет до себя никакого дела – совсем, как будто она даже толком не умылась. И тут слышу, кто-то именно так про нее и говорит. Я пригласил ее и танцевал, танцевал, танцевал, танцевал…»
После, в начале 1952-го, Фрейд стал заходить за ней в редакцию «Халтон-пресс». Закулисно, несмотря на то что Фрейд был женат на Китти, Ротермир поощряла эту связь.
Изнывающая от скуки, беспокойная, все еще окруженная тускнеющей аурой детской избалованности и вседозволенности, юная Блэквуд интуитивно тянулась к Фрейду, которому никакой закон был не писан. Она была достаточно эгоцентрична, чтобы с полным равнодушием, а чаще с откровенной враждебностью относиться к мнению всех тех, кто твердо знал, как ей следует поступать. К этой категории относилась и ее мать, делавшая все возможное, чтобы их разлучить.
Блэквуд чувствовала, что они с Фрейдом очень похожи в своем стремлении играть не по правилам. Она «никогда не встречала такого экзотичного, опасного с виду мужчину, как Люсьен», – написала в своих воспоминаниях Ивана Лоуэлл, ее дочь от британского киносценариста Ивана Моффатта. По отзыву самой Блэквуд, Фрейд был какой-то «невероятный, яркий, умный, неправдоподобно красивый, хотя и по-своему, ничего общего с кинозвездой. Помнится, он был еще очень манерный – отпускал такие, знаете, длинные бакенбарды, какие в то время никто не носил. И всегда ходил в диковинных брюках, нарочно. Он хотел выделяться из толпы – и выделялся».
Фрейд вступил в мир, совершенно ему неведомый. И если от Каролины он пьянел, то от ее круга робел. Было от чего. Вот он сопровождает Блэквуд и ее мать в Ольстер на великосветскую охоту. Среди гостей лорд Уэйкхерст, недавно сложивший с себя полномочия британского губернатора Нового Южного Уэльса (Австралия) и назначенный губернатором Северной Ирландии, и виконт Брукборо, премьер-министр Северной Ирландии. Сестра Каролины, Пердита, наблюдавшая за Фрейдом во время этой поездки, была поражена его болезненной скованностью: он «ни с кем не встречался взглядом – стоял опустив голову и затравленно стрелял глазами туда-сюда».
Помимо того, что Фрейд бы художник, представитель богемы, он был еще еврей. А это обстоятельство – даже при такой громкой фамилии – не шло ему на пользу в среде потомственной аристократии, где он теперь начал вращаться. Однажды, еще на заре их отношений, Блэквуд привела его в дом к матери. В тот вечер там принимали гостей. Едва они вошли, сын Уинстона Черчилля Рэндольф через весь зал заорал: «Какого черта! Морин совсем рехнулась – хочет превратить свой дом в синагогу?» Молодая пара проглотила оскорбление, и все обошлось без скандала. Но, встретив Черчилля снова, Фрейд без лишних слов свалил его ударом кулака.
Роман Фрейда с Блэквуд стремительно разгорался. Ее мать всеми способами старалась им помешать. Тогда они сбежали в Париж и остановились в старом, довольно обшарпанном отеле «Луизиана» на улице Сены. Фрейд написал там «Девушку в постели» (цв. ил. 11), один из нескольких прекрасных портретов Каролины, созданных им в том 1952 году. Другой портрет, о котором нельзя не сказать, – «Читающая девушка». Обе картины поражают ощущением предельной близости художника и модели. Лоб читающей девушки багровеет под пылким взглядом Фрейда.
«Я считал, что работать как полагается для меня означает максимум наблюдения и максимум концентрации, – вспоминал он позже. – Я думал, что если буду пристально всматриваться в предмет, внимательно его изучать, то сумею что-то от него воспринять. От напряжения у меня болели глаза и раскалывалась голова».
Постоянное напряжение изматывало, заставляя искать новые пути. Но самое важное, что с ним тогда происходило, – это незаметное растворение прежней, юношеской стилизации в новом колдовском любовном напитке, в любовной близости. Он был не просто влюблен, а одержим любовью. Позже он говорил, что лучше помнит «свою одержимость, чем свою возлюбленную». Каролина завладела всем его существом, его мысли и чувства были настолько полны ею, что он с трудом заставлял себя работать. «Ни о чем другом я не мог думать».
В такой близости есть что-то от таинственного сада – или от запертого изнутри гостиничного номера. Но рано или поздно в этот замкнутый мир начинают проникать другие. Строптивой Блэквуд закрыли доступ к семейным деньгам, Фрейд тоже был на мели. Чтобы заплатить за отель, они предложили Сирилу Коннолли и его жене Барбаре Скелтон купить «Читающую девушку», когда картина была наконец закончена. Коннолли один из немногих поддерживал Фрейда с его первых шагов в искусстве. По возрасту он годился Каролине в отцы. Но, как это нередко случается, немолодой мужчина увлекся молоденькой девушкой и был не прочь приобрести на память ее портрет. Что он и сделал, хотя жена была против. Мало того, он признался жене в своем чувстве (которое, надо сказать, не имело никаких шансов на взаимность, сколь бы настойчиво и даже навязчиво оно ни предлагалось). Своей откровенностью он поставил крест на браке с Барбарой – она ушла от него к издателю Джорджу Вайденфельду. История с Коннолли лишь усилила давление извне, которое все острее ощущали на себе Блэквуд с Фрейдом.
Это ощущение приобрело новый градус после одного неприятного парижского эпизода, о котором Фрейд к концу жизни сам охотно рассказывал. Еще до войны, бывая в Париже, он познакомился с Пикассо и теперь повел Блэквуд в мастерскую мэтра на улице Больших Августинцев. «Ногти у Каролины всегда были обгрызены под корень, – рассказывал Фрейд, описывая сцену в мастерской, когда он представил Пикассо свою подругу. – Пикассо и говорит: „Давай я что-нибудь нарисую на твоих ногтях“. И нарисовал, тушью, – головы, лица, всякое такое. Потом говорит ей: „Хочешь посмотреть мою квартиру?“ У него там, на улице Больших Августинцев, было два этажа, если не больше. Ну и Каролина потащилась за ним, назад пришла только минут через пятнадцать – двадцать. После, когда мы ушли, я потребовал: „Выкладывай, что там было“. А она мне отвечает: „Не могу – ни за что и никогда“. Ну я больше и не спрашивал».
В 1995 году в интервью Майклу Киммельману Блэквуд поделилась своими воспоминаниями об этом эпизоде. По ее версии, Пикассо сам связался с Фрейдом через одного общего знакомого и пригласил его прийти посмотреть картины. Фрейд согласился и взял с собой Блэквуд. В какой-то момент Пикассо предложил ей подняться с ним на крышу и полюбоваться на его голубей. Подниматься нужно было по наружной винтовой лестнице. «И мы пошли, – вспоминала она, – виток за витком, все выше и выше, пока не влезли на самый верх, к этим его голубям в клетках, а со всех сторон, куда ни посмотри, открывался изумительный вид на Париж, лучше не бывает. И тут без всяких предисловий, стоя на крохотном пятачке крыши, высоко-высоко над городом, Пикассо набросился на меня так, что только держись. Я от страха себя не помнила и все повторяла: „Давайте спускаться, идемте вниз“, а он ни в какую: „Нет, нет, мы вместе над крышами Парижа“. Бред какой-то! Пикассо для меня был древний старец, гений не гений – все равно старый пень».
Весь рассказ Блэквуд выдержан в тональности пародийно-юмористического отчаяния. «Даже если бы я не сопротивлялась – как он себе это представлял? – недоумевала она. – Там просто негде было этим заняться, кругом сплошные голуби. Только подумать, скольких он туда, на крышу, затаскивал. Неужели у них там что-то получалось? Но как – как технически? Ума не приложу. А внизу муж дожидается, между прочим». Спустя некоторое время Люсьену, по ее словам, «откуда ни возьмись позвонила любовница Пикассо, – мол, не согласится ли он написать ее портрет. Она хотела, чтобы Пикассо ее приревновал. Люсьен очень вежливо ответил, что, возможно, позднее он и напишет ее портрет, но сперва ему нужно закончить портрет жены». (Строго говоря, они тогда еще не были женаты.)
Упомянутый портрет будет назван «Девушка в постели».
Фрейд должен был вскоре разменять четвертый десяток. В душе у него царила неразбериха, нервы были на пределе, как и у всех самых близких ему людей. Китти была беременна их второй дочерью, Аннабел. Девочка родилась в конце того же 1952 года. Но брак их рушился на глазах. «Девушка с белой собакой» станет последним из написанных Фрейдом портретов Китти.
Именно в этот момент, словно желая наконец разобраться с тем, кто учинил весь этот хаос и всколыхнул бурю страстей, он задумал написать автопортрет. Поверх грубого наброска углем он начал накладывать краску, продвигаясь как бы изнутри образа – глаза, нос, рот – наружу. Одна рука поднята к лицу, пальцы касаются губ – жест, символизирующий размышление и нерешительность; жест, использованный Эдгаром Дега на аналогичном вираже творческой биографии в нескольких портретах и автопортретах.
Мазок здесь свободнее, и краска не так равномерно распределена по поверхности, как почти во всех его предыдущих работах. Впрочем, не факт, что Фрейд собирался так это и оставить: свой эксперимент по самоизучению он до конца не довел.
В декабре 1952 года, в канун своего тридцатилетия, Фрейд принял приглашение Энн Ротермир – теперь уже Энн Флеминг (она вышла за Флеминга в марте) – и отправился на другой берег Атлантики. Это было его второе трансатлантическое плавание. Первое он совершил во время Второй мировой войны в качестве юнги-волонтера торгового флота. На сей раз конечной целью путешествия был не Ньюфаундленд, куда направлялся конвой (кстати сказать, конвой был атакован немцами), а Ямайка, где он несколько месяцев прожил на вилле Флеминга «Золотой глаз». Он писал на пленэре банановые пальмы и прочую экзотическую флору, а Флеминг в доме писал свой первый роман о Джеймсе Бонде «Казино „Руаяль“».
«Я замечал, что в критические периоды жизни меня отвращает от людей, – объяснял Фрейд позднее. – Перестать писать людей – это как полной грудью вдохнуть свежего воздуха».
Пока он сидел на Ямайке, мать Блэквуд не оставляла надежды пресечь их связь, а кроме того, хотела удалить Каролину из Англии на время коронации молодой королевы Елизаветы II (Каролину обошли приглашением принять участие в церемонии на правах одной из фрейлин новобрачной, и мать сочла это личным оскорблением). В итоге она отослала дочь в Испанию. В Мадриде Каролина давала частные уроки английского. Ее адрес от Фрейда скрывали, но он не собирался отступать – поехал в Мадрид искать любимую, хотя почти никаких зацепок у него не было. «Я знал только, что она в Испании, и еще номер дома – ни города, ни улицы не знал. Но я не сомневался, что найду ее».
Между тем развод с Китти был получен. Фрейд и Блэквуд официально вступили в брак в регистрационном офисе Челси в Лондоне 9 декабря 1953 года, на следующий день после того, как Фрейду исполнился тридцать один год. «Внук Фрейда женится» – под таким заголовком газеты напечатали сообщение о свадьбе.
«Каролина сказала, что, если мы поженимся, она не будет чувствовать себя изгоем, – говорил Фрейд спустя годы. – Ну и был еще один практический вопрос. Отец оставил ей деньги, но она не могла ими воспользоваться, пока жила во грехе».
Казалось, все складывается удачно, лучше не придумаешь. Они любили друг друга. Фрейд делал успехи, его работы получили признание, им восхищались влиятельные знатоки искусства и в Лондоне, и в Париже. Благодаря дружбе с Бэконом, его шарму и гиперобщительности жизнь била ключом, скучать не приходилось, всем было весело, они много от души смеялись. Война и ее долгий печальный след постепенно отходили в прошлое, в воздухе витал дух перемен. За Фрейдом и Блэквуд закрепилась репутация самой красивой, бесшабашной, загадочной пары в Лондоне. Они жили в квартире над рестораном в георгианском доме на Дин-стрит в Сохо, откуда Фрейд на рассвете уходил в свою паддингтонскую мастерскую. Каролина, вновь получившая право распоряжаться наследственными деньгами, преподнесла Фрейду свадебный подарок – спортивный автомобиль. Еще они купили бывшее аббатство в окрестностях Шафтсбери в Дорсете – «красивый старинный дом на берегу черного озера» (таким запомнил его Майкл Уишарт). Фрейд завел лошадей и накупил мраморной мебели. Он начал работу над фреской с цикламеном и своей самой амбициозной на тот день картиной – двойным портретом Каролины и ее сестры Пердиты. Обе работы – недобрый знак – были заброшены на ранней стадии.
Богатство Блэквуд, вкупе с ее внутренней свободой и непредсказуемостью, составляло часть ее очарования. Фрейд так долго находился в финансовой зависимости от Бэкона, что теперь рвался проявить – за счет жены – ответную щедрость. «Я попросил у нее денег для Фрэнсиса, чтобы он смог поехать в Танжер, – признался Фрейд. – Я объяснил ей, что у меня есть друг, который всегда выручал меня по первой просьбе, и что теперь я хотел бы ответить тем же, поскольку он встретил там человека, который ему очень дорог». Она не только дала нужную сумму, но вдобавок спросила: «Может быть, у тебя есть еще какие-нибудь пожелания?»
Человека, который был «очень дорог» Бэкону, звали Питер Лейси.
В 1952-м, то есть в том же году, когда Фрейд влюбился в Блэквуд, Бэкон познакомился с бывшим пилотом истребителя «спитфайр», участником воздушной Битвы за Британию (1940) Питером Лейси. Его нервы, как впоследствии объяснял Бэкон, не выдержали жестоких испытаний. Он был «страшный неврастеник – истеричный тип».
Они познакомились в «Колони Рум». Лейси, мужественный красавец с темными кругами под глазами, работал тапером в баре «Музыкальная шкатулка» – наигрывал мелодии Джорджа Гершвина и Коула Портера на белом рояле. Бэкон влюбился в него с первого взгляда. Он восхищался его внешностью («потрясающе сложен, у него даже икры ног – загляденье»), его фортепианной игрой, его врожденным чувством тщетности бытия (по убеждению Бэкона, то был результат наследственных денег) и его юмором: «Когда он в ударе, лучшей компании нельзя себе желать… Он был по-настоящему, от природы остроумен, так и сыпал остротами». Однако вместе с тем от Лейси исходила опасность – Бэкон впервые столкнулся с личностью, которая могла его полностью себе подчинить; до сих пор такую власть имел над ним только отец.
Бэкону было уже за сорок, но он уверял, что влюбился впервые. Лейси «вообще-то» любил мужчин моложе себя и, по словам Бэкона, скорее всего, просто не понял, что он, Бэкон, старше. «Так что он, в сущности, связался со мной по ошибке».
Оба питали слабость к спиртному и вечно друг друга подначивали. Лейси мог за день запросто «убрать» три бутылки крепкого алкоголя. У него был дом на Барбадосе, который Бэкон в первый год их знакомства написал для него по фотографии. Картина, по настоянию Лейси – он напрочь не принимал бэконовских живописных вывертов, – выполнена в банально-традиционном стиле. (Бэкону пришлось обратиться за помощью к приятелю-художнику, чтобы тот вкратце ознакомил его с законами перспективы.)
Четыре года подряд, начиная с 1952-го, Лейси арендовал Лонг-коттедж – дом в деревушке неподалеку от Хенли-на-Темзе – и предложил Бэкону жить там вместе. Бэкон решил уточнить, на каких условиях, и Лейси ему сказал: «Выделю тебе угол с соломой. Можешь там и спать, и срать». «Он хотел посадить меня на цепь», – признался Бэкон. У Лейси была целая коллекция кожаных плетей из реквизита садомазохистских ролевых игр, которые нередко переходили грань театрализованной условности и оборачивались реальным кошмаром.
Бэкон подолгу пропадал в Лонг-коттедже, но жить туда так и не переехал. Предложенные условия даже ему показались слишком экстравагантными и опасными для психики. Лейси, по его словам, «был законченный неврастеник, так что из совместной жизни с ним все равно ничего бы не получилось». Войдя в раж, он не только истязал самого Бэкона, но заодно кромсал его одежду и даже картины. Бэкон надолго выходил из строя. Не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, он мог только предаваться отчаянию – о работе нечего было и думать.
Пока Блэквуд и Фрейд оставались вместе, Бэкон постоянно был с ними, хотя они сами не осознавали степень его соприсутствия в их жизни. Много позже Блэквуд утверждала, что они с Фрейдом «ужинали с ним почти каждый вечер на протяжении всего этого замужества. И обедали тоже». Даже когда он отсутствовал, его харизматичность, неуемная энергия и аура трагической уязвимости накладывали свой отпечаток на взаимоотношения его друзей.
Да он, кажется, никогда не оставлял их наедине. В дорсетском доме Фрейда на почетном месте висела одна из его самых блестящих и смелых работ – «Две фигуры» (цв. ил. 12). Это первое в творчестве Бэкона изображение любовников. Картина написана в 1953-м, на втором году его романа с Питером Лейси. Она непосредственно восходит к серии пофазовых фотографий поединка борцов Майбриджа и при беглом взгляде напоминает бесформенную груду сплетенных тел. Но место действия – отнюдь не борцовский ковер, а постель – белые простыни, подушки, изголовье.
«Две фигуры» – это Лейси и Бэкон в постели. Смазанные лица создают эффект движения, порыва, нетерпения; яростный оскал (фигура внизу) усиливает это впечатление. Поверх лиц идут вертикальные полосы, проходящие и по темному фону вверху, – образная отсылка к тюремной решетке или к шарящим по темному небу прожекторам. Для эпохи, когда гомосексуальность была уголовно наказуема и почти не находила отражения в искусстве, это удивительно откровенная, жесткая, пронзительная картина. Пройдут многие годы, прежде чем шокирующее полотно будет выставлено на обозрение публики.
«Творческий процесс в чем-то сродни половому акту, – рассуждал Бэкон. – Совокупление, оргазм, эякуляция – всему есть место в творчестве. Итог зачастую плачевный, но процесс страшно захватывает».
Картина «Две фигуры» впервые была показана в верхнем выставочном зале лондонской галереи «Ганновер» и продана Фрейду за сто фунтов. Фрейд хранил ее у себя до самой смерти. Она висела на верхнем этаже его дома в Ноттинг-Хилле рядом с картинами Франка Ауэрбаха, в одной комнате со скульптурой Дега. Многие музеи обращались к Фрейду с просьбой предоставить шедевр Бэкона для участия в той или иной выставке. В 1962 году Фрейд пошел навстречу пожеланию галереи Тейт, и картину включили в ретроспективу Бэкона, но после этого она не покидала его дома и была недоступна для публичного обозрения.
Каролина Блэквуд всегда симпатизировала Бэкону. Гомосексуальность в целом и, уж конечно, ее частный случай в лице Бэкона вызывали у нее повышенный интерес. К тому же в их корнях и пристрастиях было удивительно много общего. У обоих за плечами осталось «лошадиное» англо-ирландское детство, оба питали отвращение к охоте на лис. Оба были невероятно начитанны. И у обоих – у каждого на свой лад – была тяга к бездне, к саморазрушению.
Блэквуд вспоминала, как однажды посреди дня Бэкон заявился в «Уилерс» сразу после визита к врачу: «Он вошел вразвалку, уверенной походкой пирата на кренящейся от качки палубе… и сказал, что доктор вынес вердикт: сердце изношено в хлам. Ни один из желудочков не работает как надо. Он, доктор, в своей практике ни разу не видел такого безнадежно больного сердца. Фрэнсиса строго предупредили: еще одна рюмка, малейшее волнение – и его песенка спета, никудышное сердце просто не выдержит.
Сообщив нам эту печальную новость, он поманил официанта и заказал бутылку шампанского, а когда мы ее распили, стал заказывать еще и еще. Весь вечер он веселился, но мы с Люсьеном шли домой понурив голову. Наш друг обречен. Мы не сомневались, что он на пороге смерти, а ведь ему только сорок! К вердикту врача мы отнеслись со всей серьезностью. Но как удержишь его от выпивки? Тем вечером мы невольно спрашивали себя, увидим ли его завтра. Но он дожил до восьмидесяти четырех!»
В 1954 году Фрейд и Блэквуд снова приехали в Париж. Они были женаты меньше года, но что-то уже пошло не так. Фрейд начал догадываться, что Блэквуд, со всем ее блестящим умом, красотой, необузданностью, возможно, ему не по зубам. «Дело в том, – объяснял Росс, поэт и журналист, впоследствии любовник Каролины Блэквуд, – что нужно быть очень любящим, если хочешь, чтобы она повернулась к тебе лучшей своей стороной. В противном случае твоя жизнь могла пойти кувырком».
«Такой холодной зимы, как в тот год, никогда еще не было, – вспоминала Энн Данн. – Каролина коченела и впадала в депрессию. Она понимала, что ее брак начал разваливаться».
Картина Фрейда 1954 года «Кровать в отеле» дает представление о проблемах, назревших в жизни молодой пары. На переднем плане Блэквуд лежит в постели, закрытая белой простыней, наружу высовывается только левая рука – длинные белые пальцы прижаты к щеке и губам. (Ее поза жутковатым образом предвосхищает намного более позднюю серию портретов овдовевшей матери Фрейда – страдающей, убитой горем старой женщины.) На заднем плане, освещенная сзади рассеянным светом, который проникает через большое окно, – фигура самого Фрейда. Руки засунуты в карманы, вид какой-то растерянный, затравленный.
У Блэквуд была предрасположенность к депрессии и уже появились первые признаки алкоголизма. Пьянство – проклятие всей ее взрослой жизни – всерьез началось в годы романа и брака с Фрейдом, в Сохо – в «Колони Рум», «Уилерсе» и «Горгулье». «Она бывала очень молчалива, пока не выпьет, – и тогда в ней вдруг что-то включалось, – рассказывал Росс. – В разговоре она все драматизировала и приукрашивала, но так остроумно, что слушать ее без смеха было невозможно».
Фрейд сам никогда всерьез не пил – старался не терять над собой контроля. Кутилой-заводилой был Бэкон – Бэкон с его легендарными попойками, неотразимым шармом, навязчивой щедростью… Против всего этого Каролина Блэквуд устоять не могла.
Ни муж, ни жена супружеской верностью не дорожили, хотя измены Фрейда обычно были скандальнее. Сказать, кто больше виноват в крахе брака, особенно если оба легкомысленны и непостоянны, – дело непростое. Тем не менее Фрейд впоследствии признался, хотя и с характерной для него лукавой оговоркой: «Если есть такая штука, как вина, то вина полностью на мне, и это еще мягко сказано». Сама же Блэквуд уверяла, что их брак разрушила страсть Фрейда к игре. Действительно, на протяжении нескольких десятилетий Фрейд был заядлым игроком – играл как одержимый. Единственное, чего он совершенно не переваривал, – это выходить по нулям.
Даже если слова Блэквуд правдивы лишь отчасти, нельзя сомневаться в том, что в те годы весь строй мыслей Фрейда нес на себе печать бэконовской установки жить наудачу. Когда Дэниэл Фарсон, один из тогдашнего кружка завсегдатаев Сохо, спросил Каролину Блэквуд, почему ее брак с Фрейдом распался, она ответила вопросом на вопрос:
– Ты когда-нибудь ездил с ним в автомобиле?
– Ездил. Чуть не умер со страху. Как только мы остановились на красный свет, выскочил из машины.
– Вот-вот, – прокомментировала Блэквуд, – значит, тебе не нужно объяснять, что такое жить с ним в браке.
Блэквуд сама ушла от Фрейда, не дожидаясь, когда он ее бросит. В один прекрасный день взяла и съехала от него в гостиницу. Фрейд чуть с ума не сошел. Для него это был страшный удар. Ничего подобного с ним еще не случалось.
Несколько лет он не мог прийти в себя, и выражалось это в том, что он беспрерывно играл, ввязывался в драки и говорил гадости Каролине Блэквуд. Бэкон стал тревожиться о его душевном здоровье. Он попросил Чарли Ламли, соседа Фрейда по Паддингтону, присмотреть за другом – боялся, что Фрейд ни больше ни меньше прыгнет с крыши. «Меня приставили к нему вроде няньки», как выразился сам Ламли.
Каролина Блэквуд еще дважды была замужем – за польско-американским композитором Израилем Ситковицем, а потом за поэтом Робертом Лоуэллом, ее бурные отношения с последним стали притчей во языцех. Как известно, Лоуэлл умер в 1977 году в нью-йоркском такси, когда ехал из аэропорта домой после очередной неудачной попытки помириться с Блэквуд. Водитель доставил пассажира к нужному дому на 67-й улице, но тот из машины не вышел. Привратник вызвал Элизабет Хардвик, писательницу, которую Лоуэлл в свое время оставил ради Блэквуд; квартира Элизабет Хардвик находилась в том же доме. Хардвик открыла дверцу и увидела, что Лоуэлл, безвольно обмякнув, сидит в машине мертвый, все еще прижимая к себе портрет Каролины Блэквуд – картину Фрейда «Девушка в постели».
Для Бэкона период с 1952 по 1956 год был, по свидетельству его биографа, «сплошным кошмаром с непрерывными дикими ссорами». Отношения Бэкона с Лейси «с самого начала обернулись полнейшей катастрофой. Безумная влюбленность – всепоглощающая, физическая одержимость кем-то – сродни неизлечимой болезни. Такого злейшему врагу не пожелаешь». И в то же время эта сметающая все на своем пути стихия послужила мощным творческим стимулом. Несмотря на полный хаос в душе и постоянные скитания из дома в дом, из мастерской в мастерскую, именно в эти годы Бэкон окончательно сформировался как уникальный художник.
В 1952 и 1953 годах он написал около сорока картин. Многие были уничтожены – самим Бэконом или Питером Лейси. В его живописи все отчетливее просматривается серийный принцип, когда в группе работ автор обыгрывает какую-то тему или мотив, будь то сфинкс, прижизненная маска Уильяма Блейка, кричащая голова (часто помещенная в прозрачный куб) на «фирменном» бэконовском фоне из вертикальных полос. Самая прославленная из его серий, «папская», вдохновленная Веласкесом, выросла из четырех не доведенных до конца попыток написать портрет художественного критика Дэвида Сильвестра. Новая серия была написана за две недели. С каждой следующей картиной лицо папы все больше теряет невозмутимость, искажается гневом и горем. И мы понимаем, что в той или иной мере все эти лица – портрет Лейси.
Популярность Бэкона быстро росла. В 1953 году его картины были впервые показаны в Нью-Йорке. Он опубликовал своеобразный «манифест» – очерк о творчестве художника Мэтью Смита, – где изложил многие из своих собственных, глубоко прочувствованных представлений об искусстве. О Бэконе начали писать критики, в том числе Джон Рассел и Сильвестр. Коллекционеры покупали его работы.
Оглядываясь назад, Бэкон призна́ется, что Лейси с самого начала терпеть не мог его живопись. Приступы слепой, бешеной ярости, которые накатывали на Лейси с неотвратимостью тайфуна, Бэкон не умел ни предотвратить, ни унять. Но именно поэтому он уже не мог без них жить. Каковы бы ни были истоки этой зависимости – отец-садист, отвращение к себе, просто жгучая потребность в преображающем забвении своего «я», – он жаждал унижения, полного бесправия. И дать ему это мог только Лейси.
Их отношения изначально были обречены. Но прежде чем они стали совершенно невыносимыми, Бэкон принес на их алтарь огромные жертвы, в частности дружбу с Фрейдом.
Отношения Бэкона и Лейси ставили Фрейда в тупик. Чем больше Лейси расходился и зверел, тем больше Бэкон к нему привязывался. Фрейд недоумевал и расстраивался. Он хотел понять! Но так и не сумел.
Однажды, в 1952 году, в чудовищном припадке ярости Лейси вышвырнул Бэкона в окно. Оба были пьяны, – вероятно, только это и спасло Бэкона. Он пролетел пятнадцать футов и остался жив, но лицо было разбито, особенно сильно пострадал один глаз. Этот инцидент спровоцировал ссору между Бэконом и Фрейдом.
«Когда я увидел Фрэнсиса, – рассказывал мне Фрейд, содрогаясь от ужаса, хотя с тех пор прошло полвека, – у него вываливался глаз, а сам он был весь в порезах. Я ничего не понимал в таких отношениях… да и что тут поймешь. Но я был так потрясен его видом, что схватил Лейси за шиворот и чуть его не придушил».
Фрейд рвался в драку, но Лейси не отбивался, выпад остался без ответа, и драка не состоялась. «Он ни за что не ударил бы меня, он ведь „джентльмен“, – объяснил Фрейд, – ни за что не ввязался бы в драку. Потасовки между ними были завязаны на сексе. Я ничего этого не понимал». В итоге Фрейд – во всяком случае, по его словам – после этого года три-четыре с Бэконом не разговаривал. «Дело в том, – сказал Фрейд, – что Фрэнсису этот человек был дороже всех остальных».
После инцидента, побудившего Фрейда вмешаться, Бэкон продолжал писать Лейси. В известном смысле все его картины второй половины 1950-х годов – это попытки внутренне договориться с ним. Их отношения продолжались и после 1956 года, когда Лейси переехал в Танжер и устроился тапером в бар «У Дина» – заведение, открытое в 1937 году неким Джозефом Дином (прежде, в бытность свою жиголо-трансвеститом и наркоторговцем, именовавшим себя Дон Кимфул). Танжер был в те годы международным раем, раскрывшим свои врата для поэтов, художников, наркоманов, уголовников, шпионов и романистов. Побывав там в 1956 году и снова в 1957-м, Бэкон познакомился с Уильямом Берроузом и Алленом Гинзбергом, с Теннесси Уильямсом и Полом Боулзом. Ему нравилось расхаживать по городу в компании с Ронни Крэем, параноидальным шизофреником, который вместе со своим братцем Реджи промышлял рэкетом и прочим криминальным бизнесом, не брезгуя убийствами. Ронни, по свидетельству Пеппиатта, «вошел во вкус легкодоступных в арабском порту гомосексуальных сношений».
На Боулза Бэкон произвел впечатление «человека, который вот-вот взорвется от всего, что распирает его изнутри». Между тем Лейси заключил с сомнительным мистером Дином роковой пакт: чтобы покрыть долг за выпитое в кредит спиртное, он обязался играть каждый вечер до закрытия. Для алкоголика – да еще с уникальной способностью Лейси к саморазрушению – это было смерти подобно. Чем дольше он играл, тем больше рос его счет, убивая всякую надежду когда-либо по нему расплатиться. К тому времени, как Бэкон в 1956 году первый раз приехал в Танжер, «Лейси был уже намертво прикован к Дину» (Пеппиатт).
К 1958 году роман Лейси с Бэконом фактически сошел на нет. Найти другого сексуального партнера в Танжере было проще простого, и оба вовсю этим пользовались. Тем не менее за прошедшие годы они эмоционально, психологически, сексуально вросли друг в друга, и привычная жестокость в их отношениях никуда не делась. Страшно избитого Бэкона не раз видели на улице среди ночи. Дошло до того, что британский консул счел своим долгом вмешаться и уведомил о своем беспокойстве начальника танжерской полиции. Выяснив, что к чему, начальник полиции отрапортовал: «Сожалею, месье консул, но тут мы бессильны. Месье Бэкону это нравится».
В 1954 году Фрейда и Бэкона – вместе с третьим художником, абстракционистом Беном Николсоном, – выбрали представлять Британию на Венецианской биеннале, самой престижной и резонансной тогда, как и сейчас, международной выставке современного искусства. Для обоих это означало большой успех. Комиссаром Британского павильона, ответственным за организацию выставки, был Герберт Рид. Николсон, самый старший из участников (ему тогда было под шестьдесят), вполне мог претендовать на львиную долю внимания и почета, однако ему отвели меньший, боковой зал. Рид оправдывал свое решение тем, что «огромное и мрачное» полотно Бэкона будет лучше смотреться при «беспощадном свете» большого зала с его стеклянным потолком. Но и Фрейд, с гораздо меньшими по размеру и далеко не столь драматичными работами, тоже удостоился большого зала, хотя в свои тридцать три он был во всех смыслах младшим. Впрочем, в выставленных им картинах ощущалась особая, странная сила; во многих отношениях они являли собой квинтэссенцию последних трех лет его жизни. Среди них были два портрета Китти («Девушка с котенком» и «Девушка с белой собакой»); портрет Каролины и себя самого в Париже («Кровать в отеле»); картина с банановой пальмой на Ямайке; «Интерьер в Паддингтоне» и маленький, впоследствии украденный портрет Бэкона.
По случаю биеннале Фрейд разродился манифестом, озаглавленным «Размышления о живописи». Во всей долгой артистической карьере Фрейда это единственное его прямое программное высказывание в печати. Немного рискованный шаг, объяснявшийся отчасти желанием молодого художника как можно громче о себе заявить (в зрелые годы Фрейд избегал публичных деклараций), а отчасти внутренней острой потребностью нащупать надежную опору. В момент, когда его творческий поиск достиг критической точки, когда он подпал под сильное воздействие Бэкона, молодой художник решился письменно сформулировать самые важные для него, незыблемые принципы. Вдвойне важные, поскольку в них провозглашены его творческие амбиции. Это своего рода декларация о намерениях.
Первоначально Фрейд готовился к интервью на радио Би-би-си, его текст прошел редактуру Дэвида Сильвестра и позже был напечатан в июльском номере журнала Стивена Спендера «Энкаунтер» (Encounter). Молодой автор начинает с ключевого положения о цели своего искусства, которую он видит в «интенсификации реальности», иными словами, в чем-то большем, нежели просто «реалистичность». И далее в тщательно сконструированных, очень рассудочных пассажах – ничего похожего на бэконовский искрящийся юмор и эффектную браваду – он перечисляет такие необходимые составляющие, как эмоциональность, проникновенность, выявление внешне сокрытого, приоритет правды жизни над эстетикой.
Во многом он вторит Бэкону – например, говоря о необходимости «дать полную волю любому чувству или ощущению» или, перефразируя ту же мысль, что искусство неизбежно деградирует, если перестает служить прямым проводником «ощущения» художника. И, подобно Бэкону, определившему искусство как «одержимость жизнью», Фрейд пишет: «Предпочтения художника должны произрастать из того, чем он одержим в жизни – одержим настолько, что ему нет нужды спрашивать себя, уместно то или это в его искусстве или нет».
И все же нельзя не заметить, что Фрейд не сдается, – он хочет как можно четче обозначить принципиальные различия. Например, настаивает на том, что в работе с натурой необходимо «самое пристальное наблюдение»: «Если это требование выполняется денно и нощно, то объект наблюдения – он, она, оно – в конце концов выявляет всю свою сущность, без чего любой отбор невозможен».
Он также подчеркивает необходимость «определенного эмоционального дистанцирования от объекта, с тем чтобы позволить тому „заговорить“». После долгих натурных сеансов с Каролиной Блэквуд в Париже Фрейд особенно остро ощутил опасность позволить своей «страсти к объекту захлестнуть художника в процессе работы над картиной».
Бэкон писал портреты по фотографиям и по памяти – физическая дистанция, «некоторая обособленность», была для него непреложным условием. Фрейд, напротив, всегда нуждался в длительном присутствии модели. «Модель воздействует на пространство, – утверждал он, – и это воздействие присуще модели не меньше, чем, допустим, ее цвет или запах… Поэтому атмосфера, окружающая объект, так же важна для художника, как и сам объект».
Но, словно бы упреждая обвинение в том, что его картины не более чем слепки с его собственных близких отношений с людьми и, следовательно, их притягательность по преимуществу сентиментального свойства, Фрейд особо оговаривает такое важное качество законченного произведения искусства, как его автономность – способность жить своей жизнью. «Художник обязан воспринимать все, что он видит, как нечто существующее исключительно для его собственной пользы и удовольствия. Художник, усердно служащий натуре, не более чем исполнитель. Но поскольку модель, которую он так прилежно копирует, не будет висеть рядом с картиной, поскольку картина будет представлена сама по себе, не имеет никакого значения, является ли она точной копией модели. Насколько она убедительна, зависит только от того, что она сама собой представляет, что можно увидеть в ней самой. Модель выполняет очень личностную функцию – служит отправной точкой эмоционального состояния художника».
До встречи с Бэконом Фрейд был талантлив, но в искусстве – как, вероятно, и в жизни – еще склонен к сентиментальности и подростковой проекции неосознанных желаний. Но в горниле его отношений с Блэквуд (окончившихся жестоким разочарованием) и с Бэконом (вовлеченным в любовную связь такого испепеляющего накала, что от романтики и сантиментов не осталось и следа) родилось понимание притягательной силы экстремальности, одержимости и жестокости.
Как скажет Фрейд впоследствии, его ранний «метод был настолько трудоемкий, что просто не допускал никакого влияния извне». Пока не появился Бэкон.
Влияние Бэкона коснулось всего. Общение с ним привело к большим переменам в жизни Фрейда, но главное – оно спровоцировало подлинный, хотя и медленно разгоравшийся творческий кризис, который затронул не просто его «метод», но и само восприятие предмета изображения, внутреннее представление о том, что для него, как для художника, приемлемо.
В период до Китти целью его портретной живописи было передать душевную близость, привязанность. И это осталось неизменным. Изменились способы передачи. Если прежде он полагал, что бескомпромиссная верность внешнему облику, каждой его детали уже передает всю полноту его погруженности в предмет, то теперь он не был в этом так уверен. Под влиянием Бэкона он стал все больше внимания уделять трехмерности модели. Он с интересом изучает волюметрические (передающие объем) подробности внешности – пучки мышц, складки жира и лоснящуюся, отражающую свет кожу. Не эти ли подробности наполняют жизнью его живописный портрет Бэкона? В его картинах появляется какое-то новое измерение. В них исчезают приметы прежнего, утрированного, романтического и в чем-то еще мальчишеского «стиля».
В художественном отношении Фрейд заметно повзрослел. Но удовлетворения он не чувствовал. Достаточно было взглянуть на работы Бэкона, чтобы понять: нужно двигаться дальше. «У меня глаза из орбит вылезали – сидишь и сидишь как приклеенный и пошевелиться нельзя, – говорил он Фиверу. – Маленькие кисти, тонкий мелкозернистый холст. Это бесконечное сидение меня уже с ума сводило. Я больше так работать не мог, я хотел какой-то свободы».
И перемена наступила – радикальная перемена. После «Кровати в отеле» Фрейд стал работать стоя и, по его словам, «больше уже не садился». Он отложил в сторону тонкие колонковые кисти и стал приучать себя к «кабану» – более толстым щетинным кистям – и к более густым, вязким краскам. Он пытался изменить и разнообразить технику мазка, чтобы каждое прикосновение кисти к холсту уподобить ходу в азартной игре.
Касаясь отношений Бэкона с Лейси, Фрейд признавал, что тут он решительно ничего не понимал. Не потому ли Бэкон часто раздражался и мысленно задвинул Фрейда в разряд наивных, глупеньких простаков-инженю?
Подобный вывод – упрек в наивности, только на сей раз применительно к искусству, – содержится в его последующей оценке живописи Фрейда: она «реалистична, не будучи реальной». И действительно, наивность, сознательно культивируемая, была ведущей характеристикой раннего творчества Фрейда, – вероятно, это-то и не устраивало Бэкона. Признание, пусть скромное, которое Фрейд получил в ранней молодости, ему обеспечил откровенно детский стиль, который, по выражению Лоренса Гоуинга, транслировал «визионерское простодушие детства». Зрители часто отмечали как причудливую мечтательность ранних работ Фрейда, так и его юношеский романтизм, готовый прорваться сквозь напряженную сосредоточенность его ранних портретов с их раз и навсегда широко раскрытыми глазами.
На первый взгляд в этом есть какая-то аномалия. В конце концов, Фрейд образован и умен, он не тушуется в компании весьма интеллектуальных поэтов, меценатов и художников своего времени, таких как Спендер, Уотсон, Берар, Пикассо, Кокто и братья Джакометти. Его «детский» стиль не был просто позой. Однако в нем чувствуется некая преднамеренность, сознательное культивирование детского взгляда, в полном соответствии со знаменитой бодлеровской формулой, что «талант и есть вновь обретенное детство». Эта мысль была вполне серьезно воспринята многими титанами искусства XX века, включая Пауля Клее, Хуана Миро, Пикассо и Матисса: все они напрямую черпали вдохновение в детском искусстве. Но это шло совершенно вразрез с художественной эволюцией Бэкона, которая опиралась на иное, сугубо взрослое ви́дение мира – пессимистичное, беспощадное, экзистенциальное и откровенно сексуальное. Бэкону претила иллюзия как таковая, в том числе иллюзия детства как некий образ творческой Аркадии. И если Фрейд мог в шутку сказать: «Мне нравится анархическая идея человека из ниоткуда… потому, что у меня было безоблачное детство», то Бэкон всю жизнь без оглядки бежал от своего травматичного детства. И конечно, если брать более широкий общественный контекст – холокост, Хиросима, Сталин, Франко, Гитлер, – само время не слишком располагало к играм в детские грезы. Именно по этой причине после войны сюрреализм быстро отшумел: увлечение аморальной анархией безудержных фантазий не выдержало проверки на прочность в мире, пережившем глобальную моральную катастрофу. И Фрейд сам прежде многих это почувствовал. Он оставил сюрреалистические эксперименты в ранней молодости. Но тогда он еще не нащупал все те ингредиенты, которые в итоге превратят его в большого художника. Для этого ему нужен был Бэкон.
До конца непонятно, как долго длился разрыв между художниками. Фрейд утверждал, что годы, другие говорили – несколько недель. Но всепоглощающая страсть Бэкона к Лейси продолжалась намного дольше, год за годом становясь все разрушительней и, несомненно, выталкивая Фрейда на периферию. Несмотря на то что социально и художественно они оставались тесно связаны, былая дружба Фрейда с Бэконом навсегда осталась в прошлом.
Они нередко общались в 1950–1960-е годы, продолжая вращаться в одних и тех же богемных кругах Сохо, но в искусстве они пошли разными путями. Бэкон вступил в период расцвета (примерно 1962–1976), создавая картины невероятной мощи – и получая солидную поддержку критики. Из картины в картину кочуют у него истекающие кровью, бескостные фигуры с побитыми лицами и вывернутыми конечностями на ярком, чистом геометрическом фоне, и все это написано сочным, насыщенным, зловеще искусственным цветом.
В то время как Фрейд, замкнутый в стенах мастерской, упорно продолжал свой одинокий путь – по-прежнему писал с натуры и не отступал от главных принципов, хотя под влиянием Бэкона постепенно расширял свой репертуар. При этом его страсть к азартным играм постоянно грозила выйти из-под контроля, а его сексуальные похождения превратились в кошмарный, не поддающийся описанию лабиринт.
Бэкон еще не раз создавал портреты Фрейда – всего их четырнадцать – в период между 1964 и 1971 годом. Все они основаны на фотографиях Дикина, которые были обнаружены в мастерской Бэкона после его смерти – сложенные пополам, порванные, измятые, забрызганные краской. (Отталкиваясь от одной из этих фотографий, в 2013 году американский художник Джаспер Джонс сделал серию картин и принтов под общим названием «Сожаления», которую посвятил художнику Роберту Раушенбергу – в память о собственной утраченной любви.) Среди бэконовских портретов Фрейда три триптиха в полный рост. Первый написан в 1964 году (тогда же он, шутки ради, выполнил еще и автопортрет, в котором соединил собственные черты с фотообразом Фрейда), второй – в 1966 году. Третий, 1969 года, установил новый рекорд цены на произведение искусства, уйдя с аукциона в 2013 году за 142,4 миллиона долларов.
Фрейд тоже предпринял новую попытку написать Бэкона в 1956 году, интересную тем, что это один из первых примеров его новой, более свободной живописной манеры. Но работа осталась незавершенной.
Словно бы желая поквитаться за все, что пошло вкривь и вкось с появлением Лейси, Фрейд сблизился со следующим любовником Бэкона, Джорджем Дайером, когда Дайер дважды позировал ему для портретов, в 1965 и 1966 годах.
Как бы то ни было, к началу 1970-х Бэкон и Фрейд определенно разошлись. О причине остается только гадать. Когда Стивен Спендер спросил Бэкона, дружны ли они по-прежнему, Бэкон предоставил ответить на вопрос Дайеру: «Люсьен наодалживал у Фрэнсиса кучу денег, всё проиграл и ничего не вернул. Я сказал Фрэнсису: „Все, Фрэнсис, с этим пора кончать“».
Бэкон и сам предельно ясно высказался в 1970-х: «Если честно, я не привязан к Люсьену, как привязан, например, к Родриго [Мойнихану] и Бобби [Булеру]. Просто он без конца мне названивает».
Фрейд подозревал, что здесь не обошлось без камня за пазухой. «Когда я начал добиваться успеха, Фрэнсис рвал и метал, – сказал он. – Сильнее всего его задевало то, что мне стали платить довольно большие деньги. Он вдруг ни с того ни с сего поворачивался ко мне и говорил: „Ну конечно, ты же у нас богатенький“. Странно было это слышать, потому что раньше, долгое, долгое время, я вечно у всех занимал, у него в том числе».
Характер у Бэкона, по словам Фрейда, «страшно изменился – из-за алкоголя, я думаю. Нужно было во всем с ним соглашаться, иначе он выходил из себя. Он требовал восхищения, не важно от кого. Хотя обаяние осталось при нем. Стоило ему зайти в магазин или ресторан, и все были очарованы».
История эволюции искусства Фрейда – его все более яростная атака на сентиментальность, отчего многим его портреты стали казаться «жестокими» и «безжалостными», – это во многом история его борьбы за контроль над романтичностью и простодушием. История долгой борьбы не за подавление, но за обуздание самых сильных чувств – чувств, порождаемых одержимостью и длительной сверхблизостью. Пример Бэкона – несентиментального по своей сути и в то же время порой, с точки зрения Фрейда, неуместно театрального – сыграл в этой трансформации огромную роль. Бэкон как образец для подражания служил образцом того, как делать не надо.
«Я думаю, что свободная живописная манера Фрэнсиса помогла мне раскрепоститься, – объяснял Фрейд. – Все вокруг считали, и говорили, и писали, что я очень хороший рисовальщик, но мои картины линеарны, в них главное – рисунок, и по моей живописи видно, что я хороший рисовальщик. Я не особо прислушиваюсь к тому, что пишут, но тут я подумал, что, если это правда, мне пора остановиться. Писать картины и постоянно думать о рисунке, а не о красках – это безумно раздражает. И я прекратил рисовать на многие, многие годы».
Такой разворот был не только знаменателен, но и крайне рискован. С самого начала репутация Фрейда, какой бы она ни была, держалась почти исключительно на силе его рисунка. Критики, художники и историки искусства, от Герберта Рида и Кеннета Кларка до Грэма Сазерленда, превозносили его именно за это.
И вот, под влиянием Бэкона, он полностью прекращает рисовать и старается раскрепостить свою живописную манеру. При этом не отказывается от своего невероятно медлительного и трудоемкого рабочего метода. Но теперь, вслед за Бэконом, он включает в процесс элемент случайности и риска, размывает и смещает неподвижные черты лица, использует густоту и скрытую энергию масляной краски в каждом мазке кисти. Он больше фокусируется теперь на плоти, нежели на глазах и лице, и начинает трактовать человеческое тело как своеобразный ландшафт, состоящий из меняющихся, почти произвольных объемов, которые постоянно исчезают и заново возникают в зависимости не столько от смены освещения, сколько от состояния кожи и тока крови, движений костяка, мышц и жировой прослойки.
Перемены происходят медленно. Его зрелый стиль – тот Люсьен Фрейд, которого мы знаем сегодня, – формировался годами. И в промежуточный период результат нередко бывал крайне странным и неубедительным. Многие из тех, кто следил за его развитием, отказывались верить своим глазам. Те, кто прежде его поддерживал, чувствовали себя обманутыми. Общий смысл реакции Кеннета Кларка сводился к следующему: «По-моему, вы сошли с ума, но я желаю вам всего наилучшего». И на сем маститый критик перестал с ним общаться.
В итоге Фрейд на долгие годы застревает в положении уважаемой, но малозначительной фигуры – известной не столько своим творчеством, сколько силой и самобытностью личности; за пределами Великобритании его практически не знают. Так продолжается почти до конца 1980-х, когда Фрейду уже за шестьдесят и когда уже просто невозможно и дальше не замечать того, что выходит из его мастерской, настолько все это мощно, пронзительно, завораживающе. (Берлинская выставка, с которой украли портрет Бэкона, подвернулась как раз в этот момент.)
Фрейд рассуждает о том, что для него голова – «всего лишь одна из конечностей» и что чертам лица модели он придает не больше значения, чем бедрам, пальцам и гениталиям. Восставая против клише «глаза – зеркало души», он пишет людей либо спящими, либо с пустыми, мертвыми глазами. Он подрывает сами устои жанра портрета как некой функции двух величин – психологии и социального статуса. И рассматривает его как функцию, или результат, пристальнейшего изучения одним человеком другого.
Бэкон же на протяжении всего этого времени стремительно летит к славе. Благодаря отчасти его знаменитым блестящим интервью с Дэвидом Сильвестром он становится знаменитостью. Ему устраивают крупные ретроспективы, сперва в галерее Тейт в Лондоне, затем в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, обе в 1962 году, а после, в 1971 году, в парижском Гран-Пале. К нему относятся с почтением не только в Англии, но и повсюду в Европе, а вскоре и в Соединенных Штатах. О нем пишут авторитетные европейские авторы – Жорж Батай, Мишель Лейрис, Жиль Делёз. Ему рукоплещут.
В своей риторике Бэкон (изумительный апологет собственного творчества) настаивает на том, что его главная задача в живописи – любой ценой избежать скуки «иллюстративности». «Я не желаю рассказывать историю, – говорил он телеведущему Мелвину Брэггу. – Нет у меня никакой истории для рассказа». Не история, а прямой удар по «нервной системе» – вот что такое в идеале его картины; без интеллектуального фильтра, без «длинной диатрибы» в мозгу зрителя.
Способность Бэкона создавать выдающиеся произведения, по признанию Фрейда, сохранялась «на удивление долго». И в лучших своих работах он навсегда останется одним из ярчайших художников XX века. Но его позднее творчество во многом переродилось именно в то, от чего Фрейд – зачарованный Бэконом – так мучительно старался избавиться: в манерность, в антологию штампов-аффектаций. Большие участки его холстов сплошь и рядом пусты и безжизненны. Он все чаще эксплуатирует визуальные «фишки» – провокационные символы, вроде стрел, шприцев, свастик, имитаций газетного шрифта; при этом их роль в общем замысле, как правило, ничтожна. В итоге картина нередко сводилась к иллюстрации его собственной риторики – риторики, отлившейся в некий условный язык для посвященных.
Слабый рисунок Бэкон компенсировал волшебной живописной техникой – какая динамика, цвет, текстура, какие неожиданные смены темпа! Но если оставить в стороне бесподобную выразительность лиц, его полотна – особенно торсы и конечности фигур – зачастую оказываются плоскоописательными в духе той самой банальной «иллюстративности», от которой он, по его словам, бежал как от огня.
Под конец жизни Фрейд говорил Уильяму Фиверу, что однажды в рабочем угаре вдруг «заметил, когда писал большую картину: я использую одну кисть для всего подряд. Меня самого это позабавило, потому что в тот момент я как раз делал довольно тонкую работу, а в руке у меня была большая кисть, насквозь пропитанная краской. Это как если бы кто-то кричал, используя наугад первое слово, какое пришло в голову, в расчете на то, что сам крик донесет нужный смысл. Если ты знаешь, чего хочешь, тебе сгодится практически что угодно. Твой бессвязный, без всякой грамматики крик будет всем понятен. Все дело в силе посыла».
Эти слова поразительным образом перекликаются с тем, что нам известно о творческих методах Бэкона, когда в ход шли старые тряпки, скомканные обрывки газет, да просто руки художника – только для того, чтобы резко усилить эмоциональный посыл, создать эффект внезапности. И в этом еще одно свидетельство влияния Бэкона на Фрейда – влияния, которое он испытывал до самой смерти в 2011 году.
Кража есть кража. Знаменитая она или нет, суть одна – дерзкий, грубый акт, в основе которого просчитанный риск и прагматизм. И в этом смысле Фрейд, вероятно, мог поставить себя на место того, кто это сделал. Оба, и он сам, и Бэкон, водились с криминальными типами, оба в известной мере к ним благоволили. Оба к тому же по молодости лет, случалось, подворовывали и не мучились угрызениями совести. Так что наглая кража портрета из берлинского музея – просто проигрыш, очередная игра слепого случая.
Однако, по моему убеждению, утраченный портрет не мог не стать для Фрейда символом чего-то ускользающего, неуловимого и непостижимого в его отношениях с Бэконом, символом их старого и неразрешенного спора.
И если плакат с шапкой «Разыскивается», придуманный с целью вернуть украденный портрет, был скорее шуткой (Бэкон в образе «подозреваемого в совершении преступления» с вероятной отсылкой к фотографиям Дикина – «магшотам, выполненным настоящим художником»), в этой шутке все же слышна пронзительная нота. Это, если угодно, признание в том, что не только потрясающая картина, но и сам изображенный на ней человек, сами отношения с ним автора значили для него бесконечно много и что когда-то, неведомо почему, все это утекло у него между пальцами, как песок.
Поллок и де Кунинг
Предательство – это просто зловещее проявление душевной близости.
Адам ФиллипсОднажды ночью, в начале 1950-х, под окнами таверны «Кедр» в Гринвич-Виллидж, на бордюре тротуара, сидели два художника и по очереди отхлебывали из одной бутылки. Старший из них, Виллем де Кунинг, недавно разменял шестой десяток. Он был прирожденный шутник. За его открытой, дружелюбной манерой скрывалась ироничная насмешка. «Забота о самосохранении наводила на него скуку», – говорил о нем Эдвин Денби. А скучать он не любил. Де Кунинг был дьявольски умен. Он все знал и все испытал – и все же мир не переставал его удивлять. «Джексон, – сказал он, хлопнув по плечу приятеля-художника Джексона Поллока, – ты величайший художник Америки!»
Поллок был человек настроения, особенно когда выпьет, а напивался он в те дни постоянно и уж точно не выходил трезвым из «Кедра» – облюбованной художниками и всеми, кто вокруг них вился, забегаловки, где в пьяной браваде каждый старался заткнуть другого за пояс. Поллок тоже был не дурак – на свой особый манер, хотя мысли излагать не умел и в споре заводился с пол-оборота. Он нуждался в дружбе и общении с людьми, но всякий раз сам все портил. Де Кунинг ему нравился и как человек, и как художник, и тот в общем и целом отвечал ему тем же. Они знали друг друга лет десять, но близкими друзьями никогда не были. Их отношения складывались непросто.
Дело в том, что все вокруг считали их соперниками, и не без оснований. Но на заре их знакомства ни о каком соперничестве речь не шла, и навязанная им извне роль обоих тяготила. Вечно изображать непримиримую вражду на потребу охочей до сплетен толпе было утомительно и крайне глупо.
И вот теперь, изрядно накачавшись, они устроили потешное «примирение». «Нет, Билл, – ответил Поллок, возвращая бутылку де Кунингу, – это ты величайший художник Америки». Де Кунинг заартачился. Поллок настаивал. Так они валяли дурака, передавая друг другу бутылку, пока Поллок не отключился.
В 1938 году Виллем де Кунинг нарисовал замечательный портрет двух мальчиков (ил. 4 в тексте). Рисунок выполнен так изящно, что на него страшно дышать: слабый след от графитного карандаша того и гляди исчезнет с листа. Когда смотришь на эту работу, в глаза бросаются две вещи. Перво-наперво ты понимаешь, что де Кунинг (к слову сказать, его фамилия по-голландски означает «король») умел рисовать. Он и правда был отменный рисовальщик, техникой владел виртуозно, притом в самом что ни на есть академическом смысле, и к тому же обладал специфическим вкусом к необычным, запоминающимся деталям: несуразные башмаки и заправленные в гетры штаны, рассеянный взгляд.
Второе, на что обращаешь внимание, – странное ощущение раздвоенности. Хотя мальчики на портрете одеты по-разному, и рост у них разный, и держатся они с разной уверенностью, все равно они как-то уж слишком похожи. Может быть, мальчик один – в двух лицах? Позже де Кунинг признался, что так и есть: и тот и другой – его автопортрет. Однако его друг, художник-карикатурист Сол Стайнберг, придерживался иного мнения. Купив рисунок, Стайнберг дал ему название «Автопортрет с воображаемым братом», которое и поныне в ходу.
4. Виллем де Кунинг. Автопортрет с воображаемым братом. Ок. 1938. Бумага, карандаш. 33,3 × 26 см. Коллекция Дж. Крейвиса, Талса, Оклахома. Kravis Collection. © 2016 The Willem de Kooning Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Стайнберг не мог знать, во всяком случае тогда, что у де Кунинга был единоутробный брат Коос и что брат этот был, без всякого преувеличения, воображаемым: десятью годами раньше де Кунинг отрезал его от себя и с тех пор жил так, словно ни брат, ни другие члены семьи попросту не существовали. В 1926 году, в возрасте двадцати двух лет, он покинул родную Голландию, нелегально проникнув на борт британского грузового судна «Шелли». О своем отъезде он не предупредил ни родителей, ни любимую сестру Марию, ни Кооса, своего младшего брата, который во всем стремился ему подражать.
Поразительная способность ускользать осталась с ним на всю жизнь (проявляясь как в отношениях с людьми, так и в его нежелании хранить верность какому-то одному стилю, одной эстетической программе), но воспоминания о том первом драматичном побеге всегда тревожили де Кунинга. Он отрезал себя от прошлого и открыл целый мир, успех сопутствовал ему: де Кунинг стал со временем одним из двух лидеров абстрактного экспрессионизма, американского художественного течения, изменившего ход развития искусства. Но какую цену заплатил он за свой успех?
Роттердамское детство Виллема, Марии и Кооса безоблачным точно не назовешь. В ту пору Роттердам представлял собой быстро растущий портовый город в дельте Рейна и Мааса, несущих свои воды в холодное Северное море. Отец де Кунинга Лендерт торговал цветами. Позже он оставил цветы и занялся пивом (в том числе продукцией местной пивоварни «Хайнекен») – разливал его по бутылкам и развозил торговцам. В 1898 году он познакомился с Корнелией Нобель, весьма норовистой девушкой из рабочей среды. В сентябре того же года Корнелия забеременела, и в 1899-м, через полгода после поспешной регистрации брака, у них родилась дочь Мария. Потом на свет появилась двойня, тоже девочки, но они умерли вскоре после рождения. Четвертый ребенок Корнелии прожил полтора года.
Следующим был Виллем. Он родился в 1904 году и рос в ужасающей бедности. За шесть первых лет совместной жизни Корнелия и Лендерт сменили семь квартир, да и после рождения Виллема без конца кочевали с места на место. В 1906 году их брак распался. Инициатором бракоразводного процесса выступил Лендерт – доведенный до отчаяния, забитый, изверившийся человек, который до смерти устал жить с «истеричкой». Биографы де Кунинга, Марк Стивенс и Анналин Суон, с большой долей вероятности предполагают, что Корнелия поколачивала не только детей, но и мужа. Тем не менее опеку над обоими детьми, Виллемом и Марией, присудили ей. Весной 1908 года она снова надумала выйти замуж, но маленький Виллем мешался у нее под ногами, и его отослали к отцу. Впоследствии, возможно почувствовав укор совести, она пыталась убедить всех (включая Виллема), что Лендерт похитил сына и ей пришлось выдержать долгую борьбу, пока она добилась опеки, чтобы вернуть его себе. Однако Стивенс и Суон не нашли этому подтверждений.
А вскоре и Лендерт повторно женился. Вторая жена была намного его моложе; в конце 1908 года она забеременела, и Виллем опять оказался помехой – его отправили к матери. Корнелия жить не могла без скандалов. Когда Виллем немного подрос, она стала без конца цепляться к нему, не жалея яда и сарказма, и между ними вспыхивала яростная перепалка: мать и сын азартно изощрялись в ругани, и ни один не хотел уступить. Такой у нее был характер – всеми помыкать, устраивать бурные сцены, словом, «выступать». Невольно думаешь, что память о матери, преломленная творческим сознанием де Кунинга, проникла в знаменитую серию его «Женщин» – больших, карикатурно-гротескных, написанных с бешеным темпераментом женских фигур с квадратными плечами, могучей грудью, осклабленным зубастым ртом и безумным взглядом, – серию, которая сорок лет спустя прославит художника.
Когда Виллему было восемь, Корнелия родила еще одного сына, на этот раз от своего второго мужа Якобуса Лассоя, тихого, вежливого человека, владельца кофейни. Маленький Коос боготворил старшего брата. Виллем хорошо и охотно учился, несмотря на то что семья жила впроголодь – сидели на картошке да репе.
Виллем увлекся рисованием и в двенадцать лет поступил учеником в солидную фирму по оформлению интерьеров «Гиддинг и сыновья». Способного юношу заметил один из совладельцев фирмы, Яп Гиддинг, убедивший его записаться в расположенную неподалеку Художественно-промышленную академию. Это учебное заведение считалось престижным, и недаром: помимо традиционной подготовки в области изобразительных искусств, студенты получали прикладные знания и навыки, ориентированные на промышленное производство. В течение четырех лет, с 1917 по 1921 год, де Кунинг посещал вечерние курсы. Требования в академии были высокие, дисциплина строгая, атмосфера соревновательная. Шестьсот часов, или немногим меньше года (работая по два дня в неделю), де Кунинг потратил на один-единственный рисунок: натюрморт с керамическими предметами – блюдом, кувшином и бутылью – на столе.
Главное, чего добивались придирчивые наставники, как впоследствии объяснит сам де Кунинг, – «освободить взгляд студентов от шор условности, научить их передавать только свое непосредственное впечатление». Казалось бы, очень либеральный, почти модернистский подход, но на деле все обстояло не так просто. Чтобы представить законченную работу, нужно было долго и упорно трудиться. Начинающих художников приучали в течение всего рабочего процесса удерживать взгляд на одном, строго фиксированном уровне, ни на йоту не меняя угла зрения, и следить за тем, чтобы расстояния между учеником, постановочным натюрмортом и листом бумаги всегда оставались неизменными. Студентам приходилось снова и снова, неделями, месяцами, возвращаться в одно и то же положение. В итоге, по словам де Кунинга, получалось «очень похоже на фотографию, только поромантичнее».
Интересы молодого де Кунинга не ограничивались блестяще проработанными академическими штудиями. Он питал слабость к юмористическим рисункам и карикатурам и хорошо чувствовал этот жанр, с его уверенными, экспрессивными линиями и утрированными формами. Дар карикатуриста заметен в его зрелых работах не меньше, чем крепкая академическая основа.
В 1920 году, все еще подростком, де Кунинг устроился помощником к дизайнеру Бернарду Ромейну; крупнейшим заказчиком Ромейна выступал модный роттердамский универмаг. Тяготевший к модернизму Ромейн познакомил де Кунинга с искусством Пита Мондриана (который несколько десятилетий спустя сыграет в свою очередь недолгую, но решающую роль в карьере Джексона Поллока) и с работами близкого ему творческого объединения «Де стейл», основанного в 1917 году в Амстердаме. Идеологи «Де стейл» (в переводе с голландского просто «стиль») призывали к стиранию граней между искусством, ремеслами и архитектурным дизайном. Им во многом удалось избавить от клейма второсортности промышленное искусство, на котором по большому счету и специализировался юный де Кунинг. Впрочем, фантазия де Кунинга уже влекла его куда-то прочь от функционализма, коммерции и академической рутины. Он начал путешествовать, частенько наведываясь в Антверпен и Брюссель. Его дядя, моряк, работал на пароходе круизной компании «Голландия – Америка» и много рассказывал племяннику о жизни за океаном. Де Кунинг любил танцевать под американский джаз, разглядывать красоток в американских журналах и смотреть американское кино. «Там индейцы и ковбои, вы же понимаете, – вспоминал он потом, – романтика!»
Он попробовал наняться палубным матросом на круизное судно, но его не взяли. Тогда предпринял несколько попыток уплыть в Америку «зайцем», но и тут у него ничего не вышло. Наконец ему вроде бы подвернулся удобный случай в лице американского матроса, который планировал вернуться в Нью-Йорк, но не мог наскрести денег на профсоюзный взнос. Де Кунинг внес за него нужную сумму («одолжив» деньги у отца) и остался ждать, когда облагодетельствованный матрос про него вспомнит. Прошло несколько месяцев – от того ни слуху ни духу. Де Кунинг решил, что его надули. И вдруг, откуда ни возьмись, пропавший матрос явился, тайком провел де Кунинга на борт и спрятал в машинном отделении «Шелли».
Случилось это 18 июля 1926 года. Де Кунинг не только никому ни слова не сказал, но и ничего с собой не взял – даже папки со своими работами, чтобы попытать счастья в Америке. Впрочем, предъявлять ему ничего и не понадобится.
Суровое детство, внезапный отъезд в Америку – все это словно иллюстрация к мысли Филипа Рота о стремлении всякого переселенца стать другим, заново родиться: «Вот она, драма, лежащая в основе американской повести, высокая драма ухода и оставления позади. Вот она, жестокая энергия, питающая этот восторженный порыв»[4]. Наверное, были и пострадавшие – среди тех, кто остался на том берегу, хотя насколько глубокую рану оставил в сердцах его поступок, сказать трудно. Зато в самом де Кунинге он породил вечно томившую его жажду товарищества, заветного братского двуединства, родства душ, когда рядом с тобой по тернистому пути идет верный друг-пилигрим, и вы понимаете друг друга без слов, и объяснять ничего не нужно. И если в первые годы карьеры де Кунингу удавалось снова и снова находить друзей-единомышленников, то это потому, что он их искал.
Много лет спустя его шурин Конрад Фрид рассказал биографам художника Стивенсу и Суон об одном преподавателе в роттердамской академии и его своеобразной методе стимулировать учеников. «Видишь того парня – вон там? – сказал он как-то раз де Кунингу во время занятий, когда все студенты сосредоточенно рисовали. – Пойди посмотри, как он работает».
Де Кунинг пошел и увидел, что студент рисует в очень свободной, беглой манере. У самого де Кунинга рисунок был сухой и жесткий. Молодые люди разговорились, и тот, другой, сказал де Кунингу, что получил от учителя точно такое же указание: «Сходи посмотри, что делает вон тот паренек».
Много лет спустя история повторилась, только в ином масштабе. А в роли студента с резко отличным творческим почерком стал выступать Джексон Поллок.
Поллок был младшим из пяти братьев. Мать – женщина властная, но не привыкшая давать волю чувствам – баловала его больше других, но и хлопот с ним было больше, чем с другими. Его отец Лерой Маккой родился в городке Тингли в штате Айова, рано осиротел и был взят на воспитание соседями по фамилии Поллок. Приемные родители и сами использовали мальчишку как дешевую рабочую силу, и посылали его батрачить к окрестным фермерам. Расставшись с ними и не желая вспоминать свое кошмарное детство, Лерой попытался вернуть себе фамилию Маккой, но уплатить нотариальный сбор ему было не по карману.
Мать Джексона Стелла тоже выросла в Тингли. У них с Лероем один за другим родились четыре мальчика, а 28 января 1912 года на свет появился пятый, Джексон, – крупный, вялый, синюшный; акушерке пришлось его шлепнуть, чтобы он очнулся и закричал.
В это время Поллоки жили в Коди, в Вайоминге. Вскоре Стелла узнала, что осложнения, сопутствовавшие рождению Джексона, лишили ее возможности впредь иметь детей. И конечно, последний сын стал ее любимчиком. Она не обременяла его поручениями, сквозь пальцы смотрела на его шалости и потакала любым его капризам. Но и его детство, как отмечают Стивен Найфи и Грегори Уайт Смит в биографии художника «Джексон Поллок. Американская сага», было омрачено бедностью и ее назойливым спутником – семейными неурядицами. И в этом история его детства и отрочества не так уж отличается от истории де Кунинга. В 1920 году, когда Джексону исполнилось восемь, Лерой ушел из семьи. Мальчишка – и тут опять напрашивается сходство с де Кунингом – практически рос без отца. Правда, Лерой время от времени поддерживал связь с женой и детьми, и в какой-то момент родители даже сделали попытку воссоединиться – в Аризоне, куда все семейство перебралось после ряда неудачных начинаний в Коди и Калифорнии. Но надолго их не хватило.
Джексон был мальчик восприимчивый и к тому же большой фантазер. Его старший брат Чарльз с детства мечтал стать художником, и все соглашались, что у него есть талант. Но кто из родителей в сельской глубинке американского Запада желает такого будущего для сына? Чарльз и сам знал, что рассчитывать на понимание окружающих ему не приходится, и в порядке самозащиты заделался стилягой: отпустил волосы до плеч и стал одеваться «по-богемному». Мало-помалу он преодолел неуверенность и так вошел в роль, что добился в ней большой убедительности и производил на всех, включая членов семьи, впечатление не по годам взрослого, зрелого малого. Джексон был на девять лет младше своего удивительного брата и смотрел на него как завороженный. «Когда Джексон был маленький и кто-то спрашивал его, кем он хочет быть, когда вырастет, – вспоминала его мать Стелла, – он всегда отвечал: „Художником, как мой брат Чарльз“».
Когда Чарльз уехал в Лос-Анджелес и поступил в Художественный институт Отиса, двое младших братьев Поллок, Джексон и Сэнди, загорелись надеждой пойти по его стопам. Чарльз упивался ролью первопроходца и непререкаемого авторитета – ведь он жил теперь в Лос-Анджелесе и вращался в богемных кругах! Он посылал домой номера интеллектуального ежемесячного журнала «Циферблат» (The Dial), в котором публиковались статьи о модернистском искусстве и сочинения таких писателей, как Т. С. Элиот и Томас Манн. Джексон и Сэнди жадно кидались на каждый свежий номер. Журнал не только раскрывал перед ними чарующий новый мир, но и связывал духовно с отсутствующим братом.
Чарльз писал нерегулярно, но каждое его слово было для младших на вес золота. И когда в 1928 году шестнадцатилетний Джексон, недоучившись в школе, уехал из Риверсайда (Калифорния), где в то время жила мать, в Лос-Анджелес, чтобы продолжить образование в Школе искусств и ремесел, путеводной звездой для него был пример старшего брата.
Правда, Джексон мало походил на Чарльза. Он был косноязычен и чрезмерно, болезненно чувствителен; он был мнителен, вспыльчив и склонен к губительным для физического и душевного здоровья запоям (употреблять спиртное он начал в четырнадцать лет). Так что путь его не был гладким.
Между тем Чарльз еще в 1926 году перебрался из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где его наставником стал Томас Харт Бентон, замечательный художник-монументалист, один из апостолов направления, которое позже будет названо американским регионализмом. Узнав о невзгодах Джексона, Чарльз послал брату письмо со словами поддержки. «У меня самого случались периоды уныния и тоски, едва не поставившие крест на моем будущем, – писал он. – Мне жаль, что мы с тобой редко виделись в последние годы, когда ты стремительно взрослел. И теперь я слишком смутно представляю себе твой характер и твои интересы. Хотя очевидно, что ты наделен чутким и восприимчивым умом, и очень важно, чтобы это природное свойство получило нормальное, правильное развитие и в конце концов реализовалось в какой-то полезной деятельности, а не было бы растрачено впустую… Я очень рад, что ты интересуешься искусством».
Письмо основательно встряхнуло Джексона. Он немедленно решил вслед за Чарльзом посвятить свою жизнь искусству, хотя никаких резонных оснований для такого решения у него тогда не было.
Он хотел стать художником и знал, что с этого пути не свернет, но в Школе искусств и ремесел его неоднократно распекали за слабую технику. Особенно плохо давался ему рисунок. Его дважды отчисляли и к 1930 году перевели на сильно урезанный режим посещений: заниматься в школе он мог не больше чем полдня в неделю. С такой учебой далеко не уедешь.
Всякий выдающийся успех приходит вопреки осложняющим обстоятельствам. Но осложняющим обстоятельством далеко не всегда выступает неумение. Иногда это, наоборот, виртуозность, невероятный талант или технический блеск, которые парадоксальным образом идут вразрез с утвердившейся нормой или являются с точки зрения той же нормы избыточными. И если вся жизнь Поллока в искусстве была поиском пути в обход – или сквозь – собственные очевидные недостатки, то де Кунинг на протяжении всей жизни пытался отодвинуть в сторону – или разъять на части – присущее ему мастерство.
Поразительно, как пример неумехи Поллока помог техничному, виртуозному де Кунингу забыть о мастерстве и прорваться к подлинной оригинальности.
В отличие от Поллока, который годами не мог одолеть азы рисунка, де Кунинг уже на момент приезда в Америку был блестящим рисовальщиком с академической подготовкой, имел за плечами опыт создания художественной рекламы и мог похвастаться близким знакомством с влиятельным модернистским течением. Но теперь он больше всего хотел бы освободиться от этих нелегко доставшихся ему преимуществ, самому себе поставить подножку. «Я в своей стихии, когда как бы малость навеселе, – скажет он позднее. – Если меня заносит, значит все в порядке; если поскальзываюсь, то говорю себе: ага, это уже интересно!»
За первые четыре года в Штатах де Кунинг успел поработать на Манхэттене оформителем вывесок и витрин, а при случае и плотником. У него появились знакомые из числа художников-авангардистов. Он обзавелся девушкой – канатоходкой из цирковой династии по имени Вирджиния (Нини) Диас. В 1932 году они сняли квартиру в Гринвич-Виллидж. Диас вспоминает, что де Кунинг постоянно что-то рисовал. Для пополнения их совместного бюджета (он тогда работал в дизайнерской фирме братьев Истмен) Диас носилась по городу и пыталась сбыть его рисунки. Возможно, удача скорее улыбнулась бы ей, если бы де Кунингом не овладела тяга к авангардному искусству. Чем больше он склонялся к модернизму, тем хуже продавались его работы. Превыше традиционно востребованного изящества и тонкой проработки модернизм ставил прямое выражение чувств, свежесть идей, ярко выраженную оригинальность, а главное – искренность. Де Кунинг вступил в полосу шизофренической борьбы с самим собой. Несмотря на то что печать академической школы прочно въелась в него – и он по-прежнему нет-нет да и выдавал классические виртуозные рисунки, вроде «Автопортрета с воображаемым братом», – голландец упрямо пытался сбросить с себя оковы академизма. Отталкиваясь в своих экспериментах от традиционных жанровых стереотипов – натюрморта, портрета и ню, – он пристально изучал новаторские находки Матисса, Пикассо, Миро и де Кирико.
Если природный талант привыкает подчиняться жесткой дисциплине, ему не так-то просто вдруг выйти за рамки самоограничения. В нарочито авангардных картинах де Кунинга конца 1930-х – начала 1940-х годов запечатлены его попытки справиться с разнородным арсеналом технических приемов, которыми он овладел, с тем чтобы найти свой путь – интуитивно верный, независимый, а не просто ловко спекулировать в модном тренде. Особую проблему для де Кунинга, стремившегося усвоить новый, модернистский визуальный язык, с его подчеркнуто плоскостной трактовкой образа и минимальной детализацией, представляли пространственные отношения между частями человеческого тела: каким образом их передавать, если забыть о законах перспективы? Кисти рук – невероятно сложные трехмерные формы, при этом очень небольшие относительно общих размеров тела, – доставляли ему кучу хлопот. Но еще больше его беспокоили колени – хочешь не хочешь, у сидящей фигуры колени сильно выступают вперед. Решение этих задач настолько его поглотило, что до волос очередь просто не дошла: на его портретах того времени мы видим безволосые фигуры с кое-как намалеванными или вовсе стертыми кистями рук и бескостными ногами, которые словно не понимают, куда им деваться. Одним из первых, кто на том начальном этапе купил работу де Кунинга, был его друг, балетный критик Эдвин Денби. В путаных экспериментальных картинах он разглядел красоту – вернее, «изящество, с каким человек подчас инстинктивно выходит из затруднительного положения». Но был в этих картинах и несомненный налет безумия, оголтелости, колоссального и все время нарастающего внутреннего напряжения. «Он часто при мне говорил, что всю голову себе сломал в попытках связать фигуру с фоном», – писал Денби.
Поллок болезненно переживал свою бездарность по части рисунка – не только по сравнению с Чарльзом и Сэнди (который, как и Чарльз, не расставался с карандашом и легко делал быстрые точные зарисовки), но и со своими однокашниками в художественной школе. Постоянное соседство с более одаренными студентами доводило Поллока до отчаяния. Его рисунки в натурном классе не шли дальше топорно-неуклюжих попыток. Многие из соучеников Поллока были очень способными рисовальщиками, и за годы усердных занятий им удалось блестяще развить свой талант. Не чуждый тщеславия Поллок старался не отставать от них хотя бы в усердии, втайне надеясь, что рано или поздно оно будет вознаграждено.
Одним из источников вдохновения стала для него студентка музыкального отделения той же Школы искусств и ремесел Берта Пасифико. Они познакомились на какой-то вечеринке. Она играла на рояле, и он не мог отвести от нее глаз. Он стал приходить к ней домой – каждый день после занятий в художественной школе – и смотреть, как она музицирует. Она играла по пять часов в день. Поллок сидел тут же и рисовал ее, снова и снова. «Все время, пока я играла, проклятый карандаш не останавливался ни на секунду», – вспоминала она. При этом Поллок наотрез отказывался показать ей, что у него получилось, – вполне возможно, потому, что как он ни старался, а все выходило не то. «Мой рисунок чесно говоря сплошная дрянь, – писал он Чарльзу из Лос-Анджелеса в 1930 году, – не ритма не свободы все холодное и безжизненное. не хочу тебе посылать только зря тратить деньги… правду сказать я не сделал ничего стоящего и ничего не довел до конца мне обычно самому так не нравиться что я просто бросаю… хотя я и чуствую что стану каким никаким художником пока я не доказал себе и ни кому что у меня есть талант».
Иными словами, проблема Поллока состояла не только в том, что ему не хватало уверенности, – хотя и это, бесспорно, имело место («Так называемая счастливая пора жизни юность для меня сущий ад», – писал он Чарльзу). Ему не хватало таланта. «Если бы вы видели его ранние работы, – говорил Сэнди, – вы бы сказали, что парню лучше пойти в теннисисты или в сантехники».
Летом 1930 года, в разгар экономических потрясений и политической нестабильности в стране (с биржевого краха на Уолл-стрит не прошло еще и полугода), Чарльз и Фрэнк – еще один из братьев Поллок, изучавший литературу в Колумбийском университете в Нью-Йорке, – наведались в Лос-Анджелес. Чарльз повез Джексона смотреть новую работу мексиканского художника-монументалиста Хосе Клементе Ороско «Прометей» в Помона-колледж в Клермонт, к востоку от Лос-Анджелеса. Эпический размах, полнозвучная палитра, могучая фигура героя на фоне огнедышащей печи с гигантскими языками пламени – все это произвело на Джексона ошеломительное впечатление. Естественно, у братьев завязался разговор о мексиканских муралистах, о левом политическом движении и левом искусстве, и тут обнаружилось их полное взаимопонимание. Джексон готов был распрощаться с Западом и навсегда закрыть эту страницу своей биографии. Осенью Чарльз с Фрэнком забрали восемнадцатилетнего Джексона в Нью-Йорк.
В то время Нью-Йорк был единственным в Америке городом, где на современное искусство смотрели сквозь призму мировых тенденций и достижений. Пестрое население, постоянный приток иммигрантов способствовали распространению зародившихся как в Европе, так и в Мексике модернистских течений. Правда, все эти разнородные стили и подходы – некоторые политически окрашенные, другие, как сюрреализм, предлагавшие новую философскую концепцию – наталкивались на скептическое, если не откровенно враждебное отношение широкой публики. Но в Нью-Йорке, в отличие от подавляющего большинства других американских городов, модернизм по крайней мере становился предметом публичной полемики.
В конце сентября Джексон поступил в Студенческую лигу искусств, в класс Томаса Харта Бентона. К тому времени Бентон уже привел под свои знамена старшего из братьев, Чарльза. Бентон и его последователи-регионалисты были убеждены в том, что выполняют определенную миссию. Объединив футуристический динамизм и фигуративность (стилистически родственную советскому соцреализму, но с сильным националистическим уклоном и явным противостоянием абстрактному искусству), они желали своими произведениями раскрыть людям глаза и добиться политических перемен. А значит, нужно было донести свои картины до как можно большего числа людей. В противовес расхожему мнению, будто бы искусство пропахло нафталином деградирующей Европы, будто бы оно не более чем праздная забава дилетантов и эстетов, регионалисты взялись доказать, что это занятие для настоящих мужчин, серьезное живое дело, от которого зависит ход истории. Для Джексона, с его трепетным «я» и вечной неуверенностью в себе, победоносная риторика Бентона оказалась не просто ободряющей, но без преувеличения целительной. Его жизнь сразу обрела и цель, и смысл. Он влился в правое дело и вскоре уже смотрел на Бентона и его жену Риту как на свою суррогатную семью, низведя Чарльза до роли любимого протеже Бентона.
В Студенческой лиге Поллок резко парировал всякую угрозу своему воспрянувшему честолюбию. Впрочем, за его агрессивностью просматривается точный расчет. Он с недоверием относился к тем, кто был явно талантливее его самого, то есть к большинству студентов. В то же время он умел быть обаятельным, милым и предупредительным с теми, кто ему нравился, и расположил к себе не только Бентона и Риту. Тем не менее многие чувствовали в нем опасную переменчивость. Один из его соучеников вспоминал: «Он бросал на тебя очень быстрый оценивающий взгляд, как будто прикидывал, дать тебе в нос или нет». Хуже всего он вел себя с женщинами, которые олицетворяли собой еще одну зону фрустрации в психике неуравновешенного молодого человека. Не умея или не желая найти себе подругу, он вымещал свою несостоятельность в агрессивных, диких выходках, иногда по-настоящему опасных.
В начале своего пребывания в Нью-Йорке Поллок жил вместе с Чарльзом и его женой Элизабет, которая, надо сказать, с трудом выносила буйство Джексона. Но самые отвратительные проявления его необузданного нрава были адресованы не ей, а Чарльзу – талантливому, воспитанному, женатому, старшему по возрасту и положению Чарльзу, его недавнему кумиру. На одной из предновогодних вечеринок с участием всех нью-йоркских братьев Поллок – в квартире Чарльза и Элизабет на 11-й улице – Джексон быстро напился до чертиков, глаза у него налились кровью. Он начал цепляться к девушке по имени Роуз (она пришла в гости одна, без кавалера), наговорил ей всяких гадостей, еще больше распалился и стал распускать руки. Подруга девушки, Мэри, попыталась его оттащить, и тут уж его понесло!.. Он схватил топор, которым кололи дрова для печки, и занес его над головой Мэри. «Ты хорошая девчонка, Мэри, ничего против тебя не имею, – фиглярничал он. – Не хотелось бы раскроить тебе башку». На несколько секунд в комнате повисла мертвая тишина. Внезапно Поллок резко повернулся и обрушил топор на одну из картин Чарльза – холст лопнул, а топор так и остался торчать в стене.
За всю жизнь у де Кунинга не было, пожалуй, друга ближе Аршила Горки, беженца-армянина, с которым он познакомился в 1929 году. В Нью-Йорке в годы Великой депрессии – когда, по словам Денби, «все пили кофе и никто не выставлял своих картин» – они на пару снимали студию и были практически неразлучны. Оба не имели за душой ни гроша и даже этим бравировали. «Я на мели», – любил повторять де Кунинг. Они без конца говорили о современном искусстве. Они вместе стоически переносили зимние холода и с надменностью членов избранного клуба (в который никого, кроме себя, не допускали) просто не замечали полнейшего равнодушия зрителей к их творческим усилиям. В конце 1930-х они даже подрядились вместе расписывать стену в одном ресторане в Нью-Джерси. Когда в мастерской собирались посторонние – поговорить с де Кунингом, – Горки молчал, словно воды в рот набрав. Однажды речь зашла о том, как несправедлива участь художника в Америке. «Каждому было что сказать по этому поводу, и каждый говорил, – вспоминал Денби, – и в конце концов воцарилась скорбная тишина. И вдруг откуда-то из-под стола донесся глубокий, низкий голос Аршила Горки: „Я вот девятнадцать лет мыкаюсь в Америке“. Все покатились со смеху. Стенать расхотелось. Горки верно подметил, что справедливость тут ни при чем – такая у них судьба, и все от души над собой посмеялись».
Когда дело касалось искусства, Горки был безжалостен и ничьих чувств не щадил. Он ставил себе высокую планку и хорошо понимал разницу между подлинным искусством и его имитацией. («Ага, у тебя, значит, свои мыслишки имеются!» – сказал он, впервые увидев работу де Кунинга. «Почему-то, – вспоминал де Кунинг, – в этом не слышалось похвалы».)
На протяжении 1930-х годов Горки, с его расточительно-щедрым, благородным, рыцарским отношением к искусству, служил надежным ориентиром де Кунингу, который привык смотреть на него как на старшего брата. И неудивительно, что многие критики отмечают связь – ее так и хочется назвать братской – между изысканным «Автопортретом с воображаемым братом» де Кунинга и знаменитым, пронзительным полотном Горки «Художник и его мать». Эта картина, существующая в двух родственных вариантах, написана по фотографии 1912 года: на ней будущий художник запечатлен вместе с родившей и вскормившей его женщиной. Фотографию послали отцу мальчика, который несколькими годами раньше эмигрировал в Америку, – возможно, как напоминание о его армянской семье, как кроткую просьбу не забывать их там, на чужой стороне. (Он и в самом деле встретил в Штатах другую женщину и завел с ней вторую семью.) В страшные годы геноцида армян их город был окружен, а население депортировали – отправили маршем смерти в Сирийскую пустыню. В 1919 году мать Горки умерла от голода на руках у сына. Добравшись до Соединенных Штатов, Горки нашел в доме отца, в ящике комода, забытую фотографию и положил ее в основу двух вариантов картины «Художник и его мать».
Обе работы – рисунок де Кунинга и полотно Горки – двойные портреты. Персонажи обеих смотрят на зрителя печальными застывшими глазами, в которых навсегда поселилась боль утраты.
Для де Кунинга Горки был воплощением принципиальности и неподкупности. Каково же было его разочарование, когда после десяти лет тесной дружбы он вдруг осознал, что его верный товарищ и соратник втайне лелеет тщеславные мечты. В начале 1941 года через де Кунинга и его будущую жену Элен Фрид Горки познакомился с Агнес Магрудер, дочерью адмирала. Они полюбили друг друга и в том же году поженились. Горки неожиданно начал вращаться в нью-йоркском высшем свете, тогда как де Кунинг по-прежнему влачил существование никому не известного полунищего художника. Контраст был слишком разителен, и Горки дал слабину – по сути отвернулся от де Кунинга, предпочтя ему лощеных европейских сюрреалистов, наводнивших Нью-Йорк в годы Второй мировой войны.
Де Кунинг не пытался его удержать, но в душе затаил обиду, – наверное, похожее чувство испытывал когда-то его младший брат Коос по отношению к нему самому. «Смотреть, как Горки на всех парусах уплывает от него в привилегированное общество, – написали его биографы Стивенс и Суон, – означало для де Кунинга не что иное, как расставание с его американским братом».
Под руководством Бентона Поллок начал наконец понемногу двигаться вперед. Его наставник искал среди учеников тех, кто способен не просто верно копировать натуру, но передавать в живописи динамизм, идею движения. В незрелых, перенасыщенных деталями композициях Поллока – прибрежных пейзажах, ночных сценах с пляшущими языками костра, экспрессивных живописных грезах с фигурами людей и животных – Бентон видел то, чего не видели другие: заявку на будущее. «Должен тебе сказать, что эскизы, которые ты тут разбросал, просто великолепны, – писал он Поллоку. – У тебя красивый, богатый цвет. Ты на верном пути, мой мальчик, и все, что тебе нужно, – это идти вперед».
Бентон уделял Поллоку дополнительное время, назначил его старостой класса (чтобы освободить от платы за обучение); дома у Бентонов Джексон был своим человеком. Экономическая депрессия разрасталась, а Поллок знай себе рисовал да ходил на занятия. Он познакомился с Хосе Клементе Ороско, мексиканским художником, создателем фрески «Прометей», ради которой Джексон с Чарльзом специально ездили в Помона-колледж. Теперь Ороско работал над росписями вместе с Бентоном. Но в 1932 году Бентон ушел из Студенческой лиги, чтобы целиком посвятить себя монументальной работе по заказу штата Индиана. А в начале следующего года в Лос-Анджелесе заболел и умер отец Джексона, Лерой. Три брата – Чарльз, Фрэнк и Джексон – из-за безденежья не смогли поехать на похороны.
Со смерти Лероя в жизни Джексона настала пора тяжелых утрат и метаний. Казалось, он что ни месяц кого-то теряет – родного отца, духовного, братьев… В 1935 году Чарльз с женой Элизабет переехал в Вашингтон, где ему предложили работу под крылом вновь созданной Администрации по переселению фермеров, и Джексон тотчас уцепился за Сэнди. Двое младших братьев поселились в квартире на 8-й улице в Восточном Манхэттене, в доме 46. (Джексон проживет там десять лет.) В начале 1936 года Сэнди женился на своей девушке, Арлои Конавей, и Джексон остался один.
Незадолго до отъезда Чарльза в Вашингтон Джексон зарегистрировался в Управлении общественных работ, которое в период Великой депрессии осуществляло правительственную программу по трудоустройству безработных; благодаря этим мерам тысячи художников получили средства к существованию (де Кунинг тоже одно время пользовался этой возможностью). Зарегистрировавшиеся получали гарантированное жалованье (от 103 долларов 40 центов в месяц), а взамен должны были примерно раз в два месяца сдать картину. (Условия варьировались в зависимости от размеров произведения и принятых за норму темпов работы данного художника.) Эта схема помогла Поллоку сводить концы с концами. Но он едва-едва укладывался в срок. Он все чаще и опаснее напивался, а осенью 1936 года разбил машину, которую на прощание отписал ему Чарльз. Теперь, задним числом, в этом чудится грозное знамение судьбы.
Всего через месяц-другой Поллок познакомился с Ли Краснер. Она родилась в Бостоне в 1908 году – в первые годы нового столетия ее родители, украинские евреи, спасаясь от погромов, эмигрировали в Америку. Еще в школьные годы она увлеклась искусством, поступила в женскую художественную школу при колледже Купер-Юнион в Гринвич-Виллидж, потом на курсы в Национальной академии дизайна в Верхнем Вестсайде. Посетив вместе с другими слушателями выставку современного искусства, где были представлены работы Пикассо, Матисса и Брака, она начала – в точности как де Кунинг – сбрасывать с себя путы консервативной выучки и очень скоро влилась в небольшую, но быстро растущую группу американских художников-модернистов, объединившихся под эгидой Управления общественных работ в Нижнем Манхэттене.
Впоследствии Ли Краснер станет возлюбленной, а затем и женой Джексона Поллока, самым важным в его жизни человеком. В общем и целом они были вместе с 1941 по 1956 год – до смерти Поллока. Отношения их всегда складывались непросто, и под конец пара больше напоминала один из тех странных союзов, где каждый, при своей очевидной зависимости от другого, фанатично, планомерно его истребляет. Но знали они и счастливые времена, а главное, по единодушному мнению исследователей, Поллок никогда не достиг бы такой оглушительной, пусть и короткой славы, если бы в углу ринга – а то и прямо на ринге – ему не ассистировала Краснер. Она была его самой верной и преданной сторонницей.
Впрочем, их первую встречу нельзя назвать многообещающей. Поллок тогда как раз ушел в затяжной запой. Ночи напролет он таскался по барам в Нижнем Манхэттене, орал, буянил, не таясь справлял на снег малую нужду («Поливал, как из шланга, в разные стороны, – если верить его приятелю, – и утробно ревел: „Сс… я хотел на всех!“») и ввязывался в драки, а потом отупело дожидался, когда на рассвете его придет выручать Сэнди. Он был в шаге от срыва и представлял реальную опасность не только для окружающих, но и для самого себя. В таком непотребном виде он и явился на вечеринку в профсоюзе художников, где случайно наткнулся на Краснер. Она с кем-то танцевала. Поллок грубо отпихнул ее партнера, прижал ее к себе и, отдавив ей все ноги, пока под музыку с ней раскачивался, на ухо сообщил, что желает с ней переспать. Краснер отвесила ему звонкую пощечину.
Но у Поллока было удивительное свойство (присущее многим патологически несамостоятельным мужчинам): он инстинктивно знал, как обернуть самую гиблую ситуацию себе на пользу. Молчун и неудачник, нередко впадавший в агрессию, он все же не был лишен своеобразного шарма. «Бывало, сам первый затеет ссору, – вспоминал его товарищ Герман Черри, – а потом вертится так и сяк, не знает, как ее замять. Есть такие люди – наплюют тебе в душу, а потом лезут с поцелуями и приговаривают: „Брось, я же не нарочно“». В такие минуты он широко улыбался, извинялся, каялся, пробовал подольститься – пускал в ход любые средства (если не был в стельку пьян). Не только женщины, но и мужчины попадались на эту удочку, потрясенные и завороженные его сверхъестественной способностью менять личину. По словам другого его приятеля, Реубена Кадиша, Поллок умел мгновенно «разрядить ситуацию».
Неизвестно, что именно он сделал или сказал в тот вечер, но только Ли Краснер, похоже, смягчилась и зла на Поллока не держала. Неизвестно также, пошла она с ним той ночью или нет, – на этот счет мнения расходятся. Так или иначе, до их следующей встречи прошло пять лет. Второе свидание стало началом романа. Но в промежутке Краснер успела пережить долгое и мучительное увлечение другим нью-йоркским художником, и звали его Виллем де Кунинг.
Оглядываясь на де Кунинга – того, каким он был в 1930-е, – ясно видишь, что он не мог не добиться успеха. Он был честолюбив, бесконечно предан искусству и, наконец, дьявольски талантлив. Тем не менее многие годы его творческая эволюция никого не интересовала. Сражаясь с враждебными потоками чужих влияний, он кидался из стороны в сторону и без сожалений бросал начатое. Творческого потенциала у де Кунинга было хоть отбавляй – это ощущал всякий, кто попадал в его орбиту. Но чего он достиг? Почти ничего. Он был на мели. Даже его английский оставлял желать лучшего. А все связи с семьей и взрастившей его культурой он сам обрубил много лет назад своим внезапным отъездом. Он никогда об этом не жалел. Но беспросветность новой жизни его угнетала, и он не мог это скрыть. Как свидетельствует Денби, друзья не раз говорили ему: «Слушай, Билл, у тебя психологический барьер, ты ни одну работу не можешь закончить. Ты сам себя губишь, обратись к психоаналитику». В ответ де Кунинг только смеялся: «Ну конечно, психоаналитику я нужен как материал для работы, как мне – мои картины!»
Тем не менее – отчасти как раз благодаря его стоицизму – в среде зарождающегося нью-йоркского авангарда де Кунинг приобрел сильно раздутую репутацию исключительно серьезного, «настоящего» художника. Собратья по цеху относились к нему с почтением и наперебой искали его общества. К тому же он не заносился, держался просто, говорил искренне и всегда готов был подставить плечо товарищу – и, конечно, не последнюю роль играло его озорное чувство юмора. Женщины де Кунинга обожали. Очаровательный голландский акцент, красивое мужественное лицо и общая физическая привлекательность (он был невысок, но хорошо сложен) – все это неизменно воспламеняло сердца, где бы он ни появлялся.
Скорее всего, Краснер узнала о де Кунинге от своего тогдашнего любовника, модного портретиста Игоря Пантюхова. Краснер и Пантюхов вместе учились у Ханса Хофмана, видного немецкого художника-эмигранта, который пользовался в Америке огромным влиянием. Хофман был ярым поборником модернизма, поклонником Матисса и Пикассо, апологетом абстрактного искусства. Как и многие другие, Краснер увлеклась идеями наставника. Она уже и тогда, в студенческие годы, превосходила Пантюхова в мастерстве. В 1930-х ее верный глаз и тонкий вкус, великолепное врожденное чувство цвета и горячая приверженность принципам модернизма снискали ей большую популярность в авангардистских кругах.
Пантюхов избрал для себя путь более легкий – и более благодарный, как в финансовом, так и в сексуальном плане: писал стилизованные заказные портреты светских персон. Краснер не осталась равнодушной к его красоте и туманно-романтичному прошлому (якобы белогвардейскому). Правда, ее избранник любил выпить и к тому же был тщеславен и циничен. «Общество некрасивой женщины меня вполне устраивает, – говорил он, имея в виду Ли Краснер, – с ней я чувствую себя еще неотразимее».
Краснер вела независимый и осознанно богемный образ жизни. Она презирала традиционные представления о слабом поле. Она не была «хорошенькой» в общепринятом смысле слова, но многие мужчины отмечали ее сексуальность: она не ломалась, умела флиртовать и сама стремилась к физической близости. «У нее была железная хватка, и с мужчинами она не церемонилась», – говорил о ней художник Аксель Хорн. Но при всей ее независимости и ярком даровании, в отношениях с партнером она принимала роль подчиненной и зачастую мирилась с поведением, которое большинство женщин сочли бы возмутительным. Она покорно сносила обидные выпады Пантюхова, точно так же как позже терпела буйные выходки Поллока. По словам Фрица Балтмана (возможно, справедливым, а возможно, и нет): «Та часть Ли, которая была склонна к мазохизму, всем этим просто упивалась».
Несмотря на свой успех в жанре светского портрета, решенного в относительно традиционной манере, Пантюхов хотел ощущать свою причастность к пока еще узкому, но быстро набиравшему силу модернистскому кружку и пристально следил за художниками, которые вызывали у него интерес и восхищение. Среди этих последних был эмигрант-голландец де Кунинг. Пантюхов приобрел этюд к одной из росписей де Кунинга, заказанных Управлением общественных работ. Этюд висел на стене в его мастерской, так что Краснер видела его неоднократно.
Роман Пантюхова и Краснер мало-помалу сошел на нет, в основном из-за его измен. В свою очередь Краснер, сначала тайно, а потом и не очень, увлеклась де Кунингом. Она иногда видела его на сборищах в Нижнем Манхэттене и часто слышала о нем от Пантюхова. Голландец произвел на нее впечатление, и она сама не заметила, как влюбилась. Вскоре она во всеуслышание объявила его «величайшим художником мира». Потом была шумная новогодняя вечеринка. Выпив для храбрости, она пошла в атаку – как бы от избытка веселья и дружеских чувств игриво уселась к нему на колени. Казалось, де Кунинг и сам не прочь ей подыграть. И вдруг, без предупреждения – как раз когда она изловчилась было его поцеловать, – он резко раздвинул колени, и она шлепнулась на пол. Дрожа от обиды, Краснер опрокинула рюмку-другую, чтобы подлечить уязвленное самолюбие и вернуть себе боевой настрой. Потом направилась к де Кунингу и принялась осыпать его бранью, пока не вмешался ее приятель Балтман, который уволок скандалистку прочь и сунул ее под душ прямо в одежде. Ли Краснер навсегда запомнила ту ночь. Она не простила де Кунинга.
Вплоть до 1937 года Поллок поддерживал тесную связь с Бентонами и каждое лето несколько недель проводил в их загородном доме на острове Мартас-Винъярд. С 1935 года Бентон преподавал и работал как художник в Канзас-Сити, но они с Поллоком не теряли друг друга из виду, и доброжелательные советы бывшего наставника по-прежнему очень его подбадривали.
Однако сделать необходимые шаги, чтобы в конце концов проторить свой путь в искусстве, Поллоку помогли отнюдь не рекомендации Бентона, а собственное решение напрочь забыть о классических идеалах «искусного рисунка» и довериться случаю. Это новое направление в его творческом развитии сформировалось не столько благодаря сознательному выбору, сколько в силу постепенного интуитивного движения вперед под действием многих причин, среди которых есть более или менее очевидные. Одной из них несомненно стало участие Поллока в творческой мастерской мексиканского монументалиста Давида Альфаро Сикейроса в Нью-Йорке в 1936 году: там, в «Лаборатории современных живописных техник», слушатели могли вволю экспериментировать с новыми, нетрадиционными материалами. Не менее знаменательным было знакомство с чилийским эмигрантом Роберто Маттой. Объясняя непосвященным принцип автоматического, бессознательного письма, сюрреалист Матта предлагал им (в том числе Поллоку) рисовать с завязанными глазами. Такой подход импонировал Поллоку. Дело в том, что еще раньше, в 1939 году, он начал проходить курс лечения у психоаналитика юнгианского толка Джозефа Хендерсона, который призывал пациента выплескивать свои тревоги и переживания на бумагу, а затем использовал эти рисунки в терапевтических целях для анализа его подсознания. Идеи Юнга, новаторские приемы Сикейроса и Матты – все это шло в общем русле с давним интересом Поллока к мистике, к так называемому визионерскому искусству и к «механизмам» бессознательного.
С увлечением импровизируя в новой области, Поллок попал в орбиту художника Джона Грэма. Это был высокий, видный мужчина с бритой головой и проницательным взглядом, всегда безупречно одетый в костюм от модного лондонского портного. Его необычный элегантный облик и аристократические манеры, его образованность и светскость и, наконец, его заразительная страсть к живописи производили неизгладимое впечатление на малочисленный круг неимущих манхэттенских авангардистов. С де Кунингом он познакомился еще в 1929 году и к середине 1930-х объявил голландца «лучшим молодым художником Соединенных Штатов». Через несколько лет Грэм познакомился с Поллоком и, сойдясь с ним поближе, понял, что и в этом случае судьба свела его с незаурядной творческой личностью. Правда, молодой человек был склонен к анархии и часто вел себя как необузданный, капризный ребенок, и Грэм прекрасно это видел. Но он первый (как позже признает де Кунинг) увидел в Поллоке и другое – задатки «большого художника». «Кто, черт возьми, его [Поллока] приметил? – восклицал де Кунинг, оглядываясь в прошлое. – Другим художникам трудно было понять, что делает Поллок, это было совсем не то, что делали они, а вот Грэм понял!»
Возможно, Грэм больше, чем кто-либо, старался вытащить американское искусство из болота провинциализма. Грэм, заметим, не настоящее его имя. В действительности его звали Иван Грацианович Домбровский. Он родился в 1886 году в Киеве – в небогатой польской дворянской семье. До революции 1917 года служил в царской кавалерии. После революции был арестован большевиками, но потом отпущен (ему самому больше нравилась версия побега); в 1920 году приехал в Соединенные Штаты. Многое в его рассказах о прежней жизни (в частности, о том, что во время Первой мировой он был награжден Георгиевским крестом) сильно отдает фальсификацией. Но, судя по всему, в бытность свою в Москве Грэм и впрямь свел знакомство с известными русскими авангардистами и бывал в доме прославленного коллекционера Щукина, где видел работы Матисса и Пикассо раннего и самого острого периода соперничества двух гигантов (1906–1916). Особенно сильное впечатление произвел на Грэма Пикассо. Испанец стал мерилом в искусстве не только для него самого, но – через него – и для Горки, Поллока, де Кунинга.
На протяжении 1920-х годов Грэм регулярно пересекал Атлантику. У него прошли две персональные выставки в Париже, что само по себе возводило его на пьедестал в глазах американских модернистов. Его ежегодные поездки в Европу сыграли ни с чем не сравнимую катализирующую роль для художественной жизни Нью-Йорка. «В унылые годы депрессии, – как пишут Стивенс и Суон, – Джон Грэм был словно чудесное, неземное видение» и всюду, где бы он ни появлялся, «возникал приподнятый, одухотворенный настрой». У него был свой взгляд на жизнь, диктуемый чувством грандиозного, а ведь именно этого – великого, грандиозного – так жаждали и Поллок, и де Кунинг.
В ноябре 1941 года, незадолго до нападения японцев на Пёрл-Харбор, Грэм занялся организацией выставки, которая впервые представила перспективных американских художников в сопоставлении с цветом европейского модернизма, включая Матисса и Пикассо. Благодаря этому проекту Поллок и де Кунинг наконец познакомились друг с другом. Оба они, как и Ли Краснер, были отобраны Грэмом для участия в выставке, открывшейся в залах интерьерной дизайнерской фирмы «Макмиллен» на 55-й улице в Восточном Мидтауне 20 января 1942 года. Среди участников других женщин, кроме Краснер, не было. Ее творчество планировалось представить полотном с простым, но емким названием – «Абстракция». Из последних работ Поллока выбрали «Рождение» – эффектную, сильно вытянутую по вертикали композицию, – на тот момент его самое мощное и впечатляющее произведение. Сложные расщепленные черно-белые формы с яркими вкраплениями красного, желтого и синего, захваченные вихреобразным движением, были частично навеяны индейским искусством.
Просматривая список участников, Краснер наткнулась всего на одно незнакомое имя – Поллок (ей не могло прийти в голову, что это тот наглец, который спьяну приставал к ней на вечеринке пять лет назад). Она спросила одного, другого, но ничего определенного в ответ не услышала. Де Кунинг только плечами пожал. Однако вскоре, на каком-то вернисаже, ее приятель-художник Луис Банс сказал, что знает, кто это такой и где он живет: в доме 46 по 8-й улице, буквально за углом от ее студии на 9-й улице, которую она сняла после разрыва с Пантюховым. Недолго думая, она нанесла соседу визит.
Поллок лежал в крошечной спальне, маялся с похмелья. Искусство его год от года становилось интереснее, но образ жизни выходил за все допустимые рамки. Совсем недавно он еле-еле выкарабкался из тяжелого запоя, сопровождавшегося такими безобразиями, что Сэнди пришлось поместить его в психиатрическую больницу. Еще печальнее для Поллока было намерение Сэнди и его жены Арлои, только что родившей ребенка, уехать из Нью-Йорка. (Арлои недаром наотрез отказалась обзаводиться детьми, покуда Джексон живет с ними под одной крышей.) В начале мая 1941 года доктор де Ласло, наблюдавшая Поллока, написала в комиссию по призыву на военную службу письмо, где характеризовала Поллока как «личность замкнутую, интеллектуально полноценную, но эмоционально нестабильную, испытывающую сложности в формировании и сохранении отношений с окружающими». Доктор воздержалась от диагноза «шизофрения», но отметила «предрасположенность» пациента к шизоидной психопатии. После психиатрической экспертизы в больнице «Бет Исраэль» Поллок был признан негодным к службе в армии. Все это не прибавило ему самоуважения. Он все больше ощущал себя изгоем.
Поллок открыл дверь, Краснер вошла и сразу его вспомнила. Даже сильно помятый, непроспавшийся, он сразил ее наповал: настоящий мужчина, стопроцентный американец. Девушка из бруклинской еврейской семьи, с юности мечтавшая вырваться из родной среды, не могла перед таким устоять. «Меня безумно тянуло к Джексону, – вспоминала она впоследствии, – и я полюбила его – и душой, и телом… во всех смыслах слова. Как только я познакомилась с Джексоном, меня не оставляла уверенность, что ему суждено сказать в искусстве что-то очень важное. Мы стали встречаться, и мое собственное творчество вдруг перестало иметь значение. Единственное, что было важно, – это он».
Художник Реджинальд Уилсон, старинный приятель Поллока, однажды заметил, что Поллок «при первой возможности стремился занять собой любое свободное пространство», если не встречал сопротивления. Вообще-то, слова Уилсона относились к опасному поведению Поллока за рулем, но они в той же мере применимы как к его творчеству – неудержимому желанию заполнить каждый миллиметр живописной поверхности, – так и к его отношениям с людьми. Он без раздумий заполнил пространство, которым ради него пожертвовала Краснер. Она забросила живопись и до лета 1948 года не пыталась к ней вернуться.
Незадолго до открытия выставки в галерее Макмиллен Краснер сказала Поллоку, что хочет познакомить его с одним человеком. Он голландец. Большой талант. Море обаяния. Фанатик живописи. Когда-то казался ей неотразимым – как сейчас Поллок. Де Кунинг снимал тогда мастерскую в Нижнем Истсайде, на 21-й улице. Они отправились туда пешком, и Краснер представила де Кунингу своего нового возлюбленного – художника-«ковбоя» родом из вайомингской глубинки. Трудно представить себе более несхожих людей, чем эти двое, – во всем, начиная с голоса: грубоватый, рокочущий голландский акцент де Кунинга и гнусаво-тягучий выговор Поллока, типичный для уроженца Среднего Запада. Впрочем, ни тот ни другой не старались поддерживать беседу, и бедной Краснер, которой нелегко было забыть об унижении, пережитом в свое время по вине де Кунинга, пришлось, вероятно, отдуваться за троих. Давным-давно, в Роттердаме, ненавидя свою тогдашнюю жизнь, юный де Кунинг грезил романтикой американского Дикого Запада. Увидев воочию представителя этой неведомой страны, он невольно должен был им заинтересоваться. Поллок, со своей стороны, не раз замечал, какой эффект производит сообщение о его «ковбойских» корнях на всех тех, кто мечтает прикоснуться к здоровой, «аутентичной» Америке – столь отличной по духу от болезненно-интеллигентского Восточного побережья, – и вполне осознанно на этом играл. «Мне близок Запад, – доверительно признавался он интервьюеру год спустя, – эти плоские равнины…»
Как бы то ни было, первая встреча художников, изменивших облик искусства XX века, оказалась холостым выстрелом. Краснер высказалась по этому поводу предельно ясно: «По-моему, ни один не вызвал у другого интереса».
Но многие, не в пример де Кунингу, начали проявлять к Поллоку повышенный интерес и высказывать суждения, подтверждавшие пророчество Краснер. Среди всех суждений наибольшим весом на том этапе обладало мнение Грэма. Однажды поздним вечером три художника – Грэм, Краснер и Поллок – вместе вышли из квартиры Грэма, где встречались с его другом, театральным художником и архитектором Фредериком Кислером. «Это Фредерик Кислер, – сказал Грэм, представляя его Поллоку. – А это, – сказал он Кислеру, – Джексон Поллок, величайший художник Америки».
В наши сверхосторожные, насквозь пропитанные скептицизмом времена одержимость авангардистов середины прошлого века идеей «величия» (кто по-настоящему велик, кто выше, кто ниже) может показаться нелепой, вульгарной и даже смешной. Кем все они себя воображали? Кого пытались убедить?
Между тем пресловутое «величие» было далеко не отвлеченным понятием, превратившись в настоящую идею фикс и для начинающих нью-йоркских художников, и для критиков и арт-дилеров. Она разводила соперников и сводила единомышленников. В общекультурном смысле идея «величия» была следствием присущего тем годам оптимизма, широты взгляда, который повсюду искал и находил мощный потенциал и грандиозность. Став участницей мировой войны, Америка, как держава, неизбежно задавалась вопросом о сохранении своего величия, о своей способности в будущем исправлять и перестраивать мир по собственному образу и подобию. Вопрос этот стоял перед всей нацией – и американские художники не были исключением.
Вместе с тем озабоченность «величием» нередко имела куда более мелочные и безрадостные основания. Роль модернистского искусства в ту пору была ничтожно мала. Среди арт-дилеров лишь единицы пытались торговать работами авангардистов, да и то наудачу, без ясного представления, кого они могут заинтересовать. В этих условиях борьба за первенство в узком кругу нью-йоркских новаторов отчасти объяснялась общим для них чувством своей невостребованности. Если мир не ценит твоих усилий и его блага практически недоступны, остается утешать себя чем-то иным, из категории вечных, надмирных ценностей.
Прозвучавшая из уст Грэма – возможно, просто под влиянием минутного порыва – лестная характеристика Поллока пролилась бальзамом на чувствительное «я» художника. Краснер тоже преисполнилась гордости за своего избранника. Несколько месяцев спустя, представляя Поллока влиятельному критику Клементу Гринбергу, который более, чем кто-либо, способствовал стремительному росту его репутации, она воспользовалась оценкой Грэма. «Этот молодой человек, – сказала она, – великий художник».
Гринберг отнесся к ее словам серьезно. В конце 1930-х годов они с Краснер часами смотрели картины и говорили об искусстве, и это сыграло свою роль в том, что Гринберг решил отойти от литературной критики и заняться художественной. На первых порах его взгляды на искусство несли на себе глубокий след ее влияния. Поэтому неудивительно, что вскоре Гринберг влился в хвалебный хор, начало которому положила Краснер, а новый импульс дал Грэм. В статье, опубликованной в журнале «Нейшн» (The Nation) и осветившей Поллоку путь к славе, Гринберг назвал его «самым сильным художником своего поколения, а возможно, и самым великим среди тех, кто пришел после Миро».
Подобные славословия много значили для Поллока, но еще больше для Краснер. Для нее в этом было высшее оправдание, доказательство того, что интуиция ее не подвела и она не зря пожертвовала собственным творчеством, не зря принесла его на алтарь успеха Поллока. Вместе они составляли слаженный, энергичный дуэт, и несколько лет подряд ей каким-то чудом удавалось направлять жизнь Поллока в нужное русло. Мирясь с его житейской беспомощностью и заряжаясь его поистине космической амбициозностью, она полностью посвятила себя заботе о нем и его карьере. Глядя на нее, многие горько сокрушались. «Просто поразительно, – говорил потом Балтман, – что такая сильная женщина могла настолько себя отдавать».
В конце 1942 года Поллок одну за другой написал три картины – «Стенографическая фигура», «Лунная женщина» и «Мужское и женское», – которые стали его первым большим прорывом. Смелые изогнутые формы и тотемные образы, отчасти вдохновленные Пикассо, сочетались на них с повторяющимися орнаментальными мотивами и начертанными поверх таинственными знаками. Эти композиции обладали какой-то гипнотической силой. В отличие от прежних его опытов, они не создавали ощущения избыточности и сумбура. Язык изображений был темен, и тайный код художника с трудом поддавался расшифровке. Но на эмоциональном уровне картины оказывали прямое и мощное воздействие.
Вплоть до этого поворотного момента Поллок долго и мучительно искал свой путь – путь, который исходил бы из его интуиции и вдохновения, но при этом позволял бы ему обойти или как-то иначе преодолеть неразрешимые проблемы с рисунком. По заданию своего врача-психоаналитика он начал делать бездумные, спонтанные зарисовки в духе свободных ассоциаций. Он внимательно изучал метод автоматического письма и бесконечно экспериментировал с разными живописными техниками. Поллоку нравилось думать, что успех дается не потом и кровью, а снисходит как озарение, что к нему скорее ведет интуиция, чем усердие и трезвый расчет.
И вот наконец свершилось – словно внутри у Поллока что-то щелкнуло. Наконец он нажал на педаль, и она не провалилась в пустоту, – машина пошла!
До сих пор в семье его считали бездельником, неудачником, иждивенцем. Он вечно занимал деньги. Бил машины. Стрелял сигареты и выпивку. Он целиком и полностью зависел от великодушия и долготерпения – поистине ангельского! – братьев и их жен. Как художник он, пользуясь репутацией старших братьев – особенно Чарльза, – постоянно набивал себе цену. Но его, мягко говоря, скромные способности ни для кого не были секретом, а слабый рисунок убивал все попытки чего-то добиться в живописи. Перечень его недостатков этим не исчерпывается, но самые большие огорчения родным доставляло его пьянство. Они не теряли надежды на лучшее, но не без причины опасались худшего и жили в постоянной тревоге.
Можно только догадываться, каково было удивление Чарльза, Фрэнка и Сэнди Поллоков, Тома и Риты Бентон, Джона Грэма и даже де Кунинга (который тогда уже хорошо знал, кто такой Поллок, хотя встречались они лишь от случая к случаю), когда Поллок – в союзе с Краснер – взял и одним махом перечеркнул все мрачные прогнозы.
Успех свалился на него неожиданно. К нему приложили руку несколько добрых гениев. Но никто, за исключением Краснер, не сделал для славы Поллока больше, чем эксцентричная, своенравная светская львица и коллекционер Пегги Гуггенхайм.
Гуггенхайм прибыла в Нью-Йорк вместе со своим любовником, художником-сюрреалистом Максом Эрнстом, в июле 1941 года, предварительно переправив из Франции за океан свою коллекцию современного искусства, которую составляли работы таких художников, как Пикассо, Эрнст, Миро, Магритт и Ман Рэй. Отец Пегги Гуггенхайм утонул при крушении «Титаника» в 1912 году, оставив ей приличное наследство, впрочем сущие пустяки в сравнении с состоянием ее баснословно богатой родни. Ее дядя Соломон Гуггенхайм в сотрудничестве с Хиллой фон Ребай вскоре создаст в Нью-Йорке Музей нефигуративной живописи, переименованный впоследствии в Музей Соломона Гуггенхайма. В начале 1920-х годов Пегги погрузилась в богемную жизнь Парижа и стала обрастать новыми друзьями, среди которых были Марсель Дюшан, Константин Бранкузи, Ман Рэй и Джуна Барнс (ее модернистский роман «Ночной лес» написан благодаря покровительству Гуггенхайм). Свою первую галерею «Гуггенхайм-Жён», или «Гуггенхайм-младшая» (названную по аналогии с легендарной «Бернхайм-Жён»), она открыла в Лондоне. Там выставлялись работы Жана Кокто, Василия Кандинского, Ива Танги и других европейских авангардистов. Чем дальше, тем больше Гуггенхайм ощущала себя не просто галеристкой, но своего рода импресарио, агентом и пропагандистом современных художников. Она стала уже задумываться о создании в Лондоне музея современного искусства, но тут началась война, и она решила, что безопаснее будет устроить музей в Париже, на Вандомской площади. Прошло немного времени, и нацисты вторглись во Францию. За два дня до оккупации Парижа Гуггенхайм бежала на юг Франции, а оттуда, спустя несколько месяцев, в Америку.
Через год с небольшим она с помпой открыла в Нью-Йорке галерею «Искусство нынешнего века». Галерея занимала два больших коммерческих помещения на восьмом этаже дома 30 по 57-й улице в Западном Мидтауне, на Манхэттене, неподалеку от нового Музея современного искусства. Поначалу Гуггенхайм выставляла у себя только работы своих европейских друзей-эмигрантов, преимущественно сюрреалистов (к тому времени она уже вышла замуж за Эрнста). Американские авангардисты не особенно ее интересовали. Но ее помощник и консультант Говард Путцель уверовал в Поллока и принялся уговаривать галеристку устроить ему персональную выставку.
Гуггенхайм отнеслась к этой идее скептически. Тогда Путцель предложил включить «Стенографическую фигуру» Поллока в групповую выставку молодых художников. Он представил картину на суд отборочного жюри: кроме Пегги Гуггенхайм, в него вошли пятеро экспертов, в том числе Марсель Дюшан и Пит Мондриан. В колорите «Стенографической фигуры» доминирует ярко-голубой цвет фона с черным прямоугольником-окном на заднем плане. По горизонтали холст пересекает бледно-желтая широкая извилистая лента. За условным столом друг против друга сидят две тотемные фигуры, из которых главная, слева, – пикассоидная женщина с разведенными в стороны непомерно длинными руками. Лицо возникает из комбинации изогнутых и ломаных линий, на нем один большой жуткий глаз и открытая пасть, кроваво-красная, с черными зубами. Вся поверхность картины испещрена небрежно нацарапанными неразборчивыми письменами, вроде стенографических значков или беглых алгебраических формул на грифельной доске, какие математик набрасывает по ходу размышлений.
На Гуггенхайм поллоковская «стенография» не произвела впечатления. Но Мондриан, вероятно, что-то в ней разглядел: в глубокой задумчивости он все смотрел и смотрел на картину. Наконец Пегги потеряла терпение и высказалась напрямик: «В этом нет никакой дисциплины. У молодого человека серьезные проблемы… и одна из них – живопись. По-моему, его нельзя пропустить». Но молчаливый Мондриан не спасовал под ее напором. «Я не уверен, – наконец изрек он. – Я все пытаюсь понять, что тут происходит. Думаю, это самое интересное из всего, что я пока видел в Америке… Вам стоит к нему присмотреться».
Гуггенхайм восхищалась Мондрианом, и его осторожная рекомендация решила дело. «Стенографическую фигуру» включили в выставку, которая получила прекрасную прессу. Один из рецензентов, художественный критик «Нью-Йоркера» (The New Yorker) Роберт Коутс, особо отметил Поллока. «Это настоящее открытие», – написал он в своем обзоре.
Лед тронулся – Поллока заметили. К концу того же знаменательного, 1943 года Гуггенхайм (под давлением Дюшана, Путцеля и других) предложила ему устроить первую персональную выставку. Мало того, она заключила с ним контракт – вещь беспрецедентная для американских авангардистов. Контракт гарантировал ему регулярный – и столь необходимый! – доход и обеспечивал его заказом на «фреску», декоративное стенное панно в нью-йоркской квартире Пегги Гуггенхайм. Поллок тогда работал дворником в Музее нефигуративного искусства Хиллы фон Ребай. Для подготовки к выставке он уволился, сломал перегородку, разделявшую его и Краснер мастерские, и налег на работу.
Персональная выставка, увенчавшая его неожиданный трудовой подъем, обернулась полным финансовым провалом. Продать удалось всего один рисунок. Однако она собрала неплохой урожай рецензий сразу в восьми периодических изданиях, включая «Нью-Йорк таймс» (The New York Times), «Нью-Йоркер», «Нью-Йорк сан» (The New York Sun), «Партизан ревью» (Partisan Review) и «Нейшн». Нечаянно-негаданно оказалось, что всем есть дело до современного искусства. «Безудержно – чтобы не сказать буйно – романтичные» – так отозвался о картинах Поллока обозреватель «Нью-Йорк таймс» Эдвард Олден Джуэл. Для Коутса из «Нью-Йоркера» Поллок стал «настоящим открытием», а по мнению критика из «Арт-дайджеста» (Art Digest), художник был еще «в поиске… он как одержимый бросается на холст… где все вертится и кружится». Некоторые восприняли новую звезду с долей скепсиса: Генри Макбрайд из «Нью-Йорк сан» сравнил композиции Поллока с «калейдоскопом, который забыли хорошенько потрясти». Но это уже не имело значения. Никогда прежде в Америке молодой художник-модернист не удостаивался такого внимания.
В мае 1944 года Альфред Барр, влиятельнейший хранитель Музея современного искусства, отбросил сомнения и за 650 долларов приобрел для музея картину Поллока «Волчица». А в марте следующего года Гуггенхайм открыла в своей галерее вторую персональную выставку Поллока. Откликнувшись на это событие, Гринберг и назвал Поллока «самым сильным художником своего поколения». «Любые слова похвалы, – продолжал он, – не в силах передать мое впечатление».
Де Кунинг наблюдал за ходом событий не без зависти – но и не без воодушевления. Ему уже стукнуло сорок, он был на восемь лет старше Поллока. До сих пор продалась всего одна его картина. Вихрь успеха, внезапно подхвативший Поллока, заставил его остро ощутить непрочность собственного положения, свою затянувшуюся невостребованность. Но, в отличие от многих собратьев по цеху, он не держал зла на молодого товарища за внезапно свалившуюся на него известность. Наоборот, он все чаще встречался с Поллоком, и они отлично ладили. Он знал, что на пути к успеху Поллоку пришлось немало претерпеть, и восхищался его характером, его независимым поведением и умением «не замечать сплетников».
Помимо всего прочего, де Кунинг ясно видел суть происходящего. Предчувствие подсказывало ему, что от успеха Поллока, если повезет, может выиграть и он, де Кунинг. Вокруг модернистского искусства начал подниматься шум, причем в центре внимания оказалось не творчество заокеанских эстетов, заносчивых европейских сюрреалистов, а работы молодого, необузданного и прежде никому не известного американца. И в этом была вся соль. Живопись Поллока, как выразился после его первой выставки обозреватель журнала «Арт-ньюс» (ARTNews), «свободна от Парижа и дышит американской яростью, хотя и подчиненной художественным законам».
«Лидером был Поллок, – скажет потом де Кунинг. – Он ковбой от живописи, он первым добился признания… Он намного опередил меня. Я все еще искал свой путь».
Поллок получил то, к чему стремился: несомненный успех. Веский аргумент против всех, кто не верил в него.
И все же эта первая победа (легкая рябь на воде по сравнению с его грядущей славой!) казалась такой хрупкой, такой ненадежной… Да, его заметили, к нему благосклонно отнеслись критики, но картины по-прежнему не продавались. Контракт с Гуггенхайм, вызвавший такой прилив зависти у собратьев-художников, отнюдь не сулил золотых гор – в финансовом отношении они с Краснер по-прежнему висели на волоске. Тем временем прежние, сильно политизированные товарищи по художественному союзу при Управлении общественных работ начали ревниво брюзжать и злословить за его спиной, что не прибавляло ему уверенности, отравляло радость от успеха и снова толкало к бутылке.
Заказ на «фреску» для Пегги Гуггенхайм стал его кошмаром. Еще на стадии подготовки Поллок уткнулся в тупик и не мог сдвинуться с места. Время шло, а он все не начинал. В канун условленного дня сдачи работы он к ней даже не приступил. В тот вечер Краснер легла спать с мыслями, что все пропало: «фрески» не будет и о покровительстве Гуггенхайм можно забыть.
Но катастрофический сценарий, словно по волшебству, обрел триумфальный финал, давно превративший эту историю в великий миф американского модернизма: за одну-единственную ночь Поллок написал целиком всю работу – четырнадцать с половиной квадратных метров холста! Результат получился ошеломляющий: ритмичная, сплошная от края до края композиция из черных петлеобразных и гнутых форм, испещренных поверх разноцветными линиями; каждый следующий слой линий уверенно очерчивает свое пространство, не сливаясь с набегающими на него соседними. Гигантское полотно было не похоже ни на какое другое, дотоле созданное в Европе или Америке. Оно прозвучало апофеозом спонтанности, интуиции, риска – апофеозом (несмотря на все предшествовавшие ему муки) творческой дерзости.
Впрочем, и тут не обошлось без казуса. На приеме по случаю установки «фрески» на предназначенное ей место в доме заказчицы Поллок зверски напился. В конце концов герой дня шатаясь вошел в гостиную и на глазах у всех помочился в камин.
Психическая неуравновешенность, долгое время его изводившая, никуда не делась, а в чем-то и усугубилась под гнетом новых обстоятельств: Поллока ввели в элитарный круг Пегги Гуггенхайм, и теперь ему нужно было общаться с богатыми коллекционерами, европейскими художниками и прежде ему неведомой разношерстной богемой. От бурной светской жизни он приходил в возбуждение, но нередко и терялся – например, когда Гуггенхайм положила на него глаз (в амурных делах она отличалась редкой всеядностью). Итог был печальный: он провел у нее одну-единственную ночь, после чего с головой ушел в очередной неистовый запой.
Все это время де Кунинг если не полностью бездействовал, то и вперед не двигался. Он напоминал танцовщика, который выполняет арабески, находясь внутри запутанного тесного лабиринта. Тем не менее он упорно гнул свою линию: по-прежнему сдирал с холстов свою старую живопись, и сил на это тратил не меньше, чем на создание новой. Репутация художника-затворника, который наедине с собой часами бьется над решением творческих проблем – по большей части внутренних, им самим же и созданных, – настолько с ним срослась, что стала приносить какое-то странное, извращенное удовлетворение.
Говард Путцель, сыгравший едва ли не главную роль в том, что Пегги Гуггенхайм согласилась поддержать Поллока, пытался то же самое провернуть и с де Кунингом, в которого верил ничуть не меньше. Но на сей раз вышла осечка. И виноват в этом был не кто-нибудь, а сам де Кунинг, с его дурацким гонором. Однажды Путцель исхитрился затащить Гуггенхайм к де Кунингу в мастерскую. Расфуфыренная галеристка казалась вялой, безучастной и непрерывно жаловалась на похмелье. От вида этой пресыщенной, высокомерной дамочки в душе де Кунинга поднялась черная волна ненависти к сытым, богатым бездельникам. Пока она лениво обводила взглядом его работы, он едва что-то цедил сквозь зубы. Наконец она выбрала одну – всего одну – картину и распорядилась доставить ее в «Искусство нынешнего века».
«Она не закончена», – пробурчал де Кунинг. Гуггенхайм невозмутимо ответила, что дает ему две недели на завершение работы, после чего он должен сам доставить холст в галерею. С тем она и ушла.
«Билл постарался, чтобы через две недели картина выглядела еще менее законченной, чем раньше», – сказал, вспоминая этот эпизод, его друг Руди Буркхардт.
В то время де Кунинг жил в квартире на Кармин-стрит вместе с женой, художницей Элен Фрид. Они познакомились в 1938 году, когда она была двадцатилетней студенткой художественного колледжа. Случайно увидев его в баре, Элен была поражена, как она сама позже скажет, его взглядом – «взглядом моряка, который день-деньской смотрит вдаль на морские просторы». Де Кунинг пригласил девушку зайти к нему в мастерскую и почти сразу в нее влюбился. Он обожал в ней все: ее прямоту, ее роскошные волосы, ее своеобразный, невесть откуда взявшийся выговор и даже ее простодушную амбициозность. Отучившись несколько лет в художественной школе «Леонардо да Винчи» в Нижнем Истсайде, Элен перешла в Школу американских художников, где ее наставником был модернист Стюарт Дэвис. Она искренне любила живопись, и де Кунинг в ней это очень ценил. Несмотря на миниатюрность, она не была ни слабой, ни болезненной и пользовалась успехом в своем кругу; друзья считались с ее мнением и уважали за искренность и принципиальность. Когда Элен познакомилась с де Кунингом, она зарабатывала на жизнь тем, что позировала художникам и писала городские пейзажи и портреты в стиле соцреализма. В декабре 1943 года они поженились. Впоследствии она говорила своей подруге Гедде Стерн, что вышла за него, «потому что кто-то сказал ей, будто бы он станет величайшим художником».
В начале 1940-х годов они были безоговорочно счастливы, но потом начались сложности. Оба, каждый по-своему, впадали в крайности и вели себя неразумно. Элен нуждалась в обществе, в веселых компаниях, в зрителях, тогда как де Кунинг предпочитал одиночество. Несмотря на природное обаяние, он был скован и поглощен собой. Работали они вместе, в одной мастерской, но в разном темпе и с разным настроем. Ей тоже требовалась тишина, пока она писала, но писала она очень быстро, очертя голову, если можно так выразиться, а такой подход был совершенно чужд де Кунингу. Ни один из них не любил готовить и не имел ни малейшей склонности заниматься домашним хозяйством. (Кто не знает анекдот про то, как де Кунинг, стоя посреди квартиры и глядя на царящий кругом бардак, строго говорит Элен: «Нам нужно завести жену!») У них то и дело возникали бурные ссоры, а измены считались в порядке вещей.
В конце 1940-х их брак стал распадаться. Но закаленная в бурях нерушимая связь осталась навсегда. Уже после того, как они расстались, Элен как могла продвигала карьеру де Кунинга, особенно если дела у него шли неважно. И стоило Ли Краснер появиться в поле ее зрения, как в ней тотчас же взыгрывал боевой дух.
В конце ноября 1946 года де Кунинг снял мастерскую напротив церкви Милосердия на Четвертой авеню, между 10-й и 11-й улицей в Нижнем Истсайде, и все чаще оставался там на ночь. Средств на жизнь едва хватало. (Заполняя налоговую декларацию, он обнаружил, что его годовой доход недотягивает до минимальной суммы, подлежащей налогообложению.) Вскоре он начал писать абстрактные картины, преимущественно черно-белые – главным образом потому, как он уверял впоследствии, что мог позволить себе только белую и черную эмаль, на более дорогие краски не было денег. На этих черно-белых абстракциях можно разглядеть изменчивые формы, которые то проступают из хаоса, то снова с ним сливаются: вдохновленные Пикассо головы, биоморфные сгустки краски, ягодицы, груди, простертые руки, оскаленные в безумной улыбке зубы, монструозные тела. Все это вызывало в памяти скопление фантастических форм у Босха и Брейгеля и чем-то напоминало творчество молодого Фрэнсиса Бэкона, который примерно тогда же по другую сторону Атлантики разрабатывал свой собственный новаторский живописный язык. Друг де Кунинга Чарльз Иган, недавно открывший галерею в крошечной студии на 57-й улице, мечтал устроить его персональную выставку. По иронии судьбы, он был влюблен в Элен и в 1947 году, вскоре после женитьбы на другой (Бетси Дюрсен), завел с ней тайный роман, который тянулся довольно долго. Брак де Кунинга с Элен к тому времени уже выдохся, и когда обманутый муж в конце концов узнал об этой связи, то сделал вид, что ничего особенного не случилось. В их богемной среде супружеская верность явно не входила в число главных добродетелей, к тому же охотниц заполучить де Кунинга было предостаточно. Он всегда с удовольствием общался с Иганом, а тот искренне хотел ему помочь, и, конечно, их крепкая мужская дружба вполне могла выдержать столь незначительную проверку на прочность.
Иган и Элен были далеко не единственными, кто безоговорочно верил в де Кунинга. Для многих непризнанных манхэттенских авангардистов фигура голландца стала чем-то вроде талисмана. Де Кунинг олицетворял стойкость и верность высоким идеалам, и эти качества подтверждались мужественной красотой его облика. Его несомненно ждало великое будущее.
Переполох, вызванный удачным дебютом Поллока у Пегги Гуггенхайм, мало-помалу стих. Война близилась к концу, период лишений и чудачеств молодости уходил в прошлое, и Поллок с Краснер решили пожениться. Они провели идиллическое лето на Лонг-Айленде – Поллок находил успокоение и одновременно творческий стимул в открытом небе над головой и бескрайних морских просторах (Атлантика, по его словам, – единственное, что может сравниться с привольными ландшафтами американского Запада). И потом, к удивлению многих знакомых, они купили в кредит фермерский дом, построенный еще в XIX веке, – там же, на Лонг-Айленде, в Спрингсе, на Файрплейс-роуд. В этом деревянном, обшитом вагонкой доме не было ни водопровода, ни центрального отопления, и в первую морозную зиму им пришлось обходиться без удобств и без машины. Но они худо-бедно справились и постарались сделать дом пригодным для жизни. На несколько месяцев Поллок забросил живопись, но потом вновь вернулся к работе – и вступил в самый стабильный и плодотворный период своего творчества.
Тот год, 1946-й, стал счастливейшим в биографии Поллока. «Он всегда спал допоздна, – вспоминала Краснер. – Пил не пил – утром ему было не встать… Завтракать садился, когда я уже обедала… Битых два часа сидел над чашкой кофе. Полдня пройдет, тогда он наконец отправляется в мастерскую и работает до темноты. Электрического света в мастерской не было. Так что, если дни стояли короткие, для работы оставались считаные часы, но сколько он успевал за эти часы – просто поразительно!» На Лонг-Айленде он был избавлен от вечного соперничества и публичных конфузов. Незаменимая Краснер обо всем заботилась и неустанно твердила, что верит в него. И пусть не сразу, после долгого, но ничем не скованного экспериментирования, он нашел тот живописный метод, который совершит революцию в искусстве всего западного мира.
Под конец жизни Люсьен Фрейд любил рассказывать историю про то, как автор комиксов уехал в отпуск, оставив своего героя «прикованным цепями к морскому дну: слева к нему плывет гигантская акула, справа подбирается огромный осьминог. Человек, которому велено продолжать работу с этого места, не может придумать, как выручить героя из беды, и вот, после нескольких бессонных ночей, он шлет автору телеграмму с вопросом, что делать. И автор в ответ телеграфирует: один нечеловеческий рывок – и герой на свободе».
Знаменательные достижения Поллока, начиная с его «фрески» 1943–1944 годов до грандиозного прорыва 1946 года, сродни невероятному, а-ля Гудини, трюку самоосвобождения, а еще точнее – побегу из добровольного заточения. На самом деле все случилось не враз, а более или менее постепенно. Но Поллок тогда действительно пережил вулканический выброс созидательной энергии. Произошло это под действием внутренней убежденности, для которой никакие законы не писаны, для которой, напротив, естественно изобретать свои правила игры – игры в чем-то наивной и рискованной.
Свои эксперименты в новой мастерской на Файрплейс-роуд Поллок начал с того, что процарапывал обратным, деревянным концом кисти или просто палочкой линии в красочном слое. Сам по себе прием не новый, художники веками им пользовались, только Поллок стал применять его с небывалой агрессией. Он покупал жидкие промышленные красители, чтобы не возиться с краской из тюбиков, которую приходится разжижать растворителем. Обнаружив, что промышленные краски обладают иными свойствами, он принялся их исследовать, для чего прямо на полу расстилал холст, а сам двигался вокруг него, изменяя угол зрения. Потом он попробовал просто лить краску тонкой струйкой или капать ею на холст – точнее, обмакивал палочку или кисть в банку с краской и «рисовал» в воздухе над холстом. Раскачиваясь вперед-назад, он ритмично взмахивал рукой, словно дирижер, целиком сосредоточенный на звучащей в голове музыке, – и краска послушно ложилась на поверхность синусоидами, петлями, волнами.
Однажды к Поллоку и Краснер наведался критик Клемент Гринберг. На полу в мастерской Поллока он увидел неоконченное полотно, от края до края покрытое паутиной желтых линий. На стенах были другие, законченные, но не такие радикально-смелые работы, поскольку краска там была нанесена преимущественно традиционным способом. Гринберг снова скосил взгляд на пол и сказал: «Интересно. Попробуй сделать таких штук восемь-десять».
Поллок последовал его совету и день за днем, работая по своей новой методе, покрывал красками поверхность огромных холстов. Так возникло несколько картин – необычных, впечатляющих и очень разных по цвету, фактуре и настроению. Некоторые, с расплывами алюминиевой краски, по которой в разные стороны разбегаются тонкие, перепутанные, прерывистые линии с вкраплениями брызг (то как миниатюрные летящие кометы, то как секущий дождик), при беглом взгляде создают впечатление кружевной кисеи или цветной паутины. Кажется, что полотна пульсируют, вспыхивают мигающими огоньками, словно далекие галактики в бездонных просторах космоса. Генри Макбрайд в статье для «Нью-Йорк сан» в 1949 году счел россыпь брызг на одной из картин Поллока «красивой и упорядоченной», создающей эффект «уничтоженного войной города, возможно Хиросимы, на который смотришь с большой высоты при лунном свете». Другие, наоборот, до предела нагружены, с толстыми слоями краски, местами, по периметру, хранящей отпечатки пальцев, а то и ступни художника, с застывшими в краске мелкими камешками и какими-то обломками, и все это теснится, сталкивается, спорит друг с другом на поверхности. Сознавая специфику своих работ, Поллок давал им ассоциативные названия, от «Галактики» и «Фосфоресценции» до «На дне морском», «Зачарованный лес», «Люцифер» и «Собор» (цв. ил. 13).
По образному выражению критика Паркера Тайлера (1950), «Поллоковская краска летит сквозь пространство, как хвостатая комета, и, расшибаясь о непреодолимую преграду в виде плоского холста, взрывается, оставляя после себя для нашего обозрения навеки застывшие фрагменты катастрофы». Завихрения краски у него словно лабиринт, где «нет главного выхода, как нет и главного входа, ибо каждое движение автоматически несет свободу, которая есть одновременно вход и выход».
Пегги Гуггенхайм была одной из тех, кто раньше других видел и покупал эти картины. Несомненно, она и выставила бы их у себя раньше всех, да только Нью-Йорк ей наскучил, и в 1947 году она закрыла свою галерею и уехала в Венецию. Перед отъездом ей удалось уговорить другую галеристку, Бетти Парсонс, взять Поллока под свое крыло. Вот почему «капельная живопись» Поллока впервые была представлена в галерее Бетти Парсонс.
Новое изобретение отнюдь не вызвало единодушного восторга зрителей. Кое-кто из критиков назвал картины инфантильной, примитивной мазней. Другие сочли их сугубо декоративными, показными, пустыми – ни драмы, ни глубины. Но все сходились на том, что живопись Поллока не имела аналогов. Прежде никто так не писал. И было в его картинах что-то такое, что поражало воображение – не только критиков, вроде Гринберга (который всемерно поддерживал Поллока на этом пути), но и художников. Немногие из собратьев Поллока могли сформулировать, что именно их взволновало. И почти никто не выразил открыто своего одобрения. Но лучшие среди них – включая де Кунинга – почувствовали, что произошло нечто экстраординарное, и пристально вглядывались в эту странную живопись, пытаясь разобраться в своих ощущениях.
Поллок перебрался на Лонг-Айленд, но прежняя среда обитания, авангардная богема Нижнего Манхэттена, хорошо помнила его дикие эскапады: пьяные дебоши, приставание к женщинам и демонстративные безобразные выходки – стоило ему учуять в воздухе запашок чинной благопристойности. Большинство людей считали поведение Поллока следствием расшатанной психики. Трудно было предвидеть, что он может выкинуть, и еще труднее было все это терпеть. Однако де Кунинг охотно проводил время с Поллоком всякий раз, как тот наезжал в город (обычно в компании с другими художниками, скажем с Францем Клайном), и относился к его чудачествам скорее сочувственно. В его собственной природе было место и жестокости, и сумасбродству, и анархии. Однажды де Кунинг неожиданно высказался о раскрепощенности – своеобразной «удали» Поллока, на которого смотрел с откровенной завистью (не только как на художника, но и как на человека).
Я завидовал ему – его таланту. Но он вообще был незаурядной личностью. Постоянно удивлял… Он вмиг понимал, с кем имеет дело. Сидим мы, скажем, за столом, и тут входит какой-то парень. Поллок на него даже не взглянул, только молча кивнул раз-другой… как заправский ковбой… в смысле – «отвали». Это его любимое выражение: «Отвали!» Вот ведь потеха, представляете? Он на него даже не взглянул!..
И де Кунинг пустился в воспоминания.
Франц Клайн рассказывал мне, как однажды Поллок явился при полном параде. Он пригласил Франца на обед в одно шикарное место. Ну, сидят они там, едят. И вдруг Поллок замечает, что бокал у Франца пустой. Он и говорит ему: «Давай налью тебе еще, Франц». Наполняет его бокал, а сам смотрит, как льется вино из бутылки, так засмотрелся, что всю бутылку-то и вылил. Залил еду, стол, все… Он недаром сказал: «Налью тебе еще!» Лил и радовался, будто ребенок, это же здорово – смотреть, как вино заливает все вокруг. Потом взял скатерть за все четыре угла, поднял вместе со всем, что на ней было, и шмякнул на пол. На глазах у всех! Просто сбросил все на пол, к чертовой бабушке… Расплатился – и ничего, никто его не задержал. Удивительно, что́ он себе позволял. Там были такие официанты – никому спуску не давали, и еще швейцар в дверях, и вообще. Это было лихо, это жизнь!
В другой раз мы собрались у Франца… Потрясающий случай. Было тесно, душно, народу набилось битком, все выпивали. Окна там были маленькие, сплошные. Поллок посмотрел на одного парня и говорит: «Тебе нужен воздух» – и хрясь кулаком по окну! В тот момент это было то, что надо, как боевой клич. Мы, точно дети, перебили все стекла. Здорово!
Иными словами, де Кунинга в Поллоке привлекало примерно то же, что Люсьена Фрейда в Бэконе. Особое свойство личности, которое проявлялось не только в его творческих достижениях, но и в его мировосприятии в целом, и, вероятно, самым притягательным в нем было то, что одно не мыслилось без другого. Даже если эстетические критерии играли определенную роль, уместно говорить не о красоте живописи, а о красоте раскрепощенного существования. О привлекательности идеи самоосвобождения – от мнения окружающих, от правил приличия, от общественной морали, – с тем чтобы самому дойти до потаенной сути чистоты и безгрешности.
И когда де Кунинг в 1948 году увидел выставку Поллока в галерее Бетти Парсонс – в общей сложности восемнадцать картин, – он сделал свои выводы. Понаблюдав за ухарскими замашками Поллока, за его хулиганскими поступками, а главное – за его манерой письма, де Кунинг ясно понял, чего не хватает ему самому как художнику. «На полу мне легче всего, – объяснял Поллок. – Я чувствую себя ближе к живописи, ее частью – я могу ходить вокруг, работать со всех четырех сторон и буквально быть внутри живописи… Когда я внутри своей живописи, я не осознаю, что делаю. Только потом, когда мы с ней, так сказать, „официально представлены“ друг другу, наступает понимание того, что сделано».
Де Кунингу тоже хотелось ощутить себя внутри своей живописи и не ведать, что творишь. Самоуверенность Поллока, исходящее от его картин чувство неудержимого, сметающего все преграды бегства на волю выступали мощным противовесом всему тому, что так долго удерживало де Кунинга на месте, не давая двинуться вперед (вспомним его бесконечные переделки и по многу раз использованные холсты). Восемнадцать поллоковских картин у Бетти Парсонс говорили не о смелости даже – а о наглости. Им ничье одобрение было не нужно.
И де Кунинг стал давать себе все больше воли в творчестве. Никогда прежде он не отваживался на такую спонтанность самовыражения. Теперь он густо набирал краску на кисть – и, по его собственному выражению, «пускался во все тяжкие». В отличие от Поллока, он по-прежнему работал в основном кистью и остался верен мольберту. Но стал писать «мокрым по мокрому», капал на холст краской, достигал неожиданных (иногда для себя самого) эффектов благодаря разным параметрам вязкости и текучести материалов. Как и Поллок, он часто поворачивал холст вокруг оси. (Поэтому потеки на его картинах иногда меняют направление.) В результате возникла серия черно-белых абстрактных композиций, и де Кунинг наконец – после многих лет упорного сопротивления под предлогом того, что он «еще не готов», – согласился представить публике свои картины на первой персональной выставке в галерее Чарли Игана.
Выставка открылась в апреле 1948 года и включала десять работ, созданных в минувшем году. Сквозь черные и грязно-белые тона проглядывали пятна яркого цвета, привлекая и удерживая взгляд зрителя. Многие из этих чисто абстрактных, казалось бы, композиций на деле включали в себя и фигуративные элементы. Другие были составлены из больших, произвольно сгруппированных букв и цифр. Контуры, вроде бы намечавшие трехмерные формы, уступали ведущую роль другим, переводящим взгляд на поверхность благодаря потекам и сгусткам краски. Голландец часто смешивал краски прямо на холсте, чтобы белые линии приобрели тот или иной оттенок серого. Жидкая белая краска, наложенная поверх подсохшей блестящей черной, тут и там образует рельефные неровности, усиливая эффект стремительности и небрежности; а кое-где фактурная поверхность скорее напоминает мех. Позитивные формы и негативное пространство постоянно меняются местами, по мере того как де Кунинг сжимает пространство и одновременно локально его углубляет – линией, тоном, характером мазка, призрачными контурами, смазанными пятнами, счистками, спонтанными штрихами. Во всем чувствуется какая-то бешеная целеустремленность, азарт. Глядя на эти картины, понимаешь, что художник одержим неведомой идеей и вот-вот (возможно, на беду) постигнет ее.
Иган делал все возможное, чтобы вызвать интерес к выставке де Кунинга. В письме Альфреду Барру, главному хранителю Музея современного искусства, он заявил, что де Кунинг «создает самые значительные картины нашей эпохи». Но к концу отведенного для выставки месяца стало складываться впечатление, что его затея провалилась. Картины не покупали. Поскольку терять было уже нечего, Иган решил продлить выставку еще на месяц. И снова ничего. Чем дольше это продолжалось, тем острее де Кунинг чувствовал свое унижение. «Стало только хуже», – вспоминала потом Элен, близко к сердцу принимавшая невзгоды де Кунинга, несмотря на то что они уже не жили вместе.
Но не все было потеряно. Да, главные печатные издания выставку проигнорировали, но отдельные художественные журналы на нее откликнулись. И рецензии были вдумчивые, некоторые даже хвалебные. Критик Сэм Хантер так и не решил для себя, чего больше в образах де Кунинга – «ощущения загнанности в угол… или скорбной нерешительности» (удивительно проницательное наблюдение). Амбивалентность творчества де Кунинга как раз и привлекала Гринберга. Испытывая недоверие к виртуозной технике, которая слишком часто приводит к китчу, Гринберг ценил произведения, отмеченные печатью родовых мук. По мнению Гринберга, неправильность, отзвук внутренней борьбы, отсутствие лоска служили приметами искренности, доказательством истинной работы духа, в противоположность духовной лени. «Сподобившись наконец, в сорок с небольшим, выставить свои работы, [де Кунинг] предстает перед нами зрелым мастером, полностью владеющим собой и своим инструментарием, достаточно познавшим себя, чтобы отбросить все лишнее и наносное», – писал он. Гринберг понимал, что в случае де Кунинга виртуозность вступает в конфликт с поисками подлинной оригинальности. «Эмоция, требующая единственно верного, оригинального выражения, всегда отметается виртуозной легкостью исполнения, ибо легкость тоже вещь упрямая и ей не по нраву отказываться от своих бесхлопотных побед». Известная «неопределенность, или двойственность» картин де Кунинга, по его предположению, и есть следствие героического «усилия обуздать эту легкость». Гринберг пришел к выводу, что на том этапе де Кунингу еще не хватало «мощи Поллока» и «чуткости Горки» и он сильнее, чем каждый из них двоих, «опутан противоречиями», но у него есть все, «чтобы прийти к более ясному искусству и предложить более жизнеспособные решения живописных проблем». А это значит, заключает Гринберг, что его по праву можно считать «одним из четырех или пяти ведущих художников страны».
В основном благодаря настойчивости Игана несколько из выставленных работ все же удалось продать, в том числе одну – Музею современного искусства. И тут вокруг де Кунинга неожиданно поднялся шум, почти сопоставимый с ажиотажем вокруг Поллока тремя годами раньше. Эмигрант-голландец, кумир прогрессивных художников, долгие годы из принципа не выставлявший свои работы, несмотря на бедность и лишения, наконец-то явил себя миру. И то, что он решился показать, действительно заслуживало внимания.
Но главное – его находки указывали молодым художникам возможный путь развития. Если Поллок, с его несусветной техникой дриппинга (разбрызгивания и проливания краски на холст), для многих был, в сущности, бесполезен, поскольку большинство художников все еще двигались в русле станковой живописи, прочно опиравшейся на рисунок, де Кунинг предлагал альтернативный подход, который, при всей его новизне, эмоциональности, даже взрывоопасности, укладывался в рамки традиции.
Поллок тем временем снова метался из стороны в сторону в состоянии, близком к отчаянию и панике. Несмотря на шквал одобрительных рецензий (и нескрываемый энтузиазм де Кунинга), его триумфальная выставка у Бетти Парсонс в финансовом отношении провалилась. Абстрактное искусство продавалось в Нью-Йорке со скрипом. Абстрактное искусство уроженца Среднего Запада, который додумался разбрызгивать краску на разостланном прямо на полу холсте, практически не продавалось. Такова была суровая правда жизни. А тут еще внезапный отъезд Пегги Гуггенхайм в Венецию! Вместе с ней исчезла их главная финансовая опора. Последний чек от прежней благодетельницы поступил в день закрытия выставки. Только через полгода, в июне, Парсонс подпишет с ним новый контракт. Уже к марту Поллок и Краснер сидели в глубокой яме безденежья.
Поэтому, когда де Кунинг начал получать благожелательные отзывы – поначалу едва слышные, но постепенно набирающие силу и долго не затихавшие после того, как выставка закрылась, – Поллок почуял угрозу и утратил самообладание. Вне себя оттого, что у молодежи де Кунинг теперь не сходил с языка, Поллок в соответствующем настроении явился на ужин, устроенный для художников в рыбном ресторане «Устричный Джек» на 8-й улице. «Он кидался на всех подряд: кто бы что ему ни сказал, все было не так, – вспоминала Этель Базиотис. – Старым друзьям от него досталось – просто ужас. Таким я его еще не видела». В довершение всего он накинулся – не на де Кунинга, нет, а на его бывшего наставника и соратника Аршила Горки.
Горки переживал не лучшие времена, и Поллок не мог об этом не знать. За два года до описываемого эпизода у него сгорела мастерская. Потом он перенес операцию по поводу рака толстой кишки и с тех пор вынужден был жить с колостомой на животе и прикрепленным к ней мешком-калоприемником. На той дружеской посиделке в «Устричном Джеке» он коротал время, оттачивая ножиком карандаш. Поллок подошел к нему и ни с того ни с сего начал орать – издеваться над ним самим и его картинами. Все онемели. Горки, сжав зубы, продолжал оттачивать карандаш. Поллок все не унимался, пока Уильям Базиотис наконец не заставил его заткнуться.
Строить догадки насчет того, что двигало Поллоком, – дело неблагодарное. Но, может быть, учитывая давнюю привязанность де Кунинга к Горки, Поллок таким причудливым способом косвенно сводил счеты с де Кунингом, чей успех лишил его покоя. Если так, то это далеко не последний случай, когда Поллок подобным образом камуфлировал свои истинные чувства.
И Поллок, и де Кунинг прекрасно понимали, какую роль им отводят критики и публика: в глазах современников они оба были первопроходцы, лидеры и, следовательно, соперники. Естественно, какое-то время они относились друг к другу не без опаски. Но взаимное напряжение, или настороженность, как ни назови, вскоре уступило место мужскому, несентиментальному товариществу и откровенному взаимному восхищению.
Весной, прежде чем уехать в Северную Каролину преподавать в летней школе при колледже Блэк-Маунтин, де Кунинг впервые посетил Лонг-Айленд. В гости к Поллоку и Краснер он отправился вместе с Элен, Францем Клайном и Чарли Иганом. О том, как прошла встреча, ничего не известно. Но поездка определенно произвела на де Кунинга впечатление: в последующие несколько лет он стал проводить на Лонг-Айленде все больше и больше времени и в конце концов переехал жить в Ист-Хэмптон. Дом он себе присмотрел всего в нескольких минутах ходьбы от Поллока и Краснер, напрямик через кладбище, где ныне покоится Поллок.
Летом и осенью Поллок плодотворно работал, совершенствуя удачно найденный новый стиль. Но в остальном он был все так же опасно непредсказуем. За 90 долларов он купил старый, видавший виды «Форд-А» и разъезжал на нем по Лонг-Айленду независимо от стадии опьянения. Краснер жила в постоянной тревоге. Мать Поллока Стелла, узнав про автомобиль, написала его брату Фрэнку – будто в воду глядела: «Ему нельзя садиться за руль и при этом пить, не то убьет кого-нибудь или убьется сам».
На одной вечеринке в Манхэттене Поллок поверг всех сначала в ступор, потом в ужас. Затеяв ссору с Уильямом Филлипсом, редактором журнала «Партизан ревью», он уже изготовился пустить в ход кулаки, но внезапно передумал, схватил дорогую туфельку Сью Митчел, подружки Клемента Гринберга, и на глазах у всех разодрал ее на куски. Потом рванулся к окну и полез наружу, по-видимому намереваясь прыгнуть вниз, – до земли было несколько этажей. Марк Ротко и тот же Филлипс едва успели его схватить и повалить на пол.
Несчастный Горки тоже при этом присутствовал. Мало на него свалилось бед – пожар в мастерской, рак кишки, – так он еще сломал себе шею в автокатастрофе (за рулем был его арт-дилер Жюльен Леви). А незадолго до аварии он узнал, что его любимая жена изменяет ему с художником Роберто Маттой. В июле Горки повесился.
Так больше продолжаться не могло. Но продолжалось, снова и снова. И вдруг – на время – прекратилось: Поллок бросил пить.
Причина лежала на поверхности: он сменил психиатра. Нового доктора звали Эдвин Хеллер. Поллок с первой же встречи проникся к нему доверием – и чудо свершилось. Впервые за многие годы у него была ясная голова. Уединенная жизнь в Спрингсе с Краснер как нельзя более этому способствовала. Свет, простор, плоское песчаное побережье с заболоченными бухтами и морскими далями… Он чувствовал бешеный прилив творческих сил. С денежными проблемами тоже мало-помалу разобрались: Поллок получил годичный грант с ежеквартальными выплатами в размере 1500 долларов, а в середине 1949 года подписал контракт с Парсонс примерно на тех же условиях, какие прежде ему предлагала Пегги Гуггенхайм. Но важнее всего для него было оказаться в центре внимания, именно к этому он так долго стремился. Его мечта сбылась, он превращался в настоящую знаменитость.
В январе 1949 года открылась вторая персональная выставка Поллока у Бетти Парсонс – двадцать шесть работ, включая большие картины в технике дриппинга и композиции на бумаге. Как и раньше, разброс мнений, высказанных в рецензиях, был очень широк. Одной рецензентке показалось, что картины Поллока больше всего напоминают «колтун на голове – так и хочется его вычесать». Но Гринберг твердо стоял на своем: с трибуны журнала «Нейшн» он заявил, что Поллок более чем убедительно доказал свое право называться «одним из крупнейших художников нашего времени». Рассуждая о картине Поллока «Номер 1» (позже переименованной в «Номер 1А» и приобретенной в 1950 году Музеем современного искусства), он провозгласил: «Я не знаю, какая еще рожденная в Америке картина выдержит сравнение с этой крупномасштабной барочной каллиграфией в серебристом, черном, белом, мареновом и голубом. За внешней монотонностью открывается великолепное композиционное и событийное богатство, а если говорить о картине в целом, то безупречнее расположить изображение на холсте не сумел бы и мастер эпохи Кватроченто».
Минувшей осенью, в 1948 году, редакция журнала «Лайф» (Life) организовала круглый стол, на котором каждому из участников было предложено вслух поразмышлять о путях развития современного искусства и ответить на вопрос: «Искусство авангарда, если обобщить, – это направление истинное или ложное?» Вопрос для умеренно-консервативного, самого продаваемого в Америке еженедельника, с читательской аудиторией порядка пяти миллионов человек, был далеко не праздный. В редакции опасались, что творчество авангардистов, судя по всему, порывает с моралью, «не признает ни этических, ни религиозных ориентиров». Для того чтобы разобраться, как в действительности обстоит дело, к дискуссии привлекли известных интеллектуалов и критиков, включая Олдоса Хаксли и Клемента Гринберга, а для анализа отобрали разные произведения новейшего искусства, среди которых едва ли не самым «экстремальным» был «Собор» Поллока – вертикальная композиция в технике дриппинга, написанная в 1947 году.
Хаксли отнесся к этому полотну равнодушно. «На мой взгляд, – сказал он, – это больше всего напоминает полосу обоев: наделать таких побольше, и можно оклеить комнату». Другой участник круглого стола, профессор философии, снисходительно заметил, что картина Поллока вполне сошла бы в качестве «приятного узора для галстука».
Однако Гринберга позвали недаром – он встал на защиту Поллока и авангардного искусства в целом со свойственным ему авторитетным напором. Он вообще любил безапелляционные суждения. В следующие несколько лет он энергично продвигал свой довольно специфический взгляд на искусство и его место в послевоенном мире. И если критерии, которыми он пользовался, не всегда выдерживают проверку на объективность, ему нельзя отказать в остром уме и ясности мысли, а умение с ходу, почти не раздумывая, выносить оценки неизменно производило впечатление на публику.
Впоследствии, когда Гринберг стал фигурой еще более влиятельной, он взял манеру являться в мастерскую то к одному, то к другому художнику и указывать, что и как писать. Де Кунинг не стал исключением: однажды Гринберг нагрянул к нему в мастерскую и стал раздавать непрошеные советы. «Он знал все про все», – вспоминал де Кунинг, который быстро потерял терпение и выпроводил гостя. «Я сказал: „Хватит, идите отсюда“». Справедливости ради надо добавить, что советы Гринберга могли сослужить добрую службу. Поллоку в 1946 году они определенно помогли.
И теперь, в роли участника круглого стола журнала «Лайф», Гринберг защищал не только модернистское искусство, но и дорогих его сердцу художников-модернистов. Он бесстрашно заявил, что «Собор» – это «первоклассный образец творчества Поллока и одна из лучших картин, созданных в стране за последнее время».
В «Лайфе» не сомневались, что напали на очень многообещающую тему. В журнале был сильный отдел культуры, сотрудники пристально следили за новыми тенденциями, а хозяин и главный редактор Генри Льюис нарочно разжигал страсти передовицами, в которых объявлял авангардное искусство шарлатанством. Через несколько месяцев после того, как вышел номер, посвященный полемике вокруг нового искусства, журнал командировал фотографа-портретиста Арнольда Ньюмана к Поллоку, чтобы снять его за работой.
Результаты фотосессий в Спрингсе оказались настолько эффектными, что редакторы «Лайфа» решили дать зеленый свет обзорной статье, о которой подумывали с тех пор, как состоялся круглый стол. Они снова заказали фотографии Поллока за работой, на сей раз у Марты Холмс, и в июле Поллок и Краснер приехали в редакцию журнала в Рокфеллеровском центре, чтобы дать интервью молодой журналистке Дороти Зайберлинг. Беседа затрагивала широкий круг вопросов. К сожалению, в расшифровке реплики Краснер и Поллока не разграничены, поэтому трудно с уверенностью утверждать, кто что сказал. Кое о чем из сказанного тогда Поллок, должно быть, потом пожалел – в частности, о своих словах, из которых следует, что до него в семье художников не было (соответствующая запись имеется в расшифровке). Как будто Чарльз и Сэнди решили заняться искусством, вдохновившись его примером, а не наоборот!
Но если это «признание» было откровенной подтасовкой, то другое высказывание Поллока обезоруживает своей искренностью. Его попросили назвать любимых художников, и он назвал двоих: всем известного Василия Кандинского, признанного мэтра абстракционизма, и еще одного, чье имя почти никому из читателей «Лайфа» ни о чем не говорило, – Виллема де Кунинга.
В следующем месяце в журнале был напечатан большой материал под интригующим заголовком: «Джексон Поллок: величайший из ныне живущих художников Соединенных Штатов?» На первом развороте читателей встречала фотография Поллока, снятого на фоне сильно вытянутого по горизонтали полотна, демонстрирующего изобретенный им капельный метод живописи, или дриппинг. Он стоит, сложив на груди руки, чуть склонив голову набок, с сигаретой в зубах; ноги скрещены – правая непринужденно закинута за левую, опорную. Кажется, будто он спиной привалился к картине, словно к борту старенького пикапа. По мнению де Кунинга, у него был вид «заправщика с автостанции».
Статья в «Лайфе» стала поворотным моментом не только в судьбе Поллока, но и, как выяснилось довольно скоро, в судьбах всей американской культуры, поскольку ее значение вышло далеко за пределы тогдашней острой полемики. Статья и вызванный ею резонанс сыграли роль затравочного кристалла в растворе разнородных, еще не сформировавшихся сил, которые не так-то просто выявить и описать. Здесь и послевоенная американская самоуверенность – самоуверенность с налетом бахвальства, с потребностью видеть собственное отражение в искусстве, – и наступившее после холокоста и Хиросимы ощущение экзистенциального рубежа, последней черты. Вполне возможно, что именно этому ощущению и требовалось дать выход прежде всего – с тем чтобы его преодолеть, перевести в плоскость трансцендентного. Слава Поллока отчасти объясняется тем, что его живопись по-своему отвечала на эти общественные запросы. Его композиции были, вне всякого сомнения, сверхсовременны, в них был апломб и была сложность. При этом их можно трактовать и как красивые, декоративные, трансцендентные образы. Эти картины не имели аналогов в прошлом. И даже если читатели «Лайфа» массово впали в ступор, сам факт публикации таких работ – вместе со снимками фотогеничного Поллока – послужил хорошей встряской. После этого любые попытки умалить их значение, презрительно фыркнуть что-то про «обои» или «колтун» были обречены на провал.
Третья выставка Поллока у Бетти Парсонс открылась в ноябре 1949 года, и тут стало окончательно ясно, насколько все переменилось. На вернисаже яблоку негде было упасть, к обычной толпе художников и вездесущих энтузиастов примешались дамы в бриллиантах и мужчины в элегантных костюмах. Де Кунинг пришел с другом, абстракционистом Мильтоном Резником, который еще в дверях заметил, что тут и там какие-то люди здороваются за руку. «Обычно на открытии видишь только знакомых, но здесь было много таких, кого я раньше в глаза не видел. Я спросил Билла: „Чего это они все друг другу руку жмут?“ А он мне говорит: „Да ты посмотри вокруг. Сплошь большие шишки. Джексон пробил лед“».
Грандиозный успех Поллока заставил де Кунинга испытать горькое чувство, знакомое любому американскому авангардисту, с трудом пробивавшемуся к славе, которого затмил удачливый собрат. Но он был достаточно умен, чтобы понять: теперь пойдет другая игра. Поллоку удалось то, на что еще недавно никто из них не смел и надеяться. Он заставил публику смотреть на свои работы. Да так смотреть, чтобы никто не смог от них отвернуться, прежде чем внутри возникнет спровоцированная ими реакция. Он не просто пробил лед – он разбил кулаком стекло, отделявшее авангардное американское искусство от его потенциально огромной зрительской аудитории. Открылись новые необъятные горизонты.
Все это де Кунинг понимал. Но разумеется, заслуга Поллока не только в том, что он повернул зрителя лицом к модернистскому искусству, но и в том, что он создал предпосылки для дальнейшего развития самого искусства.
Новый живописный язык Поллока – все эти причудливые извивы краски, воздушная каллиграфия, из которой рождалась паутина образов, – был не слишком пригоден для общего пользования; он прямо соотносился с тем, о чем Поллок никогда не мог поведать напрямую: с его драматичной, подчас просто невыносимой внутренней жизнью. При всем том язык этот был эмоционален, заразителен и полон неисследованных возможностей.
Размышляя над тем, как ему воспользоваться новой расстановкой сил, сложившейся после резонансных выставок Поллока в галерее Бетти Парсонс, де Кунинг, вероятно, почувствовал, что момент настал: надо действовать, и будь что будет.
Но де Кунинг есть де Кунинг – вечно колеблющийся, он и тут остался верен себе. Казалось, он в нерешительности замер на пороге, не в силах понять, в какой из комнат он хотел бы оказаться, и упивается своей нерешительностью: амбивалентность была его главной отрадой в творчестве. Он то и дело кидался от фигуративности к абстракции и наоборот. С одной стороны, аляповатые сидящие женщины, с другой – преимущественно черно-белые абстракции, в которых, как и в «капельных» картинах Поллока, нет никаких фокусных «центров интереса», только гнутые черные линии, то попадающие в фокус нашего внимания, то вновь из него выпадающие и в совокупности создающие нечто схожее по эффекту с кубистическими композициями Пикассо и Брака, если прибавить к ним немного Матиссовой чувственности, немного беспорядка и непредсказуемости. Каждая его картина была выстрадана, изобиловала поправками и подчистками. («Всякий раз, как начинала проступать фигура, де Кунинг от нее избавлялся», – рассказывала художница Рут Абрамс.) Но композиции у него теперь получались намного более свободные – и вместе с тем цельные, – чем прежде. Обремененные сомнениями и недосказанностью, они все же создавали ощущение некой стройной «карманной вселенной», в противоположность бесконечному, мучительному блужданию между диссонансными стилевыми регистрами.
В начале 1950 года де Кунинг приступил к работе над «Экскавацией» (цв. ил. 14). На тот момент это самая большая его картина – два на два с половиной метра, и работал он над ней четыре или пять месяцев. Она задумывалась как многофигурная композиция (вероятнее всего, три фигуры в интерьере), но постепенно фигуры растворились в окружении, живописное пространство утратило объем и превратилось в подобие растянутой маскировочной сетки, состоящей из неких зыбких форм, то извивающихся, то ломающихся, то «прорывающих» поверхность. Преобладающий тон – грязно-белый, местами подцвеченный желто-зеленым, с черными и серыми разграничительными линиями разной ширины, изогнутыми и ломаными, словно они ищут и не находят места, чтобы распрямиться, натыкаясь на вертикальные и горизонтальные границы картины. Тут и там хаотично возникают вспышки яркого цвета – особенно выделяются красный, желтый и синий – и какие-то оскаленные рты и неподвижно глядящие глаза. Однако Гарольд Розенберг недаром написал в 1964 году: «Несмотря на все тревоги и волнения, которым „Экскавация“ обязана своим появлением на свет, это абсолютно классическая картина, величаво-отстраненная, как формула, выведенная после серии опытных взрывов».
«Экскавация» – шедевр де Кунинга. И написана она кистью, по старинке. Но точно так же, как и картины Поллока, написанные методом дриппинга, это «сплошная» композиция.
Энергия и авторский интерес равномерно распределены по всему полотну, снизу доверху и слева направо. Мелкие фигуративные вкрапления по существу ничего не меняют – все равно это абстрактная картина.
В 1983 году, рассматривая репродукцию картины вместе с Кертисом Биллом Пеппером, который должен был написать о нем очерк для «Нью-Йорк таймс мэгэзин» (The New York Times Magazine), де Кунинг описал процесс ее создания: «Начал я, кажется, вот отсюда. – И он указал на левый верхний угол. – Я сказал себе: „Попробуем взяться за нее здесь“. Я не думал ни о каком конкретно методе или манере. Сделаешь немного, посмотришь, вроде бы нормально. Потом говоришь себе: „Так, здесь я открою, а здесь закрою“, в таком вот духе и продолжаешь, опять и опять, понемногу. И получается хорошо, потому что делаешь то, что связано с предыдущим. Потому что если у тебя есть участок, который тебя устраивает, ты можешь идти от него дальше, мало-помалу».
На первый взгляд метод де Кунинга, его «влезание» в холст, перекликается со стремлением Поллока «быть внутри» живописи – с одним принципиальным отличием: Поллок не работал «мало-помалу».
Непостижимым образом оба художника оказались на коне. Поллоку в самых смелых мечтах не могло привидеться, что на него обрушится такая слава. Все, кто пользовался влиянием в мире искусства – по обе стороны Атлантики, – говорили теперь о его творчестве. Его все чаще провозглашали лучшим художником Америки, рядом с которым сам Пикассо кажется старомодным.
К де Кунингу первый ощутимый финансовый успех пришел только через год, когда «Экскавация» получила приз чикагского Института искусств (который впоследствии и приобрел картину для своего музея). Но ждать полного и бесповоротного признания ему оставалось недолго. В апреле 1950 года Альфред Барр выбрал «Экскавацию» и еще три картины де Кунинга для участия в 25-й Венецианской биеннале; кроме него, Соединенные Штаты должны были представлять Джексон Поллок и шесть других художников. (Четыре года спустя на биеннале от Великобритании отправятся Бэкон и Фрейд.) Работами Поллока и де Кунинга интересовались Музей современного искусства и крупнейшие коллекционеры. Фотографии Поллока и де Кунинга появлялись на страницах популярных журналов, их творчество обсуждали высоколобые критики.
Несмотря на успех «Экскавации», де Кунинг решил на время отойти от абстрактной живописи и приступил к работе над серией больших агрессивных картин, которые изображали грудастых женщин с монструозными лицами и осклабленными ртами, – кажется, будто эти фурии, задумав отомстить творцу, вырвались на свет божий из-за «маскировочной сетки» красочного слоя «Экскавации». Каждый раз фигура на холсте возникает из яростного сумбура мазков, тут и там стертых и заново наложенных, при этом краски словно вышли у художника из повиновения и цвета сами выбирают себе место на холсте. С первой картиной серии, ожидаемо названной «Женщина I», де Кунинг промучился почти два года. Под влиянием Поллока он, возможно, раскрепостился, но его по-прежнему одолевали сомнения, к тому же избранный им стиль отнюдь не предполагал поллоковской свободы творчества. В какой-то момент, отчаявшись завершить свою «Женщину I», де Кунинг выбросил ее на помойку. Если бы не критик Мейер Шапиро, она, вероятно, там бы и осталась: только под его нажимом де Кунинг вернул картину в мастерскую.
Изнурительная борьба с «Женщинами» доводила его до невроза и сердечной аритмии. Неприятные симптомы он стал заглушать алкоголем. Но независимо от его самоощущений успех к нему уже пришел, и вполне осязаемый: из гипотетической возможности в будущем успех превратился в реальность.
А для Поллока 1950 год стал, наоборот, началом конца – началом неудержимого падения в пропасть. Все пошло под откос так стремительно, что, когда смотришь на это с расстояния в несколько десятков лет, трудно отделаться от ощущения, будто его жизнь просто схлопнулась: словно все усилия, и мечты, и, наконец, мощнейший творческий импульс просто взяли и выключили – и обрекли его жизнь на внезапный, постыдный, бессмысленный крах.
Что же случилось? Просто слава Поллока оказалась сильнее его. Его творческий взлет стал возможен благодаря отсутствию в его внутреннем устройстве тех самых механизмов, которыми теперь ему необходимо было срочно овладеть: у него не было ни чувства меры, ни умения себя сдерживать. У него в помине не было того, что в обществе зовется мудростью или зрелостью; того, что писательница Элис Манро в одном из своих рассказов обозначила как «узкие рамки приличий», за которые всякий ответственный, уважающий себя человек выходить не вправе. Ничего этого Поллок не знал и не умел – чем необычайно подкупал того же де Кунинга. Но если отсутствие сдерживающих рычагов на определенном этапе сыграло роль катализатора творческого потенциала и азарта, то в социальном – а возможно, и в экзистенциальном – плане это обернулось роковым изъяном: пьянство Поллока несло в себе прямую угрозу самому его существованию.
Первый тревожный сигнал прозвучал, когда Поллок был на пике популярности: в марте 1950 года его психиатр, доктор Эдвин Хеллер, сумевший подобрать ключ к Поллоку, чтобы держать его алкоголизм в узде, погиб в автокатастрофе. А в июле в дом Поллока на Файрплейс-роуд в Спрингсе нагрянули родственники – братья сговорились устроить семейную встречу. Вместо того чтобы нежиться в лучах долгожданной славы и предстать перед родней уверенным, состоявшимся мастером, Поллок метался как безумный. Оказавшись в кругу семьи, с братьями, которым он когда-то так старался подражать и которым был стольким обязан, – где бы он был сейчас, если бы они раз за разом не выручали его из беды! – он вдруг потерялся и совершенно не понимал, как себя с ними держать. Его бросало из крайности в крайность – от сердечного радушия до нестерпимого позерства. Братья и особенно их критичные жены поначалу смотрели на все это с тоскливым недоумением, а потом с откровенной гадливостью. Казалось бы, Поллоку представился редкий случай, чтобы взять реванш за все прошлые неудачи и унижения, но он сам отравил себе момент торжества.
Через несколько месяцев фотограф Ханс Намут, не раз бывавший у Поллока со своим фотоаппаратом, задумал снять художника за работой на цветную кинопленку. Снимать пришлось под открытым небом (из-за нехватки света в помещении), мучительный для Поллока процесс растянулся на несколько недель, а температура воздуха между тем неуклонно ползла вниз. Намут с Поллоком не церемонился – командным тоном указывал ему, куда встать, что и как делать перед камерой. У него была своя задача – чтобы отснятый материал получился максимально выразительным, драматически насыщенным. И ему действительно удалось создать запоминающийся документальный фильм: мы видим художника, который самозабвенно, словно в трансе, «колдует» над своим новым творением. Во время этого священнодействия он больше всего напоминал шамана, которого направляют великие силы природы и магии – и, конечно, собственное творческое наитие. Неспроста в закадровом звуковом сопровождении Поллок признаётся в родственной связи его метода и древней индейской техники ритуальной «песочной живописи». «Поскольку картина – живое существо, я стараюсь не мешать ей жить», – говорит он в какой-то момент, а позже философски уточняет: «Здесь нет никакой случайности, как нет ни начала, ни конца».
По иронии судьбы – учитывая, каким психологическим стрессом обернулась для Поллока затея Намута, – получившийся в результате документальный фильм немало способствовал созданию мифа Поллока. Его кинообраз не меньше, чем собственно «живопись действия», проложил путь для бесконечного художественного и культурного «развертывания», наблюдавшегося в последующие десятилетия. Как только не интерпретировали и не транспонировали этот киноматериал! Прямо или косвенно он снова и снова вдохновлял радикалов всех мастей на поиски новых форм – будь то авангардный балет, перформанс, хеппенинг, ленд-арт или граффити. Или Джими Хендрикс, сжигающий на сцене свою гитару (Монтерей, 1967), или Энди Уорхол, «пишущий» мочой картины на меди (1970-е). В любом случае главный пафос этого постполлоковского творчества – в отрыве, в безусловной свободе и принципиальной волатильности, в равной мере допускающих в качестве результата художественного акта как созидание, так и разрушение.
Поллок стал сниматься у Намута по доброй воле. Но ему всегда претила любая фальшь, игра на публику, притворство. Чем дальше, тем больше он казался себе каким-то клоуном и шарлатаном и под конец не чувствовал уже ничего, кроме страшной опустошенности. На улице стало уже чертовски холодно, а Поллок все позировал: вот он натягивает заляпанные краской рабочие башмаки, вот пишет по стеклу – капает, льет, брызгает краской, в то время как дотошный Намут снизу, из-под стекла, фиксирует на камеру каждый ингредиент его творческой кухни. Наконец, в День благодарения, съемки завершились, и все пошли в дом на запоздалый праздничный обед. Ежедневная пытка довела Поллока до жуткого состояния. Под стрекотание кинокамеры вся его вера в себя, в то, что он делал и чего достиг, по капле из него вытекла… Он вошел в дом и налил себе виски.
Это и стало началом конца. К 1951 году, после трех лет воздержания, когда его возможности казались безграничными, Поллок опять превратился в горького пьяницу и буяна, и на всех его творческих поисках можно было ставить крест.
Проще всего, конечно, было бы сказать, что пьянство и есть главная проблема Поллока: с этого его неприятности начались, этим и закончились. Однако неясно (и не может быть «ясно», поскольку затуманенность сознания – в самой природе пьянства), почему, собственно, он пил. Найфи и Смит пишут, что пьянство было для Поллока унижением. Но, поспешно уточняют они, «сугубо мужским унижением». И в этом отчасти состояла привлекательность пагубной привычки. Она более или менее укладывалась в тогдашние представления о норме, на нее смотрели сквозь пальцы – образ «настоящего мужика», выпивохи и бузотера, вроде Хемингуэя, или любителя спьяну пускать в ход кулаки, вроде Стэнли Ковальски, брутального героя пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“», был более чем привычным. (Любопытный факт: Уильямс написал пьесу после того, как подружился с Поллоком, – в 1940-е оба проводили летние месяцы в Провинстауне.) В своем демонстративном мачизме Поллок, можно сказать, шел в ногу со временем. В американском искусстве 1930-х годов прослеживается жесткая реакция на опасность приторной изнеженности, «обабливания», поворота в сторону декадентской истомы и аффектации. Одним из проявлений этой реакции стала разработанная Бентоном идеология регионализма, вся построенная на традиционной мужской шкале ценностей и добродетелях сельской Америки. Во многих отношениях героическая, экзистенциалистская и бесспорно мачистская риторика абстрактного экспрессионизма конца 1940-х годов была не чем иным, как прямым продолжением этой линии.
Многие авторы считают, что психическая неустойчивость Поллока – а следовательно, и его алкоголизм – якобы так или иначе связана с его сексуальной неопределенностью. Когда Джеффри Поттер собирал устные свидетельства очевидцев, он осторожно спросил де Кунинга, что тот думает по поводу слухов о гомосексуальных наклонностях Поллока. Де Кунинг ответил, что «большего бреда в жизни своей не слыхал». Под нажимом интервьюера он, правда, припомнил, что Поллок «мог стиснуть тебя и расцеловать, и я, в ответ, тоже мог его чмокнуть». Но в этом, по его словам, не было ничего особенного. «Наверное, художники просто немного более сентиментальны или романтичны, вот и целуют друг друга», – предположил он, фыркнув не то с досадой, не то со смехом. Если в нем что-то «эдакое» и было, то «так глубоко, что то же самое можно сказать про любого».
Биографы Поллока, Найфи и Смит, приводят массу фактов в пользу неопределенности его сексуальной самоидентификации. Однако очень может быть, что это лишь одно из проявлений общей проблемы его самоидентификации, – не больше определенности наблюдается и в других ее аспектах. Царившая в его душе неразбериха прорывалась наружу в виде бесконечных терзаний, самоотвращения и разных диких поступков, которые нередко заканчивались демонстрацией силы. Агрессивные выпады против женщин перемежались неуклюжим ухаживанием (без особой надежды на успех), зачастую непрошеным и настырным, а то и агрессивным. Все это вошло у него в привычку. С мужчинами – особенно с художниками, которые вызывали у него смешанное чувство восхищения и ревности, – он тоже постоянно нарывался на неприятности, и грань между веселым дружеским сумасбродством, искренней приязнью, с одной стороны, и бешеной злобой – с другой, преодолевалась им с чрезвычайной легкостью.
Не счесть, сколько раз Поллок ввязывался в драки, свидетельств тому сохранилось великое множество. В 1945 году его давняя, но неровная дружба с Филипом Гастоном, бывшим однокашником по калифорнийской Школе искусств и ремесел, подверглась суровому испытанию. Случилось это на одной из вечеринок у Сэнди. К тому времени Поллок уже обратился к абстракции и вплотную подошел к самой плодотворной фазе своего творчества, а Гастон все не мог расстаться с фигуративными аллегорическими композициями, которые, на вкус его радикального приятеля, отдавали мертвечиной. «Какого черта ты так пишешь, меня от тебя тошнит! – взорвался Поллок. – Просто тошнит!» Он сказал, что выкинет Гастона из окна. После чего оба долго выясняли отношения на кулаках.
Три года спустя Поллок получил приглашение на званый ужин, который устраивали дизайнеры Джон Литтл и Уорд Беннетт. (Впоследствии гомосексуалист Беннетт утверждал, что Поллок был к нему неравнодушен, – он, Беннетт, будто бы понимал это шестым чувством.) Среди гостей был Игорь Пантюхов, бывший любовник Краснер. Поллок, напившись, начал гоняться за ним по всему дому, пока тот не выскочил вон на мокрую от дождя лужайку. Краснер от ужаса окаменела. По словам Беннетта, мужчины сцепились и «начали кататься в грязи, но выглядело все очень странно. Они не дрались по-настоящему, а вроде как боролись и чуть ли не целовались при этом» (невольно вспоминается купленная Люсьеном Фрейдом картина «Две фигуры» Фрэнсиса Бэкона – работа 1953 года, изображающая не то борцов, не то любовников).
В 1950-х, когда Поллок и де Кунинг были уже в зените славы, обильные возлияния, бравада и дебоширство сопровождали каждое появление Поллока в баре, и особенно всем запомнились его эскапады в таверне «Кедр»: там почти никогда не обходилось без рукоприкладства. Стивенс и Суон рассказывают об одном таком случае. Поллок почему-то привязался к Францу Клайну, лучшему другу де Кунинга: все норовил спихнуть его с барного табурета. Раз спихнул, второй, и тогда Клайн вдруг бросился на Поллока, шарахнул его об стену и двинул ему в живот – правой, левой! «Джексон был много выше ростом, – вспоминал очевидец, – то-то он удивился! Пришел в полный восторг – корчится от боли, а смеется, это мне сам Франц говорил, еле просипел ему: „Полегче!“»
Да, к середине века Поллок был знаменит, о нем писали, его превозносили критики, но широкая публика его живописи не понимала и не принимала. Картины выставлялись, но не продавались, и у Поллока постоянно возникали склоки из-за денег с его арт-дилером Бетти Парсонс. На целых два года, между 1951-м и 1953-м, он практически изгнал цвет из своей живописи и десятками выдавал композиции с синусоидами черной эмали, которые наползали друг на друга и сплетались порой в неразборчивое месиво. Но эффектных работ тоже было немало, в том числе и на ноябрьской выставке в галерее Бетти Парсонс. Разводы, кляксы и брызги жидкой черной эмали на негрунтованном коричневатом холсте в массе создавали гипнотический эффект. На многих проступали узнаваемые фигуративные элементы – четко очерченные лица или тела, вырванные из общего хаоса благодаря пятнам густо-черного цвета. Разглядеть эти элементы в хитросплетении бесчисленных линий удавалось не сразу, но сам факт их присутствия несомненно означает поворот к фигуративному рисунку и наводит на мысль, что Поллок внимательно смотрел и на черно-белые картины де Кунинга, выполненные за предыдущие четыре года, и на его же «Экскавацию» с вкраплениями призрачных фигуративных деталей.
Между тем отношения Поллока с Краснер заметно осложнились. Как только Поллок снова потянулся к бутылке, Краснер оказалась в незавидной роли единственного близкого ему человека, который может и должен хоть как-то его сдерживать. Она отважно взяла на себя эту роль и отдалась ей со всей страстью. Некоторые из их окружения потом обвиняли ее в том, что она явно перестаралась и ее навязчивый контроль только усугубил проблему. Но в подобных ситуациях не бывает ни правильных рецептов, ни победителей. Поллок был законченный алкоголик. В своих попытках справиться с этой бедой Краснер не столько думала о его добром имени и творческой дееспособности, сколько о том, чтобы уберечь его от гибели. Никому на свете – и тем более жене – не дано играть такую роль, не подвергая себя осуждению со стороны всех тех, кто издали за этим наблюдает.
Не имеющий понятия о самоограничении, неисправимо инфантильный, Поллок был из тех, кому слава не по плечу. Художница Сили Даунс как-то заметила: «Он не мог смириться с тем, что те же самые люди, которые любили тебя, когда ты был беден, был никто, теперь, когда ты взлетел наверх и стал знаменит, любят тебя гораздо меньше». Как все хвастуны (а Поллок в своем бахвальстве не знал удержу), он был болезненно не уверен в себе. Он не смог бы ответить на вопрос, способен ли он и дальше создавать что-то не менее впечатляющее, чем его нашумевший дриппинг. Сколько бы он ни хорохорился и ни бил себя в грудь, от критики он сникал, даже если она была направлена против его бесспорно успешных вещей. Очевидно, он сам до конца не верил в их право на существование.
К 1952 году случилось то, чего он боялся. Критики, еще недавно его превозносившие, вдруг на него ополчились. Собратья-художники, завидуя его успеху, но сомневаясь в его заслугах, тут же встрепенулись и зашипели. Теперь его всюду встречали насмешками – а ведь он вечно требовал к себе внимания и уважения. Ему откровенно предпочитали более добродушного и компанейского де Кунинга, вокруг которого сложился клуб художников-абстракционистов, без затей (но не без снобизма наоборот) названный «Клуб». Председательствовал в нем, естественно, де Кунинг. Поллок редко бывал на заседаниях клуба, а если и бывал, его старались не замечать.
Тут впору сокрушенно покачать головой, дескать, бедный Поллок, он же гений, просто запутался, если бы он только смог в себя поверить! Но все не так просто. Его скатывание вниз по наклонной плоскости давно разложено по полочкам – от запоя к запою, месяц за месяцем; каждому срыву, каждому непотребству найдено правдоподобное объяснение, уходящее корнями в его детство и юность. Но как бы то ни было, главный вывод, к которому в результате приходишь, – в последние годы жизни он был невероятно одинок. Постоянно испытывая потребность в участии, Поллок всякий раз ухитрялся нажить себе врага. Он мучил других и мучил себя, шаг за шагом отступая в одиночество, приближаясь к неотвратимой катастрофе. Но в тот, последний период он сражался не только с демонами в собственной душе. Он сходился в рукопашной – зачастую в прямом смысле слова – с теми, включая де Кунинга, чьей дружбы больше всего искал.
В ретроспективе может показаться, что начиная с 1950 года Поллок и де Кунинг играли каждый свою роль в специально написанной пьесе для двоих, тогда как все прочие, обступившие сцену, скрываются в полутьме. Оба знали, что за ними наблюдают пристальнее, чем за кем-либо еще из художников их круга. «Кроме де Кунинга и меня, все остальные просто дерьмо», – без ложной скромности сообщил Поллок художнице Грейс Хартиган.
Но хотя они оба прекрасно сознавали, что́ поставлено на карту (личная победа, доказательство своей правоты, слава на годы вперед), оба понимали абсурдность игры в «Кто самый великий?», которая захватила всех и вся. Если бы Поллока и де Кунинга оставили в покое, вполне возможно, что у них сохранились бы добрые, доверительные и взаимно благотворные для творчества отношения. Но их в покое не оставили. На сцену шумной толпой повалили статисты, и голоса главных действующих лиц потонули в общем гуле.
Среди второстепенных персонажей самыми громкоголосыми, безапелляционными и бесцеремонными были два ведущих критика той эпохи, Гарольд Розенберг и Клемент Гринберг.
Рослый, говорливый, любивший блеснуть интеллектом Розенберг занял почетное место на манхэттенской художественной сцене еще до войны. В мастерской де Кунинга он тоже давно стал своим. У него были густые усы, кустистые брови и оттопыренная, мясистая нижняя губа. При всем своем интеллектуальном апломбе, Розенберг умел быть доброжелательным и остроумным собеседником, любил покуролесить и с молодыми художниками держался по-свойски.
С Поллоком Розенберг тоже был знаком еще со времен Управления общественных работ. Его жена Мэй была единственным свидетелем на бракосочетании Поллока и Краснер. Розенберг ценил Поллока-художника, но со временем стал находить его поведение нестерпимым. Год от года их отношения все больше портились. Розенберг не мог простить ему дикой выходки в Спрингсе, когда Розенберги снимали там дом. На ночь глядя Поллок начал колотить в дверь, требуя, чтобы Мэй ему открыла (Гарольд уехал в город). Вусмерть перепуганной Краснер он велел оставаться в машине. Поллок был пьян и совершенно невменяем. Вероятно, они с Краснер повздорили, и теперь он пытался что-то ей доказать. Стоя за дверью, он с пеной у рта изрыгал непристойности. «Он мне такого наговорил, что просто кошмар, – рассказывала Мэй биографам Поллока, Найфи и Смиту, – обещал устроить мне веселую жизнь и в выражениях не стеснялся». Шум разбудил семилетнюю дочку Розенбергов, она расплакалась и побежала к двери, размахивая кухонным ножом. Мэй кинулась к окну, чтобы попытаться прогнать Поллока. И тут она увидела в машине Краснер. Тогда она сообразила, что весь спектакль для Краснер и устроен. «Он хотел ее проучить, а она послушно все это глотала».
В отличие от де Кунинга, который быстро соображал и обладал врожденным, как у гангстера, вкусом к доморощенной софистике, Поллок интеллектом «не страдал». Для него в этом крылся источник неуверенности, для Розенберга – повод постоянно испытывать в общении с ним досаду и разочарование. Обожавший интеллектуальную пикировку Розенберг очень скоро пришел к выводу, что эта забава Поллоку не по уму.
Розенберг превосходил Поллока не только интеллектуально, но и физически. «Гарольд был здоровый мужик, – вспоминал де Кунинг. – Он никого не боялся. Сам в драку не лез, но, если что, спуску не давал… А Джексон был слабак, особенно если выпьет». Как Поллок мог доказать Розенбергу, что не заслуживает его презрения?.. В общем, после многих лет близкого знакомства критик решил, что с него хватит. Ему надоел алкоголизм Поллока, надоели его скудоумие, косноязычие и неумение себя вести. Однажды, когда Поллок пришел к нему в дом и, как водится, начал безобразничать, Розенберг выпрямился во весь свой почти двухметровый рост, взял самый высокий стакан, до краев наполнил его чем-то крепким и сунул в руку Поллока. «На, пей!» – приказал он. Поллок немного отпил и тихо вышел.
В один прекрасный день в начале 1953 года де Кунинг в самом лучезарном настроении явился в дом Поллока и Краснер. Ему хотелось поделиться впечатлениями от статьи Розенберга в декабрьском номере журнала «Арт-ньюс». Оказалось, что Поллок и Краснер тоже ее прочитали. Статья называлась «Американские художники действия». За десять с лишним лет амикошонских отношений с художниками критик впервые разродился серьезной публикацией об их творчестве – публикацией, которой суждено было остаться в истории. Не называя конкретных имен, Розенберг все внимание сосредоточил на новом художественном явлении, которое возникло и оформилось в Нью-Йорке к середине века, когда, по его словам, «американские художники один за другим стали воспринимать холст скорее как арену для действия, а не как пространство для воспроизведения, перекраивания, анализа или „выражения“ объекта, реального или воображаемого».
В звучных, ритмически организованных пассажах, с истинно олимпийской уверенностью Розенберг утверждал, что это новое искусство знаменует собой радикальный разрыв с искусством прошлого. Ибо новаторам-американцам важен не образ – абстрактный или репрезентативный, не имеет значения, – а сам акт создания живописи. «И потому, – писал Розенберг, – на поверхности холста отныне возникает не картина, а событие».
Статья Розенберга во многом представляла собой великолепную по отточенности мысли и формы вариацию на давно разработанную романтиками тему трагического противостояния индивида миру, с той лишь разницей, что индивид у него – человек своего времени, то есть человек того мира, который видел Европу и Японию в руинах, был свидетелем холокоста и Хиросимы, а теперь вступил в эпоху гонки ядерных вооружений. В этих условиях индивид – если только он не рожден для беспримерного подвига – живет с предощущением гибели.
В таком мире, по утверждению Розенберга, большое искусство могут создавать только незаурядные личности, принимающие новую экзистенциальную реальность и восстающие против «ложного сознания», – художники, которые в момент созидания абсолютно искренни.
На первый взгляд сказанное Розенбергом можно трактовать как завуалированную апологетику Поллока – его революционного в своей новизне метода; его отношения к холсту как к арене для действия; его готовности всем рисковать; его решительного разрыва с прошлым. Даже сегодня, больше чем полвека спустя после выхода в свет статьи Розенберга, термин «капельная живопись», или «дриппинг» (собственно описание метода Поллока), и термин «живопись действия» воспринимаются многими как полные синонимы.
Поэтому де Кунинг немало удивился, когда Краснер взвилась, едва он с одобрением упомянул статью. Она принялась яростно изобличать тайные мотивы Розенберга и его фарисейство. Дескать, своей статьей он исподтишка нанес удар Поллоку, воспользовавшись его же формулировкой – «живопись действия», – которая вскользь прозвучала в одном из их разговоров. Ошарашенный де Кунинг попытался встать на защиту Розенберга. Но Краснер впала в воинственный раж, и де Кунинг сдался на милость победителя. На следующий день Краснер кинулась обзванивать друзей, и тут уже де Кунингу досталось за то, что он, подлец, предал ее, предал Джексона, предал искусство!
Впоследствии Розенберг отрицал, что его публикация была направлена против Поллока. Но Краснер не ошиблась в своих подозрениях. Она раскусила автора и прозрела истинную суть его программной статьи. Она увидела, в чем состоял коварный замысел Розенберга: выдвинув тезис о том, что в современном искусстве создавать великие произведения может только великая личность, он перешел к обличению такой живописи, которая, при видимом соответствии всем указанным критериям, не ставит перед собой больших задач и по сути является трюкачеством. То есть на самом деле в статье поднималась на щит идея де Кунинга о живописи как вечной мучительной борьбе, подразумевающей тысячи и тысячи решений и просчитанных рисков, и в то же время выносилось порицание художнику, вроде Поллока, ибо он создает картины, в которых «нет диалектического напряжения подлинно творческого акта, неотделимого от риска и воли». Пересыпая свою филиппику характеристиками, прицельно бьющими по Поллоку, – «продукция с товарным знаком производителя», «апокалиптические обои», – Розенберг бичевал искусство, которое разменивает себя на мистицизм и деградирует в угоду коммерции.
Все так, только в конечном счете главной мишенью критика был даже не Поллок, а его высокий покровитель Клемент Гринберг. Розенберг уже некоторое время безуспешно боролся с главенствующей ролью Гринберга на подмостках нью-йоркского авангардного искусства, но эта статья стала его первым точно выверенным, ощутимым ударом по противнику.
Всего за каких-то несколько лет Гринберг, весьма заурядный литературный критик-марксист, едва ли разбиравшийся в искусстве, превратился в авторитетнейшего законодателя художественных вкусов. Его фантастический успех безмерно раздражал Розенберга. Оба критика – одинаково блестящие и воинственные – не переваривали друг друга до такой степени, что им лучше было не встречаться, не то в ход могли пойти и кулаки. Как ни смешно, Розенберг самолично представил Гринберга редакции коммунистического журнала «Партизан ревью», где и вышли в свет важнейшие статьи Гринберга о модернистском искусстве, такие как «Авангард и китч» и «В поисках нового Лаокоона». В этих, теперь уже канонических, работах Гринберг вслед за Троцким утверждал, что авангардному искусству нужна независимость не только от буржуазных ценностей, но и от левацкого идеологического диктата. Без полной, абсолютной независимости искусство не может эффективно сопротивляться действующим в любом обществе силам стандартизации и контроля. А чтобы сохранить автономность, по логике Гринберга, прогрессивное искусство должно сжечь на своем пути все наносное и необязательное для собственно живописной техники. Отсюда следует требование избавить живопись от традиционно присущей ей цели – создавать иллюзию пространственной глубины и трехмерности. Это означало ни больше ни меньше конец любым приемам и изощрениям, если они не есть прямое продолжение исходных свойств живописи. Согласно его теории, произведение искусства должно склониться перед «сопротивлением живописи как таковой». Для подтверждения этого сомнительного постулата Гринберг обрисовал историческую траекторию авангарда в искусстве. По его мнению, художники-модернисты способствовали прогрессу благодаря тому, что создавали картины, которые становились все более и более самокритичными, или «честными», по отношению к собственной технической основе и все меньше занимались старой игрой в иллюзию. В списке художников, заслуживших одобрение Гринберга, видное место занимают Мане, отказавшийся от традиционного светотеневого моделирования, и Сезанн с Матиссом, еще решительнее порывавшие с иллюзией пространственной глубины. Поллок, с его дриппингом (рождению которого содействовал сам Гринберг), открыл в истории модернизма новую главу. Здесь налицо уже совершенно новый стиль живописи – абстрактной (бессюжетной и беспредметной), прямой (без предварительного рисунка), отрицающей глубину (краска просто разбрызгивалась по холсту) и «сплошной» (в картинах отсутствовала композиция, само понятие центра или края).
У Розенберга, в работе «Американские художники действия», картина становления американского авангарда выглядела иначе, и между критиками вспыхнула опосредованная война, в которой Поллок и де Кунинг по большому счету были просто пешками. И хотя на статью Розенберга Гринберг никак не откликнулся, схватка ведущих критиков за первенство вышла далеко за рамки их личных счетов.
Большинство критиков и художников сплотились вокруг де Кунинга и Розенберга, ополчившись на Поллока и его главного сторонника – Гринберга. Жены художников и критиков тоже не остались в стороне. Элен де Кунинг и Мэй Розенберг пошли в атаку на «кичливого» Гринберга и «несносную» Ли Краснер, которые, по их представлению, беззастенчиво манипулировали Поллоком, лишь бы продвинуть его любой ценой, пусть даже в ущерб другим художникам. Воздух был отравлен враждой – ничего похожего на теплую атмосферу дружбы и солидарности, объединявшую тех же людей в тяжелые годы депрессии и войны.
Деньги, успех, признание – все, о чем они мечтали, у них теперь было, но было не поровну, и дружба дала трещину.
Интеллектуальная свара между Гринбергом и его противниками – это еще и спор о том, какое будущее уготовано живописи: перейдет ли она бесповоротно на язык абстракции (беспредметности), или в ней все же найдется место каким-то фигуративным высказываниям. Гениальная «Экскавация» де Кунинга большинством зрителей была воспринята как полностью абстрактная работа и именно по этой причине заслужила высокую оценку Гринберга. Однако сам де Кунинг не видел смысла в строгом размежевании абстракции и фигуративности. Едва завершив «Экскавацию», он вернулся к фигурам.
Гринберг пришел в ужас. Для Поллока, который всегда восхищался творчеством де Кунинга, все было намного сложнее. Он не знал, как ему на это реагировать, он разрывался. Дело было отчасти в том, что он не очень понимал, куда ему двигаться дальше в собственной работе. Друзья советовали все время пробовать что-то новое, продолжать удивлять. Но сам он был заинтригован неизведанными возможностями фигуративности, после того как целых два года экспериментировал в этом направлении в своих «черных» картинах. Раздававшиеся порой уничижительные отзывы о его «капельной живописи» как о чисто декоративном, ничего не говорящем ни уму ни сердцу изобретении не прошли для него бесследно. Не меньше задевали его и обвинения – как со стороны критики, так и со стороны скептически настроенной публики – в том, что он избрал для себя легкий путь (подумаешь, искусство – лить краску из банки!), и ему хотелось утереть нос всем «умникам, которые думают, что изготовить очередного „поллока“ – пара пустяков». В то же время он боялся восстановить против себя приверженцев абстрактной живописи, и прежде всего Гринберга, которых могло насторожить мелькание узнаваемых форм в его работах – тут подобие лица, там тела. Он пошел на риск, и его «черные» картины на выставке у Бетти Парсонс определенно произвели впечатление, но покупать их никто не хотел, и Поллок снова зашел в тупик.
Через несколько месяцев после публикации статьи Розенберга «Американские художники действия» состоялась первая выставка декунинговских «Женщин» – в галерее Сидни Джениса. Поллок был на открытии. Нет сомнений в том, что картины его потрясли. Он лучше, чем кто-либо, понимал, что́ хотел сказать ими автор о своем отношении к женщинам, в котором уживались любовь и ненависть, восторг и ужас и еще что-то близкое к чувству сокрушительного поражения. Яркие и яростные образы, блеск исполнения вкупе с отважной спонтанностью, совершенно новая манера письма, ничем не напоминающая его прежнюю дотошную тщательность, – все это, должно быть, напомнило Поллоку его собственные революционные прорывы.
Вместе с тем новая серия де Кунинга еще больше сбила его с толку. Все картины были фигуративные, не абстрактные. Все изображали женщин, тут других мнений быть не могло. И это в то время, когда Поллок сам не мог разобраться, какую роль сыграли в его собственных недавних работах фигуративные элементы и стоит ли и впредь экспериментировать с ними в своем заблудившемся творчестве. Не означают ли эти эксперименты, что он готов расписаться в отступничестве, малодушии? (Он знал, что Гринберг именно так и считает, и был склонен ему верить.) Или это, наоборот, шаг вперед и стыдиться тут нечего? Одно несомненно: «Женщины» де Кунинга не вписывались в общую картину движения в сторону абстракции, которое запальчиво провозгласил и теоретически обосновал Гринберг, назначивший Поллока героем и образцом для подражания.
На открытии выставки, ощущая себя кем угодно, только не героем, Поллок опять напился (возможно, бывало и хуже, но по крайней мере один из очевидцев, Джордж Мерсер, его в таком состоянии раньше не видел). В какой-то момент, углядев в другом конце зала де Кунинга, он заорал: «Билл, ты все предал! Какого черта ты пишешь фигуру, сколько можно делать одно и то же! Ты как был фигуративистом, так им и остался!»
Де Кунинг, по словам наблюдавших эту сцену, и бровью не повел. Он был на своей выставке, в кругу друзей и поклонников. Не повышая голоса, он спросил: «А ты сам-то что делаешь, Джексон?»
Не совсем ясно, что подразумевал де Кунинг своим вопросом. Может быть, просто хотел напомнить Поллоку о его последней выставке у Бетти Парсонс – о его собственных опытах с фигуративными элементами? Или он таким образом хотел осадить Поллока, намекая на общеизвестный факт: у Поллока наступил творческий кризис, он мечется в поисках чего-то нового, и пока неизвестно, когда и что он сумеет написать?
Что бы он ни имел в виду, Поллок сник. Из галереи он прямиком направился в бар. Через некоторое время он неосторожно сошел с тротуара на проезжую часть перед приближающимся автомобилем. Водитель едва успел вильнуть в сторону.
Поллок многим был обязан Гринбергу. Знаменитый критик сыграл неоценимую роль в его успехе – не только дав ему когда-то столь своевременный совет, не только снова и снова объявляя его «великим» художником, но и привлекая его в качестве эталонной иллюстрации своих гипотез относительно эволюции прогрессивного искусства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Поллок нуждался в одобрении Гринберга. И когда все вокруг принялись его клевать, и ставить под сомнение его успех, и, потирая руки, заявлять, что Поллок сбился с пути, он, конечно, ждал, что уж кто-кто, а Гринберг его не бросит.
Но у Гринберга были теперь задачи поважнее, и он не мог отвлекаться от главных сражений, чтобы нянчиться с Поллоком. Чем больше он наблюдал за деградацией своего фаворита, тем яснее понимал, что рисковать своей репутацией из-за беспробудного пьяницы глупо и опасно. В те несколько лет, когда Поллок начал сдавать позиции и от творческого фонтанирования конца 1940-х остался жалкий ручеек, Гринберг тихо отошел в сторону. Правда, в 1952 году он организовал ретроспективу Поллока – выставку из восьми картин в Беннингтонском колледже в Вермонте. И написал две статьи, чтобы привлечь внимание к выставке Поллока в галерее Бетти Парсонс в конце 1951 года. Но до этого он три года подряд не писал рецензий на творчество Поллока. А когда Поллок, разочаровавшись в Бетти Парсонс, вернее, в ее способности найти покупателей на его работы, переметнулся к Сидни Дженису (который еще раньше стал агентом де Кунинга) и тот устроил у себя его первую выставку, Гринберг походя назвал ее «хлипкой».
Каждому художнику, говорил Гринберг, «отпущен свой срок», так вот у Поллока «срок вышел». Гринберг не откликнулся ни на выставку у Джениса, ни на следующую выставку Поллока в 1954 году. А в 1955-м, когда дела у Поллока шли хуже некуда, он разразился статьей в «Партизан ревью» и во всеуслышание объявил, что Поллок растерял свой дар – что его последние работы «натужны», «вымученны» и «напомажены», что в творческом плане он иссяк.
В рецензии на выставку Поллока в галерее Сидни Джениса в 1955 году молодой критик Лео Стейнберг отмечал, что «творчество Поллока больше, чем любого другого художника, стало своеобразным паролем; я слышал, как на одном публичном собрании из зала крикнули: „А что вы думаете о Джексоне Поллоке?“ – таким тоном, будто спрашивали: „Вы с нами или против нас?“» По мнению Стейнберга, само творчество художника лишало подобные вопросы всякого смысла: картины Поллока – «подвиг Геракла… свидетельство смертного боя творца с его искусством». Но к этому времени почти все, кто мало-мальски знал Поллока, едва ли способны были разглядеть в нем Геракла, зато воочию видели опустившуюся, жалкую личность.
Поллок продолжал нарываться на драки. Однажды в «Кедре» он довел де Кунинга до того, что тот врезал ему и в кровь разбил губу. Их обступили и стали подначивать Поллока ответить обидчику тем же, но Поллок не поддался на провокацию. «Чтобы я ударил художника?» – возмутился он.
Нижней точкой в личных отношениях художников стало лето 1954 года. В один из летних дней де Кунинг с друзьями поехал помогать Брайдерам, Кэрол и Дональду, с переездом. Магазин Брайдеров с названием «Дом книг и музыки» пользовался большой любовью художников и поэтов. (Кстати, своего сына они назвали Джексоном – в честь Поллока.) Де Кунинг надеялся заодно разжиться кое-какой мебелишкой для своего съемного «Красного дома» по соседству, в Бриджхэмптоне. Пока де Кунинг отсутствовал, к нему в «Красный дом» явился подвыпивший Поллок. Он был явно не в духе, и ничего хорошего это не предвещало. Элен позвонила мужу и попросила его скорее ехать домой. Де Кунинг и его лучший друг Франц Клайн сразу примчались и, как рассказывала Элен, «обхватили Джексона спереди и сзади и затеяли возню» – Поллок брыкался, они не разжимали рук; неуклюже перетаптываясь, они потащили его прочь со двора к тропинке, которая за долгие годы сильно просела. Поллок оступился и тяжело рухнул на землю, увлекая за собой де Кунинга. Тот придавил его своим весом, и в результате Поллок сломал лодыжку.
До конца лета он не мог самостоятельно передвигаться. Он и без того был в нелучшей физической форме, а тут еще травма… Теперь он полностью зависел от Краснер, которая совсем недавно вновь занялась собственным творчеством (разрезая на ленты свои старые холсты и отвергнутые работы Поллока, она создавала коллажи, отчасти вдохновленные Матиссом). Тягостная зависимость – теперь уже не только психологическая, но и физическая – была постоянным источником раздражения и зависти к творческим усилиям жены. Физическая беспомощность, а также тот факт, что все вокруг прекрасно знают, отчего он дошел до такого состояния, заставляли его признать свое сокрушительное поражение по всем статьям.
Какую бы незримую героическую борьбу ни вел он раньше, сейчас Поллок был зримо повержен. Через год в ходе очередной дурацкой потасовки он снова сломал свою злосчастную ногу. Но тот, первый перелом – Поллок на земле, де Кунинг на нем – странным образом символизирует новую расстановку сил в их отношениях.
Незадолго до смерти Поллока Роберт Мазервелл устраивал прием у себя дома в Верхнем Истсайде. Среди приглашенных были де Кунинг, Франц Клайн и еще человек шестьдесят гостей. Поллока не позвали.
«Я понимал, что прилагаются определенные усилия заменить ими [де Кунингом, Клайном и другими членами „Клуба“] Поллока… Мне совсем не хотелось, чтобы он напился до безобразия и все испортил, – объяснял потом Мазервелл. – Все собрались, веселье шло полным ходом, и вдруг – звонок в дверь. На пороге переминался Поллок – спросил, можно ли ему войти… Трезвый как стеклышко. Де Кунинг с Клайном уже набрались и стали поддразнивать Поллока, – дескать, песенка его спета и так далее. Он имел полное право напиться или отметелить их по первое число, но он все стерпел. Очевидно, дал себе слово держать себя в руках, посидел немного и ушел… Странно, что в последний раз мне довелось видеть Поллока именно таким».
Перед своим ужасным концом в 1956 году Поллок на глазах у изумленного мира распадался на части. Самый прославленный художник Америки за полтора года не написал ни одной картины. Люди стекались к таверне «Кедр», куда он заходил пропустить стаканчик после визита к последнему в его жизни психотерапевту, и старались дотронуться до него – на счастье. Они покупали ему выпивку в надежде поглазеть на его бесчинства – и, как правило, в своих ожиданиях не обманывались. Если за столом ужинала парочка, он подсаживался к ним и, в упор не замечая мужчину, все свое затуманенное внимание устремлял на женщину. Стоило мужчине заявить свои права – и он широким театральным жестом сметал со стола на пол соль, перец, приборы, соусник, пармезан, хлеб, салфетки, бокалы… Устраивал бесплатный спектакль. Поллок знал, чего от него ждут, и старался соответствовать. Ни на что другое он был уже не способен.
Его лицо на фотографиях той поры красноречиво говорит о его состоянии: отечное и словно неживое. Взгляд, в котором раньше чудился бешеный напор, был теперь вялый и покорный, как будто Поллок давно смирился с неотвязным чувством вины. У него была больная, раздутая, истерзанная многолетним алкоголизмом печень. Но не пить он не мог и пил даже больше, чем прежде. В основном пиво. Виски тоже. Ну а там уже все, что наливали. Потом начинались пьяные слезы вперемешку с несвязной похвальбой и тупым мычанием. На людях он превращался в фальшивку, жалкую пародию на «творца» – в то самое, что наедине с собой всегда боялся в себе обнаружить. С ним и обращались как с шутом, которого презирают и любят по привычке, хотя могут и приструнить. Почти у всех, кто был вовлечен в его орбиту, – у жены, друзей, агента, критиков, превозносивших его новаторское искусство, и коллекционеров, это искусство покупавших, – его поведение вызывало неловкость и стыд.
Они с Краснер оказались на редкость сплоченной парой. Хотя история их отношений – это непрерывная череда кризисов, экстремальные условия парадоксальным образом их союз закалили. Ее непреклонную решимость контролировать ситуацию на грани хаоса можно назвать героической, несмотря на то что многие, знавшие Краснер, постоянно задавались вопросом, не слишком ли фанатично она его опекает. Готовность принести себя в жертву его карьере, самоотверженно его прикрывать и продвигать – всегда ли это шло на пользу ему, на пользу ей самой? Не это ли привело их обоих к глубокой изоляции? Так или нет, но Краснер, годами терпевшая издевательства и даже (по некоторым сведениям) рукоприкладство, в конце концов дошла до точки. Их семейная атмосфера медленно, но верно пропитывалась ядом. Месяц за месяцем, год за годом, пока не обнаружилось, что им уже нечем дышать.
Под занавес, летом 1956 года, Поллок, как будто назло Краснер – но, может быть, и по другим абсурдным причинам, – завел роман с молодой красоткой. Звали ее Рут Клигман. Со стороны все выглядело как заурядная интрижка, ничего серьезного. Клигман писала абстрактные картины, изучала искусство и работала в скромной художественной галерее. В круг известных Поллоку и Краснер авангардистов и их патронов она не была допущена, пока в один прекрасный день не заглянула в таверну «Кедр». Стопроцентная женщина, Клигман на все реагировала с трогательной восторженностью. По наблюдению писателя Джона Груена, внешне она «была похожа на Элизабет Тейлор, только пухлее и выше ростом» и вообще «всем своим обликом напоминала кинозвезду». Она носила облегающие платья и говорила вкрадчивым голоском соблазнительницы – мужчины от нее млели, женщины лезли на стену. Элен де Кунинг называла ее не иначе как «лиса-подлиза».
Нельзя исключить, что Клигман умело пользовалась своей привлекательностью, если хотела произвести впечатление на мужчин, хотя по натуре была скорее застенчива и наивна. Лелея в душе романтическое представление о творческом гении, она мечтала с кем-то из гениев познакомиться поближе. И когда однажды в таверну «Кедр» ввалился опухший от беспробудного пьянства, злобно-мрачный Поллок, большинство из присутствующих увидели перед собой только жалкую, опустившуюся личность. А Клигман узрела «исполинскую, магическую» фигуру. «В дверь вошел гений, и все это знали, – написала она в своих воспоминаниях, озаглавленных „Любовный роман“. – Зазвенели фанфары – встречайте величайшего из матадоров…»
У Клигман никогда прежде не было постоянного любовника. В отличие от других художниц, а также многочисленных жен и любовниц манхэттенских художников, давно освоившихся в безалаберной богемной жизни, она не могла обходиться без макияжа, потому что с ненакрашенным лицом чувствовала себя голой и беззащитной. Царивший в «Кедре» дух бесцеремонного панибратства поверг ее в благоговейный трепет («Наконец-то я оказалась среди настоящих художников», – взволнованно сообщает она). Ей было немного не по себе, как будто она обманом втерлась в общество избранных.
Возможно, все это, вместе взятое, и привлекало к ней Поллока. Он ведь и сам чувствовал себя во всем неуверенным, уязвимым, беззащитным – «моллюском без раковины», как он выражался. Он тоже не мог похвалиться богатым сексуальным опытом (ни с кем, кроме Краснер, у него не было длительных близких отношений). Для него тоже «гениальность» превратилась в идею фикс.
Они начали встречаться. Поллок крутил с ней роман на глазах у Краснер. Он охотно держал бы при себе обеих женщин, если бы ему позволили, но вел себя так, словно только и ждал, когда же кто-нибудь наконец скажет, что ему этого не позволят. Однажды утром Краснер увидела, как из отдельно стоящей позади их лонг-айлендского дома мастерской выплыла Клигман. Это было уже слишком – Краснер тут же заявила, что не намерена терпеть их шашни, Поллок должен сделать выбор. Но он не хотел смотреть в лицо реальности и продолжал в прежнем духе. В конце концов ей ничего не оставалось, как самой что-то предпринять. Она решила уехать в Европу, предоставив Поллоку и Клигман жить, как им заблагорассудится.
Некоторое – непродолжительное – время любовники пребывали в эйфории. Поллок наслаждался желанной свободой, в кои-то веки избавившись от неусыпно надзиравшей за ним, всегда недовольной, опостылевшей ему своими попреками Краснер. Его молодая пассия тоже вздохнула с облегчением: теперь никто не помешает ей осуществить заветную мечту и можно каждую минуту находиться подле великого художника, забыв о том, что он женат на Краснер (и что без нее он как без рук).
Но, само собой разумеется, за быстро промелькнувшими первыми неделями безмятежного счастья наступила черная полоса душевного хаоса и самоотвращения, которые никогда надолго не отпускали больную психику Поллока. На сей раз Краснер была бессильна ему помочь. Не смогла помочь и Клигман.
Вечером 11 августа – в половине одиннадцатого, если точно, – разогнавшись в пьяном виде на своем автомобиле по Файрплейс-роуд, Поллок не справился с управлением. Кроме него, в машине были Клигман и ее подруга Эдит Метцгер. Автомобиль – кабриолет «олдсмобиль» 1950 года выпуска, – недавно купленный им под влиянием минутной прихоти, съехал в кювет и врезался в два близко растущих друг от друга вяза. От удара Поллок умер на месте. Метцгер тоже.
Уцелела одна Клигман.
На похоронах Поллока де Кунинг долго стоял у могилы и ушел одним из последних. С кладбища он направился к художнику Конраду Марка-Релли, который жил неподалеку от Файрплейс-роуд. Туда же в поисках хозяина прибежали собаки Поллока. «Мне от этого стало жутко, – вспоминал Марка-Релли. – Я что-то такое сказал, а Билл мне в ответ: „Брось, успокойся. Джексон в могиле, я сам видел. Он мертвец. Все кончено. Теперь я первый“».
Он вышел в сад и заплакал.
Де Кунинг и правда был теперь первый. Впрочем, для многих он стал первым еще раньше. Очевидно, однако, что, пока Поллок был жив, сам де Кунинг – прекрасно сознавая, чем обязан Поллоку, – в этом сомневался.
Теперь сомнений не осталось.
Или все-таки остались? Во всяком случае де Кунинг повел себя так, словно пытался кому-то что-то доказать. Не прошло и года со смерти Поллока, как он завел роман с его бывшей любовницей Рут Клигман. Друзей и знакомых эта новость ошеломила: все равно что проснуться и вдруг вспомнить свой сон, истолкование которого настолько очевидно, что лучше никому о нем не рассказывать. Слова одного из свидетелей отражают общественное мнение: «Его связь с Рут – надгробный камень Джексону».
Отношения де Кунинга с Клигман продолжались несколько лет – намного дольше, чем быстротечная, заведомо обреченная интрижка Клигман с Поллоком. Но то ли их отношениям не хватало романтического трагизма, которым безвременная смерть художника осветила связь Клигман с Поллоком, то ли по какой-то иной причине этот роман не оставил большого следа в душе – ни у де Кунинга, ни у Клигман. И позже в своих мемуарах, красноречиво названных «Любовный роман», Клигман описала не годы жизни с де Кунингом, а короткую связь с Поллоком. Со своей стороны, де Кунинг, через много лет отвечая на вопрос Джеффри Поттера о Клигман, сказал, что «она, вероятно, очень любила его [Поллока]». И потом задумчиво добавил: «Она, в общем, и меня тоже любила, уже после. Она не притворялась, но, как бы это сказать, особой страсти не было, ничего такого не было».
Через три года после смерти Поллока де Кунинг и Клигман поехали в Европу и провели там лето и осень. Их отношения начали накаляться. Де Кунинг столкнулся с теми же проблемами, которые сгубили Поллока. Еще пять лет назад за пределами небольшого круга любителей искусства на Манхэттене о нем почти никто не слышал. Он жил на положении незаконного иммигранта – у него не было даже счета в банке. Теперь он стал знаменит, получил международное признание. Его на все лады превозносили, перед ним заискивали, он не успевал опомниться от кутежей и попоек – практически не просыхал, и все это не шло ему на пользу. Он стал раздражительным, и раздражительность нередко переходила в откровенную злость.
Он дошел до состояния, в какое некогда периодически впадал Поллок: начал затемно слоняться по улицам и затевать глупые ссоры, часто заканчивавшиеся дракой. Он дождался, что одна женщина дала ему по голове бутылкой, чтобы отстал; в другой раз он выбил кому-то зубы и получил повестку в суд.
И теперь, приехав с Клигман в Европу, он только и делал, что ко всем цеплялся и распускал руки. Любовники расстались в Венеции и воссоединились в Риме – в Риме Феллини. Они поехали в отель, где их уже встречали папарацци, а оттуда в ночной клуб. Там они встретили раннее утро и устроили публичный скандал.
«Это был просто ужас, – рассказывала Стивенсу и Суон римская приятельница де Кунинга Габриелла Друди. – Как они кричали друг на друга! Под конец Билл сказал: „Шла бы ты… в могилу к своему Джексону Поллоку!“… Рут пожала плечами: „Я всего пару месяцев была с Джексоном Поллоком, а он ревнует“».
В конце 1950-х годов де Кунинг достиг почти вселенской славы, о которой мечтал Поллок – и которой сам непостижимым образом достиг, хотя и наслаждался ею совсем недолго. Томас Хесс ввел понятие «l’école de Kooning» («школа де Кунинга») и написал первую монографию о его творчестве. Она была издана в 1959 году в серии «Великие американские художники». Голландец-нелегал стал американским гражданином, а его картины в годы холодной войны отправляли в разные страны мира как высочайшее достижение американской визуальной культуры. Критики были без ума от его блистательно раскрепощенной живописной манеры. Репортеры популярных изданий роились вокруг де Кунинга, сполна оценив магнетизм его мужественно-романтичного облика.
К этому времени сложилась и достигла, так сказать, критической массы определенная художественная среда – намного более представительная и динамичная, чем жалкая кучка авангардистов 1930–1940-х годов. И в этой среде де Кунинга провозгласили королем. «Словно сказочный дудочник-крысолов, он увел за собой целое поколение», – скажет о нем Гринберг.
Но самое главное – в это время, как по волшебству, возник жизнеспособный рынок современного искусства. В 1959 году, в день открытия персональной выставки де Кунинга, коллекционеры начали выстраиваться в очередь перед галереей Сидни Джениса в 8:15 утра. К полудню девятнадцать из двадцати двух выставленных картин были проданы. Де Кунинг, по словам Фэрфилда Портера, «впервые в жизни разбогател».
Но радости не было. Чем громче звучал восторженный хор, тем больше обласканный славой художник производил впечатление загнанного, изуверившегося, озлобленного неврастеника. Один на своей королевской вершине, он вел себя так, словно каждая минута могла стать последней, – в точности как некогда Поллок. И так же тосковал по оставившим его друзьям-товарищам – бесследно сгинувшим «воображаемым братьям». Он скучал по давно покинувшему этот свет старине Горки. Скучал, безотчетно, по Поллоку. Да, Поллок больше, чем кто-либо, способен был бы понять, через какие тернии продирался сейчас де Кунинг; каково это – вдруг оказаться на вершине; какие силы возносят тебя и потом заставляют пить до бесчувствия.
А именно этим де Кунинг и занимался. Пить он не бросил до конца жизни, притом что «до конца» было еще три с лишним десятилетия (он умер в 1997 году). Выпивкой де Кунинг заглушал свои страхи и тревоги – и вызванные ими перебои в работе сердца. Однажды он поднял Марка-Релли в два часа ночи – колотил в дверь и все повторял: «Боже, боже, мне конец. Не могу остановиться». Как рассказывал Марка-Релли его биографам Стивенсу и Суон, доктор призывал де Кунинга успокоиться: «Вы себя изводите. Что за абсурдная идея – рисовать фигуру и самому же ее уничтожать… на вас это плохо влияет». В последующие десятилетия де Кунинга периодически укладывали в больницу. Он по собственной вине порывал связи с людьми – из-за пристрастия к алкоголю, из-за того, что на него нельзя было положиться. Пагубная привычка не могла не сказаться на его физическом состоянии: ноги так распухали, что он не всегда мог обуться; руки так тряслись, что ему стоило больших усилий поставить свою подпись. «Не забывайте, – говорил Марка-Релли, – [де Кунинг] рисовал, как Энгр, и живописец был отменный, не хуже старых мастеров. А ему приходилось все это отсекать, разрушать, отшвыривать, вот откуда все эти удары кистью по холсту наотмашь».
Де Кунинг прожил долгую жизнь, но его взлет, как и у Поллока, был удивительно коротким. К началу 1960-х его звезда погасла. На смену пришло новое поколение художников – молодые мало интересовались стилем де Кунинга и еще меньше той высокопарной риторикой, которая обеспечила ему громкий успех. Со временем героическая аура, окружавшая великого мастера «живописи действия», стала поводом для едких насмешек. Де Кунинга стали воспринимать как гигантскую, намеренно раздутую мишень, и трудно было не поддаться искушению проткнуть ее, словно воздушный шар. Художники молодого поколения – начиная с Роберта Раушенберга (который выпросил у де Кунинга рисунок, с тем чтобы стереть его и представить как собственную работу под названием «Стертый рисунок де Кунинга»), Джаспера Джонса и пришедших следом представителей поп-арта, минималистов, концептуалистов и так далее – испытывали более или менее устойчивое отторжение к станковой живописи (если относиться к ней всерьез, со всей силой страсти). В творчестве они ценили трезвость, рассудочность, игру ума. Их воротило от оглушительных репутаций абстрактных экспрессионистов и рьяного мифотворчества идеологов абстрактного экспрессионизма. Для них мастерство де Кунинга, рисовальщика и колориста, его страстный роман с масляной краской, его любовь к пейзажу, к морю, ко всему чувственному, нутряному, интуитивному были чем-то нестерпимо старомодным.
Как ни странно, к посмертной славе Поллока это не относится. В последние годы жизни его репутация сильно сникла, почти сошла на нет. Но смерть его оправдала, вернула из забвения, вновь превратила в кумира. И что гораздо важнее, его творчество с годами начало казаться все более актуальным и даже провидческим. Концептуально, технически, духовно, с какой стороны ни посмотри, оно пульсировало манящими возможностями и указывало новые пути грядущим поколениям. Поллоковские пляски вокруг разостланного на полу холста, придуманный им способ атаковать поверхность под разными углами послужили источником вдохновения для новаторских экспериментов в искусстве перформанса. Бесконтактный метод нанесения краски – при котором художник не касался живописной поверхности – создавал эффект объективности изображения, возникавшего словно бы помимо воли автора, и эта особенность творчества Поллока оказалась близка представителям «живописи цветового поля», постживописным абстракционистам стиля хардэдж («живопись жестких контуров»), минималистам и даже последователям ленд-арта – тогда как де Кунинг в своем самовыражении был для них чересчур субъективным, неряшливым, аффектированным.
С каждой новой ступенью в искусстве авангарда, с каждым минувшим годом Поллок все больше и больше подтверждал свою репутацию революционера и первопроходца. А де Кунинг, хоть и неплохо смотрелся, с годами заметно поблек: он по-прежнему доблестно бился за свои обветшавшие идеалы где-то в хвосте самобытной традиции, но отнюдь не стоял у истоков новой, способной поразить и увлечь.
Анализируя их творческие достижения, Ирвинг Сандлер резюмировал: де Кунинг – «живописец», Поллок – «гений».
Де Кунинг смирился с приговором. Он ведь и правда был прежде всего живописец интуитивно-чувственного склада и не собирался от этого открещиваться, даже если это шло вразрез с новыми историческими тенденциями. В эпоху торжества отстраненности, минимализма и обезличенности в искусстве он готов был невозмутимо плыть против течения. «Лично мне искусство не приносит ни покоя, ни очищения, – признался он в 1951 году. – Мой удел – пошлая мелодрама».
Его живопись всегда была более «телесной», чем у Поллока. Отсюда широко известная максима де Кунинга: «Плоть – вот причина, зачем понадобилось изобретать масляную живопись». На схожих позициях стояли и некоторые его молодые современники, в частности Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд.
История постполлоковской жизни де Кунинга – это не только рассказ о череде смелых художественных открытий или о корпусе созданных в ту пору работ, настолько дерзновенных, экспрессивных и амбициозных, что в конце концов никакие новомодные веяния и контртенденции не помешали им занять свое место в истории искусства. Это, увы, еще и рассказ о непрерывной череде самоубийственных запоев.
И не только. Это рассказ о жизни, которая, в сущности, никогда не была – а скорее всего, и не могла быть – «постполлоковской». Слишком многим обязанный Поллоку и в то же время сам претендовавший на титул величайшего американского художника современности, де Кунинг просто не мог оставить Поллока в прошлом. Его отношение к Поллоку всегда было донельзя противоречивым. Он, разумеется, жил своей жизнью, и она ни в коей мере не диктовалась Поллоком и под Поллока не подстраивалась. Но его связь с Клигман и переезд в 1963 году в Спрингс – в дом напротив кладбища, где похоронили Поллока, – наводят на мысль, что он так или иначе пытался сохранить внутреннюю связь со своим покойным другом и вечным соперником.
Приложение
Цветные иллюстрации на вклейке
1. Эдгар Дега. Портрет Эдуара Мане с женой. Ок. 1868–1869. Холст, масло. 65 × 71 см. Муниципальный музей искусства, Китакюсю, Япония
2. Эдгар Дега. Интерьер («Насилие»). Ок. 1868–1869. Холст, масло. 81,3 × 114,3 см. Художественный музей, Филадельфия. Accession #1986-26-10. Philadelphia Museum of Art. The Henry P. McIlhenny Collection in memory of Frances P. McIlhenny, 1986
3. Эдуар Мане. Отдых. 1870–1871. Холст, масло. 150,2 × 114 см. Художественный музей, Провиденс, Род-Айленд. По завещанию миссис Эдит Стёйвесант Вандербильт-Джерри. 59.027. Museum of Art, Providence, Rhode Island, USA/Bridgeman Images
4. Эдуар Мане. Казнь императора Максимилиана. 1867–1868. Холст, масло. 193 × 284 см. Национальная галерея, Лондон. NG3294. © National Gallery, London / Art Resource, NY
5. Анри Матисс. Женщина в шляпе. 1905. Холст, масло. 80,7 × 59,7 см. Музей современного искусства, Сан-Франциско. Photo courtesy AMP. © 2015 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York
6. Анри Матисс. Портрет Маргариты. 1907. Холст, масло. 65 × 54 см. Музей Пикассо, Париж. RF1973-77. Photo: René-Gabriel Ojéda. © Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York
7. Пабло Пикассо. Авиньонские девицы. 1907. Холст, масло. 243,9 × 233,7 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк. © Succession Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Digital Image © The Museum of Modern Art/Licensed by SCALA / Art Resource, NY
8. Люсьен Фрейд. Портрет Фрэнсиса Бэкона. 1952. Медная доска, масло. 18 × 13 см. Тейт, Лондон (украдена в 1988). Tate, London / Art Resource, NY. © The Estate of Lucien Freud. All rights reserved / Artists Rights Society (ARS), New York / DACS, London
9. Фрэнсис Бэкон. Живопись. 1946. Холст, масло и пастель. 197,8 × 132,1 см. Музей современного искусства, Нью-Йорк. Digital Image © The Museum of Modern Art/Licensed by SCALA / Art Resource, NY. © 2016 The Estate of Francis Bacon / Artists Rights Society (ARS), New York / DACS, London
10. Люсьен Фрейд. Девушка с котенком. 1947. Холст, масло. 41 × 30,7 см. Частная коллекция / Тейт, Лондон. © The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images
11. Люсьен Фрейд. Девушка в постели. 1952. Холст, масло. 45,7 × 30,5 см. Частная коллекция. © The Lucian Freud Archive / Bridgeman Images.
12. Фрэнсис Бэкон. Две фигуры. 1953. 152,5 × 116,5 см. Частная коллекция. © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved, DACS 2016. Photo: Prudence Cuming Associates Ltd.
13. Джексон Поллок. Собор. 1947. Холст, эмалевая краска, алюминиевая краска. 81,6 × 89 см. Художественный музей, Даллас, Техас. Дар мистера и миссис Бернард Дж. Рейс. Bridgeman Images. © 2016 Pollock-Krasner Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
14. Виллем де Кунинг. Экскавация. 1950. Холст, масло. 205,7 × 254 см. Институт искусств, Чикаго. De Agostini Picture Library / M. Carrieri / Bridgeman Images. © 2016 The Willem de Kooning Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York
Источники и благодарности
В работе над книгой я опирался на некоторые ключевые биографии и выставочные каталоги, поэтому прежде всего хочу выразить свою признательность их авторам, а также кураторам и музеям за массу любопытнейших, тщательно выверенных и непредвзято изложенных подробностей. Всем читателям, которых интересуют затронутые в моей книге темы, горячо рекомендую следующие издания.
Эдуар Мане и Эдгар Дега
McMullen Roy. Degas: His Life, Times, and Work. Boston: Houghton Mifflin, 1984
Boggs Jean Sutherland, Druick Douglas W. et al. Degas: Exhibition catalog. New York and Ottawa: Metropolitan Museum of Art and National Gallery of Canada, 1988 (каталог выставки)
Cachin François, Moffett Charles S. et al. Manet 1832–1883: Exhibition catalog. New York: Metropolitan Museum of Art, 1983 (каталог выставки)
Анри Матисс и Пабло Пикассо
Spurling Hilary. The Unknown Matisse: A Life of Henri Matisse. Volume 1: 1869–1908. London: Hamish Hamilton, 1998
Spurling Hilary. Matisse the Master: A Life of Henri Matisse. Volume 2: The Conquest of Color, 1909–1954. London: Hamish Hamilton, 2005
Richardson John. A Life of Picasso. Volume 1: 1881–1906. London: Pimlico, 1992
Richardson John. A Life of Picasso, 1907–1917: The Painter of Modern Life. Volume II. London: Pimlico, 1997
Cowling Elizabeth, Golding John et al. Matisse Picasso: Exhibition catalog. London: Tate Publishing, 2002 (каталог выставки)
Люсьен Фрейд и Фрэнсис Бэкон
Peppiatt Michael. Francis Bacon in the 1950s: Exhibition catalog. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2006 (каталог выставки)
Peppiatt Michael. Francis Bacon: Anatomy of an Enigma. New York: Skyhorse Publishing, 2009
Feaver William. Lucian Freud: Exhibition catalog. London: Tate Publishing, 2002 (каталог выставки)
Джексон Поллок и Виллем де Кунинг
Stevens Mark, Swan Annalyn. De Kooning: An American Master. New York: Alfred A. Knopf, 2005
Elderfield John. De Kooning: A Retrospective: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 2011 (каталог выставки)
Naifeh Steven, White Smith Gregory. Jackson Pollock: An American Saga. Aiken, SC: Woodward/White, 1989
Varnedoe Kirk, Karmel Pepe. Jackson Pollock: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 1998 (каталог выставки)
Помимо перечисленных книг, большое впечатление на меня произвели два превосходных эссе. Первое, «Урок Микеланджело» Джеймса Фентона, было опубликовано в «Нью-Йоркском книжном обозрении» в 1995 году (Fenton James. A Lesson from Michelangelo // The New York Review of Books, March 23, 1995); второе, «Иудин дар» Адама Филлипса, напечатано в «Лондонском книжном обозрении» в 2012 году (Phillips Adam. Judas’ Gift: In Praise of Betrayal // London Review of Books. Vol. 34. No. 1 (January 5, 2012).
Я хотел бы выразить глубокую благодарность Фонду публичной библиотеки Ньюпорт-Бич, и особенно Дженет Хэдли и Трейси Кис, за приглашение прочитать лекцию, которая помогла мне сформулировать идею будущей книги. Отдельные слова благодарности – моим первым читателям: Дэвиду Эберсхоффу, Сесили Гейфорд, Эндрю Франклину, Кейтлин Маккенна, Майклу Хейворду, Ребекке Старфорд, Сэму Николсону, Томазин Берг, Уильяму Фиверу, Андрее Роуз, а также моему замечательному литературному агенту Зои Паньяменте и, конечно, моей жене Джо Сэдлер. Большую поддержку в ходе работы над книгой мне оказывали Дэниел Кру, Джереми Эйхлер, Джеймс Паркер, Джорди Уильямсон, Ройал Хансен, Сьюзен Хэмилтон, Адам Гопник, Хелен Э. Харрисон, Бен и Джуди Уоткинс, Энн Данн, Уильям Корбетт, Марк Фини, Питер Скьелдал, Джордж Шакелфорд, Ребекка Острикер, Вероника Робертс, Майкл Сми, Энн-Маргрет Сми, Стефани Сми, Марджери Сэбин, Дэн Киассон, Уильям Кейн и другие. Всем им огромное спасибо!
Ниже приводится дополнительный перечень печатных и иных источников, содержащих полезную информацию по теме каждой из четырех глав книги.
Эдуар Мане и Эдгар Дега
КНИГИ
Alsdorf Bridget. Fellow Men: Fantin-Latour and the Problem of the Group in Nineteenth-Century French Painting. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press, 2013.
Armstrong Carol. Manet Manette. New Haven, CT: Yale University Press, 2002.
Armstrong Carol. Odd Man Out: Readings of the Work and Reputation of Edgar Degas. Los Angeles: Getty Research Institute, 2003.
Baudelaire Charles. The Flowers of Evil / Ed. by Marthiel Matthews, Jackson Matthews. New York: New Directions, 1989.
Baudelaire Charles. Intimate Journals. London: Picador, 1989.
Baudelaire Charles. The Painter of Modern Life and Other Essays. London: Phaidon, 1995.
Benjamin Walter. The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire. Cambridge, MA; London: Belknap Press of Harvard University Press, 2006.
Bernstein Joseph M. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine: Selected Verse and Prose Poems. New York: Citadel Press, 1993.
Brombert Beth Archer. Edouard Manet: Rebel in a Frock Coat. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Brookner Anita. The Genius of the Future: Essays in French Art Criticism. New York: Cornell University Press, 1971.
Calasso Roberto. La Folie Baudelaire. London: Allen Lane, 2012.
Cézanne to Picasso: Ambroise Vollard, Patron of the Avant-Garde: Exhibition catalog / Ed. by Rebecca A. Rabinow. New York, Metropolitan Museum of Art, 2006.
Clark T. J. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.
Cogeval Guy, Guegan Stéphane, Thomine-Berrada Alice. Birth of Impressionism: Masterpieces from the Musée d’Orsay. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco and DelMonico Books, 2010.
Cohn Marjorie Benedict, Sutherland Boggs Jean. Degas at Harvard Cambridge, MA: Harvard University Art Museums, 2005.
Coven Jeffrey. Baudelaire’s Voyages: The Poet and His Painters. Boston: Bullfinch Press, 1993.
Degas by Himself / Ed. by Richard Kendall. London: Time Warner, 2004.
DeVonyar Jill, Kendall Richard. Degas and the Dance: Exhibition catalog. New York: Harry N. Abrams/American Federation of the Arts, 2002.
Dumas Ann, Ives Colta, Stein Susan Alyson, Tinterow Gary. The Private Collection of Edgar Degas: Exhibition catalog. New York: Metropolitan Museum of Art, 1997.
Elderfield John. Manet and the Execution of Maximilian: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 2006.
Groom Gloria. Impressionism, Fashion, and Modernity: Exhibition catalog. Chicago: Art Institute of Chicago, 2012.
Guegan Stéphane. Manet: Inventeur du Moderne. Exhibition catalog. Paris: Musée d’Orsay/Gallimard, 2011.
Hamilton George Heard. Manet and His Critics. New Haven, CT: Yale University Press, 1954.
Havemeyer Louisine W. Sixteen to Sixty: Memoirs of a Collector. New York: Ursus Press, 1993.
Higonnet Anne. Berthe Morisot. New York: Harper Perennial, 1999.
Jones Kimberly A. Degas Cassatt. Washington, DC: National Gallery of Art, 2014.
Leighton John. Edouard Manet: Impressions of the Sea: Exhibition catalog. Amsterdam: Van Gogh Museum, 2004.
Locke Nancy. Manet and the Family Romance. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
Manet Face to Face: Exhibition catalog / Ed. by James Cuno and Joachim Kaak. London: Courtauld Institute of Art, 2004.
McGrady Patrick J. Manet and Friends: Exhibition catalog. University Park, PA: Palmer Museum of Art, 2008.
Meyers Jeffrey. Impressionist Quartet: The Intimate Genius of Manet and Morisot, Degas and Cassatt. Orlando, FL: Harcourt, 2005.
Reff Theodore. Degas: The Artist’s Mind: Exhibition catalog. New York: Metropolitan Museum of Art, 1976.
Reff Theodore. Manet and Modern Paris: Exhibition catalog. Washington, DC: National Gallery of Art, 1982.
Rewald John. The History of Impressionism. New York: Museum of Modern Art, 1973.
Richardson John. Edouard Manet: Paintings and Drawings. New York: Phaidon, 1958.
Robins Gruetzner Anna, Thomson Richard. Degas, Sickert, and Toulouse-Lautrec, London and Paris 1870–1910. London: Tate Britain, 2005.
Stevens MaryAnne. Manet: Portraying Life: Exhibition catalog. London: Royal Academy of Arts, 2012.
Tinterow Gary, Lacambre Geneviève. Manet/Velázquez: The French Taste for Spanish Painting: Exhibition catalog. New York, Metropolitan Museum of Art, 2002.
Tinterow Gary, Loyrette Henri. Origins of Impressionism: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 1994.
Valéry Paul. Degas, Manet, and Morisot. New Jersey: Princeton University Press, 1989.
Wilson-Bareau Juliet. Manet by Himself. London: Time Warner Books, 2004.
Wilson-Bareau Juliet, Degener David C. Manet and the American Civil War: Exhibition catalog. New York: Metropolitan Museum of Art, 2003.
Wilson-Bareau Juliet, Degener David C. Manet and the Sea. Exhibition catalog. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 2003.
СТАТЬИ
Broude Norma. Degas’s “Misogyny” // Art Bulletin 59, no. 1 (March 1977). P. 95–107.
Broude Norma. Edgar Degas and French Feminism, ca. 1880: “The Young Spartans”, the Brothel Monotypes, and the Bathers Revisited // Art Bulletin 70, no. 4 (December 1988). P. 640–659.
Shelton Andrew Carrington. Ingres Versus Delacroix // Art History 23. No. 5 (December 2000). P. 726–742.
Анри Матисс и Пабло Пикассо
КНИГИ
Aagesen Dorthe, Rabinow Rebecca. Matisse: In Search of True Painting. New York: Metropolitan Museum of Art, 2012.
Bishop Janet, Debray Cecile, Rabinow Rebecca. The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Garde. New Haven, CT, and San Francisco: Yale University Press and San Francisco Museum of Modern Art, 2011.
Bois Yves-Alain. Matisse and Picasso: Exhibition catalog. Paris: Flammarion, 1998.
Chatting with Henri Matisse: The Lost 1941: Interview. Henri Matisse and Pierre Courthion. Los Angeles: Getty Research Institute, 2013.
Cowling Elizabeth. Picasso Style and Meaning. London: Phaidon, 2002.
D’Alessandro Stephanie, Elderfield John. Matisse: Radical Invention 1913–1917: Exhibition catalog. Chicago: Art Institute of Chicago with Museum of Modern Art, New York, and Yale University Press, 2010.
Danchev Alex. Georges Braque: A Life. London: Hamish Hamilton, 2005.
Elderfield John. Henri Matisse: A Retrospective. New York: Museum of Modern Art, 1992.
Flam Jack. Matisse on Art. Oxford: Phaidon, 1990.
Flam Jack. Matisse and Picasso: The Story of Their Rivalry and Friendship. New York: Westview, 2003.
Gauguin, Cézanne, Matisse: Visions of Arcadia: Exhibition catalog / Ed. by Joseph J. Rishel. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 2012.
Gilot Françoise. Matisse and Picasso: A Friendship in Art. London: Bloomsbury, 1990.
Gowing Lawrence. Matisse. London: Thames & Hudson, 1996.
Klein John. Matisse Portraits. New Haven, CT: Yale University Press, 2001.
Kosinski Dorothy, McKean Fisher Jay, Nash Steven. Matisse: Painter as Sculptor: Exhibition catalog, Baltimore and Dallas: Baltimore Museum of Art and Dallas Museum of Art, 2007.
Leal Brigitte, Piot Christine, Bernadac Marie-Loure. The Ultimate Picasso. New York: Harry N. Abrams, 2000.
McBreen Ellen. Matisse’s Sculpture: The Pinup and the Primitive. New Haven, CT: Yale University Press, 2014.
Loving Picasso: The Private Journal of Fernande Olivier. New York: Harry N. Abrams, 2001.
Percheron Rene, Brouder Christian. Matisse: From Color to Architecture. New York: Harry N. Abrams, 2004.
Read Peter. Picasso and Apollinaire: The Persistence of Memory. Berkeley: University of California Press, 2008.
Richardson John. Picasso and the Camera. New York: Gagosian Gallery, 2014.
Robinson William H. Picasso and the Mysteries of Life: “La Vie”. Cleveland: Cleveland Museum of Art, 2012.
Rubin William. “Primitivism” in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 1984.
Spurling Hilary. La Grande Thérèse: The Greatest Scandal of the Century. Berkeley: Counterpoint Press, 2000.
Stein Gertrude. Picasso: The Complete Writings. Boston: Beacon, 1970.
Stein Gertrude. The Autobiography of Alice B. Toklas. New York: Vintage, 1990.
Stein Leo. Appreciation: Painting, Poetry, and Prose. Lincoln: University of Nebraska Press, 1996.
Wineapple Brenda. Sister Brother: Gertrude and Leo Stein. New York: Putnam, 1996.
ФИЛЬМ
Christopher Bruce and Waldemar Januszczak. “Picasso: Magic, Sex, Death”. Presented by John Richardson (London: Channel 4, 2001).
Люсьен Фрейд и Фрэнсис Бэкон
КНИГИ
Bernard Bruce, Birdsall Derek. Lucian Freud. London: Jonathan Cape, 1996.
Lucian Freud. Early Works: Exhibition catalog. New York: Robert Miller Gallery, 1993.
Bowery Leigh, Cook Angus. Lucian Freud: Recent Drawings and Etchings. New York: Matthew Marks Gallery, 1993.
Connolly Cressida. The Rare and the Beautiful: The Lives of the Garmans. London: Harper Perennial, 2005.
Debray Cecil. Lucian Freud. The Studio: Exhibition catalog. Paris: Éditions du Centre Pompidou; Munich: Hirmer Verlag GmbH, 2010.
Farson Daniel. The Gilded Gutter Life of Francis Bacon. London: Vintage, 1993.
Feaver William. Lucian Freud: Exhibition catalog. Milano: Electa, 2005.
Feaver William. Lucian Freud. New York: Rizzoli, 2007.
Feaver William. Lucian Freud Drawings: Exhibition catalog. London: Blain/Southern, 2012.
Figura Starr. Lucian Freud: The Painter’s Etchings: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 2007.
Freud Lucian. Some Thoughts on Painting. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2010.
Gale Matthew, Stephens Chris. Francis Bacon: Exhibition catalog. London: Tate Publishing, 2008.
Gayford Martin. Man in a Blue Scarf: On Sitting for a Portrait by Lucian Freud. London: Thames & Hudson, 2010.
Gowing Lawrence. Lucian Freud. London: Thames & Hudson, 1984.
Grieg Geordie. Breakfast with Lucian: A Portrait of the Artist. London: Jonathan Cape, 2013.
Hauser Kitty. This Is Francis Bacon. London: Laurence King Publishing, 2014.
Hoban Phoebe. Lucian Freud: Eyes Wide Open. New York: New Harvest/Houghton Mifflin Harcourt, 2014.
Howgate Sarah, Auping Michael, Richardson John. Lucian Freud Portraits. London: National Portrait Gallery, 2012.
Howgate Sarah, Gayford Martin, Hockney David. Lucian Freud: Painting People. London: National Portrait Gallery, 2012.
Hughes Robert. Lucian Freud Paintings. London: Thames & Hudson, 1989.
Kenjiro Hosaka, Tomohiro Masuda, Toshiharu Suzuki. Francis Bacon: Exhibition catalog. Tokyo: National Museum of Modern Art, 2013.
Kimmelman Michael. Portraits. New York: Modern Library, 1999.
Lampert Catherine. Lucian Freud: Early Works 1940–1958. Exhibition catalog. London: Hazlitt Holland-Hibbert, 2008.
Lycett Andrew. Ian Fleming: A Biography. London: Orion Publishing, 2009.
Muir Robin. John Deakin: Photographs. Munich; Paris; London: Schirmer/Mosel, 1996.
Ordovas Pilar. Girl: Lucian Freud: Exhibition catalog. London: Ordovas, 2015.
Penny Nicholas, Johnson Robert Flynn. Lucian Freud Works on Paper. London: Thames & Hudson, 1989.
Plante David. Becoming a Londoner: A Diary. New York, London: Bloomsbury, 2013.
Poole Francis. Everybody Comes to Dean’s. New York: Poporo Press, 2012.
Richardson John. Sacred Monsters, Sacred Masters. London: Jonathan Cape, 2001.
Russell John. Lucian Freud: Exhibition catalog. London: Arts Council of Great Britain, 1974.
Russell John. Francis Bacon. London: Thames & Hudson, 1979.
Schoenberger Nancy. Dangerous Muse: The Life of Lady Caroline Blackwood. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2002.
Francis Bacon and the Tradition of Art: Exhibition catalog / Ed. by Wilfried Seipel, Barbara Steffen, Christoph Vitali. Milan: Skira, 2003.
Smee Sebastian. Lucian Freud Drawings 1940. New York: Matthew Marks Gallery, 2003.
Smee Sebastian. Lucian Freud 1996–2005. London: Jonathan Cape, 2005.
Smee Sebastian. Lucian Freud. Cologne: Taschen, 2007.
Smee Sebastian. Lucian Freud on Paper. London: Jonathan Cape, 2008.
Smee Sebastian. Freud at Work: Lucian Freud in conversation with Sebasian Smee / Photographs by David Dawson, and Bruce Bernard. London: Jonathan Cape, 2006.
Sylvester David. The Brutality of Fact: Interviews with Francis Bacon. London: Thames & Hudson, 1993.
Sylvester David. Looking Back at Francis Bacon. New York: Thames & Hudson, 2000.
Wishart Michael. High Diver: An Autobiography. London: Blond & Briggs, 1977.
СТАТЬИ, ФИЛЬМЫ, ВЕБ-САЙТЫ
Blackwood Caroline. On Francis Bacon 1909–1992 // New York Review of Books. September 24, 1992.
Jones Jonathan. Bringing Home the Bacon // Guardian. June 22, 2001.
Kimmelman Michael. Titled Bohemian; Caroline Blackwood // New York Times Magazine. August 2, 1995.
Lampert Catherine. The Art of Conversation // Financial Times. November 30, 2011.
Mundy Jennifer. Off the Wall // Gallery of Lost Art. galleryoflostart.com.
Overton Tom. British Council Venice Biennale // /
Sylvester David. All the Pulsations of a Person // Independent. October 24, 1993.
Wright Randall. Lucian Freud: Painted Life (documentary). UK, 2012.
Виллем де Кунинг и Джексон Поллок
КНИГИ
Action/Abstraction: Pollock, de Kooning and American Art, 1940–1976: Exhibition catalog / Ed. by Norman L. Kleeblatt. New York: Jewish Museum, 2008.
Agee William C., Sandler Irving, Wilkin Karen. American Vanguards: Graham, Davis, Gorky, de Kooning, and Their Circle, 1927–1942: Exhibition catalog. Andover: Addison Gallery of American Art, 2011.
Anfam David. Abstract Expressionism. London: Thames & Hudson, 1990.
Art in America 1945–1970: Writings from the Age of Abstract Expressionism, Pop Art, and Minimalism / Ed. by Jed Perl. New York: Library of America, 2014.
Emmerling Leonhard. Jackson Pollock 1912–1956. Cologne: Taschen, 2003.
Gaugh Harry F. De Kooning. New York: Abbeville, 1982.
Hess Barbara. Willem de Kooning 1904–1997: Content as a Glimpse. Cologne: Taschen, 2004.
Hess Thomas B. Willem de Kooning: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 1968.
Jachec Nancy. Jackson Pollock: Works, Writings, and Interviews. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2011.
Kligman Ruth. Love Affair: A Memoir of Jackson Pollock. New York: Cooper Square Press, 1999.
O’Connor Francis V. Jackson Pollock: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 1967.
O’Hara Frank. Art Chronicles 1954–1966. New York: Venture, 1975.
Perl Jed. New Art City. New York: Alfred A. Knopf, 2005.
Pollock Sylvia Winter, Pollock Francesca. American Letters 1927–1947: Jackson Pollock and Family. Cambridge, UK: Polity Press, 2011.
Potter Jeffrey. To a Violent Grave: An Oral Biography of Jackson Pollock. Wainscott, NY: Pushcart Press, 1987.
Rosenberg Harold. The Anxious Object: Art Today and Its Audience. New York: Horizon Press, 1964.
Solomon Deborah. Jackson Pollock: A Biography. New York: Cooper Square Press, 2001.
Temkin Ann. Abstract Expressionism at the Museum of Modern Art: Selections from the Collection: Exhibition catalog. New York: Museum of Modern Art, 2010.
Toynton Evelyn. Jackson Pollock. New Haven, CT: Yale University Press, 2012.
СТАТЬИ И ВЕБ-САЙТЫ
Jackson Pollock: Chronology. Museum of Modern Art, New York // .
Schjeldahl Peter. Shifting Picture // New Yorker. September 26, 2011.
ОБЩИЕ РАБОТЫ
Goffen Rona. Renaissance Rivals: Michelangelo, Leonardo, Raphael, and Titian. New Haven, CT: Yale University Press, 2005.
Ilchman Frederick. Titian, Tintoretto, Veronese: Rivals in Renaissance Venice. Boston: Museum of Fine Arts, 2009.
Scholem Gershom. Walter Benjamin: The Story of a Friendship. New York: New York Review of Books, 2003.
Именной указатель
Абрамович Роман Аркадьевич (р. 1966) – российский предприниматель, миллиардер.
Абрамс Рут (1912–1986) – американская художница еврейского происхождения.
Агню Томас (1827–1883) – торговец предметами искусства, владелец художественной галереи в Лондоне, основатель торгового дома.
Аполлинер Гийом (1880–1918) – французский поэт.
Астрюк Закари (1835–1907) – французский скульптор, художник, журналист, композитор и поэт.
Ауэрбах Франк (р. 1931) – британский художник немецкого происхождения.
Базиль Фредерик (1841–1870) – французский художник.
Базиотис Уильям (1912–1963) – американский художник.
Базиотис Этель – жена Уильяма Базиотиса.
Балтман Фриц (1919–1985) – американский художник, скульптор и коллажист.
Бальзак Оноре де (1799–1850) – французский писатель.
Бальтюс (Бальтазар Клоссовски де Рола; 1908–2001) – французский художник.
Банвиль Теодор де (1823–1891) – французский поэт, драматург, критик и журналист.
Банс Луис (1907–1983) – американский художник.
Барбе д'Оревильи Жюль Амеде (1808–1889) – французский писатель и публицист.
Барнс Джуна (1892–1982) – американская писательница и художница.
Барр Альфред (1902–1981) – американский историк искусства и первый директор Музея современного искусства (Нью-Йорк).
Батай Жорж (1897–1962) – французский философ и писатель.
Бауэри Ли (1961–1994) – мастер перформанса, клубный промоутер, актер, модельер и модель, работавший в Лондоне.
Беккет Сэмюэл (1906–1989) – ирландский писатель, поэт и драматург.
Беллелли Дженнаро, барон (1812–1864) – итальянский политический деятель.
Беллелли Джованна – кузина Эдгара Дега.
Беллелли Джулия – кузина Эдгара Дега.
Беллелли Лаура (урожд. Де Га) – тетка Эдгара Дега со стороны отца.
Белчер Мьюриэл (1908–1979) – хозяйка лондонского клуба «У Мьюриэл».
Беннетт Уорд (1917–2003) – американский дизайнер, художник и скульптор.
Бентон Рита (урожд. Пьяченца) – жена Томаса Харта Бентона.
Бентон Томас Харт (1889–1975) – американский художник.
Берар Кристиан (1902–1949) – французский художник, модельер, дизайнер.
Берджесс Гелетт (1866–1951) – американский художник, художественный критик, поэт и публицист.
Беренсон Бернард (1865–1959) – американский историк искусства и художественный критик.
Беренсон Мэри – жена Бернарда Беренсона.
Бернадот Жан-Батист (1763–1844) – маршал империи, участник Наполеоновских войн, король Швеции и Норвегии под именем Карл XIV Юхан (с 1818).
Берроуз Уильям (1914–1997) – американский писатель.
Бертен Луи-Франсуа (1766–1841) – французский журналист, издатель и политический публицист.
Бизе Жорж (1838–1875) – французский композитор.
Бирн Эмили – английская журналистка, детская писательница, возлюбленная и модель Люсьена Фрейда.
Битон Сесил (1904–1980) – британский фотограф, мемуарист, дизайнер, театральный художник.
Блейк Уильям (1757–1827) – английский поэт, художник и гравер.
Блэквуд Каролина (Кэролайн), леди (1931–1996) – представительница англо-ирландской аристократической семьи, британская журналистка и писательница, жена и модель Люсьена Фрейда.
Блэквуд Пердита, леди (р. 1934) – представительница англо-ирландской аристократической семьи, сестра Каролины Блэквуд.
Бодлер Шарль (1821–1867) – французский поэт и художественный критик.
Боннар Пьер (1867–1947) – французский художник.
Босх Иероним (1450–1516) – нидерландский художник.
Боулз Пол (1910–1999) – американский писатель и композитор.
Брайдер Дональд и Кэрол – владельцы магазина «Дом книг и музыки», пользовавшегося популярностью у американских художников и литераторов.
Брак Жорж (1882–1963) – французский художник, скульптор, сценограф и декоратор.
Браммел Джордж (1778–1840) – английский денди, законодатель моды.
Бранкузи Константин (1876–1957) – французский скульптор румынского происхождения.
Брейгель Питер (Старший) (ок. 1525–1569) – нидерландский художник.
Брод Макс (1884–1968) – немецкоязычный писатель, философ и публицист, друг и издатель произведений Франца Кафки.
Брэгг Мелвин (р. 1939) – английский телеведущий, автор телепередач, писатель.
Булер Бобби (Роберт) (1916–1989) – британский художник.
Буркхардт Руди (1914–1999) – американский фотограф и кинорежиссер.
Бэкон Фрэнсис (1909–1992) – британский художник.
Бэкон Энтони Эдвард (Эдди) (1870–1940) – британский офицер, заводчик скаковых лошадей, отец Фрэнсиса Бэкона.
Вагнер Рихард (1813–1883) – немецкий композитор.
Вайденфельд Джордж (1919–2016) – британский издатель, филантроп.
Вайсмюллер Джонни (1904–1984) – американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион.
Валерн Эварист де (1816–1896) – французский художник.
Вальпенсон Поль (1834–1894) – друг Эдгара Дега.
Ван Гог Винсент (1853–1890) – голландский и французский художник.
Вебер Макс (1864–1920) – немецкий философ, историк, социолог и политический экономист.
Веласкес Диего (1599–1660) – испанский художник.
Вергилий Публий Марон (79 до н. э. – 19 до н. э.) – древнеримский поэт.
Верди Джузеппе (1813–1901) – итальянский композитор.
Вермеер Ян (1632–1675) – нидерландский художник.
Веронезе Паоло (1528–1588) – итальянский художник.
Викс Мейбл (1872–1964) – американский филолог, подруга и корреспондент Гертруды Стайн.
Вилато Хавье (1921–2000) – испанский художник, племянник Пабло Пикассо.
Вламинк Морис де (1876–1958) – французский художник.
Воксель Луи (1870–1943) – французский художественный критик.
Воллар Амбруаз (1868–1939) – торговец картинами, владелец картинной галереи в Париже, автор нескольких монографий-воспоминаний о художниках.
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778) – французский философ.
Вордсворт Уильям (1770–1850) – английский поэт.
Гайдн Йозеф (1732–1809) – австрийский композитор.
Гамильтон-Темпл-Блэквуд Бэзил Шеридан, четвертый маркиз Дафферин-Ава (1909–1945) – британский политический деятель и военный.
Гарман Кэтлин (Китти) (1926–2011) – жена и модель Люсьена Фрейда (1948–1952).
Гастон Филип (1913–1980) – американский художник.
Гербуа Огюст (1824–1891) – хозяин парижского кафе «Гербуа», пользовавшегося популярностью у художников и писателей.
Гершвин Джордж (1898–1937) – американский композитор и пианист.
Гиддинг Ян (1887–1955) – нидерландский дизайнер, владелец фирмы по оформлению интерьеров «Гиддинг и сыновья».
Гийме Антуан (1841–1918) – французский художник.
Гинзберг Аллен (1926–1997) – американский поэт, основатель битничества.
Гиннесс Морин (1907–1998) – представительница аристократического англо-ирландского семейства, наследница пивного магната.
Гитлер Адольф (1889–1945) – основоположник национал-социализма, рейхсканцлер и фюрер Германии (1934–1945).
Глюк Кристоф Виллибальд (1714–1787) – австрийский композитор.
Гоген Поль (1848–1903) – французский художник, скульптор-керамист и график.
Гойя Франсиско (1746–1828) – испанский художник и гравер.
Гольберг Мечислав (1869–1907) – французский поэт польского происхождения, драматург, журналист и художественный критик.
Гонкуры Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870), братья – французские писатели.
Гонсалес Ева (1849–1883) – французская художница испанского происхождения.
Горки Аршил (1904–1948) – американский художник армянского происхождения.
Готье Теофиль (1811–1872) – французский поэт и критик.
Гоуинг Лоренс (1918–1991) – английский художник, историк искусства и писатель.
Гринберг Клемент (1909–2000) – американский художественный критик и теоретик искусства.
Грис Хуан (1887–1927) – испанский художник и скульптор.
Груен Джон (1926–2016) – американский театральный и художественный критик, писатель, журналист и фотограф.
Грэм Джон (Иван Грацианович Домбровский; 1886–1961) – американский художник русского происхождения.
Гуггенхайм Пегги (1898–1979) – американская галеристка, меценат и коллекционер произведений современного искусства.
Гуггенхайм Соломон (1861–1949) – американский меценат, основатель Музея современного искусства (Нью-Йорк), создатель Фонда Гуггенхайма для поддержки современного искусства.
Гудини Гарри (1874–1926) – американский иллюзионист и актер.
Гуно Шарль Франсуа (1818–1893) – французский композитор, музыкальный критик, автор мемуаров.
Гуэль Ева (Марсель Умбер; 1885–1915) – возлюбленная Пикассо.
Гюго Виктор (1802–1885) – французский писатель и поэт.
Дайер Джордж (1934–1971) – любовник и модель Фрэнсиса Бэкона.
Даймонд Гарри (1924–2009) – британский фотограф, оставивший галерею портретов представителей богемы лондонского Ист-Энда.
Дали Сальвадор (1904–1989) – испанский художник, скульптор, писатель и режиссер.
Данн Джеймс (1874–1956) – канадский финансист, сталелитейный магнат, коллекционер.
Данн Энн (р. 1929) – английская художница.
Даунс Сили (р. 1927) – американская художница, подруга Ли Краснер.
Дафферин-Ава, маркиз см. Гамильтон-Темпл-Блэквуд Бэзил Шеридан.
Де Га (Дега) Илер (1770–1858) – французский банкир, дед Эдгара Дега.
Де Га (Дега) Огюст – французский банкир, отец Эдгара Дега.
Де Ниттис Джузеппе (1846–1884) – итальянский художник.
Дега Эдгар (1834–1917) – французский художник.
Делакруа Эжен (1798–1863) – французский художник.
Делекторская Лидия Николаевна (1910–1998) – русская переводчица, секретарь Анри Матисса.
Делёз Жиль (1925–1995) – французский философ.
Дельво Альфред (1825–1867) – французский журналист и писатель.
Деметрион Джеймс – директор Музея и сада скульптур Хиршхорна (1984–2001).
Денби Эдвин (1903–1983) – американский поэт, писатель и переводчик, балетный критик.
Дени Морис (1870–1943) – французский художник, теоретик искусства.
Денуайе Фернан (1826–1869) – французский писатель и критик.
Дерен Андре (1880–1954) – французский художник.
Джакометти Альберто (1901–1966) – швейцарский скульптор, живописец и график.
Джакометти Диего (1902–1985) – швейцарский скульптор и дизайнер, брат Альберто Джакометти.
Джамболонья (Жан де Булонь; 1529–1608) – итальянский скульптор.
Джеймс Уильям (1842–1910) – американский философ и психолог, профессор психологии в Гарвардском университете.
Дженис Сидни (1896–1989) – американский предприниматель и коллекционер, владелец художественной галереи в Нью-Йорке.
Джонс Джаспер (р. 1930) – американский художник.
Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко; 1477–1510) – итальянский художник.
Джотто ди Бондоне (1267–1337) – итальянский художник.
Джуэл Эдвард Олден (1888–1947) – американский художественный критик.
Диас Вирджиния (Нини) – циркачка, подруга Виллема де Кунинга.
Дикин Джон (1912–1972) – английский фотограф.
Дио Дезире (1833–1909) – музыкант, фаготист, входивший в круг друзей Эдгара Дега.
Дио Мари (1843–1935) – пианистка, певица, входившая в круг друзей Эдгара Дега.
Дитрих Марлен (1901–1992) – немецкая и американская актриса и певица.
Домье Оноре (1808–1879) – французский художник, график, скульптор, мастер карикатуры.
Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386–1466) – итальянский скульптор.
Доусон Дэвид (р. 1960) – британский художник и фотограф, друг и ассистент Люсьена Фрейда.
Друди Габриелла (1922–1998) – итальянская художница и писательница.
Дрюэ Эжен (1867–1916) – французский фотограф и галерист.
Дуччо ди Буонинсенья (1255–1319) – итальянский художник.
Дэвид Элизабет (1913–1992) – автор популярных книг по кулинарии.
Дэвис Стюарт (1894–1964) – американский художник.
Дюваль Жанна (ок. 1820–1862) – балерина, актриса, возлюбленная Шарля Бодлера.
Дюранти Луи Эдмон (1833–1880) – французский писатель и художественный критик.
Дюре Теодор (1838–1927) – французский художественный критик, коллекционер.
Дюрсен Бетси – жена Чарльза Игана.
Дюшан Марсель (1887–1968) – французский и американский художник, теоретик искусства.
Елизавета II (р. 1926) – королева Великобритании (с 1952).
Жакоб Макс (1876–1944) – французский поэт и художник.
Жамо Поль (1863–1939) – французский художник и художественный критик.
Жерико Теодор (1791–1824) – французский художник.
Жобло Камилла (ум. 1954) – модистка и натурщица, любовница Анри Матисса.
Зайберлинг Дороти – американская журналистка.
Золя Эмиль (1840–1902) – французский писатель.
Иган Чарльз (1911/12–1993) – владелец галереи в Нью-Йорке, друг Виллема де Кунинга.
Иннокентий X (1574–1655) – папа римский (1644–1655).
Кадиш Реубен (Рувим) (1913–1992) – американский художник, скульптор и историк искусства.
Кало Фрида (1907–1954) – мексиканская художница.
Камю Бланш – пианистка, входившая в круг друзей Эдгара Дега.
Канвейлер Даниэль Анри (1884–1979) – французский писатель, историк искусства и галерист.
Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) – русский художник и теоретик искусства.
Карл IV Бернадот см. Бернадот Жан-Батист
Каролюс-Дюран (Шарль Эмиль Огюст Дюран; 1838–1917) – французский художник.
Касахемас Карлес (1880–1901) – испанский художник, друг Пабло Пикассо.
Кауард Ноэль (1899–1973) – британский драматург, актер, композитор, певец и режиссер.
Кафка Франц (1883–1924) – немецкоязычный писатель еврейского происхождения.
Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) – английский экономист, член Группы Блумсбери.
Кентиш Дэвид (1923–1963) – британский художник, актер и продюсер.
Кертис Мина (1896–1985) – американская переводчица, автор и редактор.
Киммельман Майкл (р. 1958) – американский критик, обозреватель, писатель и пианист.
Кимфул Дон (Дональд) (Джозеф Дин; 188?–1963) – наркоторговец и владелец бара «У Дина» в Танжере.
Кирико Джордж де (1888–1978) – итальянский художник.
Кислер Фредерик Джон (1890–1965) – американский художник австрийского происхождения, театральный дизайнер, теоретик искусства, архитектор.
Китти см. Гарман Кэтлин
Клайн Франц (1910–1962) – американский художник.
Кларк Кеннет (1903–1983) – британский писатель, историк искусства.
Клас, сестры – участницы струнного квартета.
Клаус Фанни (1846–1877) – французская скрипачка, ближайшая подруга Сюзанны Мане, одна из любимых моделей Эдуара Мане.
Клее Пауль (1879–1940) – немецкий и швейцарский художник, теоретик искусства.
Клигман Рут (1930–2010) – американская художница, возлюбленная Джексона Поллока.
Клодель Камилла (1864–1943) – французский скульптор и график.
Кокто Жан (1889–1963) – французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссер.
Колларде – старьевщик, позировавший Мане для картины «Любитель абсента».
Кольридж Сэмюэл Тейлор (1772–1834) – английский поэт, критик и философ.
Конавей Арлои см. Поллок Арлои
Коннолли Сирил (1903–1974) – британский литературный критик.
Коос (наст. имя Якобус Йоханнес Лассой; р. 1912) – единоутробный брат Виллема де Кунинга.
Коро Камиль (1796–1875) – французский художник и гравер.
Коутс Роберт (1897–1973) – американский писатель и художественный критик.
Кохно Борис Евгеньевич (1904–1990) – русский и французский театральный деятель, писатель и либреттист.
Краснер Ли (Лионор) (1908–1984) – американская художница, жена Джексона Поллока.
Крэй Реджи (Реджинальд) (1933–2000) – английский гангстер.
Крэй Ронни (Рональд) (1933–1995) – английский гангстер.
Кунинг Виллем де (1904–1997) – американский художник голландского происхождения.
Кунинг Лендерт де (р. 1876–?) – отец Виллема де Кунинга.
Кунинг Мария Корнелия де (р. 1899–?) – сестра Виллема де Кунинга.
Курбе Гюстав (1819–1877) – французский художник.
Кутюр Тома (1815–1879) – французский художник-академист, учитель Эдуара Мане.
Кэссет Мэри (1844–1926) – американская художница, работавшая во Франции.
Лабом Гастон де (наст. имя Лоран Дебьен) – французский скульптор.
Лайтфут Джесси – няня Фрэнсиса Бэкона.
Ламли Чарли – сосед и модель Люсьена Фрейда.
Ламот Луи (1822–1869) – французский художник, ученик Энгра.
Ланг Фриц (1890–1976) – немецкий и американский кинорежиссер.
Ласло Вайолет Стауб де (1900–1988) – американский врач-психиатр, наблюдавшая Поллока.
Лассой Якобус – отчим Виллема де Кунинга.
Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) – швейцарский писатель, богослов и поэт.
Лафонтен Жан де (1621–1695) – французский баснописец.
Лебрен Шарль (1619–1690) – французский художник и теоретик искусства.
Леви Жюльен (1906–1981) – арт-дилер и владелец галереи в Нью-Йорке.
Легро Альфонс (1837–1911) – французский художник, гравер и скульптор.
Леенхоф Сюзанна см. Мане Сюзанна
Леенхоф Фердинанд (1840–1914) – голландский гравер и скульптор, брат Сюзанны Леенхоф.
Леенхоф-Коэлла Леон-Эдуар (1852–1927) – внебрачный сын и модель Эдуара Мане.
Лейрис Мишель (1901–1990) – французский писатель и этнолог.
Лейси Питер (1916–1962) – британский военный летчик, любовник Фрэнсиса Бэкона.
Летт-Хейнс Артур (1894–1978) – британский художник и скульптор.
Ли Лори (Лоренс Эдвард Алан) (1914–1997) – британский поэт, прозаик и сценарист.
Лиддел Луиза – багетный мастер, модель Люсьена Фрейда.
Линда – парижская цветочница и натурщица, позировавшая Пабло Пикассо.
Литтл Джон (1907–1984) – американский дизайнер текстиля и художник.
Локк Нэнси – американский историк искусства.
Лоуэлл Ивана (р. 1966) – британская писательница, мемуарист, дочь Каролины Блэквуд.
Лоуэлл Роберт (1917–1977) – американский поэт.
Льюис Генри (1898–1967) – американский журнальный магнат, владелец и главный редактор журнала «Лайф».
Магритт Рене (1898–1967) – бельгийский художник.
Магрудер Агнес (1921–2013) – жена Аршила Горки.
Мазервелл Роберт (1915–1991) – американский художник и коллажист.
Майбридж Эдвард (1830–1904) – британский фотограф, сделавший большой вклад в изобретение кинематографа.
Макбрайд Генри (1867–1962) – американский художественный критик.
Маккой Лерой (Поллок; 1876–1933) – отец Джексона Поллока.
Макмаллен Рой – американский издатель, писатель и историк искусства, автор биографии Эдгара Дега.
Максимилиан I (Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург; 1832–1867) – эрцгерцог Австрийский, император Мексики (1864–1867).
Малларме Стефан (1842–1898) – французский поэт.
Мальро Андре (1901–1976) – французский культуролог.
Ман Рэй (Эммануэль Радницкий; 1890–1976) – французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер.
Мане Жюли (1878–1966) – французская художница, коллекционер, автор дневников.
Мане Огюст (1797–1862) – французский юрист, отец Эдуара Мане.
Мане Сюзанна (урожд. Леенхоф; 1830–1906) – пианистка, жена и модель Эдуара Мане.
Мане Эдуар (1832–1883) – французский художник.
Мане Эжен (1833–1892) – французский художник, брат Эдуара Мане.
Мане Эжени-Дезире (урожд. Фурнье; 1811–1895) – мать Эдуара Мане.
Манн Томас (1875–1955) – немецкий писатель.
Манро Элис (р. 1931) – канадская писательница.
Мантенья Андреа (ок. 1431–1506) – итальянский художник.
Марка-Релли Конрад (1913–2000) – американский художник.
Маркс Гарпо (Артур) (1888–1964) – американский актер, комик.
Матисс Амелия (Амели) (урожд. Парейр; 1872–1958) – жена и модель Анри Матисса.
Матисс Анна (урожд. Жерар) – мать Анри Матисса.
Матисс Анри (1869–1954) – французский художник и скульптор.
Матисс Жан (1899–1976) – сын Анри Матисса.
Матисс Маргарита (Маргерит) (1894–1982) – дочь и модель Анри Матисса.
Матисс Пьер (1900–1989) – сын Анри Матисса.
Матта Роберто (1911–2002) – чилийский художник, скульптор и архитектор.
Мелли Джордж (1926–2007) – английский джазовый певец, критик и писатель.
Мёран Викторина (1844–1927) – французская художница, музыкант, модель Эдуара Мане.
Мериме Проспер (1803–1870) – французский писатель и переводчик.
Мерсер Джордж – американский художник, друг Ли Краснер.
Метр Эдмон (1840–1898) – французский музыкант, меценат и коллекционер.
Метцгер Эдит (ум. 1956) – подруга Рут Клигман.
Мехия Тома (1820–1867) – мексиканский генерал.
Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт.
Миллес Джон Эверетт (1829–1896) – британский художник.
Минтон Джон (1917–1957) – британский художник, иллюстратор, сценограф и преподаватель.
Миро Хуан (1893–1983) – испанский художник и скульптор.
Мис ван дер Роэ Людвиг (1886–1986) – немецкий архитектор.
Митчел Сью – подруга Клемента Гринберга.
Модильяни Амедео (1884–1920) – итальянский художник и скульптор.
Мойнихан Родриго (1910–1990) – английский художник.
Моклер Камиль (1872–1945) – французский литератор и художественный критик.
Мольер (Жан-Батист Поклен; 1622–1673) – французский комедиограф.
Мондриан Питер (1872–1944) – нидерландский художник.
Моне Клод (1840–1926) – французский художник.
Моризо Берта (1841–1895) – французская художница.
Моризо Ив (1838–1893) – сестра Берты Моризо.
Моризо Мари-Жозефина-Корнелия (урожд. Тома; 1819–1876) – мать сестер Моризо.
Моризо Эдма (1839–1921) – сестра Берты Моризо.
Моро Гюстав (1826–1898) – французский художник.
Моррис Седрик (1889–1982) – британский художник, преподаватель.
Мосс Кейт (р. 1974) – британская супермодель и актриса.
Моффатт Иван (1918–2002) – британский киносценарист, продюсер и светский лев.
Мур Джордж Огастес (1852–1933) – ирландский поэт, прозаик, драматург и критик.
Мюрат Иоахим (1767–1815) – маршал Франции, король Неаполитанского королевства.
Мюссе Альфред де (1810–1857) – французский поэт, писатель и драматург.
Мюссон Селестина (1815–1847) – мать Эдгара Дега.
Надар (Феликс Турнашон; 1820–1910) – французский фотограф, воздухоплаватель и литератор.
Найфи Стивен (р. 1952) – американский художник и автор биографий Джексона Поллока и Винсента Ван Гога.
Намут Ханс (1915–1990) – американский фотограф немецкого происхождения.
Наполеон III Шарль Луи-Бонапарт (1808–1873) – французский император (1852–1870).
Николсон Бен (1894–1982) – британский художник.
Ноай Мари-Лор де (1902–1970) – французская художница, меценат.
Нобель Корнелия (р. 1877–?) – мать Виллема де Кунинга.
Норвен де Жан-Марк де Монбретон (1769–1854) – французский политический деятель и писатель.
Ньюман Арнольд (1918–2006) – американский фотограф, создатель жанра портретной съемки в естественной обстановке.
О’Киф Джорджия (1887–1986) – американская художница.
Оден Уистен Хью (1907–1973) – английский и американский поэт.
Оливье Фернанда (1881–1966) – подруга и модель Пабло Пикассо.
Опинг Майкл (р. 1949) – американский историк искусства, музейный куратор.
Оппи Убальдо (1889–1942) – итальянский художник.
Ороско Хосе Клементе (1883–1949) – мексиканский художник.
Оффенбах Жак (1819–1880) – французский композитор, дирижер и виолончелист.
Паган Лоренцо (1833–1883) – испанский тенор, музыкант и композитор, входивший в круг друзей Эдгара Дега.
Пантюхов Игорь (1911–1972) – американский художник русского происхождения.
Парейр Арман – отец Амелии Матисс.
Парейр Катерина (Катрин) – мать Амелии Матисс.
Парсонс Бетти (1900–1982) – американская художница, скульптор, галеристка и коллекционер.
Пасифико Берта – первая муза и модель Джексона Поллока.
Пеллерен Жан (1885–1921) – французский поэт.
Пеппер Кертис Билл (1917–2014) – американский журналист и писатель.
Пеппиатт Майкл (р. 1941) – британский историк искусства и писатель, биограф Фрэнсиса Бэкона.
Першерон Поль Эмиль – первый муж Фернанды Оливье.
Пети Жорж (1856–1920) – торговец картинами, владелец галереи в Париже.
Пикассо Кончита (ум. 1894) – младшая сестра Пабло Пикассо.
Пикассо Пабло (1881–1973) – испанский и французский художник.
Пирн (Спендер) Инес (1914–1977) – первая жена Стивена Спендера.
По Эдгар Аллан (1809–1849) – американский писатель, поэт и литературный критик.
Поллок Арлои (урожд. Конавей) – жена Сэнди Поллока.
Поллок Джексон (1912–1956) – американский художник.
Поллок Стелла (урожд. Макклюр; 1875–1958) – мать Джексона Поллока.
Поллок Сэнди (Сэнфорд) (Маккой; 1909–1963) – брат Джексона Поллока.
Поллок Фрэнк (1907–1994) – брат Джексона Поллока.
Поллок Чарльз (1902–1988) – американский художник, брат Джексона Поллока.
Поллок Элизабет – жена Чарльза Поллока.
Портер Коул (1891–1964) – американский композитор и поэт-песенник.
Портер Фэрфилд (1907–1975) – американский художник и художественный критик.
Поттер Джеффри (1918–2012) – американский писатель, автор биографии Джексона Поллока.
Пренсе Морис (1875–1973) – французский математик.
Пруст Антонен (1832–1905) – французский журналист, политический деятель, художественный критик, коллекционер, первый во Франции министр культуры.
Пуссен Никола (1594–1665) – французский художник.
Путцель Говард (1898–1945) – американский писатель и арт-дилер, помощник Пегги Гуггенхайм.
Пэч Уолтер (1883–1958) – американский художественный критик и историк искусства.
Пюви де Шаванн Пьер Сесиль (1824–1898) – французский художник.
Раймонда – девочка, удочеренная Пабло Пикассо и Фернандой Оливье.
Рассел Джон (1919–2008) – англо-американский художественный критик.
Раушенберг Роберт (1925–2008) – американский художник.
Ребай Хилла фон (1890–1967) – американская художница, одна из основателей Музея нефигуративной живописи в Нью-Йорке (впоследствии Музей Соломона Гуггенхайма).
Резник Мильтон (1917–2004) – американский художник.
Рембо Артюр (1854–1891) – французский поэт.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – голландский художник.
Ренуар Пьер Огюст (1841–1919) – французский художник.
Ривера Диего (1886–1957) – мексиканский художник и политический деятель.
Рид Герберт (1893–1968) – английский поэт, литературный и художественный критик.
Ричардсон Джон (р. 1924) – британский историк искусства, биограф Пикассо.
Робеспьер Максимилиан (1758–1794) – деятель Великой французской революции.
Роден Огюст (1840–1917) – французский скульптор.
Розенберг Гарольд (1906–1978) – американский писатель, философ и художественный критик.
Розенберг Мэй – жена Гарольда Розенберга.
Розенберг Поль (1881–1959) – французский торговец произведениями искусства.
Розеншайн Аннет (1880–1971) – американский скульптор, подруга Гертруды Стайн.
Ромейн Бернард (1894–1957) – нидерландский дизайнер.
Росс Алан (1922–2001) – британский поэт, писатель, журналист и редактор.
Рот Филип (р. 1933) – американский писатель.
Ротермир Энн (урожд. Чертерис; 1913–1981) – хозяйка светского салона в Лондоне, впоследствии жена Иэна Флеминга.
Ротко Марк (1903–1970) – американский художник.
Роуз Андреа – глава департамента изобразительного искусства Британского Совета (1994–2014).
Сазерленд Грэм (1903–1980) – британский художник.
Сальмон Андре (1881–1969) – французский поэт, писатель и художественный критик.
Санд Жорж (Амандина Аврора Люсиль Дюпен; 1804–1876) – французская писательница.
Сандлер Ирвинг (р. 1925) – американский художественный критик, историк искусства.
Сартр Жан Поль (1905–1980) – французский писатель, драматург, философ.
Сати Эрик (1866–1925) – французский композитор и пианист.
Сезанн Поль (1839–1906) – французский художник.
Семба Марсель (1862–1922) – французский политический деятель, социалист.
Сен-Виктор Поль де (1827–1881) – французский эссеист и литературный критик.
Сикейрос Давид Альфаро (1896–1974) – мексиканский художник.
Сикерт Уолтер (1860–1942) – британский художник.
Сильвестр Арман (1837–1901) – французский поэт и художественный критик.
Сильвестр Дэвид (1924–2001) – британский художественный критик и куратор.
Ситковиц Израиль (1909–1974) – американский композитор, пианист и музыкальный критик.
Скелтон Барбара (1916–1996) – английская писательница, автор мемуаров, светская львица.
Смит Грегори Уайт (1951–2014) – американский музыкант, коллекционер, филантроп, автор биографий Джексона Поллока и Винсента Ван Гога.
Смит Мэтью (1879–1959) – британский художник.
Спендер Стивен (1909–1995) – английский поэт, писатель, редактор журнала «Энкаунтер».
Сперлинг Хилари (р. 1940) – британская писательница, журналист, автор биографии Анри Матисса.
Стайн Аллен (1895–?) – сын Сары и Майкла Стайн.
Стайн Гертруда (1874–1946) – американская писательница, поэт, драматург и коллекционер.
Стайн Лео (1872–1947) – американский коллекционер и художественный критик, старший брат Гертруды Стайн.
Стайн Майкл (1865–1938) – американский коллекционер, старший брат Гертруды Стайн.
Стайн Сара (1870–1953) – американский коллекционер.
Стайнберг Сол (1914–1999) – американский художник-карикатурист.
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили; 1879–1953) – советский политический и государственный деятель, лидер Советского государства.
Стевенс Альфред (1823–1906) – бельгийский художник.
Стейнберг Лео (1920–2011) – американский художественный критик и историк искусства.
Стерн Гедда (1910–2011) – американская художница румынского происхождения.
Стивен Спендер (1909–1995) – британский поэт и писатель.
Стивенс Марк – американский художественный критик, автор биографии Виллема де Кунинга.
Стиглиц Альфред (1864–1946) – американский фотограф и галерист.
Суньер Жоаким (1874–1956) – испанский художник.
Суон Анналин – американская журналистка, музыкальный критик, автор биографии Виллема де Кунинга.
Сутин Хаим Соломонович (1893–1943) – французский художник еврейского происхождения.
Табаран Адольф (1863–1950) – французский журналист, художественный критик, биограф Эдуара Мане.
Тайлер Паркер (1904–1974) – американский литератор, поэт и кинокритик.
Танги Ив (1900–1955) – американский художник французского происхождения.
Тейлор Элизабет (1932–2011) – англо-американская актриса.
Теннант Дэвид (1902–1968) – британский аристократ, светский лев, основатель клуба «Горгулья» в Лондоне.
Тиллил Сью (р. 1957) – британская писательница, художница, модель Люсьена Фрейда.
Тиссо Джеймс (Жак-Жозеф) (1836–1902) – французский художник, работавший в Англии.
Тициан (Тициано Вечеллио; ок. 1488–1576) – итальянский художник.
Токлас Элис Б. (Бабетт) (1877–1967) – американская писательница и возлюбленная Гертруды Стайн.
Торе Теофиль (1807–1869) – французский журналист и художественный критик.
Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн; 1879–1940) – революционный деятель, идеолог троцкизма.
Тулуз-Лотрек Анри (1864–1901) – французский художник.
Уайльд Оскар (1854–1900) – английский писатель, драматург, поэт и философ.
Уилсон Реджинальд (1909–1993) – американский художник.
Уильямс Теннесси (1911–1983) – американский драматург и писатель.
Уистлер Джеймс (1834–1903) – англо-американский художник.
Уишарт Лорна (1911–2000) – английская художница, член Группы Блумсбери.
Уишарт Майкл (1928–1996) – британский художник.
Уишарт Эрнест (1902–1987) – британский издатель.
Уишарт Ясмин (1939–2009) – дочь Лорны Уишарт и поэта Лори Ли, художник-пейзажист, автор дневников.
Уорхол Энди (1928–1987) – американский художник, продюсер, писатель, кинорежиссер.
Уотсон Питер (1908–1956) – английский коллекционер и меценат.
Фагю Фелисьен (Жорж Фэйе; 1872–1933) – французский поэт и художественный критик.
Фантен-Латур Анри (1836–1904) – французский художник и литограф.
Фарсон Дэниэл (1927–1997) – британский писатель, телеведущий, хронист жизни богемы лондонского Сохо.
Феллини Федерико (1920–1993) – итальянский кинорежиссер.
Фенеон Феликс (1861–1944) – французский писатель, художественный критик и коллекционер.
Фентон Джеймс (р. 1949) – британский поэт, журналист и литературный критик.
Ферт Уинифред (Уинни) (1884–1971) – мать Фрэнсиса Бэкона.
Фивер Уильям (р. 1942) – британский художественный критик, куратор, художник, лектор, биограф Люсьена Фрейда.
Филипп IV (1605–1665) – король Испании (с 1621).
Филлипс Уильям (1907–2002) – американский писатель, редактор и один из основателей журнала «Партизан ревью».
Филлоно Эрнест (1838–?) – французский художественный критик.
Флеминг Иэн (1908–1964) – британский морской офицер, биржевой брокер, журналист и писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.
Флорантен Лора (Жермена) (1880–1948) – французская натурщица, любовница и модель Пабло Пикассо.
Фондевила Жосеп – владелец трактира в Госоли (Каталония), позировавший Пабло Пикассо.
Фрагонар Жан Оноре (1732–1806) – французский художник.
Фрай Роджер (1866–1934) – британский художник и критик, член Группы Блумсбери.
Франко Франсиско (1892–1975) – испанский военный и государственный деятель, диктатор Испании в 1939–1975 гг.
Фредди см. Элиот Фредди
Фрейд Аннабел (р. 1952) – дочь Люсьена Фрейда.
Фрейд Анни (р. 1948) – поэт, художница, преподавательница, дочь Люсьена Фрейда.
Фрейд Зигмунд (1856–1939) – австрийский психолог, психиатр и невролог, основатель психоанализа.
Фрейд Люсьен (1922–2011) – британский художник еврейско-немецкого происхождения.
Фрид Конрад – шурин Виллема де Кунинга.
Фрид Элен (в замуж. де Кунинг; 1918–1989) – американская художница, жена Виллема де Кунинга.
Фурнье Эдмон-Эдуар (1800–?) – французский офицер, полковник артиллерии, дядя и первый учитель рисования Эдуара Мане.
Хаксли Олдос (1894–1963) – английский писатель и философ.
Хальс Франс (1582/83–1666) – голландский художник.
Хантер Сэм (1923–2014) – американский историк искусства, художественный критик, профессор и музейный куратор.
Хардвик Элизабет (1916–2007) – американская писательница и литературный критик.
Хармсворт Эсмонд, 3-й виконт Ротермир (1925–1998) – британский газетный магнат.
Хартиган Грейс (1922–2008) – американская художница.
Хеллер Эдвин (ум. 1950) – американский врач-психиатр, лечивший Джексона Поллока.
Хемингуэй Эрнест (1899–1961) – американский писатель и журналист.
Хендерсон Джозеф (1903–2007) – американский врач и психоаналитик.
Хендрикс Джими (Джеймс Маршалл; 1942–1970) – американский гитарист, певец и композитор.
Хесс Томас (1920–1978) – главный редактор журнала «Арт-ньюс», художественный критик.
Хиндмен Тони – валлийский гвардеец, друг Стивена Спендера.
Холл Эрик – британский бизнесмен, коллекционер, любовник Фрэнсиса Бэкона.
Холмс Марта (1923–2006) – американский фотограф и фоторепортер.
Холмс Чарльз (1868–1936) – британский художник, историк искусства, директор лондонской Национальной галереи.
Хониш Дитер (1932–2004) – директор берлинской Новой национальной галереи (1975–1997).
Хоппе Эмиль Отто (1878–1972) – британский фотограф немецкого происхождения, путешественник, театральный художник.
Хорн Аксель (1913–2001) – американский художник.
Хофман Ханс (1880–1966) – американский художник немецкого происхождения.
Хьюз Роберт (1938–2012) – австралийский и американский художественный критик и писатель.
Хэвмейер Луизина (1855–1929) – американский коллекционер, феминистка и филантроп.
Черри Герман (1909–1992) – американский художник и поэт.
Черчилль Рэндольф (1911–1968) – британский политический деятель и журналист, сын Уинстона Черчилля.
Черчилль Уинстон (1874–1965) – премьер-министр Великобритании (1940–1945; 1951–1955), писатель.
Чимароза Доменико (1749–1801) – итальянский композитор.
Шабрие Эммануэль (1841–1894) – французский композитор.
Шанфлёри (Жюль Франсуа Феликс Юссон; 1821–1889) – французский писатель.
Шапиро Мейер (1904–1996) – американский историк и теоретик искусства, художественный критик.
Шатобриан Франсуа Рене (1768–1848) – французский писатель.
Шесно Эрнест (1833–1890) – французский историк искусства и художественный критик.
Шуман Роберт (1810–1856) – немецкий композитор и музыкальный критик.
Щукин Сергей Иванович (1854–1936) – русский купец и коллекционер.
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) – режиссер театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства.
Элиот Т. С. (Томас Стернз) (1888–1965) – американский поэт, драматург и литературный критик.
Элиот Фредди (р. 1971) – сын Люсьена Фрейда.
Эль Греко (Доменикос Теотокопулос; 1541–1614) – испанский художник греческого происхождения.
Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867) – французский художник.
Эпстайн Джейкоб (1880–1959) – британский скульптор и график.
Эрнст Макс (1891–1976) – немецкий и французский художник.
Юмбер Тереза (1856–1918) – французская мошенница, основательница одной из первых финансовых пирамид.
Юнг Карл Густав (1875–1961) – швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии.
Об авторе
Себастиан Сми – штатный арт-критик The Boston Globe (с 2008 года); обладатель Пулицеровской премии 2011 года за лучшую публикацию в области художественной критики (в 2008-м вошел в шорт-лист и лишь немного уступил победителю). До приглашения на работу в The Boston Globe жил в Сиднее и вел раздел художественной критики в The Australian, а еще раньше провел четыре года в Великобритании, где сотрудничал с такими изданиями, как The Daily Telegraph, The Guardian, The Art Newspaper, The Independent, Prospect и The Spectator. Кроме постоянных публикаций в периодической печати, Себастиан Сми участвовал в подготовке пяти книг о Люсьене Фрейде.
Примечания
1
«Да… да… да» (фр.).
(обратно)2
Положение обязывает (фр.).
(обратно)3
Речь идет о «Натюрморте с десертом» (1640) Яна Давидса де Хема. – Примеч. перев.
(обратно)4
Рот Ф. Людское клеймо / Пер. Л. Мотылева. М., 2005.
(обратно)

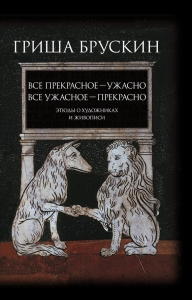


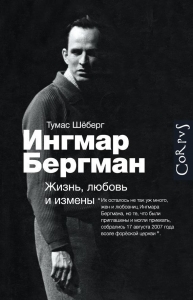

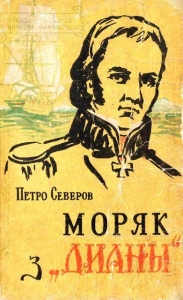
Комментарии к книге «Искусство соперничества», Себастьян Сми
Всего 0 комментариев