Очерки визуальности
Алек Д. Эпштейн
Забытые герои Монпарнаса
Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители
Новое литературное обозрение
Москва
2017
УДК 75.071.1(47+57)"19" -054.72(44)
ББК 85.143(2)6-008.6(4Фра)
Рукопись книги подготовлена при участии Центра изучения и развития современного искусства. Москва — Иерусалим
Перевод цитируемых фрагментов с французского языка и подбор иллюстраций в музеях и архивах Франции — Андрей Кожевников
La traduction des passages cités du français et la sélection des illustrations dans les musées et archives de France — Andrey Kozhevnikov
Редактор серии Г. Ельшевская
Художник серии Е. Габриелев
Алек Д. Эпштейн
Забытые герои Монпарнаса: Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители / Алек Д. Эпштейн. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — (Серия «Очерки визуальности»).
На протяжении ХХ столетия во Франции работали сотни замечательных художников из Российской империи, многие из которых выросли в еврейских семьях. Одни из них, как Марк Шагал и Хаим Сутин, стали всемирно знаменитыми, другие известны лишь специалистам, а ряду достойных мастеров угрожает забвение. Немало талантливых художников умерли молодыми в бедности или погибли в огне Холокоста, их наследие практически не сохранилось. Настоящая книга, основанная на большом массиве редких материалов, собранных во Франции, в США, в Израиле, в России и на Украине, призвана не только вернуть в коллективную память незаслуженно забытые имена, но и главным образом воссоздать целостную картину русско-еврейского присутствия в художественной жизни Парижа в первой половине ХХ века, отдав дань памяти тем, кто поддерживал нуждавшихся художников, организовывал их первые выставки, давал им работу, писал о них... Герои Монпарнаса — это и они: Берта Вайль и Леопольд Зборовский, Поль Гийом и Йонас Неттер, Макс Жакоб и Вальдемар Жорж, Вильгельм Уде и Даниэль-Анри Канвейлер, Лео, Сара и Гертруда Стайны, Этта и Кларибел Кон, Сергей Щукин и Иван Морозов, Максим Винавер и Сергей Дягилев, Мария и Михаил Цетлины...
На обложке — Андрей Кожевников «Париж. Кафе Ротонда», 2015.
ISBN 978-5-4448-0831-3
© А. Эпштейн, 2017
© Е. Габриелев. Оформление, макет серии, 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 «ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕОГРАФИИ: К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ» И ЕЕ МАСТЕРОВ
ГЛАВА 3 «ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ДИАСПОР
ГЛАВА 4 ВЕК МОНПАРНАСА: К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ»
ГЛАВА 5 ИЗНАНКА МИФА: ТРУДНЫЙ ПУТЬ НОВОГО ИСКУССТВА В МУЗЕЙНЫЕ СОБРАНИЯ ФРАНЦИИ
ГЛАВА 6 ПЕРВЫЙ ФИЛАНТРОП: АЛЬФРЕД БУШЕ И ЕГО «УЛЕЙ»
ГЛАВА 7 ПЕРВЫЕ ЦЕНИТЕЛИ: БЕРТА ВАЙЛЬ, ЛЕОПОЛЬД ЗБОРОВСКИЙ, ЙОНАС НЕТТЕР И ПОЛЬ ГИЙОМ
ГЛАВА 8 ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ: ЛЕО, САРА, МАЙКЛ И ГЕРТРУДА СТАЙНЫ И СЕСТРЫ ЭТТА И КЛАРИБЕЛ КОН
ГЛАВА 9 ПЕРВЫЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ: СЕРГЕЙ ЩУКИН, ИВАН МОРОЗОВ И ИХ КОЛЛЕКЦИИ
ГЛАВА 10 ХУДОЖНИКИ «РУССКОГО БАЛЕТА» СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
ГЛАВА 11 ПЕРВЫЕ ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ КУБИЗМА И НАИВНОГО ИСКУССТВА: ВИЛЬГЕЛЬМ УДЕ И ДАНИЭЛЬ-АНРИ КАНВЕЙЛЕР
ГЛАВА 12 РУССКО-ЕВРЕЙСКИЙ САЛОН: МАРИЯ И МИХАИЛ ЦЕТЛИНЫ — МЕЦЕНАТЫ И ДРУЗЬЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА ВО ФРАНЦИИ
ГЛАВА 13 АРТ-КРИТИК ВАЛЬДЕМАР ЖОРЖ — АВТОР ПЕРВОЙ КНИГИ О ЕВРЕЙСКИХ ХУДОЖНИКАХ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ»
ГЛАВА 14 НАСЛЕДИЕ ХУДОЖНИКОВ «ЕВРЕЙСКОГО МОНПАРНАСА» В ЕВРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
ЭПИЛОГ
Автор книги у портрета первой жены Пабло Пикассо и матери его старшего сына балерины дягилевской труппы Ольги Хохловой (1891–1955) в парижском музее художника
В феврале 2016 года перестало биться сердце выдающегося искусствоведа, одного из родоначальников научного изучения российской художественной эмиграции во Франции и других странах Европы Андрея Владимировича Толстого, этапные труды которого на годы и десятилетия останутся маяками для его последователей. Его светлой памяти посвящается эта книга.
Ил. 1. Здание Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ, 2011 г. Слева — афиша выставки «Парижская школа». Фото Алека Д. Эпштейна. На афише — картина Марии Воробьевой-Стебельской (Маревны) «Посвящение друзьям с Монпарнаса», 1961 г. Слева направо в верхнем ряду: Диего Ривера, Илья Эренбург, Хаим Сутин, Амедео Модильяни (в центре), Жанна Эбютерн, Макс Жакоб, Леопольд Зборовский; в нижнем ряду слева: Маревна и Марика (дочь Маревны и Диего Риверы), справа — Моисей Кислинг
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга в значительной мере обязана своим появлением двум выставкам. Первая из них прошла осенью 2011 года в Москве, вторая — в 2012–2013 годах во Франции и в Италии (вначале она была открыта в Париже, затем — в Милане и Риме).
Московская выставка, прошедшая в Государственном музее изобразительных искусств на Волхонке, называлась «Парижская школа», на ней были представлены 227 работ 59 художников, преимущественно не из музеев, а из частных собраний Франции, Швейцарии и России. Даже те работы, которые происходили из музейных собраний, попали туда спустя десятилетия после кончины их создателей, по завещанию или в качестве даров отдельных коллекционеров. Так, холст скончавшегося в 1968 году Михаила Кикоина (Michel Kikoïne, 1892–1968) «Новый мост» оказался в Центре Помпиду спустя десять лет, будучи подаренным дочерью художника Клер Маратье-Кикоин (Claire Maratier-Kikoïne, 1915–2013) и Жаком Янкелем; пейзаж умершего в 1977 году Лазаря Воловика (Lazare Volovick, 1902–1977) «Париж. Набережная Сены» оказался в ГМИИ спустя шесть лет, благодаря дару вдовы художника балерины Лии Зиновьевны Гржебиной (1906–1989); работы покончившего с собой в 1930 году Юлиуса Мордехая (Жюля) Паскина (Jules Pascin, 1885–1930) из парижского городского Музея современного искусства, Центра Помпиду и Музея искусства и истории иудаизма поступили в дар от разных собирателей уже после гибели художника. Центральное значение города подчеркивалось воспроизведением на буклете к экспозиции фотографии не какого-либо из представленных на выставке произведений, а бульвара Монпарнас — того места, где были созданы многие из экспонировавшихся картин.
Ил. 2. Marc Restellini. La Collection Jonas Netter. Modigliani, Soutine et l’aventure de Montparnasse (Paris: Pinacotheque, 2012). Каталог выставки «Модильяни, Сутин и проклятые художники» в Пинакотеке Парижа, 2012 г. На афише — фрагмент картины Амедео Модильяни «Эльвира в платье с белым воротником», 1917/18 г.
Экспозиция, с аншлагом прошедшая в крупнейших городах Франции и Италии, называлась «Модильяни, Сутин и проклятые художники». На ней были представлены 122 работы, собранные почти столетие назад одним-единственным человеком — Йонасом (Жаном) Неттером (Jonas Jean Netter, 1868–1946). Помимо вынесенных в название художников, выставлялись работы целой группы тех же живописцев, чьи работы экспонировались в Москве, в основном выходцев из стран Восточной и Центральной Европы, активно участвовавших в культурной жизни Франции первой трети XX века, которых теперь принято относить к так называемой «Парижской школе». Как это ни удивительно, коллекция целиком была показана в 2012 году впервые, при этом целый ряд произведений ни разу не воспроизводился в каких-либо альбомах или каталогах. Некоторые работы знакомы в несколько других редакциях: так, на выставке была представлена «Красная лестница в Канье» Хаима Сутина (Chaïm Soutine, 1893–1943), иная версия которой находится в собрании парижского музея Оранжери (художник написал пять вариантов «Красной лестницы», один из которых ныне находится в собрании российского коллекционера Вячеслава Кантора). На обложке каталога выставки воспроизведена одна из семнадцати сохранившихся в собрании Йонаса Неттера работ Амедео Модильяни.
В целом же эта выставка свидетельствовала об удивительном феномене: важнейшие работы Амедео Модильяни (Amedeo Modigliani, 1884–1920), Хаима Сутина, Моисея Кислинга (Moïse Kisling, 1891–1953) и других художников, признанных к настоящему времени крупнейшими представителями изобразительного искусства первой половины XX века, на протяжении многих десятилетий были скрыты от заинтересованных зрителей. Отсутствие у этих работ выставочной истории не было следствием их перехода из рук в руки (они не перепродавались, оставаясь в семье того, кем были приобретены изначально) и не было вызвано какими-либо политическими или цензурными запретами, так как выставки художников «еврейского Монпарнаса», в особенности самых известных среди них, проходили уже много раз. То, что и без видимых причин из истории искусства были на десятилетия изъяты семнадцать сохранившихся живописных и графических работ А. Модильяни, девятнадцать полотен Х. Сутина, семь — М. Кислинга и т. д., является исключительно наглядным свидетельством беззащитности творений даже признанных гениев перед факторами, которые толком не ясны до сих пор: о наследниках коллекционера и причинах принимаемых ими решений в каталоге выставки и в публикациях о ней не говорится ни слова. Являлось ли это многолетнее сокрытие работ от публики следствием посмертной воли Йонаса Неттера, который и при жизни был исключительно непубличным человеком, либо же решение об этом принимали его наследники и не представляет ли собой проходящая в настоящая время выставка, по сути, предаукционную экспозицию — этого мы не знаем. Неизвестно и то, где и в каких условиях хранились все эти работы, благополучно пережившие (как, кстати, и их владелец) не только оккупацию нацистами Парижа, но и отсутствие контроля за их состоянием со стороны музейных работников и реставраторов. Нельзя сказать, что о коллекции Йонаса Неттера никто не знал, однако адекватного представления о ее масштабах не существовало, а имя этого собирателя практически не появлялось даже в искусствоведческой литературе, не говоря уже о более массовой.
Хорошо известно собрание живописцев «Парижской школы» в музее Оранжери, однако не забудем, что эта коллекция из 146 произведений приобретена французским государством у вдовы Поля Гийома (Paul Guillaume, 1891–1934) Жюльет Гийом-Вальтер (Juliette Guillaume-Walter, 1898–1977) лишь в 1959–1963 годах, когда из представленных в этом собрании художников в живых оставался один Пабло Пикассо (Pablo Ruiz Picasso, 1881–1973). В то время, когда Анри Матисс (Henri Matisse, 1869–1954) и Морис де Вламинк (Maurice de Vlaminck, 1876–1958), Амедео Модильяни и Хаим Сутин, Морис Утрилло (Maurice Utrillo, 1883–1955) и Иссахар-Бер Рыбак (Issachar Ryback, 1897–1935), Марк Шагал (1887–1985) и Юлиус Паскин, Михаил Кикоин и Пинхус Кремень (Pinchus Krémègne, 1890–1981), Осип Цадкин (Ossip Zadkine, 1890–1967) и Хана Орлова (Chana Orloff, 1888–1968) создавали свои самые важные работы, признанные в наши дни неотъемлемой частью сокровищницы мирового искусства, они были не нужны ни одному музею, ни одной респектабельной галерее. Говоря по существу, если бы не отдельные люди, оценившие и полюбившие это новое искусство, никакие из выставляющихся сейчас в музеях и галереях произведений до нас бы, скорее всего, просто не дошли.
Все эти художники в молодости и в период творческого расцвета очень бедствовали, никто из них не был состоятельным человеком. В истории искусства первую треть XX века нередко называют «веком Монпарнаса», но век этот стал возможным благодаря тем очень немногим людям, которые поддерживали творцов-новаторов в критически важное и сложное для них время. Этим проницательным подвижникам — и продолжателям их дела, поддерживавшим новых перспективных художников из-за железного занавеса во второй половине XX века, — и посвящена настоящая книга.
Хорошо известный апокриф гласит: «Когда я умру, потомки спросят моих современников: „Понимали ли вы стихи Мандельштама?“ — „Нет, мы не понимали его стихов“. — „Кормили ли вы Мандельштама, давали ли вы ему кров?“ — „Да, мы кормили Мандельштама, мы давали ему кров“. — „Тогда вы прощены“». Именно таким подходом отличается настоящая монография. Конечно, в центре нашего повествования — выдающиеся художники и созданные ими произведения, но главными героями книги являются те, кто этим художникам помогал, кто их первый оценил, не дав кануть в небытие.
Трудно сказать наверняка, насколько глубоки были познания в новом искусстве Йонаса Неттера и Максима Винавера, Сары и Майкла Стайнов, Этты и Кларибел Кон, Марии и Михаила Цетлиных, но именно эти люди первыми давали кров и поддержку ярким дарованиям, имена которых сегодня известны ценителям живописи во всем мире. Берта Вайль и Леопольд Зборовский, Вильгельм Уде и Даниэль-Анри Канвейлер, Поль Гийом и Альберт Барнс, Сергей Щукин и Иван Морозов, покупавшие и выставлявшие работы никем тогда не ценимых художников, помогали им поверить в свой талант; Вальдемар Жорж и Гертруда Стайн рассказывали об их работах равнодушным современникам; художники и скульпторы Альфред Буше, Наум Аронсон и Мария Васильева помогали своим делавшим первые шаги в искусстве коллегам, — и все вместе они сохранили это искусство для следующих поколений, для нас. Сохранили, увы, не всё — безвозвратно погибли сотни и тысячи работ; однако драгоценные находки, подобные потрясшей воображение коллекции Йонаса Неттера, о которой ничего не было известно на протяжении многих десятилетий, дают надежду: не всё из того, что считается пропавшим, на самом деле исчезло безвозвратно. К сожалению, память о тех, кто спас эти произведения искусства и поддерживал их создателей, если и сохранилась, то крайне поверхностно и в общих чертах. Объяснить эту несправедливость и способствовать ее исправлению призвана настоящая книга.
Сегодня широко распространена точка зрения, согласно которой именно благодаря художникам «Парижской школы» столица Франции стала мировой столицей искусства, но важно не забывать о том, что многие годы почти все эти художники очень бедствовали, а их творчество полностью игнорировали музейные институции, статусные галереи и респектабельные арт-критики. Миф о Французской республике как покровительнице изящных искусств жив и поныне, и его развенчание болезненно, но необходимо. Тому, что в музеях Франции можно увидеть работы импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов, живописцев «Парижской школы» и других мастеров, считающихся сегодня славой и гордостью французской культуры, мы обязаны не государственным ведомствам и академическим кураторам, а чуткости, настойчивости и пророческому дару ценителей искусства, которые за свои деньги, на свой страх и риск и зачастую преодолевая немалое сопротивление со стороны профессиональных кураторов и бюрократии покупали эти полотна и дарили их, при жизни или по завещанию, музеям родной страны.
* * *
Эта книга никак не могла бы появиться на свет, если бы мне не посчастливилось многократно бывать и работать в собраниях парижских музеев, прежде всего Пинакотеки, музея Оранжери, Национального музея современного искусства (Центра Помпиду), Городского музея современного искусства во Дворце Токио, Музея искусства и истории иудаизма, Музея Пикассо и Музея Монпарнаса. Находящиеся в их собраниях шедевры живописи побудили узнать как можно больше не только о создавших их художниках, но и о людях, помогавших им реализовать свой талант. Немало интересного я нашел и в фондах французских провинциальных музеев, в частности находящихся в Клермон-Ферране, Лиможе и Гере.
Огромное значение имело изучение коллекций французского искусства первой половины XX века и соответствующих архивных фондов любимого с детства московского Государственного музея изобразительных искусств на Волхонке, равно как и великих питерских сокровищниц искусства — Эрмитажа и Русского музея.
Нельзя не упомянуть и пять израильских музеев, где я провел сотни часов, ибо в их собраниях находятся шедевры, которые известны любителям искусства в мире куда меньше, чем заслуживают: ежегодно Эрмитаж или Центр Помпиду посещает больше зрителей, чем любой из израильских музеев за все годы его существования. В собраниях Тель-Авивского музея искусств, Израильского музея в Иерусалиме, Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, музея Моше Кастеля в Маале-Адумим и музея Мане-Каца в Хайфе любой, кто интересуется темой этой книги, найдет для себя массу интересного.
В работе над книгой автору помогали многие люди. Приятный долг выразить благодарность руководителю издательства Kolonna Publications Дмитрию Борисовичу Волчеку (Прага), публицисту и редактору Михаилу Германовичу Гольду (Киев), основателю и руководителю издательства «Мосты культуры» Михаилу Львовичу Гринбергу (Иерусалим), директору Музея искусства авангарда Наталье Юрьевне Захаровой (Москва), искусствоведу Ирине Владимировне Обуховой-Зелиньской (Варшава), основателю и руководителю Центра «Русское еврейство в зарубежье» Михаилу Ароновичу Пархомовскому (Иерусалим), ушедшему из жизни в сентябре 2015 года, когда работа над книгой была в самом разгаре, и хранителю архива русско-еврейской художественной эмиграции во Франции Милию Рафаэловичу Хволесу (Париж) — подаренные ими книги и переданные материалы очень помогли в моей работе. Очевидно при этом, что за все высказанные в книге идеи и положения ответственность несет только сам автор.
Особую благодарность хочется выразить искусствоведу Галине Вадимовне Ельшевской, сочетающей энциклопедические знания по истории искусства и безграничную коллегиальную доброжелательность и давшей этой книге путевку в жизнь.
Эта монография никогда не была бы написана, если бы не поддержка моих самых близких людей — Риты Львовны Любиной, Нины Григорьевны Хеймец и Андрея Борисовича Кожевникова (он оказал и большую практическую помощь, а также создал картину, репродуцированную на обложке). Я искренне благодарю за помощь Елену Борисовну Смородинскую-Герцог и Полину Иосифовну Шифман, относящихся к моей работе с тем вниманием, о котором мечтает каждый автор. Самоотверженная преданность этих людей помогла многолетней мечте об этой книге стать реальностью.
ГЛАВА 1
«ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
Как отмечала во введении к каталогу представленных в ГМИИ в 2011 году работ И. А. Антонова, эта выставка — первая групповая экспозиция художников «Парижской школы», организованная в России. Так оно и было, хотя нельзя не указать, что две монографии о «Парижской школе», написанные соответственно Борисом Зингерманом (1928–2000) и Михаилом Германом, вышли в Москве существенно раньше, в 1993 и 2003 годах1. Удивительно, как долго пришлось ждать первых книг и выставки. А ведь первая статья об этой группе художников была опубликована по-русски Яковом Тугендхольдом (1882–1928) еще в 1928 году2. Если считать, что «Парижская школа» просуществовала столько, сколько жили и работали художники, в нее входившие, то, даже учитывая почти столетний жизненный путь Марка Шагала, первая обобщающая книга о ней на русском языке появилась только тогда, когда никого из входивших в нее творцов уже не было в живых.
Впрочем, об отдельных художниках «Парижской школы» писали и советские искусствоведы, хотя почти всегда в ином контексте. Однако нельзя забывать о том, что наряду с большим количеством художников российского, в том числе русско-еврейского, происхождения, уехавших безвозвратно, были и те, кто из Парижа вернулся обратно в Россию. Так, в 1907–1917 и в 1927–1928 годах во Франции жил и работал Давид Петрович Штеренберг (1881–1948), в 1911–1913 годах — Амшей Маркович Нюренберг (1887–1979), в 1921–1935 годах — Василий Иванович Шухаев (1887–1973), в 1925–1936 годах — Николай Петрович Глущенко (1901–1977), в 1927–1935 годах — Климент Николаевич Редько (1897–1956), в 1928–1935 годах — Натан Исаевич Альтман (1889–1970), а в 1928–1937 годах — Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958), и их искусство как минимум этого, а скорее всего и последующего времени — неотъемлемая часть художественного наследия Монпарнаса. Однако для советских художников подобные «буржуазные» и «декадентские» корни выглядели не слишком уместно, и о них почти не вспоминали.
Ил. 3. Книга Бориса Зингермана «Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал» (М.: Союзтеатр, 1993). На обложке — фрагмент картины Пабло Пикассо «Семейство комедиантов», 1905 г.
Это было следствием идеологических причин, мешавших адекватно понять творческий мир этих художников, чьи судьбы переплетены с искусством «Парижской школы» настолько, что не позволяют отделить их от нее. Так, в 1917 году в Париже состоялась совместная выставка Давида Штеренберга, Анри Матисса, Мориса Утрилло и Амеде Озанфана; Амшей Нюренберг в течение года жил в фаланстере La Ruche [«Улей»] в проезде Данциг, 4, деля общую печку с Марком Шагалом, близко подружился со скульпторами Оскаром Мещаниновым (Oscar Miestchaninoff, 1884–1956) и Львом Инденбаумом (Leon Indenbaum, 1890–1981), в 1924 году опубликовал в Москве книгу о Поле Сезанне3, а в 1928 году участвовал в Париже в Осеннем салоне, где представил две картины маслом: «Крымский пейзаж» и «Инвалид войны»4; а Роберт Фальк поддерживал дружеские отношения с Хаимом Сутиным, что не могло не повлиять и на его искусство. Эта тема — влияние французского периода жизни на весь творческий путь этих художников — и поныне ждет своего исследователя.
Ил. 4. Обложка книги Михаила Германа «Парижская школа» (М.: Слово, 2003)
Не могла быть разорванной и эмоциональная связь этих художников с Францией, в свете чего представляются совершенно верными слова видного филолога и коллекционера книг, рукописей и произведений искусства российской эмиграции Рене Герра: «Ностальгия по России — удел русских изгнанников в Париже — была горькой и открытой; а ностальгия по Парижу в Советской России — удел репатриантов — была горькой и потаенной (для Фалька, Альтмана, Штеренберга, Редько, Глущенко)»5. Это едва ли верно в отношении Николая Глущенко, с 1926 года на протяжении десяти парижских лет сотрудничавшего с советской разведкой и просившего вернуть его в СССР поскорее6, но безусловно верно в отношении остальных.
Тем более это верно в отношении не названных Рене Герра художников Василия Шухаева и Амшея Нюренберга. В. И. Шухаев был репрессирован по обвинению в шпионаже в 1937 году, спустя всего два года после возвращения в Советский Союз, и провел десять лет на Колыме (из них последние два года — в статусе вольнонаемного художника — оформителя спектаклей в Магаданском доме культуры). Какой бы трудной ни была жизнь русского художника-эмигранта во Франции в первой половине 1930-х годов, она все же не сравнима с рабским трудом заключенного ГУЛАГа на лесоповале возле рудника Кинжал где-то в окрестностях поселка Оротукан в четырехстах километрах от Магадана, где В. И. Шухаев провел весь 1938 год.
Амшея Нюренберга в то время, да и в последующие годы, неоднократно «прорабатывали», и из страха ареста он сам уничтожил свои полотна, созданные во Франции7, но судьба оказалась к нему милосерднее — в ГУЛАГ он не попал. Как верно указывал Александр Георгиевич Ромм (1886–1952),
Нюренберг... проникся принципами новой французской живописи и остался им по-своему верен в последующие десятилетия. Он принадлежит к числу тех, кто в первые годы революции содействовали проникновению французского искусства в СССР и поддерживали его влияние, сильно сказывавшееся до начала 30-х годов8.
Спасся Амшей Нюренберг тем, что создавал одно за другим полотна на ленинскую тему, но почему-то Ленин у него всегда оказывался в Париже — «Ленин у газетного киоска в Париже» (1932), «Ленин на набережной Сены» (1935), «Ленин в Люксембургском саду» (1931), «Ленин у стены Коммунаров» (1946), «Ленин в парижском кафе» (1953)... Как метко заметила внучка художника, посвятившая многие годы жизни сохранению и изучению его наследия, фактически А. М. Нюренберг шел на художественную мистификацию: он хотел, и живя в Советском Союзе, рисовать Париж, но во избежание нареканий в низкопоклонстве перед Западом и обвинений в космополитизме вклеивал в Париж образ Ленина, создавая своего рода коллаж9. В своих написанных уже в более вегетарианские времена мемуарах он назвал Париж городом, «где учился искусству, страдал и созрел как художник»10.
С другой стороны, и без всякой связи с отечественными живописцами, и в советское, и в постсоветское время много писали о таких мастерах, как Анри Матисс, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни; позднее к ним прибавился и Марк Шагал.
Большая выставка Пабло Пикассо, творчество которого активно пропагандировал Илья Эренбург (1891–1967), прошла в 1956 году, став совершенно особым явлением не только художественной, но и общественной жизни11; позднее, в 1962 году, художник получил Международную Ленинскую премию, публикаций о нем с тех пор вышло на русском языке очень много, как оригинальных, так и переводных; издавались и представительные альбомы его живописи и графики. Облегчало дело то, что отдельные ранние работы Пабло Пикассо были куплены российскими коллекционерами еще до революции; ныне они представлены в постоянных экспозициях ГМИИ и Эрмитажа и репродуцировались бессчетное число раз, став широко известными.
Сказанное верно и в отношении ранних работ Анри Матисса, большие ретроспективные выставки которого прошли в ГМИИ и в Эрмитаже в 1969 (к столетию со дня его рождения) и в 1993 годах. В Советском Союзе вышел целый ряд книг об этом художнике, включая богато иллюстрированное двухтомное издание Луи Арагона12.
М. З. Шагалу довелось в 1973 году прилететь в Москву на открытие персональной выставки в Третьяковской галерее, его с почестями принимала тогдашняя министр культуры Е. А. Фурцева, и с тех пор он прочно занял свое место в истории искусства, выстраиваемой художественно-просветительскими институциями в стране. Выставка, организованная Третьяковской галереей в 2005 году к 120-летию со дня его рождения, называлась «Здравствуй, Родина»; спустя пять лет, в 2010 году, Третьяковская галерея провела его третью большую выставку.
С Амедео Модильяни сложнее — в музеях СССР не было ни одной его картины, однако книга о нем, написанная Виталием Виленкиным (1911–1997), вышла в серии «Жизнь в искусстве» еще в 1970 году. За исключением трех небольших рисунков, работ Модильяни нет в музеях России до сих пор, хотя «Портрет Пабло Пикассо», написанный им в 1915 году маслом на бумаге, наклеенной на картон, был приобретен российско-украинским бизнесменом Константином Григоришиным и в 2007 году несколько месяцев экспонировался в Эрмитаже; тогда же в ГМИИ прошла первая и пока единственная в российской музейной истории монографическая выставка этого художника. Спустя еще шесть лет «Потрет девушки в черном платье», созданный Амедео Модильяни в 1918 году, экспонировался в ГМИИ в рамках выставки коллекции Вячеслава Кантора «Отечество мое — в моей душе».
Однако и Анри Матисс, и Пабло Пикассо, и Амедео Модильяни, и Марк Шагал воспринимались как уникальные самородки, в публикациях об их творчестве почти не воспроизводились репродукции работ их современников. Если о фовистах и кубистах все же что-то писали, о Морисе Утрилло даже вышла целая книга13, то о жизни и творчестве таких художников-экспрессионистов, как Михаил Кикоин, Моисей Кислинг, Хаим Сутин, Пинхус Кремень, Юлиус Паскин, Леон Вейсберг, Иссахар Бер Рыбак, не говоря уже о других, менее известных, почти не упоминали. И это несмотря на то что, цитируя Ж. — П. Креспеля, «в „Улье“, если не считать нескольких независимых приверженцев кубизма, слывших еретиками, признанным идеалом оставался экспрессионизм»14.
Не было практически никакой литературы и о скульпторах «Парижской школы» Осипе Цадкине, Жаке (Хаиме-Якове) Липшице, Леоне (Льве) Инденбауме, Оскаре Мещанинове и Хане Орловой. Имена Давида Видгофа и Иехезкеля Киршенбаума, Моше Кастеля и Давида Гарфинкеля (David Garfinkiel, 1902–1970), Анри Хайдена (Henri Hayden, 1883–1970) и Абрама Минчина и других достойных живописцев остаются в целом малоизвестными и поныне, хотя они имели сравнительно похожие биографии, жили и работали там же и тогда же, когда создавали свои шедевры Амедео Модильяни, Пабло Пикассо и Марк Шагал.
В последние двадцать пять лет происходит медленное встраивание этих художников в релевантный общественно-культурный контекст, хотя изучение историками искусства наследия «Парижской школы» в России идет медленно: кроме биографий Модильяни, Пикассо и Шагала, о которых появилось множество новых публикаций, за двадцать постсоветских лет монографические книги-альбомы вышли лишь о двух художниках: Хаиме Сутине15 и Владимире Баранове-Россине16. Кроме того, видный искусствовед Андрей Толстой (1956–2016) подготовил серию альбомов, представляющих коллекцию Дмитрия Орлова, в которую вошли и альбомы живописцев «Парижской школы» Александра Альтмана (Alexandre Altmann) и Исаака Пайлеса (Isaac Païles, 1895–1978)17. При всей неоспоримой важности этой работы, ограничения, связанные с представлением художника исключительно по работам, находящимся в одном недавно возникшем собрании, очевидны. Об остальных художниках, в лучшем случае, появились лишь отдельные статьи, причем о некоторых из них первые публикации на русском языке появлялись в практически недоступном в России малотиражном израильском альманахе «Евреи в культуре русского зарубежья» (в связи с кончиной в сентябре 2015 года его бессменного издателя и редактора Михаила Пархомовского издание этого альманаха в настоящее время прекращено) и его последующих модификациях.
На английском и французском языках публикаций, конечно, больше, и в целом сложившийся корпус литературы довольно значителен. На рубеже 2000–2001 годов в Музее современного искусства города Парижа состоялась большая выставка, посвященная искусству «Парижской школы», к которой был издан богато иллюстрированный сборник статей, написанных ведущими французскими специалистами18. В настоящее время интерес к художникам «Парижской школы» достаточно высок, о чем свидетельствуют, например, аукционы, полностью или в значительной мере посвященные их работам, начиная с февраля 2006 года регулярно проводимые парижским аукционным домом Artcurial (к концу 2016 года таких аукционов прошло уже более двадцати); с этим аукционным домом сотрудничает и видный эксперт по «Парижской школе» Надин Нешавер (подготовленный ею энциклопедический словарь «Еврейские художники Парижской школы, 1905–1939» выдержал уже несколько изданий). Несмотря на немалое количество публикаций, в том числе каталогов этих аукционов, целый ряд базовых вопросов остаются неразрешенными, а о людях, спасших и сохранивших это искусство, без которых до нас едва ли дошли бы работы этих художников, публикаций почти нет, причем не только по-русски — их нет вообще. Над каждой книгой и статьей о живописцах и скульпторах «Парижской школы» нужно сидеть, подобно рыбаку у городского водоема, надеясь, что удастся выудить значимые детали, восстанавливающие мир художественного Монпарнаса как целостное общественно-художественное явление.
Ил. 5. Обложка сборника трудов о «Парижской школе», выпущенного к экспозиции в Музее современного искусства города Парижа. École de Paris, 1904–1929: La part de l’Autre (Paris: Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2000)
Ил. 6. Обложка энциклопедического словаря «Еврейские художники Парижской школы, 1905–1939». Nadine Nieszawer. Artistes juifs de l’école de Paris, 1905–1939 (Paris: Somogy éditions d’Art, 2015)
При этом нельзя не отметить многие проблемы, обращающие на себя внимание даже в серьезных публикациях, посвященных «Парижской школе». Порой даже годы жизни отдельных художников, указанные в разных изданиях, существенно различаются между собой. В частности, это касается вышеупомянутого Александра Альтмана, получившего редкое для художника-эмигранта признание еще при жизни: не только орден Почетного легиона, но и улицу (rue Alexandre Altmann) в городке Креси-ан-Бри (Crécy-en-Brie)19 в окрестностях Парижа, названную в его честь еще при жизни. Так, на портале «Искусство и архитектура русского зарубежья» (/), равно как и в энциклопедическом словаре, составленном Надин Нешавер, датой рождения этого художника называется 1878-й, а датой кончины — 1932 год20. В свою очередь, в биографическом разделе важной монографии Виты Сусак о живших и работавших в Париже художниках — уроженцах Украины, как и во многих других местах, годом рождения Александра Альтмана ошибочно указан 1885-й, а годом смерти — 1950-й21. Только посещение могилы художника на старом кладбище в Креси-ля-Шапель позволило установить ясность в этом вопросе.
Ил. 7. Художник Александр Альтман в Креси-ля-Шапель (Crécy-la-Chapelle). Фото из собрания автора. Публикуется впервые
Авторы трудов, посвященных отдельным художникам «Парижской школы», раз за разом справедливо сетуют на катастрофическую нехватку информации. Книга о Давиде Гарфинкеле начинается со следующего предуведомления:
В целом мы очень мало знаем о жизни Гарфинкеля в Польше, о его годах, проведенных с родителями. <...> Гарфинкель не оставил ни дневниковых записей, ни писем, ни каких-либо других свидетельств о тех временах, которые могли бы поведать нам о его детстве и о годах обучения живописи в Польше. <...> Учитывая, что сведения о его юности так скудны, для того чтобы понять его истоки, нам приходится опираться на его работы. <...> Гарфинкель мало рассказывал о себе, но много рисовал22.
В монографическом альбоме Пинхуса Кременя говорится:
Каким уровнем мастерства он тогда [во время учебы живописи в Вильне] обладал? Кто вдохновил его на переезд в столицу Франции? Кто дал ему точный адрес «Улья»? Мы едва ли можем найти ответы на эти вопросы. <...> Кремень был по своей натуре достаточно скромным, молчаливым, даже замкнутым человеком. Именно таким его запомнили все, кто знал его — близкие, друзья, все, с кем он общался. Он крайне редко делился с окружающими чем-то личным, почти никогда не говорил о своих чувствах, не рассказывал о своей жизни, и поэтому мы, говоря о нем, можем опираться только на те немногие воспоминания о нем, которые сохранили его близкие и друзья. <...> Он почти не общался с художественными критиками, и они почти не писали о нем23.
Эти люди мало рассказывали о себе и крайне редко делились с окружающими чем-то личным, скорее всего потому, что окружающие мало интересовались их жизнью и творчеством. Воспоминания о них немногочисленны еще и потому, что книга «друга Гарфинкеля» или «друга Кременя» (не важно, друга настоящего или мнимого) коммерчески успешной стать не могла, а филантропов, готовых поддержать издания об этих и других художниках «еврейского Монпарнаса» из соображений сохранения их творческого наследия, не находилось.
Ил. 8. Наиболее обстоятельный альбом, посвященный искусству Пинхуса Кременя, вышедший до настоящего времени: Gaston Diehl. Pinchus Krémègne. Sublimated Expressionism (Paris: Navarin Editeur, 1990)
Эта проблема касается не только художников, не получивших достаточной известности: то же самое приходится читать в книгах о Модильяни и Сутине, работы которых давно уже вошли в художественный канон и продаются за многие миллионы долларов.
Мы не имеем достаточно информации ни о каком из периодов короткой, но бурной жизни Модильяни, — отмечает автор книги о нем. — Мы можем реконструировать жизнь Ван Гога на основании его писем, но Модильяни не оставил нам такого подспорья... Модильяни знали выдающиеся французские критики и писатели, в частности Андре Сальмон, Жан Кокто, Блез Сандрар и Франсис Карко, но большинство из них написали о нем лишь лаконичные фрагментарные воспоминания, причем уже после его смерти24.
Ил. 9. Судьбе и творчеству Давида Гарфинкеля посвящена лишь одна небольшая книжка: Marie Boyé-Taillan. David Garfinkiel. École de Paris (Paris: Éditions ESKA, 2006). В левом верхнем углу — автопортрет художника
Хаим Сутин пережил своего старшего друга Амедео Модильяни более чем на двадцать лет, благодаря Альберту Барнсу познал минуты славы, но изучение его наследия сталкивается с теми же проблемами. «Сутин не оставил после себя никаких писем, дневников, записных книжек — никаких письменных документов, в которых он сам говорил бы о своем искусстве, о каких бы то ни было жизненных сложностях, о своем отношении к Парижу, да и о чем бы то ни было вообще», — сокрушается Стенли Мейслер в самом начале своей совсем недавно изданной книги, в которой, вообще говоря, Сутин — главное действующее лицо25. Французская исследовательница Кларисса Никоидски в своей книге о Хаиме Сутине также отмечала сложности, связанные с необходимостью выявления достоверных фактов о нем, учитывая, что сохранившиеся свидетельства и воспоминания о художнике постоянно противоречат друг другу. По ее словам,
трудности в изучении судьбы Сутина вызваны тем фактом, что любое воспоминание о нем, даже, казалось бы, самое искреннее, самое непредвзятое, тут же опровергается или ставится под сомнение каким-то другим свидетельством, еще чьим-то воспоминанием или случайной историей. И это происходит не только тогда, когда мы пытаемся воссоздать его жизненный путь, но и тогда, когда мы пытаемся составить впечатление о самом его образе мыслей26.
Понятно, что все это открывает простор не только для гипотез, но и для спекуляций.
Однако проблемы отнюдь не ограничиваются фактическими разночтениями и ошибками; порой необходимо задуматься над основополагающими утверждениями авторов тех или иных публикаций.
Так, например, упоминавшийся выше Ж. — П. Креспель отстаивает два крайне сомнительных положения. Он полагает, что к «Парижской школе» нельзя относить, во-первых, художников — уроженцев Франции, а во-вторых, тех, кто иммигрировал в эту страну тогда же, когда и Сутин, Шагал и Модильяни (их он называет «истинными основателями „Парижской школы“»), «но примкнувших к фовистам, кубистам или абстракционистам»27. Эти положения отрицают дух художественного плюрализма, который доминировал в парижском нонконформистском искусстве анализируемого периода. Дело не только в том, что одни и те же живописцы в одни периоды своего творчества принадлежали к фовистам или кубистам, а в другие — нет, и даже не в том, что находки Анри Матисса, Пабло Пикассо и первых художников-абстракционистов имели огромное значение для тех же Хаима Сутина, Марка Шагала и Амедео Модильяни, не говоря уже об Александре Архипенко или Леопольде Сюрваже, который, кстати говоря, подрабатывал в мастерской Матисса.
Ил. 10. Обложка первой серьезной монографии о Хаиме Сутине, изданной спустя полвека после его кончины. Clarisse Nicoïdski. Soutine ou la profanation (Paris: Jean Claude Lattes, 1993)
В отличие от дадаистов, сюрреалистов или немецких экспрессионистов, входивших в группы «Мост» и «Синий всадник», художники «Парижской школы» не были объединены вокруг какой-либо общей эстетической доктрины, они оставались очень разными, и именно возможность свободно выбирать свое эстетическое кредо была главным притягательным фактором их парижской жизни, в бытовом отношении более чем скромной. Когда Ж. — П. Креспель говорит о «принципах, опыте и технике» Хаима Сутина, Марка Шагала и Амедео Модильяни, уместно задуматься о том, были ли у них троих (не говоря уже об остальных) общие принципы, опыт и техника. Работы этих живописцев никогда не перепутаешь друг с другом, что отчетливо свидетельствует об их творческой обособленности, о том, что их стилистика имела едва ли не больше различий, чем сходств со стилистикой других. «Парижская школа» замечательна именно этим духом творческого плюрализма, который, не подавляя ни одну из ярких творческих индивидуальностей формировавшихся тогда художников, позволял каждому из них вырабатывать свою манеру письма — и вместе с тем уважать и ценить работы тех, кто рядом с ними иначе создавал свои произведения искусства. Произвольное отсечение от «Парижской школы» художников-фовистов, кубистов, экспрессионистов или художников, не бывших иммигрантами (а ведь среди тех, кто жил в «Улье», был и уроженец Франции Фернан Леже, творческий стиль которого также мгновенно отличим от любого из его современников, но при этом остается неотъемлемой частью «Парижской школы»), искажает историю искусства, по живому разрезая ее единую матрицу.
Приведенный пример служит вступлением к более детальному критическому обсуждению и анализу ключевых положений, оформившихся в научной литературе к настоящему времени, многие из которых требуют не только уточнения, но и переосмысления.
ГЛАВА 2
ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕОГРАФИИ: К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ» И ЕЕ МАСТЕРОВ
Во введении к своей замечательной книге о «Парижской школе» Михаил Герман перечисляет имена девяти ее наиболее важных, с его точки зрения, представителей: Пабло Пикассо, Константина Бранкузи, Хаима Сутина, Амедео Модильяни, Александра Архипенко, Марка Шагала, Ман Рэя, Макса Эрнста и Альберта Джакометти28. Обратим внимание, что из девяти выделенных М. Ю. Германом художников и скульпторов ни один не француз по происхождению, хотя сам автор подчеркивает: «Согласиться с тем, что термином „Парижская школа“ определяются лишь работавшие в первой четверти XX века в Париже художники-иностранцы — значит сильно упростить проблему»29. М. Ю. Герман прав, указывая, что коренные французы Робер Делоне и Жорж Брак неотделимы от данного художественного явления, однако факт состоит в том, что к первому ряду мастеров, прославивших «Парижскую школу», сам он ни одного уроженца Франции не отнес.
Обратим внимание и на то, что из девяти выделенных им художников четверо — выходцы из Российской империи в первом (Х. С. Сутин, А. П. Архипенко и М. З. Шагал) и втором (Эммануэль Рудницкий, выбравший себе псевдоним Ман Рэй) поколении. Все они, кроме Александра Порфирьевича Архипенко (1887–1964), — евреи, как и уроженец Италии Амедео Модильяни. К «Парижской школе» принято относить целый ряд художников и скульпторов еврейского происхождения, уроженцев Российской империи (Владимир Баранов-Россине, Хана Орлова, Леопольд Готтлиб, Соня Делоне [урожденная Штерн], Жак Липшиц, Осип Цадкин, Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и т. д.) и других стран: кроме вышеупомянутого Амедео Модильяни, выделяются имена уроженца Болгарии Юлиуса Мордехая (Жюля) Паскина и выходца из Австро-Венгрии Моисея Кислинга. Этот феномен не может быть проигнорирован, и когда М. Ю. Герман называет Паскина «болгарским художником», Кислинга — «польским»30, а Баранова-Россине, Орлову, Сутина, Цадкина, Липшица, Кикоина и Кременя — «русскими», то это вызывает недоумение: с этнической точки зрения все эти люди были не болгарами, поляками или русскими, а евреями, а с художественной точки зрения все они, безусловно, сформировались исключительно во Франции. Хаим Сутин, Михаил Кикоин или Пинхус Кремень, хотя и учились живописи в Минске и в Вильнюсе, где никто из них не закончил образование, не были художниками в России. Равным образом, Юлиус Паскин, учившийся в Германии и с двадцатилетнего возраста живший в Париже, никогда не принадлежал к числу живописцев в Болгарии. Тем более не могут быть названы русскими Хана Орлова, семья которой, разделяя идеалы сионизма, иммигрировала в Палестину/Эрец-Исраэль, откуда Орлова в 1910 году прибыла в Париж. Аналогичный путь по тем же причинам проделали родители художника Файбиша-Шраги Царфина (Faïbich-Schraga Zarfin, 1900–1975), прибывшего в Париж в 1924 году.
Ил. 11. Искусству Юлиуса Паскина посвящено немало публикаций, но первый по-настоящему обстоятельный альбом был издан во Франции лишь в начале 1990-х гг. Pascin. 1885–1930 / Édité par Marie-Claire Ades, Yves Kobry et F. Zohra Zamoum (Paris: Musée-Galerie de la Seita, 1994)
Ил. 12. Моисей Кислинг соперничал с Юлием Паскиным за неформальный титул «принца Монпарнаса»; именно так озаглавил свою книгу о нем французский искусствовед Жак Ламберт. Jacques Lambert. Kisling, prince de Montparnasse (Paris: Max Chaleil, 2011). На обложке — «Автопортрет с женой Рене и собакой Куски», 1917 г.
Говоря о русских евреях в художественном мире Франции, нельзя не пройти мимо вопросов существенно более сложных. Как уже было сказано, совершенно очевидно, что Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и Хаим Сутин, равно как и Юлиус Паскин и Моисей Кислинг, выработали свой художественный почерк, живя и работая во Франции. Столь же очевидно, что такие живописцы, как Валентин Серов, девичья фамилия матери которого — Бергман (ее отцом был крещеный еврей Семен Яковлевич Бергман), равно как и Лев Бакст (урожденный Лейб-Хаим Розенберг, 1866–1924), во Франции оказались примерно в те же годы уже сложившимися мастерами, художественный язык которых был глубоко укоренен в русской культуре. Однако можно ли обойти рассмотрение французских страниц их биографий, принимая во внимание тот факт, что дом Марии Самойловны и Михаила Осиповича Цетлиных (оба они были евреями), где Валентин Александрович Серов жил и работал многие месяцы на протяжении последнего года своей жизни, был одним из центров русской духовной жизни во Франции, особенно в 1920–1930-е годы, и целый ряд художников находили именно там уважение, понимание и поддержку?!
Что касается Льва Бакста, то нельзя забывать о том, что с художниками «Парижской школы» он общался, Амедео Модильяни в 1917 году написал его портрет, не говоря уже о том, что в качестве его ассистента по декорациям и костюмам начинал Марк Шагал, и именно его мечтавший попасть в Париж уроженец Витебска просил о помощи. Бакст ему, впрочем, отказал, и Шагал оказался в Париже при помощи видного российского юриста и общественного деятеля, депутата Государственной думы Максима Моисеевича Винавера (1862–1926). Не будет лишним упомянуть, что, оказавшись после установления большевистского режима в эмиграции, М. М. Винавер принимал деятельное участие в издании в Париже русского литературного приложения к газете «Последние новости» и еженедельника «Еврейская трибуна».
Известный адвокат, юрист-государствовед, М. М. Винавер был одним из создателей партии конституционных демократов, а с апреля 1906 года — депутатом первой Государственной думы, деятельно участвовал в борьбе за гражданские права, а после подписания в июле 1906 года Выборгского воззвания был приговорен к трехмесячному тюремному заключению и лишен политических прав. М. М. Винавер был активным участником еврейской общественной жизни: одним из учредителей «Союза для достижения равноправия еврейского народа в России», организатором «Еврейской народной группы». В 1907 году увидела свет его работа «Кадеты и еврейский вопрос». Он также публиковался в еврейской прессе, в частности, в журналах «Восход» и «Еврейская старина». Когда он скончался, М. З. Шагал посвятил ему пронзительный некролог: «С большой грустью скажу сегодня, что... умер и мой... почти отец. <...> Винавер сделал меня художником. Без него я, верно, был бы фотографом в Витебске и о Париже не имел бы понятия».
Рассказав, что М. М. Винавер приютил его в редакции журнала «Восход», первым приобрел две его картины и в 1910 году направил его в Париж, назначив ему стипендию, М. З. Шагал добавлял: «Недавно в Париже, на свадьбе его сына, куда я явился уже со своей семьей, он хлопал меня по плечу, говоря: „оправдали, оправдали вы мои надежды“, и я вторично был счастлив, как когда-то, девятнадцать лет назад. <...> Шлю вам, дорогой Максим Моисеевич, цветы, нарисованные на полотне, цветы благодарности»31.
Супруги Цетлины и М. М. Винавер — отнюдь не единственные провидцы еврейского происхождения, помогавшие признанным ныне великими художникам тогда, когда их работы были совершенно никому не нужны. В этом же ряду стоят как люди ныне сегодня более или менее известные (прежде всего Лео и Гертруда Стайны, Поль Гийом, Леопольд Зборовский и Даниэль Анри Канвейлер), так и подзабытые — Берта Вейль (Berthe Weill, 1865–1951), первая купившая в 1900 году работу Пабло Пикассо, в 1902 году — Рауля Дюфи (Raoul Dufy, 1877–1953), а в 1917 году устроившая единственную прижизненную выставку Модильяни; Вильгельм Уде (Wilhelm Uhde, 1874–1947), с 1905 года покупавший работы Пикассо, а в 1908 году открывший собственную галерею рядом с бульваром Монпарнас (именно там он стал одним из первых продавать работы Анри Руссо, о котором сам написал первую книгу); Йонас Неттер, поддерживавший целый ряд художников от Амедео Модильяни и Хаима Сутина до Мориса Утрилло и Исаака Анчера; и некоторые другие.
Нельзя забывать и об искусствоведах, эссеистах и литераторах, публикации которых рассказывали более или, скорее, менее заинтересованной публике о прежде незнакомых им «новых художниках»; среди этих интеллектуалов также было немало евреев, в частности Вальдемар Жорж, Макс Жакоб (Max Jacob, 1876–1944) и Клод Роже-Маркс (Claude Roger-Marx, 1888–1977), а также, разумеется, Гертруда и Лео Стайны. Эти интеллектуалы редко писали о тех или иных художниках в связи с их еврейским происхождением, да и галеристы и маршаны, как правило, поддерживали художников, которых считали наиболее выдающимися, безотносительно их этничности. Понятно, что семья Цетлиных заказала В. А. Серову портрет Марии Самойловны не в связи с еврейским происхождением матери художника, а вследствие того, что это был первый российский портретист того времени; равным образом, Йонас Неттер поддерживал как художников еврейского происхождения Хаима Сутина и Амедео Модильяни, так и не имевшего, насколько известно, еврейских корней Мориса Утрилло. Немецкий еврей Даниэль Анри Куртвейлер был первым, кто устроил выставку урожденного француза Жоржа Брака. Однако, несмотря на отсутствие какой бы то ни было причинно-следственной связи между живописцами, скульпторами, меценатами и искусствоведами еврейского происхождения, совершенно очевидно, что в том художественном мире, в котором сформировалась и окрепла «Парижская школа», именно эти люди составляли устойчивое большинство. Эта особенность художественного мира «Парижской школы» находит свое отражение в настоящей монографии. Да, не последнюю роль в «Парижской школе» играли такие художники, как японец Тзагухару (Леонар) Фужита (1886–1968), мексиканец Диего Ривера (1886–1957) и румын Константин Бранкузи (Брынкэши, 1876–1957), но никаких галеристов и искусствоведов японского, мексиканского или румынского происхождения вокруг художников «Парижской школы» не было.
Ирина Обухова-Зелиньска, сделавшая попытку обобщить вклад художников русско-еврейского происхождения в художественную жизнь Франции, установила границы существенно более широкие — с 1870 по 1940 год; несравнимо шире и приводимый ею список художников, включающий 125 русско-еврейских имен32. Хотя не всех упомянутых ею художников принято относить к «Парижской школе», которая, несмотря на отсутствие какой-либо единой художественной традиции, все же интуитивно воспринимается как развивающая традиции постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма (вероятно поэтому яркого представителя «Мира искусства» Льва Бакста, прожившего в Париже почти все 1890-е годы, а затем — с 1910 до смерти в 1924 году, в эту группу художников она не включила), но очевидное большинство к анализируемой нами группе художников все же явно относится. Более чем сотня имен позволяет составить групповой социологический портрет группы художников Монпарнаса как более или менее целостного феномена преимущественно восточноевропейской еврейской диаспоры.
Совершенно другую — и чрезвычайно далекую от общепринятой — дефиницию «Парижской школы» дает Рене Герра. В одной из своих статей он использует оборот «все великие русские художники „Парижской школы“», относя к ним четырех живописцев: Бориса Дмитриевича Григорьева (1886–1939), Александра Евгеньевича Яковлева (1878–1938), уже упоминавшегося выше Василия Ивановича Шухаева и Сергея Юрьевича Судейкина (1882–1946)33. Однако имена этих художников, которых принято считать представителями группы «Мир искусства» второго поколения, в литературе о «Парижской школе» практически никогда не фигурируют, на выставке в ГМИИ на Волхонке, с рассказа о которой начинается настоящая книга, не было представлено ни одной работы ни одного из них. Не было ни на одной из этих выставок работ художников, по отношению к которым Дмитрий Северюхин ввел крайне сомнительный термин «ветераны Парижской школы»: Ивана Песке (Jean Peske, 1870–1949), Константина Кузнецова (Constantin Kousnetzoff, 1863–1936) и Николая Тархова (Nicolas Tarkhoff, 1871–1930), обосновавшихся во Франции еще в 1890-х — начале 1900-х годов34. Виталий Ершов называет этих же трех живописцев «старшим поколением Парижской школы»35.
Андрей Толстой был безусловно прав, когда отмечал, что «в 1910-х–1930-х годах в Париже сосуществовали несколько русских „кругов“, художественных сообществ, которые не всегда тесно общались друг с другом, а иногда и прямо соперничали в борьбе за внимание привычной ко всему и пресыщенной парижской публики»36. К первому из этих «кругов» А. В. Толстой относил «сообщество мастеров, тяготевших к эстетике и стилистике позднего модерна и символизма, трансформированных под воздействием, с одной стороны, неопримитивистских, а с другой — экспрессивно-гротесковых приемов. В этом круге художников можно выделить такие важные фигуры, как Борис Григорьев и Юрий Анненков»37. Обратим внимание на то, что из четырех названных Рене Герра имен Андрей Толстой повторил лишь имя Бориса Григорьева, не отнеся, однако, ни его, ни Ю. П. Анненкова к «Парижской школе», но лишь к одному из существовавших в Париже «кругов» русских художественных сообществ.
К «Парижской школе» не принято относить и представителей старшего поколения «Мира искусства», проживших последние годы своей жизни во Франции: кроме уже упомянутого Льва Бакста, это Александр Николаевич Бенуа (1870–1960), Константин Андреевич Сомов (1869–1939), Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957), Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884–1967)... Своеобразным клубом для художников «Мира искусства» вплоть до закрытия в 1931 году служила парижская галерея бывшего московского фабриканта Владимира Гиршмана (известного по великолепному портрету В. А. Серова) на улице Сент-Оноре38. Не принято относить к «Парижской школе» и таких глубоко русских художников, как проживший последние восемнадцать лет своей жизни во Франции Филипп Андреевич Малявин (1869–1940) и проведший во Франции одиннадцать лет, с 1925 по 1936 год, Иван Яковлевич Билибин (1876–1942). И даже Константин Алексеевич Коровин (1861–1939), «посол» французского импрессионизма в русском искусстве, неоднократно бывавший во Франции еще до революции и проживший в этой стране последние шестнадцать лет своей жизни, к «Парижской школе» традиционно не причисляется.
На то есть не только сугубо художественные, но и институциональные причины: со средой «Улья» и Академии Марии Васильевой живописцы «Мира искусства» практически не пересекались, в свою очередь, не приглашая ни фовистов, ни экспрессионистов, ни кубистов в создаваемые ими структуры.
В 1926 году по инициативе бывшего директора Строгановского училища Николая Глобы в Париже, на улице Victorien Sardou, 12-bis, был открыт Русский художественно-промышленный институт, помощь в организации которого оказал князь Феликс Юсупов. В нем работали мастерские художественного шитья, эмалевой инкрустации и росписи по фарфору. Преподавать в институте были, в частности, приглашены Иван Билибин и Мстислав Добужинский.
Татьяна Сухотина-Толстая (1864–1950), дочь великого писателя, основала в Париже Русскую художественную академию, сняв на Монпарнасе, на улице Jules Chaplain, 11, большую мастерскую. По ее замыслу, известные мастера должны были читать там лекции по истории искусства, а также велись бы курсы по декоративно-прикладному творчеству. Т. Л. Сухотина-Толстая договорилась об участии в работе этой академии Ивана Билибина, Бориса Григорьева, Мстислава Добужинского, Константина Коровина, Василия Шухаева и других, но никого из тех, кого принято относить к «Парижской школе». Русская художественная академия была торжественно открыта 6 июня 1929 года, однако уже в следующем году закрылась из-за финансовых трудностей; в том же году та же судьба постигла и Русский художественно-промышленный институт Николая Глобы39. Выживать трудно было всем художникам, и академистам, и новаторам, но и в трудные времена судьбы их почти не переплетались.
Эстетика «Мира искусства» безраздельно доминировала в журнале «Жар-Птица», издававшемся в Берлине и в Париже в 1921–1926 годах. Редактором-издателем журнала являлся А. Э. Коган, редактором художественного отдела — Георгий Крескентьевич Лукомский (1884–1952). На страницах этого журнала, отличавшегося высочайшим полиграфическим уровнем, печатались иллюстрированные монографические очерки о К. А. Сомове, Н. К. Рерихе, Л. С. Баксте, Ф. А. Малявине, А. Я. Головине, К. А. Коровине, И. Я. Билибине, А. Н. Бенуа, А. Е. Яковлеве, Б. Д. Григорьеве и других мастерах круга «Мира искусства». При этом художники-постимпрессионисты, экспрессионисты, фовисты, кубисты и дадаисты на страницах этого издания представлены не были, вследствие чего критики журнала отмечали его салонность, культ стилизма и узость подхода к современному искусству40.
Ил. 13. Жар-Птица: литературно-художественный журнал. Париж/Берлин: А. Э. Коган — издательство «Русское искусство». Вып. 4–5: Рождественский номер, 1921 г. На обложке — репродукция картины И. Я. Билибина
Противодействие «Миру искусства» со стороны художников и скульпторов-авангардистов проявилось уже в июне 1921 года, когда двенадцать из них, включая Владимира Издебского, Жака Липшица, Оскара Мещанинова и Осипа Цадкина, обнародовали манифест, озаглавленный ими «Une Mise a point», в котором отмечали, что «открывшаяся незадолго до этого в Париже русская художественная выставка, организованная под эгидой „Мира искусства“, на самом деле не отражает новых тенденций русской школы, а только одну, довольно консервативную ее ветвь»41.
Еще более резко высказался художник Георгий Богданович Якулов (1884–1928) в 1927 году: «В эмиграции в группе „Мир искусства“ мир искусства оказался нежизнеспособным, и поэтому совершенно ясно, что воскрешать эстетические и общественные тенденции, сыгравшие свою роль тридцать лет назад, вполне оформившиеся и ставшие историей, нет ровно никакого смысла»42.
Факт невключения всех вышеназванных художников — а то, что речь идет о крупных живописцах, сомнению не подлежит — в число мастеров «Парижской школы» позволяет довольно многое понять о том, чем, собственно, эта «школа» была. Во многих книгах на разных языках повторяется утверждение о том, что относимых к ней очень разных художников эстетически между собой ничего не связывало, что различия между ними существеннее, чем сходства, а потому якобы само использование этого термина больше запутывает, чем помогает понять. Иногда в научной литературе встречаются достаточно запутанные определения, например:
Парижская школа не есть художественное направление с раз и навсегда очерченными границами. Это некое умозрительное понятие, которое в своей изменчивости отражает историю французского искусства и той Франции, которая в поисках самой себя стремилась то открыться навстречу миру, то замкнуться в себе43.
В 1961 году, когда проводилась выставка «русских художников Парижской школы», художественный критик Жан Буре описал ее как «группу художников и скульпторов, родившихся за границей и переехавших в Париж, ставших частью культурной жизни столицы, усвоивших здешние законы художественного самовыражения, но сохранивших определенную творческую самобытность, объясняющуюся их происхождением, их традициями, их предыдущим опытом обучения мастерству»44.
Однако тот факт, что все вышеназванные живописцы, несмотря на многие годы жизни во Франции и даже глубокую внутреннюю связь отдельных из них, прежде всего К. А. Коровина, с французским искусством, все же не включаются в число представителей «Парижской школы», наглядно демонстрирует, что термин этот имеет пусть и не очень четко очерченное, но весьма отчетливое содержание. Под ним принято понимать ведшуюся в Париже и других городах Франции деятельность по развитию нового искусства, имея в виду под словом «новое» искусство, уже воспринявшее не только импрессионизм, но и постимпрессионизм, и стремившееся пойти дальше. Это «дальше» было весьма различным, но все же заслуживает внимания тот факт, что среди художников, традиционно относимых к «Парижской школе», не было ни одного сюрреалиста, несмотря на то что в 1920–1940-е годы это направление было одним из ведущих в мировом искусстве. Однако в годы, когда так называемая «Парижская школа» формировалась, сюрреализма на авансцене истории еще не было, между постимпрессионизмом и сюрреализмом в 1900–1910-е годы появилось несколько течений, прежде всего фовизм, экспрессионизм и кубизм, и именно эти три направления больше, чем какие-либо другие, ассоциируются с «Парижской школой».
Разумеется, хронологические рамки «Парижской школы» не ограничиваются первыми двумя десятилетиями XX столетия; отдельные художники, которых принято относить к «Парижской школе» (самый знаменитый из них — Марк Шагал), продолжали творить до 1980-х годов включительно, однако основы их эстетики сформировались именно в период доминирования фовизма, экспрессионизма и кубизма, в различных их вариациях и проявлениях. Важно подчеркнуть, что эти стили служили не ограничивающими рамками, а скорее «окнами», которые открывали путь к новым горизонтам творческого вдохновения; совершенно очевидно, в частности, что самобытный стиль Амедео Модильяни ни к какому течению не отнесешь, но столь же очевидно, что этот стиль не мог появиться, прежде чем были усвоены уроки Сезанна и других постимпрессионистов.
Художники «Мира искусства», в особенности те, кого принято относить к старшему поколению (деление это весьма условно, М. В. Добужинский лишь на три года старше А. Е. Яковлева, а З. Е. Серебрякова моложе и его, и С. Ю. Судейкина), продолжали и в 1920–1930-е годы работать так, словно постимпрессионизм вообще еще не появился на авансцене истории искусств, работы того же К. А. Сомова напоминают о картинах Ф. Буше и Ж. А. Фрагонара, но никак не о произведениях Поля Сезанна, Винсента Ван Гога или Анри Тулуз-Лотрека. Сын З. Е. Серебряковой Александр (Alexander Serebriakoff, 1907–1994) в год, когда П. Пикассо создал «Авиньонских девиц», только родился, но во всем его творчестве не было ни следа кубизма, фовизма или экспрессионизма, он рисовал Париж точно так же, как рисовала Петербург Анна Остроумова-Лебедева (1871–1955). Таким образом, именно факт неучастия этих живописцев в художественной революции, имевшей свои корни в искусстве Сезанна и постимпрессионистов, является причиной невключения их в пантеон «Парижской школы», объединяющий художников и скульпторов, для которых новаторство было важнее следования классическим традициям.
Не был случайным тот факт, что возвращение художников-эмигрантов в российское музейно-выставочное пространство началось именно с художников, стиль и эстетические идеалы которых сформировались еще до отъезда из России. Такие выставки стали организовываться в 1960-е годы, уже после кончины этих художников: ретроспектива Константина Коровина была организована к столетию со дня его рождения в 1961 году, аналогичная экспозиция Льва Бакста — в 1966-м, Константина Сомова и Филиппа Малявина — в 1969-м, Александра Бенуа — в 1970 году. В 1965 году прошла выставка, приуроченная к 90-летию Мстислава Добужинского. Единственной работавшей в Париже художницей из группы «Мир искусства», которой посчастливилось дожить до признания на Родине, оказалась Зинаида Евгеньевна Серебрякова, выставки которой в 1965–1966 годах прошли в Москве, Ленинграде, Киеве и Новосибирске.
Лишь после того, как в художественный канон были возвращены работы эмигрантов-академистов, стало постепенно меняться отношение к художникам-новаторам, которых принято относить к «Парижской школе». Впрочем, вошедший в легенду приезд в Москву в 1973 году 86-летнего Марка Шагала не стал событием в полном смысле слова прорывным, ибо остальные художники «еврейского Монпарнаса» оставались в Советском Союзе совершенно неизвестными. Несмотря на тот факт, что значительное большинство из них родились на территории, входившей в то время в состав Советского Союза, и потому могли быть включены в «культурное достояние Родины», советские художественные институции и официальное искусствоведение демонстрировали тотальное равнодушие к их судьбам и творчеству.
Чрезвычайно странную точку зрения отстаивает Жан-Поль Креспель в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху». По его словам,
в огромном потоке иностранных художников следует выделить различные течения. Вечно все искажающая легенда (sic!) расскажет в основном о художниках, приехавших с Востока, в большинстве своем еврейского происхождения. Но это полная нелепица (sic!): среди выдающихся имен Монпарнаса можно назвать лишь Шагала, Сутина, Цадкина, Кислинга, Липшица, Архипенко, Мане-Каца и Сюрважа. Их намного опередили скандинавы и немцы. Последние составляли сплоченную колонию, превратившую кафе «Дом» в некоторое подобие клуба45.
Далее Ж. — П. Креспель перечисляет имена пяти деятелей культуры — выходцев из Германии, характеризуя их как «самых известных из них»: Ганс Пуррман (Hans Purrmann, 1880–1966); Мейер-Грефе — по-видимому, речь идет о видном историке искусства и арт-критике Юлиусе Мейере-Грефе (Julius Meier-Graefe, 1867–1935), который сам художником не был; Гёц (вероятно, речь идет о Рихарде Гёце, Richard Goetz, 1874–1954); Флехтхейм — по-видимому, речь идет об арт-дилере Альфреде Флехтхейме (Alfred Flechtheim, 1878–1937), который, насколько известно, сам не создавал произведения искусства; и Отто фон Ветьен (Otto von Wätjen, 1881–1942), бывший в 1914–1921 годах мужем художницы Мари Лорансен (Marie Laurencin, 1883–1956). Фактически, из них всех широко известна только она, благодаря упоминанию в песне Джо Дассена «L’ete indien»: «И ты с загорелой кожей в своем белом платье как будто сошла с акварели Мари Лорансен». Совершенно очевидно, что никто из этой пятерки, как и названные Ж. — П. Креспелем работавшие в то время на Монпарнасе художники-скандинавы: швед Нильс де Дардель (Nils von Dardel, 1888–1943), норвежцы Пер Ларссон Крог (Per Lasson Krohg, 1889–1965) и Карл Эдвард Дирикс (Karl Edvard Diriks, 1855–1930) и другие, — и близко не стоит по степени известности с теми восемью живописцами и скульпторами — выходцами из Восточной Европы (среди которых евреи все, кроме этнического украинца Александра Архипенко и этнического финна Леопольда Сюрважа), перечисленными автором ранее, поэтому крайне сложно понять, почему легенда о них характеризуется Ж. — П. Креспелем как «все искажающая» — напротив, из его же собственного текста видно, насколько именно эти сформировавшиеся во Франции мастера создали славу «Парижской школы».
Натали Хасан-Брюне не сильно погрешила против истины, указав, что в целом «художники, прикованные к своей этнической принадлежности, редко ассоциировались с французским искусством, а если они становились известными, то чаще всего благодаря своей жизни и легенде, которую она порождала (как это было с Модильяни, Сутиным, Паскиным), нежели своими произведениями»46. Показательно, однако, что из всех книжных магазинов крупнейших парижских музеев самая представительная подборка книг об этих живописцах находится не в Лувре, не в музее Орсе и не в Центре Помпиду, а в киоске Музея искусства и истории иудаизма. Однако этот музей посвящен не просто еврейской, а французской еврейской истории. Значит ли это, что Амедео Модильяни, проживший в Италии двадцать с половиной из тридцати пяти лет своей жизни, или Рудольф Леви, не только родившийся в Германии, но и служивший в Первую мировую войну в немецкой армии, а в 1930-е годы последовательно живший в Германии, Испании, США и Италии (где он, собственно, и был арестован и откуда депортирован в Освенцим), посмертно оказались причислены к французскому еврейству и французскому искусству в силу того, что пребывание в этой стране оказало огромное влияние на развитие их художественных дарований? Что все-таки определяет принадлежность к той или иной диаспоре, какая страна — или какие страны — были для этих художников метрополиями?..
Ил. 14. Первый том альманаха «Евреи в культуре русского зарубежья» (ред. — сост. М. А. Пархомовский. Иерусалим, 1992). На обложке воспроизведена репродукция скульптуры Ханы Орловой «Еврейский художник», 1920 г.
Прежде всего, оказывается, что среди художников «Парижской школы» практически нет урожденных не то что парижан, а вообще французов. Кроме Робера Делоне, Фернана Леже, Анри Матисса и Мориса Вламинка, практически никто из них не родился во Франции, то есть почти все они — представители художественных диаспор. Проблема, однако, состоит в том, что определить, а к каким же диаспорам принадлежали художники «Парижской школы» и где те метрополии, с которыми имеет смысл их идентифицировать, весьма затруднительно. Сегодняшнее понимание диаспор и метрополий исходит, как правило, из актуальных границ государств, причем государств ныне существующих, что крайне запутывает ситуацию, затрудняя понимание места различных социально-культурных феноменов в их эпохах. Италия может гордиться Амедео Модильяни, причисляя его к «своей» диаспоре, но австро-венгерской диаспоры не существует в связи с исчезновением этой империи с карты мира, поэтому непонятно, какая страна должна гордиться «добрым ангелом Модильяни» арт-дилером Леопольдом Зборовским и художником Моисеем Кислингом (которые, вообще говоря, родились и выросли соответственно в Варшаве и в Кракове, то есть на территории нынешней Польши)? Можно ли считать М. Кислинга, который никогда не жил в Польском государстве, посланцем польской художественной диаспоры? Как быть со Зборовским, лишившимся в годы Первой мировой войны поддержки семьи и объявленным неблагонадежным, ибо Франция и Австро-Венгрия, где жила его семья, стали противниками, тогда как Польша, где он родился, входила в состав Российской империи, которая являлась в той войне союзницей Франции? Какая страна должна считать своим Рудольфа Леви, родившегося в Штеттине и выросшего в Данциге, бывших тогда частью Германии, но в настоящее время являющихся польскими городами Щецин и Гданьск? Мыслимо ли относить его, никогда не жившего в Польше и не владевшего польским языком, к деятелям искусства польского зарубежья — и разумно ли считать его по факту рождения на территории тогдашней Германии немцем, если именно вследствие того, что немцы не признали его таковым, он был в 1944 году депортирован в Освенцим, где и погиб? Правомерно ли относить к русскому зарубежью Мане-Каца, родившегося в Кременчуге и учившегося в художественной школе в Киеве, на территории нынешней Украины, Исаака Анчера, родившегося в бессарабской деревне Пересечино, или Хаима Сутина, выросшего в Смиловичах под Минском, на территории нынешней Беларуси? С другой стороны, мыслимо ли в принципе относить этих — и других — людей к представителям украинской, молдавской и белорусской художественных диаспор, если в период их жизни в Кременчуге, Пересечино и Смиловичах ни украинской, ни молдавской, ни белорусской государственности не существовало в принципе?
Куратор выставки «Модильяни, Сутин и проклятые художники» Марк Рестеллини так охарактеризовал этих живописцев:
Их мятущиеся души выражали себя с помощью живописи, которая питалась их отчаянием. В конце концов, их искусство было не польским, болгарским, итальянским, русским или французским, а абсолютно оригинальным, в Париже они нашли особенные средства выражения, с помощью которых смогли передать свое видение, чувства и мечты. Эти годы были временем эмансипации и потрясений, подобных которым было немного в истории искусства. Везде в Европе продолжалась эстетическая революция, послужившая прелюдией для эволюции морали. На Монмартре и Монпарнасе эти художники — почти все евреи — вытянули свой счастливый билет. Евреем был и Йонас Неттер, влюбленный в искусство и живопись, ставший увлеченным коллекционером и проницательным открывателем новых талантов, благодаря встрече с польским арт-дилером и поэтом Леопольдом Зборовским, также евреем по происхождению47.
Вообще, такого рода анализ — сам по себе большая редкость. Сложилась парадоксальная ситуация: так называемая «Парижская школа» первой трети XX века школой не была ни в каком смысле слова, а художники, традиционно относимые к ней, не объединялись вокруг какой бы то ни было институции; даже в легендарном ныне «Улье» на Монпарнасе жили хоть когда-либо отнюдь не все.
Ил. 15. Художники и их спутницы и спутники на обложке книги «Кикоин и его друзья из Парижской школы». Kikoïne et ses amis de l’École de Paris (Paris: Fondation Kikoïne, sous l’égide du Judaïsme Français, 1993)
«Искусствоведы придумали этикетку „Парижская школа“; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже», — точно обозначил проблему умудренный жизнью Илья Эренбург (1891–1967)48. Значительное большинство этих художников принадлежали к некоей общности, к которой они принадлежности чувствовать не хотели, а именно — к восточно- и центральноевропейской еврейской диаспоре. Марк Шагал и Михаил Кикоин, Пинхус Кремень и Хаим Сутин, Осип Цадкин и Хана Орлова, Юлиус Паскин и Исаак Анчер, Мане-Кац и Исаак Добринский, Абрам Минчин и Иссахар-Бер Рыбак, Айзик Федер и Анри Эпштейн, Моисей Кислинг и Амедео Модильяни — к этой диаспоре принадлежали они все, ибо все до единого родились в еврейских, как правило очень традиционных, семьях, причем все до единого — далеко от Парижа, за пределами Франции.
Почти про всех верно будет сказать, что они уехали в космополитичный Париж, чтобы перестать быть евреями в традиционном смысле этого слова. Иудаизм запрещает всякое изображение человека. Заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» подавляла развитие изобразительного искусства в еврейской среде. В Средние века иудейские религиозные законы против искусства стали еще более жесткими: был введен запрет на изготовление выпуклых изображений не только человека, но также льва, орла и быка; запрещались также изображения солнца, луны и звезд. В «Еврейской энциклопедии», выходившей с 1906 по 1913 год, как раз когда во Франции оказались почти все художники и скульпторы, которых постфактум стали относить к «Парижской школе», справедливо отмечалось:
Обозревая всю еврейскую историю, мы видим, что пластическое искусство только временами проникало к евреям из соседних стран, но никогда не находило среди них благоприятной почвы для своего развития. Исторические судьбы еврейского народа, политический и религиозный быт его и характер его миросозерцания препятствовали тому, чтобы искусство этого рода свило себе гнездо среди него49.
Учитывая, что еврейство в традиционном понимании — это одновременно и конфессия, и этнос (в иврите нет разделения между словами «еврей» и «иудей»), уроженцы еврейских семей, выбиравших путь художников и скульпторов, фактически порывали с той этноконфессиональной средой, к которой они принадлежали.
При этом разрыв этот был вполне осознанным, о чем свидетельствуют, в частности, слова Марка Шагала, произнесенные им в 1931 году:
Как только евреи сбросили оковы традиции (sic!) и взяли на себя смелость переосмыслить законы, ставившие под запрет пластическое искусство, они оказались не менее талантливыми художниками, чем признанные мастера других национальностей. Конечно, первые [еврейские] художники работали в академической манере и до конца не понимали своей особой роли, однако после них пришли другие, они-то и запели в полный голос50.
Цитируя в 1935 году Вторую заповедь, М. З. Шагал отмечал:
Наш монотеизм был куплен дорогой ценой — из-за этого иудаизму пришлось отказаться от созерцания природы простым глазом, а не духовным, внутренним взором. На основании этого в древности иудаизм боролся с идолопоклонством, следы которого можно увидеть сегодня во всех музеях мира, а мы в результате лишились бесценных образцов пластического искусства. Ничего музейного у нас нет, если не считать свитков Торы да заброшенных синагог, в которые уже почти никто не ходит. Но мы, новые евреи, восстали против этого, мы больше не хотим мириться с таким положением дел, мы хотим быть не просто народом Книги, но еще и народом Искусства51.
Ил. 16. Обложка книги «L’ Ancien Testament. La Genèse, l’Exode, le Cantique des Cantiques. Illustré par Marc Chagall» (Editions France Loisirs, autorisé par Editions du Chêne, 2014). На обложке — картина М. З. Шагала «Сон Яакова»
Сам М. З. Шагал создал на протяжении десятилетий огромный корпус произведений, которые чисто формально могут считаться «иллюстрациями» к Библии; количество этих работ столь велико, что целый ряд изданных к настоящему времени книг об этом великом живописце только этой грани его творчества и посвящены.
Но «сбрасывание оков традиции» не приводило к изменению системы, если так можно выразиться, национально-интеллектуальных координат: говоря об искусстве, которое создавал он и его единомышленники, М. З. Шагал в том же выступлении сравнивал этот процесс ни с чем иным, как с созданием Библии: «Мы, новые евреи, тысячу лет назад создавшие Библию, творение Пророков, основу всех мировых религий, мы хотим создать также и великое искусство, такое, которое прозвучало бы на весь мир»52.
Натали Хасан-Брюне не без оснований отмечала, что «нигде, кроме Парижа, эти еврейские художники не могли оторваться от своего происхождения»53. В результате сложилась удивительная ситуация: символом космополитичного духа художественной Франции первых десятилетий XX века была объявлена «Парижская школа»: тут и уроженец Италии Амедео Модильяни, и выходцы из Австро-Венгрии Моисей Кислинг, Александр Хеймовиц и Вилли Эйзеншитц, и приехавшие из Российской империи Марк Шагал (настоящие имя и фамилия — Мойше Сегал), Хаим Сутин и Мане-Кац (Мане Лейзерович Кац), и эмигрировавший из Болгарии Юлиус Мордехай Паскин (настоящая фамилия — Пинкас), и родившийся в Германии Рудольф Леви, есть даже отдельные коренные граждане Франции, в частности Макс Жакоб, — воистину интернационал! Однако то, что предстает примером дивной полифонии с точки зрения гражданского происхождения, оказывается почти полностью однородным с точки зрения этноконфессиональной: в Париж заниматься искусством бежали (иногда в прямом смысле слова) в основном евреи, пусть и из разных стран Восточной и Центральной Европы. Речь идет о диаспоре, чья идентичность была сконструирована постфактум, исходя из доминирующей сегодня как во Франции, так и в США концепции «гражданской нации». Национальное многоголосье «Парижской школы» — в значительной мере иллюзия, являющаяся следствием того, что в английском и французском языках понятие «нация» означает то, что в русском языке принято называть «гражданством». Когда разные авторы пишут о космополитичной атмосфере «Парижской школы», они, фактически, анализируют очень своеобразное и характерное явление — еврейский космополитизм эпохи, оказавшейся периодом, предшествовавшим Холокосту, жертвами которого стали и несколько десятков живших и работавших на Монпарнасе и на Монмартре художников, в том числе и Макс Жакоб, погибший то ли из-за того, что был евреем, то ли из-за того, что был гомосексуалом. В годы нависшей над ними смертельной опасности Франция смогла — и захотела — защитить очень немногих из художников «Парижской школы», даже когда речь шла об уроженцах страны.
Коль скоро «школа», пусть и никогда не существовавшая, была названа искусствоведами «Парижской», а парижский Музей искусства и истории иудаизма предлагает книги и альбомы едва ли не обо всех художниках, к этой «школе» относимых, важно разобраться, как существовали эти люди во французском искусстве. Упоминая о том, какое большое количество художников (да и вообще иммигрантов) прибыло во Францию до и после Первой мировой войны, предполагается само собой разумеющимся, что, в отличие от других стран, французское общество не было заражено ксенофобией и, в частности, антисемитизмом. Действительность, однако, была в значительной мере другой. На самом деле со второй половины 1920-х годов по стране одна за другой прокатывались волны антисемитских выступлений, за которыми стояли националистические организации, такие как Action française [«Французское действие»], Jeunesses patriots [«Патриотическая молодежь»], Les Croix de feu [«Огненные кресты»] и другие. В обзорной монографии «История евреев Франции» в параграфе о 1920-х годах указывается, что «существование в то же самое время множества еврейских арт-дилеров и критиков вызвало антисемитскую реакцию в период подъема национализма и консерватизма»54. Антисемитизмом было, очевидно, заражено и французское искусствоведение. Так, в 1925 году известный в то время арт-критик Луи Воксель (Louis Vauxcelles, 1870–1943) написал в «Le Carnet de la semaine» [«Листок недели»]:
Орда варваров наводнила Монпарнас, они движутся толпой по улице Боеси [Boétie] из кафе 14 округа, издавая грубые крики на германских и славянских наречиях... Их культура слишком молода! Когда они говорят о Пуссене, знают ли они мастера? Видели ли они когда-нибудь хоть одну картину Коро? Или прочли хоть одну поэму Лафонтена? Это пришлые народы [в оригинале — peuples d’ailleurs], которые ничего не знают об уважении к тому, что Ренуар назвал мягкостью французской школы — тактом, который является добродетелью нашего народа55.
В другой публикации 1931 года тот же Л. Воксель уподобил иммиграцию еврейских художников на Монпарнас «нашествию саранчи»56.
Рассмотрение вопроса о том, как эти художники при жизни находили свое место в среде музеев и галерей Франции, приводит к небезынтересным выводам. Точнее — и честнее — было бы сказать, что этого места они при жизни почти не находили. У Амедео Модильяни не было фактически ни одной прижизненной выставки, кроме экспозиции, открытой лишь несколько часов в галерее Берты Вейль. Первая персональная выставка Хаима Сутина состоялась в 1935 году в Чикаго, во Франции же она прошла только в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, когда художника уже не было в живых, выставка же в парижском музее (а не в частной галерее) впервые прошла в «Оранжери» лишь в 1973 году57. Не намного лучше обстояли дела у остальных, за исключением, правда, более успешного Марка Шагала. За девяносто лет жизни и более чем шестьдесят лет творческой деятельности Пинхуса Кременя ни в одном французском музее не было организовано ни одной его персональной выставки, его картины экспонировались только в галереях, хотя и сравнительно часто: с 1919 по 1936 год в Париже были организованы девять экспозиций его работ, а затем последовал десятилетний перерыв58. При этом выставки Пинхуса Кременя проходили в небольших галереях, просуществовавших лишь считанные годы: в 1923 году — в галерее La Licorne [«Единорог»], в 1925 году — в галерее Champigny, в 1927 и 1931 годах — в галерее Ван Лир, в 1936 году — в галерее Gerbo. Архивы всех этих галерей никто не стремился сохранить, вследствие чего огромный пласт важной для истории искусства информации оказался безнадежно утрачен.
Жизнь тогдашнего Монпарнаса излишне романтизирована в фильмах и книгах, появившихся в последние десятилетия. Реалии были куда более грубыми. «Монпарнас — это квартал Парижа, где жили художники, — рассказывал проведший там много дней и ночей мыслитель Владимир Сергеевич Варшавский (1906–1978). — Здесь в нескольких открытых всю ночь кафе собирались и эти художники, и всякий сброд: праздные гуляки, натурщицы, проигравшиеся картежники, пьяницы, полусумасшедшие бродяги, наркоманы, проститутки, сутенеры. <...> Монпарнас был одним из кругов парижского дна»59.
Впрочем, в первом варианте своей книги В. С. Варшавский находил у той жизни и положительные стороны:
На Монпарнассе художники-иностранцы, даже самые нищие, даже самого чудаковатого вида, имели свое определенное место. Здесь на них не смотрели с тем инстинктивным недоброжелательством, с каким обычно смотрят на чужих и чудаков. Наоборот, им покровительствовали: достопримечательность, привлекают туристов. Даже полиция их не трогала. Эта вольность «монпарно» распространялась и на русских художников. Звание художника делало их полноправными гражданами Монпарнасса, Парижа, человечества60.
Понятие «Парижская школа» ввел в обиход в 1925 году критик Андре Варно, уже имея в виду под этим термином преимущественно художников, не бывших уроженцами Франции61. Как отмечала Глэдис С. Фабр, «в начале прошлого века Париж заполонили художники-иностранцы, превратив французскую столицу в территорию кочевников и космополитов»62.
Еще отчетливее высказался академик Дмитрий Сарабьянов, отмечавший, что под этим именем оказались объединены художники, «приехавшие в Париж из других стран — в основном из Восточной Европы, в частности из тех стран, которые сначала принадлежали Российской империи, а позже Советскому Союзу. С самого начала в списки художников Парижской школы имена французов попадали редко — чаще всего, когда их нельзя было отделить от группы, которую образовали приезжие»63.
Ил. 17. Обложка книги Андре Варно «Колыбели молодой живописи. Парижская школа». Andre Warnod. Les Berceaux de la jeune peinture (Paris: Albin-Michel, 1925)
Социологически это совершенно уникальное явление — не местные «абсорбируют» иммигрантов, а, наоборот, иммигранты — местных, при этом для обозначения группы используется термин «Парижская», а не, скажем, «восточноевропейская», «русско-еврейская» или какая угодно еще школа, при том что подавляющее большинство художников, которых можно объединить под «зонтиком» этой так называемой «школы», никогда не существовавшей в качестве единой художественной группировки, по происхождению были именно евреями из России и Восточной Европы. Иными словами, название этой «школы», скорее, вводит в заблуждение: речь идет не о парижанах, а именно о преимущественно восточноевропейской еврейской художественной диаспоре, сложившейся незадолго до Первой мировой войны в столице Франции, по большей части — в районе Монпарнас. Представляется поэтому, что название «Парижская школа» неадекватно и должно быть если не пересмотрено, то как минимум уточнено.
При этом нельзя обойти вниманием тот факт, что трое из пяти самых знаменитых представителей «Парижской школы» не соответствуют и этим критериям: Амедео Модильяни родился в Италии и хоть и в еврейской, но сефардской семье, что не позволяет говорить об общности происхождения с Марком Шагалом, Хаимом Сутиным и многими другими уроженцами «черты оседлости»; родившийся в Малаге на юге Испании Пабло Пикассо евреем не был ни с какой стороны, как и родившийся в департаменте Нор недалеко от франко-бельгийской границы Анри Матисс. Не были евреями также относимые к «Парижской школе» родившийся в крестьянской семье в Румынии скульптор Константин Бранкузи (Брынкуши), уроженец Киева Александр Архипенко, уроженец Мадрида Хуан Грис, уроженцы Тифлиса (Тбилиси) Ладо Гудиашвили и Илья Зданевич, уроженец Эриванской (Ереванской) губернии Левон Буниатян (Леонардо Бенатов) и другие художники, а, скажем, Натан Грюнсвайг и Моисей Кислинг были евреями, но родились они в Кракове, тогда бывшем частью Австро-Венгрии, а не «черты оседлости» Российской империи; вдали от нее родился и еврей-сефард «князь Монпарнаса» Юлиус Мордехай Пинкас, взявший себе имя Жюль Паскин... В выставке, проведенной ГМИИ, из 59 художников евреями, родившимися в «черте оседлости», были чуть менее половины, и они составляли самую значительную этнонациональную группу участников «Парижской школы». Таким образом, речь идет о двойной аккультурации: с одной стороны, отдельных художников — уроженцев Франции, а с другой — некоторых художников, евреев и неевреев, прибывших в Париж из стран Западной и Центральной Европы, в творческой среде, сформированной преимущественно из евреев — выходцев из «черты оседлости».
ГЛАВА 3
«ПАРИЖСКАЯ ШКОЛА» В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСА ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ДИАСПОР
I
Первая большая выставка русской живописи была организована в Париже в 1906 году Сергеем Павловичем Дягилевым. В двадцати залах, оформленных Львом Бакстом, были представлены 750 работ более пятидесяти художников, сгруппированные в три раздела: древнерусские иконы, произведения живописцев и скульпторов XVIII — первой половины XIX века и работы художников группы «Мир искусства». В своей книге «Русская палитра Парижа» Ю. И. Коваленко рассказывает об этой выставке в контексте главы об «Улье», указывая:
В сущности, французы впервые получили возможность познакомиться с нашей живописью. Критики отмечали, что выставка является для них откровением. Успех наших художников способствовал тому, что распахнулось окно в Европу,
после чего продолжает:
«Первая волна» художников из России прибыла в Париж в 1908–1911 годах. Среди них наибольшую известность впоследствии получили Сутин, Пуни, Баранов-Россине, Сюрваж, Штеренберг, а также четыре скульптора — Архипенко, Цадкин, Липшиц и Булаковский64.
Подобная взаимосвязь представляется абсолютно надуманной, работы никого из этих девяти художников и скульпторов на дягилевской выставке не экспонировались, да этих работ, вообще говоря, к тому времени практически не было: все эти люди иммигрировали во Францию в надежде начать там свой путь художников. В отличие от живших и работавших в Петербурге мастеров «Мира искусства», принадлежавших к дворянскому сословию и близких непосредственно к императорскому двору, эти девять живописцев и скульпторов были глубокими провинциалами, к дворянскому сословию никакого отношения не имевшими. Совсем не очевидно, что они сами вообще знали о дягилевской выставке, и, уж конечно, никто из них не мог воспринимать ее как «окно в Европу» для них самих. Катрин Гусефф права, утверждая, что «огромный успех балетов Дягилева в предвоенный период подготовил почву для того горячего приема, которым сопровождались в 1921–1929 годах выступления русских трупп, оказавшихся в изгнании»65, но на отношение французской интеллигенции в целом и художественной критики в частности к эмигрировавшим из Российской империи художникам так называемой «Парижской школы» устроенная С. П. Дягилевым в 1906 году выставка не влияла.
Это уточнение принципиально важно: спустя полтора десятилетия почти все художники, входившие в группу «Мир искусства», покинули Россию и обосновались во Франции: и Александр Бенуа, и Зинаида Серебрякова, и Мстислав Добужинский, и другие, но их искусство оставалось и во Франции таким же, каким оно было в России — очень далеким от поисков и находок фовистов, кубистов, экспрессионистов, не говоря уже о сюрреалистах и дадаистах. Эти люди на всю жизнь остались преданны неоклассической эстетике, и переезд во Францию никак не изменил ни содержания, ни стилистики их полотен, от работ Сезанна, Матисса и Пикассо бесконечно далеких. Сказанное верно и в отношении постоянно жившего в Париже с 1923 года Константина Коровина, эстетика которого сформировалась под очевидным влиянием французских импрессионистов, но который на всем протяжении своей творческой жизни сохранял верность именно классическому импрессионизму 1860–1870-х годов. Художники-иммигранты, поселившиеся в «Улье», имели принципиально другую стартовую позицию и совершенно иные устремления: они прибыли во Францию не для того, чтобы сохранить в неприкосновенности свой стиль (за исключением, возможно, Марка Шагала, своего стиля ни у кого из них к тому времени и не было), а для того, чтобы именно там, в Париже, обрести свое творческое «я», стать художниками, находясь в авангарде новейших течений того времени. Совершенно невозможно представить себе никого из обитателей «Улья» в качестве участников дягилевской выставки: в 1906 году Сергей Павлович Дягилев демонстрировал величие императорской России и ее искусства, беженцы из «черты оседлости» создавали совершенно иное искусство, оказавшееся куда более созвучным духу наступившего XX столетия.
Ил. 18. Обложка книги «Дягилев. Начало» (ред. — сост. А. В. Лакс. СПб.: Государственный Русский музей, 2009). На обложке — фрагмент картины Л. С. Бакста «Портрет С. П. Дягилева с няней», 1906 г.
В 1911–1914 годах во Францию прибыла еще одна волна художников из России: среди них, как и в предшествующие годы, было несколько живописцев еврейского происхождения, в частности Эль Лисицкий, Амшей Нюренберг и братья Певзнеры, но также Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Георгий Якулов, Сергей Шаршун, Владимир Татлин, Любовь Попова, Надежда Удальцова и Александра Экстер. Не забудем и о том, что с самого начала XX века в Париже жил и работал уроженец Москвы художник Николай Тархов, в апреле 1905 года женившийся на француженке Ивонн Дейтейль (Yvonne Deltreil, 1880–1945). Большинство из них — и в этом их разительное отличие от преимущественно еврейских эмигрантов предшествовавшей им волны — впоследствии вернулись в Россию, хотя Н. А. Тархов, М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова и С. И. Шаршун на всю жизнь остались во Франции, где прожили более полувека. Однако даже для тех художников, чье пребывание в тогдашней «Мекке современного искусства» было сравнительно коротким, этот опыт имел решающее значение в их творческой судьбе. В Салоне Независимых 1914 года были представлены работы 78 живописцев — уроженцев России, среди которых были и те, кто в Париже не жил: Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Владимир и Давид Бурлюки. Планировалось и проведение в Москве и Санкт-Петербурге совместной выставки российских и французских художников, однако начало Первой мировой войны перечеркнуло все эти планы.
После Октябрьского переворота и гражданской войны во Франции оказались и многие другие художники из России, как евреи, так и неевреи: Павел Федорович Челищев (1898–1957), Константин Абрамович Терешкович (1902–1978), Илья Михайлович Зданевич (1894–1975) и ряд других. Эстетические и идеологические основы их искусства были очень различными, но экспрессионистская живопись того же К. А. Терешковича стала неотъемлемой частью «Парижской школы».
Нельзя не упомянуть и о том, что некоторые из мастеров «еврейского Монпарнаса», будучи по происхождению выходцами из России, прибыли в Париж из Палестины/Эрец-Исраэль, например скульптор Хана Орлова, живописец Исаак Александр Френкель (Yitzhak Frenkel, 1899–1981) и родившийся в Яффо и выросший в Одессе живописец, скульптор и литератор Иосиф Константиновский (Joseph Constantinovsky, 1892–1969). В период между Первой и Второй мировыми войнами в Париже учились, жили и работали и некоторые уроженцы Палестины/Эрец-Исраэль нероссийского происхождения, в частности ставшие позднее в Израиле известными художниками уроженка Яффо Циона Таджер (Sionah Tagger, 1900–1980) и уроженец Иерусалима Моше Кастель (Moshe Castel, 1909–1991).
Выше уже указывалось, что книга-альбом о Х. Сутине вышла в Москве в серии «Художники русской эмиграции», а большая часть статей об отдельных художниках, равно как и важная обобщающая работа И. В. Обуховой-Зелиньской — в альманахе «Евреи в культуре русского зарубежья» и его продолжениях — «Русское еврейство в зарубежье» и «Русские евреи в Америке». Можно добавить, что наиболее точные биографии этих художников в Интернете размещены на портале «Искусство и архитектура русского зарубежья» (/). На выставке «Русский Париж. 1910–1960», прошедшей в Санкт-Петербурге в 2003 году, были представлены, в частности, работы таких представителей «Парижской школы», как Александр Альтман, Наум Аронсон, Владимир Баранов-Россине, Лазарь Воловик, Роберт Генин, Филипп Гозиасон, Соня Делоне, Ида Карская (урожденная Шрайбман), Михаил Кикоин, Пинхус Кремень, Хаим-Яков (Жак) Липшиц, Мане-Кац (Иммануэль Кац), Григорий Мишонц (Мишонзник), Оскар Мещанинов, Хана Орлова, Натан (Антуан) Певзнер, Иссахар-Бер Рыбак, Хаим Сутин, Осип Цадкин, Марк Шагал и Давид Штеренберг; в 1954 году работы многих из них были включены в прошедшую в Лондоне выставку «Русские художники-эмигранты в Париже», а в 1961 году — в выставку «Les Artistes Russes de L’École de Paris» [«Русские художники Парижской школы»], прошедшую в столице Франции. Атрибуция всех этих художников к культуре русского зарубежья стала настолько естественной, что никем, кажется, не подвергается сомнению — и, видимо, зря.
Ил. 19. Большая ретроспективная выставка Ционы Таджер впервые прошла спустя почти четверть века после кончины художницы; тогда же впервые издан представительный альбом, посвященный ее искусству. Sionah Tagger. Retrospective / Curator: Carmela Rubin (Tel-Aviv Museum of Art, 2003). На обложке — «Портрет Шифры», 1926 г.
Фактически, мы имеем дело с мисконцепцией, ставшей, как представляется, результатом трех взаимодополняющих тенденций: французского сугубо гражданского толкования понятия «нация», которое превратило в русских всех выходцев из Российской империи; традиции российской, и особенно российской еврейской, интеллигенции включать в число своих всех, кого можно включить в это число по какому-нибудь критерию (как несложно заметить, почти все искусствоведы — авторы работ о «Парижской школе», от Якова Тугендхольда до Бориса Зингермана, Михаила Германа и Александры Шатских, сами — русскоязычные евреи); и очевидного предпочтения тем, в коих присутствует слово «русский» («русский Париж», «русская эмиграция», «русское зарубежье» и т. д.), российскими музеями и издательствами, которые могут рассчитывать на получение финансовой помощи от государства и меценатов в связи с предпринимаемыми ими усилиями по «возвращению на Родину» ее разбросанного по миру духовного наследия.
II
После распада Советского Союза и формирования Украины, Белоруссии и Литвы как независимых государств последние включили родившихся на их территории (причем в случае Украины и Беларуси в их нынешних, а в случае Литвы — в их так называемых «исторических» границах!) художников «Парижской школы» в собственные историко-художественные каноны.
Заведующая отделом европейского искусства ХIХ–XX веков Львовской национальной галереи искусств Вита Сусак написала масштабную книгу «Украинские художники в Париже. 1900–1939», прекрасно изданную в Киеве по-украински, по-английски и по-французски. Персональных глав в книге удостоились Соня Делоне, Абрам Маневич, Владимир Баранов-Россине и Хана Орлова; еще два раздела посвящены общему вкладу художников-евреев в феномен «Парижской школы»: в одном проанализировано творчество уроженцев левобережной Украины (среди них Исаак Добринский, Лазарь Воловик, Мане-Кац, Жак Готко, Иссахар-Бер Рыбак, Абрам Берлин, Айзик Федер и другие), герои второго — выходцы из Восточной Галиции. Целую страницу в книге занимает репродукция приглашения на парижскую выставку «Украинской группы» (Un Groupe Ukrainien) от 8 марта 1930 года66, в которой участвовали и скончавшийся год спустя А. Минчин, и переживший его всего на четыре года И. — Б. Рыбак, и дожившие до 1960-х годов Мане-Кац и И. Прессман. Заключительная глава книги называется «Парижская школа как часть истории украинского искусства XX века»67, и этот заголовок говорит сам за себя.
Ил. 20. Книга Виты Сусак «Украинские художники в Париже, 1900–1939» (на фр. яз.). Vita Susak. Les artistes Ukrainiens à Paris, 1900–1939 (Kiev: Rodovid, 2010). На обложке — фрагмент работы Александра Архипенко «В будуаре (перед зеркалом)», 1915 г.
В Беларуси, давно уже объявившей собственным классиком Марка Шагала (арт-центр его имени основан в Витебске в 1992 году, дом-музей создан в 1997 году), осенью 2012 года начат масштабный выставочный проект «Художники Парижской школы из Беларуси»: экспозиция была вначале развернута в Минске, затем — в Гомеле, потом — в Витебске. Всего в экспозиции 56 работ, из них 27 — из коллекции «Белгазпромбанка», 19 — из частных собраний и 10 — из фондов Национального художественного музея в Минске. Выставка знакомила с творчеством четырнадцати уроженцев из Беларуси, работавших в Париже в первые десятилетия XX века, среди которых, кроме Шагала, Хаим Сутин, Пинхус Кремень, Михаил Кикоин, Файбиш-Шрага Царфин, Осип Любич и другие. Весной 2016 года Беларусь объявила «своим» художником выросшего и сформировавшегося в Петербурге и прожившего почти всю творческую жизнь в Париже одного из столпов объединения «Мир искусства» Льва Бакста, 150-летие со дня рождения которого отмечалось под эгидой ЮНЕСКО. Напомнив, что он родился в Гродно, Национальный художественный музей в Минске устроил большую выставку его работ, а также выпустил посвященную ему монографию68.
В Польше тоже постарались объявить «своими» максимально большое число художников, включая тех, кто родился в давно уже не существующей Австро-Венгрии. Профессор Ежи Малиновский из Университета им. Николая Коперника в Торуне отмечал, что художники из Польши «составляли одну из самых многочисленных групп среди творцов Парижской школы». К ним он причислил две группы художников, сформированные исходя из даты их эмиграции, утверждая, что среди выходцев из Польши, творивших в Париже в это время, были как те, кто приехал в самом начале XX века (Роман Крамштык, Луи Маркусси, Моисей Кислинг, Анри Хайден, Симон Мондзен), так и те, кто приехал в Париж уже после Первой мировой войны (Тамара де Лемпицка, Зигмунд Менкес, Альфред Абердам, Эжен Эбиш, Давид Гарфинкель, Иоахим Вейнгарт). К первой же группе уместно причислить учившегося и работавшего в Париже Хаима-Вольфа (Владислава) Вайнтрауба (1891–1942), по неизвестным причинам не включенного в энциклопедический словарь Надин Нешавер, который, хоть и отслужил в Первую мировую войну во французской армии, уже в 1918 году вернулся в Польшу, где и остался на всю оставшуюся жизнь, окончившуюся то ли в Варшавском гетто, то ли в лагере смерти Треблинка — точных данных об этом нет. Ежи Малиновский также высказал мнение о том, что художники — уроженцы Польши (он указывает, что почти всегда речь шла об этнических евреях) принципиально отличались от местных живописцев: «Если говорить о том, чем художники польского происхождения обогатили художественную жизнь Парижа, то надо сказать, что в первую очередь именно они выразили несогласие с французским рационализмом и индивидуализмом. В своих произведениях они продолжали следовать традиции польского романтизма и еврейского хасидизма, создавая атмосферу ностальгии, внутреннего смятения, в их работах торжествовал не разум, а чувства и интуиция»69.
Ил. 21. Обложка книги Владимира Счастного «Художники Парижской школы из Беларуси» (Минск: Четыре четверти, 2012)
Не входя сейчас в спор с польским искусствоведом относительно сделанного им вывода, нельзя не удивиться тому, что, противопоставляя польских евреев французам, он ничего не сказал о том, насколько они похожи на работавших в Париже в те же годы художников еврейского происхождения из Украины и Белоруссии. Напрашивается предположение, что, будь такое сравнение проведено, выходцы из Польши потеряли бы всякую самобытность, ибо сама польская государственность возникла, когда эти художники уже были достаточно зрелыми людьми. Никто из них не родился и не вырос в Польше: все те, кто не родился, как Моисей Кислинг или Леопольд Готтлиб (Leopold Gottlieb, 1883? — 1934), в Австро-Венгрии, появились на свет в Российской империи, в ее черте еврейской оседлости. Кстати, Леопольд Готтлиб жил в Париже в 1904–1906 и 1908–1912, а затем вновь в 1926–1934 годах, и довольно сложно сказать, к какой из двух групп художников, выделенных исходя из даты их приезда в Париж, его следует отнести: повторная иммиграция из Польши во Францию спустя четырнадцать лет едва ли может быть определена как «возвращение», фактически речь идет именно о второй иммиграции, пусть и по тому же маршруту.
К тому же, если и говорить о созданных ими «польских» пейзажах, то они сродни Витебску М. З. Шагала: таким, каким он существовал на его полотнах, он не существовал более нигде. Этот важный момент отметил критик, посетивший посмертную выставку Давида Гарфинкеля: «Его натюрморты, пейзажи открывают нам удивительный мир, который дышит возвышенной ностальгией. <...> Гарфинкель воскрешает на своих полотнах польский городок, который он когда-то знал и который теперь живет лишь в поэтическом мире его картин»70.
Именно так: мир идишкайта после Холокоста в Восточной Европе более не существовал; это прошлое, ушедшее, по всей видимости, навсегда.
Если украинские, белорусские и польские авторы исходят из нынешних границ своих национальных государств, то профессор Вильнюсской Академии художеств Антанас Андрияускас, у которого литовскими евреями оказались и Хаим Сутин, и Марк Шагал, и Пинхус Кремень, и Михаил Кикоин, и Осип Цадкин, и Лев Инденбаум, апеллирует к границам средневекового Великого княжества Литовского, в шесть раз превосходившего территорию нынешней Литвы, карту которого он поместил во введении к своей обстоятельной книге71. Хорошо известно, что в Виленской губернии из шести вышеперечисленных художников родился только Пинхус Кремень, все остальные родились на территории нынешней Беларуси, а учеба Хаима Сутина, Пинхуса Кременя и Михаила Кикоина в Вильне была весьма кратковременной. Однако профессор Андрияускас исходит из того, что евреи в тех районах Беларуси, где родились и выросли все эти художники, на протяжении столетий сохраняли память о средневековой Литве, что для них это была не Беларусь, а Лита, земля литваков. Начиная с того, что критики и современники называли Хаима Сутина peintre lituanien [«литовским художником»]72 — это утверждение, кстати, верно лишь применительно к некоторым публикациям, — автор причисляет к числу литовских художников всех живописцев и скульпторов «еврейского Монпарнаса», семьи которых исторически могут быть отнесены к духовно-религиозному миру «литваков», как хасидов, так и их оппонентов. Ирония судьбы состоит в том, что если бы Хаим Сутин, Михаил Кикоин и остальные жили сообразно мировоззрению своих семей, сохранявших верность иудаизму в целом и Второй заповеди в частности, они бы никогда не стали художниками.
Ил. 22. Книга: Antanas Andrijauskas. Litvak Art in the Context of the École de Paris (Vilnius: Art Market Agency, 2008). На обложке — фрагмент картины Хаима Сутина «Пейзаж в Кань-сюр-Мер», 1923/24 г.
В принципе, не может не радовать тот факт, что и в России, и на Украине, и в Беларуси, и в Польше, и в Литве растет внимание к наследию самобытных художников «еврейского Монпарнаса» (к которым, впрочем, Лев Бакст едва ли относится), десятилетиями живших в бедности и не вызывавших почти ничьего интереса. Проблема при этом не только в том, что происходит исторически нелогичная «приватизация» наследия художников «еврейского Монпарнаса»: в каждой из этих стран оно встраивается в местное культурно-историческое наследие, частью которого эти художники не были. Главное же, что, обращаясь исключительно к «своим» уроженцам, авторы доктрин, вписывающих художников «еврейского Монпарнаса» в историю русского, украинского, белорусского и польского искусства, разрывают единую ткань «Парижской школы», вплетая Шагала, Сутина, Кременя и Кикоина в одну национальную традицию (белорусскую или литовскую), Маневича, Мане-Каца, Баранова-Россине, Добринского — в другую (украинскую), Кислинга, Хайдена, Гарфинкеля, Эбиша и Готтлиба — в третью (польскую), оставляя при этом Модильяни, Паскина и других за бортом, поскольку в историю русского, украинского, белорусского или польского искусства вписать их невозможно ни по какому критерию. Сообщество художников Монпарнаса было целостным феноменом восточноевропейской еврейской художественной диаспоры, связанной с актуальными тенденциями тогдашней художественной жизни многонациональной Франции. Как справедливо, хоть и не без юмора, указывал Жан-Поль Креспель, «в период с 1910 по 1930 год на Монпарнасе жили художники самых разных национальностей, и он вполне мог бы стать зародышем Лиги Наций»73.
При этом большая часть художников так называемой «Парижской школы» — это именно восточноевропейские евреи, которые, даже будучи рождены на территории Российской империи, совсем не всегда даже говорили по-русски. Х. Сутин, книга о котором вышла в серии «Художники русской эмиграции», в конце жизни утверждал, что не знает русского языка, и, как отмечал Ж. — П. Креспель, это было действительно так: с идиша он сразу перешел на французский74. Хаим Сутин родился в местечке Смиловичи Минской губернии, как и Файбиш-Шрага Царфин; Михаил Кикоин — в Речице Гомельской губернии; Пинхус Кремень — в местечке Желудок Виленской губернии; Хаим-Яков Липшиц — в Друскениках Гродненской губернии; Роберт Генин — в селе Высокое Климовичского уезда Могилевской губернии, а рос в доме деда в местечке Красовичи (ныне Красавичи); Давид Гарфинкель — в городе Радом в сотне километров к югу от Варшавы, где, согласно переписи населения 1897 года, евреи составляли 39 % населения (там же родился писавший на языке идиш крупный еврейский поэт и писатель Исроэль Рабон, погибший в огне Холокоста), и т. д. Все они выросли в сугубо еврейской среде, практически никак не будучи вовлеченными в русскую (и уж тем более украинскую, белорусскую, литовскую и польскую) культуру.
Ил. 23. Авантитул и титульный лист автобиографической книги: Chagall Marc. Ma Vie (Paris: Éditeur Stock, 1928). На авантитуле — эскиз к картине «Видение (Автопортрет с Музой)», 1918 г.
Марк Шагал — один из очень немногих художников «еврейского Монпарнаса», во-первых, поживший перед Парижем в Петербурге, а во-вторых, издавший, причем уже в молодости, автобиографию, честно рассказывал в ней о своем вопиющем пренебрежении русским искусством:
Лувр. Бродя по круглому залу Веронезе или по залам, где выставлены Мане, Делакруа, Курбе, я уже ничего другого не хотел. Россия представлялась мне теперь корзиной, болтающейся под воздушным шаром. Баллон-груша остывал, сдувался и медленно опускался с каждым годом все ниже. Примерно то же думал я о русском искусстве вообще. Всякий раз, как мне приходится размышлять или говорить о нем, я испытываю сложное, невыразимое чувство, замешенное на горечи и досаде. Как будто русское искусство обречено тащиться на буксире у Запада. Но, при том что русские художники всегда учились у западных мэтров, они, в силу своей натуры, были дурными учениками. Лучший русский реалист не имеет ничего общего с реализмом Курбе. А наиболее близкий образцам русский импрессионизм выглядит чем-то несуразным рядом с Моне и Писсарро. Здесь, в Лувре, перед полотнами Мане, Милле и других, я понял, почему никак не мог вписаться в русское искусство. Почему моим соотечественникам остался чужд мой язык. Почему мне не верили. Почему отторгали меня художественные круги. Почему в России я всегда был пятым колесом в телеге. Почему все, что делаю я, русским кажется странным, а мне кажется надуманным все, что делают они75.
С этим мнением Шагала можно, конечно, не соглашаться, но совершенно невозможно игнорировать его, насильно посмертно включая его в то самое русское искусство, в которое он при жизни в России, по его словам, «никак не мог вписаться».
III
Вопрос о том, были ли художники еврейского происхождения, родившиеся в Российской империи, частью русской эмиграции, весьма сложен, но он неминуемо заставляет задать и вопрос о том, сталкивались ли эти люди с проявлениями антисемитизма, который в русской эмиграции, в значительной мере состоявшей из бывших бойцов Добровольческой армии генерала А. И. Деникина, отнюдь не был явлением диковинным. Конечно, во Франции в 1920–1930-е годы не было ничего похожего на еврейские погромы, сопровождавшиеся убийствами, изощренными издевательствами, массовыми изнасилованиями и грабежами, устроенные Добровольческой армией в 1919 году на Украине, но совершенно очевидно, что сам факт переезда во Францию не превратил погромщиков в сторонников равноправия разных национальностей. Свидетельство Владимира Варшавского о молодых интеллектуалах и литераторах не в полной мере применимо в отношении художников, но общие векторы, названные им, без сомнения, касались и их:
Ничего не меняет, что многие монпарнассцы были люди еврейского или полуеврейского происхождения (в большинстве христиане по убеждению, что делало их еще более одинокими, чем остальных участников Монпарнасса: для черносотенцев они продолжали оставаться «жидовскими мордами», а в еврейской буржуазной среде, где они могли бы найти опору и поддержку, на них косились, как на отщепенцев)76.
Быть «маргиналами среди маргиналов», «жидовскими мордами» в русской эмиграции, в целом ведшей весьма трудную жизнь, особенно тяжело.
Когда в Париж 14 июня 1940 года вступили нацистские войска и все евреи подлежали регистрации у коменданта Парижа и могли выходить на улицу только с желтой шестиконечной звездой на одежде (а их детям отныне запрещалось играть на детских площадках с другими детьми), в русской эмиграции нашлись те, кто с жаром взялся проводить эту политику в рамках общины. Родившийся в Новочеркасске в 1908 году Юрий Сергеевич Жеребков, возглавлявший новосозданный Русский представительный комитет, был в апреле 1942 года назначен оккупационными властями начальником Управления делами русской эмиграции во Франции. Это Управление потребовало от всех выходцев из России старше шестнадцати лет пройти обязательную регистрацию, без которой невозможно было получить удостоверение личности и право на работу77. В рамках этой регистрации нужно было, в частности, указать национальность, место рождения и имена всех четырех бабушек и дедушек. Таким образом было выдано пятнадцать тысяч регистрационных карт, а гестапо получило список евреев, многие из которых впоследствии были депортированы.
Издававшаяся Управлением на русском языке газета «Парижский вестник» полностью находилась в фарватере нацистской пропаганды. Драматург и режиссер Николай Николаевич Евреинов (1879–1953) называл Ю. С. Жеребкова «молодой фюрер русской эмиграции»78. Директор-администратор возобновившего свою работу 23 октября 1943 года парижского Театра русской драмы бывший харьковчанин Борис Николаевич Шупинский (1893–1945) доносил нацистским властям на артистов-евреев (которым запрещалось выходить на сцену), требуя предъявления метрических свидетельств в тех случаях, когда он подозревал, что тот или иной сотрудник театра скрывает свое еврейство79. Мы не знаем, сколько евреев — уроженцев России, и в том числе художников, погибли в годы Холокоста по доносам и вследствие активности их живших во Франции «дважды соотечественников», но совершенно очевидно, что среди депортированных и погибших таковых были отнюдь не единицы.
Несмотря на то что 15 мая 1948 года Ю. С. Жеребков был заочно приговорен в Париже к пожизненному заключению, ему удалось избежать правосудия, под чужим именем тайно перебравшись из Германии во франкистскую Испанию, где его следы затерялись80. В Париже быть евреем в 1942–1944 годах было не безопасней, чем в Киеве в 1919 году, и «свои» внесли в это немалую лепту; Холокост бы никогда не имел тех масштабов, которые он имел, если бы не преданные нацисты-коллаборационисты разных национальностей, среди которых были и французы, и русские...
Зачастую даже у тех художников, которым удалось выжить, безвозвратно погибли их самые важные работы. Пинхусу Кременю повезло дважды: выжил не только он сам, но и его произведения. Когда после освобождения Франции он вернулся в Париж, ему посчастливилось застать свою мастерскую нетронутой, в том же состоянии, в каком он оставил ее в июне 1940 года81. Другим повезло меньше. В разгромленной нацистами мастерской Ханы Орловой были уничтожены около сотни ее скульптур82. Вернувшийся в Париж Давид Гарфинкель обнаружил свою мастерскую полностью разграбленной, все его картины пропали — и он так и не сумел их найти83. Эмигрировавший в Париж из Берлина в 1933 году Александр Мартынович Арнштам (1880–1969), опасаясь обыска, при котором будут найдены свидетельства его многолетнего общения с теми, кого нацисты объявили врагами, после оккупации столицы Франции уничтожал свои работы сам:
Немцы были повсюду. Я был на площади Этуаль, когда боши «триумфально» входили в Париж: музыка и ритмичный стук сапог, тысяч сапог... Затем, вернувшись домой, я жгу в камине мои рисунки, эскизы декораций, множество портретов немецких актеров, писателей с автографами. Я жгу это целый день. Камин слишком мал. <...> Сколько раз я потом жалел об этом...84
Сам А. М. Арнштам не был евреем, но еврейкой была его жена Роза, урожденная Мордухович, арестованная по доносу в оккупированном немцами Париже, чудом вызволенная из комиссариата полиции и спасенная тем самым от неминуемой депортации в Дранси; после этого она на протяжении нескольких лет не выходила из дома, живя у храбрых участливых людей, приютивших ее85, — и только это позволило ей выжить.
Большое количество работ разных художников погибло из-за разгрома отдельных галерей, с которыми они работали. Выделяется в этой связи галерея Кати Гранофф (Galerie Katia Granoff). Екатерина Федоровна Гранова (1895–1989) родилась в городе Николаеве Херсонской области, но детство ее прошло в Одессе. За рубежом она оказалась еще до революции, но в Париж приехала только в 1924 году. В столице Франции она начала работать секретарем в Салоне живописи в Тюильри, где познакомилась со многими художниками и получила навыки работы с клиентами.
Ил. 24. Обложка книги воспоминаний Кати Гранофф «История одной галереи». Katia Granoff. Histoire d’une galerie (Paris, chez l’auteur, 1949)
«Париж стал очагом мировой живописи, — утверждала она более чем полвека спустя в книге воспоминаний, написанной и изданной по-французски. — Со всех концов земли сюда съезжались молодые художники, в основном бедные и одинокие, которые нередко навсегда закрепляли свои мольберты в избранной стране, становились причастными к „Парижской школе“. Такими были — Пикассо, Модильяни, Шагал, Хуан Грис, Сутин, Фужита, Ван Донген, Паскин и сколько еще...»86
После того как Салон в Тюильри закрылся, Е. Ф. Гранова, подбадриваемая художниками, которые хотели, чтобы она продолжала заниматься их работами, сняла помещение на бульваре Перейр, где организовала собственную галерею. Место оказалось не очень удачное для такого рода деятельности, и его пришлось сменить. Переездов затем было еще несколько, хлопот хватало, но постепенно дело развивалось; однако все нарушили война, германское вторжение во Францию, оккупация... Еврейка по происхождению, Е. Ф. Гранова покинула Париж, купив старый дом в Вульт-сюр-Рон (Voulte-sur-Rhône) недалеко от Лиона, куда смогла перевезти часть картин. Как только стало возможно, она вернулась в столицу, где нашла свою оставленную галерею пустой; все картины, которые она не успела оттуда вывезти, были похищены... Начав приводить в порядок галерею, Е. Ф. Гранова получила извещение о том, что, отступая, немцы подожгли ее дом в Вульт-сюр-Рон; все находившиеся там картины погибли.
Ил. 25. Парижская галерея Кати Гранофф. Фото Алека Д. Эпштейна
* * *
Суммируя, подчеркнем, что, подобно тому как факт вынужденной эмиграции в США не превратил ни Шагала, ни Мане-Каца, ни Кислинга в американцев, так и распад Советского Союза и появление на карте мира независимой Беларуси не превратили в белорусов ни Шагала, ни Сутина, ни Кикоина, ни Кременя. Изучать жизнь и творчество художников преимущественно «еврейского Монпарнаса» нужно как единый пласт, не навязывая им контексты, к которым они не принадлежали, и не разрывая их связь с восточноевропейским еврейским наследием, с одной стороны, и с вольным духом парижского андеграунда трех первых десятилетий XX века, с другой. Только таким образом это уникальное явление художественной диаспоры может быть понято во всем его уникальном многообразии. При этом, чтобы иметь возможность оценить в ретроспективе судьбу преимущественно еврейской по происхождению и космополитичной по духу художественной диаспоры во Франции в первой половине XX века, необходимо не только знать биографии художников и судьбы (в том числе посмертные) их творческого наследия, но и понимать, как складывались судьбы меценатов, коллекционеров и интеллектуалов, поддерживавших их как финансово, так и верой в их талант.
ГЛАВА 4
ВЕК МОНПАРНАСА: К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ»
Следует отметить, что художники не только приезжали в Париж, но и уезжали из него, причем особенно волны эмиграции увеличивались в связи с Первой и Второй мировыми войнами. Рудольф Леви (Rudolf Levy, 1875–1944, погиб в Освенциме), Отто Фрейндлих (Otto Freundlich, 1878–1943, погиб в Майданеке), Вальтер Бонди (Walter Bondy, 1880–1940) вернулись в Германию, Леопольд Готтлиб присоединился в Польше к армии маршала Пилсудского (правда, после этого в 1920-е годы вернулся в Париж), Марк Шагал, Мане-Кац, Савелий (Цалий) Шлейфер (1881–1943, погиб в Освенциме) вернулись в Россию (и они в 1920-е годы снова оказались в Париже). Александр Архипенко в 1923 году навсегда уехал в США, Юлиус Паскин отправился в Лондон, чтобы уклониться от службы в болгарской армии, призвавшиеся во французскую армию Луи Маркусси (урожденный Людвиг Казимир Маркус, ок. 1880 — 1941) и Моисей Кислинг (он вернулся с фронта с тяжелой контузией от удара прикладом в грудь) Париж, естественно, тоже покинули. Принимая во внимание тот факт, что Марк Шагал прибыл в Париж только в 1910 году, Михаил Кикион и Пинхус Кремень — в 1912-м, а Хаим Сутин и Мане-Кац — в 1913-м, напрашивается вывод: созданный коллективной памятью художественный мир Монпарнаса никогда не существовал в реальной жизни: одни художники покинули его еще до того, как успели приехать другие.
При этом необходимо понимать, что процесс обретения художниками хотя бы некоторой известности и признания требует какого-то времени. Так, каталог выставки «Салона Независимых» 1910 года включает 58 произведений различных художников, среди которых и Робер Делоне, и Мари Лорансен, и Рауль Дюфи, но только три живописца «Парижской школы» русско-еврейского происхождения — уроженец Соболевки Александр Альтман, прибывший в Париж из Одессы в 1905 году; уроженка Чебоксар Мария Воробьева, дочь этнической еврейки актрисы Марии Розанович, удочеренная в возрасте двух лет польским аристократом-католиком Брониславом Стебельским, известная как Маревна (1892–1984); и Евгений (Эжен) Зак (1884–1926), учившийся в Париже еще с 1900 года87. Подавляющее большинство из 53 живописцев, работы которых экспонировались на парижском Салоне Независимых 1910 года — времени, когда, если следовать периодизации, предложенной М. Ю. Германом, «Парижская школа» находилась в зените своего «классического периода» — ни к русским (любого этнического происхождения), ни к еврейским (из какой бы то ни было страны) иммигрантам не имело никакого отношения.
Только семь художников были представлены на том Салоне Независимых более чем одной работой (каждый из них демонстрировал по два полотна), и лишь один из них — Жан (урожденный Иван) Песке, родившийся в Херсонской губернии в семье врача польского происхождения и уже в 1891 году эмигрировавший во Францию, где прожил всю оставшуюся жизнь, принадлежал к иммигрантам. Все остальные шестеро были уроженцами Франции: и Шарль Ангран (Charles Angrand, 1854–1926), и Огюст Шабо (Auguste Chabaud, 1882–1955), и Жорж д’Эспаннья (Georges d’Espagnat, 1870–1950), и Анри Манген (Henri Manguin, 1874–1949), и Жан Маршан (Jean Marchand, 1882–1940), и Луи Вальта (Louis Valtat, 1869–1952). В наши дни эти художники скорее забыты, чем широко известны (так, в именной указатель книги Михаила Германа «Парижская школа» не включены биографии ни одного из них), но в то время именно они считались в Париже ведущими представителями передового искусства — подчеркнем это, не официальным художественным истеблишментом, настороженно, чтобы не сказать враждебно относившимся к новому искусству, а среди самих «независимых художников».
Хронологически экспозиция в ГМИИ охватывала период с 1905 по 1932 год. Эти временные границы, особенно верхняя, вызывают очень много вопросов. Что именно случилось в 1932 году? Неужели так рано прекратился творческий путь Шагала и Сутина, Пикассо и Утрилло, Вламинка и Матисса, Кременя и Кикоина?.. Если он не прекратился, то какой кардинальный поворот пережили все эти художники в то время? Еще более сокращает время жизни «Парижской школы» видный искусствовед Михаил Герман: как максимум он готов «иметь в виду едва ли не всю первую треть XX столетия», указывая при этом, что «ее становление и наивысший расцвет — это два недолгих периода... с начала 1900-х годов до Первой мировой войны, время становления фовизма и кубизма... и первые годы после мировой войны, экспансия дадаизма и сюрреализма»88.
Другие авторы менее радикальны, но существует достаточно широкий консенсус вокруг того, что история «Парижской школы» закончилась перед Второй мировой войной или в ходе нее.
Это кажется, однако, совсем не очевидным. Достаточно сказать, что в 1959 году в издательстве Editions Andre Sauret в Монте-Карло был выпущен комплект литографий, включавший в себя, как гласил заголовок, афиши выставок «мэтров Парижской школы». Это афиши выставок семи художников, самая ранняя из которых (Марка Шагала) прошла в 1933-м, а последние (того же Марка Шагала, Жоржа Брака, Хуана Миро и Пабло Пикассо) — в 1959 году! Подавляющее большинство включенных в данный комплект афиш касались выставок, проведенных этими живописцами, а также Анри Матиссом, Раулем Дюфи и Фернаном Леже, уже после окончания Второй мировой войны!
Ил. 26–27. Обложка и титульный лист комплекта литографий «Мэтры Парижской школы», 1959 г. Mourlot Fernand. Les affiches originales des maîtres de l’école de Paris. Monte-Carlo: Editions André Sauret, 1959
Вдумчивый читатель может заметить, что даже если «Парижская школа» как явление культуры и существовала после войны, гитлеровская оккупация Парижа положила конец художественному миру «еврейского Монпарнаса». Действительно, в связи с еврейским происхождением были депортированы и погибли художники Натан Грюнсвайг (1880–1943), Адольф (Айзик) Федер (1887–1943, погиб в Освенциме), Владимир (Шулим-Вольф) Баранов-Россине (1888–1944, погиб в Освенциме), Хаим Грановский (1889–1942, погиб в Освенциме), Анри (Хенрик) Эпштейн (1891–1944, погиб в Освенциме), Сандро Фазини (Александр Файнзильберг, 1893–1944, погиб в Освенциме), Абрам Берлин (1894–1942), Леон Вейсберг (Leon Weissberg, 1894–1943, погиб в Майданеке), Иоахим Вейнгарт (1895–1942, погиб в Освенциме), Жак Готко (Янкель Готковский, 1899–1944, погиб в Биркенау), Якуб Мончник (1905–1945, погиб в Маутхаузене), Хана Гитла Ковальска (1907–1941) и другие; Роман Крамштык (1885–1942) был убит в Варшавском гетто. (Кстати сказать, кроме В. Д. Баранова-Россине, выставки работ которого прошли в Третьяковской галерее в 2002 году и в ГМИИ — пять лет спустя, никто из этих художников практически не известен в России до сих пор.) Одни из художников «Парижской школы» умерли еще до Второй мировой войны, как Амедео Модильяни, другие, как скончавшиеся в 1943 году, соответственно в Париже и в вынужденной эмиграции в Нью-Йорке Хаим Сутин и Наум Аронсон (1872–1943), ушли из жизни как раз в это время. Насколько известно, Х. Сутин вначале уехал из Парижа в небольшую деревню в департаменте Йонна в Бургундии, но позднее с поддельными документами скрывался у друзей в деревне Шампиньи-сюр-Вед близ Шинона. Если верить ее мемуарам, краски для Сутина покупала ставшая позднее знаменитой актрисой Симона Синьоре (Simone Signoret, 1921–1985), взявшая фамилию матери дочь французского офицера еврейского происхождения Андре Каминкера (André Kaminker, 1888–1961)89. Острый приступ язвы желудка вынудил художника срочно вернуться в Париж, куда на крестьянской повозке его доставила Мари-Берта Оренш (Marie-Berthe Aurenche, 1906–1960), бывшая жена Макса Эрнста. Сутин умер от перитонита 9 августа 1943 года и был похоронен на Монпарнасском кладбище под безымянной плитой; М. — Б. Оренш покончила с собой семнадцать лет спустя.
Однако целый ряд художников выжили: Моисей Кислинг, Мане-Кац, Осип Цадкин, Оскар Мещанинов и Марк Шагал смогли добраться до Соединенных Штатов (этому периоду жизни и творчества М. З. Шагала посвящено несколько интересных недавно вышедших публикаций в издающемся в Торонто альманахе «Русские евреи в Америке»90) — и почти все они после окончания войны вернулись во Францию. Владимир Найдич (1903–1980) добрался до Кубы, а позднее — до США, Хана Орлова вместе с сыном и художником Жоржем Карсом смогла найти убежище в Швейцарии — после войны и они, и прятавшийся у швейцарско-итальянской границы Иосиф Хехт (его считали погибшим; в Париже даже прошла выставка его памяти91) вернулись во Францию. Более того, Пинхус Кремень, Лазарь Воловик92, Соня Делоне (урожденная Штерн), Исаак Добринский, Зигмунд Ландау, Леон Зак, Иосиф Прессман, Леон Инденбаум, Вилли Эйзеншитц (был арестован, депортирован и погиб его сын, вступивший в Движение сопротивления) и другие художники восточноевропейско-еврейского Монпарнаса спаслись, скрываясь в различных районах Франции. Михаил Кикоин и Исаак Анчер были интернированы в трудовые лагеря (И. Анчер успел до этого послужить во французской армии, откуда был демобилизован в 1941 году), но смогли выжить — и после окончания войны вернуться к искусству.
Согласно имеющимся свидетельствам93, достоверность которых, по понятным причинам, не может быть полной, Михаил Кикоин скрывался с семьей в пригороде Тулузы; Исаак Добринский два года не выходил на улицу, скрываясь в доме тещи в городке Бержерак на юге Франции, в южной части департамента Дордонь региона Аквитания; Пинхус Кремень — в городке Тюренн в департаменте Коррез в Лимузене, в 430 километрах к югу от Парижа (он жил у одного деревенского жителя и работал в полях, а тулузская галерея снабжала его красками, чтобы он мог продолжать рисовать); Лазарь Воловик во время облав прятался у тещи в Булонь-сюр-Сен (ныне — парижский пригород Булонь-Бийанкур); Соня Делоне (урожденная Штерн) провела годы с 1941 по 1944 в городке Грасс в департаменте Приморские Альпы сравнительно недалеко от Марселя; неподалеку в курортной тиши Сен-Тропе прятался Зигмунд Ландау; Леон Зак скрывался в Аркашоне в Аквитании, Вильфранш-сюр-Мер и в Гренобле в Альпах; Иосиф Прессман прятался от облав в подвалах и даже в шкафах; Исаак Пайлес провел одиннадцать месяцев в сельском сарае; Артур Кольник бедствовал в лагере для интернированных в Верхней Гаронне; Михаил Финк и первый хранитель Еврейского музея Львова Людвиг Лилле участвовали в Движении сопротивления; Морис Блюм в 1939 году поступил добровольцем во французскую армию, а после капитуляции Франции скрывался в регионе Авиньон, где, приняв псевдоним Морис Блонд (который сохранял и в дальнейшем), работал в крестьянском хозяйстве. Поэтому едва ли правы утверждающие, что «после Второй мировой École de Paris не имела ни единого шанса на возрождение, хотя бы потому, что ее еврейская составляющая практически ушла в небытие»94: многие художники выжили и все они продолжили творческую деятельность и после окончания Второй мировой войны, порой — на протяжении нескольких десятилетий.
Последний из живописцев еврейского происхождения «золотого века» «Парижской школы» — Исаак Анчер — пережил ушедшего из жизни раньше всех Амедео Модильяни более чем на семьдесят лет! Модильяни умер от туберкулезного менингита 24 января 1920 года, в тот же день покончила с собой Жанна Эбютерн, находившаяся на девятом месяце беременности. Спустя десять лет, 2 июня 1930 года, в отчаянии покончил с собой в Париже «князь Монпарнаса» Юлиус Паскин. 25 апреля 1931 года умер от инфаркта совсем молодой (ему не было и тридцати трех) Абрам Минчин. 21 декабря 1935 года, как и за пятнадцать лет до этого Модильяни, умер от туберкулеза 38-летний Иссахар-Бер Рыбак. Как уже указывалось, многие художники — хватило, к сожалению, на целую книгу «Депортированный Монпарнас», вышедшую, увы, лишь по-французски95, — погибли в огне Холокоста. Однако среди тех, кто выжил, не все остались во Франции — и этим существенно расширили географию «Парижской школы».
Оскар Мещанинов, уехав в США, во Францию уже не вернулся; он умер в Лос-Анджелесе в 1956 году96. Жак Липшиц, с 1941 года живший в США, в 1946 году приехал в Париж, провел персональную выставку в галерее Maeght и был удостоен ордена Почетного легиона. Однако, расставшись с женой, он вернулся в США и с 1947 года жил в пригороде Нью-Йорка Хастинг-на-Гудзоне. С 1961 года ежегодно проводил лето на собственной вилле в Италии, где и умер в мае 1973 года.
Мане-Кац на склоне лет проводил довольно много времени в Израиле, где и умер в 1958 году; спустя почти двадцать лет, в 1977 году, в его доме в Хайфе был открыт музей, существующий и поныне. Музей Шагала был открыт в 1973 году, еще при жизни мастера, в Ницце, музей Цадкина97 — спустя пятнадцать лет после смерти скульптора, в 1982 году в Париже. В Израиле же в 1968 году умерла Хана Орлова, спасшаяся от Холокоста в нейтральной Швейцарии98.
Эжен Эбиш в 1939 году вернулся в Польшу. Он сменил имя, и ему удалось, скрыв еврейские корни, преподавать в Академии изящных искусств Кракова, которую он в 1945 году возглавил. Позднее он преподавал в Академии изящных искусств Варшавы, принимал участие во многих выставках и умер в 1987 году, перешагнув 90-летний рубеж.
Очевидно, что привычной среды «Улья» после Второй мировой войны уже не было (хотя другие художники продолжали жить и работать в этом здании), но выросшая из «Улья» «Парижская школа», на наш взгляд, просуществовала столько лет, сколько прожили художники, начавшие в «Улье» и вокруг него свой творческий путь в 1900–1910-х годах. По всей видимости, именно кончина И. Анчера в 1992 году, спустя два года после его ретроспективной выставки в галерее Кати Гранофф в столице Франции99, ознаменовала собой конец жизненного пути последнего из художников «золотого века» «Парижской школы».
Нет другой страны, искусство которой подверглось бы столь сильному влиянию художественного мира Франции в XX веке, особенно его первой половине, как Россия. Как уже было сказано, великий русский портретист В. А. Серов прибыл во Францию уже сложившимся мастером, однако и для него знакомство с новой живописью стало вызовом, от которого он не мог отмахнуться, свидетельством чего, в частности, стал натюрморт Анри Матисса, перерисованный В. А. Серовым на заднем плане созданного им изумительного портрета И. А. Морозова100. Целый ряд художников, формирование стилистики которых проходило в непосредственном контакте с живописцами «Парижской школы», которыми, впрочем, были в те годы и они сами, вернулись в Россию, где проработали многие десятилетия, как, в частности, Роберт Фальк, Давид Штеренберг и Натан Альтман. Фактически, именно эти живописцы, в наше время справедливо относимые к числу наиболее значительных российских художников XX столетия, перекинули мостик от первой ко второй волне российского художественного авангарда: кажется очевидным, что именно на почве работ Фалька, Штеренберга и Альтмана в значительной мере выросло искусство Оскара Рабина и Михаила Рогинского, которые, в свою очередь, эмигрировав из СССР, осели именно во Франции. Пусть даже Оскар Рабин указывает, что приехал в Париж в 1978 году уже полностью сложившимся художником, ни одной работы кого-либо из живописцев Монпарнаса никогда не видев101, и сам дух его живописи, и экспрессионистский стиль его письма, и обстоятельства, в которых он оказался, особенно после лишения его советского гражданства, вызывают в памяти очевидные параллели с художниками русско-еврейской диаспоры, оказавшимися во Франции за пятьдесят-семьдесят лет до него.
В 1970–1980-е годы художественный мир Парижа был, разумеется, радикально другим, чем в начале века, однако и тогда галеристы и искусствоведы русско-еврейского происхождения играли значимую роль в знакомстве неравнодушной интеллигентной публики с новым для них искусством. Подобно тому как в 1910–1920-е годы Поль Гийом, Леопольд Зборовский и Йонас Неттер поддерживали и пропагандировали искусство Амедео Модильяни и Хаима Сутина, в 1970–1980-е годы Дина Верни (урожденная Айбиндер, 1905–1991), Александр Глезер и некоторые другие поддерживали Оскара Рабина, Михаила Рогинского, Эдуарда Штейнберга и Владимира Янкилевского и пропагандировали их самобытное искусство. В последние сорок лет, когда, кроме четырех вышеупомянутых живописцев, во Франции обосновались такие крупные художники, как Олег Целков, Эрик Булатов, Юрий Купер, Владимир Кара, Борис Заборов и другие, правомерно говорить о новом, фактически третьем этапе развития «Парижской школы».
Третьем, ибо после Второй мировой войны, когда целый ряд (хотя, к счастью, далеко не все и, насколько можно судить, даже не большинство) живших и работавших на Монпарнасе живописцев были депортированы в нацистские лагеря смерти и погибли, начался второй, «серебряный» век «Парижский школы», среди звезд которого немало художников российского происхождения, в частности Сергей Шаршун (Serge Charchoune, 1888–1975), Андрей Ланской (1902–1976), Николя де Сталь (Nicolas de Staël, 1914–1955), Серж Поляков (Serge Poliakoff, 1900–1969) и, конечно, Соня Делоне, ставшая первой женщиной-художницей, персональная выставка которой прошла в Лувре102. Во второй половине 1970-х годов начался поэтому третий, «бронзовый» век русско-еврейской «Парижской школы».
Каждому из вышеупомянутых художников посвящены многочисленные книги и статьи, изданные к настоящему времени на разных языках; задача же настоящей монографии — попытаться описать и проанализировать ту среду, в которой смогло появиться, окрепнуть, сохраниться и утвердиться их творчество. Среда эта чрезвычайно малоизвестна — и при этом очень мифологизирована.
ГЛАВА 5
ИЗНАНКА МИФА: ТРУДНЫЙ ПУТЬ НОВОГО ИСКУССТВА В МУЗЕЙНЫЕ СОБРАНИЯ ФРАНЦИИ
Не так просто понять, что именно так влекло всех, кто стремился заниматься художественным творчеством, именно в Париж. Французский истеблишмент был не более восприимчив к новым художественным веяниям, чем любой другой, свидетельством чего были решения жюри ежегодного Парижского салона, на протяжении многих лет отвергавшего работы знаменитых сегодня представителей Барбизонской школы и импрессионистов, которым приходилось выставляться отдельно, то в Салоне отверженных, то в Салоне Независимых, что значительно сокращало их возможности продавать свои работы. Особенно сложно представить, что побуждало так рваться во Францию евреев — спустя считанные годы после всплеска антисемитизма, проявившегося в «деле Дрейфуса»103. В 1988 году Альфреду Дрейфусу в Париже поставили памятник в саду Тюильри, в 1994 году перенесенный на бульвар Распай, на который выходит кафе «Ротонда», бывшее вторым домом художников «Парижской школы» в первые два десятилетия XX века, — однако открытие этого памятника не застал даже проживший 98 лет М. З. Шагал, что уж говорить об остальных.
Ил. 28–29. Обложки журнала Le Petit Journal от 23 декабря 1894 г. и 13 января 1895 г., посвященные суду над Альфредом Дрейфусом и его разжалованию
И все же миф о французской столице как покровительнице искусств действовал чарующе; «Париж! Само название звучало для меня как музыка», — вспоминал М. З. Шагал104. Когда же в двадцатитрехлетнем возрасте он сумел оказаться в городе своей мечты, чувства его были совсем, совсем иными: «Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, помешало мне сбежать домой тут же, через неделю и месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться»105.
Вернулся М. З. Шагал из Парижа в Витебск летом 1914 года, прожив в столице Франции почти четыре года. В 1923 году он вновь оказался на Монпарнасе, уже с женой и дочерью, а спустя еще четырнадцать лет даже получил французское гражданство. Покинув Францию в 1941 году, он через семь лет вновь вернулся в эту страну — и на этот раз навсегда. Став всемирно известным художником и будучи удостоенным в 1952 году ордена Почетного легиона, М. З. Шагал имел все основания чувствовать Францию своей страной, особенно учитывая, что в 1969–1970 годах в Ницце был основан его персональный музей.
Но и достигнув всего этого, М. З. Шагал отнюдь не считал Францию «землей обетованной» для художников. В этой связи чрезвычайно показательны советы, которые М. З. Шагал давал своим более молодым коллегам. Впервые приехав в Россию в 1973 году после полувекового перерыва, будучи в Москве в гостях у Георгия Костаки, встречаясь с тогда сравнительно молодыми, хотя уже сложившимися художниками Владимиром Янкилевским и Отари Кандауровым, Шагал спросил: «Почему вы не приезжаете в Париж?» Янкилевский ответил ему: «Знаете, Марк Захарович, это очень сложно, мы можем поехать, но если только навсегда». Тут Шагал встрепенулся: «А вот этого не делайте! Жизнь художника в Париже — очень тяжелая и очень сложная. Я долгое время перебивался... Путь тернистый... О нет... А чем вы здесь занимаетесь?» Янкилевский ответил: «Пишу картины, графикой занимаюсь. Чтобы заработать деньги, делаю иллюстрации в книгах». «А во Франции иллюстрации никому не нужны. Там тот, кто делает иллюстрации, прочно сидит на своем месте. И вы должны ждать, пока он его освободит. А он все не умирает. Вы скорее умрете!» «В общем, — суммировал Г. Д. Костаки, — своих московских собеседников Шагал всячески убеждал, что эмигрировать во Францию не стоит»106.
Многих читателей эта история приводит в недоумение: как же так, ведь именно во Франции находятся лучшие в Европе художественные музеи, именно там собраны лучшие коллекции искусства XIX–XX веков, причем отнюдь не только в Париже, но в самых разных городах страны, — это ли не свидетельство внимания государства к творческим людям и их произведениям?!
Пожалуй, для понимания того институционального контекста, в котором начали свой путь во Франции художники, позднее отнесенные искусствоведами к «Парижской школе», не будет лишним рассказать о том, как возникли эти музеи. Анализ процесса создания художественных музеев во Франции и особенно появления в их фондах произведений современной живописи показывает, что государственные институции этой страны, поддержав саму идею создания общедоступных музеев, сделали крайне мало для того, чтобы произведения живописи и графики второй половины XIX — первой половины XX века, считающиеся сегодня вершиной французского искусства и более всего привлекающие посещающих эту страну туристов, оказались в музейных собраниях. Первый европейский музей современного искусства, позволявший художникам выставляться прижизненно, возник в 1818 году в Галерее в Люксембургском саду в Париже, но статуса государственного музея эта Галерея не имела еще более чем столетие. Общедоступные художественные собрания Франции фактически сформировали отдельные энтузиасты-филантропы и группы инициативных граждан, при большей или меньшей поддержке местных органов власти в разных городах.
Революция, модернизация и появление общедоступных художественных музеев
Жителям современных городов, неотъемлемой частью каждого из которых является как минимум несколько музеев, сложно представить, что до середины XVIII века общедоступных музеев в мире не было вообще. Искусство, разумеется, существовало во все времена, но появление открытых для широкой публики музейных собраний — неотъемлемая часть процессов урбанизации и модернизации двух с половиной последних столетий. Британский музей, открывшийся в 1759 году и принимавший в первые годы своего существования не более десяти тысяч человек в год (для сравнения — в 2014 году его посетили 6 миллионов 695 тысяч человек107), стал первым феноменом подобного рода. Даже чуть раньше, в 1750 году, первое подобие музея появилось во Франции. Это была Галерея в Люксембургском саду в Париже, где экспозиция, состоявшая из 110 картин французских и итальянских мастеров, на два дня в неделю открывалась для публики. Эта экспозиция, бывшая фактически постоянной, оставалась открытой до 1779 года. Однако коллекции французской короны, украшавшие роскошные дворцы и загородные резиденции королей, по-прежнему оставались недоступными для широкой публики. Как справедливо указывает Т. Ю. Юренева, «в условиях необычайного оживления художественной жизни и широкого распространения просветительских идей это вызывало в обществе уже не только порицание, но и негодование»108.
Под влиянием общественных настроений идея создания в Лувре национального художественного музея стала прорабатываться специальной комиссией, созданной Людовиком XVI. Однако завершить свою деятельность открытием музея этой комиссии так и не пришлось: революция 1789 года смела монархию, и национальный музей был создан уже республиканским правительством.
В сентябре 1792 года Конвент принял постановление о создании в Лувре Музея Франции, открытие которого 10 августа 1793 года было приурочено к годовщине провозглашения республики. Однако ко времени его открытия для приема посетителей были готовы лишь Квадратный зал и часть Большой галереи, где экспонировались 537 живописных полотен и 184 предмета скульптуры и прикладного искусства. Три четверти этих произведений происходили из королевских собраний, а остальные прежде принадлежали церкви и эмигрировавшей аристократии. Изначально в каждой из трех десятидневок месяца, которые в новом французском календаре заменили семидневные недели, пять дней предназначались для посещений художников и копиистов, три дня отводились широкой публике и два дня считались «санитарными»109. В мае 1796 года Лувр был закрыт для реконструкции и открылся для публики вновь лишь в июле 1801 года. В период наполеоновских войн с подачи первого директора музея, Доминика Вивана (1747–1825), Луврская коллекция пополнялась военными трофеями; тогда же в музей попали археологические находки из Египта и Ближнего Востока. На протяжении XIX и XX веков коллекция музея многократно пополнялась в результате множества приобретений и даров. При этом в связи с реструктуризацией государственных музеев французской столицы почти все произведения искусства, созданные до 1860-х годов, были в 1970–1980-е годы перенесены из Лувра в музеи Орсе, Оранжери и в Центр Помпиду.
С конца XVIII века и до сегодняшнего дня процесс создания художественных музеев, затронувший как Париж, так и французские провинции, не прекращается, становясь со временем все более интенсивным. Однако возникает вопрос, принадлежала ли центральная роль в этом процессе государству; говоря конкретнее, создавались ли музеи современного искусства благодаря государственной инициативе и поддержке либо же ведущая роль принадлежала неравнодушным гражданам, действовавшим на свой страх и риск. В 1818 году именно в Галерее в Люксембургском саду фактически возник первый европейский музей современного искусства, позволявший художникам выставляться прижизненно, но статуса государственного музея эта Галерея не имела еще более чем столетие! Коллекция, собранная в этой Галерее, в 1986 году была перемещена в открывшийся тогда музей Орсе. В настоящее время музей Орсе, практически полностью посвященный живописи импрессионистов и постимпрессионистов, является одним из самых любимых публикой, в 2013 году его посетили три с половиной миллиона человек. Кроме Орсе, произведения этих художников в большом количестве представлены в музее Оранжери и в постоянной экспозиции Малого дворца. В Париже есть сейчас и два музея современного искусства — в Центре Помпиду и в Токийском дворце, не считая персональных музеев Пабло Пикассо, Осипа Цадкина, Аристида Майоля и других. Необходимо, однако, помнить, что все эти собрания, имеющие государственный статус и финансовую поддержку, возникли лишь в последние десятилетия. Первым музеем современного искусства во Франции правомерно считать именно Галерею в Люксембургском саду (сейчас в ней проходят только временные выставки), при этом следует отметить, что статус государственного музея нового искусства она получила только в 1937 году. Франция не без оснований считается страной, в которой, собственно говоря, и зародилось современное искусство, но до тех пор ни одного государственного музея, посвященного этому явлению, не было. Парадоксальным образом, в Москве на основе коллекций С. И. Щукина и И. А. Морозова в 1918–1919 годах были открыты два государственных музея новой западной (а де-факто — исключительно французской) живописи, объединенные в 1923 году в единый Государственный музей нового западного искусства, просуществовавший до 1948 года. В самой же Франции такой музей появился почти на два десятилетия позже, чем в Москве.
Ил. 30. Галерея в Люксембургском саду, Париж, 2008 г. Фото Алека Д. Эпштейна
До создания такого музея государственные деньги на покупку работ современных художников во Франции практически не выделялись. Более того: даже дар художественных работ Галерее в Люксембургском саду отнюдь не гарантировал их экспонирования. Так, знаменитая «Олимпия» Эдуарда Мане (1832–1883), созданная в 1863 году, вошла в собрание Галереи в Люксембургском саду только в 1890 году, после того как по инициативе Клода Моне друзья художника собрали по подписке двадцать тысяч франков и выкупили полотно у вдовы художника, чтобы принести его в дар государству. Однако чиновники, назначенные государственными распорядителями в музейной сфере, дар этот не хотели принимать. «Мне рассказали, — писала Берта Моризо Клоду Моне, — что некто, чье имя мне неизвестно, отправился к Кампфену [директору Департамента изящных искусств], дабы прощупать его настроение, что Кампфен пришел в ярость, словно „взбесившийся баран“, и заверил, что, пока он занимает эту должность, Мане в Лувре не бывать»110.
В итоге власти после некоторого сопротивления все же приняли дар, но отдали его на хранение в запасники Галереи в Люксембургском саду, и лишь в 1907 году полотно было перенесено в Лувр, причем распоряжение об этом отдал ни больше ни меньше как лично тогдашний премьер-министр страны Жорж Клемансо (1841–1929)111.
Выдающийся живописец Гюстав Кайботт (Gustave Caillebotte, 1848–1894) собрал внушительную коллекцию произведений своих единомышленников, ныне всемирно знаменитых художников-импрессионистов, которая включала шестьдесят восемь картин Камиля Писсарро, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Эдгара Дега, Поля Сезанна и Эдуарда Мане. Г. Кайботт завещал всю эту коллекцию в дар французскому государству, с условием вначале разместить ее в Галерее в Люксембургском саду, а затем передать в Лувр. Но на момент смерти Г. Кайботта импрессионисты все еще были не в чести у французского истеблишмента от искусства, где по-прежнему доминировали академисты. Французское правительство не согласилось принять дар на условиях, оговоренных в завещании Г. Кайботта. Лишь два года спустя, в феврале 1896 года, было заключено соглашение с П. О. Ренуаром, выступавшим в качестве душеприказчика Г. Кайботта, согласно которому тридцать восемь картин разместили в Галерее в Люксембургском саду. Еще двадцать девять картин предлагались французскому правительству дважды — в 1904 и 1908 годах, и оба раза был получен отказ. В итоге большинство оставшихся работ были приобретены Альбертом Барнсом и в настоящее время принадлежат Фонду Барнса в Филадельфии. Еще один дар, включавший целое собрание полотен импрессионистов, а также коллекцию работ Эжена Делакруа, Галерея в Люксембургском дворце получила в 1906 году от искусствоведа Этьена Моро-Нелатона (1859–1927) — но лишь в 1934 году это собрание, включавшее полотна К. Коро, О. Домье, Э. Мане, К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро и других замечательных живописцев, сочли достойным быть переданным в Лувр.
Активная деятельность коллекционеров, каждый из которых стремился расширить свое собрание и обогатить его значимыми работами, встречала горячую поддержку Общества друзей Галереи в Люксембургском саду. Это Общество, созданное в 1903 году по образцу Общества друзей Лувра, возникшего в 1897 году, состояло преимущественно из сторонников современного для того времени искусства. Стремясь расширить музейную коллекцию, Общество предлагало владельцам художественных произведений временно размещать работы в Галерее. Любители искусства, поддерживавшие музеи своим временем и средствами, имели весьма ограниченное влияние на политику этих музеев. Уже после позорной эпопеи с собранием Гюстава Кайботта, в 1905 году Совет по делам музеев отказался принять работу Анри Тулуз-Лотрека (1864–1901), предложенную Обществом в качестве дара. И лишь после Первой мировой войны эта организация, которая возобновила свою деятельность с новыми силами, сумела пополнить коллекцию Галереи многими работами художников, забытых официозной критикой.
В большинстве региональных музейно-художественных учреждений также имелись отделы, посвященные современному искусству. Обычно они пополнялись за счет работ, купленных на парижских салонах, а также в галереях; кроме того, отдельные музеи, обладавшие достаточным бюджетом, сами приобретали работы. Определенная доля картин попадала в фонды по завещанию тех или иных лиц.
Как и Галерея в Люксембургском саду, региональные музеи обычно выставляли современных художников, которые были уже признанными и известными, и поэтому те, кого отвергали столичные салоны, не были представлены и в провинциальных собраниях. Однако, как и в Париже, в других городах нашлись любители искусства, которые, видя безразличие государственных институций к искусству, отходившему от академических канонов, стремились поддерживать тех художников, которые шли нехожеными тропами.
Отдельные работы, от покупки которых отказывались в Париже, попадали в региональные музеи, и среди них были картины самых передовых художников-новаторов середины XIX века. Например, работа Гюстава Курбе (1819–1877) «После обеда в Орнане», где изображены Курбе, его отец и один из друзей художника, слушающие местного скрипача, которая выставлялась на Салоне 1849 года, отправлена в музей Лилля, а картина Жана-Франсуа Милле (1814–1875) «Крестьянка, пасущая корову» 1859 года передана в Бурк-ан-Брес. Полотна Пьера Пюви де Шаванна (1824–1898) «Война» и «Мир» 1861 года увезли в Амьен, где в это время открывался новый музей (в 1867 году художник написал уменьшенные копии этих работ, ныне находящиеся в Филадельфийском художественном музее), а созданная в 1888 году картина «Сентябрьское утро» Альфреда Сислея (1839–1899), едва ли не первая импрессионистская работа, приобретенная государством, была отправлена в музей Ажена. В 1906 году работа Армана Гийомена «Мельница, Бушардон» передана в музей Понтуаза. Г. Кайботт, завещая свою коллекцию государству, прямо указывал, что ни одна из принадлежащих ему работ не должна оказаться «ни на чердаке, ни в провинциальном музее», а только в Галерее в Люксембургском саду или в Лувре, поэтому остается лишь сожалеть, что ни один из шедевров его собрания не смог стать частью региональных музейных собраний, более открытых новаторским течениям французского искусства того времени. В итоге все работы, которые не понимавшие и не ценившие импрессионистов парижские музейные кураторы конца XIX — начала XX века принять отказались, вообще были вывезены из Франции.
Модель «Общества друзей искусства»: создание музеев в Гавре и По
Общества друзей искусства существовали не только в Париже. Ярким примером подобной инициативы, проявленной самими гражданами — ценителями искусств, стало создание музея в городе По на юге Франции, у истоков которого стояло Общество друзей искусства города По, основанное в 1863 году архитектором Шарлем Клеманом ле Кёром (1805–1897)112. Это общество проводило свои салоны, на основе которых Ш. К. ле Кёр основал художественный музей и стал куратором его собрания. Учитывая, что Общество принимало на себя все расходы по транспортировке картин, салоны в По привлекали как художников, уже обретших известность к тому времени, таких как Ж. Б. К. Коро, Н. В. Диаз, А. Ж. Арпиньи или Г. Курбе, так и тогда еще малоизвестных живописцев, среди которых были П. О. Ренуар, К. Моне и А. Сислей. Последние были приглашены племянниками руководителя музея художником Жюлем ле Кёром (1832–1882) и архитектором Шарлем ле Кёром (1830–1906), которые дружили с П. О. Ренуаром и старались поддерживать его заказами. В 1866 году Ренуар создал портрет «Жюль ле Кёр в лесу Фонтенбло», а также «Портрет мадам ле Кёр», в 1870 году — картину «Прогулка в лесу. Мадам ле Кёр и ее ребенок». Идею этого полотна предложил сам П. О. Ренуар в письме к Шарлю ле Кёру: «Спросите свою супругу, не хочет ли она, чтобы я написал с нее портрет в полный рост, на котором она держала бы Жо за руку»; в письме был набросан и эскиз113. В 1868 году Шарль ле Кёр выхлопотал П. О. Ренуару заказ на роспись двух плафонов в особняке, который он построил на бульваре Тур-Мобур для князя Жоржа Бибеско. В 1871 году семья ле Кёр познакомила Ренуара с капитаном Дарра, который заказал художнику портреты свой и жены; оба заказа были выполнены в том же году. Эти отношения продолжались до 1874 года, когда, влюбившись в старшую дочь Шарля (тогда же художник написал его портрет), шестнадцатилетнюю Мари, Ренуар послал ей письмо, которое было перехвачено. На этом семья ле Кёр прекратила общение с П. О. Ренуаром, отказав ему от дома114.
Одним из активных участников Общества друзей искусства города По и организаторов проводимых им выставок был Альфонс Шерфис (1836–1892), поддерживавший товарищеские отношения с Эдгаром Дега (1834–1917). Видную роль в Обществе играл также Поль Лафон (1847–1918), гравер и автор публикаций об испанской живописи от Эль Греко до Гойи. А. Шерфиса и П. Лафона Дега изобразил на своей картине «Ценители», ныне находящейся в Кливлендском художественном музее, куда она поступила по завещанию коллекционера Леонарда Ханна (1889–1957). П. Лафон, у которого Э. Дега нередко гостил, после смерти художника написал одну из первых монографий о его творчестве. Уже в 1878 году музей По приобрел важную работу Эдгара Дега «Контора по торговле хлопком в Новом Орлеане», созданную за пять лет до этого. Братья Эдгара Ашиль и Рене Дега основали в Новом Орлеане фирму по торговле хлопком; Эдгар создал эту картину, побывав там. Это была первая его картина, попавшая в какой-либо музей115, — и пожалуй, трудно найти во всем наследии французского импрессионизма произведение, более отчетливо передающее веяния урбанизации и модернизации.
Таким образом, даже несмотря на географическую удаленность от столицы Франции, ценителям искусства в По, как и их единомышленникам в Гавре, удалось стать частью художественной жизни страны и создать свой собственный салон и музей, которые отражали наиболее передовые тенденции в тогдашней живописи.
В небольшом городе Гавр на севере Франции ценители живописи объединились в общество еще в 1839 году, ставя своей целью «распространение интереса к изящным искусствам, в первую очередь — к живописи, в Гавре». Первым проектом, реализованным Обществом, стала выставка, проведенная в бывшем здании ратуши. Эта выставка оказалась настолько успешной, что члены Общества решились на создание музея. Однако первые шаги были нелегкими, организация была малочисленной и слабой. Спустя пять лет она была распущена, и один из ее активистов, Эмиль Ваннер, с горечью писал: «Среди нас больше людей, любящих искусство, чем мы думаем, однако коммерсанты слишком заняты своими делами, чтобы посвящать много времени интересам, которые затрагивают их лишь косвенно»116. В 1848 году Общество было воссоздано и утвердило программу выставок, что также далось с трудом, потому что городские власти уделяли основное внимание коммерческим проектам. В 1870 году в деятельности Общества наступила длительная пауза: выставка, которая проходила летом, была фактически сорвана из-за политических потрясений, собранных средств оказалось недостаточно для приобретения всех работ, которые Общество хотело купить. Следующая выставка в Гавре состоялась только в 1875 году, она была организована Гаврским исследовательским обществом (Société havraise des études diverses), и только в 1880 году Общество друзей искусства начало регулярную деятельность на основании устава, который был одобрен префектом Нижней Сены (сегодня этот департамент носит название Приморская Сена). С этого времени художественные выставки в Гавре стали проходить каждые два-три года.
Согласно уставу Общества друзей искусства, его деятельностью руководил совет, состоявший из тридцати человек, почетным председателем которого был мэр Гавра. Члены совета составляли три комитета. Комитет во вопросам выставок должен был заниматься вопросами организации временных экспозиций (определять время открытия и длительность проведения выставки, условия отправки работ и размещение картин в залах, приглашать художников, а также готовить издание каталога). Второй комитет занимался сбором денег и организацией художественных лотерей, на которых разыгрывались приобретенные обществом картины. Третьим комитетом было жюри, состоявшее по меньшей мере из пяти членов, которое должно было решить, какие работы принимаются на выставку. Оно же составляло списки работ, которые можно было приобрести, а также проводило с художниками переговоры по этому поводу, одновременно организуя среди членов Общества подписку для сбора необходимых средств. Источниками финансирования деятельности Общества были членские взносы участников, сборы за участие в выставках, лотерейные розыгрыши, а также субвенции, предоставляемые муниципалитетом и властями региона.
Об успехе выставок в Гавре можно судить по количеству участвовавших в них художников — их число, начиная с 1858 года, всегда было близко к тремстам, а порой даже превышало четыреста, в результате чего были установлены ограничения на количество работ одного художника — с 1880 года решено принимать не более трех, а с 1890 — не более двух картин от каждого участника. Интерес к салонам в Гавре, которые отличались высоким художественным уровнем, во многом был следствием того, что сравнительно большое количество работ продавалось практически гарантированно. Результаты успешных продаж публиковались в художественных журналах, и, согласно этим данным, каждое пятое выставлявшееся полотно приобреталось либо Обществом, либо музеем, либо частными лицами. Кроме того, начиная с 1850 года городские власти брали на себя расходы на транспортировку картин в оба конца. Наконец, сами выставки организовывались в период с начала июля по конец октября, когда бальнеологические курорты были полны отдыхающих и привлекали множество иностранцев. Это преимущество гаврских выставок открыто подчеркивалось в приглашениях 1882 года: «Интерес к искусству, который проявляют жители Гавра, а также наплыв туристов, которые посещают этот город, в особенности в период, в который будет проходить выставка, дают художникам уникальный шанс на успех»117.
Общество друзей искусства Гавра несколько раз демонстрировало свою открытость новым течениям, о чем, в частности, красноречиво говорит решение о назначении стипендии Эжену Будену (1824–1898). Решение поддержать молодого художника было принято после того, как он принял участие в первой Гаврской выставке в 1850 году. Э. Буден родился в городке Онфлёр, расположенном в устье Сены напротив Гавра, и в детские и юношеские годы не получил никакого художественного образования. Впоследствии, став известным художником, он вспоминал: «Чего я не смогу никогда забыть, так это того, что именно город Гавр, где я получил образование, вдохновлял меня и обеспечивал на протяжении трех лет»118.
Эта поддержка позволила Э. Будену провести три года в Париже, где он не столько формально учился, сколько общался с более опытными живописцами, посещал музеи и выставки и впитывал в себя художественную атмосферу французской столицы. Ныне его картины находятся в ведущих музеях мира, в том числе в Эрмитаже и ГМИИ на Волхонке. Память же о Гаврском Обществе любителей искусства хранится не только из сентиментальных соображений: большая экспозиция работ, собранных в свое время этим Обществом, развернутая осенью 2012 года в Галерее в Люксембургском саду, позволила достойно оценить этот феномен в историко-культурологической перспективе.
Свои общества друзей искусства существовали в ряде городов, в том числе, например, в Нанте, где оно проводило регулярные салоны с 1890-х до 1914 года, а после Первой мировой войны возобновило свою деятельность. Именно благодаря этим ценителям живописи местный Музей изящных искусств, основанный еще в 1804 году, пополнился работами Поля Синьяка (Paul Signac, 1863–1935) и Рауля Дюфи, а также «Кувшинками» Клода Моне (в версии 1917 года), которые художник подарил Нантскому Обществу в 1922 году.
Модель коллекций, созданных дарителями и меценатами: создание музеев в Клермон-Ферране, Лиможе и Монпелье
Описанная выше «демократическая» модель, где создателями музеев были общества, в деятельности которых принимали участие десятки и сотни людей, фактически вскладчину покупавшие произведения искусства для своих родных городов, была отнюдь не единственной. Целый ряд французских городских музеев появился благодаря отдельным филантропам или меценатам, дарившим или завещавшим свои собрания либо же вносившим денежные средства с конкретно оговоренной целью создания музеев.
В Клермон-Ферране, столице региона Овернь, необходимость образования музея начала обсуждаться в 1822 году, но только 6 октября 1860 года муниципальный совет принял решение создать музей в здании, где уже располагалась библиотека. Отдельного здания музей не имел. Ситуацию изменило завещание местного фармацевта и филантропа Жан-Батиста Баргуэна (1813–1885), разбогатевшего на изготовлении и продаже эрзац-кофе («Сладкий желудь»), в состав которого входили смесь каменного дуба, цикория, ржи и каштана. В своем завещании он оставил двести тысяч франков городу Клермон-Ферран для строительства специализированного здания музея. Но потребовалось еще почти пятнадцать лет, чтобы объявить конкурс на строительство здания музея и подвести его итоги. Еще три года продолжалось собственно строительство. Торжественное открытие нового здания состоялось 11 октября 1903 года.
Изначально, в XIX веке, музей задумывался как исключительно художественный, но после открытия в его экспозицию также включили археологическую коллекцию, содержащую предметы, найденные в окрестностях Клермон-Феррана. Постепенно коллекции росли, и выставочных площадей не хватало. Однако новое здание по проекту архитекторов Клода Гайара и Адриана Фансильбера построили только к 1992 году; открывшемуся в нем Музею изобразительных искусств позже было присвоено имя многолетнего мэра Клермон-Феррана — литературоведа Роже Кийо (1925–1998).
Ил. 31. Обложка каталога парижской выставки из собрания Гаврского общества. Le cercle de l’art moderne. Collectionneurs d’avant-garde au Havre / Ed. Sophie Flouquet (Paris: Réunion des musées nationaux, 2012). На обложке — картина Кеса ван Донгена «Парижанка с Монмартра», 1907/08 г.
На площади шесть тысяч квадратных метров представлена экспозиция музея, насчитывающая около двух тысяч предметов искусства, начиная с периода Средневековья и заканчивая XX столетием. На двух подземных уровнях, открытых для публики в 1999 году, музей представляет коллекцию искусства XX века. Интересно отметить, что большая часть работ этой экспозиции — четыреста произведений живописи, графики и скульптуры, созданных в 1920–1960-е годы, — была передана музею в дар одной супружеской четой — жителями Клермон-Феррана Симоной и Морисом Комбе (Simone et Maurice Combe). Среди этих произведений — замечательные картины Оттона Фриеза (1879–1949), Моисея Кислинга, Бернара Бюффе (1928–1999) и других самобытных живописцев.
Интересна история формирования коллекции музея в Монпелье, носящего имя художника Франсуа-Ксавье Фабра (1766–1837), автора полотен на темы древней истории и мифологии. Ф. — К. Фабр был своим человеком в великосветских кругах и, в частности, дружил с итальянским поэтом и драматургом графом Витторио Альфиери (1749–1803) и его гражданской женой принцессой Луизой Штольберг-Гедернской (1752–1824), вдовой неудачливого претендента на английский и шотландский престол Карла Эдуарда Стюарта. После смерти принцессы Ф. — К. Фабр получил в наследство все ее и графа Альфиери владения, в том числе большую коллекцию картин. Вернувшись в Монпелье, в 1825 году Ф. — К. Фабр подарил родному городу значительную часть этой коллекции, но поставил условие, что его дар положит начало созданию музея, а в особняке, где будет располагаться собрание, создадут необходимые условия проживания для него самого. Городские власти Монпелье согласилась на эти условия. В декабре 1828 года в особняке в историческом центре Монпелье был открыт музей, которому присвоили имя Ф. — К. Фабра. Пока Фабр жил рядом с коллекциями, он выполнял функции куратора и хранителя музея и продолжал приобретать произведения для экспозиции. Щедрость Фабра побудила других горожан последовать его примеру. В частности, Антуан Валедо подарил городу коллекцию голландских и фламандских мастеров. После смерти Ф. — К. Фабра в 1837 году его наследие, составившее более сотни картин и набросков, пополнило коллекцию музея.
С 1868 по 1876 год директором музея им. Фабра был Альфред Брюйа (Alfred Bruyas, 1821–1876), который сам пожертвовал целый ряд работ. К этому дару также добавились картины, переданные согласно его завещанию в 1876 году119. Это было уникальное собрание работ художников второй половины XIX века, чье искусство в глазах тогдашней публики оставалось еще спорным. Конечно, картины художников-академистов, таких как Огюст Глез (1807–1893) и Александр Кабанель (1823–1889), «уравновешивали» новаторские полотна Эжена Делакруа и Гюстава Курбе, которого, кстати, А. Брюйа лично поддерживал (сохранился и портрет А. Брюйа работы Г. Курбе, созданный в 1854 году). В музее в Монпелье находятся пятнадцать произведений Г. Курбе — больше, чем в каком-либо из региональных музеев Франции. Для того чтобы увидеть эту коллекцию, в Монпелье в декабре 1888 года приезжали Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Под влиянием А. Брюйа искусством заинтересовался и его молодой сосед Фредерик Базиль (1841–1870), имевший многообещающее художественное дарование, но погибший в расцвете лет в одном из сражений франко-прусской войны. Семья живописца передала Музею им. Фабра ряд произведений художников-импрессионистов, собранных Фредериком и его братом, Луи Базилем120. В 1870 году Жюль Канонье подарил коллекцию из трехсот рисунков.
Таким образом, уклон коллекции музея Монпелье в сторону живописи модерна является результатом частных инициатив, которые были поддержаны муниципальными властями. Требование Альфреда Брюйа, который сумел настоять на том, чтобы его оставили пожизненным куратором собрания, едва ли было бы принято в Париже. Парадоксальным образом, музеи в регионах давали больше возможностей для независимой художественной и кураторской деятельности121.
В Лиможе городской Музей изящных искусств был открыт в прежнем дворце епископов в 1912 году. Спустя почти столетие здание закрыли на реконструкцию, продолжавшуюся четыре года, но в декабре 2010 года открыли вновь. Музей известен как место, где хранится самая крупная и значительная в мире коллекция знаменитой во всем мире лиможской эмали. (Сто пятьдесят ее образцов хранятся в Эрмитаже; основу этого собрания составили произведения, приобретенные императором Александром III у коллекционера А. П. Базилевского в Париже в 1884 году). Однако кроме собрания эмалей, в музее в Лиможе представлено огромное количество самых разных экспонатов, причем значительное большинство их было получено музеем в дар. Так, древнеегипетская коллекция музея была получена в дар от уроженца Лимузена промышленника Жана-Андре Перишона (1827–1909), скопившего в начале XX столетия значительное состояние на египетских сладостях. Габриэль Тома (1854–1932), крупный финансист, один из основателей Общества по эксплуатации Эйфелевой башни и Театра на Елисейских Полях, подарил Лиможскому музею целый ряд работ, в том числе портрет его детей, написанный в 1894 году Бертой Моризо, и замечательный цикл «Заповеди блаженства», созданный в 1915 году основателем группы «Наби» Морисом Дени (1870–1943). Художники-набиды создали своеобразный вариант стиля модерн, их творчество близко литературному символизму и характеризуется главенством цветового начала, декоративной обобщенностью форм, мягкой музыкальностью ритмов, плоскостной стилизацией мотивов искусства разных народов. Эпоха модерна вообще, а во Франции — в особенности, отличалась очевидным усилением секуляристских тенденций, а потому первоклассный цикл живописных работ, созданных лидером одной из важнейших художественных групп этой эпохи на христианские сюжеты, от которых и эпоха в целом, и большинство ее художников скорее отворачивались, не может не привлекать внимания. Из работ художников «Парижской школы» особый интерес вызывают работы Давида Видгофа (1867–1933) и Сюзан Валадон (Suzanne Valadon, 1865–1938).
Ил. 32. Музей изящных искусств Лиможа, 2013 г. Фото Андрея Кожевникова
В художественном собрании Лиможского музея немалую роль играет и краеведческий компонент. В музее широко представлены работы уроженца Лиможа Пьера Огюста Ренуара, переданные художником в дар родному городу (в котором он, впрочем, прожил лишь первые четыре года жизни): в частности, в 1900 году он подарил музею портрет своего сына Жана, в 1916 году — портрет актрисы театра «Комеди Франсез» Колонны Романо. Еще один замечательный художник-импрессионист, много работ которого представлено в этом музее, — лидер крозанской школы живописи Арман Гийомен (Armand Guillaumin, 1841–1927). Этот уроженец Парижа, несколько десятилетий очень нуждавшийся, в 1891 году выиграл в лотерею огромную по тем временам сумму в сто тысяч франков, после чего проводил больше времени среди чарующих пасторальных пейзажей в долине реки Крёз, чем в столице.
Ил. 33. Художественно-археологический музей г. Гере. Афиша выставки работ художников, работавших в долине р. Крёз в 1830–1930 гг., 2013 г. Фото Алека Д. Эпштейна
Художественный музей, однако, существует не только в Лиможе, но и непосредственно в столице департамента Крёз городе Гере, и работы художников крозанской школы там широко представлены и в постоянной экспозиции, и на организуемых ежегодно выставках. В 2007 году музей в Гере провел монографическую ретроспективу Армана Гийомена, выпустив к ней небольшой альбом-каталог. Представлены там и работы уроженца Крёза изумительного художника-постимпрессиониста Андерса Остерлинда (Anders Osterlind, 1887–1960), отец которого, тоже художник, переехал в эти места из Швеции.
Интересно, что создание музея в Гере было результатом деятельности возникшего в 1832 году Научного общества Крёза: на первом этапе это был музей природы, который затем дополнили археологические коллекции, и только потом — собрание живописи. И поныне музей называется художественно-археологическим (Le Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret), располагаясь в самом красивом дворцово-парковом ансамбле в городе. Из работ художников «Парижской школы» наибольший интерес в этом собрании вызывает психологический портрет кисти Моисея Кислинга.
Вклад отдельных дарителей в формирование собраний описанных выше музеев был решающим, и это явление становилось типичным, а не исключительным: музеи во французских городах, появившиеся и развивавшиеся в республиканскую эпоху, создавались усилиями частных лиц, ценивших искусство, а не государственными органами. Некоторые города принимали пожертвования, которым могла бы позавидовать и столица — например, Руан в 1909 году получил коллекцию живописи семьи Депо (Depeaux), а Реймс за два года до этого унаследовал собрание Анри Ванье (1832–1907), включавшее в себя и ряд работ Жана Батиста Камиля Коро (1796–1885). Впрочем, и коллекции парижских музеев пополняли главным образом меценаты. Достаточно упомянуть о даре Исаака де Камондо (1851–1911), завещавшего Лувру свою потрясающую коллекцию французской живописи, включавшую, в частности, тридцать картин Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Клода Моне, Поля Сезанна и других художников-импрессионистов и постимпрессионистов. Сейчас экспонаты этого собрания разделены между Лувром и музеем Орсе.
Восторженные отзывы миллионов посетителей музеев Орсе, Оранжери, Центра Помпиду и экспозиции современного искусства в Токийском дворце, а также всех тех, кто посещает прекрасные художественные собрания в регионах, не должны затушевать тот факт, что государственные институции Франции, поддержав саму идею создания общедоступных музеев, сделали крайне мало для того, чтобы произведения живописи и графики второй половины XIX — первой половины XX века, считающиеся сегодня вершиной французского искусства и более всего привлекающие посещающих эту страну туристов, оказались в музейных собраниях. Тому, что в музеях Франции можно увидеть работы Э. Мане, Э. Дега, К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро, Э. Будена, Ф. Базиля, М. Утрилло, Р. Дюфи, А. Матисса и других живописцев, считающихся сегодня славою и гордостью французской культуры, мы обязаны не государственным ведомствам и академическим кураторам, а чуткости, настойчивости и пророческому дару ценителей искусства, за свои деньги, на свой страх и риск и зачастую преодолевая немалое сопротивление со стороны профессиональных кураторов и бюрократии, покупавших эти полотна и даривших их при жизни или по завещанию музеям родной страны. Общедоступные художественные собрания Франции фактически сформировали отдельные энтузиасты-филантропы и группы инициативных граждан, при некоторой поддержке муниципалитетов в разных городах. Государственные институции стали играть в этом процессе ведущую роль лишь в последние десятилетия.
Тогда же, когда на Монпарнасе начали селиться художники, которых позднее стали объединять как принадлежащих к «Парижской школе», ни одного государственного музея современного искусства во Франции не было, не существовало и каких-либо творческих стипендий и резиденций. Уроженец Вильно скульптор Лев Семенович Бернштейн-Синаев (1867–1944), погибший в возрасте семидесяти семи лет в концлагере Дранси, не успев быть отправленным оттуда в Освенцим, не зря говорил в 1912 году художнику Амшею Нюренбергу, писавшему тогда статьи об искусстве для эмигрантской газеты «Парижский вестник»: «Париж вас обязательно изменит. Вы не первый и не последний. <...> Если вы себя считаете честным критиком, напишите о творческих страданиях, которые молодой скульптор здесь переживает. О борьбе, которую он здесь ведет, чтобы не погибнуть. Это страшная борьба. Понимаете?»122 Сам А. М. Нюренберг получал тогда от пяти до семи франков за текст; как сформулировал он сам, «полюбившая меня неодолимая нужда заставляла ежедневно работать маляром в отелях»123. Впрочем, и это удавалось делать не всегда; в другой главе своих воспоминаний художник писал: «Мы ищем малярную работу, но ее очень трудно найти»124.
Ил. 34. Обложка книги Амшея Нюренберга «Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника» (М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2010). На обложке — картина А. Нюренберга «Дворик музея Клуни», 1927 г.
Проще сказать, чем художники «еврейского Монпарнаса» не занимались, нежели перечислять, как каждый из них пытался заработать себе на хлеб. Леон Вейсберг играл в кабаре на скрипке, Файбиш-Шрага Царфин освоил профессию мастера по изготовлению туфель, Исаак Александр Френель подрабатывал грузчиком, а Давид Гарфинкель устроился ретушером в фотостудию. Пережив Вторую мировую войну и Холокост, Давид Гарфинкель по-прежнему не мог обеспечить себя и свою семью (у них с супругой было трое детей) искусством, поэтому открыл в начале 1950-х годов фотостудию в парижском квартале Бельвиль. В дальней части фотостудии, где художник принимал клиентов, желающих сделать снимки на документы, он обустроил мастерскую — и там урывками рисовал125.
Доктор Островский, к которому Амшея Нюренберга отвел Оскар Мещанинов в связи с подозрением на начинавшийся туберкулез, показал ему висевшие на стенах его клиники картины: «Все это работы сгоревших в Париже молодых жизней... Погибшие мечты и умершие иллюзии...»126 А. М. Нюренберг называл и имена этих художников: Матинский, умерший непосредственно в «Улье», Тихонов, Лакшин, Ржевский... Сегодня их имена и работы никому не известны и нигде не упоминаются.
Широкую известность получили парижские художественные салоны, хотя мало кто знает, сколько их было, когда они возникли и чем отличались друг от друга. Грандиозный по размаху Салон Елисейских Полей, основанный в 1881 году Обществом французских художников, ежегодно демонстрировал достижения европейского академического искусства. Ему в определенной степени противостоял созданный в 1884 году импрессионистами Салон Независимых. Выставки «Независимых» проводились весной каждого года во временных павильонах на набережной Сены. В 1890 году возник Салон Марсова поля, устраивавшийся Национальным обществом изящных искусств, а в 1903 году — Осенний салон, который располагался на Елисейских Полях, в Большом или Малом дворцах, оставленных в Париже Всемирной выставкой 1900 года. Все эти салоны возникли лишь в последние десятилетия XIX века; когда во Франции зародился и расцвел импрессионизм, ни один из них еще не существовал, а их появление было результатом самоорганизации профессионального сообщества, а не инициативой органов государственной или муниципальной власти.
В столице Франции в те годы работало не так мало художников — выходцев из России, и в декабре 1877 года в этом городе даже возникло Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников, в 1896 году сменившее название на Общество русских художников в Париже, которое последовательно возглавляли академик Императорской академии художеств художник-маринист Андрей Боголюбов (1824–1896) и салонный живописец-портретист Алексей Харламов (1840–1925). Вплоть до 1917 года это общество находилось под опекой властей Российской империи и получало от Кабинета Его Величества ежегодную финансовую помощь127. При этом никто из художников-новаторов никакого отношения к этому обществу не имел.
Не имели они отношения и к «Русскому артистическому кружку», известному также как «кружок Монпарнас», возникшему в 1903 году по инициативе художниц Ольги Николаевны Мечниковой (1858–1944) и Елизаветы Сергеевны Кругликовой (1865–1941), который собирался в ателье Е. С. Кругликовой на улице Буассонад, 17. В деятельности этого кружка принимали участие Максимилиан Волошин, Николай Тархов, князь Александр Шервашидзе, скульптор Анна Голубкина и другие, но ни Шагал, ни Мане-Кац, ни Хаим Сутин никогда его не посещали.
Ил. 35. Обложка каталога выставки, посвященной Елене Эттинген, прошедшей в 2016 г. в парижской галерее «Минотавр». Férat, Survage, Angiboult — Chez la Baronne d’Oettingen — Naissance d’une avant-garde (Paris: Editions Le Minotaure, 2016)
Мест встречи деятелей культуры, развивавших новое искусство, где бы выходцы из России во Франции не чувствовали себя «бедными родственниками», было очень мало. Одним из немногих мест, где в 1910-е годы встречались представители русской и французской артистической богемы, был салон баронессы Елены Францевны Эттинген (Hélène Oettingen, 1887–1950), работавшей под псевдонимом Франсуа Анжибу. Ее особняк на бульваре Распай посещали Пабло Пикассо, Леопольд Сюрваж, Осип Цадкин, Андре Сальмон, Гийом Аполлинер и другие. Домашний салон баронессы Эттинген фактически был местом встречи авторов и редакторов литературно-художественного журнала Les soirées de Paris [«Парижские вечера»], который издавался в 1913–1914 годах Сержем Фера (псевдоним Сергея Николаевича Ястребцова, 1881–1958) под редакцией Гийома Аполлинера (псевдоним Вильгельма Аполлинария Вонж-Костровицкого, 1880–1918). Журнал публиковал иллюстрированные статьи о художниках парижского авангарда, имел подписчиков и в России, содействовал распространению передовых художественных идей128.
После Первой мировой войны баронесса Эттинген принимала деятельное участие в организации салона, где выходцы из России и других стран, а также уроженцы Франции вели дискуссии, готовили публикации и выставки вместе и на равных. Получивший название «Золотое сечение», этот салон стал одним из центров развития кубизма. В его работе принимали участие Франсис Пикабия, Альбер Глез, Жорж Брак, Фернан Леже, а наряду с ними — выходцы из Российской империи Александр Архипенко, Леопольд Сюрваж, Александра Экстер и Софья Левицкая (1874–1937). В 1920 году общество провело групповую выставку в галерее La Boétie, в которой также приняли участие Мария Васильева, Наталия Гончарова и Михаил Ларионов129.
Второй такой открытой площадкой была основанная в 1910 году Академия Марии Ивановны Васильевой (1884–1957), прибывшей в Париж в 1905 году на стипендию вдовствующей императрицы Марии Федоровны и учившейся, в частности, в студии Анри Матисса. Изначально она называлась «Русская академия» (Académie russe) и располагалась на Монпарнасе по адресу: avenue du Maine, 54. Это было не столько учебное заведение, сколько коллективная учебная мастерская для художников и скульпторов, замышлявшаяся как демократическая артель художников всех направлений и национальностей. Некоторые художники из России, участвовавшие в Осеннем салоне и Салоне Независимых, в том числе Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Александра Экстер, Давид Бурлюк и другие, указывали в качестве своего парижского адреса именно адрес Русской академии. Первоначально старостой и фактическим руководителем ее была Мария Васильева, но в связи с возникшим внутренним конфликтом она ушла130 и в феврале 1912 года организовала в своей мастерской на avenue du Maine, 21, так называемую Свободную академию, которую называли также Академией Марии Васильевой. Эта институция кардинальным образом отличалась от других: открытая для всех художников, она существовала на принципах свободной творческой работы, без преподавания. В проходивших в Академии Марии Васильевой лекциях и диспутах наряду с художниками и литераторами — уроженцами России принимали участие самые яркие парижские художники-новаторы того времени, в том числе Анри Матисс, Пабло Пикассо, Диего Ривера, Фернан Леже, Жорж Брак и другие131. В дни Первой мировой войны, а затем еще раз после 1924 года Мария Васильева, открывшая общедоступную столовую, в буквальном смысле слова спасала от голода многих художников. В 1998 году выставкой «Мария Васильева в своих стенах» в помещении ее мастерской на авеню du Maine, 21, был открыт Музей Монпарнаса.
Ил. 36. Здание бывшей Академии Марии Васильевой на Монпарнасе. Фото Андрея Кожевникова
Желаемое за действительное выдает В. Ф. Ершов, утверждая, будто «после открытия Всемирной выставки 1937 года и организации первого во Франции Музея современного искусства французские музеи стали проявлять активный интерес к произведениям российских художников». Равным образом лишен фактической базы его тезис о том, будто «в современной Франции престиж русского искусства является весьма высоким, и ее власти уделяют все больше внимания задачам его собирания и сохранения»132. В действительности в многочисленных парижских музеях российское искусство представлено крайне бедно, за исключением тех немногих творивших во Франции художников и скульпторов, которые вошли в общемировой канон, — Марка Шагала, Хаима Сутина и Осипа Цадкина. Что же касается остальных, будь то эстеты-академисты из «Мира искусства» или экспрессионисты «еврейского Монпарнаса», такие многогранные художники, как Михаил Ларионов и Наталия Гончарова, или незаурядные живописцы третьей эмиграции Оскар Рабин или Михаил Рогинский, то их работ во французских музеях почти нет.
Органы государственной власти Франции никоим образом не могут считать расцвет «Парижской школы» своей заслугой. Этих художников и их творчество годы становления их таланта и выработки ими своего художественного языка поддерживали лишь отдельные филантропы и ценители, многие из которых сами были иммигрантами.
ГЛАВА 6
ПЕРВЫЙ ФИЛАНТРОП: АЛЬФРЕД БУШЕ И ЕГО «УЛЕЙ»
В 1895 году скульптор Альфред Буше (Alfred Boucher, 1850–1934), популярный портретист представителей светского общества, на средства, полученные им за выполненные им бюсты короля и королевы Румынии, приобрел участок земли площадью пять тысяч квадратных метров на тогдашней южной окраине Парижа Монпарнасе (в настоящее время этот район находится практически в центре французской столицы). Не имея конкретного плана, скульптор начал с того, что построил небольшой деревенский домик и несколько маленьких студий, предназначенных для художников. Однако после Всемирной Парижской выставки 1900 года его проект приобрел размах. После закрытия выставки А. Буше приобрел один из подлежащих разбору павильонов — ротонду, спроектированную в мастерской инженера Гюстава Эйфеля. Восьмиугольная, с крышей в виде китайской шапки, делавшей ее похожей на улей, ротонда винного павильона представляла собой металлическую архитектурную конструкцию, очень модную в ту эпоху, когда еще не использовался железобетон. Альфред Буше установил ее у входа на свою территорию, оставив между ней и тупиком Данциг лишь небольшой дворик, обнесенный оградой. Вход в ротонду, сразу получившую название «Улей», по бокам украшали две кариатиды, снятые с павильона Индонезии.
Альфред Буше сам прошел путь из социальных низов в высшее общество. Он родился в бедной семье садовника неподалеку от городка Ножан-сюр-Сен в департаменте Об к востоку от Парижа. Отец Альфреда ухаживал за садом местного скульптора Жозефа-Мариуса Рамю (Joseph Marius Ramus, 1805–1888), автора статуи королевы Анны Австрийской, установленной в Люксембургском саду. Иногда папа-садовник брал с собой на работу сына, который загорелся желанием стать скульптором. Альфред учился в парижской Школе изящных искусств, откуда в статусе одного из самых способных и перспективных студентов был направлен стажироваться во Флоренцию и вернулся на родину уже признанным мастером.
Монпарнас в то время переживал строительный бум: заметно оживились улицы, а строительство новых зданий вызвало интенсивное движение грузового транспорта. По свидетельству Осипа Цадкина, «Монпарнас в то время представлял собой обширную строительную площадку, вверенную землекопам и каменщикам»133. Маляры, штукатуры и другие строительные рабочие пополнили собой первичный контингент баров, состоявший из кучеров, конюхов и перевозчиков, доминировавших на Монпарнасе в прежние годы. Тогда же в этом районе — прежде от искусства весьма далеком — появились и первые художники.
Альфред Буше хорошо помнил тяжкое время своего дебюта и был убежден в том, что для размышлений и творчества необходима «спокойная обстановка». Став состоятельным человеком, он решил использовать свое состояние и влияние, чтобы помогать начинающим художникам. Он задумал уникальный проект — создание общежития для молодых художников, где у них будет крыша над головой за минимальную плату. Внутри открытого в 1902 году «Улья» были сделаны 24 мастерские (те, кто жил на последнем этаже — как, скажем, Марк Шагал, — вдобавок располагали балконом под крышей, служившим еще одной комнаткой); рядом с ротондой соорудили еще несколько строений, предназначенных для художников, которые состояли в браке и имели детей. Вскоре количество жителей «Улья» достигло 140 человек.
Ил. 37. Альфред Буше в своей студии, ок. 1900 г. Фотограф неизвестен
Ил. 38. «Улей», 1918 г. Фото воспроизведено в книге: Парижская школа. 1905–1932 (М.: ГМИИ им. Пушкина, 2011. С. 6)
«Улей» представлял собой своеобразную колонию, занимавшую территорию около пяти тысяч квадратных метров. В главном доме мастерские располагались на каждом этаже кругом коридора, опоясывавшего здание изнутри. Все двери были обозначены литерами: A, B, C и т. д.
«Улей» послужил пристанищем Марку Шагалу, Осипу Цадкину, Александру Архипенко, Жаку Липшицу, Михаилу Кикоину, Пинхусу Кременю и целой когорте художников. При этом, как указывает Ж. — П. Креспель, ни Хаим Сутин, ни Амедео Модильяни, чьи имена всегда ассоциируются с «Ульем», никогда не числились его жильцами. Они часто туда приходили и, когда не имели собственной мастерской, порой надолго оставались гостить у Исаака Добринского, Леона Инденбаума и Оскара Мещанинова134. Хотя арендная плата в «Улье» действительно была минимальной (около 50 франков в год), были те, кто не платил и ее — и Буше прощал их. Так, Осип Цадкин прожил в «Улье» три года, после чего съехал, ничего не заплатив135.
К сожалению, непосредственных воспоминаний об «Улье» тех, кто жил в этом фаланстере до Первой мировой войны, почти нет; многократно цитировавшиеся в отечественной литературе в разных переводах136 слова Марка Шагала приходится приводить вновь за неимением других аутентичных свидетельств:
«Ульем» называлась сотня крошечных мастерских, расположенных в сквере возле боен Вожирар. Здесь жила разноплеменная художественная богема. В мастерских у русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев пели под гитару, у евреев жарко спорили, а я сидел один, перед керосиновой лампой. Кругом картины, холсты — собственно, и не холсты, а мои скатерти, простыни и ночные сорочки, разрезанные на куски и натянутые на подрамники.
Ночь, часа два-три. Небо наливается синевой. Скоро рассвет. <...> Я просиживал до утра. В студии не убиралось по неделям. Валяются багеты, яичные скорлупки, коробки от дешевых бульонных кубиков. Не угасает огонь в лампе — и в моей душе. Лампа горит и горит, пока не поблекнет фитилек в утреннем свете. Тогда я забирался к себе на чердак... и заваливался спать. Попозже утром непременно являлась прислуга, непонятно зачем: то ли прибраться в студии (это обязательно? только не трогайте ничего на столе!), то ли просто посмотреть на меня. На дощатом столе были свалены репродукции Эль Греко и Сезанна, объедки селедки — я делил каждую рыбину на две половинки, голову на сегодня, хвост на завтра — и — Бог милостив! — корки хлеба. <...> Картин моих никто не покупал. Да я и не надеялся, что их можно продать137.
Ил. 39. Обложка книги Доменика Польве, посвященной феномену «Улья». Dominique Paulvé. La Ruche. Un siècle d’art à Paris (Paris: Gründ, 2012)
Марк Шагал жил в «Улье», но он не был типичным его жильцом. Уединенный образ жизни М. Шагала в «Улье», предпочитавшего шумным компаниям сосредоточенную работу в своей мастерской, вспоминал Исаак Лихтенштейн (1883–1981):
В годы перед Первой мировой войной «Улей» был пристанищем нескончаемого потока художников, устремившихся из разных углов Европы в Париж — художественную Мекку и Клондайк современной цивилизации. Примерно в 1912 году в этом течении прибился в «Улей» и Марк Шагал. Юный, бледный, с вьющимися русыми локонами и светлыми детскими глазами. Он поселился в «Улье» и жил там в соответствии с символическим названием колонии — он был там самой работящей пчелой. «Улей» жужжал день и ночь. Там дискутировали, что-то доказывали друг другу, пели и шумели. Шагал же усердно работал, не включая свой голос в непрерывно рокочущий гул споров молодых темпераментных энтузиастов. Иные бывают пьяны от вина или любви, Шагал же был опьянен своим искусством. Его никто не видел, его никто не слышал. Просто было известно, что там, в мастерской на последнем этаже, под одной стеклянной крышей со всеми крикунами, живет и он — тихий, мечтательный, уступчивый. Он пишет свои странные картины на огромных простынях или на случайных крошечных обрезках холстов. Он украшает Эйфелеву башню кошерными еврейскими гротесками или выводит невиданную зеленую еврейку на шумные парижские бульвары. Никому из обитателей «Улья» Шагал не мешал, ни словом, ни поступком. Если же, наоборот, кто-нибудь мешал ему тихо работать или отдыхать, то, чтобы успокоить жужжащую ораву в соседней мастерской, хватало старых изношенных ботинок, которыми так приятно бросить в стену138.
Внучка Марка Шагала Мерет Мейер-Грабер опровергает мнение о том, что жившие в «Улье» художники работали вместе, бок о бок. «В действительности все было совсем иначе. Они избегали друг друга и с ревностью относились к клиентам [потенциальным покупателям работ], которые приходили не к ним». По ее словам, когда М. З. Шагал жил в «Улье», «покупатели ходили не к нему, а к другим художникам, и это приводило его в отчаяние»139.
В «Улье» царила бедность и отсутствовали минимальные удобства: не было не только электричества и отопления, но даже водопровода; туалет тоже был на улице. Амшей Нюренберг вспоминал, как Пинхус Кремень рассказывал ему: «Прихожу однажды в „Ля Риш“ к Сутину. Открываю дверь и вижу: на полу, на газетах спят Сутин и Модильяни. Спрашиваю: что случилось? Почему вы спите не на диване, а на полу? „Клопы заели“, — с грустью ответил Сутин»140. Сам А. М. Нюренберг, имевший с М. З. Шагалом в «Улье» одну печку на двоих, честно признавал, что на Париж они «глядели как на высокомерного врага»141.
О крайней бедности в «Улье» свидетельствовал и Пинхус Кремень:
Да, в ту пору в Ля Рюш было много русских художников, и между нами царило настоящее братство. В те времена мы много ходили пешком, и случалось, от Ля Рюш или от Порт де Версай шли до бульвара Сен-Мишель, чтобы разыскать там товарища и занять у него франк или пятьдесят сантимов... Когда нам перепадали какие-то деньжата, мы делились со всеми соседями. Питались мы маленькими белыми булочками, запивая их чаем, как это принято у русских. От полной нищеты нас часто спасал Модильяни. Он рисовал чей-нибудь портрет, продавал его и давал нам денег. На Монпарнасе у художников был еще один друг — Либион, бывший владелец Ротонды, славный и добрый человек. Когда мы очень бедствовали, он покупал у нас картины142.
Будущий нарком ленинского правительства А. В. Луначарский, посетивший «Улей» в 1912 году, описал его как «Вавилон номер два... который сооружен из рухляди и остатков разрушенных зданий, приспособлен к потребностям бедного художника и дает приют доброй сотне молодых людей, ведущих отчаянную материальную борьбу с жизнью»143.
Альфред Буше очень стремился, чтобы созданный им фаланстер выглядел достойно: в саду росли фруктовые деревья, каштаны, цвели кусты роз, а в феврале 1905 года при «Улье» была открыта своя картинная галерея, где прошла первая выставка. Затем там же был основан полулюбительский-полупрофессиональный театр со ступенчатыми трибунами на триста человек. Главной целью папаши Буше (так звали его многие художники в то время) являлось создание настоящего культурного центра — и на всем протяжении до начала Первой мировой войны «Улей» таковым и был.
Тот факт, что в «Улье» жили многие художники еврейского происхождения, сам по себе не является свидетельством того, что они хотели развивать там именно еврейское искусство. Очевидно, что глубинные основы творчества Хаима Сутина, Пинхуса Кременя, Михаила Кикоина, Давида Гарфинкеля и многих других невозможно понять, игнорируя их этническое происхождение, а также духовные и конфессиональные основы жизни семей, в которых они выросли. Но очевидно и то, что иудейская традиция не была фактором, предопределившим выбор ими своего пути. Большинство из них хотели быть художниками, оставляя вопросы национальной и конфессиональной самоидентификации за скобками своего профессионального выбора.
Вместе с тем, и об этом важно не забывать, в стенах «Улья» возникла группа художников, поставившая своей целью именно развитие еврейского искусства. В эту группу, выбравшую себе название «Махмадим» [приблизительный перевод с иврита — «драгоценности», «изысканные, дорогие вещи»], входили Лео Кениг (его настоящее имя Арье-Лейб Яффе, 1889–1970), Иосиф Чайков (1888–1986), Марек Шварц (1892–1958), Беньямин-Зеэв Равицкий (1890–1970), Исаак Лихтенштейн и позднее погибший в Освенциме Анри (Хенрик) Эпштейн. Все они были выходцами из Российской империи, причем двое из них — Исаак Лихтенштейн и Лео Кениг — уже имели за плечами опыт учебы в художественной школе «Бецалель» в Иерусалиме, а Б. — З. Равицкий, позднее ставший известным израильским художником под именем Зеэв Рабан, иммигрировал в Палестину/Эрец-Исраэль и присоединился к коллективу «Бецалель» в 1912 году. Говоря об участниках этой группы, Лео Кениг отмечал, что «они все уже были наполнены дыханием нового национального и народного сознания и в меру своего личного таланта и еще не сформировавшихся способностей были готовы выразить эти национальные настроения в чисто художественных формах (а не только изображая соответствующие костюмы и обычаи, как это делало старшее поколение еврейских художников-жанристов и скульпторов)»144.
В 1912 году художники группы «Махмадим» изготовили вручную способом стеклографической печати несколько (точное их число неизвестно, но их было не меньше пяти) журналов-альбомов под тем же названием, где были представлены образцы их графических произведений; никаким текстом эти работы не сопровождались. Сшиты и склеены номера этого журнала были в «Улье», где члены группы «Махмадим» снимали мастерские, самостоятельно или вскладчину с друзьями. По воспоминаниям Лео Кенига (других свидетельств об этой инициативе не сохранилось), более других «в деле технического изготовления журнала-альбома» были заняты Иосиф Чайков и Исаак Лихтенштейн, который сшивал номера журнала шелковыми нитками.
«Напечатать журнал стоило денег, но у художников в „Ла Рюш“, иногда прямо-таки „художественно“ голодавших, деньги в те годы редко водились, — напоминал Л. Кениг. — Но даже и в тех небольших расходах, которые требовались на журнал без текста, нам, как мне помнится, помог Наум Аронсон — ему тогда сопутствовал успех и он стал известен в Париже»145.
Родившийся в Креславке Витебской губернии скульптор и график Наум Львович Аронсон, про которого Лео Кениг пишет, что он «старался помогать молодым художникам», хорошо помнил, как начиналась его парижская жизнь: 31 декабря 1896 года он упал в обморок от истощения, скатившись при этом с лестницы.
А вот живший в том же «Улье» Марк Шагал в группу «Махмадим» не входил и в ее журнале-альбоме участия не принимал. В своем очерке «Листки», опубликованном в Москве в 1922 году на языке идиш, Марк Шагал в весьма саркастическом ключе описал обсуждения, в которых участвовали, по всей видимости, именно участники группы «Махмадим», озабоченные вопросом создания еврейского искусства:
Как-то, в бытность мою в Париже, я сидел в своей комнатушке в «Улье», где у меня была мастерская, и услышал за перегородкой голоса еврейских эмигрантов. Они спорили: «Так что ты думаешь, разве Антокольский в конце концов не еврейский художник? Или Израэльс, или Либерман?» <...> Когда над парижским небом стал заниматься рассвет, я от души посмеялся над досужими рассуждениями моих соседей о судьбах еврейского искусства. «Ну ладно, вы еще поговорите — а я пока поработаю»146.
Ил. 40. Занятие в художественной школе «Бецалель», класс художника Абеля Панна (крайний справа), Иерусалим, 1912 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
Позднее именно Марк Шагал стал для всего мира символом современного еврейского художника, но когда в самом начале 1910-х годов велись горячие обсуждения того, каким быть еврейскому искусству, каковы его цели, ценности и задачи, он в них не участвовал.
«Шагал, ставший позднее украшением и гордостью еврейских художественных журналов, не принимал участия в первом еврейском журнале такого рода, который был сделан у него под носом, на расстоянии нескольких дверей от двери его мастерской в „Ла Рюш“», — сокрушался Лео Кениг147.
Группа «Махмадим» и ее альманах оказались очень недолговечными. Увлеченность ее членов программами развития национального искусства, вероятно, превышала их творческий потенциал. При этом не нашлось ни одного галериста, который был бы готов продвигать их работы на арт-рынке, и ни одного искусствоведа или просто обозревателя, готового писать о них. Эти подвижники прокладывали путь национального искусства раньше, чем возникли национально-культурные институции, готовые их поддержать. Б. З. Равицкий эмигрировал в Палестину/Эрец-Исраэль, И. М. Чайков в 1914 году вернулся в Россию, а М. Шварц — в Польшу (в Париже он вновь оказался в 1920 году, и там перешел в католицизм). Первая мировая война разрушила отнюдь не только атмосферу «Улья», бывшего в то время, пожалуй, единственным местом во всей Западной Европе, где разговоры, подобные тем, которые вели меж собой участники группы «Махмадим», вообще могли иметь место.
Биография Альфреда Буше никогда прежде не была связана ни с Россией, ни с еврейским народом, но именно он, скорее всего, совершенно неожиданно для себя самого (до нас, к сожалению, не дошли никакие свидетельства его саморефлексии по этому поводу), создал гавань, позволившую многим молодым людям, преимущественно выходцам из Российской империи и в основном евреям, заниматься художественным творчеством, став позднее куда более известными, чем был он сам. Искусство самого Альфреда Буше сегодня практически забыто, однако его имя как первого большого филантропа тогда еще только начинавшей формироваться «Парижской школы» осталось — и будет оставаться — в памяти многих поколений.
ГЛАВА 7
ПЕРВЫЕ ЦЕНИТЕЛИ: БЕРТА ВАЙЛЬ, ЛЕОПОЛЬД ЗБОРОВСКИЙ, ЙОНАС НЕТТЕР И ПОЛЬ ГИЙОМ
В отсутствие интереса к их творчеству со стороны государственных и региональных музеев, судьбоносное значение для этих художников имело присутствие в их жизни маршанов, коллекционеров и галеристов, ценивших и готовых поддерживать их. Об этих людях пишут незаслуженно редко, хотя, как представляется, изучение их судеб и систем их взаимоотношений с художниками позволяет понять многое.
Леопольд Зборовский (Léopold Zborowski, 1889–1932) — поэт еврейского происхождения, родившийся в Варшаве и имевший подданство Австро-Венгрии, приехал изучать словесность в Сорбонне и занялся продажей картин во время Первой мировой войны в надежде таким образом заработать хоть немного денег. Война прервала его отношения с поддерживавшей его финансово семьей, вынудив испробовать самые разные способы выживания. Сначала он пытался торговать редкими книгами, выискивая их в букинистических магазинах, а потом, по совету Моисея Кислинга и с его помощью, взялся за покупку и продажу картин монпарнасских художников, с которыми он общался в кафе «Ротонда». Не зря Амшей Нюренберг писал: «„Ротонда“ — это своеобразная биржа, где художники находят маршанов, которым продают свои произведения, находят критиков, согласных о них писать»148.
Любимцем Леопольда Зборовского был Амедео Модильяни. Кто именно их познакомил, точно неизвестно — по одним сведениям, Моисей Кислинг, по другим — первая жена художника Фужиты, Фернанда Берри149.
Ил. 41. Амедео Модильяни. Портрет Леопольда Зборовского. 1918 г. Собрание наследников Йонаса Неттера (1868–1946)
Виталий Яковлевич Виленкин, хотя и не знавший Леопольда Зборовского лично, нарисовал, как представляется, пронзительно точный образ этого исключительного человека:
Но до чего же он был не приспособлен, до чего не подходил к этому коммерческому занятию, да еще в обстановке военного времени! Этот удивительный человек с детски чистой душой слишком страстно и бескорыстно любил искусство, чтобы стать преуспевающим маршаном. <...> Разве мог он, подобно знаменитому Амбруазу Волару, выгодно скупать и до времени придерживать будущие сокровища, имитируя, как этот старый хитрец, сонливое равнодушие и пристально следя из-за пыльной витрины за малейшими колебаниями рынка? Нет, он готов был лучше сам питаться одной фасолью, чем оставить без помощи «своего» художника, лучше спустить скрепя сердце какого-нибудь случайно доставшегося ему изумительного «Дерена» — жемчужину своей коллекции, чтобы только обеспечить его красками и холстом, едой и жилищем. В искусство Модильяни Зборовский влюбился с первого взгляда и сразу уверовал в его великое будущее. Он полюбил не только его картины, но и его самого, полюбил так, как умел любить этот редкостный альтруист, — с полной самоотдачей, с всепрощающей преданностью, без малейшего расчета и без единого укора150.
При этом находить покупателей на работы Модильяни Зборовскому было очень сложно, вследствие чего ему не раз приходилось закладывать в ломбард скромные украшения своей жены или ее шубу. Весной 1918 года Леопольд Зборовский привез на Лазурный берег работы Амедео Модильяни, Хаима Сутина и Тзагухару (Леонара) Фужиты, но напрасно обходил роскошные отели между Монте-Карло и Каннами, безуспешно предлагая находившимся там состоятельным постояльцам купить их работы, хотя он был готов отдать произведения Модильяни всего по 200 франков. В конце концов, пятнадцать работ у Зборовского приобрел находившийся в Марселе Йонас Неттер151.
Ил. 42. Легендарное кафе «Ротонда» располагается по тому же адресу и поныне... Фотография Андрея Кожевникова, 2015 г.
Реконструировать личность и жизненный путь Йонаса Неттера крайне трудно; хотя он умер лишь семьдесят лет назад, о нем известно очень немногое. Он родился в семье преуспевающего страсбургского коммерсанта еврейского происхождения. Когда ему было шесть лет, семья перебралась в Париж. В ходе подготовки выставки организаторы смогли найти лишь одну его фотографию, причем и ее не удалось точно датировать, но, по всей видимости, она была сделана около 1900 года, то есть задолго до того, как было положено начало его поразительной коллекции. Насколько известно, молодой человек был большим меломаном и сам играл на фортепиано, но занимался бизнесом, будучи торговым представителем, — до тех пор, пока случай не изменил его жизнь.
В 1915 году Йонас Неттер отправился в префектуру полиции, чтобы продлить действие своих документов. Его принял префект Леон Замарон (Léon Zamaron, 1872–1955), в кабинете которого он увидел полотно Мориса Утрилло и выразил восхищение этой работой. Л. Замарон, о котором в книге «Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху» говорится, что «он действительно любил искусство и, не имея лишних денег, во многом отказывал себе, чтобы покупать картины»152, оживился, признавшись, что Неттер — первый, кто обратил внимание на эту картину и оценил ее. Мы не знаем доподлинно, задумывался ли Йонас Неттер до этого о коллекционировании картин (в 43 года юношеского сумасбродства быть уже не могло) или же встреча с Леоном Замароном действительно стала для него неожиданным поворотным моментом. Как бы то ни было, именно после этого начинается история Йонаса Неттера — коллекционера и мецената. Оценив вкус своего посетителя, префект пообещал познакомить его с Леопольдом Зборовским — коллекционером и арт-дилером, который был знаком со многими художниками. Состоявшееся вскоре знакомство стало началом многолетнего сотрудничества двух ценителей живописи.
При этом они были очень и очень разными людьми. Эмоциональный и общительный Л. Зборовский, поэт, которого знала вся парижская богема, не умел рационально обращаться с деньгами, вел несдержанный образ жизни, вследствие чего часто оказывался в долгах, несмотря на то что зачастую недоплачивал художникам. В России о нем первым написал в своих знаменитых мемуарах Илья Эренбург:
Зборовский сам был неудачником: молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели — перед чашкой кофе в «Ротонде». Денег у него не было; он жил с женой в маленькой квартире; Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами153.
Ил. 43. Обложка одного из томов мемуарной саги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (М.: Текст, 2005)
Как раз Й. Неттера он этими картинами и «соблазнил»; И. Г. Эренбург, видимо, не знал об этом, потому даже не упомянул его имя в своей книге. Прагматичный, сдержанный, вежливый, организованный и честный Неттер был во многих отношениях антиподом Зборовского. Мы практически ничего доподлинно не знаем об их взаимоотношениях, но, по всей видимости, Л. Зборовский подкупил Й. Неттера собственной глубочайшей убежденностью в таланте художников, с которыми он сотрудничал. Первоначально Й. Неттера привлекали полотна художников-импрессионистов, однако они к тому времени стоили дорого и были ему уже не по карману. А вот работы А. Модильяни, Х. Сутина и других монпарнасских художников того времени практически ничего не стоили — на последнем Осеннем салоне, в котором он участвовал, в 1919 году, А. Модильяни выставил четыре работы, из которых не была продана ни одна. Й. Неттер был в то время практически единственным человеком, не принадлежавшим к числу родственников А. Модильяни, Х. Сутина и М. Утрилло, который финансово поддерживал их, исходя из убежденности в масштабности их художественного дарования. Именно в связи со встречными обязательствами перед Й. Неттером появились многие работы художников «Парижской школы».
Ил. 44. Йонас (Жан) Неттер. Фотография начала 1900-х гг. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: La Collection Jonas Netter. Modigliani, Soutine et l’aventure de Montparnasse (Paris: Pinacotheque, 2012. P. 4)
Совместно с Л. Зборовским Й. Неттер начал поддерживать бедствовавших художников, получая взамен их работы. Ценил он не только работы художников еврейского происхождения (сведений об отце Мориса Утрилло нет, но его мать, Сюзан Валадон, еврейкой не была, при этом в единственном прижизненном интервью, которое Й. Неттер дал о его отношениях с художниками и собранных им работах, имя М. Утрилло звучит чаще остальных154), но все же почти все живописцы, работы которых он приобретал, кого поддерживал и с кем переписывался, родились в еврейских семьях.
Л. Зборовский с Й. Неттером платили художникам что-то вроде зарплаты — за обязательство поставлять определенное число картин определенного размера каждый месяц, и хотя эти условия, очевидно, ограничивали свободу творческого самовыражения живописцев, отказаться они не могли, ибо никто другой не предлагал им даже этого, особенно в трудные годы Первой мировой войны. Художники писали Й. Неттеру довольно-таки сервильные письма, спрашивая, сколько работ в каком жанре он ждет от них в этом месяце, а сколько — в следующем. Й. Неттер изначально не был филантропом, он платил вперед за создание работ художникам, которых смог оценить раньше, чем их оценили другие, в том числе много более состоятельные коллекционеры.
Первым живописцем, которому он начал оказывать поддержку вместе со Зборовским, стал Амедео Модильяни. Самая ранняя работа А. Модильяни в коллекции Й. Неттера — небольшой рисунок «Кариатида», датируемый 1913 годом. В начале 1910-х годов А. Модильяни выполнил несколько подобных рисунков, в которых в той или иной степени обыгрывается обнаженная женская фигура, заключенная в узкие композиционные рамки. Рисунок из коллекции Й. Неттера отличается подчеркнутой выразительностью; выполненный в синем карандаше, он характеризуется крайне декоративной подачей фигуры. Пространственная глубина в рисунке показана опосредовано — фон лишь немного обозначен вдоль контура фигуры.
В 1915 году А. Модильяни поселился в квартире Леопольда и Ханки Зборовских. Художник получал от Л. Зборовского содержание в размере пятисот франков в месяц, а также оплату расходов на услуги натурщиц и художественные материалы. С 1916 года, то есть с момента заключения этого соглашения, до весны 1919 года А. Модильяни написал в относительном спокойствии около двухсот портретов и обнаженных натур, то есть практически почти все свои картины. По всей видимости, основную часть расходов нес Й. Неттер, передававший деньги Л. Зборовскому. Первоначально деньги предоставлялись Л. Зборовскому в форме займов, которые последний порой возмещал за счет полотен, создаваемых А. Модильяни.
Ил. 45. Амедео Модильяни вскоре после приезда в Париж, 1905 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Christian Parisot. Modigliani (Paris: Pierre Terrail, 1992. P. 21)
В 1917 году Л. Зборовский попытался организовать первую выставку работ А. Модильяни, сумев заинтересовать его творчеством владелицу магазина художественных изделий Берту Вейль, которая в то время только что переехала со своей галереей в новое помещение близ Оперы. 3 декабря 1917 года в этой галерее собралась группа гостей, приглашенных на вернисаж; это первая персональная выставка 33-летнего А. Модильяни, на которой было представлено около тридцати рисунков и картин. Во многих публикациях утверждается, что в ходе вернисажа не было продано ни одной картины155; иногда указывается, что одна работа все же была продана, но покупатель, заплативший за нее 250 франков, через два дня передумал и принес ее обратно156. Чтобы привлечь публику, Л. Зборовский выставил на витрину два обнаженных женских портрета. К несчастью для организаторов выставки, помещение галереи находилось прямо напротив полицейского участка, куда сразу же вызвали Берту Вейль. Под угрозой конфискации работ она была вынуждена снять все картины с экспозиции. Сложно сказать, что именно так возмутило чопорных полицейских, ведь история мировой живописи полна обнаженных женских портретов: достаточно вспомнить «Венеру Урбинскую» Тициана, «Маху обнаженную» Гойи, «Большую одалиску» Энгра, «Олимпию» Эдуарда Мане... Однако полицейские редко имеют склонность к ведению искусствоведческих дебатов, а влиятельных покровителей, которые бы могли и хотели вступиться за Амедео Модильяни и его творчество, не нашлось.
Ил. 46. Афиша выставки картин и рисунков Амедео Модильяни в галерее Берты Вайль в Париже в декабре 1917 г.
Берта Вейль приехала в Париж из Эльзаса и училась у антиквара, а когда тот умер, заняла у его вдовы 375 франков и открыла свое дело. Сначала она выставляла старинные вещи, серебро, миниатюрные изделия, приносимые ей на хранение, а потом начала продавать литографии Оноре Домье, Анри Тулуз-Лотрека, Одилона Редона. Еще в самые первые годы XX века она стала выставлять работы Рауля Дюфи, Пабло Пикассо и Анри Матисса — когда они были совсем никому не известны, а она только открыла свою первую галерею — крохотный магазинчик в доме 25 по улице Виктора Массе. 8 марта 2013 года мэрия Парижа установила на этом доме мемориальную доску, на которой высечены следующие слова: «По этому адресу Берта Вейль открыла в 1901 году первую художественную галерею для продвижения молодых художников. Ее поддержка стала условием обретения известности самыми передовыми современными художниками». Ж. — П. Креспель отмечал:
Исключительно честная, она однажды отказалась купить у пьяного Утрилло гуаши по пять франков за штуку, потому что не хотела пользоваться его состоянием. Весьма неприхотливая, она спала в чуланчике, питалась овощами и компотом, которые варила тут же, в галерее... денег у нее всегда было в обрез, и ей часто приходилось закладывать свои не слишком богатые драгоценности157.
Ил. 47. Мемориальная доска на месте первой парижской галереи Берты Вайль, открытой в 1901 г. Фото Алека Д. Эпштейна, 2013 г.
Ее галерея просуществовала до 1939 года. Среди живописцев и скульпторов, работы которых она выставляла, — Осип Цадкин и Макс Жакоб, Вилли Эйзеншитц (1889–1974) и Александр Гарбель (1903–1970), Марк Шагал и Амедео Модильяни...158 Значительное влияние на формирование интереса Берты Вейль к современной живописи и графике оказал искусствовед Роже Маркс (Roger Marx, 1859–1913). Как и она, он был уроженцем Франции, а не эмигрантом (он родился в Нанси), но тоже еврейского происхождения. Берта Вейль не нажила богатств, хотя картины, которые когда-то проходили через ее руки, стали стоить баснословные деньги. Некоторым утешением являлось общественное признание ее заслуг: за три года до кончины, в 1948 году, она была удостоена ордена Почетного легиона. Ордена Почетного легиона был удостоен и сын Роже Маркса и Эльзы Натан (Elisa Nathan, 1859–1933) Клод (1888–1977), также ставший художественным критиком. Ему удалось спастись в годы Холокоста (он покинул Париж, перебравшись вначале в Марсель, а затем скрываясь в окрестностях Гренобля), но вот его сын, внук Роже Маркса, был арестован гестапо и погиб.
Провал выставки Амедео Модильяни в галерее Берты Вейль не поколебал веру Йонаса Неттера в его талант. В марте 1918 года, когда Париж обстреливала германская артиллерия, и снаряды разрывались то здесь, то там, наводя ужас на немногочисленных оставшихся в городе жителей, Л. Зборовский обратился к Й. Неттеру за помощью. На выделенные коллекционером деньги смогли уехать в Кань-сюр-Мер на Лазурный берег А. Модильяни с беременной Жанной Эбютерн и ее матерью, Х. Сутин, сам Л. Зборовский с супругой Ханной, а также Леонар Фужита с женой Фернандой Барри. Й. Неттер был не из тех, кто наживался на бедах художников в годы войны, но благотворительностью тоже не занимался — за выданные на эту поездку две тысячи франков коллекционер, насколько известно, получил двадцать картин А. Модильяни. В коллекции Й. Неттера были и две работы Жанны Эбютерн (Jeanne Hébuterne, 1898–1920) — последней любимой женщины и музы Амедео Модильяни, прожившей очень короткую жизнь, творчество которой практически совершенно неизвестно: «Интерьер с фортепиано» (1918) и «Адам и Ева» (1919).
Однако отношения Й. Неттера с Л. Зборовским вскоре дали трещину: по всей видимости, Неттер считал, что Зборовский передает ему существенно меньшее количество работ А. Модильяни, чем было согласовано между ними. В 1919 году в письме Зборовскому Неттер оговорил условия своей дальнейшей поддержки. Он соглашался оплачивать половину расходов на содержание художника в сумме до 500 франков в месяц, которые был готов выплачивать Модильяни или напрямую, или через Зборовского. В обмен на это он требовал от Зборовского предоставлять ему все работы, которые создавал художник, из которых хотел иметь право отобрать половину по собственному усмотрению. Ссылаясь на слова Зборовского о том, что Модильяни создавал в то время 12–14 полотен разного размера в месяц, Неттер оговаривал свое право на участие в разделе работ Модильяни, выполненных в любой технике. Когда Й. Неттер формулировал эти условия, жить А. Модильяни оставалось меньше года (он скончался 24 января 1920 года), и неизвестно, сколько картин и рисунков А. Модильяни находились у Й. Неттера на момент смерти художника. Самая поздняя работа А. Модильяни из представленных на выставке — «Портрет неизвестной в голубом», написанный в 1919 году.
Ил. 48. Хаим Сутин, 1919 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Chaim Soutine. Catalogue Raisonne (Koln: Taschen, 2001. P. 2)
В 1915 году Амедео Модильяни познакомился с художником, ставшим его близким душевным другом, несмотря на огромные различия между ними, — Хаимом Сутиным. Сутину было всего девятнадцать лет, когда они познакомились, — Модильяни был на целых десять лет его старше, но ни это, ни еще большая разница в уровне культуры, ни противоположность темпераментов — ничто не мешало их сближению.
Они сумели разглядеть друг в друге и сущность таланта и сущность души — разглядеть, понять и принять, — писал В. Я. Виленкин. — По отношению к Сутину это редко кому удавалось, потому что обычно такому сближению противилась помимо его воли вся его болезненно сложная, недоверчиво замкнутая натура. Многие считали Сутина дикарем, сторонились его, порой даже боялись. Когда он, напялив на себя что попало, бледный, насквозь пропахший масляной краской и скипидаром, с прилипшей к потному лбу прядью и мрачно сосредоточенным взглядом ломился подряд во все двери «Улья» в надежде поживиться хотя бы объедками, от него, бывало, старательно запирались. Но на другой день он мог гордо отказаться от добровольно предложенных кем-нибудь из товарищей нескольких су, в которых он так нуждался159.
Эту странную в глазах обывателей дружбу между денди и красавцем Амедео, родной брат которого Джузеппе Эмануэль Модильяни (Giuseppe Emanuele Modigliani, 1872–1947) был начиная с 1913 года депутатом итальянского парламента, и нищим увальнем из местечка Смиловичи, не получившим образования ни на одном языке, думается, понял культуролог Михаил Герман, заметивший, что двух художников роднило
ощущение жизни как боли, умение сострадать и ощущение это реализовывать в искусстве. <...> Пульсирующая плоть живописи Сутина, созданные из нее и почти физически ощущаемой печали персонажи решительно не похожи на строгую линеарность картин Модильяни с их филигранной фактурой и продуманной плоскостностью. Но в картинах обоих — словно бы общий аккомпанемент, общая эмоциональная тональность, они говорят на разных пластических языках, но примерно об одном и том же и прежде всего — о горьком страдании. Сутин выплескивал на поверхность холста весь свой неистовый темперамент, боль и весь восторг перед зримым и пережитым, Модильяни отливает свои впечатления в отточенную, сдержанную, покорную выработанному стилю систему160.
В 1915–1916 годах А. Модильяни не менее четырех раз рисовал Х. Сутина; один из портретов находится в Национальной галерее в Вашингтоне и поэтому широко известен; в собрании Й. Неттера представлена другая, не менее значимая, работа.
Андрей Толстой представил начальный этап пребывания Хаима Сутина в Париже в исключительно возвышенных тонах:
Пораженный величиной и многоликостью большого города, Сутин старался прятаться от суеты в больших музеях, прежде всего — в Лувре. Но и там его ждало новое потрясение — на сей раз от восторга перед живописными открытиями Рембрандта, Курбе и других старых мастеров (отсюда в его зрелых вещах такая густая и темноватая красочная «масса»), а также, без сомнения — Ван Гога (трепещущая, словно живая, фактура сутинских полотен)161.
Реальность была, однако, не всегда столь поэтичной: Х. Сутин в то время буквально бедствовал. Он ночевал то у одних, то у других знакомых — то у Михаила Кикоина, то у Леона Инденбаума, то у Оскара Мещанинова, то у Хаима-Яакова Липшица... Чтобы выжить и как-то прокормить себя, Сутин устроился рабочим на завод «Рено», но вскоре поранил ногу, после чего был уволен. Ближайшими товарищами Х. Сутина были М. Кикоин и П. Кремень, вместе с ним учившиеся живописи в Вильно, а теперь, как и он, пытавшиеся обустроиться в Париже. Иногда им удавалось получить заказ на оформление вывески, иногда — подсобную работу при монтаже чужих выставок, зачастую же приходилось разгружать вагоны по ночам. Нередко в них была рыба, запах которой преследовал Х. Сутина всю жизнь, определив тематику десятков его полотен. Однажды Сутин, измученный нищетой и отчаявшийся, пытался повеситься; к счастью, в комнату зашел П. Кремень и спас друга от неминуемой смерти. О том, что они держались вместе, вспоминал и Илья Эренбург: «Неизменно в самом темном углу [кафе „Ротонда“] сидели Кремень и Сутин. У Сутина... были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания»162.
И. Г. Эренбург завершал свои воспоминания о Х. Сутине риторическим вопросом: «Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?..»163
Если и был человек, который уже тогда мог себе это представить, то это А. Модильяни, которого, впрочем, тогда тоже никто не считал достойным музейных залов.
Его не понимали даже просвещенные ценители живописи, — честно свидетельствовал полвека спустя все тот же И. Г. Эренбург. — Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме; художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами; а для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом164.
Ил. 49. Леопольд Зборовский в своей квартире на rue Joseph Bara, 3, в Париже у одной из дверей, на которой Амедео Модильяни написал портрет Хаима Сутина, 1918 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Jeanne Modigliani. Modigliani: Man and Myth (New York: The Orion Press, 1958)
В 1916 году А. Модильяни познакомил Х. Сутина, которого считал великим художником, с супругами Зборовскими. Их творчество Сутина не заинтересовало, а сам он из-за пристрастия к алкоголю и гашишу вызвал у Ханки Зборовской резкую антипатию. Напротив, Модильяни оценил, что за заносчивостью и вспыльчивостью Сутина пряталась натура скрытная и застенчивая. Едва ли не самый бурный его скандал с супругами Зборовскими стал результатом того, что в отсутствие хозяев, не найдя под рукой холста, он украсил одну из дверей их квартиры живописным портретом Х. Сутина.
Й. Неттер оценил талант Х. Сутина; те средства, которые он выделял ему, были чуть ли не единственной гарантированной материальной поддержкой совершенно непризнанного в те годы художника. За исключением одной более поздней работы, созданной в 1928 году, все остальные картины Х. Сутина, представленные на выставке в Риме (а до этого — в Париже и Милане), созданы между 1915 и 1923 годами — временем, когда Х. Сутин никого больше из тех, кто за искусство был готов хоть что-то заплатить, не интересовал. Ситуация изменилась только в 1923 году, когда американский коллекционер Альберт Барнс (Albert Barnes, 1872–1951) скупил у Л. Зборовского все работы Х. Сутина, которые у того имелись. Опять-таки, учитывая довольно сложную систему отношений между Й. Неттером, Л. Зборовским и художником, в данном случае — Х. Сутиным (формальное соглашение между Зборовским и Сутиным было заключено в 1919 году, письменного договора с Неттером у Сутина, скорее всего, не было, хотя именно деньгами Неттера Зборовский преимущественно расплачивался с ним), мы не знаем, были ли среди приобретенных А. Барнсом работ те, которые когда-либо прежде находились у Й. Неттера.
По всей видимости, к Леопольду Зборовскому Альберта Барнса привел арт-дилер Поль Гийом, издатель журнала Les arts à Paris [«Искусства в Париже»], который, вместе с художественным критиком Вальдемаром Жоржем (о нем подробно рассказывается в одной из следующих глав), был его парижским гидом165. Жизнь самого Поля Гийома была короткой, он прожил всего сорок два года, но собранная им коллекция сохранилась, став основой собрания парижского музея Оранжери.
Ил. 50. Поль Гийом в своей галерее, 1918 г. Фотограф неизвестен. Фото из собрания автора
Поль Гийом открыл галерею в Париже в 1914 году; заслуживает внимания тот факт, что первой проведенной им выставкой стала экспозиция работ русских художников Наталии Гончаровой (1881–1962) и Михаила Ларионова (1881–1964)166. После начала Первой мировой войны Поль Гийом сумел избежать призыва в армию и оставался в Париже, организовав целый ряд выставок передовых художников, прежде всего фовистов. В 1915 году он организовал выставку Кеса ван Донгена (Kees van Dongen, 1877–1968), а в 1916 году — Андре Дерена (André Derain, 1880–1954), дилером которого оставался на протяжении многих лет (в экспонирующейся в музее Оранжери коллекции, приобретенной французским государством у Жюлетт Гийом-Вальтер, работ Андре Дерена больше, чем полотен какого-либо другого художника, — целых 28). В январе 1918 года Поль Гийом устроил выставку Анри Матисса, покупателем работ которого он был начиная с 1917 года167, впоследствии успешно перепродав многие его работы американским коллекционерам (в собрании Оранжери одиннадцать произведений этого художника). В феврале 1918 года Поль Гийом провел выставку Пабло Пикассо, работы которого он активно покупал в 1920-е годы. Отдельной выставки Хаима Сутина Поль Гийом, насколько известно, не устраивал, включив картины этого живописца в групповые экспозиции, организованные им в 1923 и 1927 годах168. При этом по количеству находящихся в Оранжери работ Хаим Сутин с 22 полотнами уступает только Андре Дерену, что отчетливо демонстрирует, насколько высоко ценил его творчество Поль Гийом.
Ил. 51. Обложка французского издания книги: Werner Alfred. Modigliani (Paris: Editions Cercle d’Art, 1988). На обложке — Амедео Модильяни, «Портрет Поля Гийома», 1916 г.
Ил. 52. Биография Макса Жакоба, изданная в серии «Легенды Монмартра». Обложка книги: François Pédron. Max Jacob: Le Fou de Dieu (Paris: Les Editions de la Belle Gabrielle, 2008)
В отдельных биографиях Амедео Модильяни содержится ошибочное утверждение, будто Леопольд Зборовский познакомил его с Полем Гийомом в середине 1916 года169; на самом деле Модильяни познакомился с ним через Макса Жакоба еще в 1914 году170 и в 1914–1916 годах выполнил целых четыре его портрета (из которых в собрании парижского музея Оранжери находится лишь один). Более того: Поль Гийом был практически единственным покупателем картин Амедео Модильяни в 1914–1915 годах и в первые месяцы 1916 года, после чего на первый план вышли Леопольд Зборовский и Йонас Неттер. О том, что в первые военные годы Модильяни действительно удавалось иногда продавать свои картины «благодаря главным образом Полю Гийому», в биографиях художника указывалось; упоминалось и о том, что в 1915 году Модильяни переехал с Монпарнаса на Монмартр, ибо именно Поль Гийом предоставил ему мастерскую на площади Эмиля Гудо, в доме номер 13171. После кончины Амедео Модильяни в 1920 году у Поля Гийома было 39 картин, 250 рисунков и две скульптуры Модильяни172; большая часть этого наследия была распродана, в собрании музея «Оранжери» оказалось лишь пять картин Модильяни, причем одна из них куплена у Леопольда Зборовского в 1928 году173.
Созданные А. Модильяни в 1915–1916 годах многочисленные портреты Хаима Сутина, Моисея Кислинга, Макса Жакоба, Леопольда Зборовского и Поля Гийома (каждого из них он писал неоднократно) имеют не только художественное, но и историко-документальное значение. В портрете Хаима Сутина четкое графическое видение предмета, которое акцентируется едва заметным черным контуром, сочетается с живописной трактовкой цветовой плоскости. Художник выстроил портрет на эмоциональном и цветовом конфликте, который определяют две основные цветовые плоскости: охристо-красный цвет одежды и черно-бордовый фон. Совершенно в ином ключе написан великолепный портрет Леопольда Зборовского, построенный на противопоставлении холодного тона голубовато-серого фона и теплой гаммы человеческого лица. На раскрытие образа работает и прозрачный легкий фон, противопоставляемый почти осязаемой живописи персонажа.
В отличие от А. Модильяни и Х. Сутина, с которыми Й. Неттер общался в основном через Л. Зборовского, с М. Кислингом, как и с М. Утрилло, у него сложились независимые и очень глубокие человеческие отношения, о чем свидетельствует обширная переписка между ними. Во время Первой мировой войны М. Кислинг находился на юге Франции и приглашал своего покровителя погостить у него в Сен-Тропе.
В середине 1920-х годов Л. Зборовский, тяготившийся зависимостью от Й. Неттера, стал стремиться к большей самостоятельности. Он, в частности, заключил соглашение о сотрудничестве с художником Эженом Эбишем (Eugene Ébiche, 1896–1987), и имя Неттера в этом соглашении не упоминается, хотя последний также коллекционировал работы уроженца Люблина Э. Эбиша (на выставке их было представлено три, причем во всех случаях указано, что они созданы около 1930 года). Й. Неттер все меньше доверял партнеру, вследствие чего разрыв их отношений был лишь вопросом времени.
Последним художником, которого поддерживали Л. Зборовский и Й. Неттер, стал уроженец Бессарабии Исаак Израилевич Анчер (Isaac Antcher, 1899–1992). Сотрудничество между спонсорами и живописцем началось в 1928 году. По условиям соглашения, каждый из спонсоров должен был выплачивать И. Анчеру по тысяче франков ежемесячно. При этом полотна должны были сначала доставляться Й. Неттеру, а затем уже распределяться между ним и Л. Зборовским. Однако Зборовский, со своей стороны, выплачивал Анчеру только двести франков в месяц, при этом требуя от него предоставлять еще две работы для себя, сверх тех, что предназначались для раздела между коллекционерами. Когда Неттер узнал об этом, то потребовал от Зборовского возмещения всех невыплаченных сумм. На этом отношения между ними прекратились. Уже после этого Неттер в конце 1931 года перечислил Анчеру единовременный платеж в размере трех тысяч франков — насколько можно судить, это был последний раз, когда кто-либо из художников получил финансовую помощь от него. В первой половине 1930-х годов между художниками «Парижской школы» уже существовали очевидные статусные различия: работы Модильяни, Шагала и Сутина приобретали все большее число поклонников, вследствие чего стали восприниматься как объекты для выгодных инвестиций. На смену людям, не стремившимся к наживе, помогавшим художникам и ценившим их поиски, приходили собиратели совсем иного толка. Остальные живописцы и скульпторы пусть и не нищенствовали, но жили в целом трудно, а выставлялись нечасто. «Передовыми новаторами» считались в 1930-е годы уже другие люди, поэтому те, кто искал возможность патронировать талантливой молодежи, поддерживали других художников.
Экспозиция работ из коллекции Йонаса Неттера, представленная в 2012–2013 годах в Париже, Милане и Риме, при всей ее неоспоримой значительности, не давала ответа на три важнейших вопроса.
Во-первых, какие еще произведения входили в нее, но были проданы самим Й. Неттером при жизни, когда и кому и где сейчас эти работы — исходя из сохранившихся писем и договоров можно предположить, что у коллекционера было значительно больше картин А. Модильяни и Х. Сутина, чем представлено в залах парижской Пинакотеки в 2012 году. Так, на рубеже 2013 и 2014 годов в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла выставка собрания Вячеслава Кантора, на которой, как указывалось выше, представлен «Портрет девушки в черном платье», созданный Амедео Модильяни в 1918 году. Как следовало из информации, включенной в скрупулезно подготовленный Ириной Дуксиной каталог, первыми владельцами этого полотна были Леопольд Зборовский и Йонас Неттер, однако уже в 1920-е годы картина оказалась в другом собрании, у Жоржа Бонера174 — неизвестно, вследствие продажи или акта дарения. Едва ли этот пример единичен.
Во-вторых, какие из сохраненных Й. Неттером произведений живописи и графики были проданы его наследниками? Достоверно известно о реализованной в феврале 2009 года на аукционе Christie’s картине Амедео Модильяни «Две девочки» и о проданной там же в июне того же года картине Мориса Утрилло «Затерявшийся тупик», а также о трех произведениях Михаила Кикоина, «Автопортрете» и «Городском пейзаже» Анри Хайдена, проданных этим же аукционным домом в феврале и июне 2012 года. Все они происходят из коллекции Йонаса Неттера — единственные ли это случаи? Как произошло, что один из двух известных портретов самого Й. Неттера, созданный в 1915 году Анри Хайденом, не находится в настоящее время в представленной коллекции, когда и кому он был продан или подарен?
В-третьих, какие еще работы хранятся у наследников, но не включены в экспозицию (о том, что выставлены не все работы, а только «большая часть» собрания, обмолвился сам куратор Марк Рестеллини). Возможность увидеть 122 работы, оригиналы которых были скрыты от любителей искусства на протяжении более чем полувека, крайне важна сама по себе, но все же важно оценить масштабы собрания Й. Неттера и того, что сохранилось от него к настоящему времени, а этого выставка и ее каталог сделать не позволяют. Хочется верить, что эта коллекция не будет продана по частям, а станет основой постоянно действующего музея, в который попадут и другие работы, разбросанные ныне по миру, и который, в свою очередь, будет вести научные и архивные изыскания, посвященные уникальному миру «золотого века» «Парижской школы».
* * *
Леопольд Зборовский скончался в 1932 году в бедности. Он был погребен в общей могиле, а работы из его галереи разошлись в различных направлениях. Йонас Неттер прожил еще почти пятнадцать лет, при этом мы, к сожалению, ничего не знаем о том, какую роль занимало коллекционирование произведений искусства в его жизни в те годы. Самые поздние работы, представленные в экспозиции и ее каталоге, датированы, точно или приблизительно, 1930 годом. Й. Неттер пережил нацистскую оккупацию Парижа, ведя в годы войны полуподпольный образ жизни с фальшивыми документами. Все ли картины художников, большинство из которых относились по нацистской классификации к «дегенеративному искусству», ему удалось сохранить и как — этого мы тоже не знаем. События столь недавней истории почти неизвестны нам, хотя, к счастью, главное, что могло остаться от художников, с которыми сотрудничал Й. Неттер — их картины — не только сохранились, но и недавно стали, наконец, доступными ценителям их искусства.
Леопольд Зборовский всепоглощающе любил искусство, но у него всю жизнь не было денег. У Йонаса Неттера деньги были, он покупал картины, которые, однако, долгие десятилетия оставались известными лишь ему самому, а потом его наследникам, не будучи выставляемыми в музеях и галереях и изучаемыми специалистами. Начиная с 1905 года в Париже была одна семья, которая не только располагала средствами и имела желание вкладывать их в картины художников-новаторов, но и прикладывала усилия к тому, чтобы об этих произведениях и их авторах стало максимально широко известно. Это была семья Стайнов — американских евреев, оказавших огромную помощь художникам, прокладывавшим в Париже в начале XX века новые дороги для развития изобразительного искусства.
ГЛАВА 8
ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ: ЛЕО, САРА, МАЙКЛ И ГЕРТРУДА СТАЙНЫ И СЕСТРЫ ЭТТА И КЛАРИБЕЛ КОН
Для тех, кого привлекало современное искусство, наша коллекция надолго стала одной из главных достопримечательностей Парижа.
Лео Стайн175
I
Историю семьи Стайн в США можно начать с 1841 года, когда девятилетний Дэниель Стайн вместе с родителями прибыл в Балтимор из Баварии. Став взрослым, он при поддержке братьев продолжил дело отца, возглавив основанную им фирму по производству одежды — Stein Brothers, которая достигла вершины успеха в 1861 году, во время Гражданской войны, благодаря продаже военной формы. В 1864 году Дэниель Стайн женился на Амелии Кайзер. У супругов было пятеро детей, причем все они родились в Питтсбурге: Майкл, Саймон, Берта, Лео и, в 1874 году, Гертруда.
В 1875 году Дэниель Стайн, продав свое успешное предприятие брату, вместе с супругой и детьми уехал в Вену. В старой Европе семья вела светский образ жизни, мальчиков воспитывал гувернер-венгр, Берта брала уроки фортепиано. В 1878 году Стайны перебрались в Париж, где девочек отправили в пансион, а мальчики завершили классическое образование обучением игре на скрипке и верховой езде.
Семейство Стайнов, безусловно, было религиозным. Гертруда (Gertrude Stein, 1874–1946) упоминала о деде с материнской стороны как о набожном человеке из династии знаменитых раввинов. Мать описывала в дневнике еврейские праздники, посещение детьми еврейской школы по субботам. Однако воспитатели и наставники в семье Дэниеля религии не касались. Вспоминая детство, ни Лео (Leo Stein, 1872–1947), ни Гертруда не упоминали о каком бы то ни было религиозном образовании или соблюдении традиций иудаизма. Живя в Вене, родители интересовались культурной жизнью местной еврейской общины, слушали пение кантора в синагоге, делали покупки в магазинах, торговавших кошерными продуктами. Однако дети ни в США, ни в Европе не получали образования, которое принято считать традиционно еврейским176.
Через год, в 1879 году, Дэниель решил вернуться в Америку, и в итоге семья осела в Окленде, в особняке на Old Stratton Place — именно его Гертруда впоследствии всю жизнь считала своим домом детства. Через некоторое время Дэниель принял активное участие в создании трамвайной компании Car Cable Company в городе Сан-Франциско, став ее вице-президентом. Старший сын Майкл вскоре присоединился к отцу, и новый бизнес, постепенно набиравший обороты, обеспечил Стайнам благополучную и обеспеченную жизнь.
Однако смерть Амелии (в 1888 году), а потом и Дэниеля (в 1891 году) возложила на Майкла ответственность за распоряжение всем наследством, доставшимся ему, его братьям и сестрам. Майкл, будучи умелым администратором, способствовал слиянию своей фирмы с другими компаниями, управлявшими трамвайными путями. Стремясь сохранить и приумножить оставшееся после смерти отца состояние, он приобрел несколько доходных домов в районе Lion Street, который стремительно развивался и строился. Это имущество позволило семье иметь постоянный доход в виде арендной платы, что сослужило им хорошую службу впоследствии, во время их жизни в Париже.
Гертруда и Берта переехали в Балтимор, где жили их тетя и двоюродные сестры. Лео продолжил обучение в Калифорнийском университете в Беркли, а затем отправился на восточный берег, где в качестве вольного слушателя стал посещать занятия в Гарвардском университете. Брат и сестра встретились и подружились с сестрами Эттой и Кларибел Кон, которые впоследствии в Париже разделили любовь Стайнов к новому искусству (о чем будет подробно рассказано ниже). Саймон и Берта начали постепенно отдаляться от остальных членов семьи. Лео и Гертруда — самые младшие из детей — напротив, становились все ближе между собой. «Нас в семье было пятеро, и все мы были совершенно разными — ни один не был похож на другого», — написала Гертруда Стайн позднее177, но в юности она и Лео были людьми духовно весьма и весьма близкими.
После завершения обучения, которое охватывало самые разные учебные дисциплины, от юриспруденции до зоологии, Лео вместе с двоюродным братом Фредом Стайном направился в кругосветное путешествие. Во время поездки они посетили, в частности, Японию, Китай и Сингапур. Совершив несколько плаваний между Европой и Америкой, Лео в 1900 году решил обосноваться в Старом Свете. К нему присоединилась сестра Гертруда и их общая знакомая Мэйбл Фут Уикс (Mabel Foote Weeks, 1875–1964). Втроем они попали на Всемирную выставку в Париже. Выставка эта продолжалась с 15 апреля по 12 ноября 1900 года, ее посетило свыше пятидесяти миллионов человек (мировой рекорд того времени), только экспонентов было свыше 76 тысяч. Специально к выставке построили большое количество объектов: Лионский вокзал, вокзал Орсе (ныне музей Орсе), мост Александра III, Большой и Малый дворцы. Во время работы выставки, 19 июля 1900 года, была запущена первая линия парижского метрополитена.
Из Парижа трое молодых людей отправились в Италию, где провели лето. Во Флоренции Лео открыл для себя искусство итальянского Ренессанса. «За эти две зимы... я очень близко познакомился с итальянским искусством Возрождения — с работами Пьеро делла Франческа, Паоло Уччелло, Доменико Венециано, Андреа дель Кастаньо и многих других ранних итальянских художников», — писал он позднее178.
Лео принялся самозабвенно постигать искусство, читая труды искусствоведов, особенно выделяя Джованни Морелли (Giovanni Morelli, 1816–1891). Он и впоследствии внимательно изучал книги по искусству; позднее, когда основным объектом его интересов стали художники-постимпрессионисты, Лео выделял историка искусства Юлиуса Мейера-Грефе, автора монографий о Густаве Курбе, Эдуарде Манэ, Огюсте Ренуаре, Винсенте Ван Гоге, Поле Сезанне и других книг. Лео Стайн общался с представителями англоязычной интеллигенции, жившими в Сеттиньяно (Settignano), среди которых выделялись Роджер Фрай и Бернард Беренсон; последний оказывал значительное влияние на Лео вплоть до начала 1910-х годов. Но самое главное — во Флоренции в коллекции Чарльза Лезера (Charles A. Loeser) Лео впервые увидел работы Поля Сезанна. «Этим летом я провел больше времени среди картин Сезанна, чем среди шедевров Уффици и Питти»179, — вспоминал он позднее. Открытие творчества Поля Сезанна побудило его задуматься о природе современного искусства, и он пришел к мысли о том, что между итальянским классицизмом, с одной стороны, и импрессионизмом и постимпрессионизмом — с другой, существует прямая связь. «С моей точки зрения, „Распятие“ Мантенья в каком-то смысле предвосхищает Сезанна той силой цвета, которой дышит все полотно», — делал весьма нетривиальный вывод Лео, которому не было тогда и тридцати180.
Ил. 53. Лео Стайн. Фото из архива Библиотеки Конгресса США. Library of Congress, Prints & Photographs Division, Carl Van Vechten Collection
Осенью 1902 года Лео и Гертруда на несколько месяцев приехали в Лондон. Кто-то познакомил Гертруду с Бертраном Расселом, будущим Нобелевским лауреатом, длительные дискуссии с которым существенно обогатили мировоззрение девушки. Дневное время она проводила за любимым занятием — чтением, бесконечным и беспрерывным, с утра до самого вечера. После Лондона Стайны планировали вернуться в США, и Гертруда так и поступила; Лео же пожелал остановиться на несколько недель в Париже. «Несколько недель» растянулись на годы.
В конце 1902 года Лео решил посвятить себя живописи и изучению искусства. Поселившись в квартире по адресу ул. Флёрю, 27 (Fleurus, 27), он с неизменным интересом продолжил посещать музеи и галереи, брал уроки живописи, а также занимался фехтованием. Уже в те годы в его действиях просматривались спонтанность, отсутствие концентрации на длительное время: за что бы он ни брался, первое время все шло хорошо, но как только исчезала новизна предпринятого начинания, исчезали целеустремленность и желание продолжать начатое. Как следствие, ни в одном из своих увлечений он не достиг профессионального уровня. Но первые месяцы занятия живописью Лео без устали проводил у мольберта. Сравнительно быстро эта страсть угасла, но Лео охватил энтузиазм коллекционирования картин. По совету Бернарда Беренсона он отправился в галерею Амбруаза Воллара (Ambroise Vollard, 1866–1939), расположенную в доме № 6 по улице Лаффит, чтобы увидеть там произведения Сезанна. Именно там он в марте 1903 года приобрел первую картину своей коллекции — полотно Поля Сезанна, созданное за четверть века до этого.
Гертруда Стайн в это время влюбилась, впутавшись в мучительный женский треугольник181. Ее любовь — Мэри, она же Мэй Букстейвер, выпускница Брин-Мор-колледжа, дочь верховного судьи штата Нью-Йорк, подрабатывала репетиторством и была активисткой суфражистского движения. Лишь позднее Гертруда поняла, что у Мэй в разгаре роман с Мейбл Хейнс. Гертруда попала в любовный водоворот. Пытаясь завоевать любовь Мэй и отлучить ее от Мейбл, Гертруда совсем растерялась. Мучительные отношения продолжались с перерывами в 1901–1903 годах. Перерывы были вызваны отъездами Гертруды в Европу на весну и лето, и тогда в обе стороны шел поток писем. Летом 1903 года Мэй, Мейбл и Гертруда встретились в Риме в последний раз. Гертруда была отторгнута парой Мэй и Мейбл. История балтиморской любви и психологический подтекст ее легли в основу первого литературного произведения Г. Стайн под названием «Q. E. D.», законченного в Париже в 1903 году. Название «Q. E. D. — Quod Erat Demonstrandum» [«Что и требовалось доказать»] заимствовано из математики. Это чистосердечное повествование о запутанных отношениях трех американских девушек-лесбиянок. Текстологически новелла построена на основе писем, которыми обменивались Гертруда и Мэй Букстейвер (эти письма впоследствии были, к сожалению, уничтожены). Г. Стайн оставила почти документальное описание балтиморской любви, отразив в тексте не только реалии, но и хронологические детали путешествий и встреч. Психологическая драма, описанная в этом произведении, разворачивается в течение одного года. Неопытная Адель (самой Гертруде, впрочем, было уже 26) пытается не только осмыслить свою любовь к партнерше, но и понять психологическую настроенность и внутренний мир гораздо более зрелой Хелен (Мэй Букстейвер). Сама Хелен одновременно поддерживает близость с Мейбл (Мейбл Хейнс). Адель признается Мэй в любви, испытывая «ужас от страсти во многих скрытых формах». Мэй, естественно, уже давно догадалась о неопытности Адели, а та умоляет ее стать своей «учительницей». Адель, как и Гертруда в жизни, сопровождала брата в поездке по Европе, где читала книгу «Vita Nuova» Данте. На последней странице отвергнутая, несколько прозревшая и поднаторевшая в любовных страстях Адель восклицает: «Боюсь, все зашло в тупик». Гертруда Стайн прекрасно знала, что тогда не было принято писать о таких отношениях. Текст настолько прозрачен, что она спрятала рукопись, не решившись отдать ее в печать. Книга увидела свет тиражом чуть более пятисот экземпляров, да и то в урезанном виде, лишь в 1950 году, уже после смерти автора, под названием «The Things as They Are» [«Дела, как они обстояли»]. Полный авторский текст под первоначальным названием был издан только в 1973 году182. В 2013 году книга была впервые выпущена издательством Kolonna Publications в переводе на русский язык183.
Гертруда два года проучилась на медицинском факультете, а потом была отчислена; сдавать повторно экзамен осенью она не захотела. Вместо этого Гертруда отправилась к Лео в Европу. Сблизившись, как никогда прежде, брат и сестра вместе стали посещать галереи и выставки. В Париже, впрочем, они не задержались, отправившись в путешествие по Северной Африке, Испании и Италии. Этот вояж принес Гертруде много впечатлений и много новых знакомств. Она приняла решение остаться во Франции, намереваясь ежегодно приезжать в Америку. Условие это она выполнила только однажды, в первую же зиму 1903/04 года. Ни в разговорах, ни в книгах она не отказывалась от Америки как от своей страны, но ее домом стал Париж. Собирался туда и старший брат Майкл с семьей, Лео и ему подыскивал жилье.
II
Огромное впечатление на Лео и Гертруду произвели работы импрессионистов из собрания Гюстава Кайботта, экспонировавшиеся в то время в Париже в Люксембургском дворце. На момент смерти Г. Кайботта импрессионисты все еще были не в чести у французского истеблишмента от искусства, где по-прежнему доминировали представители академического направления. Г. Кайботт понял, что шедевры его коллекции, вероятно, исчезнут на чердаках и в провинциальных музеях. Поэтому он завещал разместить свою коллекцию в Люксембургском дворце. Однако французское правительство, не захотело принимать такой дар, сочтя условия неподходящими. Большинство этих работ были позднее приобретены Альбертом Барнсом и в настоящее время принадлежат Фонду Барнса в Филадельфии. Тридцать восемь же картин, которые правительство согласилось взять (сейчас все они находятся в музее Орсе), экспонировались в Люксембургском дворце. Ими-то и восхищались среди других молодые Стайны.
Ил. 54. Гертруда Стайн и Элис Токлас в 1910-е гг. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Renate Stendhal (ed.). Gertrude Stein In Words and Pictures: A Photobiography (Chapel Hill: Algonquin Books, 1989)
Вместе с другими посетителями осенью 1903 года Стайны стали гостями первого Осеннего салона, прошедшего (в первый и в последний раз) в парижском Малом дворце. В Осеннем салоне принимали участие не только художники и скульпторы, но и архитекторы, музыканты, литераторы и дизайнеры; выставляться могли также иностранные художники.
«Это был самый первый Осенний салон, именно там для меня все и началось. Я возвращался в выставочные залы снова и снова, пока мне не удавалось до конца постичь увиденные образы. Я останавливался перед картиной и вглядывался в нее, подобно тому как ботаник изучает флору неизведанной страны. Там были работы Боннара, Вюйара, Мориса Дени и Ван Гога, собранные в небольшую ретроспективу, а также Дюфренуа, Лапрада, Жирье, Матисса, Марке, Валлоттона, Вальта, Мангена, Руо — огромного количества художников; кто-то из них сегодня знаменит, кого-то почти не вспоминают, а кто-то полностью забыт. Я очень много узнал на этом Осеннем салоне, но ничего на нем не приобрел», — вспоминал впоследствии Лео184.
По словам Ж. — П. Креспеля, «Лео, человек большой эрудиции и тонкого ума, находил новаторов, отбирая у них наиболее значительное и оригинальное»185.
В январе 1904 года Лео и Гертруда отправились в Шербур, портовый город на северо-западе Франции, чтобы встретить прибывших из США Майкла, его супругу Сару и их сына Аллена, которые решили переехать в Париж под впечатлением от рассказов брата и сестры об их жизни. Лео долгое время вынашивал идею открыть антикварный салон, но страх перед деловыми обязательствами заставил его отказаться от этой мысли. Майкл и Сара поселились поблизости от Гертруды и Лео, в доме № 58 по улице Мадам, прямо возле лютеранской церкви. Их новая гостиная наполнилась образцами китайского искусства и персидскими коврами, привезенными из Сан-Франциско.
Сара Стайн, которая в свое время занималась музыкой и изучала живопись итальянских художников, также отличалась ярко выраженной тягой к искусству, и все четверо стали вместе открывать для себя художественный и богемный Париж, посещая музеи, галереи и антикварные салоны. Лео без устали объяснял своим спутникам, что они видят перед собой. Для него это было время необыкновенного душевного подъема: «Париж облачается в свои лучшие весенние одежды. Я вне себя от счастья... Майкл и Сара день за днем превращаются в настоящих парижан, а я продолжаю все глубже исследовать парижские музеи»186.
В марте 1905 года Лео посетил выставку Пикассо в небольшой галерее Serrurier и вместе с Гертрудой впервые приобрел у арт-дилера Кловиса Саго (Clovis Sagot) работы этого тогда еще совершенно безвестного живописца. Купленные ими картины — «Семья акробатов с обезьяной» и «Девушка с корзиной цветов» (1905) — были созданы во время так называемого «розового периода» в творчестве художника, что свидетельствовало о зарождающемся интересе Лео к постимпрессионистской живописи. В это время он с головой погрузился в культурную и творческую жизнь Парижа: был постоянным участником литературного кружка, который собирался в кафе La Closerie des Lilas, часто гостил на Монпарнасе и Монмартре, а через журналиста и писателя Анри-Пьера Роше (Henri-Pierre Roché, 1879–1959) познакомился с Пабло Пикассо, который произвел на него очень сильное впечатление.
Фернанда Оливье (Fernande Olivier, 1881–1966), тогдашняя любимая женщина и муза Пикассо, оставила такое описание их первой встречи:
В один прекрасный день к Пикассо в гости неожиданно приехали два американца — брат и сестра. Он внешне был похож на профессора: лысый, в очках с золотой оправой. Длинная борода с рыжими отблесками придавала ему ученый вид. Его отличали крупная фигура, странные манеры, но сдержанные жесты. Она же — плотная, низкорослая, грузная, но с красивым лицом, сильная, с благородными, правильными, ярко выраженными чертами лица, удивляла понимающим, одухотворенным взглядом. В ней чувствовался чистый, незамутненный ум. Все в ней было мужеподобно — и голос, и манеры. Пикассо познакомился с ними у Саго и, впечатленный внешностью женщины, сразу же, не успев как следует узнать их, предложил написать ее портрет. Они были слишком умны для того, чтобы бояться насмешек, слишком уверены в себе, чтобы думать о том, что скажут другие, к тому же богаты, при этом брат тяготел к живописи. <...> И брат, и сестра прекрасно понимали современную живопись, осознавали ее значение и предвидели ту миссию, которая была ей уготована. Большие поклонники авангарда, они были достаточно образованными людьми и при этом обладали тем, что принято называть художественным вкусом. Они в первую же встречу накупили у нас картин на 800 франков, что было выше всех наших ожиданий187.
Ил. 55. Обложка книги Фернанды Оливье «Пикассо и его друзья». Olivier Fernande. Picasso et ses amis (Paris: Stock, 1973). На обложке — фрагмент картины Пабло Пикассо «Автопортрет с палитрой», 1906 г.
Предысторию интереса Стайнов к Пикассо воссоздал Патрик О’Брайен, процитированный Норманом Мейлером в крайне субъективной, но пытающейся ухватить самую суть личности великого художника книге:
Лео и Гертруда Стайн, прогуливаясь по улице Лафитт, увидели в магазине Саго два рисунка, которые им понравились. Кто был автором первой работы, мы не знаем, автором второй был Пикассо. Стайны купили картину первого и заинтересовались вторым, и тогда Саго направил их к Эжену Сулье, который, сообразив, что перед ним американцы, запросил за Пикассо столько, сколько Воллар спрашивал за Сезанна, которого Стайны тогда у него купили. Они вернулись к Саго, который рассмеялся и сказал, что через несколько дней у него будет большой Пикассо, специально для них и за разумную цену. Когда они снова пришли на улицу Лафитт, дилер показал им «Девочку с цветочной корзиной» — портрет худенького, капризного, черноволосого ребенка, этакого голого червячка, но с маленьким ожерельем и лентой в волосах. Девочка угрюмо смотрит на художника, она стоит на чем-то рыжевато-коричневом и держит в руках корзиночку с красными цветами, сверкающими на серо-голубом небе. Гертруде Стайн картина не нравилась, она находила отталкивающими длинные ноги и ступни ребенка, но брат ее уговорил. Были заплачены сто пятьдесят франков, и Лео Стайн отнес «Девочку» домой на улицу Флёрю, присоединив ее к Сезанну, Гогену и Матиссу. Некий французский писатель, их знакомый, отвел Стайнов в студию к Пикассо, и они немедленно накупили у него работ на восемьсот франков188.
Чтобы понять, что значили тогда для Пикассо восемьсот франков, нужно представлять, кому и за сколько продавал он тогда свои работы. Основными его покупателями были тогда как раз Эжен Сулье и Кловис Сaго189. Эжен Сулье, в прошлом ярмарочный силач, держал лавочку на улице Мартир рядом с тем входом в цирк Медрaно, куда пускали бедноту; он продавал ткань для матрасов и постельных принадлежностей. Так он познакомился с художниками, покупавшими у него холст для картин. Картины он начал продавать почти случайно, относясь к искусству не сказать чтобы бережно: он ставил работы прямо на тротуар перед лавочкой, совершенно не обращая внимания, идет ли дождь или снег. Покупая, он никогда не давал больше ста франков за одну работу, но платил сразу и наличными. Он имел несколько постоянных покупателей — любителей искусства. Андре Левель с иронией вспоминал: «Перед обедом и ужином приходилось бежать к нему!» Приходилось и Пикассо: оставаясь без гроша в кармане, он отправлял Макса Жакоба к папаше Сулье со стопкой гуашей и рисунков, уверенный, что к обеду поэт вернется с корзиной продуктов. Скрепя сердце М. Жaкоб отдавал гуаши по 3 франка за штуку, а рисунки — по 10 су! Кловис Сaго начинал пекарем, и почему занялся торговлей картинами, неизвестно, может быть, просто подражая своему брату Эдмону, продававшему эстампы на улице Шaтоден. В отличие от папаши Сулье, он знал толк в живописи и любил ее. Приветливый и приятный в общении, он обладал большим мастерством эксплуатировать художников, особенно когда видел, что они загнаны в угол материальными трудностями. В своей лавочке на улице Лaфитт (прежде там находилась аптека, и он также продолжал торговать мармеладом и пастилками от кашля) Сaго собирал работы неординарных художников, среди которых были Морис Утрилло, его мать Сюзaнна Вaлaдон и Пикассо. Он не получил никакого образования, но удивительный дар побуждал его выбирать самые смелые произведения, предвещавшие искусство будущего. Оценив талант Пикассо, Саго эксплуатировал его самым бессовестным образом. Соединяя цинизм с наивностью, Сaго иногда приходил к Пикассо с букетом цветов из своего загородного сада: «Вот, держите, можете сделать с них этюд, а потом подарить его мне». Однажды, оказавшись совсем без средств, Пикассо предложил ему отобрать интересовавшие его работы непосредственно в своей студии. Торговец отобрал несколько картин и предложил Пабло за все 700 франков, от чего художник отказался, сочтя эту скромную сумму совершенно недостаточной. Через несколько дней, истерзанный безденежьем, Пикассо снова пришел на улицу Лaфитт. Увидев его, Сaго сразу понял, в чем дело, и предложил уже лишь 500 франков. Пикассо выбежал в ярости. На следующий день он опять пришел, но Саго дал ему за все лишь 300 франков. Несчастный Пабло, испив чашу унижения до дна, вынужден был согласиться... Встреча со Стайнами, которые стали регулярно приобретать его работы, была радостной неожиданностью для художника, потому что у него появилась возможность существенно поправить свое материальное положение.
Однако дело было не только в деньгах. Портрет Гертруды, над которым Пикассо, рисовавший обычно очень быстро, неправдоподобно долго работал в 1906 году, стал началом их близких отношений. Норман Мейлер написал о Гертруде Стайн и месте, которое она заняла в жизни Пикассо, чрезвычайно экспрессивно:
Существование этой женщины в жизни Пикассо изменило его представления о Вселенной. <...> Пабло и Гертруда, пройдя через бесконечно долгое позирование, вступили в безмолвную психическую связь. При этом общении они должны были ощутить, что наконец-то встретили человека с равными амбициями... В это же время Пикассо пишет автопортрет почти такого же размера. Вот он, ее младший брат, ее мужская маска. Он выглядит затравленным. Он прячется и от себя, и от нее190.
На этом портрете будущая знаменитая писательница сидит на диване, слегка наклонившись вперед, смотря в сторону от зрителей. Одежда, окружающая обстановка, как и сам ее облик, подчеркнуто скромны и непритязательны — ей чужда погоня за внешним блеском, она стоит выше суеты. Вся обратившись во внимание, слегка сощурившись, она всматривается вдаль. Ее черты — прямые, тщательно выписанные, волевые, немного острые, жесткие, но прекрасные в своем возвышенном напряжении, демонстрируют силу и масштаб ее мыслей, интеллектуальный накал ее сознания. В 1906 году Гертруде Стайн было немногим более тридцати, но перед нами предстает женщина, которой уже открылись глубины мудрости, и поэтому она выглядит существенно старше своего возраста. Все окружающие предметы словно меркнут в потемках на фоне ее непропорционально крупного, в чем-то сурового, внешне некрасивого, но озаренного внутренним светом лица и крепких рук. Эту картину можно назвать пророческой, ведь Пикассо удалось узнать в своей новой знакомой выдающуюся личность задолго до того, как она стала известной писательницей. И не ошибся.
Гертруда и Лео продолжали свое знакомство с искусством и, благодаря доходам от аренды принадлежавшей им в США недвижимости, приобретали все новые и новые картины. Для некоторых живописцев они были первыми покупателями. Когда Мари Лорансен написала «четверной портрет», среди персонажей которого был и Пабло Пикассо, Гертруда Стайн купила эту работу191.
Расширяя собрание, Лео не переставал изучать теоретические основы искусства и размышлять над историей его развития, а также стремился делиться своими знаниями и идеями с окружающими. В письме, адресованном Мэйбл Фут Уикс (Mable Foote Weeks, 1872–1964) в 1905 году, он писал, как ему важно помогать людям понять современную на тот момент живопись, и высказывал свое мнение о том, кого из художников следовало считать главными лицами современного искусства:
Если мое письмо превратится в целый трактат, то виной этому будет то обстоятельство, что с тех пор, как я посетил первый Осенний салон (1904), я считаю своим долгом рассказывать людям, что представляет собой настоящее современное искусство. <...> Столпы современной живописи — это четыре великих классика, а также Пюви де Шаванн. Именно они — вдохновители всего того лучшего, что есть сегодня в современном искусстве. Четыре классика современного искусства, о которых я говорю — это Манэ, Ренуар, Дега и Сезанн192.
В коллекции Стайнов не было работ Манэ и Дега, но некоторые картины Ренуара и Сезанна к тому времени уже были ими приобретены. «Портрет жены» любимого ими обоими Сезанна Лео и Гертруда купили в декабре 1904 года на втором Осеннем салоне. Лео также приобрел несколько работ у художника Анри Мангена (Henri Manguin, 1874–1949), через которого познакомился с Анри Матиссом.
III
Анри Матисс давно уже признан одним из крупнейших художников в истории искусства, причем статус этот он обрел еще при жизни: кавалер (1925) и командор (1947) ордена Почетного легиона, имевший персональные выставки в крупнейших музеях и увидевший начиная с 1920 года многочисленные книги о своем творчестве... При этом хорошо известно и то, что не только в юности, но и в весьма зрелой молодости работы А. Матисса практически никого не интересовали, и семья художника очень бедствовала: небольшой магазин дамских шляп, открытый его супругой Амели (1872–1958), приносил минимальный доход, и концы с концами удавалось свести только при помощи родителей с обеих сторон (родители финансово поддерживали Матисса до 32 лет, и даже тогда, уже в сравнительно зрелом возрасте, прекращение ежемесячных выплат от них стало для него большим ударом). Биограф художника не погрешила против истины, констатировав: «Анри ходил по галереям и встречался с дилерами, но ни галеристов, ни коллекционеров его картины не интересовали (и такое равнодушие длилось не месяцы, а годы)»193. Матисс очень хотел заниматься живописью, но в 1891–1894 годах ему четырежды отказали в праве быть принятым в Школу изящных искусств! В 1895 году он был принят с пятой попытки. Школу он не закончил, начав посещать Академию Камилло на Монпарнасе, однако в 1900-м был отчислен и оттуда, так и не получив диплома о законченном художественном образовании. По свидетельству Жака Будо-Ламотта, Матисс, покупавший краски в кредит и регулярно закладывавший в ломбард часы, однажды согласился отдать три своих холста старьевщику на бульваре Распай за пять франков!194 В 1900 году 31-летний Матисс устроился расписывать стены по девять часов в день с оплатой в один франк в час, но через три недели был уволен и с этой работы. Попытка устроиться рабочим сцены в оперный театр оказалась безуспешной. В отчаянии он записался на бесплатные вечерние курсы в муниципальную Школу ремесел. Когда в 1901 году А. Матисс впервые выставил свои работы в Салоне Независимых, то из семи картин не была продана ни одна. Лишь в апреле 1902 года Берте Вайль (Berthe Weill, 1865–1951) удалось продать натюрморт и этюд А. Матисса, выручив за обе работы скромную сумму в двести франков. Сын художника Пьер, которому в июне 1903 года исполнилось три года, впоследствии вспоминал, что в семье говорили о намерении отца устроиться колористом на фабрику ковров195.
Ил. 56. Обложка книги Хилари Сперлинг «Матисс» (М.: Молодая гвардия, 2011)
Разумеется, когда А. Матисс был повсеместно признан гением и одним из родоначальников «нового искусства», желающих объявить себя «первооткрывателями» его таланта набралось достаточно. Наиболее преуспела в этом Гертруда Стайн (1874–1946): версия, которую она изложила в 1933 году, воспроизведена в бесчисленном количестве публикаций и стала канонической. Говоря о себе в третьем лице, Г. Стайн рассказала, как на Осеннем салоне 1905 года все издевательски посмеивались над выставленным А. Матиссом портретом жены, названным «Женщина в шляпе»: «Гертруде Стайн картина казалась совершенно естественной... и она никак не могла взять в толк, что же в ней так раздражает публику. Брату [речь о Лео] она понравилась гораздо меньше, но все-таки он согласился, и они ее купили».
Упоминает писательница и о том, что запрошенная автором цена составляла 500 франков, что они с братом, по совету работника Салона, предложили 400, однако, получив это предложение, супруга художника настояла, чтобы муж отклонил его: «Ну уж нет, — сказала мадам Матисс, если этих людей картина заинтересовала настолько, что они стали к ней прицениваться, значит, она их в достаточной мере заинтересовала, чтобы они смогли заплатить твою начальную цену». По свидетельству Г. Стайн, Амели добавила, что «на разницу как раз бы купили зимние вещи для Марго», дочери художника, родившейся до знакомства с Амели и удочеренной ими. Ответ пришел не сразу, Матисс якобы очень попрекал жену упущенной возможностью получить сравнительно приличные деньги, но через день или два «Марго принесла им маленькую голубую телеграмму». «Они ее купили», — с триумфом сказал он через некоторое время, потому что «от волнения [у него] перехватило дух и [он] не мог произнести ни звука». Мадам Матисс, если верить Гертруде Стайн, была очень благодарна «мадмуазель Гертруде, которая настояла на том, чтобы ее [эту картину] купить». Это приобретение, как утверждается, стало началом многолетней дружбы: «Гертруда Стайн и ее брат [речь вновь о Лео] часто ходили в гости к Матиссам, а Матиссы бывали у них, что ни день»196. Гертруда обстоятельно рассказывает, как они с Лео (а жили они тогда вместе в большой квартире на улице Флёрю, сейчас там висит напоминающая об этом мемориальная доска) приобретали одну за другой работы Матисса, всячески пропагандируя его творчество.
Казалось бы, все ясно, но ясность эта обманчива. Действительно, именно эта картина считается этапной в творчестве Матисса, именно она ознаменовала переход от пуантилизма к фовизму. Изначально А. Матисс планировал представить на Осеннем салоне 1905 года другую работу, пейзаж «Порт-Абайль», созданный в пуантилистской манере, над которым работал очень долго и который перед экспонированием хотел показать матери, чтобы получить ее «благословение». Когда же он привез работу в родительский дом, то Анна Элоиза категорично заявила: «Это не живопись». В отчаянии Анри схватил нож и исполосовал полотно. Однако что-то в Салон все же нужно было представить — и Матисс сравнительно быстро — и уже в ином стиле — написал портрет жены, который современники сочли ни на что не похожим, но искусствоведы позднее признали не столько мостом к фовизму, сколько первым произведением, созданным уже после перехода художником этого моста. Путь к новому стилю оказался стремительным, современниками принят не был, и издевательские насмешки, действительно, звучали в зале чаще, чем любые другие отзывы: «Зрители корчились от смеха, а критики публично оскорбляли Матисса», — суммировала Хилари Сперлинг в своей замечательной биографии художника197. Однако относительно того, что касается роли Гертруды как «первооткрывательницы», вопросов оказывается существенно больше.
Во-первых, в то время картины покупала все же не она, а брат Лео; Гертруда вошла во вкус позднее, в ходе интенсивного общения с Пикассо, на протяжении многих месяцев 1906 года писавшего ее портрет. Она сразу же оценила и гений Пикассо, и кубизм, а в 1930-е годы художником, с которым она много общалась и которого поддерживала, был Франсис Пикабия, создавший два ее портрета. Матисс же Гертруду не писал ни разу, что довольно странно, если принимать на веру ее воспоминания. Отношение Лео к работам А. Матисса было сложным: он вначале резко не принял его стиль, затем восхищался им и приобретал его самые авангардные работы, а потом продал их все, сделав выбор в пользу более классической эстетики импрессионистов.
Ил. 57. Гертруда Стайн в парижской квартире под своим портретом работы Пабло Пикассо, 1910 г. Фото из архива Библиотеки Конгресса США
К сожалению, в отличие от много публиковавшейся младшей сестры, Лео издал всего две книги (ни одна из которых не переведена на русский язык), причем мемуарные фрагменты включены только во вторую из них, вышедшую за считанные недели до его кончины, но уже после смерти Гертруды. Вспоминая об Осеннем салоне 1903 года, Лео писал о работах Матисса с нескрываемой досадой:
Самое неизгладимое, пусть и не самое приятное впечатление на меня произвел Матисс. В то время он экспериментировал с пуантилизмом — на мой взгляд, это самый чудовищный стиль, когда-либо изобретенный в живописи (sic!). Его пуантилистские работы были грубо прописаны, выделялись изобилием небрежных пятен, и, несмотря на то что его линии и цвет, несомненно, говорили об огромной творческой энергии, эти картины нельзя было назвать удачными198.
Это описание никак не назовешь комплиментарным для художника.
Лео, действительно, приобрел несколько работ А. Матисса, считавшихся в то время весьма радикальными. За «Женщиной в шляпе» последовало полотно «Радость жизни», купленное в Салоне Независимых в 1906 году. В наши дни биограф художника так описывает это произведение:
Ничего не могло быть проще, яснее и умиротвореннее, чем «Радость жизни» с ее идиллическими фигурами нимф и влюбленных — обнимающихся, танцующих, наигрывающих на свирели и отдыхающих на берегу моря. Художник обошелся с ними как с декоративными элементами, расположив плоскости чистого цвета в ритмическом узоре.
Воспевая «простые, открытые чистые цвета», биограф Матисса делает вывод о том, что в этом произведении художник больше, чем когда-либо, сумел «заставить свои краски петь»199. Описание это представляется вполне адекватным, однако не будет лишним напомнить, что в 1906 году работа эта вызвала скандал еще больший, чем портрет Амели годом ранее.
«Матисс... похоже, спятил, — написал 14 января 1906 года не кто иной, как выдающийся художник Поль Синьяк коллеге-живописцу Шарлю Анграну (Charles Angrand, 1854–1926). — На холсте в два с половиной метра он обвел линией толщиной с палец какие-то странные фигуры. Затем покрыл все это ровным слоем четко разграниченных оттенков, которые — как бы чисты они ни были — показались мне отвратительными»200.
«Парижане до сих пор вспоминают, что стоявший около картины шум был слышен уже у самого входа, — писала Дженет Фланнер в 1951 году. — Источником криков, злого шушуканья и издевательского хохота была толпа, злобно глумившаяся над вдохновенным видением радости, созданным художником»201.
В общем, равнодушным эта картина не оставляла никого, она была темой дискуссий, а раз так, для Лео было естественно ее купить, чтобы эти дискуссии проходили у него дома и он мог задавать в них тон.
Годом позже все повторилось с картиной «Голубая обнаженная. Воспоминание о Бискре», приобретенной Лео в 1907 году. Эта обнаженная женщина, лежащая в цветущих травах на фоне пальмовой рощи, со струящимися полосами кадмия, красной марены и зеленого веронеза, написана в фовистском духе с сильными деформациями, особенно правого бедра и ног. Критики описывали новую работу как непристойную и ужасную, а женщину называли больше похожей на зверя или рептилию, чем на человека. Стремясь предугадать «звезд завтрашнего дня» и строя свой статус в обществе в роли теоретика-провозвестника «нового искусства», Лео Стайн покупал картины Анри Матисса, однако полюбить их так и не смог, вследствие чего приобретенные им работы сменили владельца. «Голубая обнаженная» была приобретена Эттой Кон.
Ни Гертруда, ни Лео не упоминали в своих книгах о том, как еще до Салона 1905 года обратить их внимание на самобытную живопись Анри Матисса безуспешно пыталась Берта Вейль, галерея которой навсегда вошла в историю хотя бы благодаря тому, что там была организована единственная прижизненная выставка Амедео Модильяни. Лео и Гертруда заинтересовались работами Матисса лишь тогда, когда они стали если не общественным, то как минимум светским событием. При этом они ни разу не платили больших денег за картины, и когда цены на работы Анри Матисса поднялись выше нескольких сотен франков (в основном благодаря вмешательству С. И. Щукина), Лео просто перестал их покупать. «Потом люди часто мне говорили, что мечтали бы купить эти картины за такую цену, — писал Лео несколько десятилетий спустя, — и мне приходилось напоминать им, что они тогда тоже были в Париже и располагали даже большими деньгами, чем я».
Однако когда картины Матисса стало возможно выгодно перепродать, Лео так и поступил. В парижской квартире, где остались Гертруда и Элис Токлас, доминировали полотна Сезанна и Пикассо, Лео же с собой во Флоренцию, куда он уехал в 1914 году, взял главным образом работы классического импрессиониста Ренуара, искреннюю любовь к творчеству которого сохранил до конца своих дней. После 1907 года ни Лео, ни Гертруда не купили ни одной работы Матисса. Согласно одной из версий, свою роль сыграл и некомплиментарный отзыв Матисса на собственные художественные работы Лео, которые тот продемонстрировал, спрашивая оценки и совета.
Гертруда писала о своем пророческом даре, Лео утверждал, что «Женщину в шляпе» оценил и купил он, но на самом деле первой на картину обратила внимание жена их старшего брата Майкла Сара (1870–1953), уговорившая купить эту картину. Именно Сара и Майкл в течение двух критических для развития фовизма лет, в 1906–1907 годах, когда у Матисса не было ни поддержки, ни денег, купили «Зеленую линию» — первый портрет Амели (часто ошибочно считающийся вторым) и по меньшей мере еще четыре работы, в том числе крайне важный автопортрет художника. Когда Сара купила его, Гертруда заметила золовке, что портрет «слишком интимный», чтобы вешать его на стену рядом с другими картинами. Когда тридцать лет спустя Гертруда приписала главную роль себе, а Сару не упомянула вовсе, рассерженный ее поступком Анри Матисс в 1935 году прямо сказал интервьюеру: «Сара Стайн, которую Гертруда Стайн не сочла нужным упомянуть, была в действительности самым умным и чувствующим человеком в этой семье»202. В биографии Х. Сперлинг А. Матиссу приписывается фраза о том, что из всех членов семьи Стайнов «одна только Сара обладала интуицией и чутьем»203, и это, конечно, не соответствовало действительности. Однако в отличие от Лео и Гертруды, любивших больше себя на фоне нового искусства, чем само это искусство, Сара искренне и на десятилетия полюбила творчество Матисса; он был также глубоко симпатичен ей как человек, которого отличали неизменная уравновешенность и интеллигентность. Матисс же говорил, что вера в него Сары Стайн поддерживала его в самые трудные времена смятения и тревоги.
18 апреля 1906 года в Сан-Франциско произошло землетрясение. Обеспокоенные состоянием своего имущества, Сара и Майкл через полторы недели отправились в США и забрали с собой три картины Матисса (две из них установлены точно — это «Зеленая полоса» и «Цыганка», а третьей, вероятно, была «Женщина в кимоно») и один его рисунок. Убедившись в том, что их имущество почти не пострадало, Сара и Майкл пригласили родственников и знакомых посмотреть на приобретенные ими работы Матисса, но у тех они вызвали лишь критику и недоумение. Тем не менее в Нью-Йорке, куда Стайны прибыли уже в октябре, чтобы отправиться на пароходе во Францию, их усилия по продвижению творчества Матисса были вознаграждены: один из их знакомых, художник Джордж Оф (George Of, 1876–1954), попросил их приобрести для него работу Матисса. Так началась дружба между Матиссом и четой старшего из Стайнов и его супруги. Переписка между ними продолжалась на протяжении многих лет. Она красноречиво свидетельствует об их теплых и доверительных отношениях.
С 1907 года Сара и Майкл решили собирать только работы Матисса, продолжая активно продвигать его творчество в США. Пара заказала у художника портрет их сына Аллена — Матисс создал его в 1907 году. Большая, полная света гостиная Стайнов на улице Мадам в Париже фактически превратилась в постоянную галерею Матисса — только на одной стене висели двенадцать больших его холстов; всего же к началу Первой мировой войны у них было около сорока работ любимого живописца.
Под их влиянием картины художника начали покупать их родственники и знакомые. Так, Берди Стайн (Birdie Stein, 1875? — 1950), их двоюродная сестра из Нью-Йорка, приобрела одну работу в сентябре 1907 года; Аннет Розеншайн (Annette Rosenshine, 1880–1971), подруга детства, сама ставшая позднее известным скульптором, купила три работы; Гарриет Леви (Harriet Lane Levy, 1867–1950), подруга Сары, прибывшая в Париж вместе с Алисой Токлас в 1907 году, тоже купила несколько полотен, которые увезла в Сан-Франциско в 1910 году. Именно Сара в начале 1907 года познакомила Матисса с фотохудожником Эдвардом Стайхеном (Edward Steichen, 1879–1973). Результатом этой встречи стала первая выставка Матисса в США, состоявшаяся в 1908 году. Э. Стайхен организовал еще две выставки работ художника, в 1910 и 1912 годах. Наконец, несколько работ Матисса в 1913 году экспонировались на первой американской международной выставке современного искусства — так называемой Арсенальной выставке (Armory Show).
Сара Стайн относилась к творчеству Матисса с благоговением и всеми силами стремилась продвигать его талант. В 1907 году именно она убедила художника, во-первых, открыть свою художественную студию (которая просуществовала до июня 1910 года), а во-вторых, изложить теоретические основы своего стиля в письменном виде, — так появились «Записки художника». Редкую неделю Сара не приходила к Матиссу в мастерскую или же он сам не показывал ей новую работу. Ее критика была для Матисса столь же важна, сколь и ее восхищение. В 1935 году, когда Сара и Майкл навсегда возвратились в США, он с грустью написал ей: «Мне кажется, что вместе с Вами меня покинула лучшая часть моей публики». «Что до меня, то мне очень сложно уйти от прошлого — наверное, я слишком часто возвращаюсь в него, особенно в годы, проведенные в квартире на rue Madame, где моя жизнь, простая и энергичная, была так легка и хороша и где в часы бесед между вами, Майклом и мной зарождалась наша бесценная дружба», — писала ему в ответ Сара204.
Необыкновенно теплые отношения художника с Сарой и Майклом Стайнами побудили живописца в 1916 году написать портреты супругов. Эти две работы (ныне обе они экспонируются в Художественном музее Сан-Франциско) во многом схожи между собой: на обеих мы видим погрудный портрет человека, представленный в приглушенных тонах. Темная коричнево-бежевая гамма, разбавленная охристыми отсветами и черными штрихами, немного напоминает старые фотографии — эти портреты, подобно снимкам, столь редким и потому бережно хранимым в те годы, должны были сохранить память об изображенных на них людях.
Однако эти работы существенно различаются между собой, обладая ярко выраженной индивидуальностью. Портрет Сары Стайн, которая благоговела перед гением художника, предстает необыкновенно одухотворенным и искренним. Широко раскрытые глубокие и немного грустные глаза обращены на зрителя. Четкие линии, из которых составлен портрет, озарены тусклой золотистой охрой. Во всем ее облике есть что-то почти сакральное, ее образ чем-то даже напоминает икону: закругленный овал лица обрамлен гладкими волосами, словно нимбом, и вся она словно стремится куда-то вверх, к небу — голова даже немного выходит за пределы полотна, а голубая шаль на плечах вздымается куда-то вверх, напоминая то ли небесные лучи, то ли раскрытые крылья. Ее плечи и руки не видны — она возникает откуда-то из сумеречной синевы, и во всем ее облике видится что-то нездешнее. Возможно, превознося образ Сары Стайн и наделяя его почти неземными чертами, художник стремился ответить на ее преклонение перед ним и отблагодарить за ее самоотверженную любовь и поддержку.
Совсем иначе выглядит портрет супруга Сары, Майкла. Перед нами вполне земной портрет мужчины в деловом костюме, смотрящего на мир прямо и спокойно, собранного и дисциплинированного. Его сдержанность подчеркивается умеренным колоритом картины, где уже нет места даже слабым лучам света и небесному сиянию — краски скупы и неярки, как и сама фигура человека. И все же Матисс не отказывает своему персонажу в человечности: кисть художника умело сохранила душевный, грустный и усталый взгляд Майкла Стайна, направленный и на зрителя, и куда-то внутрь, в глубину его собственной души, и эта печальная задумчивость не ускользает ни от взора художника, ни от внимания зрителя. В отличие от портрета Сары, в этой работе нет восхищения или преклонения, однако чувствуется тонкое проникновение в человеческую натуру, поиск истинного лица того, кто внешне застегнут на все пуговицы и чье сердце неслышно бьется под лацканом парадного пиджака.
IV
Насколько известно, именно Сара Стайн в 1906 году впервые привела в мастерскую Матисса сестер Этту (Etta Cone, 1870–1949) и Кларибел (Claribel Cone, 1864–1929) Кон.
Кларибел и Этта родились в большой семье Германа Кона (Herman Cone, 1828–1897) и его жены Хелен Гуггенхеймер (Helen Guggenheimer, 1838–1902)205. Родители были иммигрантами из Германии еврейского происхождения. Герман, который приехал в США из баварского города Альтенштадт (расположенного к югу от Ульма) в 1845 году, сразу же изменил написание своей фамилии с Kahn на Cone для того, чтобы меньше выделяться в среде американцев. До 1871 года семья жила в Джонсборо, штат Теннеси, где они с успехом держали продуктовый магазин. Именно там родились первые пять из их двенадцати детей, в том числе Кларибел и Этта. Затем семья переехала в Балтимор, штат Мэриленд. Старшие из братьев, Мозес (Moses) и Цезарь (Ceasar), впоследствии переехали в Гринсборо, штат Северная Каролина. Они создали текстильную фабрику, которая принесла семье значительные дополнительные доходы.
Формальное образование Этты завершилось, когда она окончила среднюю школу в 1887 году, тогда как Кларибел, которая была на шесть лет старше нее, после школы обучалась медицине в Балтиморском женском медицинском колледже и окончила его в 1890 году, получив специальность врача. Она никогда не работала в качестве практикующего врача, хотя читала лекции по патологии и обучалась у европейских исследователей еще на протяжении многих лет. Когда скончался их отец, Кларибел и Этта вместе с братьями и сестрами стали наследниками состояния, которое гарантировало им очень обеспеченную жизнь.
Начало коллекции сестер Кон положили пять картин американского художника-импрессиониста Теодора Робинсона (1852–1896), который в свое время был одним из «колонистов» в излюбленной его французскими соратниками деревушке Живерни, приобретенные Эттой в 1898 году. В 1901 году Этта предприняла свою первую поездку в Европу совместно с Гертрудой и Лео Стайнами. Как и Кларибел Кон, Гертруда Стайн в свое время училась на медицинском факультете Университета Джонса Хопкинса. Лео Стайн, в сопровождении которого сестры Кон побывали в 1901 году во Флоренции и других городах Италии, познакомил их с великим наследием культуры Ренессанса. В Париже сестры Кон познакомились с современным искусством, причем не только с рафинированным и деликатным Матиссом, но и с куда менее выдержанным и воспитанным Пикассо, и начали приобретать работы обоих этих художников-новаторов.
Первая масляная картина кисти Матисса, которую приобрела Этта — «Желтая керамика из Прованса» — была куплена в 1906 году, вскоре после того, как была написана. Возможно, перед этим она непродолжительное время находилась в коллекции Стайнов. Стоит сказать, что сестры Кон не раз покупали работы, до этого отобранные Стайнами, которые обладали схожими с ними вкусами, — не всегда, впрочем, непосредственно у них. Самой яркой из таких работ стала картина Анри Матисса «Голубая обнаженная», купленная сестрами Кон в Париже на аукционе в октябре 1926 года; до его отъезда в Италию в 1914 году эта работа принадлежала Лео Стайну. Среди других работ, прежде входивших в собрание Стайнов, — картины Поля Сезанна, Мари Лорансен и Пабло Пикассо, которые куплены Кларебель и Эттой в 1925–1929 годах. В творчестве Пикассо сестры особенно ценили картины «голубого периода», которые стремились покупать, когда предоставлялась такая возможность.
Ил. 58. Интерьер гостиной квартиры Стайнов на ул. Флёрю в Париже, 1907 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Renate Stendhal (ed.). Gertrude Stein In Words and Pictures: A Photobiography (Chapel Hill: Algonquin Books, 1989)
До 1922 года покупки делала в основном Этта, за исключением нескольких рисунков и гравюр, приобретенных обеими сестрами у Пикассо в 1906 году. Первоначально они покупали в основном работы, выполненные на бумаге. Во время Первой мировой войны семейный бизнес, основанный на текстильном производстве, процветал, и дополнительные доходы открыли возможности для новых приобретений. Кларибел и Этта начали общаться с арт-дилерами, такими как Бернхейм-Жён, с которым они познакомились в Париже (у него, в частности, была куплена картина Поля Сезанна «Вид на Бибемюс с горы Сен-Виктуар»), и Поль Валлоттон, брат художника Феликса Валлоттона, живший в Лозанне (у него Кларибел приобрела два полотна кисти Огюста Ренуара). Они продолжали пополнять свое собрание работ Матисса, приобретя летом 1922 года шесть его полотен в галерее Бернхейм-Жён в Париже. В Лозанне в 1929 году, незадолго до кончины Кларибел, сестры купили четыре пейзажа кисти Курбе, Сислея, Писсарро и Марке206. Кларибел Кон скончалась от пневмонии в Лозанне 20 сентября 1929 года в возрасте 64 лет. Она оставила все свое собрание Этте, в завещании выразив пожелание, чтобы, если в их городе поистине обретет силу «дух восхищения современным искусством», Этта завещала обе их коллекции Балтиморскому художественному музею. Младшая сестра так и поступила спустя годы, предварительно существенно расширив свое собрание.
После смерти сестры в 1929 году Этта сделала обширные приобретения в галерее Tannhauser в Берлине и в галерее Rosengart в Люцерне, а также в парижской галерее Пауля Розенберга. В 1930-е годы Этта приобрела среди других картины Винсента Ван Гога, Поля Гогена и Анри Руссо. Сестры Кон сумели собрать обширную коллекцию, состоявшую главным образом из живописных полотен, графических произведений и скульптур французских мастеров последней трети XIX — первой трети XX века. Как и Сара Стайн, они особенно преклонялись перед гением Анри Матисса, и им удалось собрать одно из наиболее обширных собраний его работ: 42 живописных полотна, 18 скульптур и 36 рисунков207.
Ил. 59. Обложка монографии о сестрах Этте и Кларибел Кон. Mary Gabriel. The Art of Acquiring: a Portrait of Etta and Claribel Cone (Baltimore: Bancroft Press, 2002)
Почти полвека сестры Кон покупали работы Матисса. Собранные ими произведения охватывают период с 1897 по 1946 год, при этом большая часть из них написана в 1920–1930-е годы. Они отслеживали все, что делал поначалу молодой и непризнанный, а потом достигший мировой славы художник, нередко приобретали только что написанные им работы («Стоящая одалиска, отражающаяся в зеркале», 1923; «Интерьер, цветы и попугаи», 1924; «Сидящая одалиска с левой ногой, согнутой в колене, на орнаментальном фоне с шахматной доской», 1928; «Желтое платье», 1931; «Интерьер с собакой», 1934; и многие другие) и графику (в частности, Этта Кон приобрела серию его оригинальных иллюстраций к стихам Стефана Малларме, опубликованных в изданной в 1932 году книге). Сестры Кон не упускали возможности пополнить свою коллекцию скульптурами Матисса, причем иногда заказывали по два экземпляра бронзовых отливок: по одному для каждой. Так постепенно, год за годом, они собрали самую большую коллекцию произведений Матисса в Америке. Стоит ли говорить, что это серьезно поддерживало — морально и материально — самого художника. В интервью Карен Левитов внук Матисса Клод Дютюи заметил: «Матисс говорил, что если бы не американцы и русские, моя семья бы голодала». И продолжил эту мысль уже от себя: «Когда он упомянул американцев, он, безусловно, имел в виду Стайнов и сестер Кон». Говоря о произведениях, которые покупала Этта Кон, Клод Дютюи так прокомментировал ее выбор: «Она обладала обостренно хорошим вкусом. Она действительно покупала лучшие работы Матисса. Взять хотя бы „Воспоминания о Бискре“ [„Голубая обнаженная“]. Да я бы все отдал за эту работу»208.
В 1930 году в Балтиморском музее искусств открылась выставка «Коллекция современной живописи и скульптуры сестер Кон». А в 1934 году Этта опубликовала каталог «Коллекция Кон из Балтимора (штат Мэриленд): каталог живописи, графики, скульптуры XIX–XX веков». Дружба между Эттой Кон и Матиссом с годами только укреплялась. Матисс трижды побывал в США, и, в частности, в декабре 1930 года посетил Балтимор. Как раз тогда Этта попросила художника исполнить графический портрет сестры для фронтисписа каталога, «посвященного памяти доктора Кларибел Кон», как гласила надпись на титульном листе. В течение нескольких лет Матисс сделал и презентовал Этте четыре портрета Кларибел и шесть портретов ее самой. Матисс и Этта находились в постоянной переписке, благодаря которой эксперты и любители искусства получили редкую возможность детально проследить за всеми этапами работы художника над такой, например, безусловно значимой для творчества Матисса картиной, как «Большая лежащая обнаженная», над которой он трудился весь 1935 год. В ходе работы он послал Этте по почте 22 фотографии, на которых зафиксировано, как художник, начав с вполне реалистического подхода к модели, несколько раз переписывал картину и в конце концов пришел к весьма условному изображению209. Этта купила «Большую лежащую обнаженную» и повесила ее напротив «Голубой обнаженной», ранней работы Матисса — он написал ее еще в 1907 году. В 1937–1938 годах Этта посетила Париж в последний раз, и во время этой поездки она также совершила ряд значимых приобретений, среди которых две картины Матисса: только законченное полотно «Лиловый халат с анемонами» и «Одалиска с зеленым поясом», которая была написана десятью годами ранее.
Следует отметить, что, кроме многочисленных произведений Анри Матисса (последнее из них — картину «Две девушки на красно-зеленом фоне» — Этта приобрела у сына художника Пьера Матисса в 1949 году, за несколько месяцев до своей кончины), она пополнила коллекцию полотнами и графикой Жоржа Брака, Джорджо де Кирико и Марка Шагала. Купила она и выполненный Жаком Липшицем отлитый в бронзе портрет Гертруды Стайн. Сама Гертруда в автобиографических текстах о сестрах Кон и их важнейшей роли в поддержке Матисса и «нового искусства» вообще умолчала — так же как она умолчала о том, какова была роль Сары Стайн. Не умаляя роли, которую играла Гертруда Стайн, совершенно необходимо воздать должное и остальным.
V
Гертруда и Лео Стайн, как и Этта Кон, были очень общительными людьми, и в субботние вечера в их квартире обычно собиралось гости, среди которых заметную роль играли художники и арт-критики. Поздние работы Ренуара и Сезанна, созданные этими мастерами, когда оба они стремились выйти за границы импрессионизма, резко контрастировали с работами Матисса и Пикассо, развешенными рядом на стенах квартиры на ул. Флёрю. Несомненно, такое разнообразие домашней экспозиции и соседство столь разных стилей заставляло гостей размышлять о возможности появления новых художественных форм. Эти вечера давали Лео уникальную возможность обратиться со своими идеями и мыслями к публике.
Журналистка и коллекционер Агнес Майер в 1909 году писала:
...на этих встречах людей прежде всего привлекали рассказы Лео на тему современного французского искусства, а также сама его непревзойденная коллекция, в основном состоявшая из современных произведений живописи, которую ему удалось собрать благодаря глубоким познаниям и взыскательному и независимому вкусу. Внутренние душевные противоречия стесняли его в общении с окружающими, но его невероятная чувствительность, способность к самоанализу и даже несколько излишняя самокритичность вызывали скорее симпатию, чем отторжение. Когда он рассказывал нам о картинах, то говорил коротко, однако даже его самые немногословные замечания и комментарии помогали нам открывать для себя подлинный смысл произведений искусства, которые мы созерцали вместе с ним210.
На тот момент почти никто в «обществе» ничего не знал о современной живописи, музеев современного искусства не было, о нем не рассказывали в университетах. В квартире Стайнов парижские художники получали возможность напрямую продемонстрировать зрителям свои работы.
По своему социальному происхождению Стайны были бесконечно далеки от нищих выходцев из «черты оседлости» Сутина, Кременя и Кикоина, но все же целый ряд художников «Парижской школы» еврейского происхождения вызывал живой интерес Гертруды: она приобретала среди других работы Марка Шагала, Амедео Модильяни, Жюля Паскина, а также была в дружеских отношениях и многие годы переписывалась с Максом Жакобом. В начале 1930-х Гертруда Стайн вспоминала о том, как выглядели стены их с Лео квартиры за четверть века до этого:
В те дни картины там висели самые разные, до эпохи, когда там останутся одни только Сезанны, Ренуары, Матиссы и Пикассо, было еще далеко, а тем более до еще более поздней, с одними Сезаннами и Пикассо. В то время Матиссов, Пикассо, Ренуаров и Сезаннов там тоже было немало, но немало было и других вещей. Были два Гогена, был Манген, была большая ню Валлотона, про которую можно было сказать разве, что она совсем не похожа на Одалиску Манэ, и был Тулуз-Лотрек. <...> Был там еще портрет Гертруды Стайн работы Валлотона очень под Давида, но не Давид, был Морис Дени и маленький Домье, множество акварелей Сезанна, короче говоря, там было все на свете, там были даже маленький Делакруа и средних размеров Эль Греко. Там были огромный Пикассо периода арлекинов, были два ряда Матиссов, большой женский портрет Сезанна и еще несколько маленьких Сезаннов211.
Салоны Стайнов необычайно способствовали распространению идей и образов постимпрессионизма и фовизма. Совсем не похожие на другие парижские салоны того времени, эти встречи предлагали зрителю открыть для себя новое искусство, проникнуться им и прочувствовать его, и вместе с тем давали возможность непосредственно познакомиться с самими его создателями, которых Стайны лично поддерживали и продвигали. Иными словами, эти вечера давали поклонникам искусства уникальный шанс увидеть картины «вживую» и по-настоящему оценить их — и это в то время, когда репродукций произведений современной живописи почти не существовало, а те немногие, что можно было найти, были лишь черно-белыми.
Примечательно, что именно в салоне у Лео и Гертруды впервые встретились два величайших художника, живших и работавших тогда в Париже — Анри Матисс и Пабло Пикассо. Фернанда Оливье вспоминала: «Матисс был тогда в зените и, выступая идеологом своего стиля, ревниво защищался от нападок Пикассо. Он выражался очень ясно и со знанием дела и поэтому всегда стремился убеждать собеседников»212.
По впечатлениям Лео,
Пикассо и Матисс были полностью противоположны друг другу. Бородатый Матисс, у которого все было правильно, в аккуратных очках, умный, легко ведущий беседу, слегка застенчивый, в безукоризненном мире которого все на своих местах — и внутри его, и во всем, что его окружает. Пикассо — молчаливый, за исключением моментов отдельных вспышек, работа его совершается без какого бы то ни было плана, но с немедленной реакцией, когда интуиция приводит его в возбуждение, после которого наступает пустота, и длится она до следующей вспышки213.
Как минимум на эмоциональном уровне Лео явно больше симпатизировал Пикассо: «Как-то Матисс заявил, что Сезанн был „отцом для всех нас“, — вспоминал он, не удержавшись от язвительного замечания, — но он совершенно упустил из виду, что феникс Пикассо развился безо всякого отца!»214
Однако едва ли Пикассо и Матисс на самом деле были «полностью противоположны друг другу»: они не только организовали в 1918 году совместную выставку в галерее Поля Гийома, но и иногда проводили совместно досуг, о чем сам Анри Матисс писал Гертруде Стайн: «Пикассо занялся верховой ездой, и мы теперь катаемся вместе»215.
В 1912 году Гертруда смогла опубликовать свои очерки о Пикассо и Матиссе в журнале Camera Work, причем помощь в организации этой публикации оказала ее бывшая возлюбленная Мэй Букстейвер, которая к тому времени вышла замуж и активно занималась общественной деятельностью216.
В начале своей карьеры художники регулярно посещали квартиру Стайнов, однако к началу 1910-х годов, по мере того как они получали все большее признание, их можно было все реже видеть на улице Флёрю. В 1909 году Матисса стала поддерживать галерея Бернхейм-Жён (Bernheim-Jeune), а Пикассо в 1912 году начал представлять галерист Даниэль-Анри Канвейлер (Daniel-Henry Kahnweiler, 1884–1979): участь бедных художников для них навсегда осталась в прошлом. Д. — А. Канвейлер вспоминал, как в 1907 году впервые посетил мастерскую П. Пикассо: «Я немедленно купил несколько картин Пикассо, на которые, должен заметить, больше никто не претендовал. Не было нужды заключать контракт или что-нибудь в этом духе, поскольку никто ничего у него не покупал».
Не совсем «никто» — Стайны покупали. Но они покупали только для себя, то есть сравнительно немного работ, а Пикассо работал очень быстро, картин, гуашей и рисунков у него было сотни, и Д. — А. Канвейлер стал первым, кто занялся его коммерческим продвижением.
Вдохновляясь творческим примером окружавших ее художников, стремясь стать равноправным членом их общества, Гертруда Стайн решила всерьез заняться литературой и в 1909 году опубликовала свое первое произведение в издательстве Grafton Press. Это была книга «Три жизни», несколько лет назад изданная и в переводе на русский язык217.
Лео считал себя главным знатоком современного искусства в семье — и тем, кому следует держать в руках перо. Лео, однако, всегда писал неуверенно. Его теоретические сочинения — объемный трактат об Андреа Мантенья, о работе над которым он заявил еще во Флоренции, а также цикл критических статей, который просил его написать Альфред Стиглиц (Alfred Stieglitz, 1864–1946), так и остались незавершенными. Лео, заложник своего энциклопедичного ума, оказался неспособен изложить собственные теории на бумаге с той легкостью, с какой он делал это на встречах на улице Флёрю, его теоретические труды никогда не отличались той яркостью, которой выделялись его рассказы на субботних вечерах.
Ил. 60. Гертруда Стайн, 1903 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Renate Stendhal (ed.). Gertrude Stein In Words and Pictures: A Photobiography (Chapel Hill: Algonquin Books, 1989)
Гертруда начала писать и публиковаться сама, и ее успех вызывал у Лео смешанные чувства. Постепенно она пришла к убеждению, что интеллектуальный масштаб ее личности превосходит дарование брата. «И когда я пришла к этому выводу, это стало для нас началом конца; раньше мы были вместе, а теперь — порознь. Постепенно мы виделись все реже», — писала она в середине 1930-х218. Лео считал литературные устремления Гертруды ребяческими и незрелыми, а только зарождавшийся тогда кубизм, которым искренне восхищалась его сестра, на всю жизнь остался ему чуждым. Но главное, Лео, скорее всего просто на почве гомофобии, не выносил Элис Токлас (Alice B. Toklas, 1877–1967), которая начиная с 1908 года на почти сорок лет стала главным человеком в жизни Гертруды, ее любимой женщиной, музой, конфидентом, редактором, да и просто (хотя «просто» это не бывает) человеком, полностью организовывавшим их быт219.
VI
Элис Токлас происходила из обеспеченной семьи евреев польского происхождения, но сама она родилась уже в Сан-Франциско. С Гертрудой Стайн она познакомилась 8 сентября 1907 года, в день своего приезда в Париж. Близость между Гертрудой и Элис была столь всепоглощающей, что, решив издать в начале 1930-х годов мемуарную книгу, Стайн назвала ее — уникальный случай в истории культуры! — «Автобиография Элис Токлас». Именно эта книга — ее четырнадцатое опубликованное произведение — стала поворотной в литературной карьере Гертруды Стайн, принеся ей всемирную известность. Вот какими словами завершается эта книга:
Вот уже не первый год самые разные люди, в том числе издатели, уговаривают Гертруду Стайн написать автобиографию и она им обычно отвечала: «Да нет, вряд ли». Она стала подначивать меня и говорить, что, вот, если бы я написала автобиографию, это было бы здорово. «Только подумай, — говорила она мне, — какую кучу денег ты могла бы заработать». И стала выдумывать названия для моей автобиографии: «Моя жизнь с великими», «Как я сидела с женами гениев», «Двадцать пять лет с Гертрудой Стайн». Потом тон у нее стал серьезным и она сказала: «Да нет, послушай, я серьезно, ты просто обязана написать автобиографию». В конце концов, она взяла с меня слово, что если этим летом у меня будет время, я сяду и напишу автобиографию.
Примерно шесть недель тому назад Гертруда Стайн сказала: «Сдается мне, ты никогда не сядешь за эту автобиографию. Знаешь, что я намерена предпринять? Я хочу написать ее за тебя. Я хочу написать ее так же просто, как Дефо когда-то написал автобиографию Робинзона Крузо». Так она и сделала, и вот вам эта книга220.
Вся эта книга, повторим, написана от лица Элис; Гертруда упоминается там на каждой странице, но всегда в третьем лице.
Как и Стайны, Элис Токлас была еврейкой, и этот факт едва ли был случайным. Принято считать, что Гертруда Стайн выросла в настолько ассимилированной семье и так далеко ушла от еврейства и иудаизма, что никакой роли в жизни и творчестве ее происхождение не играло. Действительно, в «Автобиографии Элис Токлас» об этом не говорится вообще, а слова «еврей», «иудаизм» и их производные не упоминаются ни разу. Линда Вагнер-Мартин указывает, что имевшееся в черновиках романа «Становление американцев» прилагательное «еврейский» Гертруда в процессе правки постепенно заменяла на «германский». Так же она поступила и с именами, так что к концу работы над романом в тексте едва ли остались ощутимые сведения о том, что речь идет о еврейских семьях221. Такая позиция писательницы удивила многих ее современников. В письме к Александру Вуллкотту в сентябре 1933 года Торнтон Уайлдер, тогда еще лично не знакомый с Гертрудой Стайн, спрашивал:
Ил. 61. Обложка книги Гертруды Стайн с фотографией автора и Элис Токлас. Gertrude Stein. The Autobiography of Alice B. Toklas (London: Penguin Books, 2001)
Я полагаю, ты прочел [Автобиографию] Элис Б. Токлас. Так вот, Гертруда Стайн — крупная, спокойная, приятная дама, не так ли? Не предубежденная, не обращающая внимания на мнение остального мира — будь оно хорошим или плохим. Тогда почему она никогда не упоминает, что она или мисс Токлас — еврейки? И почему в той куче страниц, которые я оказался в состоянии осилить из тысячестраничного произведения Становление американцев, она не упоминает, что семья, которую она анализирует в таких деталях, есть семья еврейская. И почему, присваивая фиктивную фамилию для своей семьи, она придумывает такую, которую едва ли можно назвать еврейской?!222
Лео откровенно вспоминал: «Я настрадался от еврейского комплекса, от ощущения того, что я — еврей. <...> Я был единственным еврейским мальчиком в классе»223.
Норман Мейлер, как и они, — американский интеллектуал еврейского происхождения, заметил: «будучи выходцем из немецко-еврейской семьи, Лео был настолько неевреем, что был почти антисемитом. И это единственное, в чем они совпадали с сестрой»224.
Это утверждение видится весьма спорным.
Действительно, Гертруда не посещала синагогу, не соблюдала никаких традиций иудаизма, не знала ни иврита, ни идиша, не состояла ни в каких еврейских организациях, коих как в США, так и во Франции было и есть огромное количество, и, насколько известно, никогда не посещала Палестину/Эрец-Исраэль. Вместе с тем в 1896 году, будучи двадцатидвухлетней студенткой колледжа, Гертруда получила задание написать сочинение на вольную тему и подала эссе под длинным названием «Современный еврей, который отказался от веры своих отцов, может в разумных пределах и постоянно верить в изоляцию». Это сочинение, к сожалению, никогда не переводилось на русский язык, да и по-английски впервые было опубликовано в малотиражном лингвистическом журнале в 2001 году225. Изучение этого текста в корне меняет сложившиеся представления о тотальной индифферентности Гертруды Стайн ко всему еврейскому и уж тем более о якобы присущем ей «антисемитизме». Эссе, фрагменты которого публикуются здесь по-русски впервые, демонстрирует некоторые познания Гертруды в Библии и в еврейской традиции, ее раздумья над причинами ухода от иудаизма значительной части еврейства и, самое главное, ее искреннее беспокойство за сохранение еврейского народа в будущих поколениях!
«Современный еврей в значительной степени отошел от веры своих предков», — констатировала Г. Стайн, и применительно к США 1896 года это, конечно, было верно. По ее мнению, это произошло по нескольким причинам:
Во-первых, на евреев оказал огромное влияние всеобщий скептицизм, который распространился в нашу эпоху среди всех слоев общества — это объясняется тем, что ввиду их высоких умственных способностей и формализма их религии они естественным образом легко воспринимают революционные идеи и быстро учатся скептицизму во всех его проявлениях. Те, кто по своему складу больше тяготеет к религии, начали по-своему отступать от своей прежней веры.
Стремление уйти от религии Гертруда Стайн объясняет тем, что сама религия «превратилась в мертвую формальную оболочку с пустым содержимым, лишенным жизни». Ничего особенного в этом мнении нет, так и тогда, и сейчас рассуждали и рассуждают многие. Обратим внимание на высказанное Г. Стайн, в общем, националистическое утверждение о заведомых интеллектуальных талантах представителей еврейского народа как таковых. В книге «Les Précieux», вышедшей спустя семьдесят лет после того, как Г. Стейн написала это эссе, Бернар Фей (Bernard Fay, 1893–1978) уделил дружбе с Гертрудой отдельную главу, назвав ее «Запах розы»226. Рассказывая о совместных долгих прогулках и происходивших тогда дискуссиях, он вспоминал, как Гертруда повернулась к нему, посмотрела прямо в глаза и сказала: «Выложи правду, Бернар, признайся, ты чересчур умен, чтобы не быть евреем». В контексте настоящего обсуждения важно не то, что эти подозрения был как раз совершенно беспочвенны, а то, что при подобном отношении к евреям Гертруде, больше всего ценившей в людях именно пытливый ум, не было никаких резонов отрицать свое еврейство или уходить от него.
Возвращаясь к ее эссе, перейдем к главному. Указав, что «к духовным причинам отхода от древней веры добавляется и чисто практическая невозможность в наш бурный девятнадцатый век соблюдать шаббат, отмечать религиозные праздники, держать посты и проводить длинные молитвы, готовить пищу и содержать домашнее хозяйство по закону веры — то есть стало невозможно поддерживать все те традиции семейной жизни, что так долго служили сохранению единства народа», Гертруда делает вывод, который отнюдь не был единственно возможным из вышесказанного:
Эти изменения сегодня несут в себе опасность для жизнеспособности и будущего всего народа. Ныне еврей благодаря своему умению обращаться с деньгами и стремлению опираться на родовые связи сумел достичь зримого могущества. Поэтому, с одной стороны, перед ним приоткрылись двери христианского мира, и теперь иноверец рад быть его другом, но, с другой стороны, огромное влияние еврейского народа вызывает к жизни старые предубеждения и неприязнь к еврею, и сейчас есть ощущение, что грядет худший антиеврейский кризис в истории. Примерами этим процессам могут служить и те идеи, которые сейчас так популярны в Германии, и недавний антиеврейский бунт в Париже, и недавняя волна эмиграции из России.
Разумеется, в приведенной цитате обращают на себя внимание пророческие слова о том, «что грядет худший антиеврейский кризис в истории», написанные почти за полвека до Холокоста! Однако заметим и первую фразу абзаца — перечисленные Г. Стайн изменения «несут в себе опасность для жизнеспособности и будущего всего народа»; этот процесс, какими бы естественными ни были его причины, виделся ей опасным именно исходя из перспективы общенационального будущего. В попытке найти решение очерченной ею проблемы Г. Стайн дезавуирует важность традиций, которые принято считать проявлениями еврейской этнокультурной самобытности:
Нельзя сказать, что традиции и ритуалы, которые несут в себе память о великих событиях в истории еврейства, могут повлиять на жизнеспособность народа, для которого они — лишь его возвышенные символы.
Раз так, то проблеме нужно найти какое-то другое решение, и 22-летняя Гертруда Стайн предлагала их два, совершенно разных и, если следовать авторской логике, взаимодополняющих.
Во-первых, Гертруда признает право на уход еврея из общины, к которой он как бы принадлежит по рождению, но этот уход превращался у нее в начало пути подлинного гуманистического миссионерства:
Следует признать право еврея на обособленную жизнь неотъемлемым, принадлежащим ему от рождения. Пусть он не отказывается от него и не наносит тем самым ущерб самому прекрасному, что есть в нем самом; пусть лучше его чувства обратятся к достижению высоких задач, и пусть он даст своему народу новую цель — распространять всеми силами идеалы благородного братства между людьми. Пусть он все же остается евреем, хоть иудаизм для него теперь уже не вера, а религия дерзания. Пусть иудаизм будет означать братское единение людей, разделяющих одни благородные цели и великие дела. Так еврей будет оставаться евреем, выполняющим высокую миссию.
Во-вторых, признавая несомненное право евреев на выход из общины, она выступила категорически против их, казалось бы, фундаментального права на свободу любви и выбора тех, с кем они создают семьи. Тезис Гертруды в этой связи весьма радикален и не оставляет места двусмысленностям:
Еврей может вступать в брак только с евреем. Он может иметь деловые отношения с иноверцами, он может работать и отдыхать вместе с ними, может посещать их школы и подчиняться их указаниям, но в сакральном пространстве дома, в священном кругу семьи и других родных еврей должен быть только с евреями. Для иноверца там нет места. Все — и самые консервативные, и самые либеральные евреи — сходятся на том, что запрет смешанных браков есть основа иудаизма. Действительно, смешанные браки означали бы гибель еврейского народа. Дети, родившиеся во втором поколении в таком браке, — это уже иноверцы с еврейской кровью, а в третьем поколении от иудаизма уже не остается и следа, и еврей полностью превращается в иноверца. С этим единодушно согласны все — разногласия могут касаться лишь того, насколько близко еврей может общаться с иноверцами, если он хочет не нарушать законов и предписаний веры.
Гертруда так и не стала матерью, но сформулированное ею весьма неочевидное для современного человека кредо — «в сакральном пространстве дома, в священном кругу семьи и других родных еврей должен быть только с евреями» — она выполнила, создав семью именно с Элис Токлас — такой же, как она сама, американской еврейкой. Что же касается «религии дерзания», то вначале таковой стала поддержка самого передового искусства того времени, а затем — литературное творчество. С течением времени Гертруда Стайн была признана классиком американской литературы и эссеистики, и именно в этом качестве была выбрана Энди Уорхолом для включения в цикл его работ «Десять великих евреев XX века». Женщин в этом цикле всего три: Сара Бернар, Голда Меир и Гертруда Стайн...
Элис была частью всех граней жизни Гертруды Стайн, ее портреты писали Павел Челищев и Дора Маар (Dora Maar, 1907–1997), а сама она, хотя и меньше, чем Лео и Гертруда, также приобретала работы художников, в частности Пикассо227. После того как 3 апреля 1914 года Лео окончательно покинул Париж и поселился во Флоренции, в салоне Гертруды и Элис бывали Пабло Пикассо и Анри Матисс, Жорж Брак и Эрнест Хемингуэй, Тортон Уайлдер и Шервуд Андерсон, не говоря уже о людях значительно менее известных... Этот салон не функционировал во время Первой мировой войны, когда Гертруда и Элис скрывались в департаменте Эн (Ain), но после их возвращения в Париж двери квартиры в доме № 27 по улице Флёрю были вновь открыты для многочисленных гостей.
VII
К концу 1920-х — началу 1930-х годов дружба Гертруды Стайн с Пикассо постепенно сошла на нет. Ревность и зависть подруг Пикассо, творческое соперничество и диспуты, намечающиеся различия в политических взглядах привели в середине 1930-х к тому, что они фактически даже перестали видеться друг с другом. Гертруда, однако, снова начала активно поддерживать молодых живописцев и более или менее близко знакомиться с новыми художниками, среди которых были Андре Массон, Хуан Грис, художники-«неогуманисты», в том числе Эжен Берман и Павел Челищев, Пьер Таль-Коат, Бальтюс, Жан Мишель Атлан. Более других она сблизилась с Франсисом Пикабией (Francisco Picabia, 1879–1953), работы которого рекомендовала для участия в выставках в США, в том числе в Художественном институте в Чикаго; она также написала предисловие для каталога его американской выставки. В 1934 году на ее либретто на Бродвее была поставлена опера Вирджила Томсона «Четверо святых в трех действиях», и ее пригласили выступить в США с циклом лекций о литературе и искусстве. Это триумфальное возвращение на родину после тридцати лет отсутствия стало апогеем ее литературной карьеры и вершиной славы.
Франсис Пикабия как минимум дважды писал портреты Гертруды Стайн. На портрете 1933 года перед нами предстает почтенная матрона, торжественно и уверенно восседающая на фоне далеких гор и распахнутого неба, скрестив руки. Облаченная в подобие древнего хитона, устремившая свой будто всевидящий взор мимо зрителя, в бесконечную даль пространства и времени, она полна величия и излучает мудрость. Ее монументальная фигура, такая же гордая и несгибаемая, как горная гряда за ее спиной, словно выросла вместе с ними из тысячелетней каменистой тверди. Ее прямой стан, могучие плечи, крепкие руки излучают первозданную силу, несломленную волю, а в ее строгих и даже суровых глазах читается сама мудрость. Античные одеяния, охватывающие ее тело и раскрывающие руки и плечи, делают ее похожей на служительниц Дельфийского оракула и римских весталок, которые возвышались над мирской суетой, — и от этого в ее образе чувствуется что-то пророческое, мистическое, вневременное. Изобразив Гертруду Стайн в столь ярком, почти эпическом виде, Франсис Пикабия стремился выразить свое восхищение выдающимся умом, проницательностью и беспримерным талантом писательницы, жизнь которой ознаменовала собой целую эпоху.
На портрете, написанном четыре года спустя, художник совсем по-иному представил свою героиню. Перед нами — земная женщина, одетая в кофту с брошкой и мягкий плед, со скромным серым чепчиком на голове. Она стоит, слегка склонившись под тяжестью лет и пережитых впечатлений, устало глядя прямо в глаза зрителям, которые видят ее утомленной, пожилой и немного сгорбленной. Реалистичность полотна, четко выписанные линии, неумолимо выбивающаяся из-под головного убора прядь седых волос, безжалостно и рельефно показанные морщины и складки на лице, уже не скрываемые ни моделью, ни живописцем, — все это подчеркивает земной образ Гертруды Стайн, повидавшей и узнавшей многое на своем веку и готовой поделиться своими воспоминаниями и мыслями.
Но действительно ли сломили и высушили ее эти годы? Нет — в ее крупных, выразительных глазах ощутим стальной, волевой и гордый блеск незаурядного ума, складки на лбу выдают не столько старость, сколько напряжение творческой мысли. Она — все та же яркая, независимая и своенравная натура, вся жизнь которой — творческие искания и интеллектуальные открытия. Да, годы не пощадили ее — но и она не пощадила годы, выжав из них все впечатления и знания, которые они только могли дать ей. И теперь, пусть и усталая, пусть и не молодая, но она все так же гордо смотрит в лицо своим читателям, словно преображенная временем, неповторимая и несломленная... Картина была закончена в 1937 году, жить Гертруде оставалось еще около десяти лет.
Гертруда Стайн, которая открыто поддерживала режим маршала Петена, как до этого — фалангистов Франко в Испании (в 1941 году она даже перевела 180 речей маршала Петена на английский язык), провела годы войны вместе с Элис Токлас в небольшом городке Кюло в предгорьях Альп228. Хотя многие евреи — жители этого городка, включая детей, были депортированы в Освенцим, Гертруда и Элис не подвергались никаким преследованиям. Их покровителем был стародавний знакомый, профессор американской истории в Коллеж де Франс Бернар Фей, ставший в мае 1941 года руководителем Национальной библиотеки и видным функционером режима Виши. Одержимый в своем преследовании масонов, во всемирный заговор которых он верил, Бернар Фей был лично виновен в гибели сотен людей. В августе 1944 года он был арестован, судим и приговорен к бессрочной каторге с конфискацией имущества; ему удалось бежать в 1951 году и добраться до Швейцарии при помощи Элис Токлас. Гертруды Стайн к тому времени не было в живых, она умерла спустя год с небольшим после окончания Второй мировой войны. Бернар Фей был помилован президентом Франции Рене Коти в 1959 году. Элис Токлас пережила Гертруду Стайн более чем на два десятилетия. Свою настоящую автобиографию она все-таки написала и издала в 1963 году, но сюжетно книга заканчивается 1946 годом, уходом из жизни ее Гертруды229.
Ил. 62. Мемориальная доска на доме № 27 по улице Флёрю в Париже, где жили Гертруда Стайн и Элис Токлас. Фото Алека Д. Эпштейна
Перед отъездом Лео в Италию в 1914 году (насколько известно, за всю последующую жизнь они встретились всего единожды, причем случайно) брат с сестрой провели раздел коллекции, тем самым положив конец одному из самых значительных собраний произведений искусства того времени. Альфред Барр (Alfred Barr, 1902–1981), первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке, верно подметил, что «на протяжении двух лет — с 1905 по 1907 год — Лео Стайн был самым прозорливым и образованным коллекционером произведений живописи XX столетия во всем мире»230. Однако после 1907 года, когда в изобразительном искусстве появились новые течения (кубизм, а чуть позднее и футуризм), Лео не смог принять их. С нескрываемой грустью он писал в США Мэйбл Фут Уикс:
Я еду во Флоренцию, где царит девственная, нетронутая красота старой школы, еду без единой работы Пикассо и почти без Матисса, забирая с собой лишь две картины и несколько акварелей Сезанна и шестнадцать работ Ренуара. Да, более чем странный багаж для поборника современного искусства, но что Вы хотите — эта битва завершена, и в ней уже очевидны победители и побежденные231.
Лео стал убежденным поклонником «певца красоты» П. О. Ренуара, начав распродавать полотна более авангардных художников из своей коллекции.
Девятнадцать работ Анри Матисса, предоставленных Сарой и Майклом Стайн для выставки в Салоне искусств Фрица Гурлитта (Fritz Gurlitt) в Берлине, не удалось получить обратно из-за перипетий Первой мировой войны. Когда США в 1917 году вступили в войну, немецкие власти конфисковали картины. Датский предприниматель Кристиан Тетцен-Лунд (1852–1936), покупавший работы А. Матисса с конца 1916 года, и норвежский судовладелец Трюггве Саген начали переговоры с Сарой и Майклом Стайн о приобретении этих картин. Подробности этих переговоров неизвестны, но в октябре 1920 года искусствовед Карл Петерсен сообщил в одной из местных газет, что девятнадцать картин прибыли в Копенгаген232, после чего были поделены между двумя скандинавскими покупателями (хотя К. Тетцен-Лунд задержал процесс раздела на год, оставив себе в итоге 11 из 19 приобретенных картин). Как справедливо указывал Каспер Монрад в обстоятельной статье, посвященной этому вопросу, «будучи представителями нейтральных стран, они могли быть признаны в качестве покупателей в Германии, в отличие от французов и русских, которые из-за войны не могли вывести полотна из страны, и немцев, лишенных возможности покупать произведения искусства по внутренним причинам»233.
Учитывая, что еще около двадцати картин А. Матисса К. Тетцен-Лунд купил непосредственно у самого художника, справедливы были слова К. Петерсена о том, что его коллекция дает «такое полное представление об искусстве Анри Матисса, которое вряд ли уступает впечатлению от посещения второго крупного собрания работ художника — собрания Щукина в Москве»234.
Позднее Альфред Барр в своей первой фундаментальной обзорной книге о Матиссе назвал Кристиана Тетцен-Лунда «самым крупным коллекционером работ Матисса в десятилетие с 1915 по 1925 год»235. Однако К. Тетцен-Лунд был, прежде всего, коммерсантом, а не ценителем искусства, и, едва собрав коллекцию, почти сразу же стал перепродавать работы, оказавшиеся в его собственности (Трюггве Саген продал принадлежавшие ему и очень подорожавшие работы А. Матисса еще быстрее, уже в мае 1924 года). Первым, уже в декабре 1922 года, было продано полотно «Радость жизни», купленное Лео Стайном в Салоне Независимых в 1906 году; новый покупатель, американский врач, изобретатель и коллекционер Альфред Барнс (1872–1951) заплатил за полотно 45 тысяч франков, что чуть более чем вдвое превышало сумму, уплаченную К. Тетцен-Лундом тремя годами ранее. В последующие годы Тетцен-Лунд продал и почти все остальные работы Матисса из своего собрания, причем покупателем шести из них был все тот же А. Барнс. Восемь картин Матисса из собрания Тетцен-Лунда приобрел инженер и рантье Йоханнес Румп (1861–1932), сам покупавший, среди многих других, работы этого художника с июня 1914 года. В 1928 году Й. Румп подарил свое собрание, включавшее, в частности, шестнадцать полотен А. Матисса, Государственному художественному музею в Копенгагене, где оно находится и поныне.
Какие-то работы А. Матисса все же остались в семье Сары и Майкла Стайн, но под конец жизни Саре, пережившей мужа на восемнадцать лет, приходилось распродавать работы любимого художника, чтобы расплатиться с игорными долгами внука Дэниела. Сохранившиеся работы в основном попали в Музей современного искусства Сан-Франциско, а то, что в свое время приобрели сестры Кон, — в Балтиморский музей искусств. Меняя владельцев, произведения Матисса продолжали свою жизнь в истории мирового искусства. Матисс становился все более знаменитым, однако он никогда не забывал, кто протянул ему руку тогда, когда, делая шаги в новое искусство, он слышал со всех сторон лишь насмешки.
В 1921 году, остро нуждаясь в деньгах, Лео Стайн продал ряд работ П. О. Ренуара из своего собрания Альберту Барнсу. Барнс впервые посетил квартиру Стайнов и увидел их собрание 9 декабря 1912 года. Он сразу же нашел общий язык с Лео Стайном — оба они были космополитичными американцами, оба видели в произведениях искусства выражение состояния человеческой души, а не средство обогащения. Кроме того, Лео отличался пытливым аналитическим умом, поэтому беседы с ним давали А. Барнсу возможность обсудить множество самых разных вопросов, которые касались искусства, его истории, теории и предназначения. В начале 1913 года между ними завязалась переписка, продолжавшаяся до самой кончины Лео в 1947 году. А. Барнс высоко ценил интеллектуальные способности и образованность Л. Стайна, заверяя его, что не знает больше никого, кто мог бы говорить об искусстве с таким же знанием дела. Он убеждал Лео облечь свои мысли в письменную форму и задуматься о том, чтобы опубликовать их в виде статей, обещая помочь ему опубликовать эту книгу236. В 1933 году А. Барнс отдал должное интеллектуальным заслугам Лео, посвятив ему свою книгу о Матиссе, отметив, что он «первым рассмотрел в Матиссе гения... более двадцати лет тому назад». Лео также повлиял на художественные вкусы Альберта: заразив его любовью к Ренуару, он при этом привил ему интерес к Матиссу и раннему (докубистскому) Пикассо. Кроме того, Л. Стайн ввел А. Барнса в круг знакомых ему деятелей парижского искусства237.
Живя между Соединенными Штатами и Италией, он все же пытался браться за перо и начиная с 1916 года стал автором ряда критических статей об искусстве в журнале The New Republic. Но его первая книга, «Азбука эстетики», опубликованная в 1927 году, была встречена очень холодно. Лео так никогда и не смог оправиться от этой неудачи. Его вторая книга — сборник эссе и воспоминаний «Постижение: живопись, поэзия и проза» — увидела свет только в 1947 году, за считанные недели до его кончины.
Ил. 63. Каталог выставки «The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Gardé» / Ed. by Janet Bishop, Cécile Debray, and Rebecca Rabinow (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012). На обложке — репродукция картины Анри Матисса «Женщина в шляпе», 1905 г.
Сестры Кон сохранили свое собрание в неприкосновенности. В соответствии с последней волей Этты Кон Балтиморскому художественному музею были переданы коллекции, собранные как ею самой, так и ее сестрой Кларибел, а также денежные средства для постройки дополнительного крыла здания для их размещения; новые залы, в которых экспонируется собрание сестер Кон, были открыты для публики в 1957 году. Это собрание остается общедоступным и поныне.
В годы, проведенные в Париже, Лео, Гертруда и Элис неутомимо продвигали и стремились популяризовать постимпрессионистское и фовистское искусство, при этом они поддерживали художников, которые были еще неизвестны публике и испытывали финансовые трудности. Стайны помогали им, приобретая их картины и рисунки, вводя их в круг заинтересованных людей, в первую очередь приезжавших из США, создавая тем самым основу для их последующего продвижения на арт-рынке. Семье Стайнов и сестрам Кон американское общество обязано первым широким знакомством с новой европейской живописью, а парижские «новые» — первыми публикациями об их творчестве в американской прессе. Благодаря своей дальновидности, образованности и небывалому энтузиазму эти люди вписали уникальную страницу в историю мирового искусства, дав существенный импульс к развитию самым передовым художникам своего времени.
Масштабная выставка «The Steins Collect: Matisse, Picasso, and the Parisian Avant-Garde», прошедшая в Большом дворце в Париже, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и в Музее современного искусства в Сан-Франциско в 2011–2012 годах, в рамках которой фактически реконструированы салоны домов и квартир, где жили в столице Франции Гертруда, Лео, их брат Майкл и его супруга Сара, адекватно представила ту роль, которую сыграли члены семьи Стайнов в поддержке современного искусства в Париже в первой половине XX века. Большая выставка «Collecting Matisse and Modern Masters: The Cone Sisters of Baltimore», прошедшая в Еврейском музее в Нью-Йорке в 2011 году, отдала должное и сестрам Кларибель и Этте Кон238.
ГЛАВА 9
ПЕРВЫЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ: СЕРГЕЙ ЩУКИН, ИВАН МОРОЗОВ И ИХ КОЛЛЕКЦИИ
В 1910-е годы, наряду со Стайнами и сестрами Кон, работы А. Матисса приобретали и ценители из Москвы. Картины этого замечательного художника понравились, в частности, видному московскому предпринимателю Ивану Абрамовичу Морозову (1871–1921), который начал приобретать их с 1908 года (к тому времени он уже семь лет покупал произведения искусства). На знаменитом портрете И. А. Морозова, созданном В. А. Серовым в 1910 году (с 1928 года эта работа хранится в Третьяковской галерее), фоном служит полотно Анри Матисса «Фрукты и бронза», купленное Морозовым незадолго до этого за пять тысяч франков (ныне оно находится в ГМИИ им. Пушкина). Серов перерисовал это полотно весьма точно, ничего не добавив от себя. Кстати говоря, если верить воспоминаниям П. Эриксона, как раз тогда, весной 1910 года, будучи в Париже, Серов о Матиссе отзывался следующим, не самым комплиментарным, образом: «Некоторые вещи Матисса мне нравятся, но только некоторые, в общем же я его не понимаю»239. С творчеством этого художника В. А. Серов познакомился в Париже осенью 1909 года и, как видно из его письма жене, чувства он испытывал очень противоречивые: «Матисс, хотя чувствую в нем талант и благородство, но все же радости не дает, — и странно, все другое зато делается чем-то скучным — тут можно призадуматься. Как будто жестко, криво и косо, а между тем не хочется смотреть на висящие рядом вещи мастеров, исполненные в давно знакомой манере»240.
Были ли двое выдающихся художников знакомы, установить пока не удалось: в 1910 году В. А. Серов писал в письме в редакцию газеты «Речь», что был «очевидцем» восхищения Анри Матисса постановкой «Шехеразады» в Париже силами дягилевской труппы241, а осенью 1911 года, когда Матисс был в Москве, Серов присутствовал на некоторых приемах, устроенных в его честь или прошедших с его участием (в частности, в честь актрисы М. М. Блюменталь-Тамариной); однако разговаривали ли они хотя бы раз, достоверно неизвестно242. И. А. Морозов советовался с находившимся в Париже В. А. Серовым по поводу покупки работ Эдуарда Мане (он отсоветовал покупать пейзаж «Улица Монье, украшенная флагами») и Винсента Ван Гога243, но нет никаких сведений о том, что он консультировался с автором своего портрета относительно приобретения работ А. Матисса. Нет и никаких данных о том, что сам Матисс видел созданный Серовым портрет Морозова, в который был вплетен и его натюрморт, хотя, посетив в 1911 году Москву, художник побывал в огромном особняке И. А. Морозова на Пречистенке244. Из одиннадцати произведений Матисса в коллекции Морозова первым появился приобретенный 1 октября 1907 года за тысячу франков «Букет», за ним — купленный в 1908 году за пятьсот франков ранний натюрморт «Синий горшок и лимон», положивший начало уникальной группе натюрмортов этого художника.
Ил. 64. Валентин Серов. Портрет Ивана Морозова. 1910 г. с воспроизведенным натюрмортом Анри Матисса «Фрукты и бронза» на заднем плане. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Однако главная роль в поддержке А. Матисса принадлежала другому русскому бизнесмену. В конце весны 1906 года достаточно большой (почти метр в высоту) натюрморт А. Матисса «Посуда на столе», созданный в 1900 году и выставлявшийся в Салоне Независимых в 1902 году, где желающих приобрести его не нашлось, купил Сергей Иванович Щукин (1854–1936)245. Начиная с 1908 года и до начала Первой мировой войны С. И. Щукин был основным покупателем работ Анри Матисса. Всего он купил их 37. Щукин не погрешил против истины, написав в октябре 1913 года А. Матиссу: «Моя гостиная... становится настоящим музеем Вашего искусства»246. Художник знал об этом, ибо осенью 1911 года гостил в Москве в доме С. И. Щукина, где к тому времени висели уже 25 его работ (которые по его настоянию были перевешены, преимущественно в так называемую Розовую гостиную247). Щукин открыл свой особняк для публики еще в 1909 году, и его сразу же охотно стали посещать молодые художники, хотя многие живописцы, от И. Е. Репина до К. С. Петрова-Водкина, приходили в ужас от собранных им произведений.
При этом С. И. Щукин не только сам наслаждался произведениями А. Матисса, но и неустанно пропагандировал его творчество среди влиятельных руководителей европейских музейных институций:
Две недели тому назад я вернулся в Москву и за это время имел удовольствие принять у себя г-на Остхауза, основателя музея в Хагене, и нескольких директоров музеев (д-ра Петера Тессена из Берлина, д-ра X. фон Тренкмольда из Франкфурта, д-ра Хампе из Нюрнберга, д-ра Полашека из Гамбурга, д-ра Бака из Дармштадта, Макса Зауэрландта из Галле и Иенса Тисса из Христиании. Все они с величайшим вниманием рассматривали Ваши картины и в один голос называли Вас большим мастером. Г-н Остхауз приходил дважды (на обед и на ужин), и я заметил, что Ваши картины произвели на него большое впечатление. <...> Иенс Тисс, директор Музея изящных искусств Христиании (Норвегия), провел у меня два дня, главным образом изучая Ваши картины (на второй день он был с десяти утра до шести вечера). Он так ими увлекся, что надеется купить у Вас картину для своего музея. Остальные также спрашивали, где можно купить Ваши картины, и я ответил, что у Бернхейма в Париже или непосредственно у Вас248.
Обратим внимание, что из восьми директоров музеев семеро — немцы, а восьмой — норвежец, но среди них нет французов. С галереей Бернхем-Жён А. Матисс заключил трехгодичный контракт 18 сентября 1909 года, ему шел уже сороковой год — и впервые французская художественная институция (пусть и частная) выразила заинтересованность в его творчестве. А. Матисс по-прежнему оставался художником, привлекавшим почти исключительно иностранных ценителей, которые готовы были платить, и довольно много: панно «Танец» и «Музыка», созданные в 1910 году, огромны (в окончательном варианте они имеют размеры 2,6 × 3,9 метра каждая), но С. И. Щукин заплатил за них 27 тысяч франков!249 По свидетельству сына художника, не будь заказов С. И. Щукина, эти масштабные работы, по праву являющиеся сегодня гордостью Эрмитажа, никогда не были бы созданы250. И в России эти произведения нравились отнюдь не всем (академик живописи И. С. Остроухов, увидев два панно А. Матисса на лестнице в доме С. И. Щукина, охарактеризовал их одним словом — «ужасно»251), но Щукин пророчески писал Матиссу: «Публика против Вас, но будущее за Вами»252. Именно на деньги С. И. Щукина и других иностранных почитателей семья художника, у которого, напомним, было трое детей, смогла в 1912 году приобрести, наконец, свое жилье, но не в самом Париже (на это денег так и не нашлось), а в пригороде столицы, в Исси-ле-Мулино. Квартиру же на набережной Сен-Мишель в столице А. Матисс продолжал в то время только арендовать... Как указывал Альберт Костеневич, веря в нарратив Гертруды и, поэтому, видимо, несколько путая Стайнов между собой,
Щукин становился патроном Матисса. Вне всяких преувеличений, союз художника и собирателя послужил условием появления многих выдающихся работ. Для Матисса укрепление связей со Щукиным было тем необходимее, что в этот момент его положение снова, как в начале девятисотых годов, грозило сделаться трудным, ведь американцы Лео и Гертруда Стайн, покровительствовавшие ему и приобретшие несколько наиболее радикальных его полотен, стали от него отдаляться253.
А. Матисс собирался исполнить портрет своего нового мецената маслом, но, насколько известно, эта работа так никогда и не была создана. В Метрополитен-музее хранится портрет С. И. Щукина, выполненный углем в 1912 году. Как и подавляющее большинство рисунков Матисса, и этот основан на черно-белой гамме. Как утверждала А. С. Кантор-Гуковская в каталоге большой выставки художника, характерные для живописи А. Матисса и других фовистов экзальтация цвета, чистота и свобода средств выражения, не находили такого же выражения в графике254. Графика (как и скульптура) представляла собой весьма обособленную грань творчества Матисса. «Я всегда считал рисунок... в первую очередь средством выражения внутреннего чувства и передачи душевного состояния, но средством упрощенным, способным придать больше простоты и непосредственности изобразительному языку, который должен без труда восприниматься зрителем», — указывал художник255.
Ил. 65. Сергей Щукин. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Демская Александра, Семенова Наталия. У Щукина, на Знаменке... (М.: Банкъ Столичный, 1993)
А. Матисс не стремился разнообразить типаж своих моделей, но отбор их, основанный на пластической выразительности, на способности духовного отклика, имел для него колоссальное значение. «Главное чувство, которое руководит мной в течение всего процесса работы над портретом, целиком зависит от первого потрясения, испытанного мной при взгляде на лицо»256.
На этом графическом листе художнику удалось всецело запечатлеть внешний и внутренний облик своей модели. Из легких и, казалось бы, мимолетных серых линий и пятен перед зрителем рождается осязаемый и понятный образ немолодого, но еще полного сил человека, открытого навстречу новым исканиям и впечатлениям. Аккуратный пробор седеющих волос, гладко выбритые щеки подчеркивают его респектабельное положение в обществе, морщины выдают возраст, но глаза — миндалевидной формы, словно лукаво сощуренные — блестят живым любопытством и говорят о незаурядном интеллекте; именно они придают всему образу динамичность и энергию, так что лицо даже приобретает несколько экзотическое выражение. Центр композиции смещен к верхнему левому углу, словно С. И. Щукин слегка отстраняется от рисующего его художника, щуря взгляд, чтобы лучше созерцать его труд. Поэтому весь портрет, на первый взгляд монохромный и лаконичный, играет тонкими психологическими красками, передавая несколькими мастерскими штрихами всю глубину образа мецената, его жизненный опыт и пытливый ум.
Написанные А. Матиссом «Записки художника» были опубликованы по-русски в журнале «Золотое руно» в 1909 году, спустя менее чем год, как они вышли по-французски. Более того: А. Барр отмечал, что шестой номер этого журнала за 1909 год «был самой полной публикацией, посвященной Матиссу на любом языке до 1920 года»257: он содержал статью о его творчестве и репродукции шестнадцати произведений (в том числе восьми — из русских собраний). Впервые же картина А. Матисса — «Десерт» 1897 года — была репродуцирована в России в журнале «Мир искусства» еще в 1904 году. По воспоминаниям И. Э. Грабаря, картину он увидел в галерее А. Воллара и заказал снимок для журнала:
Я заметил очень меня пленивший большой холст, изображавший обеденный стол с фигурой горничной, поправляющей букет цветов на столе. Вещь была сильно написана, хотя и несколько черновата. В ней был прекрасный общий гармоничный цветовой тон. Я просил Воллара дать сфотографировать эту вещь или достать с нее фотографию, если она имеется, которая нужна мне для помещения в лучшем модернистском журнале «Мир искусства». Журнал, оказывается, был ему знаком, и он назвал мне имя автора картины, прибавив, что он будет счастлив познакомиться с человеком, который хочет воспроизвести ее, в Париже никому не нужную и не интересную (sic!). Имя его было Анри Матисс, никому в Париже не ведомое, кроме тесного круга друзей. На следующий день в условленный час Матисс пришел, сказав, что ему, действительно, хотелось видеть человека, решающегося воспроизвести его картину: его вещей никто не воспроизводил258.
Спустя несколько лет различные полотна А. Матисса экспонировались в России на нескольких выставках: состоявшийся в апреле — мае 1908 года в Москве салон «Золотое руно» включал его картины «Прическа» 1901 года, «Терраса в Сен-Тропе» 1904 года, «Герань и фрукты» 1906 года и «Насыпь в Коллиуре» 1907 года (ни одна из этих работ, впрочем, не была приобретена российскими покупателями). Четыре картины и девять рисунков А. Матисса были показаны на выставке «Золотого руна» в 1909 году. Два полотна, в том числе «Молодой моряк» 1906 года, ныне хранящееся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, были включены в 1910 году в состав «Салона Издебского» и показаны, кроме Петербурга, в Одессе, Киеве и Риге259.
Коллекции, собранные Сергеем Щукиным и Иваном Морозовым, сохранились в России полностью, хотя и были поделены между двумя крупнейшими музеями страны по соображениям, до сих пор точно не известным. После Октябрьской революции, в 1918 году, коллекции Щукина и Морозова были национализированы. После того как Щукина выселили из комнат, которые занимали он и члены его семьи, в одну небольшую каморку при кухне, он вначале отправил в Германию жену и дочь, а затем вместе с сыном Иваном в августе 1918 года тайно последовал за ними. Щукин поселился в Париже в доме 12 на улице Виллем квартала Отей, где умер 10 января 1936 года. В годы эмиграции С. И. Щукин приобрел двенадцать картин двух художников: семь — Анри Ле Фоконье (Henri Le Fauconnier, 1881–1946) и пять — Рауля Дюфи260. Это были новые для Щукина имена, до тех пор их работы он не приобретал. Шесть из этих двенадцати работ сохранились в собрании наследников Щукина, и в 2004 году внук Сергея Ивановича Андре-Марк Делок подарил четыре произведения Ле Фоконье и два Рауля Дюфи московскому Государственному музею изобразительных искусств.
Хранителем коллекции С. И. Щукина в Москве была назначена его дочь Екатерина Сергеевна Келлер (1890–1977). Весной 1919 года коллекция была открыта для посещения под названием «Первый музей новой западной живописи». Е. С. Келлер была хранителем этого собрания с 4 октября 1918 по декабрь 1921 года, после чего и она вместе с семьей эмигрировала из России. Аналогичная судьба ждала собрание И. А. Морозова, которое 11 апреля 1919 года получило наименование «Второй музей новой западной живописи», а сам бывший владелец был назначен заместителем хранителя собственной коллекции (хранителем же был искусствовед Борис Николаевич Терновец, 1884–1941) и в течение нескольких месяцев исполнял эту должность, сопровождая посетителей по залам музея. 14 апреля 1919 года комендант принадлежащего некогда Ивану Абрамовичу особняка предписал семье Морозовых срочно переехать в выделенные им три комнаты на первом этаже. В конце апреля — начале мая 1919 года Иван Морозов вместе с женой Евдокией и дочерью навсегда покинул Россию. И. А. Морозов умер 22 июля 1921 года по дороге в Карлсбад, куда направлялся на лечение.
В 1929 году коллекции С. И. Щукина и И. А. Морозова были объединены в Государственный музей нового западного искусства, однако в 1948 году на волне кампании по борьбе с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом» этот уникальный музей был расформирован, а полотна поделены между Эрмитажем и ГМИИ. Попытки восстановить этот репрессированный музей, предпринимавшиеся многолетней руководительницей ГМИИ И. А. Антоновой, успеха не имели, прежде всего в связи с резким противодействием со стороны руководства Эрмитажа.
Широко известный факт, что в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств собрана первоклассная, не имеющая аналогов в мире, коллекция живописи импрессионистов, постимпрессионистов, фовистов и некоторых кубистов, сформировал в сознании любителей искусства представление, что благодаря личным контактам ведущих российских собирателей дореволюционной поры с крупнейшими художниками «Парижской школы» их работы в Москве и Санкт-Петербурге представлены с исчерпывающей полнотой. Однако это представление ошибочно как минимум по двум причинам.
Во-первых, кроме произведений Анри Матисса и сравнительно небольшой по размерам работы «Свидание», созданной девятнадцатилетним Пабло Пикассо на рубеже 1900–1901 годов (ныне находится в ГМИИ), ни одно из произведений художников «Парижской школы», насколько известно, не было приобретено русскими коллекционерами непосредственно у авторов, почти все произведения были куплены ими в галереях, чаще всего — Даниэля Анри Канвейлера. Так, именно у Д. А. Канвейлера С. И. Щукин приобрел в 1909–1910 годах все три находившихся в его собрании работы Мориса Вламинка (в настоящее время все они находятся в Эрмитаже, наряду с еще одним полотном, приобретенным Иваном Морозовым в галерее Амбруаза Воллара261; еще две работы Вламинка из собрания И. А. Морозова находятся в ГМИИ в Москве, и обе они также прошли через галерею А. Воллара262). Что касается Андре Дерена, то из 22 его работ, находящихся в ведущих музеях России (пятнадцать в Эрмитаже и семь в ГМИИ), не менее восемнадцати были приобретены через галерею Д. А. Канвейлера: одна, полотно «Стол и стулья» 1912 года — Иваном Морозовым, а все остальные полотна — Сергеем Щукиным; Иван Морозов также приобрел картину А. Дерена «Просушка парусов» 1905 года в галерее А. Воллара (ныне в ГМИИ), а полотно «Дорога среди гор» 1907 года — на выставке Салона Независимых (ныне в Эрмитаже)263. Что касается Кеса ван Донгена, то из восьми его работ, находящихся в Эрмитаже и в ГМИИ, через галерею Д. А. Канвейлера С. И. Щукин купил две: «Антония Лакокинера» (1907) и «Дама в черной шляпе» (1908); еще одно полотно, «Весна» (1908), Щукин приобрел в галерее Бернхейм-Жён, и там же Михаил Осипович Цетлин приобрел работу «Люси и ее партнер» (1911 года) (ныне все они находятся в Эрмитаже). Другие работы художника попали в Эрмитаж и ГМИИ из собраний И. П. Рябушинского и С. А. Полякова, купивших соответственно картины «Красная танцовщица» и «Дама с черной перчаткой» на выставке Салона «Золотое руно» в Москве весной 1908 года, и из собрания Георгия Дионисовича Костаки, подарившего колоритную «Испанку» (1911) ГМИИ в 1966 году264. Таким образом, ни одна из 36 работ этих трех выдающихся фовистов не была приобретена напрямую у самих художников, а большая их часть прошла через галерею Д. А. Канвейлера.
Широко известный факт глубокой заинтересованности в творчестве Анри Матисса со стороны двух выдающихся российских коллекционеров, С. И. Щукина и И. А. Морозова не подлежит сомнению, как не подлежит сомнению и то, что именно выплаченные ими гонорары за его полотна позволяли Матиссу достаточно безбедно существовать в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, и, в частности, купить дом в Исси-ле-Мулино. Однако внимательное изучение провенанса всех полотен Анри Матисса, находящихся в настоящее время в Эрмитаже и в ГМИИ, показывает, что большая часть его работ приобретена коллекционерами отнюдь не у художника, а в галереях. В настоящее время в собрании Эрмитажа находится 38 полотен Анри Матисса, выполненных маслом, в собрании Музея изобразительных искусств в Москве — еще девятнадцать, в том числе два небольших этюда на фанере, созданные художником в 1936 году. Из этих 57 работ из собраний Морозова и Щукина происходят 48, еще шесть работ — по три каждому из ведущих музеев — подарила уже после его кончины многолетняя муза художника Лидия Николаевна Делекторская (1900–1998); «Балерина» находилась в собрании Йозефа Отто Кребса (Josef Otto Krebs, 1873–1941) в городе Хольцдорф и попала в СССР в конце Второй мировой войны. «Подсолнечники в вазе» до 1918 года находились в собрании Михаила Осиповича Цетлина (см. о нем в двенадцатой главе нашей книги), еще одна работа была в 1912 году подарена художником Илье Семеновичу Остроухову (1858–1929). Из оставшихся работ 11 куплены И. А. Морозовым, а 37 — С. И. Щукиным265.
Иван Абрамович Морозов, однако, у самого автора купил только четыре полотна: «Фрукты, цветы, панно „Танец“» в 1910 году (ныне в Эрмитаже), а также в 1913 году, во время визита к художнику в Исси-ле-Мулино, — три работы, созданные Анри Матиссом в ходе его второй поездки в Марокко. Остальные же полотна художника И. А. Морозов приобрел в различных галереях: три — в галерее Бернхейм-Жён, две — в галерее Дрюэ, одну — у Амбруаза Воллара, а одну — на выставке Осеннего салона. Сергей Иванович Щукин, несмотря на достаточно близкое знакомство с художником, которого он в 1911 году принимал в своем доме в Москве, также большую часть его полотен купил в галереях. Происхождение пяти работ в точности не известно, еще девять приобретено в галерее Бернхейм-Жён, пять — в галерее Дрюэ, и одна работа (ранний натюрморт «Посуда и фрукты» 1901 года) — в 1908 году у Берты Вайль. Семнадцать работ С. И. Щукин купил у художника напрямую, причем особое значение имеют четыре работы, созданные художником непосредственно по заказу коллекционера (ныне все они находятся в Эрмитаже): огромные панно «Танец» и «Музыка» длиной почти четыре метра каждое, а также «Испанский натюрморт» и «Севильский натюрморт», размеры которых существенно меньше, но тоже весьма значительны: 90 на 117 см каждое. За эти четыре работы С. И. Щукин заплатил художнику в 1909–1910 годах 37 тысяч франков — никто прежде у Анри Матисса таких больших работ никогда не заказывал и таких гонораров ему не платил. В 1911–1913 годах Сергей Иванович заплатил художнику более 50 тысяч франков за приобретенные у него полотна, еще 24 тысячи заплатил ему И. А. Морозов. Нет никаких сомнений, что именно этим двум выдающимся российским собирателям Анри Матисс обязан тем, что на пятом десятке он перестал испытывать финансовые трудности, имея возможность полностью отдаться творчеству и не думать о том, как свести концы с концами и содержать семью.
Начало Первой мировой войны, на которую Анри Матисс, в отличие от Жоржа Брака или Моисея Кислинга, не был призван, стало для него, однако, личной катастрофой, ибо после 1914 года ни С. И. Щукин, ни И. А. Морозов больше его работы не приобретали. Вместе с тем десятки проданных за достаточно большие деньги работ утвердили статус Анри Матисса как одного из ведущих художников своего времени, что побуждало и других коллекционеров обратить внимание на его работы. Случай Анри Матисса при этом совершенно исключительный: работы всех остальных художников-фовистов, будь то Морис Вламинк, Андре Дерен или Кес ван Донген, ни С. И. Щукин, ни И. А. Морозов у художников напрямую ни разу не покупали, все они оказались в их собраниях только при посредничестве различных галеристов. Как было показано выше, этим же путем в дореволюционной России оказалась и большая часть полотен Матисса, но в его случае более двадцати произведений были куплены российскими собирателями непосредственно у живописца или даже заказаны ему.
Обращает на себя внимание и тот факт, что, в отличие от работ трех других выдающихся художников-фовистов, ни одна из картин Матисса не прошла через галерею Даниэля Анри Канвейлера, тогда как подавляющее большинство произведений и Вламинка, и Дерена, и ван Донгена С. И. Щукин купил именно там. В наши дни эти художники, вместе с Анри Матиссом, составляют единую золотую плеяду отцов-основателей фовизма, создавших на протяжении десятилетия, предшествовавшего Первой мировой войне, основные произведения, признанные каноническими для этого художественного направления, однако, как было показано выше, продажа работ этих художников шла разными путями, хотя все четверо оказались представлены в России большими подборками работ исключительного качества.
Во-вторых, не менее важно то, что другие художники (не фовисты), относимые к «Парижской школе», представлены в главных российских музеях зарубежного искусства достаточно случайно, причем к приобретению их работ ни С. И. Щукин, ни И. А. Морозов вообще не были причастны. Так, три работы Рауля Дюфи находились в различных частных собраниях, оказавшись в музеях спустя многие десятилетия после того, как были созданы. «Портрет Сюзанны Дюфи, сестры художника» (1904), принадлежавший А. Л. Мясникову, приобретен Эрмитажем только в 1968 году, спустя пятнадцать лет после смерти живописца. Созданное в 1936 году полотно «Парусники в гавани Довиля» приобретено Эрмитажем из частного собрания лишь в 1998 году. Единственная работа маслом Рауля Дюфи в ГМИИ — «14 июля в Довиле», — созданная в 1933 году, находилась в собрании М. Э. Кагановича и была подарена музею в 1969 году266. При жизни же Рауля Дюфи ни одной его работы в музеях России/СССР не было.
Ныне в Москве и Петербурге находятся три работы Мориса Утрилло; лишь одна из них, «Улица Мон-Сени на Монмартре», экспонировавшаяся в Москве в 1929 году на выставке «Современное французское искусство», тогда же приобретена для Государственного музея нового западного искусства, ликвидированного в 1948 году (ныне работа находится в ГМИИ). Две другие поступили спустя многие годы после кончины художника: «Белый дом» (1912 года), в числе других работ приобретенный у автора ценившим его творчества литератором Луи Лормелем (Louis Lormel, 1869–1922), с 1929 года находился в собрании М. Э. Кагановича, спустя сорок лет, в 1969 году, подарившего работу ГМИИ. Находящееся же в Эрмитаже полотно «Улица Кюстин на Монмартре», созданное около 1910 года, приобретено музеем в 1997 году267. Единственная в собрании Эрмитажа работа Андре Лота (André Lhote, 1885–1962) — «Зеленый пейзаж» (созданный в 1921 году) — находилась в собрании Леопольда Зборовского, откуда в 1927 году попала в Государственный музей нового западного искусства268.
Единственные художники «Парижской школы», чьи работы попали в ведущие российские музеи напрямую, — это Леопольд Сюрваж и Фернан Леже; в последнем случае это объяснялось ярко выраженной прокоммунистической ориентацией художника. В 1927 году он передал Б. Н. Терновцу две свои композиции, созданные в 1918 и 1924 годах соответственно; первая из них ныне находится в ГМИИ, а вторая — в Эрмитаже. В 1949 году группа учеников Фернана Леже прислала полотно «Открытка» в подарок на 70-летие И. В. Сталина — это была единственная работа кого-либо из «Парижской школы», экспонировавшаяся в СССР в то время в Музее подарков Сталину, под который на долгие четыре года было отдано здание ГМИИ на Волхонке269. Л. Сюрваж передал в дар советским музеям три своих полотна; «Пейзаж» и «Пейзаж с красной фигурой» (в 1927 году) и «Аллегорию» (в 1948 году) — первая из этих работ ныне находится в Эрмитаже, вторая и третья — в ГМИИ270.
Отдельные произведения мастеров «Парижской школы» были подарены ГМИИ их вдовами и детьми многие годы спустя после их кончины: так, три полотна Фернана Леже были преподнесены его вдовой Надей Леже в 1969 и 1978 годах, три работы Лазаря Воловика (Lazare Volovick, 1902–1977) — его вдовой Лией Гржебиной в 1983 году, «Пляж» Ивана Пуни (Jean Pougny, 1892–1956) — его вдовой Ксенией Богуславской-Пуни (1892–1971) в 1970 году, а три произведения Марка Шагала («Ноктюрн» 1947 года, «Белая лошадь» 1960 года и «Художник и его невеста» 1980 года) — его дочерью Идой в 1990 году271. Хаим Сутин представлен лишь одним автопортретом 1921 года, приобретенным Эрмитажем в 1997 году272, а работ Амедео Модильяни, Пинхуса Кременя, Михаила Кикоина, Мане-Каца, Моисея Кислинга, Жюля Паскина и многих других художников «еврейского Монпарнаса» ни в Эрмитаже, ни в ГМИИ нет вообще, как нет скульптур Осипа Цадкина и Ханы Орловой. Не ставя под сомнение совершенно исключительный уровень собрания живописи фовистов, собранного преимущественно через галерею Д. А. Канвейлера Сергеем Щукиным и другими выдающимися российскими ценителями передового искусства, нельзя не констатировать тот грустный факт, что «Парижская школа» представлена в ведущих российских музеях лишь фрагментарно, причем работ многих художников — уроженцев России, творческий талант которых раскрылся на земле Франции, в этих музеях зачастую нет вообще. Хочется надеяться, что эта огорчительная лакуна будет заполнена в обозримом будущем, пока же важно обратить на нее внимание — как представляется, гордость за великолепные собрания Эрмитажа и ГМИИ не всегда оставляет время на то, чтобы задуматься над тем, чего в этих собраниях недостает. Отсутствие работ многих представителей «Парижской школы» — одна из самых досадных лакун такого рода.
ГЛАВА 10
ХУДОЖНИКИ «РУССКОГО БАЛЕТА» СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
О деятельности Сергея Павловича Дягилева сказано и написано очень много, причем новые публикации появляются каждый год, поэтому на страницах настоящей книги нет необходимости описывать эту деятельность столь подробно, как она того заслуживает. Вместе с тем отдельные моменты имеют критическое значение для нашего повествования и анализа и обойти их вниманием никак нельзя. В отличие от остальных галеристов и меценатов, которым посвящена наша книга, С. П. Дягилев, насколько известно, никогда не покупал у художников картин, не платил им стипендий, не устраивал им персональных выставок. Его отношения с художниками были принципиально другими: он приглашал их участвовать в создании под его руководством новых произведений, которые для некоторых из них (при этом отнюдь не для всех) стали вершиной их творческого пути.
С. П. Дягилев всемирно известен как организатор балетных сезонов 1909–1929 годов, фактически перевернувших представления западноевропейской публики об этом жанре искусства. Однако очень важно помнить, что балет был не первым, а лишь четвертым жанром искусства, к которому Дягилев обратился в Париже. Первому балетному сезону 1909 года предшествовала постановка оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» с Ф. И. Шаляпиным в главной партии за год до этого, что, в свою очередь, было продолжением организованных в 1907 году «Русских концертов», в которых исполнялись произведения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, А. Н. Скрябина, А. С. Танеева, А. П. Бородина и других, — всего было подготовлено пять программ, в которых среди других солистов и дирижеров участвовали также композиторы Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов и А. К. Глазунов.
Менее чем за пять лет «Борис Годунов», «Князь Игорь» и другие русские постановки, пение Шаляпина, танцы Павловой, Карсавиной и Нижинского, исполнение и дирижирование таких музыкантов, как Римский-Корсаков, Глазунов, Скрябин и, более всего, появление первоклассного молодого русского композитора Игоря Стравинского создали такую сенсацию, возбудили такой интерес, что с этого времени русское искусство стало модой дня по крайней мере на десятилетие, и его влияние распространилось по всей художественной жизни западного мира,
— отмечал композитор Николай Набоков, один из балетов которого был поставлен труппой С. П. Дягилева273.
Однако Н. Д. Набоков не упомянул, что еще раньше, в 1906 году — и с этого, собственно, началась вся парижская деятельность С. П. Дягилева — этим выдающимся импресарио была организована выставка русской живописи XVIII–XIX веков. Именно она стала «первым выстрелом», попавшим точно в цель и обеспечившим благоприятную стартовую площадку для последующей деятельности на протяжении почти четверти века. Эта выставка очень мифологизирована, и нужно прояснить, что на ней было, а чего не было. С. П. Дягилев включил в экспозицию произведения художников русского классицизма и реализма, в частности картины В. Л. Боровиковского, Д. Г. Левицкого, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова и О. А. Кипренского (работы этих художников были представлены и на «Историко-художественной выставке русских портретов», организованной С. П. Дягилевым в Таврическом дворце в Петербурге в марте 1905 года). Основные же залы были отданы художникам-современникам, участникам выставок «Мира искусства»: Льву Баксту, Александру Бенуа, Владимиру Борисову-Мусатову, Михаилу Врубелю, Константину Коровину, Валентину Серову, Константину Сомову, Николаю Рериху и другим; было представлено и собрание русских икон из коллекции академика Н. П. Лихачева (эта коллекция была в 1913 году выкуплена императором Николаем II и поступила в Русский музей). Не желая привлекать внимание французов к российским социальным проблемам, которые, как он, вероятно, считал, не будут им интересны и не будут ими поняты, С. П. Дягилев не включил в экспозицию никого из художников-передвижников. Не было на выставке и работ, которые можно было отнести к художественному авангарду, делавшему в то время в России только самые первые шаги: революция, произведенная Полем Сезанном, еще не была принята во внимание деятелями русской культуры.
Ил. 66. Обложка книги Сергея Лифаря «Дягилев» (М.: Композитор, 1993). В правой части обложки — портрет С. П. Дягилева работы Л. С. Бакста 1906 г.
Тот факт, что С. П. Дягилев начал «покорение Парижа» и — шире — Западной Европы в целом (а после парижского Осеннего салона он повез эту выставку в Берлин, где на открытие пожаловал лично кайзер Вильгельм II с семьей) именно с живописи, показывает, что к художникам он относился с большим трепетом и впоследствии видел в них не ассистентов хореографов по вопросам оформления, а равноправных создателей новых произведений искусства, успех которым должно было обеспечить именно единство танца, музыки, костюмов и декораций. С. М. Лифарь, сам бывший танцором, а позднее хореографом, а отнюдь не художником, отмечал:
Первое, что оценила парижская публика в русском балете, была живопись (театральная живопись и была самым новым словом), второе — артистов-исполнителей... Прежде всего были оценены декорации и костюмы Александра Бенуа (в «Сильфидах» и «Павильоне Армиды»), Льва Бакста (в «Клеопатре»), Николая Рериха (в «Князе Игоре»), Константина Коровина (в «Пире») и Александра Головина (в «Псковитянке») — и оценены не только с чисто художественной точки зрения, но и с точки зрения новых театральных откровений и новых принципов. Декорации действительно должны были поразить своей прекрасной новизной; они были исполнены настоящими, большими художниками, а не ремесленниками-декораторами, производившими безнадежно серую бутафорскую бесцветность274.
Об этом же писал и критик А. Варно: «Весь зал замер в оцепенении, и атмосфера спектакля, уже приготовленная первыми тактами оркестра, была создана поднятием занавеса, прежде чем начался танец». Этот критик уподобил декорации А. Н. Бенуа и Л. С. Бакста, которого он назвал гением, «револьверным выстрелам в зеркало»275.
Ил. 67. Лев Бакст, 1916 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
Обращает на себя внимание, что первоначально все представленные в Париже С. П. Дягилевым балеты оформлялись художниками «Мира искусства», причем, если в 1909–1911 годах хореографом всех спектаклей был Михаил Фокин (1880–1942), то художники привлекались самые разные: «Половецкие пляски» оформлял Н. К. Рерих, балет «Павильон Армиды» на музыку Н. Н. Черепнина, «Сильфиды» Ф. Шопена и «Жизель А. Адана, равно как и сразу ставшего знаменитым «Петрушку» И. Ф. Стравинского — Александр Бенуа, хореографическую картину «Подводное царство» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко» — Борис (Бер) Анисфельд (Boris Anisfeld, 1878–1973), а все остальные спектакли, включая «Пир», «Клеопатру», «Карнавал», «Видение розы», «Нарцисса» и получившую наибольшую известность «Шехеразаду», оформлял Лев Бакст, вместе с которым над «Жар-птицей» И. Ф. Стравинского летом 1910 года работал А. Я. Головин.
Видный собиратель произведений русского театрально-декорационного искусства Никита Лобанов-Ростовский называет Л. С. Бакста «истинным волшебником и архитектором сцены», который «сочетал в себе неповторимый талант рисовальщика, превосходное чувство цвета и пластики с вдохновенной интерпретацией восточных мотивов»276. «Шедевром» назвал декорации и костюмы Л. С. Бакста к «Шехеразаде» искушенный И. Ф. Стравинский, охарактеризовав их как «самое совершенное достижение Русского балета со сценической точки зрения»277.
В 1912–1914 годах наряду с М. М. Фокиным хореографом становится ведущий танцор труппы Вацлав Нижинский (1889–1950), но верность С. П. Дягилева художникам «Мира искусства» сохраняется, здесь пока не происходит никаких изменений: все четыре представленных в 1912 году балета оформил Лев Бакст, а в 1913 году он же оформил балет «Игры» на музыку Клода Дебюсси, Н. К. Рерих — «Весну священную» И. Ф. Стравинского, а С. Ю. Судейкин — балет «Трагедия Саломеи» на музыку Флора Шмитта. В 1914 году «Русский балет» С. П. Дягилева представил в Париже и Монте-Карло пять новых постановок, четыре из них оформили Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа и М. В. Добужинский.
Именно тогда, в мае 1914 года, в круге дягилевских художников впервые появляется имя, с «Миром искусства» не связанное, — Наталия Гончарова оформила балет «Золотой петушок» на музыку Н. А. Римского-Корсакова. После успеха «Золотого петушка» Н. С. Гончарова приняла предложение С. П. Дягилева стать постоянным художником его спектаклей и в 1915 году переехала во Францию. Декорации Гончаровой представляли собой утонченное этнографическое исследование, воплощенное в сдержанном восточном орнаменте, высоком искусстве Запада и ностальгическом обращении к прошлому278. В интервью, данном в 1959 году, Н. С. Гончарова рассказывала, что, работая над костюмами для балета «Золотой петушок», она черпала вдохновение, посещая археологические музеи, где открыла для себя прикладное искусство XVI–XVII веков279.
В следующем году С. П. Дягилев представил только один балет — «Полуночное солнце» на музыку того же Н. А. Римского-Корсакова (из-за начавшейся Первой мировой войны спектакль прошел не во Франции, а в швейцарской Женеве), где художником-постановщиком выступил супруг Н. С. Гончаровой (они были вместе с 1900 года) М. Ф. Ларионов, комиссованный из российской армии после тяжелого ранения. Эти художники оформляли различные дягилевские балеты и в 1916, и в 1917, и в 1921–1923, и в 1926 годах; последним оформленным М. Ф. Ларионовым спектаклем стал «Сказ про лису, петуха, кота да барана» на музыку И. Ф. Стравинского, поставленный С. М. Лифарем 21 мая 1929 года, в последний вечер, когда дягилевская труппа представила парижским зрителям два своих новых балета.
С. П. Дягилев, потерявший после Октябрьской революции существенную часть своих покровителей, не всегда мог расплатиться вовремя с работавшими над оформлением спектаклей художниками. Из-за отсутствия средств и дороговизны жизни в Париже в 1918–1919 годах Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов жили в чужом имении в окрестностях города Ньевр в Бургундии. В Париж они вернулись только 5 мая 1919 года, поселившись в доме на улице Сены, 43 (угол улицы Жака Калло, 16), в четверти часа ходьбы от Академии художеств, где и жили до конца своих дней280. Интересно, что в 1926 году С. П. Дягилев заказал у Н. С. Гончаровой новые декорации для возобновляемого балета «Жар-птица» на музыку И. Ф. Стравинского, ибо декорации А. Я. Головина пропали во время Первой мировой войны. Н. С. Гончарова — художница принципиально иного дарования, очень далекая от эстетики «Мира искусства», разделявшейся А. Я. Головиным, вследствие чего правомерно говорить не столько о возобновлении в Лондоне в ноябре 1926 года «Жар-птицы», сколько о создании нового спектакля на ту же музыку И. Ф. Стравинского. Это был последний спектакль дягилевской труппы, в работе над которым принимала участие Н. С. Гончарова281.
Английский балетный критик Арнольд Хаскель (Arnold Lionel Haskell, 1903–1980) следующим образом оценивал роль Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова в дягилевских сезонах: «Они были „мостом“, который Дягилев прошел от Бенуа и Бакста до Пикассо и Парижской школы»282. Именно так оно и было. До 1915 года включительно С. П. Дягилев работал исключительно с российскими художниками. Все его танцоры и хореографы также были россиянами, и лишь музыку он использовал не только русских, но и западноевропейских композиторов, признанных неотъемлемой частью пантеона мировой культуры: Фредерика Шопена (балет «Сильфиды»), Роберта Шумана («Карнавал»), Адольфа Адана («Жизель»), Карла-Марии фон Вебера («Видение розы»). Сергей Лифарь признавал, что наименьшим успехом у публики пользовались как раз «Жизель» и балет Михаила Фокина «Сильфиды» на музыку Шопена, ибо «от русского балета требовали на первых порах русской экзотики, и находили ее в огненной стремительности и яркой вакханалии красок и движения половецких танцев»283. («Половецкие пляски» из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» были триумфально представлены в ходе самого первого вечера русских балетов в Париже 19 мая 1909 года; «Сильфиды» — двумя неделями позже.) В «Князе Игоре» восхищали и декорации; даже взыскательный Игорь Стравинский много лет спустя говорил, что любовался ими284. Упреки в «недостатке экзотики» звучали и в 1906 году в ходе организованной С. П. Дягилевым в Париже художественной выставки. Так, арт-критик Луи Рео, увидев работы российских художников, выполненные на уровне и в соответствии с канонами европейских художественных школ, жаловался: «Публика, наивно ожидавшая увидеть произведения византийского или азиатского вкуса, была разочарована этим „европеизированным“ искусством, которое она упрекала в отсутствии „экзотизма“, а значит, оригинальности»285.
Ил. 68. Наталия Гончарова, 1910 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
Тезис о том, что русское искусство, чтобы быть оригинальным, должно выглядеть византийски или азиатски, представляется в высшей степени сомнительным, однако очевидно, что часть публики рассуждала именно так и потому, действительно, осталась разочарованной, ибо С. П. Дягилев показывал императорскую Россию как одну из европейских держав, и в сфере искусства не уступавшую никакой из них.
Эта мысль для С. П. Дягилева была принципиальной, и чем дальше, тем больше от образов мнимой Византии он уходил в современную европейскую культуру. В 1912 году он впервые обратился к французским композиторам (его выбор оказался безупречно точным: Клод Дебюсси и Морис Равель) с просьбой написать музыку для его новых балетов; так появились «Послеполуденный отдых фавна» и «Дафнис и Хлоя», а в 1913 году — «Игры», музыку для которых также написал К. Дебюсси, однако все эти годы все без исключения художники-постановщики были россиянами. Ситуация впервые изменилась только в 1916 году, когда для оформления костюмов для балета «Менины», написанного французским композитором Габриелем Форе (1845–1924), был приглашен работать уроженец Барселоны Хосе Мария Серт (Josep Maria Sert, 1874–1945), живший в Париже с 1899 года.
Сегодня тот факт, что именно Х. М. Серт, а не кто-то из куда более известных в то время французских художников, был приглашен С. П. Дягилевым к сотрудничеству, выглядит не сказать, чтобы очевидным. Причиной обращения именно к этому художнику наверняка стала длительная дружба знаменитого импресарио с супругой Серта Мисей, урожденной Марией Годебской (Misia Sert, урожд. Maria Godebska, 1872–1950), с которой он познакомился еще в 1908 году, когда она была женой влиятельного издателя и редактора газеты Le Matin Альфреда Чарльза Эдвардса (Alfred Charles Edwards, 1856–1914). Она родилась в Царском Селе, где ее отец, будучи профессором императорской Академии художеств, участвовал в проекте реставрации императорского дворца. По свидетельству С. М. Лифаря, Мися Эдвардс-Серт «играла исключительно большую роль в творческой деятельности Сергея Павловича (особенно в период Русского балета)»: именно у нее разбирались и обсуждались планируемые новые постановки. «Мися постоянно поддерживала и материально, и морально Сергея Павловича и создала себе настоящий культ Дягилева, культ, обеспечивавший в большой степени успех его сезонов благодаря тому положению, которое она занимала в Париже»286. Дягилев регулярно посещал Мисю, которую он в одном из писем назвал своей сестрой287. По свидетельству С. М. Лифаря, в середине 1920-х годов Дягилев планировал пригласить Серта для оформления балета «Серенада инфанты»288, но этот план остался неосуществленным.
Х. М. Серт стал первым из художников нероссийского происхождения, с которым сотрудничал С. П. Дягилев. В апреле 1917 года представленный в Риме балет Леонида Мясина «Фейерверк» на музыку Игоря Стравинского в минималистской манере оформил один из основоположников итальянского футуризма Джакомо Балла (Giacomo Balla, 1871–1958), в мае 1917 года другой балет того же Л. Ф. Мясина «Парад» на музыку Эрика Сати оформил Пабло Пикассо; он же позднее оформил две другие постановки того же хореографа: представленную в Лондоне в июле 1919 года «Треуголку» на музыку Мануэля де Фалья, а в мае 1920 года — представленную в Гранд-опера в Париже «Пульчинеллу» на музыку И. Ф. Стравинского.
Ил. 69. Сергей Дягилев, художник Владимир Полунин (1880–1957) и Пабло Пикассо, 1919 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
В том же 1920 году с дягилевской труппой впервые сотрудничал Анри Матисс, оформивший другой балет Л. Ф. Мясина на музыку И. Ф. Стравинского «Песнь соловья». Осенью 1919 года Анри Матисс, не знавший английского языка, специально приехал в Лондон, чтобы работать над этим балетом, премьера которого состоялась в Париже 2 февраля 1920 года (16 июля того же года балет был впервые показан в лондонском Ковент-Гарден)289. Стравинскому, честно признававшему, что «живопись Матисса [его] никогда не увлекала», сам балет и его сценография не понравились: «Вся постановка, особенно в части работы Матисса, была неудачной»290. Мясин же в своих воспоминаниях назвал декорации А. Матисса восхитительными, указав, что они «обладали очарованием и утонченностью»291. Это был первый спектакль, в котором Анри Матисс, к тому времени уже отметивший пятидесятилетие, был приглашен выступить в качестве художника-постановщика292. Тогда же А. Матисс создал и графический портрет Л. Ф. Мясина. Двадцать лет спустя, уже после кончины С. П. Дягилева, Мясин вновь обратился к Матиссу с просьбой оформить балет, поставленный им на музыку Первой симфонии Д. Д. Шостаковича. «Вклад Матисса в этот балет... был столь же значителен, как и музыка композитора или работа хореографа», — отмечал Л. Ф. Мясин293.
Из четырех поставленных «Русскими балетами» Дягилева в 1920 году спектаклей русским художником был оформлен только один — «Весна священная» на музыку И. Ф. Стравинского, художником-постановщиком которого был Н. К. Рерих. Фактически, именно с этого времени можно говорить о не имевшем своей сцены театре «Русский балет» как о многонациональном творческом коллективе, в котором российские деятели культуры и их европейские коллеги сотрудничали на равных, при этом ключевые решения, разумеется, обсуждая их со всевозможными спонсорами и меценатами, принимал сам С. П. Дягилев.
Ил. 70. Обложка лучшей на сегодняшней день книги о С. П. Дягилеве и его труппе: Схейен Шенг. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда (М.: Колибри, 2012)
Последнее десятилетие его театральной труппы прошло под знаком расставания с художниками «Мира искусства»: за все 1920-е годы они работали лишь над четырьмя поставленными «Русским балетом» спектаклями, два из которых были оформлены Л. С. Бакстом, а еще два — А. Н. Бенуа. Основную же роль стали играть как раз художники, которых принято относить к «Парижской школе» и которых С. П. Дягилев привлекал все больше и больше. Среди них были и выходцы из России, в частности Леопольд Сюрваж, оформивший в 1922 году поставленный Брониславой Нижинской балет «Мавра» на музыку Игоря Стравинского, и Павел Челищев, работавший в 1928 году над балетом Николая Набокова «Ода», а также братья Антуан (Натан) Певзнер (Antoine Pevsner, 1884–1962) и Наум Габо (Naum Gabo, урожденный Нехемия Певзнер, 1890–1977), работавшие над балетом «Кошка» на музыку Анри Соге в 1927 году. Кроме того, балет «Стальной скок» на музыку Сергея Прокофьева, представленный в 1927 году, был оформлен Георгием (Жоржем) Якуловым (1884–1928), выступившим также в качестве автора либретто этого балета. Г. Б. Якулов неоднократно бывал в Париже — в 1913, 1923 и 1925 годах, — но каждый раз возвращался в Россию. В 1927 году работать над этим спектаклем он приехал из Тифлиса, куда и вернулся после премьеры, получив информацию об аресте его жены Натальи Шиф294. Лев Любимов цитировал следующие слова Сергея Дягилева об этом спектакле:
В эмигрантской печати меня бранили за эту постановку... меня упрекали, что она проникнута советским духом... Ведь я хотел изобразить современную Россию, которая живет, дышит, имеет собственную физиономию. Не мог же я ее представить в дореволюционном духе. Я сам не был в Советской России, но, мне кажется, Прокофьев и Якулов нашли к ней правильный подход295.
Однако над большинством балетов работали художники, не владевшие русским языком: Хуан Грис («Искушение пастушки» на музыку М. Монтеклера, 1924), Мари Лорансен («Лани» на музыку Ф. Пуленка, 1924), Жорж Брак («Поссорившиеся» на музыку Ж. Орика, 1924, и «Зефир и Флора» на музыку В. Дукельского, 1925), Морис Утрилло («Барабо» на музыку В. Риети, 1925), Андре Дерен («Чертик из табакерки» на музыку Э. Сати, 1926), Джорджио де Кирико («Бал» на музыку В. Риети, 1929), Жорж Руо («Блудный сын» на музыку С. С. Прокофьева, 1929) и другие, включая уже сотрудничавших с С. П. Дягилевым Анри Матисса и Пабло Пикассо: первый в 1925 году участвовал в возобновлении балета «Песнь соловья» на музыку Игоря Стравинского, а второй оформил в 1927 году балет «Меркурий» на музыку Эрика Сати.
Ил. 71. С. П. Дягилев с труппой «Русского балета» в Испании, 1916 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
С. М. Лифарь приводит в своих воспоминаниях составленный С. П. Дягилевым в 1924 году своего рода перспективный план постановок целого ряда одноактных балетов, которые должны были, по его замыслу, занять пять вечеров. Большая часть этих балетов по ряду причин никогда не была поставлена. Среди художников, которых он планировал привлечь к работе, только Наталия Гончарова родилась в России. Кроме того, наряду с Анри Матиссом, Пабло Пикассо, Андре Дереном, Морисом Утрилло и Мари Лорансен, которые в самом деле работали с дягилевской труппой, в этом плане фигурируют имена двух значительных художников «Парижской школы», которым так и не довелось оформить ни одного спектакля «Русского балета»: Морис Вламинк (планировавшийся как художник-постановщик балета «Одержимость танцем») и Моисей Кислинг, которому С. П. Дягилев думал предложить оформить балет «Детские игры» на музыку Жоржа Бизе.
Ни один из поставленных дягилевской труппой в 1920-е годы балетов не имел того бурного успеха, который сопутствовал ее постановкам на протяжении пяти лет, предшествовавших Первой мировой войне. То, что было уникальным, неожиданным, диковинным, постепенно приелось, став неотъемлемой частью культурной жизни Парижа и Монте-Карло (где находилась репетиционная база труппы). Немаловажную роль играл и тот факт, что под влиянием дягилевских спектаклей западноевропейские театры постепенно включали оперы и балеты русских композиторов в свой репертуар, тогда как труппа «Русский балет», напротив, ставила все больше спектаклей, имевших крайне опосредованное отношение к русской культуре, как с точки зрения музыки и либретто, так и с точки зрения художественного оформления спектаклей.
В театре С. П. Дягилева выходцы из России чувствовали себя статусно ничем не уступающими коренным французам и выходцам из западноевропейских стран. Этот театр давал работу не только «звездам», но и декораторам, костюмерам, столярам, сапожникам, мастерам по изготовлению париков, которые как раз в большинстве своем были выходцами из России. Их гонорары были существенно ниже, чем было принято в ведущих парижских театрах того времени, но они получали важнейшую для каждого человека возможность работать по своей профессии, участвуя в создании престижных спектаклей, занимавших важное место в тогдашней общественно-культурной повестке дня296. С. П. Дягилев никогда не работал ни с Амедео Модильяни, ни с Хаимом Сутиным, ни с Марком Шагалом, но в оформлении спектаклей «Русского балета» участвовало большинство ведущих художников «Парижской школы». Вообще не представленные ни на проведенной С. П. Дягилевым в 1906 году в Париже художественной выставке, ни в оперных и балетных постановках 1908–1913 годов, после Первой мировой войны именно они, подвижники нового искусства, были причастны к созданию большей части показанных публике труппой «Русского балета» спектаклей.
ГЛАВА 11
ПЕРВЫЕ ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ КУБИЗМА И НАИВНОГО ИСКУССТВА: ВИЛЬГЕЛЬМ УДЕ И ДАНИЭЛЬ-АНРИ КАНВЕЙЛЕР
В своих воспоминаниях композитор Николай Набоков (1903–1978), двоюродный брат выдающегося писателя, вспоминал об одной встрече, в которой участвовал в 1921 году. Оба его собеседника были людьми исключительными. Граф Альбрехт фон Бернсдорф (Albrecht von Bernstorff, 1890–1945) в годы Веймарской республики работал в посольстве Германии в Лондоне, а в годы нацизма, будучи уволен с дипломатической службы, проявил себя как подлинный праведник. Он был арестован гестапо в 1943 году, два года находился в концлагере, где и был расстрелян, поэтому данные о его подвижнической деятельности в поддержку преследуемых в значительной степени неизвестны до сих пор, хотя еще Грэм Грин (Graham Greene, 1904–1991) писал в своих воспоминаниях о графе фон Бернсдорфе как о «мученике во имя милосердия», отмечая, что он принадлежал к тайной организации, помогавшей евреям покинуть Германию даже после начала войны297. В берлинской квартире графа прятался отец знаменитого артиста и режиссера Питера Устинова Иона Устинов (Jona Ustinov, 1892–1962), родившийся в Яффо в Палестине/Эрец-Исраэль, дедушка которого Мориц Холл (Moritz Hall) был евреем, что, согласно нацистским законам, превращало в еврея и внука. Другим собеседником Н. Д. Набокова был интеллектуал, дипломат, библиофил и коллекционер произведений искусства граф Гарри Кесслер (Harry Kessler, 1868–1937) — один из самых внутренне свободных людей Веймарской Германии, которому пришлось перебраться в Испанию, а потом во Францию. Судьба его сложилась так, что этот утонченный эстет и космополит, лично знакомый едва ли не со всеми крупнейшими деятелями культуры конца XIX — первой трети XX века, в котором не было ни капли французской крови, родился в Париже, а умер в Лионе.
Процитируем фрагмент из этих воспоминаний:
Внезапно, не доев десерт, Кесслер взглянул на часы и воскликнул:
— Mon Dieu! Опоздал! Я договорился с Флехтхеймом встретиться в три, а сейчас уже четверть четвертого! Уде сейчас в городе, вчера приехал из Парижа, — добавил Кесслер, обращаясь к Бернсдорфу. — Я должен поговорить с Флехтхеймом насчет статьи Уде для «Квершнитт».
...Флехтхейм, Уде, «Квершнитт», — эхом отдалось у меня в голове. Новый залп ни разу до того не слышанных имен298.
Эти имена ни разу не слышал не только Н. Д. Набоков, хотя разоренный нацистами Альфред Флехтхейм (Alfred Flechtheim, 1878–1937) был ведущим галеристом и арт-дилером авангардного искусства в Веймарской Германии, его прекрасный портрет написал Юлиус Паскин, а Вильгельм Уде едва ли не первым оценил кубистские работы Пабло Пикассо и Жоржа Брака, а также наивное искусство Анри Руссо и рассказал о нем миру.
Вильгельм Уде родился в городе Фридеберг на севере Германии (в настоящее время Стшельце-Краеньске, Польша) в семье судебного чиновника. В публикациях о Вильгельме Уде иногда указывается, что он не был евреем299, а иногда, напротив, что был300. Последнее выглядит более вероятным, учитывая, что годы Второй мировой войны (в отличие от периода войны первой) он провел не в Германии, а скрываясь во Франции в сельской глуши, вдали от столь любимого им Парижа.
Ил. 72. Альфред Флехтхейм, ок. 1910 г. Фотография Яакоба Хильсдорфа (1872–1916)
Детские годы Вильгельм Уде провел в Восточной Пруссии, недалеко от Бреслау (ныне Вроцлав). С детства у него возникла симпатия к Польше, что вылилось в написание в 1901 году специальной брошюры, осуждающей антипольскую политику Пруссии. Он получил блестящее образование, прослушав курсы по юриспруденции и философии в университетах Лозанны, Геттингена и Гейдельберга. В 1898 году, как это было принято у завершавшего высшую школу европейского студента-гуманитария, он впервые посетил Флоренцию, где испытал глубокое потрясение от архитектуры и живописи кватроченто. В первый приезд искусство способствовало пониманию вершин ренессансного гуманизма, и Уде написал книгу «На гробнице Медичи. Флорентийские письма о немецкой культуре», где декларировал свою ненависть к режиму Бисмарка и беспочвенному идеализму лютеранства, противопоставляя им модель ренессансной гуманистической культуры. На следующий год, в Мюнхене, он написал и издал очерк о Боттичелли «Примавера» и снова уехал в Италию, где посетил Рим, Флоренцию и Венецию301.
В 1904 году В. Уде приехал в Париж, где с перерывами, вызванными двумя мировыми войнами, прожил более сорока последующих лет. Еще до Первой мировой войны он выпустил на немецком языке книгу «Париж. Впечатления», снабдив ее в качестве иллюстраций репродукциями картин Моне, Дега, Писсарро, Ренуара и Тулуз-Лотрека. В. Уде видел себя строителем мостов между французским и немецким искусством, во-первых, и между создателями нового искусства и их зрителями, во-вторых.
В 1905 году он впервые купил (по одним сведениям у Кловиса Саго, по другим — у Эжена Сулье) работу Пабло Пикассо (известную сегодня как «Маленькая желтая обнаженная»), еще не будучи знакомым с ним самим. Вскоре они познакомились в кафе Lapin Agile, а в 1910 году П. Пикассо написал изумительный портрет В. Уде в кубистском стиле. С момента этой встречи В. Уде оказался в самом центре парижского авангарда, через П. Пикассо познакомившись с Гертрудой и Лео Стайнами. Скромную квартиру Уде (после его отъезда из Германии родители перестали финансово поддерживать его) украшали картины собранной им коллекции, включавшей работы совсем молодых тогда Жана Метценже (Jean Metzinger, 1883–1956), Огюста Эрбена (Auguste Herbin, 1882–1960), Жана Пюи (Jean Puy, 1876–1960), Рауля Дюфи, Отона Фриеза и фовистские пейзажи Жоржа Брака, в тот период его любимого художника.
Над квартирой В. Уде жил другой уроженец Германии, Рудольф Гроссман (Rudolf Großmann, 1882–1941), покупавший работы у молодой художницы из России Сони Терк (урожденной Штерн), жившей в Париже на средства своих петербургских родственников — ее дядей по материнской линии был преуспевающий адвокат Генрих Тимофеевич (Гених Товиевич) Терк. P. Гроссман в 1910 году вернулся в Германию, где получил признание, в 1928 году стал профессором Академии художеств в Берлине, откуда был изгнан нацистами в 1934 году; в 1937 году три из его конфискованных нацистами работ демонстрировались на позорной выставке «Дегенеративное искусство». В описываемые дни такое развитие событий едва ли кто-то мог предвидеть в самых страшных снах. Однажды по пути к Р. Гроссману Соня Терк остановилась у открытой двери квартиры, на стенах которой увидела пейзажи, написанные яркими дерзкими красками; войдя, она познакомилась с владельцем и пропагандистом этого собрания. Именно Вильгельм Уде ввел Соню Терк в среду парижского авангарда, объяснял ей достоинства фовизма, познакомил с Пабло Пикассо. В 1908 году они заключили фиктивный брак, призванный успокоить родственников Сони, переживавших по поводу богемного образа жизни, который она вела. Как и Альбрехт фон Бернсдорф и Гарри Кесслер, Вильгельм Уде был гомосексуалом, и в жизни Сони Терк он присутствовал исключительно как поддерживающий друг и собеседник на темы искусства. В 1907 году Вильгельм Уде познакомился с молодым французским художником Робером Делоне, который тогда же написал его портрет в фовистском стиле. Уде познакомил Соню с Робером, между молодыми людьми вспыхнул роман, приведший в 1910 году к свадьбе и рождению в 1911 году сына Шарля302.
Через Р. Делоне В. Уде познакомился с художником-самоучкой Анри Руссо (Henri Julien Félix Rousseau, 1844–1910). В манере работы искреннего пожилого художника (сам Уде был на тридцать лет моложе), не скрывавшего своих творческих приемов и не стеснявшегося прорисовывать основные элементы композиции, а потом раскрашивать фигуры и детали, как бы пользуясь трафаретом, В. Уде увидел тщательность и серьезность работы над картиной. Он непосредственно столкнулся с творческой лабораторией примитива, став в 1907 году свидетелем работы А. Руссо над картиной «Заклинательница змей», написанной художником по заказу матери Робера Делоне. В 1908 году Уде открыл на rue Notre Dame des Champs рядом с бульваром Монпарнас собственную галерею, где устроил первую персональную выставку Анри Руссо. Сразу после смерти А. Руссо В. Уде приступил к работе над книгой о нем; уже в 1911 году она была издана.
В том же году В. Уде добился включения нескольких картин А. Руссо в экспозицию Салона Независимых. В 1912 году он организовал выставку художника в галерее Бернхейм-Жён (Galerie Bernheim Jeune). Картины художников, которых он поддерживал и продвигал, Уде также посылал в 1912–1913 годах на выставки в Германию: в Берлин, Дюссельдорф и Кельн. Партнерами, с которыми он работал, были упоминавшийся выше Альфред Флехтхейм, а также Герварт Вальден.
Герварт Вальден (Herwarth Walden; его настоящее имя Георг Левин, 1878–1941) родился в Берлине, в респектабельной еврейской семье; отец его был врачом. Окончив гимназию в Берлине, он получил стипендию имени Ференца Листа и в 1897–1898 годах жил во Флоренции (одновременно с В. Уде), где совершенствовался в игре на фортепиано, давал концерты и написал свои первые музыкальные партитуры. Увлекался музыкой Людвига ван Бетховена, Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса, а позднее — Арнольда Шёнберга. Расставшись с первой женой, Вальден в 1912 году женился на шведской художнице Нелл Рослунд (Nell Roslund, 1887–1975) и открыл галерею «Штурм», в которой экспонировались художники группы «Синий всадник», в том числе Василий Кандинский, и итальянские футуристы; в эту же галерею В. Уде направил и несколько картин А. Руссо. Сотрудничество В. Уде и Г. Вальдена существенно окрепло в ходе Первого немецкого осеннего салона, в организации которого Вальден играл важную роль в 1913 году. В этом салоне была показана уже 21 картина Руссо, включая «Заклинательницу змей», «Веселых насмешников», «Автопортрет Руссо с керосиновой лампой», а также натюрморт с цветами, виды Парижа, пейзажи и этюды303.
В 1912–1914 годах В. Уде также очень поддерживал французскую художницу-примитивистку Серафину Луи (Séraphine Louis, 1864–1942), которая писала цветы и фрукты на досках, коробках и даже винных бутылках. В 2009 году премии «Сезар» за лучший французский фильм года была удостоена кинокартина «Серафина из Санлиса», посвященная как раз истории отношений В. Уде и С. Луи и ее искусству.
В 1907 году Вильгельм Уде привел в мастерскую Пабло Пикассо в Бато-Лавуар своего младшего друга (разница в возрасте между ними составляла десять лет) Даниэля-Анри Канвейлера. Родом из буржуазной семьи, он родился в Мангейме, а рос в Штутгарте, приехав в Париж в восемнадцатилетнем возрасте в 1902 году. Каждый день, обычно с полудня до трех, он проводил несколько часов в Лувре и Люксембургском музее. Даже когда Канвейлеру пришлось некоторое время по настоянию семьи поработать в Лондоне, он приезжал в Париж каждый уикенд, не пропуская ни одной выставки. В конце концов он целиком посвятил себя искусству. Современная живопись, как рассказывал он позднее, не стала «любовью с первого взгляда», но с годами Канвейлер понял: «Новый мир родился в тот день, когда импрессионисты написали его»304. Знакомство с Пикассо (а его студию он впервые посетил тогда, когда художник как раз заканчивал работу над полотном «Авиньонские девицы», обозначившим перелом в его творчестве) и другими художниками-кубистами изменило и его, и их жизни. По меткому замечанию М. Ю. Германа, «он делал для новейших мастеров то, что Дюран-Рюэль — для импрессионистов»305.
Ил. 73. Даниэль-Анри Канвейлер, 1956 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в книге: Pierre Assouline, L’Homme de l’Art. D. H. Kahnweiler, 1884–1979 (Paris: Éditions Balland, 1988)
В феврале 1907 года в доме на улице Виньон, 28, за церковью Мадлен, в самой фешенебельной части Больших бульваров в сердце светского Парижа Даниэль-Анри Канвейлер открыл собственную галерею. Его первыми приобретениями стали произведения мастеров фовизма: Анри Матисса, Кеса ван Донгена, Жоржа Брака, Анри Дерена и Мориса Вламинка. Познакомившись с Пабло Пикассо, он стал пропагандистом его художественных открытий и в 1908 году провел в своей галерее выставку работ Пикассо и Брака, которая впервые познакомила публику с кубизмом. В 1912–1913 годах он подписал с Пабло Пикассо, Жоржем Браком, Андре Дереном, Морисом Вламинком и Фернаном Леже контракты, дававшие ему исключительные права на приобретение их новых произведений, что гарантировало им защиту от бедности и возможность сконцентрироваться на творчестве, а ему позволило занять совершенно исключительное положение главного арт-дилера нового искусства. В 1913 году ему удалось провести выставку кубистов в США.
Даниэль-Анри Канвейлер продолжил начатую Амбруазом Волларом традицию издания книг с оригинальной печатной графикой. Первым его изданием была вышедшая в 1909 году книга стихотворений Гийома Аполлинера «L’Enchanteur pourrissant» [«Гниющий чародей»] с ксилографиями Андре Дерена, спустя два года вышла в свет книга стихов Макса Жакоба «Saint-Matorel» [«Святой Маторель»] с иллюстрациями Пабло Пикассо. Д. — А. Канвейлер нашел в М. Жакобе интеллектуала и ценителя, полностью разделявшего и поддерживавшего его эстетические искания.
Начало Первой мировой войны застало Д. — А. Канвейлера в Риме, где он проводил отпуск. Принадлежавшие ему картины были конфискованы и позднее проданы на аукционе в Отеле Друо (аукционы в этом здании чуть ли не ежедневно проходят в Париже и поныне); несмотря на это, он всю войну продолжал оплачивать аренду выставочных площадей306. В это время его коллеги, арт-дилеры и искусствоведы братья Леонс Розенберг (Léonce Rosenberg, 1879–1947) и Пауль Розенберг (Paul Rosenberg, 1881–1959) — как принято говорить в Париже, «французы Моисеева вероисповедания», покупали и продавали работы художников, прежде работавших с Канвейлером, став к концу Первой мировой войны ведущими во Франции арт-дилерами и экспертами по кубистскому искусству. Пауль Розенберг подписал в 1918 году эксклюзивный контракт с Пабло Пикассо, в 1922 году — с Жоржем Браком, в 1927 году — с Фернаном Леже, в 1936 году — с Анри Матиссом, став таким образом самым влиятельным арт-дилером в сфере современного искусства. Д. — А. Канвейлер жил в годы Первой мировой войны в эмиграции в Италии, а затем — в Швейцарии, где работал над книгой «Der Weg zum Kubismus» [«Путь к кубизму»], опубликованной в 1920 году. В том же году он смог вернуться в Париж. Новая галерея на улице Астор, 29-бис, на расстоянии менее десяти минут ходьбы от первой, просуществовавшей семь лет на улице Виньон, 28, была открыта им совместно с Андре Симоном, и он готов был вновь выставлять работы художников-авангардистов.
За годы отсутствия Канвейлера во Франции изменилось, однако, слишком многое. Жорж Брак, тяжело раненный на войне в 1915 году, отдалился от Пабло Пикассо и писал в основном натюрморты. Сам Пикассо, связанный контрактом с Паулем Розенбергом, тоже в значительной мере отошел от кубизма, годы с 1918 по 1925 были временем, которые искусствоведы определяют как «эпоху неоклассицизма» в его творчестве. Фернан Леже чуть не погиб от иприта во время химической атаки в 1917 году и после демобилизации перерабатывал болезненные военные переживания в «механическом периоде» своего творчества. Один только Хуан Грис (Juan Gris, настоящее имя José Victoriano González-Pérez, 1887–1927) остался верен своему стилю и своему галеристу (карандашный портрет которого он выполнил в 1921 году), но он начиная с осени 1925 года сильно болел и вскоре скончался. Д. — А. Канвейлер отдал ему дань памяти, выпустив после Второй мировой войны большой монографический альбом о его творчестве307.
Ил. 74. Хуан Грис. Портрет работы Амедео Модильяни, 1915 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк, Bequest of Miss Adelaide Milton de Groot (1876–1967)
Кубизм остался в прошлом, и Д. — А. Канвейлер, всегда бывший преданным новому искусству и его творцам, теперь сотрудничал с сюрреалистами, в частности с Андре Массоном (André Masson, 1896–1987) и Паулем Клее (Paul Klee, 1879–1940), а также продолжал работать с художниками и литераторами над подготовкой малотиражных авторских книг с оригинальной печатной графикой; всего он выпустил сорок таких изданий, среди авторов которых были Антонен Арто (Antonin Artaud, 1896–1948), Андре Мальро (André Malraux, 1901–1976) и другие незаурядные деятели французской и мировой культуры. Как и прежде, все свободное время Канвейлер проводил за книгами по эстетике и истории искусств, постоянно посещал парижские музеи и галереи, отправлялся за пределы Франции, чтобы увидеть лучшие европейские коллекции и быть в курсе всего, что происходило в искусстве.
Ил. 75. Обложка американского издания книги Даниэля-Анри Канвейлера о Хуане Грисе. Daniel-Henry Kahnweiler. Juan Gris: His Life and Work / Trans. by Douglas Cooper (New York: Abrams, 1969)
Даниэль-Анри Канвейлер из-за войны оказался разлученным с Францией на шесть лет; Вильгельм Уде — на целых десять. Как представитель вражеского государства он был выслан из Франции в Германию; его коллекция живописи осталась в Париже, и, так же как и собрание Д. — А. Канвейлера, была конфискована властями и продана на аукционе. Возвращение В. Уде во Францию задержалось вследствие перемен как в его личной, так и в профессиональной жизни: как начало супружеской жизни с молодым художником Гельмутом Колле (Helmut Kolle, 1899–1931), совместно с которым они в 1920–1921 годах издавали альманах Die Freude, так и начало работы в берлинской галерее Вольфганга Гурлитта (Wolfgang Gurlitt, 1888–1965) способствовало тому, что он оставался в Германии годы спустя после окончания войны. Однако в 1924 году вместе с Г. Колле (скончавшимся семь лет спустя от болезни сердца) В. Уде вернулся в Париж.
Ил. 76. Вильгельм Уде. Портрет работы Гельмута Колле (1899–1931), ок. 1930 г. Местонахождение неизвестно
В этот период художественные вкусы В. Уде и Д. — А. Канвейлера существенно различались. Кубизмом восхищались они оба, во время пребывания в Германии Уде работал над книгой «Пикассо и французская традиция», но сюрреализм не был ему близок. Он вновь обратил свое внимание на наивное искусство, найдя нового художника, которого счел заслуживающим поддержки — Камиля Бомбуа (Camille Bombois, 1883–1970). Кроме того, в 1927 году он вновь встретился с Серафиной Луи, выставку которой организовал двумя годами позже. Экономический кризис 1929–1930 годов, смерть Гельмута Колле в 1931 году, а также рост фашистских настроений в Германии и в Западной Европе в целом, побудивший Герварта Вальдена в 1932 году покинуть родину и переселиться в Советский Союз (где он был арестован в 1941 году и скончался или был расстрелян в тюрьме в окрестностях Саратова), — всё это нанесло самому Вильгельму Уде и его выставочной, коммерческой и просветительской деятельности тяжелые удары. Картины, которые он хранил в Германии, были конфискованы и разграблены нацистами. К сожалению, воспоминания Вильгельма Уде были опубликованы в Швейцарии в 1938 году308, то есть еще до Второй мировой войны, вследствие чего рассказа от первого лица о том, как ему удалось пережить эту войну и Холокост, в распоряжении историков нет; насколько известно, ему удалось найти убежище где-то на юге Франции.
В 1944 году Вильгельм Уде вернулся в Париж, но жить ему оставалось только три года. За это время он закончил книгу о художниках-примитивистах: начав в 1911 году с монографического альбома Анри Руссо, он закончил книгой, в которой представил Руссо основоположником важного художественного направления309. За несколько месяцев до смерти он написал письмо-завещание тогдашнему директору Национального музея современного искусства в парижском Дворце Токио Жану Кассу, предлагая свою коллекцию (а точнее, то, что от нее осталось) музеям Франции с единственным желанием, чтобы она была выставлена в отдельном светлом зале. Это завещание не было выполнено, «зала собрания Уде» ни в одном из парижских музеев нет.
Даниэль-Анри Канвейлер в 1937 году получил французское гражданство, а осенью 1939 года на улице Монсо, 47, в третий раз открыл в Париже свою галерею. Однако заниматься ею ему пришлось недолго: нацистская оккупация Парижа заставила его вновь покинуть любимый город. В отличие от Пауля Розенберга, сумевшего в 1940 году через Португалию эмигрировать в США (последние девятнадцать лет его жизни прошли в Нью-Йорке), Д. — А. Канвейлер остался во Франции, скрываясь в окрестностях города Лимож. Основанная им галерея, однако, сохранилась благодаря стараниям сестры жены Канвейлера, Луизы Лейрис, супруги писателя Мишеля Лейриса. Супруга Д. — А. Канвейлера Люси скончалась 14 мая 1945 года, спустя менее чем неделю после окончания Второй мировой войны; муж пережил ее более чем на тридцать лет. После кончины в 1963 году Жоржа Брака, а в 1973 году — Пабло Пикассо Даниэль-Анри Канвейлер остался последним из могикан, свидетелем и поддерживающим соучастником развития кубизма — одного из самых ярких художественных течений в европейском искусстве XX века. Спустя девять лет после его смерти в Париже была издана книга о его жизни и подвижническом служении искусству310.
ГЛАВА 12
РУССКО-ЕВРЕЙСКИЙ САЛОН: МАРИЯ И МИХАИЛ ЦЕТЛИНЫ — МЕЦЕНАТЫ И ДРУЗЬЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА ВО ФРАНЦИИ
14 ноября 2014 года в Израиле прошла необычная акция протеста, подобной которой не было за всю историю страны: большая группа неравнодушных любителей искусства, в основном — люди средних лет, прибывшие в Израиль из СССР/СНГ двадцать и более лет назад, собрались у Рамат-Ганского музея, чтобы выразить протест против намеченной продажи на аукционе шедевра, подаренного этому музею в 1959 году. Рамат-Ган, ближайший пригород Тель-Авива, — один из самых успешных и богатых городов Израиля, на его территории находятся Национальный стадион, алмазная биржа, Университет имени Бар-Илана, Академический колледж юриспруденции и бизнеса, сафари-парк и Медицинский центр Тель-ха-Шомер — крупнейшая больница в стране. Совершенно непонятно, почему один из самых богатых городов вполне экономически успешной страны должен выставлять на торги работу выдающейся художественной ценности, в свое время полученную им в дар именно для того, чтобы она была доступной широкому кругу ценителей искусства. В 2014 году мэрия Рамат-Гана решила продать ее с аукциона — участники акции протеста не без оснований опасались, что работа на долгие годы исчезнет в чьей-то частной коллекции. Несмотря на значительный резонанс, который получила эта неприглядная история, отменить торги не удалось, картина была продана за огромную сумму — 12 миллионов 841 тысячу долларов (не включая комиссию аукционного дома, которая составляет 12 %), установив абсолютный ценовой рекорд торгов, полностью посвященных русскому искусству. Опасения противников продажи отнюдь не были беспочвенными: за прошедшие с тех пор два года картина нигде не выставлялась, а имя ее нового владельца так и не было обнародовано311.
Ил. 77. Валентин Серов, «Портрет Марии Цетлиной», 1910 г. Работа находилась в коллекции семьи Цетлиных, затем в собрании Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, Израиль. Ныне — в частном собрании
Речь идет о «Портрете Марии Цетлиной» работы Валентина Серова (1865–1911), написанном в 1910 году во французском Биаррице. Глава русского отдела аукционного дома Christie’s Алексис де Тизенгаузен признается:
Эта работа, без сомнения, самое изысканное из произведений Серова, с которым я имел дело за все годы моей карьеры в Christie’s. Элегантность и уравновешенность позирующей молодой женщины, перед которой невозможно устоять, отраженные в уникальной серебряной гамме Серова, воплощают мастерство крупнейшего российского портретиста на вершине своего творческого пути, за год до безвременной кончины312.
Безусловно заслуживает упоминания тот факт, что в том же году В. А. Серов создал два своих самых, пожалуй, знаменитых портрета — коллекционера Ивана Абрамовича Морозова, о котором уже говорилось в настоящей книге, и танцовщицы Иды Львовны Рубинштейн (1883–1960), ныне являющиеся украшениями собраний соответственно Третьяковской галереи и Русского музея. «В поздних портретах Серова стиль модерн в его русском варианте достигает своих вершин, — справедливо указывал выдающийся искусствовед Дмитрий Сарабьянов (1923–2013). — Можно даже сказать, что он исчерпывается в серовском совершенстве»313.
Специалисты сразу же оценили и портрет Марии Цетлиной, впервые экспонировавшийся на ретроспективе В. А. Серова в Риме в последний год его жизни, а затем в Мальмё (в 1914 году), Брюсселе (в 1928 году), Лондоне и Праге (в 1935 году). Аукционный дом Christie’s, который сегодня по объемам продаж произведений живописи занимает первое место в мире, организовал в Лондоне 24 ноября отдельный аукцион русского искусства; «Портрет Марии Цетлиной» воспроизведен на обложке его 350-страничного каталога как самая значимая включенная в него работа. И хотя информация об этой картине занимает шесть страниц общего каталога аукциона314, Christie’s выпустил отдельную двадцатистраничную брошюру, полностью только этой картине посвященную! Этот шедевр на протяжении пятидесяти пяти лет находился в Израиле. 24 ноября 2014 года израильская глава истории этого полотна была завершена совершенно скандальным и позорным образом.
I
Начать, пожалуй, следует с личности живописца, создавшего это произведение, тем более что, давно будучи признанным неоспоримым классиком русского искусства, он ни в русско-еврейском, ни французском контекстах почти никогда не рассматривается, что едва ли справедливо. Валентин Александрович Серов — художник удивительной судьбы, в особенности посмертной. То, что он умер за шесть лет до революции, избавило его и от необходимости эмигрировать, и от опасности стать жертвой политических репрессий. В его случае опасность эта была более чем реальной, учитывая, что он написал портреты императоров Александра III и Николая II, великих князей Михаила Николаевича (сына Николая I), Павла Александровича (сына Александра II), Георгия Михайловича (внука Николая I), полотно «Коронация Николая II» и другие работы, которые установление диктатуры пролетариата явно не приближали. Будь В. А. Серов жив, невозможно было бы себе представить, чтобы в самое трагичное для российской культуры время, в 1937 году, в московском издательстве «Искусство» выходила его избранная переписка (а таковой том вышел). В итоге Серов оказался единственным из всей, с одной стороны, постреалистичной, а с другой — предпостимпрессионистской (здесь уже были Петр Кончаловский и его единомышленники по группе «Бубновый валет») живописи российского «серебряного века», кто на всем протяжении советской истории оставался частью художественного канона, чьи репродукции не нужно было прятать, опасаясь обвинений в идеологической крамоле. Учитывая, что среди работ Серова — не только парадный портрет Николая II, но и графический эскиз «Похороны Баумана»315, новый режим смог создать для себя «другого Серова», пригодного для эпохи «диктатуры пролетариата».
Живопись В. А. Серова была частью культурного мира нескольких поколений интеллигенции, помогая сохранять художественный вкус, всем безразмерным полотнам сталинских соцреалистов вопреки. Серов был вершиной российской художественной классической традиции, человеком, в немалой степени закрывшим за собой дверь, чтобы ничего не мешало постимпрессионизму, кубизму и художественному авангарду утвердиться на авансцене истории культуры. Фактически, он — первый и последний великий российский художник-портретист, ни до, ни после ему не было равных. Понятно, что в первое десятилетие XX века — годы расцвета серовского гения — новая передовая живопись, прежде всего фовизм и кубизм, была очень далекой от его эстетики: он это осознавал, но его предпочтения были очевидно другими. При этом Серов всю жизнь сохранял эстетическую свободу; как написал о нем Сергей Маковский,
талант исключительно гибкий, он непрерывно менялся, поочередно заимствуя те или иные элементы у различнейших авторов и эпох, начиная с Писсарро, Ренуара, Сарджента, Врубеля и Александра Бенуа и кончая персидской миниатюрой (эскиз занавеса к балету «Шехеразада») и античными фресками (полотно «Похищение Европы»)316.
Сегодня, когда представляется неимоверно важным утвердить именно эстетический плюрализм в искусстве, самоценность факта сосуществования разных художественных традиций и школ, этот мастер сияет одной из вершин российской и даже мировой культуры.
В. А. Серов родился в Москве и по праву считается русским художником, хотя вопрос этот сложнее, чем кажется на первый взгляд. Значительны и украинский, и еврейский, и западноевропейский «следы» его биографии.
В Киеве неспроста есть улица, носящая имя Валентина Серова. На протяжении двух лет, в 1876–1878 годах, он большую часть времени жил вместе с матерью Валентиной Семеновной Бергман и ее гражданским мужем Василием Ивановичем Немчиновым именно в Киеве (откуда уезжал на хутор Немчинова Ахтырка в Харьковской губернии). Осенью 1877 года В. А. Серов начал учиться во втором классе киевской гимназии; одновременно посещал рисовальную школу Николая Мурашко, где его талант был сразу же оценен — 12-летний подросток был удостоен малой серебряной медали. «Мягкий, теплый климат, красивая природа, замечательно привлекательный город, благодушный народ — от всего этого веяло такой гармонией, такой чисто-южной благодатью», — писала годы спустя Валентина Семеновна, вспоминая это время317. В музеях Киева, Днепропетровска и Одессы экспонируются в настоящее время прекрасные работы Серова, среди которых портреты Маргариты Морозовой, Саввы Мамонтова и другие.
Ил. 78. Валентин Серов, «Автопортрет», 1883 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва
Что же касается еврейской линии, то здесь существует очевидная несправедливость: отсутствие разделения между конфессиональной («иудей») и национальной («еврей») идентичностями в языке иврит привело, в частности, к тому, что люди, принимавшие христианство, переставали считаться евреями. Так произошло и с предками Серова, отец матери которого — Семен Яковлевич Бергман — принял лютеранство. Однако еврейство было для В. А. Серова значимым. Его мать, одна из самых первых в России женщин-композиторов, первая опера которой (поставленная в 1885 году в Большом театре) была посвящена покончившему с собой еврейскому мыслителю-вольнодумцу XVII века Уриэлю Акосте, отмечала, с каким особым вниманием Серов писал портреты еврейских женщин: «Многовековая борьба ярко отпечатлелась на женских еврейских лицах»318. Среди запечатленных Серовым персон — целая плеяда деятелей русско-еврейской интеллигенции: видный художник и сценограф Лев Самойлович Бакст; великий художник-пейзажист Исаак Ильич Левитан (1860–1900); знаменитая танцовщица и актриса Ида Львовна Рубинштейн (1883–1960); общественная деятельница и филантроп Мария Самойловна Тумаркина-Цетлина (1886–1972); юрист Оскар Осипович Грузенберг (1866–1940), избранный в 1917 году во Всероссийское учредительное собрание по еврейскому списку, и его супруга; фабрикант и общественный деятель Владимир Осипович Гиршман (1867–1936) и его супруга; Анна Григорьевна Гиндус (1869–1925), ее сестра Мария Григорьевна Грюнберг (1853–1924) — супруга управляющего конторой журнала «Нива», их дочь Изабелла Юльевна (1883–1959); Розалия Соломоновна Львова; Нина Захаровна Раппопорт; а также двоюродные сестры художника Аделаида Яковлевна Симонович-Дервиз (1872–1945), Надежда Яковлевна Симонович-Дервиз (1866–1908) и скульптор Мария Яковлевна Симонович-Львова (1864–1955) со знаменитой картины «Девушка, освещенная солнцем»... Впоследствии многие из этих людей оказались в эмиграции, а сын Марии Яковлевны, Андре Мишель Львов (1902–1994), ставший видным французским микробиологом, в 1965 году был удостоен Нобелевской премии.
Чтобы защищать представителей того или иного народа от преследований, не обязательно самому принадлежать к этому народу, и деятельность в защиту евреев Эмиля Золя и Владимира Короленко — лучшее тому свидетельство, однако этот аспект в жизни Валентина Серова нельзя обойти вниманием. Скульптор Илья Яковлевич Гинцбург в своей книге «Из прошлого», вышедшей в 1924 году, вспоминал:
Серов, состоя преподавателем в московском Училище живописи и ваяния, предложил Совету Училища отвергнуть предложение московского градоначальника, который предписал исключить из училища способного ученика лишь потому, что тот — еврей и не имеет «права жительства» в Москве. Совет не мог отстоять ученика, и тогда Серов вышел из состава Совета319.
Это нравственно-гражданское измерение — важнейшее для понимания личности Валентина Серова. Не зря Игорь Стравинский называл Серова «совестью всего нашего кружка»320, подразумевая под этим «кружком» фактически всю передовую творческую элиту того времени. Надежда Немчинова-Жилинская, сестра Серова от второго брака его матери, вспоминала о том, как брат по просьбе мамы во время сеансов, когда ему позировали состоятельные представители буржуазии, вытаскивал подписной лист в пользу голодающих или на помощь политическим заключенным321. После событий 9 января 1905 года, вошедших в историю как «кровавое воскресенье», «эстет» В. А. Серов единственный из всех российских живописцев совершил самый гражданственный поступок — он вышел из числа действительных членов Академии художеств, так как ее президентом с 1876 года был младший брат царя Александра III великий князь Владимир Александрович, одновременно служивший главнокомандующим войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа.
То, что пришлось видеть мне из окон Академии художеств 9 января, не забуду никогда — сдержанная, величественная безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и ружейному прицелу — зрелище ужасное. То, что пришлось услышать после, было еще невероятнее по своему ужасу. <...> Никому и ничем не смыть этого пятна. Как главнокомандующий петербургскими войсками, в этой безвинной крови повинен и президент Академии художеств — одного из высших институтов России. В этом сопоставлении есть что-то поистине чудовищное — не знаешь, куда деваться, — писал В. А. Серов И. Е. Репину 20 января 1905 года, стараясь скоординировать с ним свои усилия. — Невольное чувство просто уйти — выйти из членов Академии, но выходить одному не имеет значения. <...> Мне кажется, что если бы такое имя, как Ваше, его не заменишь другим, подкрепленное другими какими-либо заявлениями или выходом из членов Академии, могло бы сделать многое. Со своей стороны готов выходить хоть отовсюду322.
Репин, однако, присоединяться к демаршу отказался; аналогично поступил и В. Д. Поленов, изначально присоединившийся к письму протеста Серова, отправленному в Академию художеств 18 февраля323. Но Серов не сдался, даже оставшись в одиночестве, и 10 марта отправил вице-президенту Академии графу И. И. Толстому письмо о том, что считает себя обязанным «выйти из состава членов Академии»324. Показательно, что, докладывая об этом совету Академии художеств 14 марта, граф И. И. Толстой само письмо В. А. Серова зачитать категорически отказался, несмотря на просьбу об этом академика живописи М. П. Боткина...325 Протест крупнейшего художника того времени был проигнорирован, великий князь Владимир Александрович оставался президентом Академии художеств до своей кончины в 1909 году, после чего этот пост заняла его вдова, великая княгиня Мария Павловна.
Многогранность личности В. А. Серова проявлялась в том, что хотя именно он написал лучшие портреты тогдашних хозяев жизни (как членов императорской фамилии, так и новой буржуазии), он же создал и самую памятную работу о расстреле первой русской революции 1905 года — «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» (ныне она хранится в Русском музее). На этом рисунке, подаренном Валентином Серовым Максиму Горькому (его портрет художник создал в том же 1905 году)326, изображена пауза, предшествовавшая кровавой расправе. В. А. Серов не потрясал современников окровавленными трупами, его картина — возможность задуматься над тем, что и у последней черты не поздно остановиться и не совершать непоправимых ошибок. В. А. Серов не только сияет во всем своем великолепии как вершина русского художественного серебряного века, но и служит гражданским примером гуманиста, видевшего по обе стороны баррикад, какими бы высокими они ни были — людей, с их проблемами, переживаниями и надеждами. Традиция обличения «врагов» и, в лучшем случае, сострадания «невинным жертвам» в общественной мысли куда сильнее, чем традиция понимания и сопереживания людям, которые, как это часто бывает, многогранны и противоречивы в своих деяниях, однако В. А. Серов учит своим искусством именно этому.
II
Нельзя не рассказать и об уникальной личности человека, на портрете изображенного. Именно женщина, столь виртуозно выписанная В. А. Серовым, равно как и ее супруг, являются главными героями настоящей главы. Благодаря прежде всего подвижнической работе Шуламит Шалит, многие годы изучавшей произведения, переданные Марией Цетлиной в дар городу Рамат-Ган, об этой женщине и ее дружбе с деятелями культуры собраны насколько было возможно полные сведения327.
Урожденная Мария Самойловна Тумаркина (1882–1976) с юных лет проявляла интерес не только к литературе и искусству, но и к политике и философии. Она состояла в партии социалистов-революционеров (эсеров), и хотя после отъезда за границу в 1907 году от политической деятельности отошла, члены этой партии оставались для нее ближайшими друзьями на долгие годы. Была она не только очень красива, но и талантлива, и, по свидетельству Василия Яновского, В. В. Розанов назвал ее «эсеровской мадонной»328. Мария Самойловна училась в Берне, где, кстати, с 1898 года преподавала ее тетя Анна-Эстер Тумаркин (1875–1951) — первая женщина — профессор философии и член Сената этого университета (ныне одна из улиц возле Бернского университета носит ее имя). В Берне учился и один из лидеров партии эсеров Николай Авксентьев (1878–1943), позднее министр внутренних дел во Временном правительстве, вместе с которым они вернулись в Россию после революционных событий 1905 года — и были арестованы. Шесть месяцев Мария Самойловна провела в Петропавловской крепости. Когда Н. Д. Авксентьева приговорили к ссылке в Обдорск, на Полярном круге (ныне Салехард), его молодая жена последовала в ссылку за мужем. Оттуда молодым супругам удалось бежать и добраться до Финляндии, где родилась их дочь Александра. Вскоре, однако, брак распался, и в 1910 году Мария Самойловна сочеталась вторым браком с Михаилом Осиповичем Цетлиным.
По воспоминаниям, записанным ее дочерью, инициатива написания портрета М. С. Цетлиной исходила от самого В. А. Серова, который впервые увидел ее в обществе будущего второго мужа и его родителей в парижском ресторане Prunier на улице Duphot возле площади Мадлен. Легенда гласит, что у дверей Prunier, открывшегося в 1872 году, останавливались самые красивые экипажи Парижа. Ресторан привлекал аристократию, известных и успешных деятелей культуры и предпринимателей, а после подписания франко-русского союза в 1892 году его завсегдатаями стали и состоятельные гости из России. К сожалению, побывать в месте, где Серов был впервые очарован М. С. Цетлиной, уже невозможно, несмотря на то, что ресторан с таким названием существует в Париже и поныне: сын его основателя Эмиль Прюнье, которому он перешел по наследству, перенес его в другой район, на пересечение avenue Victor Hugo и rue de Traktir, где он и находится с 1924 года. Интересно, что в память о прошлом ресторана, в котором любили бывать русские аристократы, декоратор Жак Гранж оборудовал на первом этаже зал под названием «Izba» [«Изба»]. Стены этого помещения обшиты панелями из сосны и украшены позолотой. Изображенные на них корабли, осетры и морские волны напоминают о работах Ивана Билибина.
По воспоминаниям Марии Самойловны, зная о том, что Осип Сергеевич (его настоящее имя — Есель Шмеркович) Цетлин (1856–1933) был очень заинтересован в том, чтобы В. А. Серов написал групповой портрет его семьи, и в 1906 году даже предложил художнику за это тройной гонорар, художник пошел на хитрость.
Прошло три или четыре года. <...> На этот раз Серов через метрдотеля попросил Цетлина переговорить с ним. Они подошли к свободному столику, и Серов, как потом уверял мой свекор, якобы сказал:
— Помните, господин Цетлин, вы имели для меня очень хорошее дело? А теперь я для вас имею такое же хорошее дело: дайте мне возможность нарисовать портрет дамы, которая сидит с вами, а я нарисую портрет жены, сына и вас без всякой платы329.
Свое обещание В. А. Серов не сдержал: групповой портрет семьи Цетлиных им так и не был создан. Однако их новообретенную невестку он запечатлел, специально с этой целью приехав в середине октября 1910 года в Биарриц на юго-западе Франции на берегу Бискайского залива, где Марии и ее второму мужу принадлежал дом. Над портретом художник работал на протяжении примерно пяти недель, с перерывом на неделю, когда он уезжал в Испанию, причем он работал даже утром в заранее назначенный день отъезда330. Хотя сам художник, уже сидя в вагоне поезда, сокрушался, что в портрете хорошо бы исправить отдельные детали, критикам работа эта сразу же понравилась. Так, Николай Эфрос (1867–1923) писал, что портрет этот «до того сильный, точно это не живопись, а скульптура. <...> Серов не только пишет лицо, — он разоблачает подноготную души»331.
Александр Койранский (1884–1968) охарактеризовал портрет как «вещь, превосходную по экономии художественных средств и внутреннему живописному спокойствию»332.
После написания этого портрета В. А. Серов прожил лишь год, и за этот год он отправил Марии Самойловне двенадцать писем. «Родившегося вскоре после его смерти сына мы — в память о нем — назвали Валентином», — рассказала она в письме, опубликованном Ильей Зильберштейном (1905–1988) в сборнике материалов о В. А. Серове в 1971 году333. Сложно сказать, было ли письмо Марии Самойловны опубликовано без купюр; она, разумеется, не могла не знать, что своего первенца они с мужем назвали Валентин-Вольф (1912–2007), одновременно в честь художника Серова и деда М. О. Цетлина Вольфа Высоцкого334.
За портрет В. А. Серов назначил высокую цену, которую выплатили без разговоров. В семье была гармония по этому вопросу; Мария Самойловна указывала: «Моему мужу очень хотелось, чтоб мой портрет был написан Серовым»335.
Михаил Осипович Цетлин, при жизни написавший и издавший две историко-художественные книги, о декабристах336 и о композиторах «Могучей кучки»337, был человеком исключительным. Борис Зайцев отмечал: «Нельзя было не ценить тонкого ума, несколько грустного, Михаила Осиповича — его вкуса художественного, преданности литературе, всегдашней его скромности, какой-то нервной застенчивости, стремления быть как бы в тени»338.
Он приходился внуком Калонимусу-Вольфу Высоцкому (1824–1904), который основал известную чайную фирму («Чай Высоцкого»), до сих пор являющуюся ведущей в этой сфере в Израиле и экспортирующую свою продукцию во многие страны. В детстве М. О. Цетлин много болел и, будучи лишенным обыденных мальчишеских радостей, проводил время за чтением и изучением иностранных языков. Как верно писал иерусалимский литературовед Владимир Хазан, «будучи с детства человеком не просто обеспеченным, но по-настоящему богатым, он тем не менее никогда не ставил материальное выше духовного и, сызмалу научившись ценить прекрасное в жизни и искусстве, искал упоения и воплощения своих мечтательных грез в стихах»339.
С годами он стал литератором широкого профиля: публиковал и стихи, и переводы, и критические статьи, и книги по истории культуры. Но, как указывает Ш. Шалит, «совершенно особое место в русской культуре занимает его редакторская и издательская деятельность»340.
Еще в 1915 году, находясь в эмиграции, М. О. Цетлин организовал в Москве издательство «Зерна», где вышли книги М. А. Волошина и И. Г. Эренбурга, а также его собственный сборник стихов «Глухие слова», посвященный Марии Самойловне. В Париже, в журнале «Современные записки», он с 1926 года редактировал отдел поэзии, много помогал молодым литераторам. Кроме этого, супруги Цетлины выпустили в 1923 году три номера альманаха «Окно», где были опубликованы произведения И. А. Бунина, А. И. Куприна, А. М. Ремизова, И. С. Шмелева, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонта, М. И. Цветаевой, Н. А. Тэффи и других литераторов первого ряда русской эмиграции341. Докладом М. О. Цетлина «О литературной критике» открылась 5 февраля 1927 года деятельность «Зеленой лампы» — литературно-философского общества, возникшего по инициативе Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус и сыгравшего значительную роль в духовной жизни русской эмиграции первой волны.
Ил. 79. Михаил Цетлин. Архивное фото 1920-х гг. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
В Нью-Йорке именно супруги Цетлины стояли у истоков «Нового журнала». К концу 2016 года вышло уже 285 номеров этого издания, на сайте которого указано: «„Новый Журнал“ был основан в 1942 году известными писателями Марком Алдановым и Михаилом Цетлиным (поэт Амари) при участии Ивана Бунина. Вокруг журнала была сосредоточена вся культурная жизнь русской эмиграции».
М. О. Цетлин успел выпустить десять первых номеров; материалы из одиннадцатой книжки читал, уже будучи смертельно больным. Марк Алданов написал: «Он прочел триста девяносто страниц из четырехсот... Она [книжка] была готова ко дню его кончины. Журнал добавляет лишь некролог своего основателя»342.
«Когда в 1945 году Михаил Осипович скончался, Мария Самойловна продолжала начатое им дело издания свободного русского „толстого“ журнала, отдавая этому много сил, средств и времени, — добавлял Роман Гуль. — Мария Самойловна оставалась издателем до тех пор, пока фордовский фонд материально не пришел журналу на помощь»343.
Василий Яновский вспоминал: «После выхода в свет очередной книжки журнала Марья Самойловна Цетлин приглашала к себе от имени редакции всех сотрудников для обсуждения изданного номера»344.
Главное же, что всю жизнь делали Цетлины для деятелей культуры — они в прямом смысле слова кормили их. «В зиму 1917/18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все — от Вячеслава Иванова до Маяковского», — вспоминал десятилетия спустя Илья Эренбург345. В 1918 году Цетлины лишились своего московского дома в Трубниковском переулке, но и в эмиграции продолжали поддерживать русскую культуру и ее творцов. Марк Алданов (урожденный Ландау, 1886–1957) и его будущая жена эвакуировались из Константинополя в апреле 1919 года на корабле, который арендовали супруги Цетлины. На том же катере спасались, кстати, Наталья Крандиевская-Толстая и Алексей Толстой346, впоследствии отплативший Цетлиным злом и едким сарказмом за их доброе к нему отношение и помощь.
Как отмечалось в статье о Цетлиных, «еще в десятых годах их гостеприимство и стремление жить интересами передовой интеллигенции России привлекали к ним приезжавших в Париж писателей, художников, издателей, политических деятелей»347.
Вернувшись в Париж (где они поселились в собственной квартире на rue de la Faisanderie, 118, где жили до 1925 года) после поражения Февральской революции и начала «красного террора», Цетлины выслали деньги и полученную специально для него французскую визу Ивану Бунину, бедствовавшему тогда в Белграде, о чем великий писатель и будущий Нобелевский лауреат с благодарностью вспоминал всю жизнь348. В годы эмиграции в парижской квартире Цетлиных (в 1927 году они переехали на rue Nicolo, 59349, позднее там же с ними жили и родители Михаила Осиповича) перебывал цвет русской художественной интеллигенции того времени350, и тот же Алексей Толстой, а также и Бальмонт, Гиппиус, Осоргин, Ходасевич и Бунин читали там свои новые произведения351. Борис Зайцев вспоминал, что в салоне у Цетлиных встречались Милюков и Керенский, Алданов и Сирин (Набоков), Шмелев и Тэффи. «Тут устраивались наши литературные чтения. Встречались мы теперь часто, и чем дальше шло время, тем прочнее, спокойнее, благожелательнее становились отношения наши...»352
Цетлины поддерживали отношения и с рядом художников-эмигрантов во Франции, большинство из которых были близки к эстетике «Мира искусства»: Дмитрием Семеновичем Стеллецким (1875–1947), Савелием Абрамовичем Сориным (1878–1953), Мстиславом Валерьяновичем Добужинским (1875–1957), Сергеем Васильевичем Чехониным (1878–1936), Александром Евгеньевичем Яковлевым и другими. Приобретая их работы для своего собрания, Цетлины помогали им в их непростые эмигрантские годы. В семейном альбоме Цетлиных, в котором делали свои записи многие литераторы и художники, посещавшие их гостеприимный дом, сохранились рисунки Д. С. Стеллецкого, С. А. Сорина, А. Е. Яковлева, а также карандашная зарисовка «Воспоминание о Петербурге» Г. К. Лукомского353.
В собрании Цетлиных представлено и два больших холста жившего и работавшего во Франции Николая Тархова, пронизанные солнцем и ощущением радости жизни. Вероятно, с Н. А. Тарховым Цетлиных познакомил В. А. Серов, который хорошо знал его, поддерживал с ним отношения и рекомендовал Третьяковской галерее приобрести с его выставки в 1910 году две картины: «Рынок в предместье Парижа» и «Материнская нежность».
Лев Самойлович Бакст жил во Франции с 1910 года и неоднократно бывал у Цетлиных в их парижской квартире. Скорее всего, именно там художник создал портреты Марии Самойловны и их с Михаилом Осиповичем маленького сына Валентина. Еще до Февральской революции у Цетлиных неоднократно бывал Максимилиан Волошин, гостивший летом 1915 года в их доме в Биаррице (позднее его пришлось продать, и вместо него был куплен дом с садом в парижском предместье Севре). Отмечено, что «пребывание в Биаррице сыграло исключительно важную роль в судьбе Волошина-художника... Рядом с океаном, в атмосфере свободы от забот и суеты, Волошин пережил настоящий творческий подъем и ушел в пейзажную живопись»354.
Спустя семнадцать лет М. А. Волошин вспоминал, как вместе с Марией Самойловной они «ходили по Парижу»: «Я ее знакомил с разными моими любимыми местами, музеями и людьми»355.
Завсегдатаи монпарнасского богемного кафе «Ротонда», молодые художники Диего Ривера и его тогдашняя супруга Ангелина Михайловна Белова (1879–1969), Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская (Маревна), Пинхус Кремень и некоторые другие попали в поле зрения Цетлиных в 1915 году. С Маревной Цетлиных познакомил Максимилиан Волошин, который летом 1915 года приехал вместе с нею в Биарриц356. Как раз тогда Цетлины приобрели у нее три работы: два холста, написанные в кубистской манере, и одну большую (почти метр в ширину) акварель на бумаге «Кавказский танец». В собрании Цетлиных сохранилась одна ранняя работа Пинхуса Кременя, «Натюрморт со шляпой», хотя, к сожалению, какой-либо информации об общении Цетлиных с самим художником до нас не дошло. В память об общении с Диего Риверой в собрании Цетлиных остался карандашный портрет старшей дочери Шуры, исполненный примерно в то же время. В семейном альбоме Цетлиных сохранились акварель Диего Риверы (натюрморт) и гравюра Ангелины Беловой (с изображением Эйфелевой башни и вида на бульвар Трокадеро) с посвящением хозяйке дома: «A Maria Samuelowna, hommage respectueux. D.M.R.» [Марии Самойловне с почтением и уважением] и «Дорогой Марии Самойловне с искренней нежностью. Ангелина Белова»357.
И все же самыми близкими друзьями Цетлиных среди художников были Наталия Гончарова и Михаил Ларионов. Н. С. Гончарова оформляла книгу М. О. Цетлина «Прозрачные тени. Образы». Михаил Осипович, в свою очередь, посвятил обоим стихи358. Произведения Гончаровой представлены в собрании Цетлиных особенно полно — пятнадцать работ, среди которых как три натюрморта, выполненные маслом, так и эскизы костюмов к спектаклям «Свадебка», «Садко», «Деревенский праздник» и неосуществленной постановке балета «Триана» на музыку Исаака Альбениса. Точное количество работ М. Ф. Ларионова, которое было в коллекции, неизвестно; в открытке к нему в 1920 году М. С. Цетлина просила художника сообщить ей стоимость «всех картин», которые она «отобрала в последний раз»359. В хранящихся в Рамат-Гане фондах работ Ларионова всего три: небольшой лондонский городской пейзаж, выполненный маслом на холсте, и две акварели; судьба остальных неизвестна. С Н. С. Гончаровой М. С. Цетлину связывали доверительные отношения, в письмах она обращалась к ней «милая Наташенька»360. Гончарова и Ларионов пользовались богатой библиотекой Цетлиных с редкими иллюстрированными изданиями и старинными гравюрами.
Ил. 80. Наталия Гончарова и Михаил Ларионов в обществе Леонида Мясина, Игоря Стравинского и Льва Бакста, 1915 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
У Н. С. Гончаровой (наряду с занятиями в студии Василия Шухаева и Александра Яковлева) занималась дочь Марии Самойловны Александра, в замужестве Прегель (1907–1984)361, позже закончившая Национальную школу декоративных искусств в Париже. Большая часть ее жизни прошла в США, где она, в частности, выполнила цикл иллюстраций к Библии и Пасхальной Аггаде, подаренный ею библиотеке Иерусалимского университета.
В сентябре 1940 года Цетлины вынуждены были покинуть Францию, перебравшись вначале в столицу Португалии Лиссабон, а год спустя — в США. Мария Самойловна и после смерти мужа, которого она пережила на тридцать один год, играла большую роль в жизни эмигрантских благотворительных организаций: принимала активное участие в Политическом Красном Кресте, была членом правления Литературного фонда, потратила на благотворительность и на помощь друзьям большую часть своего когда-то значительного состояния. По свидетельству многолетнего литературного секретаря И. А. Бунина Андрея Седых (урожденный Яков Моисеевич Цвибак, 1902–1994), «личные ее потребности были очень невелики — у нее на всю жизнь сохранилась психология скромной бернской студентки»362. Вообще говоря, отец Марии, Самуил Григорьевич Тумаркин (1844–1922), был известным московским ювелиром и человеком состоятельным, но ни он, ни его дочь никогда не имели привычек нуворишей. Они жили, помогая другим, десятилетиями поддерживая деятелей культуры во времена, когда пушки говорили так громко, что казалось само собой разумеющимся, что «не до муз». Они, к счастью, всегда рассуждали иначе. В отличие от большинства эмигрантов еврейского происхождения, вернувшихся в Европу после победы над нацизмом, Мария Самойловна навсегда осталась в США, побывав в Париже еще пять раз (в 1946, 1949, 1953, 1956 и 1961 годах363), но каждый раз возвращаясь обратно в Новый Свет.
III
В многотомной антологии «Евреи в культуре русского зарубежья», выпускавшейся трудами неутомимого подвижника Михаила Ароновича Пархомовского (1928–2015) и его соратников в 1992–2014 годах, об этих людях опубликованы обстоятельные статьи и подборки документов, а сам серовский портрет Марии Цетлиной помещен на обложке выпущенного в 1993 году второго тома. Это важно, прежде всего, потому, что возвращает эту семью в то бикультурное идентификационное пространство, в котором этим людям и памяти о них естественнее всего находиться. В огромной литературе о первой русской эмиграции факт иного этнического происхождения и/или вероисповедания тех или иных деятелей культуры практически всегда обходится молчанием, реализация же в Израиле проекта воссоздания еврейской государственности и ее древнего национального языка шла путем отказа от любого иного культурного и лингвистического наследия, в том числе русского. В результате этого русско-еврейская интеллигенция в эмиграции оказалась «между стульями», будучи причислена либо к деятелям исключительно русской культуры, либо к сионистам, мечтавшим о национальном возрождении в Эрец-Исраэль. Разумеется, были и такие, но и они принадлежали к обоим народам и обеим культурам, сформировав то, что Довид Кнут (урожденный Фиксман, 1900–1955) охарактеризовал как «особенный русско-еврейский воздух»; важно продолжение этой строки поэта, отнюдь не переживавшего ни по поводу недостаточности «русскости», ни в связи с тем, что этой «русскостью» была «размыта» «еврейскость»: «Блажен, кто им когда-нибудь дышал». Цетлины как раз принадлежали к числу тех, кто этим воздухом дышал всю жизнь.
Цетлины уезжали из России не из-за еврейских погромов, а из-за победы большевистской революции и начала красного террора. Большевикам в еврейской общине подмандатной Палестины, а тем более в Государстве Израиль после провозглашения в 1948 году независимости, не особенно симпатизировали, но эти проблемы воспринимались как чужие. Героями были люди, сделавшие выбор в пользу Палестины/Эрец-Исраэль. Тогда же, когда из Одессы уехали Цетлины, в апреле 1919 года, ее покинул и их товарищ по партии социалистов-революционеров Пинхас Рутенберг (1879–1942). В конце 1919 года он иммигрировал в Палестину/Эрец-Исраэль, где стал одним из организаторов отрядов еврейской самообороны, инициатором создания существующей до сих пор Электрической компании, членом Национального совета (своего рода протоправительства «государства в пути»), а в последние годы жизни — даже его председателем364. Выбор, сделанный П. Рутенбергом, считался в Израиле единственно верным с национальной точки зрения. Издание же русскоязычных литературных журналов и помощь не сионистскому проекту, а русским писателям и художникам считались чуть ли не предательством национальных идеалов. Живших во Франции русских литераторов еврейского происхождения Сашу Черного (настоящее имя — Александр Гликберг, 1880–1932) и Марка Алданова в еврейской общине Палестины/Эрец-Исраэль, а позднее в Израиле, тоже не считали своими, их произведения на иврит никогда не переводились и не издавались. Примером для всех русских писателей еврейского происхождения должен был стать Владимир Жаботинский (1880–1940), которого, например, Нина Берберова охарактеризовала как «одного из умнейших людей, каких она знала»: «Я часто буквально пила его речь, живую, острую, яркую, своеобразную, как и его мысль»365.
Но, вместо того чтобы быть русским писателем, В. Е. Жаботинский стал одним из ключевых идеологов сионизма и лидером целого ряда национальных структур, истово боровшихся за скорейшее появление на карте мира еврейского государства. Проблема была, конечно, не в Цетлиных, а в репертуаре социально-культурных идентификаций и родов деятельности, считавшихся в Израиле «допустимыми» для евреев в годы борьбы за государство.
«Михаил Осипович был русским писателем и во многом человеком русской культуры», — писала их с Марией дочь Ангелина, и с этим не спорит никто. Однако не менее важно продолжение ее тезиса:
Одновременно он всю жизнь оставался верен еврейскому народу. Он это ясно выразил в стихах в сборнике «Глухие слова»:
С одним народом я скорблю,
С ним связан я кровью.
Другой безнадежно люблю
Ненужной любовью366.
Эти строки были опубликованы в 1916 году, но оставались верными на всем протяжении жизни как Михаила Осиповича, так и Марии Самойловны. Брак их, заключенный в 1910 году, был оформлен во Франции в городе Байоне, причем не только в мэрии, но и в синагоге367. Их дочь Ангелина с Полем Кривицким в 1937 году тоже прошли обряд бракосочетания в мэрии и в парижской синагоге на улице Монтевидео368. Цетлиным удалось пережить годы Холокоста в новой эмиграции (в это время их библиотека и архив в квартире на rue Nicolo были разгромлены нацистами369), но отец Поля, Роман Кривицкий, был в 1943 году схвачен гестапо и погиб в концлагере370. О преследованиях, которым подвергались евреи, они помнили всегда, считая необходимым напоминать об этом тем, кто знать об этом не хотел. В 1958 году Мария Самойловна писала Е. А. Извольской (1896–1975), предложившей к печати в поддерживаемый ею журнал «Опыты» апологетическую работу о последнем русском царе и его «идиллическом отношении к людям»: «Николай II был членом (и даже, говорили, председателем) „Союза русского народа“, который организовывал еврейские погромы. Мне душевно и нравственно невозможно как издательнице „Опытов“ помещение статьи об их идиллическом отношении к людям»371.
Хотя ни сами супруги Цетлины, ни их родители или дети никогда не жили в Палестине/Израиле, еврейское государство отнюдь не было им чуждым, занимая определенную роль в их жизни еще до его создания. Осип Самойлович, по словам его внучки, «поощрял сионизм, купил в Палестине оранжерею, где основали киббуц»372. После смерти Михаила Осиповича Мария Самойловна передала его коллекцию книг университетской библиотеке в Иерусалиме. В 1959 году она подарила городу Рамат-Ган свою художественную коллекцию. Предшествовало этому письмо, написанное на русском языке и направленное 25 января 1959 года Авраамом Криници (1886–1969), на протяжении более чем сорока лет бывшим мэром Рамат-Гана, Марии Самойловне, в котором он писал, что в городе начинается строительство музея, где ее коллекция займет отдельный павильон, коему будет присвоено имя Михаила Осиповича Цетлина. А. Криници оставался мэром Рамат-Гана еще десять лет, до самой своей смерти, но обещание, данное им М. С. Цетлиной, он не сдержал.
Известный театральный и художественный критик Хаим Гамзу (1910–1982), основатель театральной школы «Бейт Цви» в Рамат-Гане и многолетний директор Тель-Авивского художественного музея, в свое время писал:
Собрание картин, только что полученных муниципалитетом Рамат-Гана в дар от госпожи Цетлиной из Нью-Йорка, состоит в основном из произведений русских художников, близких к журналу «Мир искусства», выходившему под редакцией и под художественным руководством Сергея Дягилева и Александра Бенуа. В этом собрании имеются работы Леона Бакста, Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Филиппа Малявина, Александра Яковлева, Савелия Сорина, Дмитрия Стеллецкого, Сергея Чехонина и великого русского портретиста Валентина Серова. Судя по коллекции, некоторые из художников просто бывали в доме дарительницы, с иными ее связывали, видимо, и дружеские отношения. Среди картин много портретов самой Цетлиной и членов ее семьи. Другая часть коллекции — эскизы к театральным постановкам — в этой области специализировались художники объединения «Мир искусства». Кроме того, в собрании имеются четыре офорта Рембрандта, четыре — Фрагонара, две акварели Константена Гиса, рисунок Марке, два рисунка известного мексиканского художника Диего Ривьеры, приятный натюрморт Серузье, ученика Поля Гогена373.
Не было сомнений, что речь идет о неординарной коллекции, собранной семьей, жившей среди культурной элиты русского и русско-еврейского происхождения на берегах Сены и Гудзона. Исследование этого феномена имеет очевидное значение для понимания судеб еврейской диаспоры, и художественная коллекция, собранная Михаилом Осиповичем и Марией Самойловной Цетлиными, могла и должна была стать духовной платформой такого изучения. Дела обстояли, однако, совершенно иным образом. На протяжении многих лет работы хранились в совершенно не подобающих для коллекции произведений искусства условиях.
16 апреля 1984 года в одной из ведущих израильских газет появилась большая статья, в которой, в частности, говорилось: «Отношение рамат-ганского муниципалитета к собранию Цетлиных, на протяжении долгих лет прозябающему в провинциальном помещении, — не что иное, как левантийское издевательство над понятием „культура“, обман дарителей и обкрадывание общественности»374.
В течение многих лет картины находились на складах в условиях, угрожающих их существованию, в т.ч. на складе химических препаратов в Национальном парке, где не соблюдался режим температуры и влажности, необходимый для обеспечения сохранности произведений искусства. В результате неправильного хранения работ на протяжении тех лет, в ходе которых коллекция находится в Рамат-Гане, картины оставались почти неизвестными публике и лежали как груда камней в условиях, о которых упоминалось выше,
— указывал заместитель мэра города Рамат-Ган Моше Абрамович в ответе на запрос, направленный автором настоящей книги375.
Уже в 1966 году Хаим Мелер, реставратор из Тель-Авивского музея, пришел к выводу, что всего была повреждена 61 работа, из коих состояние четырнадцати более не позволяло выставлять их в музейном пространстве; реставрация поврежденных по вине муниципальных властей работ была также оплачена Марией Самойловной Цетлиной. Понимая, что в общедоступной городской библиотеке (а работы из собрания Цетлиных были развешены именно там), где не было ни охраны, ни камер слежения, обеспечить сохранность коллекции не представлялось возможным, в начале 1990-х годов ее просто убрали в запасник, и лишь отдельные произведения экспонировались на временных выставках в тех или иных израильских музеях. 20 июня 1996 года состоялось открытие Рамат-Ганского музея русского искусства им. Михаила и Марии Цетлиных в отдельном здании, выстроенном по проекту архитектора Нахума Золотова (1926–2014). Летом 2003 года произведения из этой коллекции, включая портрет Марии Цетлиной работы В. А. Серова, были представлены в Третьяковской галерее, что само по себе свидетельствует об их значении для истории культуры и высоком художественном уровне. Несмотря на это, так как залы нового музея постоянно заняты теми или иными временными выставками, большая часть собрания Цетлиных в Рамат-Гане продолжает пылиться на складе, где не обеспечены никакие условия с точки зрения контроля температуры и влажности376, а в штате музея работает лишь один профессиональный сотрудник — искусствовед Леся Войскун.
В Израиле отнюдь не все музеи имеют статус «признанных» (на иврите — музеон мукар) государством, и те, которые такого статуса не имеют, не подконтрольны Министерству культуры. В альбоме, выпущенном перед выставкой коллекции Цетлиных в Третьяковской галерее, говорится, что она «обосновалась в 1959 году в израильском городе Рамат-Гане в статусе государственной»377. Это, к сожалению, ошибка. Музей русского искусства к числу «признанных» не относится и не получает финансирования от государства, а потому действующий Закон о музеях, который мог бы хоть в какой-то степени ограничить свободу действий мэрии Рамат-Гана в том, что касается торговли экспонатами, на него не распространяется. При Министерстве культуры Израиля существует Совет по делам музеев; 16 ноября 2014 года глава этого Совета д-р Шимшон Шошани направил заместителю мэра Рамат-Гана Моше Абрамовичу и директору Управления музеев этого города Меиру Ааронсону письмо с просьбой остановить процесс продажи картины В. А. Серова и вернуть ее в Израиль. «Выставление на продажу самого важного произведения в собрании с декларируемой целью улучшить выставочные площади и условия вызывает возмущение и выглядит противоречащим замыслам филантропов, подаривших собрание городу Рамат-Ган», — подчеркивал Ш. Шошани. Он отметил готовность дирекции Израильского музея принять эту коллекцию в свои фонды и обеспечить ее сохранность в своих помещениях, где соблюдается необходимый климатический режим378. Однако согласно действующему в Израиле Закону о музеях 1983 года Совет по делам музеев имеет сугубо консультативно-рекомендательные полномочия. Письмо Ш. Шошани было просто проигнорировано, жажда больших денег победила большое искусство.
Важно упомянуть, что Мария Самойловна подарила свою коллекцию целиком, стремясь спасти ее от распыления и продажи. «Создание музея стало возможным благодаря твердой решимости Марии Самойловны Цетлиной сохранить принадлежавшие ей картины как единое целое. Не продавать коллекцию, не распылять ее, более того, даже не делить ее между наследниками — любимыми детьми. Этот шаг был самым трудным. Перед тем как привезти картины в Израиль, Мария Самойловна получила согласие на это каждого из них — Александры, Валентина и Ангелины», — указывала Ш. Шалит379. Портрет работы В. А. Серова являлся очевидной жемчужиной коллекции, самой ценной из находившейся в ней работ. Лиза Розовская, инициировавшая упомянутую в начале настоящей главы протестную акцию в музее, прошедшую 14 ноября 2014 года, справедливо назвала это полотно «Мона Лиза из Рамат-Гана»380. Работающий в находящемся в этом городе Университете имени Бар-Илана искусствовед д-р Илья Родов распространил 9 ноября 2014 года петицию с призывом «остановить чиновников муниципалитета, продающих картину Серова из музея Рамат-Гана», которую подписали более шестисот человек381. Илья Родов пытался апеллировать к национальным чувствам, напоминая, что В. А. Серов, будучи евреем по материнской линии, написал портрет хозяйки коллекции, которая впоследствии сочла необходимым подарить свое собрание еврейскому государству, чтобы работы российских еврейских художников принадлежали израильтянам382. Все оказалось бесполезно... Продажа на аукционе этого произведения стала апофеозом наплевательски-грабительского отношения к дару М. С. Цетлиной и ее родных со стороны городских властей. Портрет, созданный Валентином Серовым в Биаррице в 1910 году, который должен был стать памятником этим удивительным людям, сделался зримым свидетельством того, насколько не нужна еврейскому государству культура русско-еврейской диаспоры.
Важно подчеркнуть, что служение супругов Цетлиных русской культуре не шло за счет их отрешения от еврейства, в своей жизни они реализовали модель бикультурного космополитизма и, где бы они ни жили, оставались русско-еврейскими европейцами. Однако именно поэтому они и оказались практически забыты потомками: Франция и США, где Цетлины жили и умерли, от проблематики русско-еврейского бикультурного космополитизма весьма далеки, в этих странах культура развивается на других языках; в Советском Союзе в пантеон культурного наследия из эмигрантов попадали лишь самые выдающиеся деятели культуры, получившие известность еще до революции, такие как Бунин, Шаляпин или Рахманинов; а в Палестине/Эрец-Исраэль весь «национальный горизонт» застилала борьба за возрождение языка иврит и суверенной государственности, а затем — формирование единой еврейско-израильской нации в условиях непрекращавшегося конфликта с враждебным арабским окружением. Израиль долгие годы выдвигает претензии на то, чтобы быть духовным центром еврейского народа. Учитывая историко-культурное многообразие уникальной судьбы этого народа, его духовный центр не может не быть зонтиком для многих культур, традиций и языков, неотъемлемой частью которых были и евреи. Однако Израиль совсем не стремится к этому, строя новую национально-гражданскую идентичность, почти совершенно не нуждающуюся в диаспоральном наследии383. Трагедия, которая в значительной мере объясняет феномены, анализируемые в настоящей книге, состоит в том, что «русско-еврейский воздух» не имел и не имеет своей государственной почвы, оставаясь сиротой в мире, жестко поделенном на «своих» и «чужих».
ГЛАВА 13
АРТ-КРИТИК ВАЛЬДЕМАР ЖОРЖ — АВТОР ПЕРВОЙ КНИГИ О ЕВРЕЙСКИХ ХУДОЖНИКАХ «ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ»
Хотя значительное количество живописцев и скульпторов еврейского происхождения среди художников «Парижской школы» обратили на себя внимание искусствоведов еще в 1920-е годы, первая — причем сравнительно небольшая — книга, целиком посвященная этой теме, появилась только в 1959 году, будучи изданной под эгидой Всемирного еврейского конгресса384. О почти забытом в наши дни авторе этой монографии важно рассказать еще и для того, чтобы продемонстрировать, насколько извилистым мог быть путь еврея-интеллектуала из Российской империи во Франции385. Его имя самым тесным образом связано с «Парижской школой», отдельных художников которой он в разные годы остро критиковал, тогда как других активно поддерживал и продвигал, будучи автором сотен статей и эссе об их творчестве и предисловий к каталогам выставок многих из них.
Ежи Вальдемар Яроцинский (Jerzy Waldemar Jarocinsky), известный по выбранному им после эмиграции псевдониму Вальдемар Жорж (Waldemar George), родился 10 января 1893 года в городе Лодзь на территории Польши, входившей тогда в состав Российской империи. Родители его — отец Станислав Яроцинский (1852–1934) и мать Евгения Гольдфедер (Eugenia Goldfeder, 1867–1954) — также родились в Лодзи. Отец будущего художественного критика был заметной фигурой в своем городе, в разное время руководил ремесленной школой, основанной его отцом, и местным отделением банка, принадлежавшего семье родителей его жены, при этом входил в число основных филантропов, поддерживавших деятельность главной городской синагоги. Не отрекаясь от иудаизма, свою судьбу он связывал с судьбой польского народа, выступая, в частности, за то, чтобы в еврейских школах идиш как язык преподавания был заменен на польский. Во время Первой мировой войны он был доверенным лицом Американского еврейского распределительного комитета (так называемого «Джойнта») и помогал следить за тем, чтобы поступавшая из-за океана помощь доставалась наиболее нуждающимся. Зигмунт Яроцинский, дед Вальдемара Жоржа со стороны отца, в 1890 году основал еврейскую школу, где преподавались не только религиозные, но и светские предметы, причем на польском языке. Во второй половине 1920-х годов эта школа стала готовить также электриков и механиков.
Внук основателя школы, однако, не видел себя ни электриком, ни механиком, он писал стихи и интересовался искусством, поэтому вскоре после завершения обучения в лицее, в 1911 году, Ежи Вальдемар Яроцинский с российским паспортом приехал во Францию, формально — в целях получения высшего образования. В Париже его принял уже живший там его дядя, уроженец Варшавы Жан Фино, урожденный Финкельхаус (Jean Finot [Finckelhaus], 1858–1922), который, будучи руководителем журнала La Revue mondiale [«Всемирное обозрение»], ввел молодого человека в мир прессы. В этом же году Яроцинский стал сотрудником журнала Paris Journal, где познакомился с Луи Воселем (Louis Vauxcelles, 1870–1943), Андре Сальмоном (André Salmon, 1881–1969) и другими видными художественными критиками того времени. Как и его дядя, молодой человек решил изменить свое имя и придать ему «французское» звучание. В Paris-Journal, где Эжен Марсан (Eugène Marsan, 1882–1936), сторонник националистической монархистской организации Action française [«Французское действие»], вел рубрику, посвященную театру, Вальдемар Жорж публиковал колонки об искусстве386.
Все больше осваиваясь в мире художественной критики, Вальдемар Жорж продолжал грезить и о поэтической стезе. Он готовился стать бакалавром гуманитарных наук, когда внезапно началась Первая мировая война. 23 сентября 1914 года Вальдемар Жорж записался добровольцем во Французский Иностранный легион, где был определен военным переводчиком. Он страдал от хронического энтерита и был в октябре 1915 года признан «негодным к участию в боевых действиях», поэтому стал заниматься вспомогательной работой в армии, где во многом пригодился его талант полиглота. При этом уже 19 декабря 1914 года Вальдемар Жорж получил французское гражданство.
Демобилизовавшись в 1919 году, Вальдемар Жорж стал ответственным секретарем журнала L’Amour de l’art [«Любовь к искусству»], которым руководил Луи Восель. Первый номер увидел свет в мае 1920 года. Вальдемару Жоржу не было еще и тридцати лет, но его карьера складывалась на зависть успешно. Он общался с поэтами, художниками и критиками, которых каждую субботу в кафе «Турель» (café des Tourelles) собирал Иоахим Гаске (Joachim Gasquet, 1873–1921). Он часто посещал мастерскую художника Андре Лота, где по четвергам Жак Ривьер (Jacques Rivière, 1886–1925) собирал вокруг себя группу художников из La Nouvelle Revue française. Он поддерживал близкие отношения с Робером Делоне и многими другими видными художниками; кроме того, он вместе с известным арт-дилером Полем Гийомом давал консультации видному американскому коллекционеру Альберту Барнсу.
В 1921–1923 годах Вальдемар Жорж принимал участие (его имя, среди других, значилось на обложке первого номера) в выходившем в Париже под редакцией Сергея Ромова литературно-художественном журнале «Удар», в котором публиковались статьи по вопросам современного искусства, освещалась текущая художественная жизнь. Макет и верстку всех четырех вышедших номеров этого журнала осуществил Илья Михайлович Зданевич (1894–1975)387. В феврале 1923 года близкие к журналу художники провели одноименную выставку в галерее La Licorne [«Единорог»]388.
Ил. 81. Вальдемар Жорж в 1930-е гг. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
Энергичный Илья Зданевич, прибывший во Францию только в ноябре 1921 года, вскоре после своего приезда оказался в эпицентре конфликта между эмигрантами, враждебно настроенными по отношению к Октябрьской революции, и теми, кто связывал с ней большие надежды, в том числе в сфере культуры. В ноябре 1920 года был основан Union professionnelle des artistes russes en France [Профессиональный союз русских художников во Франции], документы которого хранились в мастерской скульптора Владимира Издебского, находившейся по адресу rue Françoise Guilbert, 8-bis. Первым председателем союза стал Серафим Судьбинин, позже его сменил Давид Осипович Видгоф, а затем Союз возглавил Илья Зданевич. 1 ноября 1924 года Советский Союз как государство был официально признан Францией, и после этого в 1925 году в Профессиональном союзе русских художников во Франции произошел раскол; отколовшаяся группа, выступавшая с позиций категорического непризнания советской власти, организовала Association des artistes russes en France [Общество русских художников во Франции], председателем которого стал Вячеслав Гарин, а секретарем — Борис Крылов389. И. М. Зданевич, в свою очередь, устроился работать секретарем и переводчиком в советском посольстве, откуда он, впрочем, в марте 1926 года был уволен. Поддерживал связи с советскими представителями и родившийся в Лодзи Морис Блюм (урожденный Моисей Блюменкранц, псевдоним Морис Блонд, 1899–1974): в 1936 году он участвовал в оформлении вечера журнала «Наш Союз», организованного Союзом возвращения на родину, а в 1946 году принял участие в выставке «В честь Победы», организованной в Париже Союзом советских патриотов. Но ни в случае Ильи Зданевича, ни в случае Мориса Блюма сотрудничество с советским официозом не привело к решению оставить Францию. Из этого круга художников в СССР вернулся только Виктор Сергеевич Барт (1887–1954), живший и работавший в Париже в 1919–1936 годах.
Ил. 82. Илья Зданевич, 1912 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
В годы после окончания Первой мировой войны Вальдемар Жорж, как и Илья Зданевич и многие другие «левые» интеллектуалы, активно поддерживал социалистов:
Художники Франции, вместо того чтобы оплакивать судьбу искусства, лучше последуйте примеру наших русских и немецких братьев и обратите свои взоры на социализм, поскольку именно за ним — будущее. И если Вам кажется, что в самой партии, в публикуемых ею газетах, на ее мероприятиях и встречах, в основанных ею организациях искусству не уделяется должного внимания, смело распахивайте закрытые двери, прививайте рабочему народу любовь к Прекрасному, трудитесь ради его блага. И когда в вашем городе пробьет заветный час, то в новом обществе у вас уже будет свое место — это место будет почетным390.
О симпатиях, которые Ежи Вальдемар Яроцинский питал к Октябрьской революции, свидетельствовал не кто иной, как Владимир Маяковский, вспоминавший, что на обеде, устроенном в его честь в Париже 24 ноября 1922 года, «известный французский критик Вальдемар Жорж первый тост предложил за Советскую Россию»391. В том же году в Берлине в помещении фирмы Ван Димен на улице Унтер ден Линден прошла так называемая «Русская художественная выставка, организованная Наркомпросом РСФСР». Описывая ее, тогдашний нарком Анатолий Луначарский отмечал, что хотя «выставка находит популярный успех и чрезвычайно посещается публикой... несколько более шаток наш успех в прессе». Из всех, кто писал об этой выставке, А. В. Луначарский выделил «известного молодого художественного критика Вальдемара Жоржа», который «в газете L’Ere Nouvelle посвятил нашей выставке целых четыре статьи». Эти статьи нарком обильно цитировал:
«Мы увидели на выставке русских художников в Германии постановку серьезных органических проблем, проблем формы и цвета, разрешаемых художниками из подлинной России со скупостью и строгостью, быть может, даже чрезмерными», суммируя: «Вальдемар Жорж выражает величайшую радость, что из России наконец повеяло свежим ветром искусства, отражающего жизнь настоящего массового русского художника»392.
В конце четвертой статьи Вальдемар Жорж обращался к главе Осеннего салона Францу Журдену и главе Салона Независимых Полю Синьяку с просьбой «гостеприимно принять эту выставку в одном из наших Салонов»; далее он воззвал к интернациональной солидарности независимой французской критики, прося коллег поддержать его в этом ходатайстве.
«Левизна» Вальдемара Жоржа вполне соответствовала мировоззрению большинства тогдашних французских интеллектуалов. В одной из своих статей Рене Герра напоминал, что на стороне советской власти были в 1920-е годы и Ромен Роллан, и Анри Барбюс, и Луи Арагон, и Андре Мальро, и Люк Дертен, и Андре Бретон, и многие другие видные французские писатели. Это вызывало горечь и разочарование Ивана Бунина, Константина Бальмонта и ряда других эмигрантов393, но среди находившихся в эмиграции деятелей литературного и художественного авангарда симпатии к советскому социалистическому эксперименту были распространены достаточно широко.
Вальдемар Жорж был в 1920-е годы убежденным защитником и сторонником актуальных художественных течений и обновления в искусстве. В январе 1927 года он покинул редакцию журнала L’Amour de l’art, поскольку, по мнению его коллег, искусство, которое он поддерживал, было «чрезмерно» авангардным394. Тогда же родился его сын, Патрик Яроцинский (1927–2006), а в мае Вальдемар Жорж женился на его матери Клодин Лавалле (Claudine Lavalley, 1902–1989), дочери художника Александра Клода Луи Лавалле (Alexandre Claude Louis Lavalley, 1862–1927). После кончины тестя в 1928 году Вальдемар Жорж написал статью о его творчестве, в которой представил его как новатора, потрясшего Национальную школу изящных искусств свободной импрессионистской манерой своих работ на античные темы395. Луи Лавалле был на самом деле весьма далек от передовых художественных течений своего времени, ни фовизм, ни тем более кубизм в его творчестве не присутствуют вообще, но Вальдемар Жорж старался отдать долг памяти отцу своей жены так, как он умел: поскольку его самого всегда привлекало все новое, парадоксальное и противоречивое, и эти черты были в его глазах самыми важными и ценными в художественном творчестве, то и Луи Лавалле он представлял не салонным академистом, а бунтарем и новатором.
На протяжении ряда лет Вальдемар Жорж сотрудничал с Полем Гийомом — одним из самых передовых арт-дилеров второй половины 1910-х — 1920-х годов. Апофеозом этого сотрудничества стала написанная им и опубликованная в 1929 году книга «Выдающиеся произведения современной живописи в коллекции Поля Гийома»396.
Еврейство волновало Вальдемара Жоржа и как человека, и как искусствоведа. В своей небольшой монографии, посвященной Хаиму Сутину, опубликованной уже в 1928 году, Вальдемар Жорж писал: «Видели ли вы детей, играющих на улицах гетто?.. Их изможденные лица отмечены печатью горести. В их играх нет ребячества. Их крики напоминают долгие тоскливые песнопения»397.
Но если кому-то из них удается все же вырваться из тех мест, в которых им было судьбой предписано жить, то, как утверждал Вальдемар Жорж, с духовной точки зрения они становятся необыкновенно свободными, они проявляют способность существовать вне ограничений, которые накладывают как общественные нормы, так и художественные условности.
Ил. 83. Брошюра Вальдемара Жоржа о Пинхусе Кремене. Waldemar George. Kremegne (Paris: Editions Le Triangle, 1929)
С другой стороны, как считал Вальдемар Жорж, их высвобождение также приводит к тому, что традиционная культура, оживая в их работах, становится всеобщим достоянием. В изданной в 1929 году небольшой брошюре о Пинхусе Кремене он писал:
Первые еврейские художники, которые выглянули наружу, созерцали окружающий мир восхищенным взором. Все казалось им таинственным, фантастически-манящим на этой огромной планете, о которой они уже успели забыть с тех пор, как был разрушен храм Соломона. <...> В их пейзажах и натюрмортах я чувствую атмосферу еврейского очага. Ни с чем не сравнимый аромат кошерных блюд, праздничной трапезы, кровать, убранная множеством великолепных покрывал и подушек, традиции застолья и похоронные обряды... позволяют ощутить атмосферу и духовный климат еврейской жизни на востоке Европы. В картинах Кременя я вновь ощущаю это удивительное чувство наивной радости, это неизменное состояние души, которое мои братья-евреи привносят во все мелочи своей повседневной жизни398.
«Иудаизм является неотъемлемой частью всеобщего наследия человечества», — писал Вальдемар Жорж в другой монографии, посвященной полузабытому в наши дни живописцу Максу Банду (Max Band, 1901–1974) — уроженцу Литвы, с 1923 по 1940 год жившему в Париже, а последние три с половиной десятилетия своей жизни — в США399. Интересно, что Вальдемар Жорж исключал всякую роль национальных корней в творческой судьбе художника, искусство которого как раз свидетельствовало о том, что эти корни для него очень и очень значимы:
Является ли Макс Банд евреем, литовцем? Хоть он и не спешит отрекаться от своей веры, от своих корней, от своей национальности, несмотря на то что он считает, что они сыграли важнейшую роль в его становлении и развитии, сегодня я открыто заявляю, что для меня они не имеют никакого значения. Я не ищу еврея в человеке. Я ищу человека в еврее400.
Человека Вальдемар Жорж искал и в произведениях искусства, это было для него главным. В 1931 году он завершил работу над этапным для него трудом «Profits et pertes de l’art contemporain» [«Завоевания и потери современного искусства»], который вышел в свет двумя годами позднее. Перефразируя по-своему строку из Книги Бытия, Вальдемар Жорж приходил к такому выводу: «Человек сотворен по образу и подобию своего искусства». Этот вывод говорит о его вере в определенную божественную сущность искусства, которое может и должно формировать человека, а не просто быть его отражением401. Он стремился вывести некий этический закон, суть которого сводилась к тому, что в каждом художественном произведении необходимо ощущать присутствие создавшего его человека. С этой точки зрения, художественный критик-гуманист призван выступать не как специалист по художественным формам, стилям и направлениям, а, скорее, как некий духовный проводник, способный почувствовать в художественном произведении присутствие человека. Он должен стремиться открыть замысел художника, определить тему и суть произведения, которую художнику удается — или не удается — раскрыть при помощи доступных ему средств.
Франция была для него центром и образцом западной цивилизации, причем, отвергая национализм еврейский, он все больше сближался с национализмом французским. Так, в 1934 году он писал: «Франция всегда отвергала любые внешние влияния и, наоборот, сама прививала свои каноны, свои законы, свое чувство гармонии иностранным художникам, которые творили искусство в ее лоне»402.
В то время Вальдемар Жорж открыто восхищался Бенито Муссолини. Через итальянского галериста и художественного критика Пьетро Мария Барди (Pietro Maria Bardi, 1900–1999) он сумел в марте 1933 года добиться личной аудиенции у дуче в Палаццо Венеция в Риме. Помимо перевода на итальянский своей книги «Завоевания и потери современного искусства»403, он также представил Муссолини «идеальный план развития фашистского искусства на основе искусства Рима»404. Воодушевленный оказанным ему теплым приемом, Вальдемар Жорж с головой ушел в работу над своей новой книгой.
В 1936 году эта книга, одна из самых противоречивых книг Вальдемара Жоржа, была опубликована под названием «L’Humanisme et l’idée de patrie» [«Гуманизм и идея родины»]405. Глава, посвященная «Еврейским метаморфозам», которую сам автор представил как «исповедь и покаяние», показывает, что Вальдемар Жорж, как и некоторые другие еврейские интеллектуалы, не избежал проблемы национального и религиозного самоотрицания; фактически, это был интериоризованный антисемитизм, пусть его и высказывал человек, сам бывший этническим евреем. Эта проблема была впервые поднята немецким интеллектуалом еврейского происхождения Теодором Лессингом (Theodor Lessing, 1872–1933) в книге «Der jüdische Selbsthaß» [«Еврейская самоненависть»], изданной в 1930 году, а спустя одиннадцать лет — психологом Куртом Левиным (Kurt Lewin, 1890–1947), указавшим, что «ненависть еврея может быть направлена против евреев как группы, против определенной части евреев, против своей собственной семьи или даже против себя самого. Она может быть направлена против еврейских социальных институтов, еврейской манеры поведения, еврейского языка или еврейских идеалов»406.
В 1930-е годы Вальдемар Жорж являл собой яркий пример интеллектуала именно такого рода, не только желавшего отказаться от собственного еврейства, но и поддерживавшего тотальную ассимиляцию евреев, что должно было неминуемо привести к их исчезновению как самостоятельного народа. Он выступал за ассимиляцию «сверху», возможную благодаря вездесущему присутствию «еврейского духа», который полностью вольется в европейскую культуру и, ведомый неким авторитетным вождем, будет развиваться в рамках французско-католического мира, который объединит и Рим, и Иерусалим407.
Однако аншлюс Австрии в марте 1938 года и последующие события постепенно привели Вальдемара Жоржа к осознанию трагедии, которая все больше угрожала Европе — и в особенности европейскому еврейству. Он понял, что книга «Гуманизм и идея родины» дискредитирует его, демонстрируя читателям его заблуждения, и попросил своего издателя отдать все непроданные экземпляры на макулатуру. В июле 1939 года, беспокоясь за будущее Польши, Вальдемар Жорж перевез во Францию свою мать. Сделал он это крайне вовремя, ибо уже через два месяца вся Польша оказалась оккупированной гитлеровскими и сталинскими войсками.
В 1940 году Вальдемар Жорж, бывший членом комиссии экспертов по приобретению произведений искусства для государственных музеев, получил письмо от президента Осеннего салона Жоржа Девальера (Georges Desvallières, 1861–1950), известившего его, что под давлением властей «наши собратья еврейского происхождения были изгнаны по соображениям политического порядка». Хотя Ж. Девальер добавлял: «Я не могу Вам передать, насколько эта ситуация, совершенно противоречащая нашим традиционным либеральным взглядам, удручает нас», прося «верить в искренность нашего чувства товарищества и дружбы», Вальдемар Жорж не мог не осознавать, что вновь стал Ежи Вальдемаром Яроцинским — бесправным евреем, отторгаемым страной, которой он слагал патриотические гимны.
Домом нового искусства в Париже была галерея в Люксембургском дворце, но над ним теперь развивался нацистский флаг со свастикой. Не желая выполнять требования нацистских властей и носить на одежде желтую звезду, Вальдемар Жорж в 1942 году вместе с женой и сыном покинул Париж; семья нашла убежище на юге Франции. Его мать осталась в Нормандии, в доме, который принадлежал родителям ее невестки. Благодаря дружеским связям в мире искусства Вальдемару Жоржу удалось найти пристанище в небольшом городке Параду (Paradou) на юго-востоке Франции, общее число жителей которого в то время едва превышало пятьсот. Он скитался: его видели то в поселке Вигьер (la Viguière), то в Экс-ан-Провансе, то в доминиканском монастыре Сен-Максимен-ла-Сент-Бом, где, чтобы как-то скоротать время, он читал монахам лекции по истории искусства.
В январе или феврале 1944 года он вместе с родными отправился в Нормандию с фальшивыми документами на фамилию Жарро (Jarraud) и нашел пристанище у учительницы Жозефины Герандель (Joséphine Guérendel), которая жила неподалеку от Сент-Илер-дю-Аркуэ (Saint-Hilaire-du-Harcouët) в департаменте Манш, где они участвовали в оказании помощи высаживающимся союзникам. Там Вальдемар Жорж смог наконец встретиться с матерью, которой тогда было 76 лет. Семейный дом возле горы Сен-Мишель был реквизирован немецкими войсками и полностью разорен, картины и редкие книги, вывезенные сюда из Парижа за три года до этого, конфискованы и отправлены в Германию. Из дома в Булонь-Биланкуре в окрестностях Парижа, где семья Вальдемара Жоржа жила до оккупации Франции, все ценные вещи вынесли местные мародеры. Успешный и знаменитый художественный критик 1930-х годов вдруг оказался в бедности. Чтобы хоть как-то начать жизнь заново, было решено продать дом по какой угодно цене.
После освобождения Парижа в августе 1944 года Вальдемар Жорж вернулся в столицу и первое время жил у архитектора и скульптора Андре Арбюса (André Arbus, 1903–1969) на авеню Матиньон. Он возобновил свою деятельность, присоединившись к редакции издаваемой Движением сопротивления газеты Résistance. La Voix de Paris [«Голос Парижа»]. Одна из его первых статей, посвященная возобновлению работы Лувра, исполнена непоколебимой веры в Париж, в столицу вечной Франции408. Однако порой ему приходилось горько разочаровываться: так, в сентябре 1944 года он увидел, что в редакции журнала Beaux-arts, где он провел столько лет своей творческой жизни, на стене все еще висел портрет маршала Петена — Вальдемар Жорж тут же сорвал его и порвал на куски.
Мысли о тех, кто не дожил до освобождения Парижа, не давали ему покоя, что отражалось и в его репортажах:
Прекрасный вернисаж. Прекрасная выставка. Вся атмосфера напоминает о мирном времени. Весь этот шум, весь этот поток искренних или ложных любезностей. <...> Хорошо ли это, плохо ли? Я не знаю. Но я убежден, что если бы посреди этой парижской толпы, посреди ее радостного праздника, появился бы кто-то из депортированных, чудом избежавший немецкой неволи, он явно помешал бы их веселью409.
Он начинает работать над книгой «Les Juifs et la Civilisation» [«Евреи и цивилизация»], по всей видимости, так им и не завершенной и не опубликованной. Сохранившиеся фрагменты рукописи этой книги свидетельствуют о том, что под влиянием Второй мировой войны и Холокоста Вальдемар Жорж существенно пересмотрел свои взгляды на судьбу народа, к которому он по факту рождения принадлежал:
Мы должны доказать, что те, кто пытался нас уничтожить, уничтожали сами основы, сами принципы цивилизации, представителями и носителями которых являются евреи. <...> Мы все необыкновенно счастливы, что вновь стали частью французского сообщества. <...> Однако мы искренне считаем, что не предаем наши идеалы, заявляя во весь голос, что среди людей, которые составляют гордость Франции, были и французские евреи и что они не отказывались ни от своего происхождения, ни от своей веры410.
Вальдемар Жорж не закрывал глаза на то, что «руководители парижских галерей, которые теперь все пытаются реабилитировать себя, а скорее — отмыться, организуя различные мероприятия в пользу бывших участников движения сопротивления и людей, депортированных по этническим или политическим причинам, в свое время принимали активное участие во всеобщем погроме, то грабя, то скупая»411.
Тем не менее порой он был готов защищать тех, кто поступился принципами в тяжелое время. Он оправдывал их следующим образом: «Искусство должно оставаться свободным. Единственное преступление, которое может совершить художник, — это преступление против искусства»412.
Государство Израиль, его борьба за независимость и свободу, а в еще большей степени — его художественная жизнь, постоянно привлекали внимание Вальдемара Жоржа. Весной 1948 года он был среди тех, кто подписал опубликованное в выходившем в свет дважды в месяц прокоммунистическом бюллетене Droit et Liberté [«Право и свобода»] обращение в поддержку реализации положений резолюции № 181 о разделе Палестины, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года413. Вальдемар Жорж был заместителем председателя французской Ассоциации друзей национального художественного музея «Бецалель» в Иерусалиме, причем и в этом качестве он оставался патриотом и защитником политических интересов Франции, которая, по его словам, «обладает законным правом на Иерусалим, святой город всего христианского мира и цитадель свободного народа»414. Будь это сказано в середине второго десятилетия XX века, когда великие державы того времени — Великобритания, Франция, Россия и Италия — вели тайные переговоры о переделе Ближнего и Среднего Востока после распада Оттоманской империи, закончившиеся в мае 1916 года подписанием соглашения Сайкса — Пико (впоследствии во многом нарушенного заинтересованными сторонами), это звучало бы более или менее оправданно, но в 1948 году, после принятия решения о разделе Палестины/Эрец-Исраэль и создании на ее территории двух независимых государств, еврейского и арабского, и выделении района Иерусалима как обособленного анклава под международным контролем, подобные претензии были вопиюще неуместными. Вальдемар Жорж не мог не осознавать это, но, по всей видимости, как и многие другие еврейские интеллектуалы диаспоры, делавшие подобные в немалой степени гротескные реверансы, писал эти строки, дабы избежать возможных обвинений в «двойной лояльности», в поддержке новосозданного Государства Израиль в ущерб своей верности Французской Республике.
Он принимал участие в организации в Париже ряда еврейских и израильских выставок, в частности состоявшейся в октябре 1949 года в Galerie Hermann выставки «Гуаши Хаи Шварц. Живопись Израиля», открытой в мае 1955 года в галерее Марселя Бернхейма (Galerie Marcel Bernheim) при участии посла Государства Израиль выставки картин и акварелей Ицхака Френкеля (Френеля) и прошедшей в галерее «Ривьера» (Galerie Rivière) в феврале — марте 1960 года выставки «L’École Israélienne et l’École de Paris» [«Израильская школа и Парижская школа»], а также опубликовал в журнале Combat-Art целый ряд статей, посвященных еврейскому и израильскому искусству415.
Во вступительной статье к каталогу выставки Хаи Шварц (1912–2001), написанной спустя год после создания Государства Израиль, когда оно только-только выиграло войну за независимость, Вальдемар Жорж не жалел восторженных слов:
Израиль... исцелил нас, подобно тому как исцелил наших братьев, своих первопроходцев, крестьян и солдат, изгнав из нас всех наш наследственный недуг. Он одержал победу над духом диаспоры, духом гетто, духом «стены плача», духом тоски, над паническим страхом и скорбью прошлого. <...> Он прочно пустил свои корни. Он уверенно стоит на своей земле, которую он вновь отвоевал для себя. Он знает, что еврейские танки открыли путь для тракторов и плугов. Он полон веры в свое светлое будущее416.
Вскоре после этого Вальдемар Жорж выступил организатором выставки еврейского народного искусства в маленьком музее на улице Соль (rue Saules), который стал предшественником Музея искусства и истории иудаизма, открытого в Париже в 1998 году. Кажется, никогда прежде (и, пожалуй, никогда впоследствии) дух еврейского национального возрождения не был таким значимым для Вальдемара Жоржа — к иудаизму он, впрочем, как и раньше, относился весьма прохладно.
В последующее десятилетие Вальдемар Жорж больше, чем когда-либо прежде, думал над вопросом, который сам он сформулировал в своей статье в Figaro в 1949 году: «Существует ли еврейское искусство?»417 В 1950-е годы он был постоянным автором журнала L’Arche [«Ковчег»], который издавался Fonds social juif unifié [Объединенным социальным еврейским фондом], сотрудничал с галереей «Зак», где регулярно проходили выставки художников еврейского происхождения. Эта галерея была основана в 1928 году уроженкой Польши Ядвигой Зак (Yadwiga Zak, 1885–1943), вдовой художника Евгения (Эжена) Зака; позднее ею руководил Владимир Райкис (Wladimir Raykis). В историю искусств эта галерея, просуществовавшая около сорока лет, вошла главным образом благодаря тому, что именно там в феврале 1929 года состоялась первая в Париже персональная выставка Василия Кандинского. В этой галерее проходили также выставки Марка Шагала, Жюля Паскина и других художников.
В 1958 году Вальдемар Жорж написал статью для каталога выставки Давида Гарфинкеля в этой галерее. Отметив, что этого художника «привлекает лишь мир чувственных, живых образов», что «сюжет сам по себе для него — не более чем повод для самовыражения, для самостоятельного поиска», критик писал:
В живописи Гарфинкеля, этого скромного мечтателя, есть две противоположные стороны. С одной стороны, часть его картин — это светлые и прозрачные композиции, дышащие уютом и спокойствием. Это натюрморты с рыбами в сверкающей чешуе, букеты роз в вазах, прозрачные силуэты девушек в ярких платьях, напоминающие алжирских красавиц Эжена Делакруа. Цель этих работ — доставить удовольствие зрителю, поделиться с ним радостью бытия. Но наряду этим в творчестве Гарфинкеля есть и работы, полные драматического накала, которые резко контрастируют с этой яркой палитрой, с этими стихами в прозе, с этими красочными аккордами — его. Их острота и глубоко пронзительная выразительность, которую воплощает художник, вышедший изначально из импрессионистской традиции, проявляются здесь со всей силой романтического и даже почти апокалиптического экспрессионизма418.
В 1955 году редактор журнала L’Arche [«Ковчег»] Мишель Саломон (Michel Salomon) предложил ему написать статью о «развитии de l’École juive de Paris [еврейской Парижской школы] после 1945 года»419. Вальдемар Жорж принял это предложение, но статья оказалась достаточно большой — и была выпущена поэтому в 1959 году в виде отдельной брошюры. Издателем этой монографии выступил Всемирный еврейский конгресс.
В этой работе Вальдемар Жорж, начав с упоминания еврейского происхождения одного из ведущих импрессионистов Яакова Авраама Камиля Писсарро (Jacob Abraham Camille Pissarro, 1830–1903), обозначил широкую панораму еврейского присутствия во французском изобразительном искусстве, включив в свой обзор как художников к тому времени скончавшихся (Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Жюля Паскина и других), так и продолжавших работать, причем не только уже знаменитых Марка Шагала и Яакова (Жака) Липшица, но и людей намного менее известных, например уроженца Алжира Жана-Мишеля Атлана (Jean-Michel Atlan, 1913–1960) и уроженца Галиции Пинхаса Бурштейна (Pinchas Burstein, 1927–1977), в отроческие годы бывшего заключенным лагеря уничтожения Освенцим, где ему удалось выжить, затем на протяжении двух лет находившегося в одном из лагерей для перемещенных лиц в Германии, в 1947 году иммигрировавшего в Палестину/Эрец-Исраэль, а в 1950 году — в Париж420; уже после выхода монографии Вальдемара Жоржа, в 1962 году, он иммигрировал еще раз, на этот раз — в США, где взял себе псевдоним Maryan S. Maryan.
Ил. 84. Обложка книги Вальдемара Жоржа «Еврейские художники Парижской школы». Waldemar George. Les artistes juifs et l’École de Paris (Éditions du Congrès juif mondial, 1959)
В том же 1959 году Вальдемар Жорж написал вводную статью к каталогу ретроспективной выставки Пинхуса Кременя в галерее Дюран-Рюэль (Galerie Durand-Ruel), где было представлено шестьдесят пять работ художника, назвав его скромным человеком и грандиозным живописцем421.
Со всеми этими художниками Вальдемар Жорж был знаком лично, причем с некоторыми — на протяжении многих десятилетий: так, их общение с Марком Шагалом началось в ходе выставки художника в галерее Ходебер (Galerie Hodebert) еще в 1925 году.
В послевоенные годы художники «еврейского Монпарнаса» переживали ренессанс. Вначале возникла Ассоциация еврейских художников Франции (GAJEF), а в 1949 году была создана APSJF — Association des artistes, peintres et sculpteurs juifs de France [Ассоциация еврейских художников и скульпторов Франции], которая в 1957–1961 годах издавала свой ежегодник — Nos artistes [«Наши художники»]; показательно, что выходил он на французском и на языке идиш. Редактировали этот журнал уроженец города Слуцк на Волыни Мишель Адлен (Michel Adlen, 1898–1980), уроженец местечка Слупцы на территории русской Польши Борис Самуилович Борвин-Френкель (Boris Borvin Frenkel, 1894–1984) и уроженец галицийского города Станиславов, входившего тогда в состав Австро-Венгрии, Артур Кольник (Arthur Kolnik, 1890–1971); к сожалению, ни один из них не стал по-настоящему известным художником. Первый номер этого издания вышел в декабре 1957 года, второй — в апреле 1958 года, третий — в январе 1959 года, четвертый — в феврале 1960 года, пятый, оказавшийся последним, — в июле 1961 года.
Художественные выставки устраивались Еврейским общественно-культурным центром (Centre cultures auprès des organisations populaires juives) и другими национальными институциями, а также галереями, среди которых выделялась возобновившая свою деятельность после войны галерея Кати Гранофф. В 1968 году именно в этой галерее прошла одна из последних обзорных выставок, посвященная еврейским художникам «Парижской школы». Выставка эта была благотворительной, доходы от нее направлялись на развитие больниц и медицинских исследований в Израиле. На приглашение принять участие в этой выставке откликнулись Анри Хайден, Давид Гарфинкель, Исаак Добринский, Пинхус Кремень, Михаил Кикоин и другие422.
В 1953 году Вальдемар Жорж получил почетное звание кавалера ордена Почетного легиона — это было явным свидетельством того, что республиканская Франция ценит и уважает его. Доказывать кому бы то ни было свою национально-гражданскую лояльность было уже незачем. Уход от иудаизма, закончившийся крещением, был не вынужденным, а добровольным выбором Вальдемара Жоржа в последнее десятилетие его жизни. Небольшая книга о художниках еврейского происхождения во французском искусстве подвела черту под самым еврейским по мироощущению и творческой тематике десятилетием в его биографии. Последние книги Вальдемара Жоржа, написанные в 1960-е годы, были посвящены скульптурам Аристида Майоля (Aristide Maillol, 1861–1944) и Андре Аббала (André Abbal, 1876–1953), графике Жан-Огюста Доминика Энгра (Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780–1867), живописи Жоржа Руо и бельгийского художника-сюрреалиста Марселя Дельмота (Marcel Delmotte, 1901–1984)423, но не произведениям живописцев и скульпторов еврейского происхождения.
В эти годы Вальдемар Жорж с интересом слушал проповеди доминиканского священника Раймона Регаме (Raymond Régamey, 1900–1996) в парижской церкви Сен-Жермен-де-Пре, с которым очень сблизился в последние годы жизни. Судя по всему, при посредстве отца Регаме примерно в декабре 1967 года он принял крещение. Именно Раймону Регаме была посвящена одна из последних книг Вальдемара Жоржа, опубликованная осенью 1968 года под заголовком «Затравленное искусство»424. 27 октября 1970 года Вальдемара Жоржа не стало.
ГЛАВА 14
НАСЛЕДИЕ ХУДОЖНИКОВ «ЕВРЕЙСКОГО МОНПАРНАСА» В ЕВРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Жившие и работавшие в Париже между двумя мировыми войнами художники, многие из которых — еврейского происхождения, признаны сегодня как одно из крупнейших художественных явлений в истории искусства XX века. Как было показано в предыдущих главах, в большинстве своем эти художники родились за «чертой оседлости» в Российской империи, а некоторые из них или родились в Палестине/Эрец-Исраэль (как Иосиф Константиновский и Моше Кастель), или жили там до отъезда в Париж (как Хана Орлова и Файбиш-Шрага Царфин). Некоторые из них в своем творчестве неоднократно обращались к еврейским национальным темам и сюжетам (чаще других это делали Марк Шагал и Мане-Кац, но не только они) и неоднократно бывали в подмандатной Палестине и в Государстве Израиль. Несмотря на нацистские законы, вступившие в силу после оккупации Франции, из-за которых эти художники были вынуждены покинуть Париж, практически никто из них, кроме вернувшегося на родину Моше Кастеля, не связал свою жизнь с сионизмом, а позднее — с Государством Израиль. Существенно повлияв на искусство в Эрец-Исраэль 1930–1940-х годов, художники «Парижской школы» позднее практически не оказывали влияния ни на развитие живописи и скульптуры в Израиле, ни на развитие музеев в стране.
Вместе с тем на их помощь и участие (прежде всего Марка Шагала и Ханы Орловой) изначально рассчитывали основатели художественного музея в Тель-Авиве. Несмотря на то что именно творчество мастеров «еврейского Монпарнаса» считается одним из самых ценных вкладов живописцев и скульпторов еврейского происхождения в мировую художественную культуру, в Израиле нет ни одного обобщающего музея, посвященного этим живописцам. Впрочем, в разных городах страны создано несколько небольших монографических музеев, посвященных трем из них: Мане-Кацу, Моше Кастелю и Ицхаку Френкелю (Френелю), причем работа последнего поддерживается силами наследников самого художника. В 1963 году был открыт музей, посвященный Иссахару-Беру Рыбаку, позднее закрытый.
Музея же Марка Шагала, повсеместно считающегося в мире самым знаменитым еврейским художником, в еврейском государстве нет и никогда не было, хотя многие его работы можно увидеть в различных общественных зданиях и некоторых музеях. Анализу непростых отношений художников «еврейского Монпарнаса» с Государством Израиль и его музейными институциями и посвящена эта глава.
I
Решение о создании музея Моше Кастеля — талантливого живописца «еврейского Монпарнаса» 1930-х, позднее ставшего одним из наиболее значимых и самобытных израильских художников — было принято еще в 1982 году, но открыли его для публики в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима только в феврале 2010 года. 21 марта 2013 года было объявлено, что в связи с тяжелым финансовым положением Музей закрывается «до нового объявления»425. Это вызвало ряд протестов, и здравый смысл восторжествовал: спустя несколько недель музей вновь распахнул свои двери.
По-русски о Моше Кастеле, насколько известно, не выходило ни книг, ни статей, а текст о нем в одиннадцатитомной «Еврейской энциклопедии» занимает лишь два абзаца. Вместе с тем он сыграл выдающуюся роль в формировании самобытного художественного стиля, объединившего экспрессионистские и авангардистские искания европейских живописцев 1920–1970-х годов с вдохновенными эрец-исраэльскими пейзажами и сюжетами, основанными на библейских текстах и связанных с ними церемониях.
Ил. 85. Каталог собрания музея Моше Кастеля в г. Маале-Адумим, Израиль. The Moshe Castel Museum of Art (Maale-Adummim, 2010)
Родившийся в 1909 году в Иерусалиме Моше Элазар Кастель вел свою родословную от испанских евреев-сефардов, эмигрировавших из Кастилии в Палестину в самом конце XV века. Его дед и отец, уроженец Хеврона Иехуда Кастель, были раввинами, но сам он еще в детстве увлекся рисованием. В 1921–1925 годах он учился в Школе искусств и ремесел «Бецалель» в Иерусалиме, а в 1927 году, получив денежную помощь от старшего брата Йосефа, уехал учиться в Париж; именно там он познакомился с художниками «еврейского Монпарнаса». Живопись Моше Кастеля 1930-х годов неотделима от творчества художников «Парижской школы», хотя и в эти годы, наряду с «Парижским бульваром» (1936), он создает целый ряд «ориенталистских» картин, в которых запечатлены люди и пейзажи Палестины: «Трапеза на траве» (1930), «Сбор оливок» (1931), «Женщины Иерусалима» (1936). При этом в работах Кастеля продолжают присутствовать и иудейские темы: в 1933 году появляется портрет «Каббалист», а в 1939 году — цикл иллюстраций к «Пасхальной агаде».
В 1940 году М. Кастель вернулся в Палестину/Эрец-Исраэль, выбрав местом жительства далекий как от Иерусалима, так и от Тель-Авива город каббалистов Цфат, хотя, по мнению видного израильского искусствоведа Гидеона Офрата, Кастель рисовал Галилею так, как ее бы нарисовал, окажись он в Палестине, Морис Вламинк426. Как бы то ни было, именно там, в Цфате, Кастель и его единомышленники по примеру парижского Монпарнаса основали квартал художников. Разрыв с Парижем в годы Второй мировой войны и трагедия Холокоста привели к тому, что часть художников, включая М. Кастеля (но отнюдь не только его), подхватили ставшую популярной среди части эрец-исраэльских интеллектуалов ханаанейскую идеологию, согласно которой возрождение древних мифов и языческих мотивов отождествлялось с наследием древнего Ханаана и служило основой для создания «нового ивритского народа».
Постепенно живопись М. Кастеля изменилась. Хотя интерес к изображению природы Израиля и его людей сохраняется, эпический стиль, свойственный 1930-м годам, постепенно отходит, а восточный мусульманский мир совершенно исчезает из его творчества. Вместо этого художник ищет синтез между эстетикой абстрактной живописи и духом еврейской мистики, который он передает в своих полотнах. Так были созданы работы «Свиток народа Израиля» (1950), «Город сияния и Каббалы» (1954), «Псалмы» (1958), «Аллилуйя» (1958), «Псалмы Ханаану» (1965), «Песнь Иерусалиму» (1966, 1971, 1973), «Стражи Стены» (1971) и многие другие, значительная часть которых представлена именно в собрании музея в Маале-Адумим. Кастель использовал в своих работах мотивы наскальных рисунков и надписей, найденных археологами в Негеве, в Иудейской пустыне и на Синае, вводил в свои композиции еврейские буквы, которым придавал символическое значение. Рисунки и буквы складывались в его работах в строки и абзацы таинственных посланий из прошлого.
В 1948 году М. Кастель входил в число основателей группы художников «Новые горизонты» — пожалуй, самого значительного художественного объединения за всю историю Израиля427. При этом с точки зрения его пути в искусстве Кастель был совсем не похож на очевидного лидера объединения Иосифа Зарицкого (1891–1985). И. Зарицкий в 1950–1970-е годы создавал свои работы в манере, далекой как от реалистической живописи, так и от эстетических принципов постимпрессионизма и экспрессионизма, доминировавших в искусстве Эрец-Исраэль в годы Британского мандата. По словам писателя и скульптора Биньямина Таммуза (1919–1989), у Зарицкого и других художников «Новых горизонтов» «картина сосредоточивает внимание на цвете, линии и художественном образе. Не абстракция объектов, но музыкальная импрессия, поэтическая, свободная от оков реализма, привязанная к природе объектов»428.
Ил. 86–87. Моше Кастель. В поисках Мессии. Памятная медаль, выпущенная в 1986 г. Монетным двором Израиля (лицевая и оборотная стороны). Из собрания автора
Работы И. Зарицкого были созвучны новым веяниям западноевропейского и американского искусства того времени (пожалуй, наиболее близкими «лирическому абстракционизму» Иосифа Зарицкого были работы французского художника российского происхождения Андрея Ланского). Работы И. Зарицкого пользовались заслуженным успехом среди специалистов в области современного искусства в странах Запада, что, в свою очередь, укрепляло его авторитет в Израиле, где художники, в большинстве своем, только боролись за свое место в мировом искусстве. При этом работы И. Зарицкого, как правило, не позволяли идентифицировать их как произведения еврейского или израильского художника, иудейские или эрец-исраэльские мотивы практически отсутствовали в них. И. Зарицкий говорил: «Израильский живописец, так или иначе, изображает свою родину, однако он должен прежде всего ощущать принадлежность к всемирному братству художников»429.
М. Кастель шел иным путем, представив в ноябре 1948 года на первой выставке группы «Новые горизонты» в Тель-Авивском музее работу «Жертвоприношение Исаака» и оставаясь верным идее поиска художественных форм выражения библейских сюжетов и мотивов на протяжении всей своей последующей жизни.
После провозглашения государственной независимости Израиля основным местом жительства и работы М. Кастеля стал Тель-Авив. При этом на протяжении многих лет он имел студии в Париже и Нью-Йорке, куда регулярно возвращался: его первая выставка в Париже прошла еще в 1927 году, в Нью-Йорке — ровно четверть века спустя, и в 1950–1980-е годы он часто выставлялся в этих мировых художественных центрах, с начала 1960-х годов имея эксклюзивные контракты с галереей Карла Флинкера (Galerie K. Flinker) в Париже и с галереей Лефевр (Lefevre Gallery) в Нью-Йорке430.
Прекрасный музей в Маале-Адумим появился почти случайно. Как рассказывала вдова художника Била, в 1981 году они ехали по дороге на Мертвое море и увидели на вершине холма строительную технику и новые здания — нынешний город Маале-Адумим только начинали возводить, в 1982 году в нем обосновались первые жители. Остановившись и поднявшись на холм, Моше и Била были поражены открывшейся оттуда панорамой пустыни и видом на иерусалимские горы. Уже немолодой художник почувствовал, что именно в этом месте, где тогда еще, повторим, не было практически ничего, он хотел бы увидеть музей своих картин. Власти выделили земельный участок для будущего музея, и в декабре 1982 года Моше Кастель написал: «Я даю зеленый свет строительству дворца в Маале-Адумим, нашего Тадж-Махала»431.
Увидеть, однако, этот дворец ему не довелось: в 1991 году художник умер, а работы по строительству и созданию музея затянулись почти на тридцать лет, значительную часть из которых не происходило просто ничего: деньги на строительные и отделочные работы не выделялись, и недостроенное здание годами простаивало. Впрочем, в итоге здание было построено замечательное, экспозиция выстроена куратором Аллой Черняк логично и убедительно, мебель и освещение подобраны очень профессионально. К сожалению, за шесть лет работы музея достойный альбом-каталог его собрания так и не был издан. В музейном киоске посетителям предлагают альбом о творчестве художника, изданный в Швейцарии в 1968 году, и еще один, выпущенный к выставке в Кнессете в 1984 году. Оба они очень слабо соответствуют собранию, представленному в стенах музея в Маале-Адумим: подавляющее большинство репродуцированных в них работ не находятся в собрании музея, а почти все картины, которые видят посетители в музее, не воспроизведены ни в одном из этих альбомов.
II
Музей, открытый в феврале 2010 года в Маале-Адумим, стал шестым персональным музеем того или иного израильского художника и третьим в стране музеем мастера, обожженного духом межвоенного Монпарнаса. Первым стал открытый в 1977 году в Хайфе дом-музей Мане (Иммануэля) Каца (1894–1962). До тех пор музеев, посвященных отдельным художникам, в Израиле не было, но в начале 1980-х в Иерусалиме был открыт музей Анны Тихо (1894–1980), а в 1983 году в Тель-Авиве появился музей Реувена Рубина (1893–1974); в 1998 году в том же городе был открыт музей Нахума Гутмана (1898–1980). Музеи Мане-Каца, Анны Тихо и Реувена Рубина созданы в домах, в которых жили эти художники, причем в первом случае создание музея было оговорено за двадцать лет до того, как он открыл свои двери: муниципалитет Хайфы в 1958 году предоставил Мане-Кацу дом с условием, что после его кончины он не перейдет по наследству кому бы то ни было, а станет музеем432. Музеи же Гутмана и Кастеля созданы там, где эти художники никогда не жили; в обоих случаях коллекции их работ были безвозмездно переданы членами семей художников. Можно вспомнить и об открывшемся в 1995 году в Яффо музее, созданном художником и скульптором Иланой Гур в своем доме; в нем представлены как работы самой Иланы Гур, так и собранная ею коллекция, значительная часть которой — работы израильских художников. Нет сомнений в том, что все эти люди — крупные имена на художественном небосклоне еврейского и мирового искусства, получившие признание, выразившееся как в многочисленных выставках в музеях разных стран, так и в сравнительно высоких ценах на их работы на аукционах. Однако нельзя не отметить, что в истории израильского искусства есть немало других значимых имен — например, Хаим Гликсберг, Иосиф Зарицкий, Менахем Шеми, Циона Таджер, Лео Рот, Марсель Янку, Авигдор Стеймацкий, Мордехай Ардон, Яаков Векслер, Йосл Бергнер, Зеэв Кун... Нет и музеев еврейских художников Монпарнаса: масштабные выставки Марка Шагала и Хаима Сутина были организованы в самое последнее время в Париже, но не в Израиле, где единственной подобной экспозицией за много лет стала сравнительно небольшая обзорная выставка художников «Парижской школы», прошедшая в 2012 году в музее Мане-Каца (ее куратором была Светлана Рейнгольд, очень много делающая для того, чтобы сохранить память о художниках «еврейского Монпарнаса» в еврейском государстве).
Ил. 88. Мане-Кац, 1948 г. Фотограф неизвестен. Фото воспроизведено в статье: Mane-Katz // Encyclopaedia Judaica (Jerusalem: Keter Publishing, 1972. Vol. 11. P. 870)
Биография Мане-Каца существенно отличается от судьбы Моше Кастеля: едва ли не единственное сходство между ними состоит в том, что они оба выросли в еврейских религиозных семьях (Мане-Кац — в Кременчуге, Кастель — в Иерусалиме), но отправились учиться живописи в Париж, когда им было девятнадцать (столько же было и оказавшему большое влияние на творчество Мане-Каца Хаиму Сутину, когда он в 1912 году добрался до Парижа). Мане-Кац, правда, был существенно старше, вследствие чего в Париже он оказался уже в 1913 году433, тогда как Кастель — на четырнадцать лет позже. Оба они окончили свои дни и похоронены в Израиле. Но если Моше Кастель прожил в Париже тринадцать межвоенных лет, позднее, в 1950–1980-е годы, приезжая туда на более или менее долгое время, будучи при этом жителем и гражданином Израиля, в художественную жизнь которого он был активно вовлечен, то ситуация с Мане-Кацем была иной. Хоть он и довольно регулярно бывал в Палестине/Эрец-Исраэль начиная с 1926 года, в Государстве Израиль Мане-Кац жил лишь в самые последние годы жизни, сохраняя при этом и свою парижскую студию. Однако, как и Моше Кастель, Мане-Кац был связан с еврейским бытом и искусством. Он долгие годы коллекционировал предметы иудаики, и многие его полотна посвящены еврейскому фольклору, иудейским символам и библейским сюжетам.
Как и Марк Шагал, Мане-Кац провел годы Первой мировой войны в России: в 1915–1917 годах оба они жили и совершенствовали свое мастерство в Петрограде, а после революции каждый из них вернулся на свою родину: Марк Шагал — в Витебск, Мане-Кац — в Кременчуг, откуда перебрался в Харьков. В Париж и Мане-Кац, и Марк Шагал смогли вернуться только в 1922 году.
Мане-Кац впервые посетил Палестину в 1928 году. О своих впечатлениях он рассказал в письме, напечатанном в газете «Рассвет», издававшейся в Париже под редакцией В. Жаботинского.
Что больше всего удивило меня, — писал художник, — это насколько все здесь напоминает жизнь маленького еврейского города в России... я вспоминал свое детство... Приближается канун субботы. Город [Тель-Авив] замирает, прекращается движение. Вы можете увидеть субботние свечи, зажженные в открытых окнах. Благостная тишина простирается над городом... Я снова думаю о своем детстве...434
В 1934 году Мане-Кац посетил Палестину еще раз. Созданное художником полотно «У Стены Плача» было удостоено в 1937 году Золотой медали на Всемирной Парижской выставке. Кроме этой, Мане-Кац создал целый ряд картин, в которых нашел отражение традиционный еврейский мир: «Урок Талмуда» (1925), «Раввины» (1942) и другие, стараясь выразить скрытое за суетой местечковой жизни страстное стремление к вечному источнику истины и добра. Многие его произведения передают специфически хасидское мироощущение: «Бадхан» (1932); полиптих «Свадьба», «Симхат-Тора», многочисленные «Клезмеры» и скульптурные фигуры музыкантов. Библейским сюжетам посвящены его картины «Сон Иакова», «Давид и Голиаф», «Авраам и ангелы», «Моисей, бросающий скрижали» и другие. Поездки в Эрец-Исраэль отразились в таких произведениях Мане-Каца, как «Ориентальное» (1929), «Пейзаж Палестины», «Субботняя прогулка в Иерусалиме» и другие. Мане-Кац не раз жертвовал свои картины для благотворительных акций в пользу различных еврейских организаций взаимопомощи, в 1930-е годы он входил в Комитет по поддержке Еврейского театра в Париже и в Комитет по организации чествования жившего в то время в Париже крупного еврейского поэта Залмана Шнеура (1887–1959), писавшего как на иврите, так и на идише.
Когда началась Вторая мировая война, Мане-Кац как гражданин Франции (с 1927 года) был мобилизован и отправлен в военную школу в Париже. Оказавшись со своей частью в Руане, он попал в плен к немцам, но сумел бежать, после чего ценой неимоверных усилий добрался до Америки. С 1940 года и до окончания войны Мане Кац жил в Нью-Йорке, а в 1945 году вернулся в Париж. К 1941 году относится его картина «Беженцы», а после возвращения во Францию на одной из стен синагоги в Нанси он создал эпическое творение «Сопротивление. Восстание в Варшавском гетто» (1946).
В 1946 году Мане-Кац в третий раз приехал в Палестину/Эрец-Исраэль, а спустя два года, когда еще не закончилась Война за независимость, привез в Тель-Авивский музей шестьдесят своих работ. В 1949 году он приехал в Израиль вновь, на этот раз в связи с открытием выставки его работ в Иерусалиме. Следующая поездка — в 1953 году, экспозиция в Цфате; семь работ из нее Мане-Кац подарил этому городу. В 1954 году — новая поездка в Израиль и новая выставка в Тель-Авивском музее, в 1955 году — еще один визит, в связи с открытием выставки в Иерусалиме435. Мане-Кац любил бывать в Эрец-Исраэль, о чем свидетельствуют восемь посещений за тридцать лет, но каждый раз он возвращался обратно во Францию.
Тот факт, что именно художник, не живший в Израиле, стал первым, кто удостоился отдельного дома-музея в еврейском государстве, многое говорит о том, насколько далеко власти были готовы пойти ради преодоления комплекса «местечковости», чтобы доказать себе и миру, что и в маленькой стране может быть большое искусство. При жизни ни Реувену Рубину, ни Нахуму Гутману, ни Иосифу Зарицкому, ни Мордехаю Ардону, ни кому-либо другому предложений о создании дома-музея израильские власти не делали. Мане-Кацу же был предоставлен отдельный дом в Хайфе, который после смерти художника должен был стать — и стал (правда, спустя пятнадцать лет) — музеем, посвященным его творчеству. Именно в этом доме Мане-Кац создал свою последнюю большую работу — монументальный пейзаж «Хайфский залив с горы Кармель» (1962). В последние годы в музее Мане-Каца проходят экспозиции, посвященные преимущественно творчеству художников «еврейского Монпарнаса». Посмертно Мане-Кац фактически стал послом «Парижской школы» в Израиле.
III
После кончины в 1981 году Исаака Александра Френеля (урожденного Френкеля; фамилию он сменил в возрасте 57 лет) в его доме в городе Цфат наследниками художника был открыт музей. Этот родившийся в традиционной еврейской семье в Бердичеве правнук раби Леви-Ицхака бен Меира из Бердичева (1740–1809), одного из вождей хасидского движения на Волыни, вопреки противодействию родителей, выбрал путь художника436. По воспоминаниям его сына, он всю жизнь придерживался атеистического мировоззрения, хотя после Холокоста создал ряд работ на иудейские сюжеты, пытаясь своим творчеством вернуть к жизни уничтоженный мир восточноевропейского еврейства. В Париже И. А. Френкель провел всего девять лет, с 1921 по 1925 и с 1929 по 1934 год. Как Амшей Нюренберг, Роберт Фальк и Натан Альтман и другие его собратья по ремеслу, вернувшиеся в Советский Союз, он был обожжен новым французским искусством, во-первых, и атмосферой «еврейского Монпарнаса», во-вторых, которые сохранил в сердце на всю жизнь. Но все же, как и для Моше Кастеля, также проведшего во Франции много лет, основные художественные впечатления и образы Исаака Александра Френкеля имели эрец-исраэльское происхождение, а такие города, как Иерусалим, Цфат и Яффо, он рисовал существенно чаще, чем Париж.
В 1910 году, когда будущему художнику было одиннадцать лет, его семья переехала в Одессу. С декабря 1915 года И. А. Френкель учился в Одесском художественном училище, а в 1918 году занимался в студии Александры Экстер (1882–1949); позднее она тоже оказалась в Париже. Сын художника считает, что в значительной мере вследствие уважения к ней он в молодые годы предпочитал подписывать свои работы именем Александр, а не Исаак. В студии А. А. Экстер молодой И. А. Френкель приобрел и первый опыт театрального художника, участвуя в работе над костюмами для танцовщицы Эльзы Крюгер.
В 1918–1919 годах по Украине прокатилась волна страшных еврейских погромов, в которых одинаково свирепствовали как красные, так и белые. Друг и сокурсник И. А. Френкеля по училищу Иосиф Константиновский потерял в погроме в Елисаветграде отца и брата, погибших от рук бандитов. Позднее Иосиф Константиновский опубликовал на французском языке под псевдонимом Мишель Матвеев книгу «Загнанные», в которой описал эпизод, увиденный им в Одессе:
Ровным шагом, с гигантским знаменем впереди, со стороны вокзала приближается конный отряд. Хоть я и привык к таким проездам, но этот производит на меня сильное впечатление. Я останавливаюсь, обескураженный надписью черными буквами по красному знамени «Да здравствует революция! Смерть жидам!»437
Подобные «сильные впечатления» оставляли мало надежд на будущее, и Иосиф Константиновский решил вернуться в Палестину/Эрец-Исраэль, где он родился; И. А. Френкель присоединился к нему. В 1919 году они были среди большой группы еврейских интеллигентов, эмигрировавших из Одессы в Палестину/Эрец-Исраэль на пароходе «Руслан». Среди 686 пассажиров «Руслана», прибывших в порт Яффо 19 декабря 1919 года, были люди, позднее внесшие огромный вклад в научную, культурную и общественную жизнь Государства Израиль, в том числе крупнейший историк и литературовед Йосеф Клаузнер, редактор самой серьезной в стране газеты «Ха’арец» [«Страна»] Моше Йосеф Гликсон, танцовщик, хореограф и художник Барух Агадати, главный врач больницы «Хадасса» доктор Хаим Ясский, погибший в устроенном палестинскими арабами террористическом акте в 1948 году, один из основателей медицинского факультета Иерусалимского университета профессор Арье Достровский и многие другие. На этом корабле вернулась в Палестину и поэтесса Рахель Блувштейн (1890–1931). Там же находился будущий создатель первой в Тель-Авиве художественной галереи ученый-востоковед Яков Абрамович Перемен (1881–1960), на средства которого были основаны кооператив «Ха’томер» и художественная студия в тель-авивской гимназии «Герцлия», где художники, включая И. А. Френкеля, преподавали живопись и скульптуру, читали лекции по современному искусству.
Палестина, еврейское население которой в то время составляло лишь несколько десятков тысяч человек, и где тогда еще не было ни одного музея и университета, в то время мало что могла предложить амбициозному молодому художнику, и на рубеже 1920–1921 годов (точную дату отъезда не удалось установить даже сыну художника) Френкель — и на этот раз вслед за Иосифом Константиновским — отправился в Париж. Первое время он страшно бедствовал, порой ночевал на улицах. Легенда гласит, что тем, что он выжил, он обязан все тому же «покровителю художников» комиссару полиции Леону Замарону, обнаружившему его ночующим в буквальном смысле слова под мостом со свидетельством из Одесского художественного училища в кармане. Имеет ли эта легенда под собой документальные основания, установить уже невозможно.
Изначально И. А. Френкель стремился стать профессиональным скульптором, но не имел средств на покупку материалов и не имел студии, где бы мог хранить свои работы. Когда его положение минимально наладилось, он стал посещать Национальную школу изящных искусств и академию Гранд Шомьер, стажировался в мастерских скульптора Эмиля Антуана Бурделя (1861–1929) и Анри Матисса. Пристанищем его стал все тот же «Улей» на Монпарнасе, где он познакомился с Хаимом Сутиным, Михаилом Кикоиным, Пинхусом Кременем, Мане-Кацем и другими еврейскими художниками-эмигрантами из России; по воспоминаниям его сына, он очень переживал, что не застал Амедео Модильяни, скончавшегося в 1920 году, работы которого очень ценил438. Работы И. А. Френкеля трижды выставлялись в Салоне Независимых и дважды — в Осеннем салоне, он участвовал в групповых выставках в кафе «Ротонда» и в галерее La Licorne [«Единорог»], но, как и остальные, с трудом сводил концы с концами. В декабре 1925 года он вернулся в Палестину/Эрец-Исраэль, куда в 1923 году прибыли его родители, старшая сестра и младший брат, и открыл студию при школе Федерации профсоюзов в Тель-Авиве. Среди его учеников были известные в будущем художники Мордехай Леванон, Давид Хендлер, Йосеф Коссоноги, Женя Бергер, Авигдор Стемацкий, Циона Таджер (в 1930-е годы и она некоторое время жила и работала в Париже) и другие. Это была первая в Палестине/Эрец-Исраэль художественная студия, ориентировавшаяся на достижения нового искусства, развивавшиеся в то время во Франции. Некоторое время Исаак Френель также преподавал в Школе искусств «Бецалель» в Иерусалиме, где у него среди других учился и Моше Кастель. Во Франции наибольшее влияние на его искусство оказывало творчество Пабло Пикассо и Жоржа Брака, однако работы Френеля в кубистском стиле совершенно не находили покупателей; постепенно его творчество эволюционировало в направлении экспрессионизма.
В 1929 году по Палестине прокатилась волна еврейских погромов, побудившая британские власти к существенному ужесточению своей политики, в которой принцип «разделяй и властвуй» реализовывался все более отчетливо. Всемирный экономический кризис привел к существенному сокращению денежных средств, которые переводили на нужды общины в Палестине/Эрец-Исраэль евреи диаспоры. Школа искусств «Бецалель» была закрыта (ее деятельность возобновилась только в 1935 году), Исаак Александр Френкель потерял работу, а его личная жизнь очень осложнилась: две женщины были одновременно беременны от него. Со второй женой Мирьям Анисфельд (формально их брак был зарегистрирован только в 1954 году, спустя 26 лет после начала их отношений) художник решил снова попытать счастья в Париже. Деньги на билет на пароход (а добирались через итальянский город Триест) зарабатывала в основном Мирьям, работавшая портнихой; помог и брат художника Моше, бывший ответственным сотрудником Тель-Авивского муниципалитета. Френель участвовал в нескольких групповых выставках в парижских галереях, но по-настоящему пробиться не смог. В Париже в 1929 году родился его сын от второй жены Элиэзер, и вся семья очень бедствовала. Он даже был арестован и предстал перед судьей за то, что в ответ на антисемитское замечание эмигранта-белогвардейца избил его439. Френель много общался тогда с арт-критиком Вальдемаром Жоржем, который, однако, не сумел помочь ему ни добиться коммерческого успеха, ни занять достойное место в среде галерей. Точные причины его повторного возвращения в Палестину/Эрец-Исраэль неизвестны; не исключено, что он опасался, что в связи с прекращением срока действия его паспорта он окажется во Франции бесправным лицом без гражданства. Как бы то ни было, в 1934 году вся семья вернулась в Палестину/Эрец-Исраэль; в следующий раз художник побывал в Париже только в 1954 году. В июле 1978 года в галерее Сената (Orangérie du Senat) прошла его персональная выставка, торжественно открытая многолетним председателем Сената Франции Аленом Поэром (Alain Poher, 1909–1996)440.
Ил. 89. Лучший альбом И. А. Френкеля (Френеля): Isaac Alexander Frenel / Text by Amnon Barzel (Jerusalem: Massada, 1974)
В первые полтора года после возвращения И. А. Френкель со своей второй семьей жил в Иерусалиме, но с лета 1937 года основным местом жительства и работы художника был Тель-Авив. Он никогда не порывал с «Парижской школой», влияние Хаима Сутина и других ее мастеров всю жизнь сохранялось в его работах, но судьба его не была больше связана с Парижем. Начиная с 1940 года он несколько раз становился лауреатом премии имени Меира Дизенгофа в области изобразительного искусства, присуждаемой муниципалитетом Тель-Авива; оформлял здание, в котором в 1949–1966 годах работал Кнессет; представлял Израиль на Венецианской биеннале современного искусства.
И. А. Френкель получил широкую известность как портретист, популярный в среде военной и политической элиты нового государства, а также оформил целый ряд постановок в театре «Охель» (ныне уже не существующем) и Национальном театре «Габима». В Цфате, центральный квартал которого постепенно стал городком художников, Френкель купил дом, превращенный его наследниками в музей. Несмотря на длительный конфликт с дирекцией Тель-Авивского музея и руководством Ассоциации художников и скульпторов Израиля, отнимавший у него много душевных сил, очевидно, что он прожил очень успешную жизнь в искусстве.
IV
С Марком Шагалом — самым крупным еврейским художником, жившим когда-либо в «Улье» на Монпарнасе и, пожалуй, крупнейшим еврейским художником в истории мирового искусства — в Израиле тоже велись переговоры о создании музея. История отношений Марка Шагала с Израилем (а он, включая догосударственный период, побывал в этой стране восемь раз) — это полувековая сага, в которой у обеих сторон было едва ли не больше разочарований, чем поводов испытывать удовлетворение.
Привлечь Марка Шагала к созданию музея искусств в Эрец-Исраэль пытался еще в начале 1930-х годов первый мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф (1861–1936), договорившийся с художником, что тот возглавит комитет по созданию в городе музея. М. З. Шагалу идея очень понравилась, о чем он 13 января 1931 года послал мэру письмо, кстати, на русском языке441. Марк Шагал вынашивал идею создания еврейского художественного музея долгие годы: еще в 1918 году, составляя проект создания в Витебске Народного художественного училища, он думал о некоем «еврейском крыле» в будущем городском музее, а в 1921 году в письме, отправленном Юделю Пэну, который был его первым учителем живописи, Шагал выражал надежду на то, что в будущем будет создан Центральный еврейский музей, куда попадут и лучшие работы Ю. М. Пэна442. Однако уже в 1922 году Марк Шагал оказался в эмиграции, и его идея создания еврейского художественного музея в СССР так и не была реализована. Сложно сказать почему: если власти десятилетия мирились с существованием еврейских театров, а также выходивших на языке идиш книг, газет и журналов, едва ли именно еврейский художественный музей таил в себе какую-то «контрреволюционную» опасность. Как бы там ни было, мэр Тель-Авива вышел на связь с Шагалом через скульптора Хану Орлову уже в Париже. С 1904 по 1910 год Хана Орлова жила в Эрец-Исраэль, и Меир Дизенгоф был знаком с ней443. С другой стороны, Хана Орлова и Марк Шагал были друзьями и соратниками, среди других ее работ — выполненный в 1923 году портрет-статуэтка дочери Шагала Иды.
В направленном Меиру Дизенгофу в 1931 году письме Марк Шагал назвал имена пяти художников еврейского происхождения, работы которых, по его мнению, должны были занять центральное место в создаваемом в Тель-Авиве музее: он выделил голландского художника Йозефа Израэльса (1824–1911), французского импрессиониста Камиля Писсарро, двух монпарнасцев: Амедео Модильяни и покончившего с собой за считанные месяцы до этого письма Жюля Паскина и уроженца Берлина Макса Либермана (Max Liebermann, 1847–1935) — единственный из списка, он был на тот момент еще жив. Картин никого из этих художников в Тель-Авиве на тот момент, скорее всего, не было даже в частных собраниях, и задача, поставленная М. З. Шагалом, показалась мэру неподъемной.
В настоящее время в Тель-Авивском художественном музее постоянно экспонируются уникальные коллекции Моше и Сары Майер, Маркуса Мицне и Фелиции Блюменталь, Симона и Марии Яглом, и эти собрания включают шедевры наиболее выдающихся европейских художников второй половины XIX — XX века. Однако восемьдесят с лишним лет назад ситуация была совершенно иной. 44-летний Шагал в 1931 году провел в Палестине/Эрец-Исраэль два с половиной месяца, но в том, что касалось проекта, ради которого он приехал, художник остался крайне разочарован. В интервью парижскому еврейскому еженедельнику «Рассвет» Шагал так ответил на вопрос «Как же обстоят дела с музеем?»:
Это сложный вопрос, и — скажу прямо — у меня совсем мало надежды на то, что он разрешится благополучно. <...> Все дело ведь в том, как подойти к такому начинанию. Я набросал беспристрастный художественный план, наметил залы: Израэльса, Либермана, Писсаро, Модильяни, Паскина — в качестве остова, базы, вокруг которой могла бы группироваться и разрастаться подлинная художественная молодежь... Ведь гораздо легче реализовать серьезный план собирания еврейских художественных ценностей — я говорю о подлинном музее — с чистой, выдержанной на сто процентов программой, чем что-нибудь убогое, полное компромиссов, куда даже и культурный турист не заглянет... Для этого нужна на несколько лет настоящая диктатура людей строго компетентных, которым доверяют и кому всецело предоставляют художественное руководство... Есть опасность: из этого музея выйдет второй «Бецалель»... Хотят портреты еврейских знаменитостей... Разве важно для музея, что это портрет Л. Блюма? Важно ведь, как и кем он сделан, а то, что он изображает именно Блюма, — это на втором плане... Хотят завалить этот музей какими-то муляжами, гипсами, копиями. Кому это нужно? <...> Тут не место покладистости — надо уметь даже отвергнуть подарок, если он идет вразрез с намеченным художественным планом. Но если все это несерьезно, я сниму с себя всякую ответственность за ход этого дела... Одно из двух: пусть устроители доверятся нам — или пусть действуют по своему вкусу. Но в этом случае я совершенно не могу допустить, чтобы какой-нибудь комитет прикрывался моим именем, оно не должно даже упоминаться!..444
Враждебное отношение Марка Шагала к столь много сделавшей для развития самобытной израильской культуры Школе искусств и ремесел «Бецалель», основанной Борисом Шацем (1866–1932) в 1906 году в Иерусалиме, которая преобразована в ныне действующую Академию «Бецалель», огорчает не меньше, чем то, что его план не реализовался. Ни в одном израильском музее так и нет ни зала Модильяни, ни зала Паскина, ни кого-либо другого из монпарнасских художников еврейского происхождения. Модель музея, за которую, по словам Марка Шагала, ратовал Меир Дизенгоф и его соратники, вообще говоря, была реализована в Лондоне и в Эдинбурге, где в 1859 и в 1889 годах соответственно открылись национальные портретные галереи Англии и Шотландии. В Тель-Авиве все же пошли по другому пути, создавая именно художественный музей, но без какого-либо четкого плана: собрание пополнялось теми работами, которые дарили художники и коллекционеры. После неудачного опыта с Марком Шагалом была сформирована консультативная комиссия, состоявшая из четырех талантливых местных художников: Реувена Рубина, Хаима Гликсберга (1904–1970), Батьи Лещинской (1900–1992) и Арье Алвейля (1901–1967). Марк Шагал на открытие Тель-Авивского музея не приехал. Вероятно, решив, что худой мир лучше доброй ссоры, он уже в 1933 году подарил Тель-Авивскому музею две свои работы, но в деятельности музея участия не принимал.
С тех пор прошло восемьдесят лет, однако мечта Марка Шагала о создании музея еврейского искусства в Израиле так и не реализовалась, по всей видимости, в связи с все той же боязнью прослыть «местечковыми», с одной стороны, и националистами, с другой. Осенью 2012 года в Тель-Авивском музее было объявлено о назначении нового генерального директора и главного хранителя; эти посты заняла Сюзан Ландау. В большом интервью газете «Ха’арец» она отметила:
Я всегда рассматривала — и сейчас рассматриваю — израильское искусство как часть международной сцены... Я не знаю, насколько разделение по национальному признаку релевантно сегодня. Нередко достаточно сказать, где и в каком году родился художник. Все больше и больше к искусству относятся исходя из качества работ, а не национальной принадлежности [их создателей]... Обратите внимание, что все больше галерей в Израиле экспонируют зарубежное искусство наряду с израильским445.
Руководитель Тель-Авивского музея, очевидно, равняется на крупнейшие музеи Западного мира, совершенно не воспринимая возглавляемую ей институцию как центр собирания, экспонирования и изучения еврейского искусства. В конце концов, учитывая очень высокий процент иммигрантов в населении Израиля, при декларируемом Сюзан Ландау подходе («достаточно сказать, где и в каком году родился художник») многие самые известные израильские художники просто не будут идентифицированы в качестве таковых: родившийся в городке Теленешты Нахум Гутман окажется молдаванином, уроженец городка Галац Реувен Рубин — румыном, родившийся в Пинске Хаим Гликсберг — белорусом, а появившийся на свет в Борисполе Иосиф Зарицкий — украинцем. Марк Шагал хотел, чтобы музей в Тель-Авиве стал местом собрания лучшего, что создано художниками еврейского происхождения в искусстве, и вышел из состава его учредителей, опасаясь, что художественные соображения будут подчинены национальным, вследствие чего уровень экспонируемых работ будет ниже требуемого. Спустя восемьдесят лет вектор качнулся в противоположную сторону: утверждается, что к искусству нужно относиться исключительно исходя из такого субъективного показателя, как качество работ, вообще не принимая в расчет этническую и конфессиональную идентичность их создателей.
Ирония судьбы состоит в том, что в 1951 году, спустя двадцать лет после того, как Школа искусств «Бецалель» была объявлена М. З. Шагалом вектором, противоположным тому, как он хотел, чтобы развивалось еврейское искусство, именно в ее выставочном зале в Иерусалиме прошла его первая большая ретроспективная выставка в Израиле, на которую он приехал со своей тогдашней спутницей жизни Вирджинией Хаггард (Virginia Haggard, 1915–2006). В книге воспоминаний она рассказывает о том, как рад был Марк Шагал посетить Израиль с выставкой работ, но при этом совершенно не был готов связать с еврейским государством свою судьбу:
Марк писал мне: «Идочка собирается в Израиль на открытие моей выставки. <...> Сто семьдесят девять работ будут выставлены в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Эйн-Хароде — великое событие! Меня пригласили провести там июнь, это будет мой первый официальный визит в Государство Израиль!»
<...> Марк держался немного сдержанно со всеми этими щедрыми людьми, которые встречали его не только с энтузиазмом и восхищением, но и с нескрываемой любовью. Израильтяне стремились завлечь к себе этого прославленного сына еврейского народа; он был резной фигурой, украшавшей их корабль, они нуждались в его поддержке и престиже. Моше Шарет, министр иностранных дел, предложил Марку прекрасный дом в Хайфе и денег на расходы, если он согласится ежегодно проводить в Израиле месяц или два. Марк ничего не сказал, но кивнул благодарно, растопив эти чувствительные сердца своей чудесной улыбкой. Неудивительно, что израильтяне почувствовали себя обманутыми, когда примерно через год Марку пришлось разочаровать их.
Марк знал, что верность Израилю должна быть безусловной. Этим людям было нужно или все, или ничего; они боролись за свои жизни и выжили. Но Марк был осмотрителен, ему хотелось пользоваться благосклонностью везде, и прежде всего во Франции — именно здесь его творчество слыло универсальным. Марк не хотел, чтобы его считали еврейским художником, а для израильтян это было предательством.
<...> Излишне говорить, что Марк не испытывал ни малейшего желания жить в Израиле446.
В Израиле М. З. Шагал, однако, работал так много, что созданным им в этой стране произведениям посвящены целые альбомы.
В 1950-е годы трижды побывал в Израиле — и тоже не связал с ним свою судьбу — еще один видный представитель «еврейского Монпарнаса» Михаил Кикоин, с перерывами живший в «Улье» с 1912 по 1926 год447. В 1950 году он впервые посетил Израиль (в подмандатную Палестину он, в отличие от Шагала и Мане-Каца, не приезжал) и пробыл в стране три месяца. В выставочном зале Академии «Бецалель» в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе и в музее в кибуце Эйн-Харод (он был создан еще в 1937 году) прошли его персональные выставки. В Израиле художник много рисовал, а также, насколько известно, встречался с жившими в стране родственниками448. Из второй поездки, состоявшейся в 1953 году, он привез альбом цветных литографий «Дети Израиля», вышедший в Париже через три года. Третью и последнюю поездку в Израиль Михаил Кикоин предпринял в 1958 году. На протяжении нескольких десятилетий выставок Михаила Кикоина в Израиле не организовывалось, и наконец в конце 2006 — начале 2007 года большая экспозиция его работ была представлена в галерее Факультета искусств Тель-Авивского университета; куратором этой выставки был многолетний директор Тель-Авивского музея профессор Мордехай Омер (1941–2011). После этого жившая во Франции дочь художника Клер Маратье-Кикоин приняла решение подарить университетской галерее сорок работ своего отца, а также основать премию для художников его имени, вручаемую ежегодно в день его рождения (31 мая). Некоторые из подаренных работ экспонируются в галерее Тель-Авивского университета с 2008 года, а премии, выделяемые художникам-лауреатам, идут на финансирование их персональных экспозиций в том же выставочном пространстве. При этом не до конца понятно, где находится большинство подаренных ею работ.
Ил. 90. Альбом Chagall in Jerusalem (New York: Leon Amiel Publisher, 1983). На обложке изображен фрагмент картины «Исход», созданной художником в 1964 г.
В 1961 году вместе с женой в Израиль приехал Давид Гарфинкель. Были организованы две его персональные выставки — одна в галерее Кац (Galerie Katz) в Тель-Авиве, а другая — в Бат-Яме. Художник объехал всю страну, посетив Иерусалим, Тель-Авив — Яффо, Кейсарию и другие города, сделав сотни рисунков, отражавших его впечатления от Израиля. В книге о Давиде Гарфинкеле говорится, что «эта страна подарила ему новое вдохновение, он наполнился ее солнечным светом, ее пейзажи глубоко очаровали и пленили его»449. Но все же и Гарфинкель не связал с Израилем свою судьбу, вернувшись во Францию.
Ил. 91. Михаил Кикоин, 1960 г. Фотограф неизвестен. Из собрания автора
Марк Шагал бывал в Израиле значительно чаще, чем Михаил Кикоин и Давид Гарфинкель, причем специально для Израиля он создал несколько важных художественных проектов: выполнил серию витражей «Двенадцать колен Израилевых» для синагоги медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме (сам он, впрочем, был возмущен архитектурой здания, считая освещение в нем тусклым и совершенно непригодным для экспонирования его работ), создал эскизы декоративных ковров и настенных мозаик для нового здания Кнессета и т. д.450 Отношение к художнику в Израиле было неоднозначным. Вначале его очень критиковали за «галутность», за то, что, хотя он и написал в автобиографии «Мой город умер. Пройден витебский путь»451, по сути, он всю жизнь ментально «оставался в Витебске», когда в Эрец-Исраэль социал-сионисты создавали образ «нового еврея», а ханаанейцы искали точки соприкосновения с левантийской культурой. Затем критике подвергались его многочисленные витражи и мозаики, выполненные для христианских церквей и соборов в Меце, Реймсе, Цюрихе и Майнце. Однако игнорировать международный успех Марка Шагала было невозможно, и в 1977 году он получил звание почетного гражданина Иерусалима, а в 1981-м — самую финансово значительную в Израиле и очень престижную премию фонда Вольфа в области искусств. С ним в разное время встречались высшие руководители Государства Израиль, а его ретроспективную выставку 1951 года открывал первый президент страны Хаим Вейцман.
Идея создания персонального дома-музея Марка Шагала, которая высказывалась художнику еще в ходе его приезда в Израиль в 1951 году, не была забыта и позднее. Шагал, однако, предпочел создать свой музей не в Израиле, а во Франции, в 1966 году подарив собрание своих работ Пятой республике, благодаря чему в 1973 году в Ницце открылся Musée national message biblique Marc Chagall [«Национальный музей „Библейское послание Марка Шагала“»]. Известный швейцарский архитектор Маркус Динер (1918–1999), многолетний поклонник творчества Шагала, еще в 1964 году предлагал спроектировать в Иерусалиме музей, в котором бы экспонировались работы Шагала на библейские темы, но сам художник предпочел Францию. О том, насколько непростым было для него это решение, свидетельствует биограф Шагала Яаков Бааль-Тшува, общавшейся с художником с 1951 года: по его словам, в ходе их беседы, состоявшийся спустя многие годы, уже незадолго до смерти гения, Шагал спросил: «Они все еще сердятся на меня в Израиле за то, что я отдал эту монументальную работу Франции?»452
В том, что музей Шагала в Израиле так и не появился, виноват, в общем, сам художник, отвергший целый ряд подобных предложений; а вот то, что ни в Израильском музее в Иерусалиме, ни в Тель-Авивском музее, ни где-либо еще нет даже зала Шагала, объяснить очень трудно. Последняя большая ретроспективная выставка Марка Шагала из израильских собраний (ее куратором была Стефани Рахум) состоялась в Израильском музее в Иерусалиме осенью 2002 — весной 2003 года, небольшая экспозиция «Шагал: Модернизм и Библия», на которой представлены преимущественно литографии из израильских музеев, галерей и частных собраний, открылась в музее Мане-Каца в конце января 2013 года (куратор — Светлана Рейнгольд). Парадоксальным образом, для Израиля Шагал одновременно и слишком «галутен», потому что всю жизнь продолжал рисовать покинутый в молодости Витебск, и слишком «наднационален», поскольку тратил свой талант везде, куда его звали работать, будь то парижская опера или немецкие церкви.
Шагал был первым — и, кажется, единственным — крупным «иудео-христианским» художником в XX веке, через все творчество которого неразрывно прошли мир Торы и Нового завета, и в Израиле это, как правило, не могли ни понять, ни принять. Первая «Голгофа» (ныне она находится в собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке) была создана им еще в 1912 году; искусствовед Михаил Герман охарактеризовал ее как
«воспоминание о будущем»: Иисус — беззащитный пришелец, отторгнут миром, он другой. И эта его странность — прежде всего в системе форм, близких кубизму: распятый Христос с прозрачным голубым телом инопланетянина растерзан зубцами расколовшегося неба и оплакан слезами людей, чьи тела и лики преломлены, как в страшном сне, — сне, привидевшемся последователю Гойи и предшественнику Пикассо453.
В Израиле произведения Шагала можно увидеть в разных местах, но преимущественно в тех, куда все же мало кто приходит именно «в поисках Шагала», будь то парламент страны или синагога при крупнейшем медицинском центре. В собрании Тель-Авивского художественного музея представлено несколько работ М. Шагала, в том числе пронзительное «Одиночество» 1933 года, подаренное в 1953 году самим автором, но эти картины экспонируют в разных залах, не формируя какой-либо целостной подборки. В собрании Израильского музея в Иерусалиме находятся одиннадцать произведений М. З. Шагала, из которых, впрочем, только три выполнены маслом на холсте: раннее полотно «Молящийся еврей» (1914), а также две работы 1930-х годов: «Интерьер синагоги в Цфате» (1931) и «Влюбленные» (1937) — характерный для этого мастера натюрморт, совмещенный с лиричным городским пейзажем. Разумеется, достаточного представления о творчестве художника данные работы (ни одна из которых не поступила непосредственно от автора) не дают. Даже Хаим Сутин, в отличие от Марка Шагала не доживший ни до провозглашения независимости Государства Израиль, ни до создания в нем национального музея, представлен в фондах этого музея существенно полнее — семью разноплановыми холстами 1920–1939 годов. В Тель-Авиве и в Хайфе именем Марка Шагала названы небольшие улочки; в Иерусалиме улицы в его честь нет.
Ил. 92. Марк Шагал и глава правительства Израиля Голда Меир в Кнессете, 18 июня 1969 г. Фото Моше Мильнера из архива Правительственной службы информации Израиля
V
Люди, начавшие (а в отдельных случаях — продолжившие) свой путь в искусстве в парижском районе Монпарнас в 1910–1930-е годы, относятся к числу крупнейших художников еврейского происхождения в истории мировой живописи и скульптуры. Многие из них были депортированы и погибли в нацистских лагерях смерти, иные покончили с собой или умерли совсем молодыми — в любом случае, все они не дожили до создания Государства Израиль. Другим удалось спастись и выжить во Франции или в эмиграции. После окончания войны большинство из них вернулись в Париж, однако практически никто из них не связал свою жизнь с Государством Израиль.
Марк Шагал, Мане-Кац, Михаил Кикоин и некоторые другие неоднократно бывали в подмандатной Палестине и/или Государстве Израиль, но единственным, кто перенес центр своей жизни и творчества из Парижа в Эрец-Исраэль, был уроженец Иерусалима Моше Кастель, накануне войны фактически вернувшийся домой. Много времени проводила в Израиле Хана Орлова (она скончалась в декабре 1968 года в больнице в Тель-Ха’шомер), создав в еврейском государстве множество скульптур, как портретов и мемориалов, так и абстрактно-символических композиций. Для нее Эрец-Исраэль была страной, где она провела годы юности и где она оказалась еще до того, как начала свой путь скульптора. Больше ни для кого из художников «еврейского Монпарнаса» еврейское государство не стало домом. Выставки их работ проходили в Израиле неоднократно, однако в целом их место в музейной жизни страны трудно назвать значительным. В 1930-е годы парижские художники, включая самобытных мастеров «еврейского Монпарнаса», оказали значительное влияние на эрец-исраэльских живописцев, в частности Менахема Шеми, Авигдора Стеймацкого, Ахарона Авни, Хаима Гликсберга, Йосефа Косоноги и других454. Однако с перемещением центра мировой художественной жизни в Нью-Йорк с его многочисленными художниками-абстракционистами все менее становилось заметным влияние парижских экспрессионистов и фовистов на их коллег в Палестине. За более чем сто лет эрец-исраэльское, а затем израильское искусство прошло длинный путь от романтического ориенталистского постимпрессионизма к постсионистскому концептуализму, все дальше и дальше уходя от эстетики «Парижской школы».
Пожалуй, единственным сравнительно известным художником, кого можно считать подлинным наследником «Парижской школы» в 1970–1980-е годы был Рафаэль Моисеевич Хволес (1913–2002). Он родился в городе Вильна, бывшем тогда частью Российской империи, накануне Первой мировой войны, вследствие которой империя эта распалась, а Вильна в 1922 году была включена в состав Польши. Первые детские годы Рафаэль Хволес провел в доме № 4 по улице Немецкой, а в подростковом возрасте жил в доме № 10 на улице Езёрной в еврейском квартале города. Р. М. Хволес получил начальное иудейское религиозное образование, затем учился в еврейской гуманитарной гимназии, которую закончил в 1930 году. Поскольку с детства его тянуло к искусству, а возможности семьи это позволяли, Рафаэль брал частные уроки у погибших позднее в годы Холокоста художников Моисея Лейбовского (1876–1942), Александра Штурмана (1869–1944) и Бера Залкинда (1879–1944), посещал вечерние занятия в учрежденной Вильнюсским обществом художников Школе художественных ремесел, которую окончил в 1934 году. После создания в 1929 году группой еврейских литераторов и художников объединения Junge Vilne [«Молодой Вильнюс»] Р. М. Хволес включился в его деятельность, стремясь соединить национальное и иудейское религиозное наследие с модернистскими тенденциями в искусстве. В 1933 году он дебютировал на выставке молодых художников Вильнюса, а в 1935 году на выставке группы Junge Vilne его работа «Бездомный мальчик» была удостоена награды за лучший портрет.
С 1936 года Р. М. Хволес участвовал в деятельности Общества вильнюсских еврейских художников, входил в состав его правления, преподавал рисование в еврейских школах. В 1938 году прошла его первая — и, как оказалось, последняя в родном городе — персональная выставка, на которой были представлены около ста работ, ни одна из которых, к огромному сожалению, не сохранилась. Историкам очевидна трагедия, связанная с утратой произведений, созданных погибшими в огне Холокоста деятелями науки и культуры, однако важно помнить и то, что и тем, кто сумел выжить, не удалось, как правило, сохранить практически ничего, результаты и их многолетних трудов погибли безвозвратно.
Пакт Молотова — Риббентропа перекроил карту Восточной Европы, часть территории Польши, а затем и Литва были оккупированы Советским Союзом. Рафаэль Хволес был в 1940 году направлен директором школы изобразительного искусства при Доме народного творчества в городе Вилейке, бывшем в 1939–1944 годах областным центром в составе Белорусской ССР. В момент нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года Р. М. Хволес находился в Минске, откуда успел эвакуироваться в Горьковскую область (ныне ей возвращено историческое название Нижегородская), где входил в состав строительного железнодорожного батальона; его беременная жена Марианна была схвачена нацистами по дороге из Вильнюса в Минск и погибла. Сам он в 1942 году обосновался в поселке Красные Баки на берегу реки Ветлуга, где оформлял мероприятия, проходившие в Доме культуры, рисовал декорации, а также писал по фотографиям портреты погибших воинов. Там же он второй раз женился на эвакуированной москвичке Марии Пономаревой, в 1944 году родился их старший сын Александр.
После краткосрочного пребывания в Москве в 1945 году Рафаэль Хволес вернулся в Вильнюс, где узнал, что его родители Моше (1888–1942) и Хава-Лея (1896–1942) и три сестры были убиты нацистами; из всей большой семьи спастись удалось только двум сестрам, Софии и Ривке (обе они к настоящему времени ушли из жизни). С тех пор развалины родного города, особенно еврейского квартала, его улочки и дворы стали основным мотивом творчества Р. М. Хволеса. Многое из навсегда утраченного погибло не в годы Холокоста, а впоследствии, в конце 1940-х годов еще сохранившись, пусть и не в первозданном, но виде, позволявшем представить изначальный облик тех или иных зданий и улиц — так, фрагменты здания Вильнюсской Хоральный синагоги были снесены до основания только в 1955 году, до этого здание можно было восстановить! Помня об этом, очевидно, что созданный Р. М. Хволесом в те годы цикл работ «Вильнюсское гетто» является уникальным художественно-историческим и этнографическим документом. От художников не ждут того, что именно их работы позволят потомкам сохранить в памяти те или иные исторические пласты, для этого есть фотографы, с одной стороны, и ученые-историки и этнографы, с другой. Однако в случае Р. М. Хволеса уникальна именно его роль художника-летописца, сохранившего для будущего то прошлое, о котором практически некому даже рассказать: литовцы оплакивают другие потери, а евреев, помнивших, как выглядели населенные их предками улицы и дворы в центре Вильнюса, почти не осталось.
В Советской Литве отношение к Р. М. Хволесу было двойственным, что отражало отношение властей к евреям в целом: с одной стороны, в 1951 году он был принят в Союз художников СССР, его включили в состав творческих групп, посетивших Грузию и Латвию. С другой стороны, его работы на еврейские темы никогда не экспонировались, а поскольку других у него почти не было, то и выставок у него за все четырнадцать послевоенных лет, которые он прожил в Вильнюсе, не было ни одной. 24 августа 2004 года на доме по адресу ул. Тилто, дом № 13, где с 1945 по 1956 год проживал Р. М. Хволес и где в 1951 году родился его младший сын Милий, в честь художника была установлена мемориальная доска, однако непосредственно в те годы творчеством Р. М. Хволеса в Вильнюсе, кроме отдельных ценителей, никто не интересовался. Власти были готовы дать художникам еврейского происхождения возможность вести активную выставочную и педагогическую деятельность при условии, что те станут воспевать праздничные будни социалистического строительства, — тем же, кто вождям революции и продолжателям их дела предпочитал развалины синагог и работы на библейские темы, советское государство ничего предложить не могло и не хотело.
В 1957 году было принято решение о том, что уроженцы и обладатели гражданства Польши, жившие в СССР, смогут вернуться на родину. Несколько десятков тысяч человек воспользовались этой возможностью, в том числе сестры Р. М. Хволеса, Ривка и София, почти сразу направившиеся из Польши в Израиль. Сам Р. М. Хволес колебался, но в 1959 году, не видя никаких перспектив для еврейской культуры в СССР, все же решил уехать — сестры его к тому времени Варшаву уже покинули, из всей когда-то большой семьи он оказывался в новой стране (а Польская народная республика Владислава Гомулки мало напоминала межвоенную Польшу Пилсудского — Мосцицкого) один. Третий раз начиная жизнь в значительной мере заново, Р. М. Хволес едва ли мог знать, что и эта эмиграция для него не последняя, что через десять лет придется подыматься в путь вновь.
Ил. 93. Рафаэль Хволес. Натюрморт со свечой и книгой. 1976 г. Частное собрание
До 1967 года творческая судьба Р. М. Хволеса в Польше складывалась намного более благополучно, чем это было в СССР: за восемь лет в разных городах Польши прошло более десяти его персональных выставок! Он продолжал писать картины и акварели, рисовал афиши для театра и кино, иллюстрировал еврейские книги, а также создал цикл монотипий «Библейские мотивы» (в этой технике — оттиск на бумаге с изображения, написанного краской на гладкой поверхности стекла — он много работал начиная с 1958 года). В 1964 году Р. М. Хволес был избран председателем комиссии по культуре Общественно-культурного общества евреев Польши. Более того: при поддержке Американского еврейского объединенного распределительного комитета (известного по третьему слову своего названия как «Джойнт») Р. М. Хволес побывал в Испании и Марокко, где, в частности, создал ряд зарисовок синагог и их прихожан. Однако в конце 1960-х годов, как вследствие разрыва дипломатических отношений между СССР и ее саттелитами, включая Польшу, и Израилем после Шестидневной войны, так и в связи с антиправительственными волнениями в самой Польше, в стране произошло существенное сокращение плюралистических свобод в сфере культуры в целом и в отношении культуры еврейской в особенности. Польша стала все больше походить в этой сфере на Советский Союз, и это вынуждало еврейских интеллектуалов задумываться о новой эмиграции. В 1969 году семья Р. М. Хволеса приняла решение покинуть Польшу.
Тридцать три последних года своей жизни выдающийся художник фактически жил на две страны. Основным местом его жительства и работы была Франция, но спустя четверть века после окончания Второй мировой войны и Холокоста почти никого из нескольких сотен работавших когда-то на Монпарнасе художников еврейского происхождения уже не было в живых: ни Жюля Паскина, ни Хаима Сутина, ни Моисея Кислинга, ни Мане-Каца, ни Михаила Кикоина... Р. М. Хволес был еврейским художником в городе, культурные институции которого поставили во главу угла ценности вненационального космополитизма, а еврейское искусство воспринималось как сугубо удел прошлого. В 1972, 1976 и 1981 годах Р. М. Хволесу удалось провести в Париже персональные выставки — все они проходили исключительно в еврейских общинно-культурных центрах, что масштабу художественного дарования этого мастера никак не соответствовало. Однако ни один из французских музеев современного искусства за треть века жизни Р. М. Хволеса в этой стране не распахнул свои двери для его живописи. В качестве еврейского художника Франции вполне хватало одного Марка Шагала. Во Франции не было государственного антисемитизма, но у местных музеев и галерей была совершенно другая повестка дня, в которую экспрессионистская живопись певца «литовского Иерусалима» не вписывалась совсем. Р. М. Хволес рисовал, конечно, и Францию, и другие посещенные им страны, как до этого он рисовал Польшу, но тема уничтоженного духовного и материального мира «литовского Иерусалима» и восточноевропейского еврейства в целом оставалась остовом и каркасом всего его творчества.
Ил. 94. Рафаэль Хволес. На молитву. 1975 г. Частное собрание
Свою среду Р. М. Хволес в значительной степени нашел среди деятелей идишской культуры в Израиле, где в 1986 и 1987 годах прошли его последние прижизненные персональные выставки. Они тоже проходили не в художественных музеях, а в иерусалимском Центре Катастрофы и героизма Яд ва’Шем и в Музее борцов гетто — в Израиле тоже не оценили Р. М. Хволеса-живописца, но хотя бы признали его заслуги как летописца своего жестокого времени. В середине 1990-х годов Р. М. Хволес был удостоен в Израиле двух премий: имени Ицика Мангера и имени Шолом-Алейхема, обычно присуждаемых не художникам, а литераторам и ученым, пишущим на языке идиш. В Центре им. Шолом-Алейхема в Тель-Авиве был установлен большой витраж «Памятная молитва», выполненный по проекту Р. М. Хволеса. Показательно, что статью для небольшого каталога выставки, выпущенного Яд ва’Шем, написал участник группы Junge Vilne идишский поэт и прозаик Авром Суцкевер (1913–2010) — живший в Израиле одногодка Р. М. Хволеса, мать и жена которого также были убиты в Вильнюсе нацистами.
Подвижническими усилиями своего младшего сына Р. М. Хволес вернулся на родину: в 2004, 2009 и 2012 годах в еврейских организациях Вильнюса прошли три персональные выставки этого замечательного художника, были изданы два великолепных монографических альбома, посвященных его творчеству. Давно настало время осознать место этого мастера как одного из наиболее значимых деятелей еврейской культуры XX века, скитания которого, отраженные в его искусстве, привели к появлению исключительного корпуса работ высочайшего художественного уровня.
* * *
Однако искусство отнюдь не только Р. М. Хволеса в Израиле малоизвестно даже специалистам. В настоящее время израильские государственные институции и фонды демонстрируют вопиющее равнодушие к наследию еврейских художников Восточной Европы (да и вообще диаспоры), о чем, например, свидетельствует тот факт, что на уникальную коллекцию, привезенную Яковом Переменном из Одессы в Палестину еще в 1919 году, в которой были и работы таких опаленных «Парижской школой» художников, как Маркус Гершенфельд, Хаим Грановской, Сигизмунд Олесевич и Александр Файнзильберг455, в Израиле так и не нашлось покупателя, хотя речь шла всего о двух миллионах долларов. В 2010 году она была выставлена на аукцион456 и приобретена киевским бизнесменом Андреем Адамовским и его партнерами.
Хотя художники «еврейского Монпарнаса» в 1930–1940-е годы оказали существенное влияние на развитие эрец-исраэльского искусства, в настоящее время этот след не входит, к сожалению, в ориентированный на Соединенные Штаты израильский музейно-художественный канон. Едва ли в сколько-нибудь обозримой перспективе экспозиции живописцев «Парижской школы» займут более высокое место в художественной жизни Израиля, скорее напротив — едва ли в долгосрочной перспективе удастся сохранить то сравнительно немногое, что еще осталось.
ЭПИЛОГ
Со времен, когда в Париже одновременно творили Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Анри Матисс, Пабло Пикассо и Марк Шагал, прошло уже больше ста лет, и это, несомненно, достаточный срок, чтобы попытаться оценить не только и не столько статус этих гениев в мировом искусстве (тут как раз все более чем ясно), сколько значение и вклад художников Монпарнаса как группы — какое место они занимают в коллективной памяти потомков? Часто повторяющийся тезис о всемирном триумфе, вероятно, будет излишне поспешным, причем по трем причинам.
Во-первых, насколько широко известны вышеназванные пять художников, работы которых продаются на торгах ведущих аукционных домов за огромные деньги, настолько же мало кто помнит об Анри Эпштейне, Исааке Добринском, Вилли Эйзеншитце, Осипе Любиче, Иосифе Константиновском и многих других живописцах этого круга. Единая «ткань существования» космополитически ориентированных художников преимущественно «еврейского Монпарнаса» в памяти потомков оказалась разорванной, отдельные «звезды» были вычленены и вознесены, тогда как остальным угрожает забвение.
Во-вторых, у большинства художников, относимых к «Парижской школе», никогда не выходили обобщающие каталоги, вследствие чего множество их сохранившихся работ (не забудем о том, что сотни, если не тысячи, холстов погибли в дни Первой и Второй мировой войны) вообще не известны любителям искусства.
В-третьих, несмотря на наличие отдельных монографических музеев живописцев и скульпторов «Парижской школы» (Пабло Пикассо, Марка Шагала, Осипа Цадкина, Мане-Каца и некоторых других), единого центра, который бы ставил своей задачей изучение и сохранение памяти об этой художественной диаспоре как о едином целом, нет нигде в мире. Такой музей собирался создавать в Харькове бизнесмен и государственный деятель Александр Фельдман, но летом 2013 года было объявлено о проведении экспозиции, озаглавленной «Последняя выставка мастеров Парижской школы из собрания Feldman Family Museum». Анонс выставки гласил, что по окончании ее работы, 15 сентября 2013 года, все 110 выставленных работ сорока художников будут проданы457. Продажа этой коллекции перечеркивает надежду на успех единственного реально возможного на постсоветском пространстве проекта создания музея и научно-исследовательского центра художников «Парижской школы», большинство из которых родились в Российской империи.
В собрании Вячеслава Кантора представлены изумительные работы Хаима Сутина, Амедео Модильяни и Марка Шагала, в том числе одна из самых лучших картин последнего — «Видение» («Автопортрет с музой»), а также Валентина Серова и Натана Альтмана, но картин Михаила Кикоина, Пинхуса Кременя, Иссахара-Бера Рыбака, Мане-Каца и многих других художников «еврейского Монпарнаса» в нем нет ни одной, а отдельные звезды, какими бы яркими они ни были, все же не позволяют представить себе рассматриваемый в настоящей книге феномен в целом. В ведущих российских государственных музеях, благодаря усилиям прежде всего Сергея Щукина и Ивана Морозова, собраны первоклассные коллекции французской живописи 1900-х годов, но русско-еврейские художники «Парижской школы», чей творческий путь начался в 1910-х годах, в этих музеях почти не представлены. Многие из этих художников — уроженцы Российской империи, но почти никто из них не родился на территории Российской Федерации в ее нынешних границах, «локализация памяти» о них в России оказывается почти невозможной, и, вероятно, это в какой-то мере объясняет тот факт, что никакого музейно-научного центра по изучению их наследия в России нет.
Нет такого музея и центра и в Израиле (этим художникам посвящен лишь один зал в Тель-Авивском художественном музее), несмотря на то что почти все эти художники — еврейского происхождения, а Израиль как государство претендует на то, чтобы быть национальным домом и духовным центром всего мирового еврейства. Во Франции же отдельных выставок проводится не так мало, но комплексно это искусство не представлено, не сохраняется и не изучается нигде, а работы многих упомянутых выше живописцев не представлены в Париже ни в одном музейном собрании. Опять-таки, звезды (за исключением Марка Шагала) представлены в коллекции Поля Гийома в собрании музея Оранжери, работы Шагала выставляются много и достаточно часто, но целостный феномен можно пытаться восстановить исключительно по репродукциям и самостоятельно.
Не будет преувеличением вывод о том, что именно диаспоральный характер этой группы художников преимущественно восточноевропейского еврейского происхождения стал причиной того, что они постфактум оказались «ничьими». В отличие от импрессионистов (среди которых, впрочем, тоже был один живописец еврейского происхождения — Камиль Писсарро), родившихся, живших и работавших во Франции, для сохранения, экспонирования и изучения наследия которых в Париже был создан ставший очень популярным музей Орсе, открытый в 1986 году, альбомы художников «Парижской школы», как указывалось выше, в наибольшем количестве представлены в столице Франции в Музее искусства и истории иудаизма. Парадоксальным образом, люди, оказавшиеся в столице Франции для того, чтобы уйти от иудаизма, именно в созданном там два десятилетия назад музее иудаизма обрели свое последнее пристанище.
При этом справедливым будет вывод о том, что эти люди так ни в какой стране и не обрели чувства Родины, на всю жизнь сохранив диаспоральное самосознание. Для большинства из них родным языком был идиш, при определенном знании русского, и даже изучая французский и английский, они редко когда знали эти языки настолько, чтобы в полной мере наслаждаться богатством их лексикона; достаточно вспомнить в этой связи Марка Шагала, книга воспоминаний которого написана по-русски, а основные выступления, опубликованные на десятке языков, произнесены на идише. Мане-Кац и Хана Орлова окончили свои дни в Израиле (Х. Орлова жила в подмандатной Палестине еще до того, как оказалась во Франции), Оскар Мещанинов — в США, но в полном смысле слова ни израильтянами, ни американцами никто из них (а в США долго жил и Мане-Кац) не стал. В годы Холокоста эти художники скрывались, пытались эмигрировать, а кому это не удалось — были депортированы и погибли в лагерях смерти сугубо как евреи, и лишь единицы среди французов стремились помочь этим людям в беде и еще меньшее число их новых соотечественников видели в них «своих». Речь идет о людях, внесших огромный вклад в мировое искусство, но при этом не принадлежащих ни одной стране, а на всю жизнь оставшихся на пересечении диаспор и сохранявших диаспоральное сознание.
При всей значительности художественных находок мастеров «Парижской школы», их социальное значение в контексте национальной истории не нужно переоценивать. Надин Нешавер утверждает, что эти художники, «большинству из которых было около двадцати лет», «стали движущей силой еврейской эмансипации, движения социального и интеллектуального подъема Европы, которое характеризовалось утратой религиозности и политической вовлеченностью»458.
Это утверждение представляется явным преувеличением. Движение Просвещения (Хаскалы) в среде европейского еврейства началось еще в XVIII веке и было сосредоточено в основном в Германии, однако в этой стране, несмотря на высокую степень плюрализма и свободы, которой характеризовалась Веймарская республика, никакой колонии еврейских художников не возникло — Макс Либерман был едва ли не единственным художником еврейского происхождения, обретшим известность в этой стране. Более того, даже коренные немецкие евреи, чувствовавшие тягу к живописи, считали наиболее подходящим местом своей самореализации Париж, где художники немецко-еврейского происхождения Вальтер Бонди, Рудольф Леви, как и учившийся с ними в Мюнхене выходец из семьи венгерских евреев Бела Шобель (Bela Czobel, 1883–1976), галеристы Даниэль-Анри Канвейлер и Вильгельм Уде внесли важный вклад в продвижение и утверждение эстетики нового фовистского, наивного, экспрессионистского и кубистского искусства.
Все эти художники были, по большому счету, группой одиночек, самое большее — способными сформировать некое подобие общины в собственной среде, однако у этого художественного авангарда (назвать их авангардом интеллектуальным весьма сложно, ибо в подавляющем большинстве своем это были люди с низким уровнем образования) не было сколько-нибудь значительного числа последователей, вследствие чего «движущей силой» каких-либо общенациональных процессов они не были и быть не могли. Как уже указывалось, в рамках сионистского движения, поставившего своей целью еврейское национальное возрождение в Палестине/Эрец-Исраэль, начиная с 1906 года, то есть еще во времена османского владычества, существовала своя академия художеств — «Бецалель», однако эстетические принципы и идеология ее основателей были очень и очень далекими от поисков и находок художников «еврейского Монпарнаса».
Позднее, уже после создания Государства Израиль в 1948 году, самые известные художники этой страны стремились ориентироваться на наиболее современное западное (прежде всего американское) искусство того времени, а экспрессионизм, кубизм и фовизм «Парижской школы» виделись им искусством дня вчерашнего. Показательно, что на протяжении многих лет жившие и работавшие в Париже художники и скульпторы Мане-Кац, Исаак Френкель (Френель), Иосиф Константиновский и другие, в той или иной степени связавшие свою судьбу с Государством Израиль, в этой стране не сумели утвердить свое положение среди ведущих художников; массовый зритель ждал отражения в искусстве этоса борьбы за национальную независимость, а профессиональное сообщество если на кого из французских художников и ориентировалось, то на мастеров «серебряного века» «Парижской школы» — абстрактных экспрессионистов, среди которых блистали и выходцы из России Андрей Ланской и Николя де Сталь, не имевшие еврейских корней.
Справедливость требует упомянуть о значительном влиянии годового пребывания во Франции в 1955–1956 годах на Яакова Векслера (Jacob Wexler, 1912–1995) — уроженца Курляндии, с 1935 года жившего в Палестине/Эрец-Исраэль и в 1968–1982 годах возглавлявшего один из ведущих художественных вузов Израиля — Институт имени Аарона Авни в Тель-Авиве. Однако и на творчество Векслера, если кто и оказал существенное влияние, то Жорж Руо (Georges Henri Rouault, 1871–1958), с одной стороны, и французские художники-абстракционисты середины XX века, с другой, а совсем не кто-либо из художников «еврейского Монпарнаса».
Искусство Модильяни, Сутина, Паскина, Рыбака, Баранова-Россине и их монпарнасских современников не оказало почти никакого влияния на развитие пластических искусств в Государстве Израиль; тем более никто из них ни на каком этапе не был движущей силой каких-либо общенациональных процессов, а убийственный каток Холокоста прошелся по ним в неменьшей мере, чем по людям, от музеев и галерей бесконечно далеким.
Cложности, которые пришлось преодолевать на пути к признанию Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, Марку Шагалу и Хаиму Сутину, а также многим другим художникам, не родившимся во Франции, но с большим или меньшим успехом пытавшимся добиться признания в этой стране, можно в какой-то мере объяснить тем, что эти люди не всегда в достаточной мере знали французский язык и не были знакомы с социально-культурными особенностями этой страны. Анри Матисс, однако, родился во Франции и в совершенстве владел государственным языком, но это не защитило его от того, что художественный истеблишмент и посетители выставок этой едва ли не самой культурной страны Европы годами не понимали и не признавали его искусство. Матисс едва ли сумел бы «выйти в гении» и обеспечить приемлемый (отнюдь не роскошный) образ жизни своей семье, если бы не поддержка ценителей извне, в собственно художественной жизни Франции бывших в лучшем случае на периферии, будь то американские евреи Стайны и сестры Кон, русские предприниматели Щукин и Морозов или датчане — торговец Кристиан Тетцен-Лунд и инженер Йоханнес Румп. Опыт этого живописца и скульптора наглядно доказывает, что владение культурно-языковым капиталом не гарантирует успешной карьеры. Даже когда речь идет о незаурядном по степени таланта, галантном и очень трудолюбивом человеке (а Анри Матисс был именно таким), общество, государство и музейно-выставочный истеблишмент могут годами относиться к художнику с чувствами в диапазоне от недоброго сарказма до полного игнорирования. Читая статьи и книги о каждом пробившемся художнике, имеет смысл задуматься о том, скольким пробиться не удалось, главным образом потому, что им не посчастливилось встретить своих Сару Стайн, Этту Кон и Сергея Щукина.
В самой Франции спрос на работы Анри Матисса сформировался лишь в 1920-е годы, когда художнику было уже за пятьдесят. Датский арт-критик Лео Сване, оценивая его парижскую экспозицию, прошедшую в 1931 году, писал:
Анализ большой выставки Матисса, проводившейся весной в Париже, отчетливо дает представление о невозможности найти работы этого периода [1905–1915 годов]. Франция, бесспорно, совершила ошибку, которую вряд ли возможно исправить, когда позволила уйти из страны столь многим главным произведениям Матисса раннего периода459.
Нужно, однако, уточнить, что «ранним» этот период в творчестве А. Матисса счесть никак нельзя: в 1905 году ему шел тридцать шестой, а в 1915 — сорок шестой год, и целый ряд его произведений были созданы существенно раньше. Нью-йоркское издательство Abrams на протяжении многих десятилетий выпускало серию монографических альбомов выдающихся художников, каждый из которых включал сорок цветных иллюстраций; шесть из сорока репродуцированных в альбоме Анри Матисса картин были созданы до 1905 года460. Период 1905–1915 годов ранний не для Анри Матисса, а для фовизма. Судьба этого живописца служит важным напоминаем о том, насколько невосприимчиво даже справедливо считающееся культурным общество к новым художественным веяниям. За считанные десятилетия до первых попыток Анри Матисса заинтересовать современников своим творчеством общество и музейно-академический истеблишмент отторгали импрессионистов, а затем постимпрессионистов, которые к началу XX века уже прошли длинный путь к признанию. Этот тогда еще совсем недавний опыт, казалось бы, мог сформировать в обществе и культурно-художественном истеблишменте парадигму восприятия нового. Однако этого не произошло, и начавший свой путь в середине первого десятилетия XX века фовизм столкнулся с полным неприятием и отторжением: фотохудожник Феликс Надар написал, что «публике в лицо швырнули банку красок», а арт-критик Гюстав Жеффруа возмущался «размалеванной эксцентричностью» работ Анри Матисса461. Помня об этих грандиозных ошибках и зная, за какие громадные суммы продаются сейчас произведения Матисса и его единомышленников, в начале своего пути не имевших денег покупать краски и холсты, чтобы эти произведения создавать, хочется надеяться, что в настоящем и будущем человечество больше не повторит подобных ошибок. В конце концов, главная память, которая остается о любой эпохе, — это память о произведениях искусства, в эту эпоху созданных.
Наиболее значительные произведения искусства, созданные художниками «Парижской школы», в целом достаточно хорошо известны, однако среда, в которой эти художники жили и работали, как правило, игнорируется. О Модильяни и Шагале, Пикассо и Сутине пишутся все новые и новые книги, снимаются фильмы, превращая их в героев-одиночек, которыми они были лишь отчасти. Они не смогли бы выстоять и пробиться, если бы вокруг них не было творческой среды, во-первых, и ценивших и стремившихся помочь им людей, зачастую весьма ограниченных в средствах, но горевших их искусством, во-вторых. Можно только догадываться, насколько более благополучной и плодотворной могла бы быть жизнь тех же Амедео Модильяни и Хаима Сутина, будь Леопольд Зборовский и Берта Вайль людьми более обеспеченными. И можно с немалой степенью уверенности предполагать, что не встреться на его пути Максим Винавер и Аля Берсон (оплачивавшая его занятия в художественной школе в Петербурге), всемирно знаменитый ныне Марк Шагал таковым бы не стал. Поэтому он был не совсем прав, когда в 1935 году говорил: «В нашем еврейском сообществе нет своего Дягилева, Морозова, Щукина, чутких ценителей и страстных собирателей произведений искусства, организаторов культурного пространства»462. Таких людей было действительно мало, но они были, в том числе в его собственной жизни, которая без них сложилась бы явно иначе. Я. Ф. Каган-Шабшай, покупавший работы М. З. Шагала в Москве в дни Первой мировой войны, был менее обеспеченным человеком, чем И. А. Морозов и С. И. Щукин, но не менее чутким ценителем и страстным собирателем произведений искусства, чем они463. Да и супруги Цетлины организовывали культурные проекты с меньшим размахом, но не меньшим энтузиазмом и бескорыстием, чем С. П. Дягилев.
Побывав в столице Франции в 1927–1928 годах во второй раз, Амшей Нюренберг с горечью писал: «Художественный рынок современного Парижа принадлежит шайке разудалых дельцов, прошлое которых формировалось в неопрятных коридорах биржи. <...> В Париже нет теперь так называемых маршанов-коллекционеров, любителей искусства. От них остались одни легенды»464.
Автору этой книги было непросто отделить вымысел от правды, однако даже если сделать это удавалось не всегда, долго живущие легенды сами по себе заслуживают внимания, ибо они фиксируют тот или иной феномен, который врезался в память современников. В наши дни, впрочем, память о парижских маршанах и коллекционерах, ценителях нового искусства и его творцов, к сожалению, очень потускнела; проблема скорее не в обилии легенд, а в их отсутствии.
Наша книга наглядно демонстрирует силу «маленького человека», стремящегося помогать творческим людям, — пусть у этих людей не было почти ничего, кроме желания поддержать художников, в талант которых они верили, этого оказывалось достаточно, чтобы сделать очень, очень многое. Даже более обеспеченные из тех, кому посвящена настоящая книга, — Альфред Буше, Сергей Щукин, Иван Морозов, Мария и Михаил Цетлины, Максим Винавер, семья Стайнов и сестры Этта и Кларибел Кон — не принадлежали к числу самых богатых людей своего времени: не так мало состоятельных французов, россиян, немцев и американцев располагали существенно большими финансовыми возможностями, но, к сожалению, ничего не сделали для того, чтобы помочь новому искусству и его творцам. Современники нередко считали, что эти люди выбрасывали деньги на ветер, захламляя свои дома «мазней»; сегодня очевидно, насколько подобные критиканы оказались далеки от истины. Это — важный урок истории, который ни в коем случае нельзя забывать.
Родившиеся в разных странах художники «Парижской школы» были европейскими космополитами в то время, когда европейские государства пошли друг на друга двумя катастрофическими войнами, унесшими жизни десятков миллионов человек. Художники не могут остановить войну, они бессильны перед машиной государственного насилия, и судьба тех из них, кто погиб в Освенциме, ничем не отличалась от судеб простых людей, загнанных в те же газовые камеры. Но и при их жизни, и в наши дни их выставки собирали и собирают в музейных залах граждан разных стран различного этнонационального происхождения, возводя между людьми и государствами мосты, а не стены. Пожалуй, именно это — самое главное.
1
Зингерман Борис. Парижская школа: Пикассо, Модильяни, Сутин, Шагал. М.: Союзтеатр, 1993; Герман Михаил. Парижская школа. М.: Слово, 2003.
2
Тугендхольд Яков. Парижская школа // Новый мир. 1928. № 10. С. 236–249.
3
Нюренберг Амшей. Поль Сезанн. М.: Типография ВХУТЕМАСа, 1924.
4
Дочь Амшея Нюренберга Неля, оперная певица, в 1946 году в условиях государственного антисемитизма вынужденно взявшая себе сценический псевдоним Нина Нелина (1923–1966), была вторым браком замужем за писателем Юрием Трифоновым (1925–1981), который вывел тестя в повести «Другая жизнь» под чужим именем: «Георгий Максимович... был старый художник, учился до революции у какого-то знаменитого грека, ездил за границу, участвовал в выставках, за что-то его громили, перевоспитывали, оттесняли, постепенно он счах и сник». «Греком», у которого учился «Георгий Максимович», был Кириак Костанди (1852–1921), один из основателей Общества художников Южной России и его председатель в 1902–1920 годах, избранный в 1907 году действительным членом Императорской Академии художеств; у него в самом деле учился не только А. М. Нюренберг, но и его младший брат Давид Девинов (1896–1964).
5
Герра Рене. Русский Парнас и Монпарнас // «Когда мы в Россию вернемся...» СПб.: Росток, 2010. С. 349.
6
Согласно цитируемому сотрудником Службы внешней разведки Украины архивному документу, художник, имевший агентурный псевдоним Ярема, «выполнил ряд сложных заданий по добыванию научно-технической информации оборонного характера, в результате чего советская разведка получила секретные чертежи двухсот пяти видов военной техники, в частности авиационных моторов для истребителей». Цит. по: Скрипник Александр. Знаменитый украинский художник и разведчик Николай Глущенко докладывал Сталину о подготовке Гитлера к войне против СССР еще в июне 1940 года // Факты и комментарии (Киев). 2005. 30 июня.
7
В рассказе «Посещение Марка Шагала» Юрий Трифонов вновь писал о тесте, выдумав ему другое имя: «В начале тридцатых Иону Александровича стегали публично на дискуссиях и в печати... за „вредоносный шагализм“... и бедный Иона Александрович каялся и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей, в которых шагализм расцвел особенно ядовито».
8
Ромм Александр. Амшей Нюренберг [1945] // Сборник статей о еврейских художниках. М.: Галерея «Веллум», 2005.
9
Тангян Ольга. Предисловие // Нюренберг Амшей. Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2010. С. 22.
10
Нюренберг Амшей. Записки старого художника // Время и мы. 1994. № 126. С. 269. Позднее записи А. М. Нюренберга, профессионально подготовленные к печати, были выпущены отдельной книгой, упомянутой в предыдущей сноске, однако здесь и далее мы цитируем его воспоминания по их первым, неотредактированным публикациям.
11
Воловников Владимир. О необыкновенном годе необыкновенной эпохи. Неизвестная история выставки Пабло Пикассо в СССР в 1956. М.: Аиро-XXI, 2007.
12
Арагон Луи. Анри Матисс. М.: Прогресс, 1981.
13
Морис Утрилло: К портрету художника / Авт. — сост. и пер. с фр. Е. А. Савицкая. М.: Изобразительное искусство, 1988.
14
Crespelle Jean-Paul. La vie quotidienne à Montparnasse à la Grande Époque, 1905–1930. Paris: Hachette, 1976; пер. на рус. яз.: Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху, 1905–1930. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 97.
15
Герман Михаил. Хаим Сутин, 1893–1943. М.: Искусство — XXI век, 2009.
16
Сарабьянов Андрей. Владимир Баранов-Россине. М.: Трилистник, 2002; Владимир Баранов-Россине — художник русского авангарда / Вступ. статьи А. Шатских и Н. Автономовой. СПб.: Palace Editions, 2007.
17
Александр Альтман. Собрание Дмитрия Орлова / Вступит. статья и коммент. А. В. Толстого. М., 2008; Исаак Пайлес. Собрание Дмитрия Орлова / Вступ. статья и коммент. А. В. Толстого. М., 2009.
18
École de Paris, 1904–1929: La part de l’Autre. Paris: Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2000.
19
После объединения в 1972 году с соседним поселком Шапель-сюр-Креси (Chapelle-sur-Crécy) этот городок получил название Креси-ля-Шапель (Crécy-la-Chapelle).
20
Nieszawer Nadine. Artistes juifs de l’école de Paris, 1905–1939. Paris: Somogy éditions d’Art, 2015. P. 46–47.
21
Susak Vita. Ukrainian Artists in Paris. 1900–1939. Kiev: Rodovid, 2010. P. 361.
22
Boye-Taillan Marie. David Garfinliel. Paris: Editions ESKA, 2006. P. 11–12.
23
Diehl Gaston. Pinchus Krémègne. Sublimated Expressionism. Paris: Navarin Editeur, 1990. P. 40–42.
24
Werner Alfred. Modigliani. New York: Harry N. Abrams, 1985. P. 27–28.
25
Meisler Stanley. Shocking Paris. Soutine, Chagall and the Outsiders of Montparnasse. New York: Palgrave — Macmillan, 2015. P. 3.
26
Nicoïdski Clarisse. Soutine ou la profanation. Paris: Jean Claude Lattes, 1993. P. 205.
27
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 81.
28
Герман Михаил. Парижская школа. С. 9.
29
Там же.
30
Герман Михаил. Парижская школа. С. 267–268.
31
Шагал Марк. Памяти М. М. Винавера // Рассвет. 1926. 24 октября.
32
Обухова-Зелиньска Ирина. Русско-еврейские художники в Париже (1870–1940) // Русское еврейство в зарубежье. 2003. Т. 5 [10]. С. 264–306.
33
Герра Рене. А. Зиновьев — забытый художник «Парижской школы» // «Когда мы в Россию вернемся...» С. 412.
34
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция, 1917–1939. СПб.: Изд-во имени Н. И. Новикова, 2003. С. 63.
35
Ершов Виталий. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920–1930-е гг. М.: МАКС-Пресс, 2008. С. 43.
36
Толстой Андрей. Художники Русского Парижа // Наше наследие. 2012. № 104. С. 152–169.
37
Там же.
38
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция... С. 69.
39
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция... С. 70–71.
40
Ершов Виталий. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920–1930-е гг. С. 109.
41
Издебская-Причард Галина. Владимир Издебский на родине и за границей // Пинакотека. 2002. № 13–14. С. 233.
42
Маркаде Валентина, Маркаде Жан-Клод. Русская живопись в Париже (межвоенный период) // Русский Париж, 1910–1960. СПб.: Государственный Русский музей, 2003. С. 12.
43
Dorléac Laurence Bertrand. L’École de Paris, suites // École de Paris, 1904–1929: La part de l’Autre. Paris: Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 2000. P. 148.
44
Bouret Jean. Les Artistes Russes de l’École de Paris. Сatalogue de l’exposition. Paris: Maison de la Pensée française, 1961.
45
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 78.
46
Хасан-Брюне Натали. Еврейская Парижская школа — обрести себя в избранной стране? [пер. с фр.] // Парижская школа. 1905–1932. М.: ГМИИ им. Пушкина, 2011. С. 26.
47
См. каталог выставки: Restellini Marc. Jonas Netter et l’aventure de Montparnasse. Aux Origines de L’École de Paris // La Collection Jonas Netter. Modigliani, Soutine et l’aventure de Montparnasse. Paris: Pinacotheque, 2012. P. 9–26.
48
Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Кн. 1 [1961]. М.: Текст, 2005. Т. I. С. 148.
49
Крупицкий З. Н. Искусство и иудаизм // Еврейская энциклопедия. Т. VIII. СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1911. С. 326–327.
50
Цитируемое выступление М. З. Шагала в театре «Габима» в Тель-Авиве 23 марта 1931 года было подготовлено художником на идиш, но опубликовано тогда же в переводе на иврит. Далее с иврита оно было переведено на английский, а с английского на русский. Цит. по: Марк Шагал об искусстве и культуре / Под ред. Б. Харшава. М.: Книжники, 2009. С. 94. Понятно, что, пройдя через сито четырех различных языков, текст на русском языке может содержать определенные искажения; к сожалению, текст на идиш не сохранился, вследствие чего сверить перевод с оригиналом невозможно.
51
Выступление М. З. Шагала на конференции Еврейского исследовательского института в Вильне цит. по: Марк Шагал об искусстве и культуре. С. 108.
52
Марк Шагал об искусстве и культуре. С. 107.
53
Хасан-Брюне Натали. Еврейская Парижская школа... С. 26.
54
Benbassa Esther. Histoire des juifs de France. Paris: Editions du Seuil, 1997; пер. на рус. яз.: Бенбасса Эстер. История евреев Франции. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2004. С. 221.
55
Nieszawer Nadine. Artistes juifs de l’école de Paris, 1905–1939. P. 12.
56
Там же.
57
См. список его экспозиций в каталоге выставки, прошедшей в Париже в 2008 году: Restellini Marc. Soutine. Paris: Pinacotheque, 2008. P. 231.
58
См. список его экспозиций в посвященном этому художнику масштабном альбоме: Diehl Gaston. Pinchus Krémègne. Sublimated Expressionism. Paris: Navarin Editeur, 1990. P. 228–229.
59
Варшавский Владимир. Незамеченное поколение. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Русский путь, 2010. С. 151–152.
60
Варшавский Владимир. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. А. П. Чехова, 1956. С. 176. Во вторую редакцию цитируемый фрагмент не вошел.
61
Warnod Andre. Les Berceaux de la jeune peinture. Paris: Albin-Michel, 1925.
62
Fabre Gladys C. Qu’est ce que l’École de Paris // La part de l’Autre 1904–1929. Paris: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2000.
63
Сарабьянов Дмитрий. Парижская школа // Парижская школа / Под ред. Н. Б. Автономовой, А. Г. Лукановой и А. В. Толстого. М.: ГМИИ; Сканрус, 2011. С. 8.
64
Коваленко Юрий. Русская палитра Парижа. М.: Русский путь, 2012. С. 301.
65
Gousseff Catherine. L’Exil russe (1920–1939): La Fabrique du réfugié apatride. Paris: CNRS, 2008; пер. на рус. яз.: Гусефф Катрин. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы). М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 166.
66
Susak Vita. Ukrainian Artists in Paris. 1900–1939. P. 139.
67
Ibid. Р. 188–189.
68
Счастный Владимир. Лев Бакст: жизнь пером Жар-птицы. Минск: Четыре четверти, 2016.
69
Malinowski Jerzy. Les Artistes polonais de l’École de Paris // Artistes d’Europe, Montparnasse Déporté. Paris: Musée du Montparnasse, 2005. P. 27.
70
Abramovicz Leon. David Garfinkiel // Tribune juive. № 572. 1979. 15 juin.
71
Andrijauskas Antanas. Litvak Art in the Context of the École de Paris. Vilnius: Art Market Agency, 2008. P. 13.
72
Ibid. P. 9.
73
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 80.
74
Там же. С. 82.
75
Chagall Marc. Ma Vie. Paris: Éditeur Stock, 1928; пер. на рус. яз.: Шагал Марк. Моя жизнь. М.: Эллис Лак, 1994. С. 98–99. Эта книга, написанная художником по-русски, переведена на французский и опубликована в Париже в 1928 году. Местонахождение рукописи книги неизвестно, вследствие чего московское издание представляет собой обратный перевод с французского языка.
76
Варшавский Владимир. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 227.
77
Черняев Владимир. Париж времен оккупации и освобождения, 1942–1944 // Русская эмиграция и фашизм / Отв. ред. В. Ю. Жуков. СПб.: Государственный архитектурно-строительный университет, 2011. С. 202.
78
Литаврина Марина. Русский театральный Париж. СПб.: Алетейя, 2003. С. 184.
79
Там же.
80
Информация о деяниях Ю. С. Жеребкова в Париже в период Второй мировой войны изложена в документах, собранных в книге: Eagle and Swastika: CIA and Nazi War Criminals and Collaborators / Ed. by Kevin Conley Ruffner. Washington: Central Intelligence Agency, History Staff, 2003. P. 62–67.
81
Diehl Gaston. Pinchus Krémègne. Sublimated Expressionism. P. 55.
82
Menegaldo Hélène. Les Russes à Paris (1919–1939). Paris: Editions Autrement, 1998; пер. на рус. яз.: Менегальдо Елена. Русские в Париже, 1919–1939. М.: Общество друзей Алексея Ремизова, 2001. С. 85.
83
Boye-Taillan Marie. David Garfinliel. P. 29.
84
Арнштам Александр. Воспоминания / Пер. с фр. М. Ю. Германа. СПб.: Изд-во имени Н. И. Новикова, 2010. С. 112.
85
Арнштам Кирилл. Дополнение // Арнштам Александр. Воспоминания. С. 119–120.
86
Katia Granoff. Ma vie et mes rencontres. Paris: Christian Bourgois éditeur, 1981. P. 35.
87
Эта экспозиция была воссоздана в Женеве спустя шестьдесят лет, и к ней выпущен каталог, в котором воспроизведены все эти работы; см.: Le salon des indépendants de Paris, Rétrospective 1910. Genève: Petit Palais, 1969.
88
Герман Михаил. Парижская школа. С. 9.
89
Signoret Simone. La nostalgie n’est plus ce qu’elle était. Paris: éditions du Seuil, 1975.
90
Райхельсон Гирш. Жизнь и творчество Марка Шагала в Америке // Русские евреи в Америке. 2011. Т. 5. С. 166–212; Апчинская Наталья. Марк Шагал в Америке // Русские евреи в Америке. 2011. Т. 5. С. 213–220; Гамарник Ксения. Театральные работы Шагала в США // Русские евреи в Америке. 2013. Т. 7. С. 197–224.
91
Ben-Tal Varda. University of Haifa Oscar Ghez Collection. Eighteen Artists Who Perished in the Holocaust. Haifa, 1996. P. 28. Информация о свидетельстве от 2011 года о том, что И. Хехту удалось выжить в годы Холокоста и он скончался в 1951 году от сердечного приступа, представлена на сайте музея Хайфского университета; URL: .
92
См. о нем: Генкина Марина. Лазарь Воловик, художник Парижской школы // Евреи в культуре русского зарубежья. 1994. Т. 3. С. 392–412.
93
Сведения в основном извлечены из книги: Nadine Nieszawer, Marie Boyé, Paul Fogel. Peintres juifs à Paris. 1905–1939, École de Paris. Paris: Denoël, 2000.
94
Гольд Михаил. Еврейский урок в украинском классе Парижской школы // Букник. 2011. 18 октября. URL: -fiction/ukrainskie-hudozhniki-parizha/.
95
Подробнее см.: Buisson Sylvie, Nieszawer Nadine, Lachenal Lydie, Jarassé Dominique. Montparnasse déporté. Paris: Musée du Montparnasse, 2005.
96
См. о нем: Шатских Александра. Оскар Мещанинов (1886–1956) // Евреи в культуре русского зарубежья. 1995. Т. 4. С. 421–425.
97
См. о нем: Шатских Александра. Осип Цадкин // Евреи в культуре русского зарубежья. 1996. Т. 5. С. 345–352.
98
См. о ней: Латт Любовь. Скульптор Хана Орлова // Евреи в культуре русского зарубежья. 1992. Т. 1. С. 361–389.
99
См. каталог этой выставки: Antcher. Rétrospective. 1927–1981. Paris: Galerie Katia Granoff, 1990.
100
На портрете И. А. Морозова, созданном В. А. Серовым в 1910 году (с 1928 года эта работа хранится в Третьяковской галерее), фоном служит полотно Анри Матисса «Фрукты и бронза», купленное Морозовым незадолго до этого (ныне оно находится в Государственном музее изобразительных искусств). Серов перерисовал это полотно весьма точно, ничего не добавив от себя.
101
Беседа автора с О. Я. Рабиным в его парижской мастерской, 23 октября 2015 года.
102
См. о ней: Абрамова Жанна. Художник Соня Делоне // Русские евреи во Франции. Кн. 2 [Русское еврейство в зарубежье]. 2002. Т. 4 [9]. С. 304–318.
103
В 1894 году капитан французской армии этнический еврей Альфред Дрейфус (1859–1935) был обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненному заключению. После его ареста клерикальная и реакционная пресса ежедневно публиковала якобы достоверные сведения о преступлениях единственного офицера-еврея в Генеральном штабе, что формировало в стране атмосферу неприкрытого антисемитизма. На самом же деле выдвинутые против него обвинения были сфабрикованными; спустя годы майор Фердинанд Вальсен-Эстерхази (1847–1923) признал, что был автором письма, за которое осудили А. Дрейфуса. 5 января 1895 года на Марсовом поле в Париже А. Дрейфус был подвергнут унизительной процедуре разжалования, во время которой он непрерывно восклицал: «Я невиновен!» Он был сослан на Чертов остров, расположенный в тринадцати километрах от побережья Французской Гвианы. На протяжении многих лет брат Дрейфуса Матье, а также видные интеллектуалы Бернар Лазар (1865–1893), Эмиль Золя (1840–1902) и другие вели активную кампанию за пересмотр этого дела, но лишь в июле 1906 года Апелляционный суд провозгласил, что осуждение отбывшего пять лет на каторге А. Дрейфуса не имело под собой оснований.
104
Шагал Марк. Моя жизнь. С. 104.
105
Там же. С. 98.
106
Костаки Георгий. «Шагал — не Шагал. Продолжение» [без даты] // Коллекционер. М.: Искусство — XXI век, 2015. С. 134–135.
107
Visitor Figures 2014: The grand totals: exhibition and museum attendance numbers worldwide // The Art Newspaper — International Edition. 2015. April. No. 267. P. 3.
108
Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. С. 216.
109
Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. С. 218.
110
Perruchot Henri. La vie de Manet. Paris: Hachette, 1959; пер. на рус. яз.: Перрюшо Анри. Эдуард Мане. М.: Молодая гвардия, 1976. С. 281.
111
Там же. С. 283.
112
Le Cœur Marc. Le salon annuel de la Société des Amis d’art de Pau, quartier d’hiver des impressionnistes de 1876 a 1879 // Histoire de l’art. 1996. Octobre. No. 35–36. P. 57–70.
113
Neret Gilles. Renoir. Peintre du Bonheur. Paris: Taschen France, 2001; пер. на рус. яз.: Нере Жиль. Ренуар. Художник счастья, 1841–1919. М.: Арт-Родник, 2009. С. 18.
114
Perruchot Henri. La vie de Renoir. Paris: Hachette, 1964; пер. на рус. яз.: Перрюшо Анри. Жизнь Ренуара. М.: Радуга, 1986.
115
Gruitrooy Gerhard. Degas: Impressions of a Great Master. New York: Todtri Publications, 1994; пер. на рус. яз.: Грутрой Герхард. Дега. Впечатления великого мастера. Минск: Белфакс, 1998. С. 46–47.
116
Pludermacher Isolde. La Société des amis des arts. Amateurs et expositions d’art moderne au Havre dans la seconde moitié du XIXe siècle // Le cercle de l’art moderne. Collectionneurs d’avant-garde au Havre. Paris: Réunion des musées nationaux, 2012. P. 26–35.
117
Pludermacher Isolde. La Société des amis des arts. С. 30.
118
Цит. там же. О том, как развивалось творчество этого художника, см.: Jean-Aubry Georges. Eugene Boudin. New York Graphic Society, 1968.
119
Georges Chantal. La donation Bruyas au musée Fabre de Montpellier: une tradition et une exception // La jeunesse des musées: les musées de France au XIXe siècle. Paris, 1994. P. 247–249.
120
Fréderic Bazille (1841–1870). Catalogue raisonne, sa vie, son œuvre, sa correspondance / Ed. Michel Schulman. Paris: Editions de l’Amateur, 1995. Lettres 229, 259.
121
Distel Anne. La province avant Paris? La défense de la modernité dans les collections publiques (1850–1914) // Le cercle de l’art moderne. Collectionneurs d’avant-garde au Havre. Paris: Réunion des musées nationaux, 2012 P. 38–43.
122
Нюренберг Амшей. Записки старого художника // Время и мы. 1994. № 124. С. 240.
123
Там же. С. 242.
124
Там же. С. 253.
125
Boye-Taillan Marie. David Garfinliel. P. 17, 31–32.
126
Нюренберг Амшей. Записки старого художника. С. 244.
127
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция. С. 20.
128
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция. С. 23.
129
Ершов Виталий. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920–1930-е гг. С. 70–71.
130
École de Paris, 1904–1929: La part de l’Autre. Paris: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 2000. P. 364, 368.
131
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция. С. 22.
132
Ершов Виталий. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920–1930-е гг. С. 104–105.
133
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 95.
134
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 98.
135
Коваленко Юрий. Русская палитра Парижа. С. 300.
136
Впервые этот фрагмент цитировался еще в изданной почти полвека назад книге: Виленкин Виталий. Модильяни. М.: Искусство, 1970. С. 91–92.
137
Шагал Марк. Моя жизнь. С. 101.
138
Likhtenshtein Yitshak. Mark Shagal. Paris: Farlag “Le Triangle”, 1927. P. 11–12 [на идиш]; цит. фрагмент приводится в переводе Григория Казовского.
139
Коваленко Юрий. Русская палитра Парижа. С. 331.
140
Нюренберг Амшей. Записки старого художника. С. 250.
141
Там же. С. 261.
142
Менегальдо Елена. Русские в Париже, 1919–1939. С. 84.
143
Луначарский Анатолий. Давид Штеренберг // Киевская мысль. 1914. 6 февраля; воспроизведено в книге избранных статей автора: Об изобразительном искусстве. М.: Сов. художник, 1967. Т. 1. С. 407.
144
Еврейские художники в Париже. Воспоминания Лео Кенига / Вступит. статья, пер. с идиш и коммент. Григория Казовского // Вестник Еврейского университета. М. — Иерусалим. 1999. № 2 (20). С. 331.
145
Еврейские художники в Париже. Воспоминания Лео Кенига. С. 328–329.
146
Chagall Marc. Bletlakh // Schtrom (Моscou). 1922. № 1. P. 44–46 [на идиш]. Цит. по: Марк Шагал об искусстве и культуре / Под ред. Б. Харшава. М.: Книжники, 2009. С. 73.
147
Еврейские художники в Париже: Воспоминания Лео Кенига. С. 332.
148
Нюренберг Амшей. Записки старого художника. С. 225.
149
Первая версия представлена, в частности, в книге: Виленкин Виталий. Модильяни. С. 106. Оба варианта описаны как возможные в книге: Augias Corrado. Modigliani. L’ultimo romantico. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1998; пер. на рус. яз.: Ауджиас Коррадо. Амедео Модильяни. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 181.
150
Виленкин Виталий. Модильяни. С. 106–107.
151
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 120.
152
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монпарнаса в великую эпоху. С. 95.
153
Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Т. I. С. 155.
154
Gros G. J. Les Grands Collectionneurs. Chez M. J. Netter // L’art Vivant. 1929. No. 97. P. 14–15.
155
Werner Alfred. Modigliani. P. 29.
156
Виленкин Виталий. Модильяни. С. 116.
157
Crespelle Jean-Paul. La vie quotidienne à Montmartre au temps de Picasso, 1900–1910. Paris: Hachette, 1978; пер. на рус. яз.: Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900–1910. М.: Молодая гвардия, 2000. С. 204.
158
Сведения о художниках, с которыми работала Берта Вейль, содержатся в единственной посвященной ей биографической книге, пока выпущенной только на фр. языке: Le Morvan Marianne. Berthe Weill, 1865–1951: La petite galeriste des grands artistes. Paris: L’Harmattan, 2011.
159
Виленкин Виталий. Модильяни. С. 93.
160
Герман Михаил. В поисках Парижа, или Вечное возвращение. СПб.: Искусство, 2005. С. 349–350.
161
Толстой Андрей. Художники Русского Парижа. С. 168.
162
Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Т. I. С. 144.
163
Там же. С. 145.
164
Там же. С. 155.
165
Cabanne Pierre. Le Roman des grands collectionneurs. Paris: Opera Mundi, 1961. P. 188–189.
166
Hoog Michel. Musee de l’Orangerie. Catalogue of the Jean Walter and Paul Guillaume Collection. Paris: Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1987. P. 5.
167
Escholier Raymond. Matisse, Ce Vivant. Paris: A. Fayard, 1956; пер. на рус. яз.: Эсколье Раймон. Матисс. Л.: Искусство, 1979. С. 146.
168
Restellini Marc. Soutine. P. 231.
169
Ауджиас Коррадо. Амедео Модильяни. С. 182.
170
См. комментарий Колет Жиродон (Colette Giraudon) к «Портрету Поля Гийома» 1915 года работы Модильяни из собрания музея Оранжери в альбоме: Hoog Michel. Musee de l’Orangerie. P. 142. Эта же информация приводится в комментарии к «Портрету Поля Гийома» 1916 года из собрания Миланского музея современного искусства (Museo del Novecento, бывший Civico Museo d’Arte Contemporanea) в альбоме: Werner Alfred. Modigliani. P. 74.
171
Виленкин Виталий. Модильяни. С. 98–99.
172
Distel Anna. Le Docteur Barnes est a Paris // De Cezanne a Matisse: chefs-d’oeuvre de la fondation Barnes. Paris: Gallimard, 1993. P. 298, сноска 32.
173
Hoog Michel. Musee de l’Orangerie. P. 148.
174
Отечество мое — в моей душе: Произведения из собрания Музея искусства авангарда (МАГМА). М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2013. С. 214.
175
Stein Leo. Appreciation: Painting, Poetry and Prose. Lincoln: University of Nebraska Press, 1996 [1-е изд.: New York, 1947]. P. 195.
176
Wineapple Brenda. Schwester Bruder. Gertrude und Leo Stein. Zürich: Arche Verlag, 1998.
177
Stein Gertrude. Everybody’s Autobiography. New York: Random House, 1937. P. 72.
178
Stein Leo. Appreciation: Painting, Poetry and Prose. P. 147.
179
Ibid. P.155.
180
Stein Leo. Appreciation: Painting, Poetry and Prose. P. 155.
181
Эта личная драма и ее литературные «последствия» чутко описаны в книге: Басс Илья. Жизнь и время Гертруды Стайн. М.: Аграф, 2013. Гл. 4.
182
О трудном пути этой рукописи к читателям см.: Boyde Melissa J. “Out of her emotional depth: Gertrude Stein’s Queer Demonstration”. Paper presented at the Modernism Intimacy and Emotion conference, University of Western Sydney, 2012.
183
Стайн Гертруда. Q.E.D. [пер. с англ.]. М.; Тверь: Kolonna Publications, 2013.
184
Stein Leo. Appreciation: Painting, Poetry and Prose. P. 157–158.
185
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900–1910. С. 222.
186
Дневниковая запись Лео Стейна от 12 апреля 1904 года // New Haven, Yale University Collection of American Literature, Belnecke Rare Book and Manuscript Library, MSS 78, box 3, folder 52.
187
Olivier Fernande. Picasso et ses amis [1933]. Paris: Pygmalion-Gérard Watelet, 2001. P. 115.
188
Mailer Norman. Portrait of Picasso as a Young Man: An Interpretive Biography. Atlantic Monthly Press, 1995; пер. на рус. яз.: Мейлер Норман. Пикассо. Портрет художника в юности. М.: Эксмо, 2002.
189
Креспель Ж. — П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо. С. 212–214.
190
Мейлер Норман. Пикассо: Портрет художника в юности.
191
Геташвили Нина. Гертруда Стайн и художники // Иностранная литература. 1999. № 7. С. 227–230.
192
Письмо Лео Стайна к Мэйбл Фут Уикс, 1905 год, воспроизведено в книге: Journey into the Self: Being the Letters, Papers and Journals of Leo Stein / Ed. E. Fuller. New York: Crown Publishers, 1950. P. 15–18.
193
Spurling Hilary. Matisse. The Life. London: Penguin Books, 2009; пер. на рус. яз.: Сперлинг Хилари. Матисс. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 64.
194
Там же. С. 71.
195
Там же. С. 85.
196
Stein Gertrude. The Autobiography of Alice B. Toklas. New York: Harcourt, Brace and Company, 1933; существуют два разных перевода этой книги на русский язык, здесь цит. по: Стайн Гертруда. Автобиография Элис Б. Токлас / Пер. Вадима Михайлина. М.: Б.С.Г. — Пресс, 2001. С. 50–57.
197
Сперлинг Хилари. Матисс. С. 111.
198
Stein Leo. Appreciation: Painting, Poetry and Prose. P. 158.
199
Сперлинг Хилари. Матисс. С. 115.
200
Письмо Поля Синьяка Шарлю Анграну от 14 января 1906 года цит. по: Barr Alfred H. Matisse, His Art and His Public. New York: Museum of Modern Art, 1951. P. 82.
201
Flanner Janet. King of the Wild Beasts // The New Yorker. 1951. December 29. P. 26–27.
202
Эсколье Раймон. Матисс. С. 55–56.
203
Сперлинг Хилари. Матисс. С. 120.
204
Письмо Сары Стайн Анри Матиссу от 12 октября 1940 года [на фр. яз.]; опубликовано в каталоге выставки: Cezanne, Matisse, Picasso... L’Aventure des Stein. Paris: Grand Palais, 2011.
205
Биография сестер Кон в основном изложена по изданию: Pollack Barbara. The Collectors: Dr. Claribel and Miss Etta Cone. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1962.
206
Gabriel Mary. The Art of Acquiring: A Portrait of Etta and Claribel Cone. Baltimore: Bancroft Press, 2002.
207
Johnston Sona K., Johnston William R. The Triumph of French Painting: Masterpieces from Ingres to Matisse. Baltimore: The Baltimore Museum of Art, 2000. P. 29.
208
Levitov Karen. Collecting Matisse and Modern Masters: The Cone Sisters of Baltimore. New York: The Jewish Museum, 2011.
209
Войскунская Натэлла. Коллекция сестер Кон: счастье общения с искусством // Третьяковская галерея. 2012. № 1 (34). С. 98–105.
210
Meyer Agnes Ernst. Out of These Roots: The Autobiography of an American Woman. Boston: Little, Brown and Co., 1953. P. 81.
211
Стайн Гертруда. Автобиография Элис Б. Токлас. С. 18–19.
212
Olivier Fernande. Picasso et ses amis. P. 182–183.
213
Мейлер Норман. Пикассо. Портрет художника в юности.
214
Stein Leo. Notes on Pablo Picasso // The New Republic. 1924. April 23. P. 229–230.
215
Письмо Анри Матисса Гертруде Стайн, 3 сентября 1913 г. // Матисс Анри. Заметки живописца: Сб. статей и писем. СПб.: Азбука, 2001.
216
См. предисловие Ильи Басса к книге Гертруды Стайн «Q.E.D.» (с. 10–11).
217
Стайн Гертруда. Три жизни. М.; Тверь: Kolonna Publications, 2006.
218
Stein Gertrude. Everybody’s Autobiography.
219
Malcolm Janet. Zwei Leben: Gertrude und Alice. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008.
220
Стайн Гертруда. Автобиография Элис Б. Токлас. С. 339.
221
Wagner-Martin Linda. Favored Strangers. New Brunswick: Rutgers University Press, 1995.
222
Thornton Wilder to Alexander Woollcott, September 16, 1933 // Papers of Alexander Woollcott, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, MA.
223
Journey into the Self: Being the Letters, Papers and Journals of Leo Stein. P. 175.
224
Мейлер Норман. Пикассо: Портрет художника в юности.
225
Stein Gertrude. The Modem Jew Who Has Given up the Faith of His Fathers Can Reasonably and Consistently Believe in Isolation [1896] // Proceedings of the Modern Language Association. 2001. Vol. 116. No. 2. P. 416–428.
226
Fay Bernard. Les Précieux. Paris: Librairie Academique Perrin, 1966. P. 135.
227
Стайн Гертруда. Автобиография Элис Б. Токлас. С. 19.
228
Malcolm Janet. Two Lives: Gertrude and Alice. New Haven: Yale University Press, 2007. P. 25 и далее, а также p. 106.
229
Toklas Alice B. What Is Remembered. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963. В нью-йоркском журнале «Слово» (№ 71, 2011) в переводе на русский язык И. А. Басса опубликован фрагмент этой книги, пока целиком по-русски не изданной.
230
Barr Alfred H. Matisse, His Art and His Public. P. 57.
231
Письмо Лео Стайна к Мэйбл Фут Уикс, 12 апреля 1904 года // New Haven, Yale University Collection of American Literature, Belnecke Rare Book and Manuscript Library, MSS 78, box 3, folder 55.
232
Petersen Carl V. Henri Matisse. Den Stein’ske Samling hos Tetzen-Lund // Politiken (Копенгаген). 1920. 2 октября.
233
Монрад Каспер. Кристиан Тетцен-Лунд и его коллекция картин // Анри Матисс и выдающиеся датские собиратели. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1998. С. 13.
234
Petersen Carl V. Henri Matisse. Den Stein’ske Samling hos Tetzen-Lund.
235
Barr Alfred H. Matisse, His Art and His Public. P. 199.
236
Wattenmaker Richard J. Docteur Barnes et sa fondation // De Cézanne à Matisse: chefs-d’œuvre de la fondation Barnes. Paris: Gallimard/Electa, 1993. P. 8–9.
237
Distel Anne. Le docteur Barnes est a Paris // De Cézanne à Matisse: chefs-d’œuvre de la fondation Barnes. Paris: Gallimard/Electa, 1993. P. 34.
238
См. каталог выставки: Collecting Matisse and Modern Masters: The Cone Sisters of Baltimore. New York: The Jewish Museum, 2011.
239
Эти воспоминания были опубликованы, подписанные только инициалами П. Э., в газете «Русские ведомости» 2 декабря 1912 года. Цит. по тексту антологии: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников / Под ред. И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова. Л.: Художник РСФСР, 1971. Т. 2. С. 236.
240
Серов Валентин. Переписка. 1884–1911 / Под ред. Н. Соколовой. М.: Искусство, 1937. С. 167.
241
Письмо В. А. Серова в редакцию газеты «Речь» от 22 сентября 1910 года опубликовано в антологии: Сергей Дягилев и русское искусство / Под ред. И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 186–187.
242
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. С. 368, примеч. 5.
243
Костеневич Альберт. Русские собиратели французской живописи // Морозов и Щукин — русские коллекционеры. От Моне до Пикассо / Под ред. Г. Кельча. Музей Фолькванг Эссен, 1993. С. 111.
244
Там же. С. 118.
245
Костеневич Альберт. «Посуда на столе» (кат. 96) // Морозов и Щукин — русские коллекционеры. От Моне до Пикассо. С. 421.
246
Письмо С. И. Щукина А. Матиссу от 10 октября 1913 года, воспроизведено в книге: Матисс Анри. Заметки живописца.
247
Демская Александра, Семенова Наталия. У Щукина, на Знаменке... М.: Банкъ Столичный, 1993. С. 100–103.
248
Письмо С. И. Щукина А. Матиссу от 10 октября 1913 года.
249
Письмо С. И. Щукина А. Матиссу от 31 марта 1909 года впервые напечатано в книге: Barr Alfred H. Matisse, His Art and His Public. P. 555; опубликовано по-русски в книге: Матисс Анри. Заметки живописца.
250
Whitney Kean Beverly. All the Empty Palaces. The Merchant Patrons of Modern Art in Pre-Revolutionary Russia. London: Barrie & Jenkins, 1983. P. 193.
251
Демская Александра, Семенова Наталия. У Щукина, на Знаменке... С. 93.
252
Письмо С. И. Щукина А. Матиссу от 20 декабря 1910 года.
253
Костеневич Альберт. Русские собиратели французской живописи. С. 68.
254
Кантор-Гуковская Ася. Рисунок // Анри Матисс. 1869–1954. Живопись, рисунок, декупажи / Под ред. Е. Георгиевской и А. Костеневича. М.: Галарт, 1993. С. 207.
255
Henri Matisse: Ecrits et propos sur l’art / Ed. by D. Fourcade. Paris: Hermann, 1972. P. 162.
256
Henri Matisse: Ecrits et propos sur l’art. P. 176.
257
Barr Alfred H. Matisse, His Art and His Public. P. 110.
258
Грабарь Игорь. Моя жизнь. М.: Искусство, 1937. С. 205–206.
259
Доронченков Илья. Матисс в России 1900–1910-х гг.: основные проблемы восприятия // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 1. C. 36–49.
260
Делок-Фурко Андре-Марк. Париж, улица Виллем, 12 // Выбор Сергея Ивановича Щукина. М.: Сканрус, 2004. С. 10.
261
Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2008. Т. II. С. 20–21.
262
Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. М.: ГМИИ им. А. С. Пушкина; Красная площадь, 2001. С. 44–46.
263
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 50–56; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 94–103.
264
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 60–62; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 104–105.
265
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 86–105; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 140–175.
266
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 64; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 106.
267
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 169–170; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 281–283.
268
Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 79.
269
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 75; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 117–122.
270
Сведения извлечены из: Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 167; Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 278.
271
Бессонова Марина, Георгиевская Евгения. Франция. Собрание живописи второй половины XIX — XX века. С. 330–343.
272
Костеневич Альберт. Искусство Франции. 1860–1950. Т. II. С. 167.
273
Nabokov Nikolas. Old Friends and New Music. Boston: Little, Brown, 1951. P. 70.
274
Лифарь Сергей. Дягилев. М.: Композитор, 1993 [1-е изд. — Париж, 1939]. С. 209–210.
275
Лифарь Сергей. Дягилев. С. 210.
276
Лобанов-Ростовский Никита. О театральных художниках из России // Евреи в культуре Русского Зарубежья. 1919–1939 / Сост. М. А. Пархомовский. Иерусалим, 1992. Т. 1. С. 397.
277
Conversations with Igor Stravinsky. London: Faber and Faber, 1959; пер. на рус. яз.: Стравинский Игорь. Диалоги. Л.: Музыка, 1971. С. 78.
278
Кутейникова Инесса. Наталия Гончарова. Музыка и театр: русские годы // Третьяковская галерея. 2014. № 1 (42). С. 40–55.
279
Цит. там же.
280
Полушин Владимир. Наталия Гончарова: царица русского авангарда. М.: Молодая гвардия, 2016. С. 256.
281
Там же. С. 384.
282
Haskell Arnold. Footnote to a Friendship // Gontcharova et Larionov: Cinquante ans à Saint-Germain-des-Prés / Témoignages et documents recueillis et présentés par Tatiana Loguine. Paris, Klincksieck, 1971. P. 129.
283
Лифарь Сергей. Дягилев. С. 215–216.
284
Стравинский Игорь. Диалоги. С. 75.
285
Махров Кирилл. Русское искусство в Париже // Русский Париж. 1910–1960. СПб.: Государственный Русский музей, 2003. С. 6.
286
Лифарь Сергей. Дягилев. С. 166.
287
Там же. С. 167.
288
Там же. С. 303.
289
Scheijen Sjeng. Sergej Diaghilev. Een Leven Voor De Kunst. Amsterdam: Prometheus, 2010; пер. на рус. яз.: Схейен Шенг. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М.: Колибри, 2012. C. 430–434.
290
Стравинский Игорь. Диалоги. С. 76.
291
Massine Leonide. My Life in Ballet. London: Macmillan, 1968; пер. на рус. яз.: Мясин Леонид. Моя жизнь в балете. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. С. 160.
292
Три созданных А. Матиссом для этого балета костюма воспроизведены в альбоме: Видение танца. Сергей Дягилев и русские балетные сезоны. М.: Фонд культуры «Екатерина» — Государственная Третьяковская галерея, 2009. С. 243–245.
293
Мясин Леонид. Моя жизнь в балете. С. 203.
294
Аладжалов Семен. Георгий Якулов. Ереван: изд-во Армянского театрального общества, 1971. С. 188–204.
295
Любимов Лев. На чужбине. М.: Сов. писатель, 1963. С. 175–176.
296
Менегальдо Елена. Русские в Париже, 1919–1939. С. 91.
297
Greene Graham. Reflections. London: Penguin Books, 1990.
298
Nabokov Nikolas. Bagazh. Memoirs of a Russian Cosmopolitan. New York: Atheneum, 1975; пер. на рус. яз.: Набоков Николай. Багаж. Мемуары русского космополита. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2003. С. 148.
299
Это мнение отстаивается в следующих публикациях: Silver Kenneth E. The Circle of Montparnasse // The Circle of Montparnasse. Jewish Artists in Paris. New York: The Jewish Museum, 1985. P. 14–15; Golan Romy. The École Francaise versus the École de Paris // Jewish Dimensions in Modern Visual Culture / Ed. by R. — C. Washton Long, M. Baigell and M. Heyd. Waltham: Brandeis University Press, 2010. P. 84.
300
Это мнение отстаивается в статье: Hirsh-Ratzkovsky Roni. Shifting the Borders of Culture and Identity: German-Jewish Intellectuals as Cultural Mediators between Germany and France // Recasting the ’Other’ — Readings in German-Jewish Interwar Culture and its Aftermath / Ed. by Karin Neuburger. Berlin: DeGruyter, 2015. P. 113.
301
Здесь и далее повествование о В. Уде базируется на статьях: Thiel Heinz. Wilhelm Uhde: Ein offener und engagierter Marchand-Amateur in Paris vor dem Ersten Weltkrieg // Avantgarde und Publikum / H. Junge-Gent (ed.). Cologne: Böhlau, 1992. P. 307–320; Бессонова Марина. Открытие примитива в искусстве начала XX века (от Уде к Вальдену) // Вопросы искусствознания. 1997. Т. Х (1). С. 412–421.
302
Madsen Axel. Sonia Delaunay: Artist of the Lost Generation. New York: McGraw-Hill, 1989. P. 74–89.
303
Бессонова Марина. Открытие примитива в искусстве начала XX века.
304
Герман Михаил. Парижская школа. С. 32.
305
Там же. С. 33.
306
Kahnweiler Daniel-Henry. Mes galeries et mes peintres: Entretiens avec Francis Crémieux. Paris: Gallimard, 1961.
307
Kahnweiler Daniel-Henry. Juan Gris: sa vie, son œuvre, ses écrits. Paris: Gallimard, 1946.
308
Uhde Wilhelm. Von Bismarck bis Picasso: Erinnerungen und Bekenntnisse. Zurich: Verlag Oprecht, 1938.
309
Uhde Wilhelm. Fünf primitive Meister: Rousseau, Vivin, Bombois, Bauchant, Séraphine. Zurich: Atlantis Verlag, 1947; спустя два года, уже после смерти автора, книга была издана также по-французски и по-английски.
310
Assouline Рierre. L’homme de l’art: D. — Н. Kahnweiler. Рaris: Balland, 1988.
311
Судачили, что работу купил П. О. Авен, но на посланный ему по этому поводу автором настоящей книги запрос был получен ответ, что данное произведение «приобрел не он». Цит. письмо Ольги Дубовой, помощницы Петра Авена, Алеку Д. Эпштейну от 13 ноября 2015 года, в ответ на обращение от 10 ноября 2015 года.
312
The Important Russian Art Sale Presents A Jewel of the Silver Age // Christie’s Press Release, London, October 30, 2014. P. 2.
313
См. вступительную статью Дмитрия Сарабьянова к альбому: Валентин Серов. Л.: Аврора, 1987. С. 26.
314
Important Russian Art. London: Christie’s. November 24, 2014. P. 34–39.
315
Показательно, что эта работа, выполненная в 1905 году на картоне, хранилась не в художественной галерее, а в Центральном музее революции СССР. Этот достаточно беглый эскиз воспроизводился в альбомах неоднократно, в частности в большом монографическом издании: Валентин Серов. С. 126.
316
Маковский Сергей. Силуэты русских художников. М.: Республика, 1999 [1-е изд. — Прага: Наша речь, 1922]. С. 47–48.
317
Серова Валентина. Как рос мой сын. Л.: Художник РСФСР, 1968 [1-е изд. — СПб.: Шиповник, 1914]. С. 95.
318
Там же. С. 149. Показателен в этой связи факт, о котором рассказывает искусствовед Вера Чайковская: в ее статье, посвященной В. А. Серову, опубликованной в одном из журналов, эта цитата из книги его матери была искажена — слово «еврейских» было заменено словом «европейских». Чайковская Вера. К истории русского искусства. Еврейская нота. М.: Три квадрата, 2011. С. 37.
319
Гинцбург Илья. Из прошлого. Л.: Гос. изд-во, 1924. С. 139. К сожалению, видимо по причинам, связанным с государственным антисемитизмом, этот рассказ И. Я. Гинцбурга был исключен из текста при его посмертном воспроизведении в книге: Скульптор Илья Гинзбург. Воспоминания, статьи, письма. Л.: Художник РСФСР, 1964.
320
Стравинский Игорь. Диалоги. С. 78.
321
Немчинова-Жилинская Надежда. Воспоминания мои о брате Валентине Александровиче Серове // Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. С. 481.
322
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. С. 83.
323
Это письмо воспроизведено там же. Т. 1. С. 197.
324
В. А. Серов. Переписка. 1884–1911. С. 303.
325
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 1. С. 198.
326
См. вступительную статью Дмитрия Сарабьянова к альбому: Валентин Серов. С. 20–21.
327
Шалит Шуламит. «С одним я народом скорблю»: К открытию Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане, Израиль // Евреи в культуре русского зарубежья. 1995. Т. IV. С. 385–407.
328
Яновский Василий. Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993 [1-е изд. — 1983]. С. 114.
329
Цетлин Мария [sic!]. Как Серов работал над моим портретом // Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. С. 354.
330
Там же. С. 355.
331
Коль-Коль [Эфрос Николай]. Московская пестрядь. Герои недели // Одесские новости. 1911. 3 января.
332
А. К. [Койранский Александр]. Портреты Серова // Утро России. 1911. 13 декабря.
333
Цетлин Мария. Как Серов работал над моим портретом. С. 356.
334
См. воспоминания Валентина об отце: Zetlin Valentine Wolf. Memories of My Father M. Zetlin // Творчество диаспоры и «Новый журнал» / Под ред. М. Адамович и В. Крейда. Нью-Йорк: Новый журнал, 2003. С. 58–59.
335
Цетлин Мария. Как Серов работал над моим портретом. С. 355.
336
Цетлин Михаил. Декабристы. Судьба одного поколения. Париж: Современные записки, 1933.
337
Цетлин Михаил. Пятеро и другие. Нью-Йорк: Новый журнал, 1944.
338
Зайцев Борис. М. О. Цетлин // Новый журнал. 1946. № 14. С. 202.
339
Хазан Владимир. «От книги глаз не подыму»: О личности и творчестве Михаила Цетлина / Послесловие к книге: Цетлин Михаил (Амари). Цельное чувство. Собрание стихотворений. М.: Водолей, 2011.
340
Шалит Шуламит. «Россия далекая, образ твой помню...» // Коллекция Марии и Михаила Цетлиных. Рамат-Ган: Департамент музеев, 2003. С. 107.
341
Леонидов Виктор. Окно // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. Периодика и литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. С. 294–296.
342
Алданов Марк. Памяти М. О. Цетлина // Новый журнал. 1945. № 11. С. 341–344.
343
Гуль Роман. Мария Самойловна Цетлина // Новый журнал. 1976. № 125. С. 271–272.
344
Яновский Василий. Поля Елисейские. С. 70.
345
Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Т. I. С. 127.
346
Коварская Вера. Вместо цветов // Новое русское слово. 1976. 9 ноября.
347
Жукова Елена. Предисловие // Коллекция Марии и Михаила Цетлиных. Рамат-Ган: Департамент музеев, 2003. С. 10.
348
Бунин Иван. Воспоминания. Париж: Возрождение, 1950. С. 253. В 1947 году отношения между Марией Самойловной и Иваном Алексеевичем существенно ухудшились, причем в связи с принципиальным спором, касавшимся отношения к получению эмигрантами советских паспортов. См. подборку писем по этому вопросу: Конфликт М. С. Цетлиной с И. А. Буниным и М. А. Алдановым / Публикация М. А. Пархомовского // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1995. Т. IV. С. 310–325.
349
Продав свою прежнюю квартиру на rue de la Faisanderie, 118, и ожидая конца ремонта в новой квартире на rue Nicolo, 59, Цетлины временно жили в пансионе по адресу: rue Raynouard, 14 bis (см. письмо М. О. Цетлина Г. П. Струве от 29 января 1927 года, воспроизведенное в: Новый журнал. 2012. № 267 / Публикация В. Хазана). Купленную в 1926 году квартиру Мария Самойловна и ее дети продали в 1960 году.
350
Демидова Ольга. Дом Цетлиных как локус русско-еврейской культуры в эмиграции // Русско-еврейская культура / Под ред. О. В. Будницкого. М.: РОССПЭН, 2006. С. 390–405.
351
См., например: Берберова Нина. Курсив мой. М.: Согласие, 1996 [1-е изд. — 1969]. С. 330; примеч. к письму В. Ф. Ходасевича И. А. Бунину от 5 апреля 1929 года, опубликованному в книге: И. А. Бунин: Новые материалы / Коммент. Дж. Малмстада. М.: Русский путь, 2004; а также цит. выше статью В. Хазана «От книги глаз не подыму».
352
Зайцев Борис. М. О. Цетлин // Новый журнал. 1946. № 14. С. 202.
353
Винокур Надежда. Всю нежность не тебе ли я несу: Альбом Марии Самойловны Цетлиной // Наше наследие. 2004. № 72. С. 52–67.
354
Жукова Елена. Коллекция Марии и Михаила Цетлиных. С. 17–18.
355
Волошин Максимилиан. Дневниковая запись от 2 мая 1932 г. // Волошин Максимилиан. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. Кн. 2. М.: Эллис Лак, 2008. С. 445.
356
Жукова Елена. Коллекция Марии и Михаила Цетлиных. С. 20.
357
Винокур Надежда. Всю нежность не тебе ли я несу.
358
Амари [Цетлин Михаил]. Прозрачные тени. Образы. Париж: Зерна, 1920. Н. С. Гончаровой посвящено стихотворение «Ван Гог», а М. Ф. Ларионову — «Сезанн».
359
Письмо М. С. Цетлиной М. Ф. Ларионову от 2 января 1920 г. // Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, ф. 180.
360
Письмо М. С. Цетлиной Н. С. Гончаровой от 24 августа 1922 г. // Там же.
361
Подробные сведения о ней см.: Гаухман Юлия. Учитель и ученица. Судьба Александры Прегель // Наше наследие. 2001. № 57. С. 117–120.
362
А. С. [Седых Андрей]. Памяти М. С. Цетлиной // Новое русское слово. 1976. 26 октября.
363
Цетлин-Доминик Ангелина. Из воспоминаний // Евреи в культуре русского зарубежья / Под ред. М. А. Пархомовского. Иерусалим, 1992. Т. I. С. 308.
364
Не так давно выпущена фундаментальная двухтомная биография этого незаурядного человека. См.: Хазан Владимир. Пинхас Рутенберг: От террориста к сионисту. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2008.
365
Берберова Нина. Курсив мой. С. 331.
366
Цетлин-Доминик Ангелина. Из воспоминаний. С. 300.
367
Там же. С. 289.
368
Там же. С. 303.
369
Там же. С. 302.
370
Цетлин-Доминик Ангелина. Из воспоминаний. С. 306.
371
Письмо М. С. Цетлиной Е. А. Извольской, 13 мая 1958 г. // Архив М. О. и М. С. Цетлиных в Отделе рукописей Национальной и университетской библиотеки, Иерусалим; курсив добавлен.
372
Цетлин-Доминик Ангелина. Из воспоминаний. С. 300.
373
Цит. в переводе с иврита в статье: Шалит Шуламит. «С одним я народом скорблю...» С. 386–387. В разных публикациях, цитирующих материал Х. Гамзу, датировки этой статьи варьируются; оригинал обнаружить не удалось.
374
Долев Ахарон. Коллекция ценой миллион долларов — заброшена и разграблена // Маарив. 1984. 16 апреля. С. 31 [на иврите].
375
Официальный ответ вице-мэра г. Рамат-Ган М. Абрамовича на запрос А. Д. Эпштейна, 5 ноября 2014 года [пер. с иврита].
376
Городские художественные музеи: Отчет внутреннего контролера мэрии г. Рамат-Ган, 2011. С. 40 [на иврите].
377
Жукова Елена. Коллекция Марии и Михаила Цетлиных. С. 10.
378
Письмо председателя Совета по делам музеев Ш. Шошани вице-эру г. Рамат-Ган М. Абрамовичу, 16 ноября 2014 года [на иврите].
379
Шалит Шуламит. «Россия далекая, образ твой помню...». С. 95.
380
Розовская Лиза. «Мона Лиза» из Рамат-Гана // Портал Ха’маком. 2014. 9 ноября. URL: -makom.co.il/article/rozovsky-ramat-gan-russian-museum-translated.
381
.
382
Противники продажи «Портрета Цетлиной» Серова организуют поход в Музей русского искусства // Портал Newsru.co.il, 12 ноября 2014 года. URL: .
383
Эти и сопредельные темы обсуждаются в моей книге: Эпштейн Алек Д. Возрождение еврейской государственности и нерешенный «еврейский вопрос». Киев: Научно-исследовательский центр ориенталистики им. О. Прицака, 2011.
384
George Waldemar. Les Artistes juifs et l’École de Paris. Alger: Éditions du Congrès juif mondial, 1959.
385
Биография Вальдемара Жоржа в значительной мере излагается по тексту статьи: Chevrefils Desbiolles Yves. Le critique d’art Waldemar George. Les paradoxes d’un non-conformiste // Archives Juives. Revue d’histoire des Juifs de France. 2008. Vol. 41. No. 2. P. 101–117.
386
Charensol Georges. D’une rive à l’autre. Paris: Mercure de France, 1973. P. 44–45.
387
Ильязд. XX век Ильи Зданевича / Сост. Б. М. Фридман. М.: ГМИИ, 2015. С. 75.
388
Северюхин Дмитрий. Русская художественная эмиграция. С. 64.
389
Там же. С. 65.
390
George Waldemar. La peur de la révolution, l’expansion de l’idée révolutionnaire et les travailleurs intellectuels // La Forge. 1919. No. 15. Цит. по: Prochasson Christophe et Rasmussen Anne. Au nom de la patrie. Les intellectuels et la première guerre mondiale (1910–1919). Paris: La Découverte, 1996. P. 227–228.
391
Маяковский Владимир. Париж, быт [1923] // Маяковский Владимир. Собр. соч. в 13 т. Т. 4. Стихотворения, поэмы, агитлубки и очерки 1922–1923 гг. М.: Худож. лит., 1957. С. 219.
392
Луначарский Анатолий. Русская выставка в Берлине // Известия ВЦИК. № 273. 1922. 2 декабря; воспроизведено в книге избранных статей автора: Об изобразительном искусстве. М.: Сов. художник, 1967. Т. 2. С. 94–100.
393
Герра Рене. Несостоявшийся диалог. Русская эмигрантская культура и французская интеллигенция // «Когда мы в Россию вернемся...» СПб.: Росток, 2010. С. 291.
394
George Waldemar. L’affaire Picasso // Opéra. 1946. 17 avril.
395
George Waldemar. In Memoriam // La Presse. s.d. [1928].
396
George Waldemar. La grande peinture contemporaine à la collection Paul Guillaume. Paris: Éditions des “Arts à Paris”, 1929.
397
George Waldemar. Soutine. Paris: Editions Le Triangle, 1928. См. обсуждение этой темы в статье: Jarrassé Dominique. L’éveil d’une critique d’art juive et le recours au ’’principe ethnique’’ dans une définition de ’’l’art juif’’ // Archives Juives. Revue d’histoire des Juifs de France. 2006. Vol. 39. No. 1. P. 63–75.
398
George Waldemar. Krémègne. Paris: Editions Le Triangle, 1929.
399
См. о Максе Банде в книге: Andrijauskas Antanas. Litvak Art in the Context of L’école de Paris. P. 228–239.
400
George Waldemar. Max Band. Paris: Editions Le Triangle, 1929.
401
George Waldemar. Profits et pertes de l’art contemporain. Éditions des Chroniques du jour, 1933.
402
George Waldemar. Salon des Indépendants // L’Amour de l’art. 1934. No. 2.
403
George Waldemar. Profitti e Perdite dell’arte conteporanea / Traduction de Ardengo Soffici. Florence: Vallecchi editore, 1933.
404
George Waldemar. Une entrevue avec M. Mussolini // La Revue mondiale. 1933. No. 5. P. 23–25.
405
George Waldemar. L’Humanisme et l’idée de patrie. Paris: Fasquelle, 1936.
406
Lewin Kurt. Self-Hatred Among Jews // Contemporary Jewish Record. 1941. Vol. 4. No. 3. P. 219–232.
407
Affron Matthew. Waldemar George: A Parisian Art Critic on Modernism and Fascism // Fascists Visions: Art and Ideology in France and Italy / Ed. by M. Affron and M. Antliff. Princeton: Princeton University Press, 1997. P. 171–204.
408
George Waldemar. Le Louvre sera après la guerre le plus beau musée du monde // Résistance. La Voix de Paris. 1944. 23 septembre.
409
George Waldemar. Les arts à Paris // Résistance. La Voix de Paris. 1944. 9 décembre.
410
George Waldemar. Les Juifs et la Civilisation. Рукопись. С. 5. Цит. по: Chevrefils Desbiolles Yves. Le critique d’art Waldemar George. P. 109–110.
411
George Waldemar. Les chefs-d’œuvre retrouvés en Allemagne // Résistance. La Voix de Paris. 1946. Septembre.
412
George Waldemar. La Liberté de l’Art et les Partis // Amis de l’art. 1949. Février.
413
Droit et Liberté. No. 4 (72). 1948. 15 avril. P. 3.
414
George Waldemar. Association des amis du musée national Bézalel de Jérusalem en France. Imprimerie Union. 1948. P. 11.
415
См., в частности: George Waldemar. Un faux pas: l’exposition des peintres israéliens de Paris // Combat-Art. 1961. 20 janvier; George Waldemar. Un nouveau-né: l’art israélien // Combat-Art. 1961. 6 février; George Waldemar. Le livre hébraïque et le destin de l’art juif // Combat-Art. 1963. 7 janvier; George Waldemar. L’universalité du génie juif: la Haggadah de Sarajevo // Combat-Art. 1964. 10 février.
416
George Waldemar. Gouaches de Chaïa Schwartz. Peinture d’Israël. Paris: Galerie Hermann, 1949.
417
George Waldemar. Existe-t-il un art juif? // Figaro littéraire. 1949. 24 septembre.
418
George Waldemar. Garfinkiel Peintures. Paris: Galerie Zak, 1958.
419
Письма Мишеля Соломона Вальдемару Жоржу от 6 и 11 октября 1955 года. Цит. по: Chevrefils Desbiolles Yves. Le critique d’art Waldemar George.
420
George Waldemar. Les artistes juifs et l’école de Paris.
421
Diehl Gaston. Pinchus Krémègne. Sublimated Expressionism. P. 62.
422
Boye-Taillan Marie. David Garfinliel. P. 44.
423
George Waldemar et Vierny Dina. Aristide Maillol et l’âme de la sculpture. Paris: Ides et Calendes, 1964; George Waldemar. Andre Abbal — Un maitre de la sculpture en taille directe. Paris: Privat, 1966; George Waldemar. Dessins d’Ingres. Paris: Editions du Colombier, 1967; George Waldemar. Rouault. Paris: Henri Scrépel, 1971; George Waldemar. Le monde imaginaire de Marcel Delmotte. Paris: Editions Max Fourny, 1969.
424
George Waldemar. L’Art traqué. Paris: Arted, 1968.
425
Объявления об этом были размещены в муниципальном еженедельнике «Зман Маале». № 722. 2012. 7 марта. С. 1 и 60 [на иврите].
426
Ofrat Gideon. One Hundred Years of Art in Israel. Boulder/Oxford: Westview Press, 1998. P. 68.
427
Об этом объединении см.: Шефи Смадар. Новые горизонты. Изобразительное искусство в первое десятилетие // Первое десятилетие. 1948–1958 / Под ред. Ц. Цамерета и Х. Яблонка. Иерусалим: Ин-т им. И. Бен-Цви, 1997. С. 281–298 [на иврите]; пер. на рус. яз. в книге: Израильское общество в зеркале культуры и искусства / Под ред. И. Бен-Ами и А. Д. Эпштейна. Тель-Авив: Открытый ун-т Израиля, 2003. С. 54–88.
428
Статья Биньямина Таммуза была опубликована в газете «Ха’арец» 21 октября 1949 года, цит. по: Блас Гила. Новые горизонты. Тель-Авив: Папирус, 1980. С. 35 [на иврите].
429
Шефи Смадар. Новые горизонты. С. 64.
430
Сведения извлечены из: Моше Кастель. Юбилейная выставка. Шестьдесят лет творчества, 1924–1984. Иерусалим: Изд. центр Кнессета — Худож. центр «Радуга», 1984. С. 10–11 [на иврите].
431
Эта написанная на иврите записка Моше Кастеля хранится в Музее Моше Кастеля в Маале-Адумим; она воспроизведена в буклете: Hacker-Orion Dahlia. From Vision to Reality. Moshe Castel Museum of Art. Maale-Adummim, 2010. P. 2.
432
Письмо мэра Хайфы Аба Хуши художнику Мане Кацу от 21 ноября 1958 года по этому вопросу воспроизведено в книге: Эрец-Исраэль Мане-Каца.Хайфа: Музей Мане-Каца, 1988. С. 14–15 [на иврите].
433
См. о нем: Латт Любовь. Мане-Кац, художник из Кременчуга // Евреи в культуре русского зарубежья. 1993. Т. 2. С. 465–480.
434
Там же. С. 473.
435
Эрец-Исраэль Мане-Каца. С. 7.
436
Основным источником биографических сведений об Исааке Френеле являются воспоминания его сына: Френкель Элиэзер. Семья и традиция / рукопись (58 с.) [на иврите], согласно которым в 1920–1930-е годы художник подписывал свои работы «Александр Френкель» или «А. Френкель» (таковых работ сохранилось очень мало, и они представляют особую коллекционную ценность), затем стал использовать как основное имя Ицхак (Исаак), в 1955 году сменил фамилию на Френэль, а затем в 1956 году — на Френель; см. там же. С. 32–33.
437
Matveev Michel. Les Traqués. Paris: Gallimard, 1933. Об этой книге и ее авторе см.: Юрьев Олег. Равномерная поступь несчастья // Лехаим. 2010. № 8 (220).
438
Френкель Элиэзер. Семья и традиция. С. 15.
439
Там же. С. 23–25.
440
Nieszawer Nadine. Artistes juifs de l’école de Paris, 1905–1939. P. 122.
441
Офрат Гидеон. Шагал в Эрец-Исраэль (готовится к печати) [на иврите].
442
Письмо М. З. Шагала Ю. М. Пэну воспроизведено в книге: Шатских Александра. Витебск. Жизнь искусства, 1917–1922. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 169–170. Нельзя не отметить огорчительные искажения в книге «Марк Шагал об искусстве и культуре» (с. 101), где указывается, будто эти идеи были высказаны Шагалом в 1921 году в статье, «посвященной памяти Юрия Пэна», — учитель художника был убит спустя шестнадцать лет, в ночь на 1 марта 1937 года, и никакой статьи его памяти в 1921 году быть, конечно, не могло. Кроме того, вопреки сказанному в этой книге, в данном письме Шагал совершенно не «рассказывает, каким он видит будущий Центральный музей еврейского искусства», а лишь упоминает о том, что отдельные работы Ю. М. Пэна займут в нем достойное место.
443
Латт Любовь. Скульптор Хана Орлова.
444
Это интервью М. Шагала под заголовком «Я смотрел на Палестину глазами еврея» перепечатано в книге: Шагаловский международный ежегодник, 2002. Витебск, 2003. С. 126–130.
445
Цит. фрагмент ее интервью в статье: Армон-Азулай Эли. Какие перемены планирует Сюзан Ландау в Тель-Авивском музее // Ха’арец — еженедельное приложение «Галерея». 2012. 3 ноября [на иврите].
446
Цитируются фрагменты шестой главы книги: Хаггард Вирджиния. Моя жизнь с Шагалом: Семь лет изобилия. М.: Текст, 2007.
447
Об этом периоде в творчестве художника см.: Warnod Jeanine. Les premières années a La Ruche // Kikoine. Les Pionniers de l’école de Paris. Paris: Foundation Kikoine, 1992. P. 55–72.
448
Кикоин Константин. Мишель Кикоин — живописец парижской школы // Русское еврейство в зарубежье. 2001. Т. 3 [8] [Русские евреи во Франции. Кн. 1 / Под ред. М. А. Пархомовского и Д. Ю. Гузевича]. С. 354–368.
449
Boye-Taillan Marie. David Garfinliel. P. 38; некоторые израильские рисунки художника воспроизведены там же. P. 40–41.
450
См. альбом-каталог: Chagall in Jerusalem. New York: Leon Amiel Publisher, 1983.
451
Шагал Марк. Моя жизнь. С. 145.
452
Baal-Teshuva Jacob. Marc Chagall. 1887–1985. Koln: Taschen, 1998. P. 266.
453
Герман Михаил. Парижская школа. С. 122.
454
Ofrat Gideon. One Hundred Years of Art in Israel. Р. 65–85.
455
См. прекрасно изданный каталог этой коллекции: Одесские парижане. Произведения художников-модернистов из коллекции Якова Перемена. Рамат-Ган: Музей русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных, 2006 [на рус. яз. и на иврите].
456
Хализева Мария. От сионистов до сезаннистов: Коллекция Якова Перемена на русских торгах Sotheby’s // Коммерсант. 2010. 1 апреля.
457
По информации, полученной от Авраама Шильмана, помощника Александра Фельдмана, по состоянию на конец мая 2016 года эта коллекция все еще не была продана, однако готовилась к продаже.
458
Nieszawer Nadine. Artistes juifs de l’école de Paris, 1905–1939. P. 12.
459
Монрад Каспер. Йоханнес Румп и его коллекция // Анри Матисс и выдающиеся датские собиратели. С. 35.
460
Jacobus John. Henri Matisse. New York: Abrams, 1983. P. 48–59.
461
Leymarie Jean. Fauvisme. Geneva: Editions d’Art Albert Skira, 1987; пер. на рус. яз.: Лемари Жан. Фовизм. Женева: Editions d’Art Albert Skira, 1995. С. 7.
462
Марк Шагал об искусстве и культуре. С. 107.
463
Брук Яков. Яков Каган-Шабшай и его Еврейская художественная галерея. М.: Три квадрата, 2015.
464
Нюренберг Амшей. Отель «Друо» [1928] // Нюренберг Амшей. Одесса — Париж — Иерусалим. М.; Иерусалим: Мосты культуры, 2010. С. 395.
Алек Д. Эпштейн
Забытые герои Монпарнаса. Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители
Редактор Т. Тимакова
Художник Е. Габриелев
Корректор С. Крючкова
Верстка Д. Макаровский
Адрес издательства:
123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
сайт: nlobooks.ru
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
facebook.com/nlobooks
vk.com/nlobooks
twitter.com/idnlo
Новое литературное обозрение
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
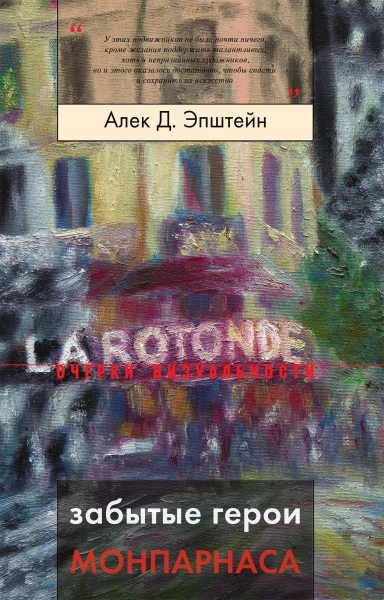



Комментарии к книге «Забытые герои Монпарнаса Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители», Алек Д. Эпштейн
Всего 0 комментариев