Дон Мигель Руис, Барбара Эмрис Тольтекское искусство жизни и смерти: история одного открытия
С искренней любовью и благодарностью посвящаю эту книгу прекрасной молодой женщине, покинувшей физическое тело в октябре 2010 г. и оставившей мне для трансплантации свое сердце. Великодушие, проявленное ею и ее родными, позволило мне побывать в разных частях света и обратиться к множеству людей с посланием любви, радости и веры в их прозрение. Ее заслуга и в том, что мне с Барбарой Эмрис удалось написать эту книгу.
Моя глубочайшая признательность – всему персоналу клиники, по сей день оказывающему мне медицинскую помощь после инфаркта и последующей пересадки сердца.
Посвящаю эту удивительную историю и моим сыновьям, невесткам – всем близким, которых я так люблю. То же самое хочу сказать и моим читателям, ведь все последние пятнадцать лет их растущая осознанность вдохновляет меня на поиск новых, увлекательных форм для моего послания. Я точно знаю, что благодаря их любви к Его мудрости мир стал лучше.
Предисловие
Эта книга – рассказ о событиях моей жизни. В отличие от моих предыдущих произведений, здесь сливаются мудрость, извлеченная из учения тольтеков, и сила воображения. Это повествование о мистическом видении, посетившем меня несколько лет назад, когда после инфаркта я девять недель пролежал в искусственной коме.
Говорят, когда человек умирает, перед его внутренним взором проносится вся его жизнь. Что-то похожее произошло со мной в то время, когда мое тело отчаянно боролось за жизнь, а ум расширялся, стремясь к бесконечности.
Можно сказать, что в те долгие недели перед моим мысленным взором предстало мое наследие. Человек оставляет после себя в наследство весь опыт своей жизни. Это сумма всех наших действий и реакций, переживаний и чувств. Вот что, покидая физическое тело, мы передаем тем, кто остается после нас. Наследие – это мы целиком, во всей полноте. Память других людей о нас определяет наше наследие – и чем мы аутентичнее, то есть подлиннее, тем ярче будет это наследие.
Моим побуждением было написать эту книгу в дар сыновьям, ученикам и всем, чья любовь помогла мне вернуться к жизни. Моим детям, семье, друзьям и возлюбленным я передаю свои воспоминания вместе с беззаветной любовью. Я делюсь опытом своей жизни с теми, кто готов учиться на моей истории. Моя непреходящая любовь к миру – дар нашей прекрасной планете. Подлинность моего прозрения – мой дар человечеству.
Наша жизнь наяву и наши видения во сне – это произведения искусства. Эта книга представляет собой рассказ в художественной форме о том, что действительно происходило между мной и моей матерью доньей Саритой, которую почитают в Сан-Диего как целительницу и которая многие годы была моим учителем и наставницей. С 28 февраля 2002 года, когда у меня случился инфаркт, она делала все, что только было в ее силах, чтобы спасти мое тело от смерти. Призвав всю силу своей веры, она собрала своих детей и учеников, чтобы провести для меня специальные ритуалы. День и ночь она без устали билась над тем, чтобы я пришел в себя и начал выздоравливать. Она твердо вознамерилась вернуть меня в тело, а тело – к жизни. Много раз она погружалась в состояние транса, или глубокой медитации, с намерением войти в мое сновидение и настоять на том, чтобы я отверг смерть.
Эти путешествия в мое сновидение и стали основой для книги. Встретив во сне мать, я отправляю ее разговаривать с главным героем моего рассказа – моими собственными знаниями. В этой фантазии знания изображены в виде таинственного создания по имени Лала. Ее можно назвать воплощением всего, во что я верю, и всего, что облекает мою историю в форму, – так же как ваши знания помогают вам создавать историю вашей жизни.
Многие удивительные действующие лица привносят энергию и жизнь в это повествование. Все они – мои отражения, и каждое из них своим, уникальным способом помогает мне исцеляться. Хотя имена некоторых из них и их отношения со мной вымышленны, за всеми персонажами стоят мои реальные друзья, ученики и родные. Кто-то уже умер, а другие живы и смеются вместе со мной, но все они сделали мой мир богаче. Я очень люблю их всех, и моя благодарность за ту роль, которую они сыграли в моей жизни и выздоровлении, безгранична.
На первый взгляд, у нас – у вас и у меня – очень разный опыт. Ваш главный герой не такой, как у меня, и второстепенные действующие лица, возможно, не похожи на персонажей моей истории. Но хотя мы вроде бы отличаемся друг от друга, вы – как и я – важная часть видения человечества. Вы, как и я, искали истину с помощью символов. Вы – это знания, которые стремятся спастись, как стремился к этому я. Вы – ваш собственный спаситель, вы – чистый потенциал в действии. Ваша истина – в Боге, и истина освободит вас.
Пусть эта книга поможет вам понять все это. Слушайте, смотрите, дерзайте менять свой мир – мир, созданный мыслями и автоматическими реакциями. Позвольте событиям моей жизни озарить новыми прозрениями ваше видение и те вызовы, которые оно бросает вам сейчас. Хороший ученик извлекает максимальную пользу из любой попадающей в его распоряжение информации, а, как показывает моя история, жизнь предоставляет нам всю необходимую информацию.
С искренней любовью и уважением,
Мигель Анхель Руис.Глоссарий
Ад – история в нашем уме, приводящая к несчастью.
Бог – вечная высшая сила; единственное, что в действительности существует.
Вера – убежденность в чем-либо на сто процентов, без всяких сомнений.
Видение – отражение разумом нашего восприятия.
Видение планеты – коллективная реальность человеческого рода.
Диос/диоса (Dios/Diosa – исп.) – бог/богиня.
Дон/донья/cеньора (Don/Doña/señora) – уважительные формы обращения в испанском языке (аналогичные обращению «господин/госпожа»).
Душа – сила жизни, связывающая воедино вселенную (материю); например, вселенную человеческого тела. Каждый компонент признает себя частью этой вселенной.
Жизнь – созидательная сила Бога, или энергия, проявляющая материю.
Зло – результат веры в ложь. Действие зла усиливается в зависимости от степени обмана и фанатизма.
Знания – соглашения между людьми относительно природы реальности. Знания передаются с помощью символов (слов, чисел, фраз, формул).
Истина – то, что реально; синоним слов «Бог» и «энергия». Истина существовала задолго до появления человечества и продолжит существовать после его исчезновения.
История – толкование видения.
Ложь – искажение истины в уме человека.
Любовь – аспект энергии, который проявляется как совокупность всех вибраций, движущая материю и записывающая информацию на материю. Материя воспринимает и отражает ее, отвечая всем диапазоном эмоций.
Магия – творческий аспект энергии.
Материя – конечное проявление бесконечной жизни.
Митоте – непрекращающийся разговор у нас в голове, напоминающий одновременную беседу тысячи человек, ни один из которых не слушает других.
Мудрость – способность правильно действовать в ответ на любое событие; здравый смысл.
Нагуаль – 1) слово языка науатль, обозначающее силу, приводящую в движение материю; 2) человек, знающий, что он является силой, приводящей в движение материю; бессмертный.
Намерение – послание энергии, которое задает направление свету, создавая материю или разрушая ее. Намерение движется в центре света, вокруг него вращаются кванты. Намерение – это сама жизнь.
Науатль – язык ацтеков.
Небеса, рай – история в нашем уме, приводящая к счастью.
Осознанность – способность видеть все таким, какое оно есть в реальности.
Свет – вестник жизни и ее первое проявление.
Сила – созидательный потенциал.
Смерть – материя; отсутствие жизни.
Смотрящий – тот, кто знает, что он всегда находится в состоянии видения.
Теотиуакан – древний мексиканский город, процветавший с 200 г. до н. э. по 500 г. н. э. Его храмы и пирамиды, найденные при раскопках, находятся приблизительно в тридцати милях к северо-востоку от Мехико.
Тольтек – слово языка науатль, означающее «художник».
Тональ – материя.
Ум, разум – виртуальная реальность, создаваемая отражением (в мозгу) всего, что воспринимает мозг.
Шаман – знахарь в культурных традициях самых разных народов.
Энергия – вечная высшая сила; единственное, что в действительности существует.
Действующие лица
Дон Мигель Руис – главное действующее лицо этого повествования
Мать Сарита – мать и учитель дона Мигеля
Лала – знания
Хосе Луис – отец дона Мигеля и муж Сариты
Дон Леонардо – дед дона Мигеля и отец Сариты
Дон Эсикио – прадед дона Мигеля и отец дона Леонардо
Гандара – друг дона Эсикио
Мемин – старший из братьев дона Мигеля
Хайме – ближайший по возрасту брат дона Мигеля
Мария – жена дона Мигеля и мать его детей
Дхара – ученица и возлюбленная дона Мигеля
Эмма – ученица и возлюбленная дона Мигеля
Мигель младший (Майк, Мигелито) – старший сын дона Мигеля
Хосе – второй сын дона Мигеля
Лео – младший сын дона Мигеля
Пролог
Я дергаю за простыни, они плотно охватывают мои лодыжки. Тянусь за телефонной трубкой, вслепую набираю номер, кто-то говорит со мной. Женщина спрашивает меня, кто я, где нахожусь. Вряд ли мне удастся вспомнить ответ на какой-либо из этих вопросов, прежде чем дар речи покинет меня на целую вечность. Я пытаюсь сесть, но, качнувшись под спутавшимися простынями, валюсь на пол. Боль милосердно покидает меня, но лишь для того, чтобы вернуться безжалостными ножевыми ударами. Я слышу, как меня зовет мать, выкрикивает мое имя. Сознание ускользает сквозь поднимающийся и исчезающий разнобой звуков, незнакомые голоса, вой сирен. Впереди доброе прощание – старое видение начинает сменяться новым, но сейчас я различаю только женские рыдания вдалеке.
Как много этих женщин! Они оплакивают сына, любовника, отца, наставника. Они плачут обо мне, о себе, о так и не данных обетах. Как все люди, плачут они об очищении слова. Их плач – о любви, падшем ангеле, всего-то им нужно – смотреть, слушать, чувствовать, с какой силой она звучит пульсирующей музыкой в их собственных дивных телах.
Сегодня я проснулся перед рассветом – меня позвала смерть. Как мои ацтекские предки, я приветствую ее с благодарностью воина, который отлично сражался и хочет благополучно добраться до дому – и хорошо отдохнуть. Над далеким горизонтом занимается заря. От этого мне становится чуть теплее. Я поднимаю глаза и вижу: мгла рассеивается, открывая звездный пожар. И я знаю, что скоро увижу дорогу домой, прочь из этой темной ночи. Мои враги, что были здесь, разбежались, их победила любовь. Они жестоко дрались в лабиринтах человеческого разума, на этом величественном поле боя. За мной придут другие в жажде поднять мечи и сокрушить несметное войско лжи, но для Мигеля Руиса война окончена.
Минутой раньше во сне мне явился другой воин, юноша из древних времен. Он стоял на одном из холмов у подножья священной горы и смотрел на свою любимую долину. Его едва освещал бледный свет звезд. Перед ним раскинулось озеро, окружавшее и защищавшее Теночтитлан[1], родину его и моего народа. В этом видении великая долина была окутана туманом. Один за другим тускло замерцали предрассветные огни – его селение просыпалось. Сердце юноши громко билось, как оно бьется сейчас у меня. Ноздри его чутко вдыхали ночной воздух; ветер, меняя направление, щекотал кожу. Осторожно опустившись на одно колено, он высоко поднял лук. Пальцы его правой руки касались перьев стрелы, благословленной дымом священного огня. Он не подведет свой народ, когда нападет враг. Не подведет свою семью, не обесчестит память древнего народа тольтеков. Не подведет он и себя самого.
Время было самое опасное – тот час, когда утро еще не успело придумать, каким ему быть, и в предрассветной тьме добро боролось со злом. Молодой воин моргнул раз, другой, и рука его обрела твердость. Я разделял его видение, – казалось, я чувствовал, как камешки перекатываются под подошвой его сандалии, впиваются в плоть колена. Я чувствовал, как туман хватает воина за лодыжки, обволакивая холодом его голые руки и бедра, лижет его затылок и раскрашенный лоб. Вместе мы взглянули на небо. Мир, простиравшийся над ним, – строй звезд на поле тайны – отражал его безупречную фигуру. Он понял это, прошептал молитву и успокоил дыхание. Тело его расслабилось. Он перевел взгляд на лежавшую внизу долину, туман над которой начал расходиться. Воды озера его предков изгибались между темными холмами, как пальцы богини, украшенные драгоценными камнями. Он упер конец лука в землю. Орлиное перо в его волосах грациозно покачивалось на поднимающемся ветру. Спину он держал прямо, живот был расслаблен. В преддверии восхода его смуглая кожа отливала сверкающей бронзой.
Сейчас его соплеменники должны быть ему благодарны. Он представил себе, как кто-то из них выглядывает из дверных проемов, чувствуя, что за туманом притаилась угроза. Он посмотрел на селение, омываемое озером, и как будто почувствовал на себе пристальный взгляд отца, наблюдавшего, как тихо, в одиночку припал на колено храбрый солдат, которому дает свою силу огненная гора. Отец гордится им, как и все предки. Многое почувствовал он в тот момент пустоты между началом и концом всего. Скоро над восточной кромкой гор вспыхнет свет, а за ним встанет с громким кличем судьба. Его ждут новые победы. За нынешней неизвестностью вынашиваются новые откровения. Ощущая дыхание предков на щеке и прохладное прикосновение их рук к спине, воин снова успокоился. Одна сандалия погрузилась в камни, взгляд устремился вдоль древка боевой стрелы. Ну что ж, он готов…
И сейчас, вырванный пронзительной болью из сна, я понимаю, что пришло время мне присоединиться к воинам древности. Как я когда-то охотился за истиной, так вечность настигла теперь меня. На востоке вдоль горного кряжа разливается рассвет, вслед за ним скачет на коне судьба. На моей щеке – дыхание предков, их прохладные руки касаются моей спины. Я с приветственной улыбкой жду встречи со смертью. Что ж, теперь готов и я.
1
Старая женщина что-то бормотала на ходу. Ей трудно было передвигать ноги по сухой, растрескавшейся земле. Тапочки царапали грунт, вздымая в колышущийся воздух шелковые облачка пыли. В одной руке она несла большую сумку, а другой придерживала накинутую на плечи шаль. Ее усталые шаги были здесь единственным звуком, медленным, тяжелым – и непоколебимым. Она все шла и шла. Никакой различимой дороги или тропы не было, но она и не нужна была ей. Она знала, куда идет, ступая по следу чего-то невидимого, но несомненно существующего для нее. Ее вел инстинкт матери, которая ищет своего сына.
Уже несколько недель ее изводил знобящий страх, какой бывает у матери, когда ее дитя может умереть. Где-то в том мире, который она только что покинула, уходил ее тринадцатый ребенок – уходил не из виду, ибо она знала, что он, безмолвный и бледный, лежит на больничной койке. Он медленно, но верно ускользал от ее чувств. Она больше не улавливала его жизненного потока. Она больше не могла разговаривать с ним без слов, как разговаривала почти пятьдесят лет. Вместе с жизненной силой слабели и его связи с миром мысли и материи. Она знала: времени остается совсем немного. У него отказывает сердце, тело его умирает, врачи почти опустили руки. Что еще оставалось ей, кроме как отправиться в это место, где нет времени и куда ушла его сущность, и попытаться разыскать его? Она найдет своего младшего, душу ее души, и приведет домой.
Кроме ее хрупкой фигурки, ничего живого не было в этой протянувшейся от горизонта до горизонта песчано-скалистой пустыне. Все здесь было бесцветно, кроме синевато-серых волнистых облаков, бесшумной толпой плывших над ее головой. Бездонные небеса через неравные промежутки времени прожигала молния, ослепляя ее… Но то была гроза из снов. Ее создали чувство и чудо – ни то ни другое не остановит ее.
Сарита продолжала свой путь. Ее дыхание эхом отдавалось в тишине. Пульс у нее участился, а грудь вздымалась, как будто она и впрямь с трудом брела по пустыне. Возможно, так и было. Никогда еще не приходилось ей предпринимать такое путешествие. Неизвестно, что ее ждет, какую цену придется заплатить ее телу. Она шла и старалась успокоиться. Страху не одолеть ее. Да, она стара. Но, хоть она и отпраздновала недавно свой девяносто второй день рождения, не пришло еще время ей покидать мир материи и смыслов. А значит, и ему еще рано. Нельзя ее сыну умирать, пока у нее есть силы бороться за него. Она остановилась, чтобы перевести дух, и позволила улыбке смыть с лица напряжение. Да, у нее есть силы. В этом странном пространстве между этим миром и тем ее любовь восторжествует. Ободренная, она поставила сумку на землю и расправила плечи, завязав концы шали на шее неплотным узлом. На ней была ночная рубашка из тонкого хлопка, легко пропускавшая безветренный холод, было зябко. Но это не важно. Дороги назад уже нет. Пусть ее чувства не узна́ют его – сердце узнает. Еще раз оглядевшись, она подняла тяжелую сумку другой рукой и решительно побрела дальше.
Это была нейлоновая хозяйственная сумка – с такой она ходила на рынок прохладными ранними утрами в Гвадалахаре, перед самым рождением ее младшего сына. Снаружи ее украшало яркое цветное изображение Девы Марии, а внутри лежало множество предметов, освященных ее молитвами и намерением. Она слегка встряхнула сумку, как бы утверждаясь в своей миссии, и вспомнила те давние дни перед появлением на свет ее тринадцатого ребенка, когда вся жизнь, казалось, подбадривала ее. Славное это было время: ей было сорок три года, она была все еще хороша собой, замужем за молодым красавцем, которому уже подарила трех сыновей. Он женился на ней, едва закончив учебу, – его не остановил ни ее возраст, ни девять детей от предыдущего брака. Он пошел наперекор своей семье. Поговаривали, что она его приворожила. Всегда ведь найдутся такие, кто никому не верит. Поженились они по любви, чистой и простой. В любви родились у них и четыре здоровых сына.
Старая женщина замедлила шаг и остановилась. Гроза все еще сверкала молниями и неистовствовала, но больше не было этой зловещей тишины. Теперь, кроме приглушенного звука собственного дыхания, она слышала что-то еще. Вдалеке вместо грома с нарастающей силой штормового ветра звучала музыка. Он где-то рядом, чувствовала она. Она постояла, прислушиваясь, и вдруг поняла – да это же знакомая песня несется от горизонта навстречу ярости неба! Вот что это за музыка! Как давно это было. Как раз такую мальчишкой пел ее сын, водя пальчиками по струнам воображаемой гитары, выпевая бессмысленные слоги и всем телом трясясь в ритм, в подражание старшим братьям. Как же он называл этот грохот, как?.. Ах, вот!
«Это рок-н-ролл, мама, музыка жизни!» – крикнул он ей тогда.
Да, даже сейчас у него в голове крутится рок-н-ролл. Именно эти звуки мчались с ударами молнии в чернеющем небе, мощным ветром развевая ее седые волосы, хотя вокруг все было спокойно. Чувства не подвели ее. Она слышала теперь, как работает его сознание, как гулко отзывается радостью его большое, вечное сердце. Он где-то близко.
Снова поставив сумку на землю, она плотнее укуталась в свою вязаную шаль. Она была одета ко сну, в то, что было на ней, когда все явились в дом для участия в ритуале. Дальним уголком сознания она слышала и этих гостей – своих детей, внуков, учеников, друзей. Они собрались по ее просьбе, ведь не было ни одного случая, чтобы кто-то из детей или внуков, учеников или помощников отказал матери Сарите. Они смиренно пришли с погремушками из бутылочных тыкв, барабанами, свечами и горящей полынью, пришли, чтобы петь, молиться, просить. Они пришли, чтобы вернуть его, тринадцатого сына женщины, от которой не отмахнешься. Они пришли, как пришли бы их предки, чтобы совершить то, что положено воинам духа.
Этой ночью, когда столь многое стояло на кону, Сарита была перенесена из круга верных, собравшихся в ее гостиной, в мир, который существовал только в воображении. Она вторглась в сознание другого человека. Да, за это придется однажды заплатить, но сейчас ей нужно идти дальше. Нужно без всяких оправданий войти в сновидение сына, чтобы вернуть его, – если понадобится, тащить за ухо, как напроказившего. Ей ведь такое с ним не впервой.
Она покачала головой, вспоминая его мальчиком: как озорно смеются его черные глаза, с какой любовью его ручки тянутся к ее лицу, когда она устала или когда ее охватила грусть. Ничто, даже сама смерть, не разлучит ее с ним. Он всегда будет ей нужен, и никакой логике – пусть даже он сам будет спорить – ее не переубедить. За свои девяносто два года Сарита познала все радости и муки тринадцатикратного материнства. Она уже пережила смерть двоих детей. Уходили мужья, сестры, братья, но в ней еще достаточно жизни, чтобы в последний раз побороться за того, кого она любит. Она снова взяла сумку, стряхнула с образа Гваделупской Девы Марии толику неосязаемой пыли и стала вглядываться в окружавший ее пейзаж. Она потянула ноздрями воздух в поисках еще какого-нибудь знака и, поколебавшись, обернулась. Что-то, пока еще невидимое, привлекло ее внимание. Нужно идти в другую сторону, следовать внутреннему чутью – и музыке.
А музыка с каждым ее шажком, так нелегко дававшимся ей, становилась все громче. Казалось, вибрации идут одновременно из земли и с неба, пульсируя под громкими ударами – может быть, под бой барабанов в ее гостиной. Она безмолвно поблагодарила Бога за послушных детей и двинулась дальше, тяжело ступая сквозь густую пелену светящейся пыли. За близким горизонтом, над кромкой этого пустующего сна поднималась сиявшая живым светом Земля. Сарита затаила дыхание. В темнеющем грозовом небе, сквозь мерцающий жар что-то вырисовывалось на ярком фоне Земли. Вдали проступали очертания дерева! Его массивные ветви поднимались и опускались будто в чувственном блаженстве, отчего зеленые листья подрагивали и блестели. Сарита изумилась: откуда в этой бескрайней скудной земле могло взяться нечто столь мощное и плодоносящее?
«Мигель…» – прошептала она. Если сон цветной и живой, в нем обязательно появится сын. Он сам говорил: где он – там всегда весело. А тут так и было. Тут было что-то волшебное. Где бы он ни оказался, там был праздник, – это она точно знала. Она пошла к дереву, музыка звучала все громче. Может быть, прошла целая жизнь, может быть, всего минута, а может, не прошло и секунды. Она лишь чувствовала, что сердце ее бьется в такт веселой мелодии. Сколько бы времени ни минуло, должно быть, она преодолела большое расстояние: перед ней могучее, необхватное, изящное дерево, уходящее ввысь и вширь. Ветви его раскинулись во все стороны, словно оно готово было крепко, по-братски обнять всю вселенную. Сарита помедлила у корней, выступавших из пыльной звездной почвы, и устремила взгляд вверх – оттуда свисала целая галактика плодов, поблескивавших в неземном свете. Глядя на них в изумлении, она вдруг увидела того, кого искала. На самой нижней ветке исполинского дерева, едва заметный среди танцующих теней и тысячи переливающихся листьев, сидел ее сын.
Мигель Руис мирно грыз яблоко, прислонившись к стволу дерева. На нем был больничный халат. Он увидел мать, лицо его просветлело, и он радостно замахал ей рукой, приглашая подойти поближе. Она медленно пошла к дереву, осторожно пробираясь через гигантский лабиринт переплетенных корней, и наконец оказалась у ветки, на которой примостился он. Вдруг ветвь резко опустилась вниз и остановилась над самой землей. Теперь они смотрели прямо в глаза друг другу.
– Сарита! – воскликнул он, отирая губы кончиком большого пальца. – Ты со мной! Как хорошо!
Не успела она и слова сказать, как он всем телом повернулся в сторону фантастического горизонта.
– Mamá[2], ты видишь то, что вижу я?
Мигель восторженно показал на Землю с ее изумительной гаммой цветов. Сарита заметила, как из-под халата на мгновение показался голый зад ее сына. Ей вдруг захотелось сию же минуту отшлепать его, пусть он и давно уже взрослый дядька. Но ему не терпелось показать ей Землю.
– Сарита, смотри!
Ей видна была планета, парившая за изогнутыми ветвями огромного дерева. Ярко и ясно светила она в полночном небе, медленно вращаясь на краю видения, в которое их занесло.
– La Tierra[3], – со вздохом произнесла она. – Наш с тобой дом. Хватит уже дурить.
– Видишь их? – нетерпеливо спросил Мигель. – Сколько огоньков движется.
Нахмурившись, мать снова стала всматриваться сквозь ветви. Не такой она помнила Землю. Планета неторопливо поворачивалась, на ней ярко горели волны света, время от времени отделяясь и исчезая в космосе. В отдельных местах огни были ярче, чем на остальной поверхности. А это что? Некоторые из них неслись вокруг всего земного шара. Поднимались и рассеивались маленькие искорки, и в то же время все новые волны света падали на Землю, как текучие сновидения.
– Да! Это видения! – воскликнул ее сын, как будто прочитал ее мысли. – Видения тех людей, что меняют человечество. Маленькие, побольше – и великие, вечные. Видения, которые начинаются и заканчиваются, живут, а потом умирают.
– Если они умирают, то куда уходят? – спросила она, озадаченная зрелищем загорающегося и гаснущего света – он был похож на подпрыгивающие звуковые волны на дисплее стереосистемы ее внука. – А где они начинаются?
– В мироздании – в него же и возвращаются! – сказал он, смеясь, и откусил от яблока. – Вон тот, яркий, видишь? – в восхищении спросил он. – Бесподобный! Похож на Джорджа, его послание люди еще помнят. Какое доброе и нежное видение… Видишь?
– Джорджа? А, да. Ученик твой. Низенький такой?
– Нет, Сарита, он из Битлов. И намного выше меня.
Точно. Она вспомнила. «Битлз». Это на звуки их музыки она шла сюда. Она только сейчас едва успела прийти в себя от этой долбежки в голове.
– Сарита, ты видишь мое видение? – прокричал Мигель. – Вон там! Смотри, как светится! И вон, глянь! Это нити от него движутся, ярче становятся… И тут, и там! А вот – золотисто-желтые, нет, цвета червонного золота, вон там. Постой!
Сарита выпустила из рук сумку и схватила его за плечо. Мигель развернулся и посмотрел на нее. Лицо его продолжало светиться радостью.
– Да, твое послание живет, все больше людей привлекает, – сказала она. – Вон оно. Мы видим его.
– Потрясающе, правда?
Мигель наконец прекратил грызть яблоко и бросил его в сторону. Едва оторвавшись от его руки, оно немедленно исчезло. Он хотел было внимательнее понаблюдать за образом видений человечества, но слова матери, произнесенные строгим, мрачным тоном, смутили его.
– Чтобы это видение жило и дальше, нам нужен Мигель. Сейчас ты вернешься ко мне. Тебе еще рано умирать. – Мигель припомнить не мог, когда в последний раз его мать говорила с таким напором.
– Я уже умер, – улыбаясь, ответил ее тринадцатый ребенок.
– Ты не умер. Тебя лечат врачи. Мы молимся за тебя. Предки изо всех сил стараются ради тебя.
Мигель скорчил гримасу, изображая отчаяние, но в глазах его оставался все тот же блеск.
– Madre[4], только не нужно предков, ладно?
– Твое сердце исцелено, m’ijo[5]. Тебе нужно только собраться с духом и вернуться к нам. Возвращайся!
– Сарита, это сердце уже никому не вылечить. У меня отказали легкие, а телу моему там без меня постепенно приходит конец. – Он с любовью посмотрел на нее. – Я ведь сам врач, не забывай.
– Но ты еще и трус! Возвращайся, тебе нужно закончить то, что ты начал!
– Ты же знаешь: все, что мог, я уже отдал.
– Ты в этом уверен?
– Ой, дай-ка я расскажу тебе, что мне приснилось перед тем, как я попал сюда.
– Мигель!
– Я был одним из воинов, которые охраняли Теночтитлан и священное озеро. Я был тем воином – ну, конечно, не был, но в каком-то смысле я остаюсь им. Я понимал, чего требует тот страшный миг, и полностью отдался судьбе, а потом вдруг все превратилось в звездный свет и космос.
– Хватит, Мигель! Твой мир – это не только звездный свет и космос. У тебя есть дом и те, кто тебя любит. Вдобавок у тебя есть я. Ты мой сын, и ты должен вернуться ко мне.
– Все – звездный свет и космос: и этот мир, и тот, эта мать и этот сын.
– Ты не звездный свет и космос, ты…
– Как раз это я и есть! Смотри-ка!
И он вдруг исчез среди мерцающих светил, плясавших у нее перед глазами. Остались только звезды и пространство между ними.
– Вернись! – крикнула она.
– Никак, – смеясь, ответил он, и она снова увидела его на дереве, которое как будто появлялось и исчезало.
Теперь он оседлал другую ветвь, болтал голыми ногами и махал ей рукой.
– Mamá, оставайся со мной.
Страх матери взорвался яростью, и в то же мгновение Мигель увидел перед собой совсем другого человека. Вместо немощной старушки, которая пришла к нему, закутавшись в шаль и дрожа от холода, в полуденных солнечных лучах вечного настоящего стояла молодая красивая женщина – на ней не было ничего, кроме шали, ниспадавшей с прекрасных грудей и плеч. Она грозно смотрела на него, волосы ее развевались на ветру, поднявшемся от ее гнева. Ее омывал неистовый свет, лизавший ей волосы и кожу, как пламя из пасти дракона.
– Ты мой! – гневалась она. – Как смеешь ты уходить? Как ты посмел?
– Я не ушел от тебя, любовь моя, – ласково ответил он, с огромным интересом глядя на нее. – Но сон Мигеля подошел к концу. Игра окончена.
– Ничего не окончено! Ничего не кончилось! – воскликнула она. – Ты можешь сделать гораздо больше, чем сделал, – и сделаешь! – Она снова обратила гневный взгляд в сторону планеты и показала на сверкающие огни. – Ты будешь спокойно смотреть, как гаснет твое видение – вон там, прямо у тебя на глазах?
Мигелю был знаком этот голос. Он ответил с улыбкой:
– Это бесполезно, любовь моя. Мой путь бесконечен, но моему бедному телу и одной мили больше не осилить.
– Тело тебя послушается. Так ведь всегда бывало! Возвращайся отсюда ко мне… к нам!
Издалека доносилось пение его родных – братьев и сыновей, их жен и детей. Они стояли там в кругу и звали его обратно, в физический мир. Он знал: они ведь и правда хотят помочь ему, они исполняют волю его матери.
– Не могу, – только и сказал он.
– Ты же мой! – закричала она.
– Я никогда не был твоим.
Мигель смотрел в глаза своей возлюбленной и видел ее красоту, ее горечь, ее достоинство. Он слышал мольбы матери, но доходил до него лишь отчаянный вопль этой женщины, которую разными именами называли на протяжении человеческой истории. Она олицетворяла все человечество, живое чудо, пойманное в ловушку собственного заклинания. Это она забыла о том, что такое рай. Это от нее померк чистейший свет. Глядя на нее, он вспоминал несчетное число тех, что говорили о своей любви к нему и ополчались при этом на самих себя.
Он протянул к ней руку, голос его смягчился.
– Твое искушение велико – оно сильнее нужды во мне.
Когда он прикоснулся к ее обнаженному плечу, огонь в ее глазах унялся и он снова увидел свою мать, опять постаревшую, дрожащую от холода, которого она не чувствовала. Она всматривалась в него смягчившимся, молящим взглядом.
– Сарита, не терзай себя, – успокаивал он ее. – Я стал теперь всем.
– А как же я? – спросила она совсем как ребенок, трясясь в своей ночной рубашке и глядя на него широко открытыми испуганными глазами. – Не покидай меня, – просила она. – На что мне мир, в котором не будет тебя?
– Мигель не может вернуться, он умер.
– Древние иногда оживляли мертвых! – Глаза ее вспыхнули, и она смущенно опустила взгляд. – Я попрошу их, m’ijo, я дам им знак, – тихо сказала она.
– Они не вернули бы твоего сына Мигеля, даже если бы он согласился. Зачем усталому видению цепляться за жизнь в умирающем теле?
– Значит… это возможно! – воскликнула его мать.
Глаза у нее снова загорелись, и он почувствовал, какое сильное искушение их зажгло.
– Сарита, не проси об этом.
– Я верну тебя. Или же…
– Или что – умрешь? Давай, умри сейчас! Вместе отправимся домой!
– Я не готова вот так явно сдаться!
– Madre, ты меня не слушаешь.
– Тогда вернись, чтоб я услышала! – выкрикнула она. – Возвращайся и научи меня тому, что мне самой не усвоить.
Мигель вздохнул. Она пыталась словами подчинить его своей воле – так было всегда. Переспорить ее было делом весьма нелегким. Сарита была его наставницей, терпеливым мастером, и сейчас ему трудно было отвечать не как ученик учителю. Он тяжело оперся на ствол дерева и сосредоточился на огромной сверкающий сфере, которая плыла над горизонтом, одни видения принимая, а другие отбрасывая.
– Твое видение уже гаснет, – продолжала наседать на него Сарита, следя за его взглядом. – Это такое несчастье. У твоих сыновей не хватит без тебя сил, а твои ученики слабы и слишком любят себя.
– Это не важно, Сарита. Они теперь счастливее, чем раньше. И мир стал счастливее. – Он повернулся к ней с довольным видом.
– Кто дал тебе жизнь? – резко спросила она. – Кто тебя воспитывал, обучал, кто готовил тебя к тому, чтобы ты покорил саму мать-землю?
– Tú[6], mamá, – тихо ответил он.
Он знал, что последует дальше. Ему будет трудно сказать ей «нет», как было трудно сказать «нет» всем таким же, как она. На это она и рассчитывала.
– Послушай свою мать. Времени остается мало, а без тебя я не вернусь.
– А я прошу тебя остаться со мной, Сарита. Там тебя ничего больше не ждет, кроме физического страдания. Я избавлю тебя от него.
– Не изображай меня жертвой.
Мигель в раздумье смотрел на нее. Она не была жертвой. Эта женщина ненавидела убийцу-возраст и по своей воле ни за что бы не встретила свой конец в одиночку. Они работали вместе уже пятьдесят лет, как двое детей, которые придумывают игры, – их игры меняли видения людей. Если он уйдет, в мире не останется никого подобного ей… Но понимает ли она, чего будет стоить его телу это возвращение? Представляет ли она, как больно ему будет? Что-то шевельнулось в нем, и он почувствовал, как сила его любви начинает изменять видение. Он взглянул в глаза матери и заговорил с ней, тщательно подбирая слова:
– Madre, если это тело останется жить, я должен буду присутствовать в нем, но ему понадобится и что-то из моего старого состава.
– Разве не я учила тебя тому, что такое человеческая форма?
– Но формы больше нет, не осталось никакой системы убеждений.
– Это можно восстановить.
– Кем был Мигель, Сарита? Как можно его вернуть, когда нет ответа на этот вопрос? Путь могут показать только воспоминания, а они лгут, и с каждым рассказом ложь видоизменяется. Они могут дать направление, но не истину.
– Они дадут мне тебя!
Мигель смотрел на мать. Она была визуальным образом, составленным из меняющихся настроений и знакомых фраз, но казалась реальной, теплой и такой очаровательно непритязательной в своей ночнушке и тапочках, что ему вдруг захотелось поговорить с ней о чем-нибудь простом, повседневном. Ему хотелось подразнить ее, как когда-то, рассмешить. Вот бы она позвала его завтракать, поведала мимоходом о незнакомых ему людях. Хотелось почувствовать кончики ее пальцев у себя на лбу, над сердцем – так она обычно благословляла его по утрам. Но сейчас ведь у них не обычная встреча. Она нашла его где-то между жизнью и смертью. Нашла, потому что жизнь проложила ей путь… А сейчас, вместо того чтобы поддаться этому хрупкому видению, она пытается им управлять.
Чем он утешит ее, когда она потеряет сына? Как ему унять ее страхи? Однажды ему это удалось. Она бьется с ним и сдаваться, похоже, не собирается. Она приготовилась бороться – да, вот эта старушка в хлопковой рубашке и тапках, едва стоящая на ногах. Несмотря на свою хрупкость, она останется воином до тех пор, пока не станет очевидно, что воевать больше не нужно. Непонятно, чего она надеется добиться, но одно ясно: она скорее умрет, чем оставит свои попытки.
Мигель улыбнулся ей.
– Я вижу, ты с сумкой пришла. Хотела меня в ней унести?
– А что, могла бы!
– В ней, кажется, уже нет места.
– Вот! – воскликнула она севшим от всех этих разговоров голосом.
Он заметил, что она снова воодушевилась, и решил: «Пусть говорит».
– Вот, принесла орудия нашего ремесла! Мы могли бы вместе провести ритуал – как раньше. Приготовься, m’ijo. Очистись и призови нам на помощь силы жизни.
Мигель не стал ничего делать. Уперев одну руку в колено, он терпеливо смотрел, как мать, склонившись над сумкой, перебирает свои сокровища. В его глазах поблескивал странный огонек. Он сам когда-то был шаманом и знал, что сейчас будет. Время трюков прошло, но как он ей это скажет? Для Мигеля, главного героя его истории, видение кончилось, но она ведь не будет его слушать. Она будет упорствовать в том, чтобы ей вернули сына, пусть даже в виде слабейшего его подобия, живущего в самой призрачной форме.
Сарита торжественно, с вновь обретенным вдохновением начала доставать из сумки разные предметы. Возможно ли, что она со своим товарищем по былым играм придумает еще одну игру? Может ли фортуна еще раз оказаться на ее стороне? Чувствуя близость предков, она улыбалась. Вытащив из тяжелой сумки маленький барабан, она поставила его на землю, а сверху осторожно положила палочку, завернутую в ритуальную красную ленту. Из крошечного мешочка она вытряхнула коллекцию ацтекских черепков, аккуратно расположила их в линию на коже барабана и добавила к этой композиции великолепное орлиное перо. Затем положила у основания барабана три погремушки из бутылочных тыкв и кадильницу с древесным углем и ладаном. Довольная проделанной подготовительной работой, она стала вынимать из сумки и расставлять на ветке дерева одного за другим своих любимых кумиров.
– Ну вот! Начнем, понятно, с Сына Девы Марии!
Она поставила на широкую ветку фигурку Иисуса, позаботившись, чтобы она не упала. Изящно вылепленная из глины статуэтка изображала Господа с ягненком на руках. Затем Сарита извлекла Деву Марию, руки которой были раскрыты, как при вознесении.
– Вот так. Мать и Сын вместе, – удовлетворенно сказала Сарита и пробормотала молитву.
Мигель молча наблюдал. Она закончила молиться и заколебалась, видимо не зная, что делать дальше. Поджав губы, она снова склонилась над сумкой. Шумно порывшись в ней несколько секунд, она выпрямилась, держа в обеих руках грузную латунную статуэтку Будды. Она подняла взгляд на сына, как будто ожидая, что он будет возражать.
– А почему бы и нет? – сказала она. – Разве он такой гордый, что не может прийти на помощь другому учителю?
– Он не гордый, хотя у него есть на это все основания, – спокойно сказал Мигель, кивая в сторону мерцавших вверху огней. – Его послание до сих пор влияет на видение человечества.
– Истинная правда!
Старушка водрузила изваяние на дерево, втиснув его между двумя расходящимися ветвями. Закрыв глаза, она прошептала еще одну молитву – по-видимому, самому верховному бодхисатве. Еще раз удовлетворенно вздохнув, она опять полезла в сумку. На этот раз она нашла статуэтку поизящнее, завернутую в шелковую ткань. Это была китайская богиня, искусно высеченная из светлого нефрита. Немного подумав, она поставила ее рядом с Богородицей.
– Мать слышит мольбы своих детей. Она ответит на них. – Оглядев двух женщин, грациозно стоявших под огнями мира живых, Сарита улыбнулась. – Мать ведь всегда отвечает.
Следующей оказалась еще одна латунная фигурка – скрупулезно исполненный образ богини-воительницы Кали. Мигель представил себе, сколько соседских домов прочесала его мать, чтобы наполнить свою сумку этими предметами поклонения. Вряд ли она знала имена этих богинь, не говоря уже о том, что они из себя представляют.
– Как она тебе? – спросила Сарита. – Вид у нее боевой, только пусть не думает, что мы за смертью пришли.
– Ты же видишь, можно сражаться и ради чего-то более серьезного, чем смерть.
Сарита смотрела на сына, как бы ища у него понимания. Но когда он встретился с ней глазами, вместо поддержки она почувствовала замешательство. Быстро отведя взгляд, она приподняла нейлоновую сумку и потрясла ее. На дне что-то еще оставалось. Выудив последний предмет, она пожала плечами и вздохнула. Это был пластмассовый морячок Попай[7] из детства ее сына, с торчавшей изо рта трубкой и надутыми бицепсами. Она нашла его в ящике комода.
– Вот теперь можно поговорить! – засмеявшись, воскликнул Мигель. – Я это я, и точка![8]
Она довольно улыбнулась. Бог знает, что он нашел в этой глупой игрушке, но она не ошиблась – он обрадовался. Освободив морщинистые руки, она беспокойно одернула свою хлопковую ночнушку. Что еще? Нащупав карман, она вынула из него ожерелье: звезду Давида на серебряной цепочке. Ее она повесила на густо покрытую листьями ветку и крутанула. Затем сняла с шеи золотое распятие и накинула его на ту же ветку. Два талисмана вертелись, блестя в призрачном свете и отбрасывая огненные искорки на верхние ветки.
– Старые боги, новые боги… Какая разница? – прошептала она.
– А зачем вообще возиться с богами? – спросил ее сын. – Зачем призывать святых и предков? Зачем они здесь, когда встретились мать и сын?
– Потому что нам нужна помощь.
– Тебе нужна вера, но не в них.
– А… в кого же?
– Диву даюсь – ты ли меня об этом спрашиваешь?
– Я очень верю в тебя, мой ягненочек.
– Не в меня нужно верить. Верь в себя. Ведь именно эта вера привела тебя сюда, ко мне. Вера – это сама жизнь, она пронизывает всю материю и движет нами с тобой.
– Но ты совсем не двигаешься.
– Как это? Разве меня не передвинули?
Он покачал головой, во взгляде его была покорность судьбе. Что еще он мог сказать ей?
– M’ijo, я или верну тебя, или умру, но попыток не оставлю, – спокойно и отчетливо произнесла она.
«Так ведь и будет», – подумал он. Но сейчас она жива. Жизнь продолжает биться сквозь нее, заряжая ее старое тело не вызывающей сомнений волей. Если она собирается оживить его, ей понадобится эта воля, чтобы стать еще сильнее, ведь он стал ей эмоционально недоступен. Ей нужна будет непоколебимая вера, которая может произрасти только из осознанности – а она пока ей не дается. Да, даже мать Сариту, мудрую женщину, целительницу, еще ждут откровения, и впереди у нее путь, который так долго откладывался на потом.
– Сарита, сегодня ты не умрешь, – наконец заявил он. – Как, видимо, и я.
Он должен воспользоваться этой возможностью послужить своей матери. Она всегда была готова бороться за него. Всегда защищала его право быть тем, кто он есть, и добиваться того, чего хочет. Сейчас она защищает его право жить. Он видел, что лицо матери снова просветлело, – за прошедшие годы это лицо тысячи раз озарялось любовью и гордостью за него, и его воображение загорелось. Пусть у Сариты будет миссия, раз она ей нужна; он даст воину сразиться в последний раз. Пока это в его силах, он поможет ей отправиться в путь, который сам по себе куда важнее, чем намеченный пункт назначения.
– Значит, ты готова на все? – спросил Мигель.
– Да!
– Даже если нужно будет следовать указаниям?
Сердце Сариты забилось чаще.
– Мой ангел, в этом особенном мире ты учитель, – сказала она. – Я с радостью послушаюсь твоих указаний.
«Что ж, а теперь кто над кем измывается?» – с иронией подумал он. Даже умирающему неплохо посмеяться. А он ведь точно умирает… процесс начался. Он понимал, что Сарита пришла к нему как страстная сила жизни; и в видении, сотканном из памяти и слабеющих желаний, только жизнь могла остановить этот процесс.
– Madre, указания буду давать не я, – сказал он, сияя улыбкой, полной любви. – В моем особенном мире результат не имеет значения. В мире других результат – это все. – Он посмотрел куда-то далеко мимо нее.
– Что ты… – начала было она. – Тут есть кто-то еще?
Сарита устремила взгляд в ту же сторону – в направлении горизонта.
– Что это? – спросила она. – Еще одно дерево?
Вдали от мерцающего места, где они находились, на другом холме, окруженном таким же ландшафтом, вырисовывались неясные очертания громадного дерева. До этого мгновения она его не замечала. Оно было точь-в-точь такое же, как это дерево, чьи благородные ветви приютили ее сына. Это…
– Копия, – сообщил ей он.
– А кто на нем сидит? Копия моего сына?
– Самозванец другого рода. Тот, кто живет на том дереве, владеет наукой иллюзии. Поговори с ним, мама.
Сарита смотрела на дерево, стоявшее вдали, за скорбной пустыней. Хотя его окутывал полумрак, оно, как и это дерево, лучезарно светилось разными цветами. Но все на нем было неподвижно. Листья не трепетали, не было никаких отблесков. Тени не играли со вспыхивающими и гаснущими лучами света. Похоже, что среди его ветвей не притаилось ничего живого. Она была загипнотизирована. Ей потребовалось сделать над собой усилие, чтобы оторвать взгляд и снова увидеть сына, сидевшего на своем древе жизни на фоне ярких цветов Земли.
– Мне не нужны новые иллюзии. Мне нужен Мигель.
– Сарита, там начинается твой путь, – объяснил Мигель, еще раз взглянув на далекое дерево. Все воспринимаемое – это отражение, иллюзия. Теперь у нее будет возможность осознавать это и только потом делать выбор. – Если ты хочешь узнать, как вернуть сына, там тебя ждут первые указания. И, как всегда, не верь ничему, что услышишь, но слушай.
Он сорвал с верхней ветки еще одно яблоко и вытер его о край больничного халата. Потом хорошенько откусил и начал жевать. Сладкий сок потек по его подбородку. Он поднял глаза к черному небу и восхищенно улыбнулся прекрасному зрелищу планеты, сияющей видениями. У него нет сомнений: мать покажет себя мастером. С каждым новым вызовом ее осознанность будет возрастать. Как всегда, она воспользуется своей мудростью и будет обращаться за советом к предкам. Она встретится с тем, кто правит миром отражений – миром, который он оставил далеко позади, и, по крайней мере ненадолго, она забудет боль, причиняемую невыносимым материнским страхом. Он весело подмигнул ей и приготовился следовать за жизнью, куда бы она ни вела.
Сарита улыбнулась ему в ответ. Теперь она чувствовала уверенность – сила ее намерения подталкивала время и обстоятельства. Во что бы то ни стало она должна оставаться в видении сына. Здесь она может уговорить его. Здесь он почувствует силу ее воли. По ее мнению, она сумела направить все в нужную колею, и он пока уступает. Он указывает путь к решению, каким бы сомнительным тот ни казался ей, а это уже кое-что. Конечно, она выполнит его каприз. Попробует делать все так, как хочет он, – пока ей не удастся все переиначить и подчинить себе.
Взгляд Сариты устремился к горизонту. Только она сама может встретить то, что ждет впереди, сколько бы часов ни исполняла ее семья ритуал с музыкой и молитвой. Не произнеся больше ни слова, она отвернулась от Мигеля, подхватила пустую сумку и снова пошла, на этот раз в сторону того, что пряталось в тени далекого огромного дерева – что бы это ни было.
Было безветренно. Ни звука не было слышно в этом замершем краю, над которым нависло готовое разразиться грозою небо. Странно, думала она, куда делся этот до сих пор не умолкавший ролл-н-рок, который, кажется, без перерыва играет в голове у ее сына? Ролл-н-рок? Или рок-н-ролл? Не важно, но он больше не звучит. Сейчас она осталась одна. Она легко взмахнула своей нейлоновой сумкой, как бы бросая вызов сомнению. Скоро эта странная затея закончится. Скоро Сарита вновь обретет сына – живым – и заключит его в свои объятия.
2
Мать отправилась в путь, и можно снова отдыхать, любоваться бесконечным светом, слушать музыку. Даже сейчас, даже сквозь туман этого сна я слышу песни моей юности. Их ритм завладевает всем моим вниманием. Их слова – это послания, которые рассказывают сразу и о боли, и о том, как ее превозмочь. Я слышу, как сквозь мелодию и слова всегда – пусть неявно – просвечивает истина. Музыка и пульсирующая в ней жизнь – это моя стихия.
Пройден долгий жизненный путь – он начался гораздо раньше, чем я научился понимать музыку, еще до того, как слух соединил меня с физическим миром, прежде, чем я осознал, как трудно быть человеком. Он начался раньше, чем я познакомился с материей. Возможно, мои самые ранние воспоминания связаны с рождением моего тела, первыми попытками дышать, криками корчившейся в муках матери. Там началась полная событий дорога из младенчества в зрелость, от ученичества к мастерству. Я проделал путь от чистого потенциала через захватывающие приключения физического существования до конца, который ждет усталого путника. Когда-то были нескончаемые ночи любви, а теперь вот – эта тихая ночь, с шепотом смерти внутри меня и вокруг. Это была хорошая жизнь: я дарил и получал любовь без всяких условий и оправданий.
Любовь не требует оправданий, ведь мы и есть любовь. Люди редко позволяют себе испытать ее силу. Слово «любовь» знакомо им лишь как падший символ, который изначально призван был означать жизнь, но потом был исковеркан бесчисленными смысловыми искажениями. Стоило извратить одно это слово, как пошла неразбериха со всеми символами. Символы превращаются в убеждения, а те, в свою очередь, становятся узколобыми тиранами, которые упиваются человеческими страданиями. Все это началось с обесценивания первого слова – «любовь».
Да, в моей жизни было много любви. Всегда находились женщины, жадные до прикосновений, жаждавшие любить и быть любимыми. Всегда были женщины, которые искали правду о себе в моих глазах. И я любил всех этих женщин, встретившихся на моем пути. У них были разные лица, разные имена, но для меня существовала лишь одна – падшая женщина, пойманная в паутину искажений и ищущая путь обратно, к истине. Даже сейчас она пытается нащупать обратный путь к небесам, продолжая тем временем верить в ложь, которая удерживает ее в аду.
Конечно, она – это все мы. Она – знания. И сейчас я могу сказать без всякого стыда, что когда-то она была Мигелем. Со знаниями у меня с самого начала все обстояло хорошо. Начиная с первого вдоха мне не терпелось узнать, что значат звуки, символы, потом – строки, набросанные на бумаге. Как всякий здоровый младенец, я видел и слышал все. Я чувствовал так, как окружающие меня взрослые давно разучились чувствовать. Чувственный опыт омывал меня днем и ночью, но, разумеется, кто-то должен был засвидетельствовать чудеса ощущений. Наблюдая мир взрослых, я понял, что чувственному опыту нужен рассказчик.
Первое произнесенное мною слово так взволновало меня, а безмерная радость по этому поводу моих родителей и наших друзей так меня потрясла, что я попался. Как быстро и истово поверил я в слова! Как проворно я их проговаривал, создавая карикатуру на маленького мальчика! Поразительно и то, как слова превратились в бесконечное подтверждение опыта, то есть в мысль. Очень скоро я стал точно таким же рассказчиком, как те, что составляли мою детскую вселенную. Я охотно впитывал в себя различные допущения и мнения, и наградой за мои усилия стало возникновение отдельной личности, существование которой невозможно оспорить. Я хорошо знал, кто я такой. Все мои знакомые тоже хорошо знали, кто я, – по крайней мере, так я думал.
Я любил слова и те миры, которые слова создавали для меня. Мне нравилась их сила, с помощью которой можно убеждать других, менять точки зрения. Слова помогали ухаживать за девушками и побеждать в спорах с юношами, такими же жадными до знаний, как я, – и это было здорово. Когда я учился, слова давали мне преимущество перед товарищами и учителями, а потом и профессорами. Учился я всегда хорошо. Быстро запоминал и быстро вспоминал, что нужно. Правда, это продолжалось лишь до тех пор, пока я не пошел учиться на врача. Там-то, похоже, я это преимущество утратил. Я очень старался, зубрил, но зачеты сдавал с трудом. Оценки я получал плохие, впал в уныние, моя уверенность в себе стремительно испарялась. Мне очень хотелось пойти по стопам моих братьев, но после первого семестра в мединституте стало ясно, что сделать карьеру врача мне вряд ли удастся. Наконец все стало настолько плохо, что со мной решил поговорить с глазу на глаз преподаватель физики. Он не мог понять, почему моя успеваемость совсем не отражает ту сообразительность и тот энтузиазм, которые я демонстрировал на занятиях. У меня не было удовлетворительного ответа на этот вопрос. Я сказал ему, что очень стараюсь, столько усилий трачу на то, чтобы заучить материал.
– А ты не заучивай, – перебил меня он. – Дай волю воображению.
Кажется, никогда раньше не слышал я, чтобы слова использовали подобным образом – предлагая, а не убеждая. Этот преподаватель предлагал мне забыть о форме и попробовать отнестись к моей жизни как к видению. Он давал мне разрешение прожить истину, вместо того чтобы просто наблюдать факты. После того разговора мои оценки круто пошли в гору, но, что важнее, изменился мир, который я знал. Это был мой первый шаг на долгом пути прочь от голых знаний, от повелительного голоса, звучавшего у меня в голове. Шаг был, конечно, маленький, ведь я был сильно привязан к законам знаний, они в том возрасте значили для меня все. Я верил в то, что они способны вылечить любую болезнь и решить любую проблему. Они определяли меня. Я был знаниями – со всей экспрессией и неутомимым напором юности. Без этого «я», порожденного словами и идеями, я не смог бы существовать, – во всяком случае, так мне казалось.
Я смотрю, как моя мать идет к горизонту, к своей цели, и мне спокойно. Я вижу вдали это дерево из своего нынешнего пристанища в ветвях древа жизни и чувствую только любовь. Это дерево, зеркально отражающее мое древо, – только символ знаний, и ничего больше, а символы не властны надо мной. Не властны сейчас, но было в моей жизни время, когда я готов был отдать что угодно, лишь бы вырваться из хватки знаний. Я мог бы сказать «избавиться от влияния их силы», но в знаниях – ложная сила, которая рождается в те опьяняющие мгновения раннего детства, когда язык кажется единственной дорогой в рай. Видимо, есть лишь один путь вперед от этого первого соблазна. Это, конечно, простая человеческая судьба. Из беспредельного света нас забрасывает в физический мир, и из этой полной растерянности тьмы мы должны отыскать путь обратно. Ничто не заставляет нас гореть на той же частоте, что и свет, который привел нас сюда, – но разве это так уж невозможно? Рассеять светом мрак, сотворенный словами, – это осознанный выбор, путь искателя.
Мой преподаватель физики в мединституте предложил мне посмотреть на мир как на видение в учебных целях, но вскоре я обнаружил, что мы погружены в видение постоянно. Сначала мы что-либо представляем себе, а затем становимся этим. Художники видения, чем бы оно ни было, – это художники жизни. Видеть видение – значит создавать реальность любыми доступными средствами. У собаки собачье видение. Дерево видит себя по-своему. Оно знает свое тело – каждый листок и частицу, которые делают его вселенной. Оно знает омолаживающую силу солнечного света, дождя, питающей почвы. Оно понимает, что связано с жизнью в целом, и, как и тело человека, меняется, когда меняется свет. Но человеческое видение приспосабливается к изменяющимся знаниям. Когда мозг человека превращает свет в язык, он учится видеть посредством слов. Мы даже не понимаем, как мы одарены. Наши слова описывают нашу реальность. Мы всегда в видении, мы постоянно заново определяем реальность. Когда мы спим, слова становятся лишь слабым эхом видения наяву, но это видение все-таки продолжается. Как и у всех существ, наше видение длится беспрерывно. В нем мы создаем идею того, кем являемся по отношению ко всему остальному миру. Когда с нами соглашаются другие умы, мы осмеливаемся назвать наше видение истиной. В зависимости от того, как мы используем знания, мы можем быть жертвами или ответственными мастерами своего личного видения.
Так много лет тому назад я попал в плен к знаниям, но пришло время сбросить с себя их оковы. Родные тогда не могли меня поддержать, не было у меня и сообщества тех, кто мог бы меня научить, как это сделать. Я был один, и утешить меня могла только древняя мудрость. Так же одинока сейчас и Сарита. Всерьез ее поиски и путь ко мне начнутся в мире, который олицетворяет вон то дерево. Собрать фрагменты старого видения, созданного старыми знаниями, может каждый. Но для того, чтобы подобрать драгоценное сырье для нового, вдохновляющего видения, нужен мастер. И это вызов, который ей брошен. Может быть, она потерпит неудачу, а может, одержит победу. В любом случае Мигель не вернется. Он сейчас дома, в объятиях вечности.
Прожив жизнь, он постиг истину о себе. Дюйм за дюймом он освобождался от соблазнов знаний. Унция за унцией он делал свое сердце невесомым, очищая его от полчищ лжи. Частоты, которыми он жил, менялись, возрастали, и наконец настало время, когда материя не может более удерживать его. Оживляй тело, если ты этого хочешь, мать. Собирай воспоминания, скрепи их верой, а остальное пусть сделает медицина. С широко открытыми от волнения глазами ты, как будто впервые, столкнешься со знаниями. Учись на своем пути. Будь в этих поисках моим сердцем, и пусть с каждым шагом ты будешь все ближе к свету. Делай, что должно. Пробуй, что хочешь… Но Мигель не вернется.
* * *
Мать Сарита стояла у подножия второго дерева, сердце ее колотилось, вырываясь из груди, она задыхалась. Вроде бы дерево стояло не так далеко, но путь к нему показался ей бесконечным. Она обернулась – на фоне неба виднелись очертания дерева, на котором сидел Мигель. Оно было окутано светом. Но то дерево, перед которым стояла она, было погружено во тьму. Как мудрая женщина, она понимала, что это значит: здесь нет зла, здесь просто отсутствует что-то. Даже не отсутствует, здесь чего-то не хватает. Здесь все пронизывает свет, он есть во всем, но в этом месте он не совсем желателен. То неземное сияние, что заливает окружающий ландшафт, здесь встречает какое-то сопротивление. Что сказал ей сын? Нужно довериться какому-то самозванцу. Ей не очень нравилось слово «самозванец». Но ведь нужно добиться своей цели, и она примет любую помощь, в любой форме.
Она глубоко, с болью вдохнула, и сердце стало стучать не так быстро. Хоть она и вытащила все из своей сумки, ей все равно было тяжело. Странно, что в этом мираже так тяжело физически. И ведь там, дома, в гостиной, сердце ее колотится точно так же, она это знает. Может быть, сыновья волнуются за нее и этот транс напугал ее внуков, но она не может остановиться. Она должна идти дальше. Она снова сделала глубокий вдох и постаралась расслабить мышцы лица в надежде, что его умиротворенное выражение успокоит ее родных, смотревших на нее дома и не понимавших, что происходит.
Так и не разглядев в ветвях этого дерева ничего, кроме теней и обманок, она присела на огромный корень, пробившийся в одном месте на поверхность и выгнувшийся, как кошка, ждущая, что ее погладят. И тут что-то шевельнулось в глубине ветвей. Она спокойно достала из кармана носовой платок и аккуратно, не торопясь, промокнула лицо. Потом громко вздохнула и стала ждать.
– Добро пожаловать.
Голос был угодливый, мягкий, но ей от него стало не по себе. Он звучал одновременно любезно и осторожно, приветствовал и в то же время проникал в самые ее мысли. Несмотря на приятный тон, в нем слышалась непреклонность. Одно слово, произнесенное им, распахивало целые миры. Этот голос был очень похож на голос ее сына.
– Мигель? – нерешительно спросила она дрожащим голосом.
Он что, находится в двух местах одновременно? Во что это он играет, что это за видение из отражений? Она забеспокоилась: предкам это может не понравиться, а их помощь понадобится ей во время этого путешествия. Она не двигалась, не зная, куда смотреть: голос, казалось, доносился сразу со всех сторон.
– Ты удобно устроилась, – заявил голос.
– Как раз куда как неудобно, хуже некуда, – сказала старушка, складывая свой мокрый платочек. – Неудобней вряд ли бывает, но это не важно, я отсюда скоро уйду.
Краем глаза она заметила, как что-то плавно скользнуло из-за ствола дерева футах в шести от того места, где она сидела.
– Вот как? – заинтересованно произнес голос. – И куда же ты направляешься?
– Мне сказали, что вы лучше знаете, куда я иду.
Сарита встревожилась: не теряет ли она власть над своим трансом? Она своей волей попала в лихорадочные сны сына, это ее последняя надежда, но сейчас она поняла, насколько это опасно. Но чем бы это ей ни грозило, она знала, что сможет добраться до него, что он отзовется. Она многое знала, но что перед ней сейчас – было выше ее разумения.
– Это правда, что вы знаете?.. Ну, что вам известно… – Она споткнулась, не зная, что еще сказать.
– Я знаю все, – приветливо ответил голос. – Да, я все знаю.
Сариту охватило чувство, что это уже другое видение – не ее сына и не ее собственное. Это какой-то старый-престарый сон, давно вытесненный из человеческой памяти. Он похож на древнее видение, то, в котором к тебе с тихим шепотом подползает змей. В небе она по-прежнему видела знакомую, ярко освещенную планету, чье огненное сердце вдыхает и выдыхает видения, похожие на дымку… Но здесь жизнь почти замерла. Рядом с ней неясно вырисовывалось дерево, но оно, кажется, не дышало. Это было какое-то сумеречное видение.
Она запихнула сложенный кружевной платочек в карман, полная решимости сделать это видение своим и управлять им. Она должна встать и лицом к лицу встретить то, ради чего пришла. Тело послушалось ее, и в следующее мгновение она уже стояла на ногах. Лицо ее глядело грозно, а сердце никогда не колотилось так сильно. Но то, что явилось ей, она никак не ожидала увидеть. Перед ней, прячась в глубокой тени дерева, стояла красивая молодая женщина в простом платье.
– Ох! – воскликнула Сарита, не скрывая облегчения. – Ну и хорошо. Раз вы так много знаете, может, подскажете, как вернуть моего младшего сына к жизни.
– Он умер? – спросила женщина. Казалось, она удивлена и сочувствует.
– Нет. Он сидит вон на том дереве и грезит о вечности. – Сарита обернулась и показала на символ жизни, величественно высившийся у далекого горизонта. – Я не дам ему умереть, пока… Пока он не будет готов.
Она снова повернулась к своей новой знакомой и обнаружила, что та успела бесшумно выйти из тени и теперь пристально, как зачарованная смотрит на другое дерево. Грудь ее от волнения вздымалась и опускалась, а темно-рыжие волосы развевались, как будто их подхватил внезапно налетевший ветер. Сарита вдруг с тревогой поняла, что это не просто какая-то женщина. Это волшебница, обладающая большой силой. Она похожа на женщину, которой когда-то была сама Сарита, правда теперь она уже едва помнит об этом, а тогда ведь жизнь была у нее на ладони, а смерть безмятежно лежала у ее ног. Не успела Сарита понять, кто именно стоит перед ней, как молодая женщина снова повернулась к ней и уставилась ей прямо в глаза.
– Пока не будет готов? – резко спросила она. – Хочешь сказать, он еще не закончил?
– Что? – в замешательстве пробормотала Сарита. Как может это существо помочь ей вернуть сына? Что она может о нем знать? – Нет, – сказала она, стараясь справиться со своим смятением, – он еще не закончил. Не довершил свою работу.
– И что это за работа?
Вот это да! Сарита подивилась: это создание ничего, оказывается, не знает. Но на душе у нее стало теплеть оттого, что она вернула себе инициативу. Мигель должен продолжить свои странствия, вести свои важные разговоры и, в конце концов, соединиться с самой Землей. Это ведь ясно! Он – вестник. Это его предназначение, как и многие другие дела. Его видение растет, расширяется – оно не должно сейчас оборваться.
– Он трудится с нашей всеобщей матерью – и труд этот он еще не закончил, – объяснила Сарита.
– Мне она не мать, – обеспокоенно сказала женщина.
– Он делится своей мудростью, щедро отдает другим…
– Кому отдает? Тебе?
– Миру! Он еще не окончил свою миссию вестника…
– Ты хочешь сказать – ему еще нужно какое-то время побыть твоим заботливым сыном?
– Ему еще нужно какое-то время побыть… самим собой!
Призрак беззвучно двинулся к старушке, дохнув ей в лицо холодом.
– А разве он не на сто процентов тот, кто он есть?
– Вы можете мне помочь или нет? – вне себя выкрикнула Сарита. – Он должен вернуться ко мне… в наш мир.
Прелестное существо коротко вздохнуло и наклонилось к старушке, внимательно рассматривая ее.
– Тебе нужна моя помощь? – только и сказала она.
– Мне нужны ваши знания.
Красавица снова вздохнула – теперь как будто прошипела, а в темнеющем небе сверкнула молния. Глаза ее вспыхнули красным цветом, который сменился нежнейше-карим. Женщина засмеялась, волосы ее развевал этот удивительный ветер чувств, поднимаемый, кажется, только ею.
– Подумать только! – снова прошипела она. – Глядя на тебя, можно было ожидать беды! А ты, оказывается, совсем безобидная. Да мы с тобой одной крови, vieja![9] Ты мое подобие, сестрица. Будь моим желанным гостем. Хочешь знаний – я тебя забросаю ими!
– Можешь называть меня матерью Саритой, я ведь старше тебя. А у тебя есть имя?
– Я тоже старая. Старше тебя, Сара… Сара, – существо отчетливо выговорило древнее имя со священными корнями, смакуя его звучание. Потом помолчало, разглядывая лицо старой женщины. – Сара, – снова прошептала она. – Впечатляет. Заслуженное имя. По такому случаю возьму-ка и я себе имя, которое будет мне впору.
Сарита ждала, перебирая в уме: какими только именами люди не называли это создание на протяжении тысячелетий – и священными, и похабными.
– Как меня называть? – громко вопросила красавица. – И на каком изысканном языке? Может быть, на твоем? – Ее лицо сначала выразило беспокойство, потом веселье и, наконец, решимость. – Зови меня La Vida[10].
Она бросила взгляд на дерево у горизонта и, усмехнувшись, вся преобразилась.
– Да-да, – вздохнула старушка. – Жизнь.
Кажется, это создание замахивается на то, что ей не по силам.
– Или… Пожалуй, нет. Думаю, La Luz[11] лучше подойдет.
La Luz? Опять пальцем в небо. Вообще-то, света в этом уголке маловато.
Сарита согласно кивнула.
– Почему бы и нет.
– Нет, – сама поправилась женщина. – La Verdad[12]. Зови меня так.
– Как скажешь.
Покачав головой, Сарита потянулась за сумкой.
– Постой! – Призрак завертелся на месте, всклубив краем платья пепел с земли. – Мне нужно величественное имя! Романтичное! Называй меня La Diosa![13]
«Ну да, конечно, – подумала Сарита. – Как не наречь себя богом, когда живешь только спесью и заблуждениями?» Когда-то ей рассказывали про один модный ночной клуб с таким названием в Гвадалахаре – там женщины плясали полуголыми на сцене, стыд-то какой! Она представила себе эту картинку, и ей стало смешно.
– У меня уже голова от тебя закружилась, – со вздохом пожаловалась Сарита. – Ла такая, ла сякая, ла-ла-ла. – Перед глазами у нее все стояли эти нагие девки из стрип-клуба, и ее так и подмывало подразнить это самонадеянное создание. – Может, просто Лала? Шикарное имя.
Рыжеволосая повернулась и уставилась на нее.
Сарита осеклась: уж не обидела ли?
– Ну, в имени Лала – и что-то светлое, и живое, – сказала она, чтобы исправить положение.
– Я – La Diosa, – заявила ее собеседница как о деле решенном и натянуто улыбнулась. – Но поскольку в этом начинании мы сестры, полагаю, что могу позволить тебе звать меня как-нибудь… живенько.
– Вот и славно. Тогда с чего начнем, Лала? Мне нужно подготовиться?
– Ничего не нужно, дорогая. Давай обратимся к памяти, этой княгине истины, – пусть она проложит нам путь!
– Но ведь память…
– Я знаю все, – перебила ее Лала. – Не забывай об этом. Если ты не будешь мне доверять, мы ничего не найдем – ничего, кроме света, движения… и беззащитных почек на безымянном дереве.
Сарита попыталась поточнее вспомнить, что Мигель говорил о памяти, но ничего не всплывало. Она не успела поразмыслить над тем, что плохого в почках на дереве, – ее новая знакомая быстро и бесшумно приблизилась к ней и снова устремила свой взгляд прямо ей в глаза.
– Мы воскрешаем видение, – торжественно произнесла она.
– Мы возвращаем моего сына, – поправила ее Сарита.
– Какой счастливый случай, – тихо откликнулась Лала. – Решение находится в сфере моего разумения. – Она не отводила от Сариты пронзительного взора. – Ты правильно поступила, что отыскала меня.
– На самом-то деле… – начала Сарита, но Лалу было не перебить и от взгляда ее не спрятаться.
– Тебе следует проявлять уважение.
– Вот как?
– Имей в виду: умения мои, приемы и правила ни с чем не сравнимы. Слушай меня.
«Слушай, но не верь», – напомнила себе Сарита.
– Слушай и повинуйся, – последовало еще одно указание.
Сарита твердо решила остаться в этом глухом уголке, кто бы ни был ее спутником. Она не уйдет отсюда, пока не достучится до сына.
– Обязательно, – смиренно поддакнула она. – С чего начнем?
Услышав этот вопрос, ее собеседница просияла.
– С чего. Вот именно, – улыбнулась она. – Что, как и почему. Без этих вопросов никуда.
Она отошла от Сариты, видимо, размышляя. Сарита в ожидании смотрела на нее.
– Начнем с самого раннего воспоминания, – вдруг объявила рыжеволосая, – а оттуда двинемся дальше. – Она взглянула на старую женщину. – Ты взяла с собой сумку. Наверное, все предвидела.
Сарита озадаченно посмотрела на сумку. Неужели в нее нужно будет складывать воспоминания? Вот такими и будут таинственные указания? Она чуть было не рассмеялась, но сдержалась.
– Собрав достаточное количество воспоминаний, мы получаем видение – кинофильм, рассказывающий всю правду о человеке. Я проведу тебя через памятные сцены, через каждую значимую частицу знаний, и вскоре у нас в распоряжении будут все фрагменты, необходимые, чтобы разгадать загадку под названием… «Мигель».
Голос Лалы выводил фразу до последнего слога его имени, как смычок скользит по струнам скрипки, позволяя звуку медленно, мелодично замереть. «Мигель» – это слово, казалось, вызывает к жизни образы чего-то знакомого, по чему она очень тоскует. Легкое дуновение ветерка вдруг напомнило о чем-то теплом, о каком-то звуке.
– Мадам, у нас очень мало времени, – с чувством сказала Сарита, разрушив чары.
На это Лала ответила:
– Время создаю я. У нас его будет столько, сколько я повелю.
С этими словами она взяла старую женщину за руку и осторожно помогла ей снова сесть на гигантский корень.
Сарите показалось, что где-то вдали застучали капли дождя, хотя небо было все таким же: все так же клубились и неслись по нему тучи, вдалеке сверкала молния, отдаваясь в ее теле, но грома не было. Лала, так и державшая ее за руку, сжала ее крепче, тихо возвышаясь над ней и устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль.
Сарита видела: она смотрит на древо жизни со странным выражением на лице. Оно явно сочетало в себе лютую злобу и страстное желание, хотя Сарита знала, что в обычном мире такие чувства нельзя испытывать одновременно. Она посмотрела на место, где видела сына в последний раз, и подумала: может быть, сегодня нужно было не идти поперек его желаний, а наконец оставить его в покое? Она нечасто так поступала, но сейчас…
Вдруг Лала отпустила ее руку. Сарита удивленно оглянулась на нее, и на них обеих упала тьма, сквозь которую проникал лишь неяркий огонек свечи.
Дерево и бескрайняя безжизненная пустыня исчезли. Сарита сидела на простом деревянном стуле в углу маленькой комнаты. Перед ней при свете единственной свечи, поставленной в банку из-под варенья, предавались любовным ласкам мужчина и женщина.
3
Сарита часто рассказывала о том, как я был зачат. Родился я не совсем обычно, да и в дальнейшем моя жизнь складывалась весьма удивительно.
Семья моя не была обыкновенной. Наша родословная восходит к древнему ацтекскому роду Благородного Орла. Тех, кто призван был стать воином-орлом, в их общинах почитали как мудрецов и наставников. Как и в наших сегодняшних сообществах, тогда существовали политики, солдаты, фермеры и мастера различных ремесел. Говоря об этом древнем народе, к мастерам я также отношу художников жизни, тольтеков, как их называют в нашем предании. Их искусством было создание реальности из мудро произносимых слов и весело выбираемых убеждений. Среди мудрейших были те, кто вел борьбу с пагубным страхом, который столь часто порождается человеческим мышлением.
Живя в человеческом теле, я не всегда знал, кем мне в один прекрасный день суждено было стать. Правда, даже среди моих ближайших родственников были духовные воины. Когда я родился, моя мать уже была известной курандерой[14] и применяла в своей целительской практике многие священные ритуалы, которым научилась у моего деда дона Леонардо. Его отца и моего прадеда звали Эсикио. Хотя его с юмором, к которому примешивалась доля страха, чаще всего именовали «плутом», среди взрослых, окружавших его, Эсикио прослыл живой легендой. Для детей же, в том числе и для меня, он был призраком, привидением, всевидящим оком. Мы не знали, что за проделки числились за ним в прошлом и на какое волшебство он все еще был способен, но на всякий случай говорили о нем осторожным шепотом. Его имя, как и имена всех древних шаманов, произносилось с почтением и трепетом.
Даже став уже молодым мужчиной, я и вообразить не мог, что такими словами, как «шаман» и «плут», когда-нибудь будут называть меня. Я мечтал о респектабельной жизни врача, вносящего посильный вклад во всеобщее здравоохранение. Невозможно было и помыслить, что сбудутся предсказания моей матери о моем предназначении, что я буду служить человечеству так, как это представляла себе она.
Как и все ее рассказы обо мне, история моего зачатия всегда излагалась мифологически. Так Сарита повествовала почти обо всем: о наших предках она говорила с таким же благоговением, как о святых и ангелах. Я никогда по-настоящему не верил ее рассказам обо мне в том виде, как она их излагала всем, но со временем понял, что для нее это была ее собственная история. Мое зачатие и рождение, мое погружение в видение мира и мое возвращение к ней, к древним верованиям и практикам – все это было про нее. И в чем-то очень важном она была права. Все это действительно было о ней. Ее рассказы были выражением веры – веры в себя. Видеть, как она проживает свою жизнь с такой верой, было для меня величайшим из всех уроков. Вера проявлялась в том, что она воздавала должное Богу Отцу и препоручала себя воле Пресвятой Девы Марии. Проявлялась она и в постоянных просьбах к святым помочь ее благому делу. Она проявлялась так, потому что ей необходимо было так проявиться, – но власть над людьми и событиями в ее видении ей давала вера в себя. Эта вера оживотворяла ее историю. Эта вера давала жизнь больным. И именно эта вера дала жизнь мне.
* * *
Сарита сразу узнала эту пару. Женщиной, содрогавшейся в любовном экстазе, была она сама – давно это было, еще до рождения Мигеля. Женщина была нага и полна страсти. Еще не старая Сарита оседлала бедра мужа и стонала от наслаждения. Тела обоих вспотели от любовной борьбы и блестели. Старая женщина смотрела на них, глаза ее наполнились слезами. Она беззвучно произнесла имя мужа и улыбнулась, погрузившись в прошлое.
– Хосе Луис, – проговорила она, на этот раз вслух. – Mi amor… Mi cariño[15].
Рядом с кроватью, на границе тусклого света свечи, молча стояла таинственная Лала – почти так же она перед этим появилась у дерева. Некоторое время она бесстрастно наблюдала за парой. Ей и в самом деле малоинтересно было то, что происходило у нее перед глазами, и она заговорила со старухой, сидевшей в углу, голосом экскурсовода, показывающего публике в ботаническом саду образчики общеизвестных видов растительного мира.
– У нее неплохое тело для женщины, которой стукнуло пятьдесят, – без всякого выражения заметила она.
– Сорок два, – поправила ее Сарита. – Но посмотри на него! Я уж и забыла…
Она вздохнула и отвела взгляд от зрелища, смотреть на которое становилось неловко.
– Он был еще совсем ребенок, – сказала Лала.
– Ему было уже далеко за двадцать, – защищаясь, ответила Сарита.
– А когда ты вышла за него?
– Ну, тогда ему было уже далеко за десять. Очень даже далеко за десять.
– А ты-то была зрелой женщиной, матерью девятерых детей. Девятерых!
– Он так в меня влюбился…
– Он влюбился в свое представление о тебе – и мы обе это знаем. – Лала глядела Сарите в глаза, не обращая внимания на парочку в постели. – Попал под чары. Куда было бедному парню деваться!
– Представления – это все, – тихо и задумчиво произнесла Сарита.
– Я рада, что ты с этим согласна.
Полных губ Лалы коснулась вкрадчивая улыбка. Она начинает задавать тон этой экскурсии, начавшейся так внезапно и подозрительно. Лала не любила участвовать в таких предприятиях. Представшее ей примитивное зрелище липкого зарождения жизни отвратительно, но без него не попасть в сновидение, которым она должна будет однажды завладеть и потом управлять.
Вдруг юноша вскрикнул на пике наслаждения, и в то же время раздался один, потом другой вопль его жены, выгнувшей спину и выбросившей руки вверх, к потолку.
– Что с тобой? – закричал он. – Что я сделал?
– Свет! Ты видел свет? Он появился ниоткуда и вонзился мне в живот! Я вся от него горю!
Сара, которой когда-то была Сарита, опустила руки и крепко сжала мужа в объятиях.
– Mi amor, что страшного в свете? – прошептал он.
– Меня коснулся Бог. У нас будет ребенок.
Громко рассмеявшись, Хосе Луис подхватил жену под ягодицы и бросил обратно в постель.
– Чтоб узнать об этом, не нужно небесного света.
– Да, у нас будет еще один, он будет…
– Тринадцатым? – опередил ее он, посмеиваясь.
Они уже успели увеличить Сарин выводок на троих сыновей.
– Вот именно! Он будет тринадцатым. Не смейся, тут действует Божественная сила! Тринадцать! – важно повторила она. – Хватит смеяться!
Сарита слушала, как разговаривают муж и жена, как поскрипывает кровать, и вспоминала.
– Да, так началась жизнь Мигеля, – сказала она едва слышно. – Но сколько всего произошло до того.
– Мы здесь, чтобы увидеть события жизни твоего сына, а не женщины по имени Сара, – холодно ответила ее спутница, с безучастным лицом смотревшая на супружескую пару в постели.
– Нечего нам тут глазеть! – сердито сказала Сарита, поднимаясь к единственному крошечному окошку, впускавшему прохладный воздух.
За стенами дома ночь баюкала мир в своих огромных объятиях. Черноту неба пронзали несколько разбросанных по нему звезд, в тишине два раза тявкнула собака и тут же замолкла. Сарита прониклась чувством одиночества, навеянным этой тишиной. Хосе Луис любил ее дерзко, преданно и непрестанно. Ей так хотелось снова услышать звуки этой любви, почувствовать ее полноту. Она помнила, как щедро он любил ее, но вряд ли могла бы сказать, что отвечала ему тем же. Чаще она лишь снисходила к его самозабвенному чувству. Он уважал свою жену, был ей другом и помощником в трудах и воспитании детей, но кем была для него она?
Лала одобрительно кивнула:
– Правильно, отвернись. На то, что здесь происходит, неприятно смотреть, потому что оно противоречит знаниям. Нам нужно было вернуться к началу, а это вот, как я понимаю, и есть как бы начало. – Она с радостным блеском в глазах взглянула на Сариту. – Но я лично предпочитаю, чтобы начало было, например, вот таким!
Сарита обернулась и, к своему изумлению, обнаружила, что в комнатке больше нет ни кровати, ни свечи, ни двух любовников. Теперь это была кухня, залитая светом утреннего солнца. А вот она сама, опять много лет назад, стоит у печки, в которой потрескивают дрова. И, что удивительно, она не беременна. Когда же это было?
По радио играла музыка, молодая женщина готовила еду на день и напевала. За кухонной дверью, на маленьком дворике, кричали и смеялись дети. С улицы доносились гудки и шум автомобилей. Старая Сарита смотрела, открыв рот от удивления. У ног матери играл малыш. Он то сидя возился с солдатиками, на которых облупилась краска, то вставал, стараясь удержаться на ногах, и делал несколько шагов к печке. Его мать что-то громко крикнула в открытое окно другим детям и улыбнулась, с гордостью глядя на сына, который был еще почти совсем младенцем.
– Мальчик мой, солнышко, – тихо и нежно сказала она. – Какой ты умница! Такой сильный, красивый, умный!
Ободренный тоном ее голоса, ребенок сделал еще один шаг, потом еще один. В дом вбежал мальчик лет пяти или шести и, стянув со стола тортилью[16], опрокинул стул.
– Эй! – крикнул он на бегу. – Обезьянка снова пошла!
Двор ответил взрывом веселья. Малыш узнал этот звук и засиял от восторга. Это были те же чудесные звуки смеха, что раздавались всякий раз, когда он вставал, падал или что-то невнятно лепетал. Всякий раз, когда его семья смеялась, смеялся и он. Он мог бы смеяться целую жизнь, и все было бы мало. Рассчитывая именно на такую награду, он нашел устойчивое положение, поднял крохотные ручонки и сделал еще два неверных шажка. Добравшись до матери, он уцепился за ее сильные ноги, перестав от радости дышать, и зарылся лицом в складки ее юбки.
– Молодчина какой! – воскликнула она, и из-за двери раздался хохот.
Она засмеялась, засмеялся малыш, и вся вселенная, ликуя, пустилась в пляс.
– Вот видишь! – сказала мать, поглаживая его по маленьким щекам. – Сильный, красивый и умный. Про это весь свет знает!
Глядя на эту сцену, Сарита сказала с нежностью:
– Да это дни, когда Мигелито только начинал ходить. Из младенца превращался в мальчика. – Она глубоко вздохнула. – Потом он научится проказничать, как и братья его, – им очень нравилось его изводить.
Она улыбнулась нахлынувшим воспоминаниям, и свет в комнате замигал. Лала прервала ее воспоминания:
– Хватит! Дорогая моя, мы тут не просто для того, чтобы посмотреть, как начинается банальная пора мальчишества. Слушай!
Они снова посмотрели в сторону матери и ребенка. Маленький Мигель протянул ручку к печи и отдернул ее, пораженный тем, что она, оказывается, обжигает. Он понял, что так делать опасно, и глаза его расширились от удивления.
– О нет! – услышал он окрик матери. – Нет! Нельзя!
Подняв взгляд на мать, мальчик повторил за ней:
– Незя!
Он серьезно постарался точно воспроизвести звуки:
– Незя!
Мать среагировала незамедлительно и театрально. Она схватила его на руки и выбежала из дому, криком извещая всех и каждого о том, что маленький гений произнес первое слово.
– Вот! Слышала? – оживившись, воскликнула спутница. – Вот где начало!
– Начало чего? – спросила Сарита. – «Да-нет»? «Горячо-холодно»? «Mamá-papá»? Начало слов, ты хочешь сказать?
– Сло́ва, с большой буквы, – почти благоговейно проговорила ее попутчица. – Видишь, как это происходит? Одно слово ведет к другому, затем еще к одному, и так ты выстраиваешь мир восприятия. – Она смотрела Сарите в глаза. – Это миг, когда начинаются знания и та вселенная, которую они создадут. Это, – задумчиво добавила она, – миг моего рождения.
«Ее рождения?» – подивилась про себя Сарита. Существо с другого дерева подчиняется законам рождения и смерти, как и все мы? На любом языке это всего лишь значит, что печка, которая топится, обжигает. Без слова «нельзя» в воспитании малыша не обойтись. Она с интересом смотрела на Лалу – та выглядела гордо. Кто она такая, чтоб гордиться чужим ребенком?
– Всегда помни, – нараспев произнесла рыжеволосая, садясь за стол. – Хочешь вернуть своего любимого сына – следуй словам.
– Чепуха! – пророкотал чей-то голос.
Обе женщины вздрогнули и подняли глаза. В дверях, не входя, замер в ярком солнечном свете пожилой мужчина. Он был невысок, но держался с достоинством, отчего казался гораздо выше своего роста. Седина была в нем единственной чертой утонченности. Он был худ, крепок и довольно красив в своем костюме кремового цвета давно ушедшей эпохи.
– Papá! – воскликнула Сарита.
– Papá? – удивленно повторил мужчина. – Могу ли я быть отцом сей достопочтенной abuela?[17]
Он дотронулся до шляпы в знак приветствия.
– Это правда, я теперь и бабушка, и прабабушка, – сказала Сарита, идя ему навстречу, – а ты давно уже умер и лежишь на кладбище! Но все равно – какое счастье, что мы встретились!
Она обняла его и втащила в комнату.
– В какой это мир меня занесло, где моя дочь – прабабушка, а увядшие воспоминания вновь расцвели? – добродушно поинтересовался он.
Сарита не могла ответить на этот вопрос. Видя, что она растерялась, он решил прийти ей на помощь, подвел дочь к деревянному столу и сам сел рядом с ней.
– Кого мы нынче возвращаем?
– Младшенького моего. Ты ведь помнишь Мигеля, – ответила Сарита, накрыв его руку своей слабой рукой. – Он уходит от нас. У него был тяжелый сердечный приступ, в обычной семье он был бы уже приговорен.
– Если это правда, то вернут его не слова. Вернуть его может только непобедимая сила жизни.
Он бросил взгляд на того, кто был рядом с ней и теперь величественно восседал во главе стола. Подумав, что это какой-то господин, подобный ему, он почтительно кивнул, собираясь снова повернуться к Сарите. И вдруг резко обернулся. Нет, Сариту сопровождал человек, даже отдаленно не напоминавший его самого. Да это же женщина – красоты поразительной, глаза как горящие угли. Она улыбнулась ему, и глаза ее засветились еще ярче.
– Это Лала, – представила свою спутницу дочь.
– La Diosa, – поправила ее женщина.
Она знала, что у нее нет власти над мертвыми. Они не поддаются искушениям, для нее они недосягаемы. Но вот с этим, как и с ними всеми, был однажды случай…
– Вы, как всегда, прекрасны, señora, – кланяясь, сказал дон Леонардо.
И тут до него стало доходить. Может быть, его дочь не вполне понимает природу того, что тут происходит? Пока ему это не станет ясно, он будет честно играть в эту игру.
– Дамы, вы начали с самого начала? – спросил он.
– Ну, – пожала плечами Сарита, – мы видели как бы начало. Начали-то мы раньше, чем Мигель родился, в общем, с зачатия, но зрелище нам показалось каким-то неприглядным.
– И ничего нам не говорящим, – добавила вторая женщина.
– Покажите мне! – попросил отец Сариты, и в тот же миг свет утреннего солнца погас.
Без предупреждения все трое оказались у той самой кровати в темной комнатке с крошечным оконцем, где смеялась и вздыхала парочка. Лала, удаляясь в самый темный угол комнаты, молвила:
– Если позволите, на этот раз я избавлю себя от созерцания этой пошлости.
– Дон Леонардо, мы уже видели это, – напрягшись, запротестовала его дочь.
– Серьезно? – сказал он, широко улыбаясь. – Вы правда это видели?
Нагая женщина сидела верхом на муже, наслаждаясь соитием. Вдруг в экстазе она вскрикнула, как в прошлый раз, вскинув руки и откинув назад голову.
– Вот оно. Видели? – спросил пожилой господин.
– Да, – сказала Сарита, отвернувшись и глядя в открытое оконце. – И я это почувствовала. Я хорошо помню это мгновение.
– И что?
– И… Меня обожгло светом, это Мигель пришел в наш мир.
В черном небе зажглась звезда, и Сарита потеряла мысль.
– Вот диво-то!.. – прошептала она, ухватившись за оконную раму и окунув лицо в прохладу ночного воздуха.
– Да! Твое тело это почувствовало. Послание было доставлено, и внутри тебя зародился человек. В который уже раз! Малыш Мигель выиграл гонку. Соревновались десятки миллионов сперматозоидов, а победил он!
– Что за неприличные шутки? Ты для этого здесь? У меня нет ни времени, ни…
– Мы свидетели того, как возникает душа!
Сарита невольно обернулась:
– Душа? Бедная, грешная душа?
– Отнюдь! Душа – это эпоксидный клей, на котором держится вселенная, это же элементарная физика, – провозгласил он. – Вы видите, как катаклизм деления двух клеток рождает новую вселенную!
Довольный собой, он остановился, чтобы перевести дыхание.
– Тело мальчика зарождается, – задумчиво проговорила Сарита.
– И из него вырастет мужчина. Душа об этом позаботится.
– А как же Бог?
– Да, – поддакнула из темноты Лала, – расскажите нам, что вы знаете о Боге.
– Все это и есть Бог, – ответил Леонардо, бросив взгляд в темный угол. Он выразительно показал на кровать. – Разве это не Бог действует?
– Нет, вы мне расскажите, – перекрывая стоны двух любовников, повысила голос Лала. – Расскажите же о Боге.
– Сеньора, наша прогулка закончена. Мне нечего больше сказать о Боге. Я вижу Бога.
– Берем это воспоминание с собой? – спросила Сарита, которой не терпелось отправиться дальше.
Лала вспыхнула:
– Нет.
– Конечно берем! – сказал отец. – Пусть оно будет первым из множества таких событий – по ним можно узнать жизнь моего внука.
– А следующее какое? – не унималась Сарита, хватая сумку.
– У меня есть идея, – сказал Леонардо с вдохновенным блеском в глазах.
Под протестующий ропот Лалы комната закружилась, с каждым поворотом то освещаясь ярким светом, то погружаясь во тьму. Женский стон не умолкал, становясь все пронзительнее и настойчивее. Вдруг возникло другое помещение, освещенное лампами дневного света, с блестящими металлическими предметами.
– Больница? – пробормотала Сарита, прислонившись к мерцающей стене. – Мне бы присесть опять.
Отец подтащил ей железный стул. Стон прекратился. Они смотрели на представшее им зрелище. Сейчас она была свидетельницей не смерти своего сына, а его появления на свет.
– Почему такая тишина? – спросил Леонардо. – Что, уже? Он родился?
– Да, – вспомнила Сарита.
Разговоры в помещении затихли с последними потугами матери. Кое-кто лишь беспокойно перешептывался. Медсестра хлопотала над новорожденным, пытаясь заставить его начать дышать. Врач занимался Сарой, неподвижно лежавшей на кровати. Она была бледна как смерть и слишком вымотана, для того чтобы прислушиваться, издает ли ее младенец какие-либо звуки.
– Все думали, что мы оба умрем тем утром, – вспоминала старая женщина.
В операционной повисло ожидание несчастья. Матери нужна была неотложная помощь, и медсестру, державшую ребенка, позвали ассистировать. Она положила безжизненное тельце на металлический стол как жертвоприношение судьбе.
Лала заметила:
– Тут пахнет страхом. И очень сильным. – Она отошла от дальней стены и встала в центре, принюхиваясь точеным носиком. – Да, страх… Смешанный с кровью. – Она с отвращением попятилась.
– Что, не в вашем вкусе? – поддразнил ее старик.
Лала не обратила на него внимания и неодобрительно обвела взглядом комнату. Кровь была повсюду. Ею были запятнаны простыни, в ней были обессилевшая мать и встревоженный врач. Ею был забрызган белый кафельный пол и испачкана металлическая поверхность, на которой лежало тело младенца, холодное и безмолвное. И здесь действительно пахло. Пахло медными рудниками и навозом. Пахло плодородием – чем-то таинственным, неразгаданным. Это был запах жизни.
– Не в моем, – согласилась она. – Я предпочитаю мой мир, в котором все имеет свое название, миру, где все сочится и корчится.
– Ваш мир – и не мир вовсе, моя дорогая.
– Это как раз тот мир, в котором когда-то жили вы, – только без всей этой мерзкой грязи.
Они враждебно смотрели друг на друга, тишина в комнате становилась напряженной.
– Отец, – не выдержала Сарита. – Еще раз я не вынесу этого ужаса! Он не дышит!
– Подожди, hija[18], – сказал старик. – Вот так…
Дон Леонардо, открыв ладонь, протянул правую руку к бездыханному младенцу, тот пошевелился, и в нем явно началась какая-то борьба. Слабенькие легкие малыша расширились и сократились, всосав в себя воздух. При следующем вдохе тело его сотряслось, тишина была нарушена, и мальчик заявил о себе оглушительным воплем. Его мать вскрикнула сквозь полуобморок и, дернувшись в сторону сына, едва не свалилась с кровати. Медсестра уронила ящик с грязными полотенцами и взвизгнула от испуга.
– Да, пришлось ему потрудиться! – смеясь, сказал Леонардо. – И сегодня ему нелегко придется, дочь моя.
– Мы теряем драгоценное время, – сказала Лала тоном непререкаемого авторитета. – Разве не я во главе этой экспедиции?
– Конечно ты, – ответила ей Сарита.
Она подняла свою нейлоновую сумку, встала и направилась к этой женщине, стоявшей в центре помещения, а вокруг врачи и медсестры праздновали чудесное воскрешение матери и ребенка. У Сариты была миссия, а времени в обрез. Если таинственная спутница знает, что к чему, нужно ее слушаться.
Она кивнула отцу, и три призрачных гостя вышли из комнаты. Старушка шла впереди. Леонардо оглянулся на операционную, восхищаясь тем чудом, которое только что произошло в этом хаосе. Ему показалось, что у стены стоит кто-то знакомый, он хотел приглядеться, но его тут же вытолкнули за дверь. Шедшая за ним вплотную Лала тоже помедлила у выхода и обернулась.
Ей было хорошо видно, что в свете операционной лампы стоит Мигель Руис. Сейчас это был взрослый мужчина, и он сиял, хоть и был одет в больничный халат. Таким его в последний раз видела Сарита – человеком, которого инфаркт недавно вышвырнул из людской игры в пространство между двумя мирами. На его халате видны были пятнышки крови, брызнувшей при его собственном рождении. Это были меты человечности, к которой Лала питала такое отвращение. Она подозревала, что он пришел сюда, чтобы ощутить, как его ждут, чтобы вспомнить тот трепет бесстрашного дерзновения, который испытывает новорожденный, когда, резко вдохнув, с неистовым торжествующим воплем очертя голову бросается в человеческое видение. Он пришел посмотреть и поразмышлять.
Мигель и Лала молча встретились взглядами. Они узнали друг друга, каждый словно увидел себя в зеркале, но смотрели они друг на друга по-разному. Глаза Мигеля светились полнотой любви, без тени страха и сомнения. В ее же глазах затаилось подозрение и ожидание утраты.
В тот миг трудно было сказать, понимает ли кто-то из них, что можно быть вместе, смеяться, сладко отдаваться желанию. Трудно было представить, сколько разных ответвлений может быть у этого пути. Лала, похоже, была капризной, как любая женщина, и жаждала направить события сновидения по своему руслу. Слыша, что ее зовет Сарита, Лала подарила Мигелю лишь тень улыбки и исчезла. А он так и стоял в операционной. Дверь за гостями захлопнулась, и он позволил воображению бережно унести его в другое видение – из забытого времени, когда чувства были взаимными.
4
Мне становится спокойнее оттого, что сейчас я снова вижу Сариту с ее достопочтенным отцом, что они так живы в моей памяти. Когда я был маленьким, моя мать была единственной женщиной, которую я по-настоящему знал. У меня были старшие сестры, но они успели выйти замуж, и со мной рядом их не было. Я обожал свою мать и почитал ее выше всех других существ. Она была красивой, мудрой и чистой. Для меня она была пресвятой девой – ею же представала в моем юном воображении каждая женщина, а созревая, я был готов считать таковыми и всех девочек.
Взрослея, я видел, как мои старшие братья встречаются со своими подругами, и завидовал их невозмутимости и умению обходиться с противоположным полом. Меня поражало, насколько они уверены в себе, казалось, они обладают особыми способностями и редким даром проникновения в сознание женщины, сам же я почти не надеялся достичь такого же успеха в любовных делах. Но ведь надежда – плутишка. Она питает жаждущие сердца иллюзиями, совсем как мой прадед Эсикио. Она соблазняет ум обещаниями, которые не может сдержать. Впрочем, моему успеху у женщин помогла не надежда, а действие.
Первый роман случился у меня в шесть лет, когда я вдруг взял и попросил хорошенькую одноклассницу быть моей подружкой. В ответ она лишь рассмеялась мне в лицо. Через несколько дней, когда она передумала, наступила моя очередь смеяться. Я отверг ее. Да, к тому времени я уже научился отвечать ударом на удар – это ведь общепринятый прием эмоционального выживания.
Казалось, целая жизнь прошла, прежде чем я осмелился снова попытать счастья на ниве ухаживания. Но к моему двенадцатилетию мои братья сами уже достаточно настрадались и сочувствовали мне. Хайме, который был ближе всех ко мне по возрасту, подбивал меня совершить еще одну попытку. Однажды утром он провел со мной соответствующую беседу и объяснил, что уж одна-то обязательно будет моей, если у меня хватит смелости подойти к десяти-двенадцати девчонкам. Согласится, конечно, не та, о которой я мечтал, зато я снова обрету уверенность в себе. И вот как-то, набравшись храбрости благодаря брату, я предложил свою дружбу одной знакомой застенчивой девочке из нашей школы. Она не раздумывая приняла мое предложение. Я был ошеломлен. По пути из школы домой, не успев прийти в себя, я попросил о том же самом еще одну девочку. Она тоже сказала «да». К концу недели у меня было восемь подружек, но я не имел не малейшего представления о том, что делать хотя бы с одной из них. Все они, похоже, были счастливы тем, как все складывается, да и я тоже. Уверенность, едва успевшая пустить во мне корни, вскоре превратилась в знание дела. Даже Хайме был изумлен, правда остальных братьев это всего лишь позабавило. Они продолжали дразнить меня, но теперь к их шуткам примешивались мужская гордость и одобрение.
Я был обыкновенным подростком, но мало-помалу среди робких мальчишек и хихикающих девчонок, жаждущих романтических историй, стал чем-то вроде рок-звезды. Прошло совсем немного времени, и я стал любимчиком у девочек из старших классов. Мои сладкозвучные речи были как сок гуавы, и старшеклассницы заливались смехом и краской, млея от моих детских поцелуев. Я был забавный и остроумный, и они убеждали себя, что я не опасен, поскольку еще слишком мал. Секс – штука довольно простая, если только не помешает страх. Так в один блаженный миг удачи я счастливо потерял невинность. Никогда больше я не буду обделен любовью. Недолго пожив в нужде, я, кажется, становился миллиардером секса.
Рассказываю же я все это лишь для того, чтобы поговорить о том, что такое обольщение. Умение обольщать – очевидное и жизненно важное свойство всех живых существ. Оно распространено не только в мире природы, но и во вселенной мысли. Бесстрашно высказанная идея заражает, с ней хочется согласиться. А если вам ласково что-нибудь предлагают, исчезает чувство опасности. Предложение запускает работу воображения, а воображение начинает создавать реальность. Если мы это ясно осознаем, то сможем увидеть, кто или что стоит за словами и предложениями, кто несет нам послание. Кем бы ни был этот вестник, он использует знания, чтобы получить доступ к видению. Начало может быть таким: «Что ты знаешь? Я тоже это знаю». Или же: «Что тебе нравится? Мне это тоже нравится». Получив приглашение, вестник может приступать к своей работе: изменять форму видения. Редко находятся вестники, прибегающие к обольщению ума во благо другому человеку. А случаи, когда вестник использует это умение на благо всего человечества, настолько редки, что такому вестнику люди начинают поклоняться.
Существо, которое моя мать встретила у древа познания, всегда было и остается умелым вестником. Оно движет и изменяет человеческую историю с тех пор, как эта история излагается. Я говорю о нем как о женщине не потому, что в нашем мире принято с каким-то недоверием относиться к познавательным способностям женщины. Просто я очень рано осознал, что рожден, как и большинство мужчин, чтобы любить и лелеять женщин. Однажды вкусив любви, я уже не мог без нее обходиться. В юности я так же страстно увлекся познанием. Знания пленили меня, как умная женщина, обладающая удивительной властью. Думаю, я много лет был околдован, одержим, пока вдруг не увидел истинную природу знаний, – и тогда я употребил все, что было мне дано свыше, чтобы рассеять эти чары. Мне захотелось спасти знания, привнести в них осознанность, жить с ними, как с женщиной, в мире. И я воспользовался своим природным даром – даром романтической любви. Я стал смотреть на знания как на женщину, которой превыше всего хочется, чтобы ее узнали и услышали, и начал слушать, давая излиться ее неистовству. Признав, что она нуждается в том, чтобы ее любили, прикасались к ней, чувствовали ее вкус, я тем самым мог преобразить ее.
Став шаманом, я наконец понял, что мой дед дон Леонардо больше всего хотел, чтобы именно это откровение посетило меня. Мне наконец стали понятны его слова, в которых всегда была недоговоренность и никогда не было притворства. В отличие от иных мудрых слов, они не были украшены прельщающим кружевом лукавства. Такое лукавство заложено в самой природе знаний и делает их искусным вестником, только не вестником истины. Мой дед услышал голос знаний, звучавший в его голове, и заставил его замолчать. И в этой тишине ему наконец открылось, что такое жизнь. В этой тишине он нашел себя. Ту мудрость, которой он делился со мной, он обрел, обольстив искусительницу. Знания заставляют людей думать и вести себя определенным образом. Власть знаний начинается с наших первых попыток заговорить. Затем, когда мы овладеваем языком, они начинают жить в нашем мышлении. Они становятся голосом, к которому мы прислушиваемся больше всего, источником информации, которому мы больше всего доверяем. Знания набирают силу с каждым нашим новым убеждением независимо от того, как такое убеждение влияет на человека.
Мы справляемся со смертью тогда, когда главное действующее лицо нашей истории способно посмотреть на все с точки зрения жизни, а не только знаний. Каждый из нас – главный герой истории свой жизни, и он боится чего-то не знать, боится, что не узнают его. Смерть – самая большая угроза знаниям, поэтому в человеческом видении она так нас пугает. Для отдельного человека смерть означает уничтожение физического тела и прекращение мышления. Но со смертью жизнь в целом не прекращается и человечество не исчезает.
Когда знания служат нашим страхам, разумное может казаться дьявольщиной, а дьявольское разумным. И все-таки знания, это сильнейшее из проявлений сатанинской магии в человечестве, могут быть и его спасителем. Каждый из нас сам должен распознать знания как голос, звучащий в собственной голове, – голос, которому мы привыкли верить и подчиняться. И каждый сам должен укротить этот голос так, чтобы он перестал быть тираном. Ибо, усваивая знания, мы сами становимся знаниями. Мы превращаемся в тирана, искусителя, сеющего страх где только можно. Спасая знания, мы спасаем самих себя.
* * *
– Кажется, меня ждут в другом месте, – сказал дон Леонардо, расхаживая по небольшой классной комнате между рядами парт и рассеянно посматривая на первоклассников, строчивших в тетрадях прописи.
– Мне нужно, чтоб ты был рядом, – тихо напомнила ему Сарита, сидевшая за одной из парт, едва втиснувшись между скамьей и столом и наблюдая за учительницей, которая вела урок.
– Тсс! Слушайте преподавательницу, – проворчала их спутница. Ее рыжие волосы были уложены в высокую прическу по моде тех дней. – Она рассказывает кое-что важное.
При этом Лала смотрела на молоденькую учительницу с неодобрением.
– Что же это она так убого выглядит? – обратилась она к своим спутникам. – Учитель – важнейшая из профессий, а она подходит к ней без всякого вкуса! Почему не на каблуках? И не красится. Учеба должна возбуждать интерес, не так ли?
– Смотря как возбуждать; если так, как я подумал, то не должна, – сказал старик, поправляя галстук и разглядывая учительницу, одетую в кофту и простую юбку. – Если представить, что она скинула одежду, тогда…
– Papá, здесь же дети!
– Недалеко от животных ушел, – с презрительной улыбкой пробормотала рыжеволосая.
– Хватит! – прикрикнула на них Сарита. – Хоть мы тут и с первоклашками, но мы же не дети, в конце концов! – Она обвела взглядом комнату. – Где же Мигель, шестилетка?
– Вон он, у окна, витает в облаках, – откликнулась Лала. – Но дело не в нем. Внимайте музыке знаний, этой песенке о силе и возможностях.
– Поздравляю вас с первым днем вашей учебы, – с сияющим лицом пропела учительница. – Меня зовут сеньорита Трухильо. Я понимаю, что вы волнуетесь. Кому-то из вас, может быть, страшновато, кто-то в восторге, но все вы собрались здесь – так же, как когда-то ваши родители, братья и сестры, – чтобы научиться тому, что значит быть человеком в нашей великой стране.
– Быть человеком?.. – прошептал Леонардо.
– Ну, они ведь недалеко от животных ушли, – повторила рыжеволосая.
– И я надеюсь, что все вы будете усердно учиться, – продолжала сеньорита Трухильо. – Если очень хорошо постараетесь, то достигнете совершенства, а это – то, к чему все мы стремимся.
Леонардо, не сходя с места, поворачивался на каблуках, чтобы обозреть двадцать маленьких мальчиков и девочек.
– Да разве они и так не совершенны? – воскликнул он и сделал рукой жест, как бы заключая в объятия все эти совершенные детские головы. – Что несовершенного может быть в этих ангелах?
– Они же ничему еще не научились! – возразила Лала. – Думать почти совсем не умеют, не способны ничего оценить. Они с трудом строят предположения, а святые верования легко пролетают мимо их ушей.
– С каких это пор ты церковницей стала?
– С религией я всегда дружила, – высокомерно заявила Лала, – и всецело поддерживаю неумолимый суд Божий.
– Аминь, – подытожила Сарита, перекрестившись. Она считала правильным соглашаться с любыми утверждениями, если они произнесены набожно. Не успела она поцеловать свой большой палец, как свет утреннего солнца погас. Она обнаружила, что сидит на скамье в сумрачной часовне, где висит дым.
– Мы что, в церкви? – растерянно спросила она.
– Боже! – воскликнул дон Леонардо. – Вы зашли слишком далеко, сеньора!
Лала свирепо посмотрела на него, глаза ее горели.
Сарита переводила удивленный взгляд с одного на другого.
– Что это вы оба вытворяете? – Она разглядывала церковные скамьи. – Это место никаким боком не касается моего сына или его воспоминаний.
– Как раз касается, – ответила ей Лала, обрадовавшись поводу отвлечься от дона Леонардо.
Тут они увидели священника – он шел в сторону алтаря. Не заметив их, он прошел к первой скамье, где тихо сидела Сара, молодая жена и мать. Рядом, бесшумно перебегая от скамьи к скамье, играли в салки ее четыре сына.
– Ах, вот! – воскликнула Сарита. – Это я с моими мальчиками!
– Помнишь? – спросила ее спутница. – Как добрый священник предрек тебе, что твой тринадцатый ребенок будет менять мир к лучшему?
– Помню, помню. Он сказал тогда, что Мигель будет важным вестником.
– Это было до того, как он объявил его грешником, или уже после? – вмешался Леонардо.
Рыжеволосая не обратила на него внимания и наклонилась к Сарите поближе.
– А ведь вестник – это не кто иной, как слуга знаний.
– Чтобы стать великим вестником, нужно быть настоящим человеком, – твердо сказал дон Леонардо.
Лала снова бросила на него сердитый взгляд, но Сарита ударилась в воспоминания и завладела их вниманием.
– Помню то время, когда он подрос и почувствовал свою силу, – говорила она. – Я-то уже про нее знала. Ему тогда десять лет исполнилось; здесь, в классе, он меньше. Как-то раз я говорила с ним про жадность и себялюбие, про то, как мы сами себе плохо делаем, когда других не уважаем. Когда я закончила говорить, он так серьезно на меня посмотрел – точно мышка испуганная. «Мам, а я эгоист?» – спросил он меня. Что мне оставалось – только рассмеяться. Я поддразнила его и сказала: «Ну да, мой хороший. Ты эгоист, а мать твоя такая вот прямо благородная». Не подумав, я пошутила, конечно, да он и внимания не обратил. Задумался сильно – видно, правду от скрытой лжи отделить хотел.
Дон Леонардо сел рядом с ней и взял ее за руку, надеясь, что поможет ей все вспомнить.
– Он мне улыбнулся, – продолжала Сарита. – Ласково так улыбнулся, понимающе, заботливо. Мне захотелось обнять его, защитить, но по этой вот улыбке его я поняла – не надо. По ней понятно мне стало – вырос он и сам правду ухватить уже может маленькими своими ручонками. Если и есть в нем себялюбие, он найдет средство с ним справиться. Мне вспомнилось тогда то, что я и так всегда знала, без священника с его премудростью: что людям однажды очень нужно станет, чтоб Мигель поговорил с ними, глазами встретился, рукой прикоснулся, улыбка его, что так покоряет, нужна будет. По тому, как он мне в тот особенный день улыбнулся, мне стало ясно – он от меня отдаляется. Мы как будто тонкой нитью связаны были друг с дружкой – и это стало уходить.
– Девочка моя, вы и тогда крепко были связаны, и сейчас эта нить не слабее, – заверил ее отец.
Лала раздраженно отвернулась, ей хотелось, чтобы священник поговорил с молодой Сарой, поведал ей что-нибудь о превосходстве ума вместо этого вздора про эмоциональную связь. А иначе зачем нужно было именно это воспоминание? Только для того, чтобы напомнить о силе слов.
– Дело в том… – снова попыталась было она донести свою мысль до отца и дочери.
– Сеньора, она знает, в чем дело, – перебил ее Леонардо.
– Моя любовь вернет его, – тихо сказала Сарита. – Нить между нами – а ее не разорвать – сейчас нужно беречь. Его наследство нужно…
Лала ухватилась за слово:
– Его наследие – в умах каждого, кого он коснулся! Он – это память. Он – мысль, и слова его эхом отдаются сквозь века.
Дон Леонардо слушал, как голос Лалы возносится к высокому куполу часовни, и не стал ничего говорить. Прежде чем встать, он в знак поддержки сжал руку Сариты. Это ее задача, а не его – не поддаваться голосу, который старается завоевать ее разум.
– А мне ведь и правда нужно быть в другом месте, – едва внятно, но так, чтобы его услышали, произнес старик. – Счастливо вам, дамы, – улыбаясь, сказал он, – до следующего раза!
Он прикоснулся к шляпе и пошел по проходу между скамьями к свету, который манил его из-за дверей часовни.
– Papá!
Но его уже не было.
Сарита в замешательстве оглянулась.
– И что теперь? Мне нужна его помощь.
– Тебе нужна я, – сказала ее спутница. – Мы ведь это уже уяснили. Мы проследуем по тому же пути эзотерического знания, по которому шел твой сын. Пойдем за самыми его выдающимися мыслями – и таким образом…
– Мысль – это знание, так говорил Мигель, – перебила ее Сарита. – А еще он говорил, что память – это тоже знание. – Она посмотрела на Лалу: освещенная сотней церковных свечей, та была так красива, так уверена в себе. – И что религия – это знание, так тоже мой сын говорил.
– И посмотри, как это чудесно! – откликнулась Лала, показывая на часовню, которая была теперь заполнена коленопреклоненными верующими; у многих из них на глазах были слезы.
– И ни в том, ни в другом, ни в третьем истины нет – так тоже мой сын говорил.
– Твой сын скоро будет с тобой, так что сам сможет сказать, что он думает. Пойдем, мать, нам предстоит увидеть тот самый день, когда по его словам стало ясно, что ему суждено вести за собой людей.
Сарита поднялась, еще раз перекрестилась и последовала за красавицей в нежное облако ладана.
* * *
Дон Леонардо наконец оказался там, где должен был быть. Он смотрел, как один из его внуков, красивый юноша двадцати лет, идет по дорожке к его дому. Это был не самый младший его внук, но младший сын Сары – уже от одного этого Леонардо улыбался. Он любил дочь и всегда видел в ней что-то исключительное. Она могла бы погрязнуть в рутине повседневного человеческого существования и старых обычаев, но ей удалось сохранить ту силу влияния, которой обладала только она. Скоро эту силу признала вся ее родня и округа.
Этот мальчик тоже был не такой, как другие. Леонардо знал это, но пока не мог сказать почему. У Сары все сыновья были смышленые, способные, устремленные к успеху. Он вспомнил утро, когда родился Мигель, и задумался – уж не там ли разгадка его особых способностей? Но слишком уж большое значение придавалось таким семейным историям, благоприятным знакам и тому, как сошлись звезды. Разгадка – в каждом мгновении настоящего, таком, например, как это. В тот миг, когда Леонардо смотрел, как его внук идет домой, он все понял. Увидел, какая походка у юноши, как уверенно он держится, как светятся его глаза. Да, глаза говорят о многом. И улыбка. Какая улыбка! Она как будто приглашает мир поиграть. «Войди в мое видение, – говорит она, – тут будет весело!»
Конечно, этот парень особенный. Пора Леонардо определить, можно ли эту особенность воплотить во что-то исключительное. Пора парню попрощаться с сонным теплым уютом своих убеждений и вдохнуть ледяной воздух осознанности.
Дон Леонардо сошел с крыльца и раскрыл свои объятия Мигелю, последнему из тринадцати детей Сариты.
* * *
Я помню тот чудесный осенний день в мой первый год учебы в университете, когда я спешил в гости к дедушке. Сердце мое в тот день пылало любовью, а в голове роилось множество новых идей. Деду было за девяносто, и он был в нашей семье старейшиной. Его уважали все, кто его знал, и я ужасно гордился, что у меня такой дедушка. Гордость меня распирала и оттого, что можно взять и пойти к нему, поговорить, показать, как много я знаю. Мне хотелось произвести на него впечатление: такой юный, а уже столько мудрости, такой проницательный ум!
С тех пор я понял, что не нужно выражать благодарность большому мастеру демонстрацией своих знаний. Все, что угодно, только не это. Если вы успели хоть что-нибудь уразуметь, то будете просто молчать. Ведь он потому и мастер, что знания не впечатляют его. А вы – ученик, потому что на вас они производят впечатление! За мою шаманскую жизнь я не смог бы сосчитать, сколько раз и какими способами мои ученики пытались впечатлить меня, – точно так же, как я старался пустить пыль в глаза дону Леонардо в тот осенний день. Сколь многие из них обещали стать настоящими мудрецами, но не оправдали надежд, потому что, вместо этого, решили поразить меня фактами, мнениями, ссылками на философов. Они как бы говорили: «Как мне удивить тебя? Что я знаю такого, о чем даже ты еще не задумывался? Гляди же на меня! Слушай меня! Дай-ка я тебя чему-нибудь научу!» Так для чего мы садимся у ног учителя – чтобы насладиться своей важностью или чтобы послушать и поучиться?
В тот день я пришел к дону Леонардо точно не затем, чтобы слушать. Я начал говорить, как только мы сели во дворе, и мне было не остановиться. Я поведал ему обо всех наших студенческих политических кружках, обо всем, что успел узнать про политику и государство, о несправедливости и человеческих страданиях. Мною владели праведный гнев и чувство нравственного негодования. Я бичевал человечество за все его многочисленные пороки – и именно тогда дед, до сих пор улыбавшийся, тихонько засмеялся. В том, что я говорил, не было ничего смешного, – значит, он просто насмехается надо мной, решил я. Насмехается надо мной! Он что, уже так постарел, что не способен понять мою логику во всем ее блеске? Разве ему не видно, что я научился проникать в самую суть явлений? Во мне зашевелилась обида, и я замолчал.
– Мигель, – мягко сказал он с участливой улыбкой, – все, чему ты выучился в школе, и все, что, как тебе кажется, ты понял про жизнь, – это всего лишь знания. Но это не истина.
Он что, не понимает, что я уже мужчина? Он разговаривал со мной как с ребенком. Его слова разозлили меня, и кровь бросилась мне в лицо.
– Не обижайся, дитя мое, – продолжал он. – Эту ошибку совершают все. Люди верят разным мнениям и толкам, строят из них целый мир и принимают то, что сами же соорудили, за мир настоящий. Они не знают, правда ли то, во что они верят. Они даже не знают, правда ли то, что они думают о самих себе. Знаешь ли ты, что истинно или кто ты?
– Да, я знаю, кто я! – твердо сказал я. – Как могу я не знать самого себя? Я живу с самим собой с самого рождения!
– M’ijo, ты не знаешь, кто ты, – спокойно сказал дед, – то, что ты знаешь, – это не ты. Ты так давно привык к тому, кем не являешься, что считаешь это собой. Веришь в образ себя, который сложился из чего угодно, что не есть истина.
Я не знал, что еще сказать. Я ждал, что меня похвалят или уж хотя бы поспорят с моей точкой зрения. Было бы здорово потягаться интеллектом с моим дедушкой. Мне казалось, что у меня хватит знаний, чтобы переспорить мастера. И вот, вместо этого, он нанес сокрушительный удар моему «я». Несколькими безжалостными фразами мой дед уничтожил все, что я считал Мигелем. Сомнению было подвергнуто все, что я знал о мире.
Сомнение! Нет ничего важнее сомнения в пору, когда мы сносим здание, построенное нашим интеллектом. Мы выучиваем слова, верим в их значение и живем с этими убеждениями, пока наш домик устойчив и крепок. Сомнение – это удар, который разрушает его, когда приходит время. Сомнение может заставить развалиться целую крепость, возведенную из убеждений, и такой удар необходим, если мы хотим увидеть что-либо, кроме наших личных иллюзий. Необходимо землетрясение. Я посмотрел на деда, и он улыбнулся мне, как будто мы только что обсудили секрет, сулящий нам удачу. Да заметил ли он вообще, как пошатнулось мое чувство собственного достоинства?
– Я знаю, кто я, и знаю… что есть что, – запинаясь, проговорил я. Мне хотелось дерзко возразить ему, как будто это могло спасти меня от смущения. – И о мире, в котором я живу, я много чего знаю, и знаю, что добро должно всегда бороться со злом.
– Ну да! – оживившись, сказал он. – Добро против зла, конечно! Эта борьба раздирает человечество с незапамятных времен! А видишь ли ты эту борьбу у кого-нибудь еще во вселенной? Бьются ли добро и зло в лесах и садах? Может быть, деревья обеспокоены пороками мира? Или животные? Рыбы? Птицы? Терзается ли кто-то из земных созданий вопросами добра и зла?
– Конечно нет.
– Конечно нет? Тогда где происходит эта борьба?
Он что, мне голову морочит? Решил выставить меня дураком?
– Внутри человеческого рода, – неуверенно предположил я.
– Внутри человеческого разума!
– Ну да… Но нет ничего возвышеннее, чем ум человека, – театрально добавил я. – Если бы животные…
– Если бы животные умели думать, то точно так же озаботились бы существованием зла, как мы? Надеюсь, их избежит сия участь!
Мы оба рассмеялись и какое-то время молчали.
– Мигель, – обратился он ко мне, почувствовав, что я уже не так защищаюсь, – борьба, о которой ты говоришь, существует только в уме человека, а на самом-то деле это не хорошее и плохое борются друг с другом, а правда с ложью. Когда мы верим в правду, мы чувствуем себя хорошо и в жизни у нас все хорошо. А если мы верим в неправду, в то, что разжигает в нас страх и ненависть, то становимся фанатиками. И тогда появляется то, что люди называют злом, – злые слова, злые намерения, злые действия. Все насилие и все страдания в мире – оттого, что мы постоянно лжем самим себе.
Мне вдруг вспомнились слова великого философа: «Людей мучают не сами вещи, а представления, которые они создали себе о них»[19]. У кого я прочел это, чьи это слова? Кажется, он был немец. Нет, француз.
– Не нужно, Мигель, – строго сказал дон Леонардо, прерывая мои раскопки в памяти. – Пожалуйста, прекрати это, – теперь уже терпеливо сказал он. – Великие мысли нужно использовать в жизни, а не копить в картотеке. Знания нужны, чтобы нести послание жизни. Сами по себе они – совсем не послание. Если отдать им бразды правления, они сведут нас с ума.
Я чувствовал, что он прав, и, чуть помедлив, сказал ему об этом. Он откинулся на спинку садового кресла и долго смотрел на меня, что-то обдумывая. Я решил, что наш разговор окончен и, раз я с ним согласился, могу быть свободен. Можно схватить на кухне эмпанаду[20], попрощаться и ехать обратно в город, туда, где ценят остроту моего ума и языка.
– Мигель, – сказал он с таким серьезным выражением лица, что мне стало ясно: никуда я не ухожу. – Я вижу: ты из кожи вон лезешь, чтобы произвести на меня впечатление, доказать мне, что ты достаточно хорош, и я тебя понимаю. Тебе это нужно, потому что ты сам себе еще не доказал, что достаточно хорош.
У меня слезы навернулись на глаза. Я понял, что зря терял время – все мои старания выглядеть уверенным оказались напрасными. Всеми своими рассуждениями и разглагольствованиями я лишь пытался спрятать страх показаться недостаточно умным и находчивым. Дон Леонардо видел больше, чем я, и знал обо мне больше, чем мне самому хотелось бы знать. Я отвернулся, не в силах справиться с правдой, глядевшей на меня из его проницательных глаз. Я отвернулся, но остался. Остался, чтобы слушать.
Он многое мне рассказал в тот день, но на то, чтобы все понять, у меня ушла целая жизнь. Больше всего на свете каждый из нас хочет найти истину, а ее невозможно изъяснить словами. Как все, как всё, истина – это тайна, притворяющаяся ответом. Буквы, которые я учил в школе, указывают на откровения, которые, в свою очередь, указывают на тайну. Истина существовала до появления слов, до возникновения человечества и известной нам Вселенной. Истина будет существовать всегда, а язык был создан, чтобы служить ей. Слова – это инструменты нашего искусства, которые помогают нам рисовать образы истины на полотне разума. Но что мы собой представляем как художники? Какими художниками мы хотим быть и готовы ли мы, ради того чтобы стать ими, отказаться от вздора, в который верим?
Мой дед сказал мне, что самая большая моя сила – это вера. И от меня зависит, смогу ли я разумно воспользоваться этой силой. Мир полон людей, жаждущих посвятить свою веру каким-то идеям, убеждениям, чьим-либо взглядам. Дед настаивал на том, чтобы я вложил свою веру не в знания, а в себя. Тогда я еще не понимал, что тот разговор между нами стал началом пути, с которого я уже никогда не сойду. С того дня и доныне мне всегда хотелось во всем разобраться. Мне хотелось понять себя и выяснить, как же так получилось, что я поверил лжи. Искать ответы – в моей природе. Пытаться найти истину – в природе каждого, и мы страстно ищем ее везде, повсюду, но только не в самих себе.
С того дня моей целью стала только истина, но все, на что я мог опереться в начале, были воспоминания, основанные на случайных образах и историях, а они отнюдь не приближали меня к правде. Но то было только начало. Как быстро все изменилось для меня! Как щедра истина, когда мы готовы почувствовать ее, принять и быть благодарными!
В эту долгую ночь, которую ткут сновидения, Сарита, моя отважная мать, вступила на похожий путь, ведомая теми же воспоминаниями, и голос знаний настойчиво шепчет ей в ухо. Себе на беду, она найдет притворщика – облеченное в плоть и кровь подобие ее младшего сына, уже нашедшего истину и радостно растворившегося в ее чудесах.
5
Сарита устала слушать. В университетском городке выступило уже с пятнадцать студентов-активистов. Мигель говорил предпоследним, и на него, конечно, стоило посмотреть: он умел сплотить публику, зажечь ее. Но пришла усталость, и непонятно было, как все это поможет вернуть его. Сарита сняла тапку и стала легонько растирать распухшую ногу. Она знает, ночь будет долгой, но не вечно же ей длиться. Внуки ее уже спят, а их родители продолжают при свете свечей бить в барабаны и все смотрят, как мать Сарита пребывает в трансе, совершая свое странное путешествие. Им тоже приходится нелегко.
– Я знаю, Лала, в колледже он был мастер произносить речи, – заметила она своей проводнице, – но это был не такой уж особенный день в его жизни… Да и самому ему он вряд ли очень запомнился.
Сарита беспокойно ерзала на месте, ей было неловко в этой толпе: вдруг вспомнилось то, о чем она уже давно не вспоминала, – как они избежали смерти в ту ночь в Тлателолько[21]. Вот это уж точно запомнилось всем, подумала она. Мигель и его братья учились тогда в Национальном университете Мехико, и в ту неделю уехали домой, поэтому, к счастью, их не было в районе Тлателолько, когда военные открыли огонь по тысячам студентов и случайных свидетелей во время мирной демонстрации против политики правительства. Бойня продолжалась до поздней ночи, погибло много близких друзей и преподавателей ее сына. Да, нельзя забыть этих юношей, убитых в самом расцвете молодых сил, так и не осуществивших возложенных на них надежд. И как не быть благодарными за жизнь тех, кому удалось избежать гибели в этом кровавом месиве. То был не единственный случай, когда смерть отпихнула ее сына. Нет, он и смерть еще много раз посмотрят друг другу в лицо и осторожно, по-приятельски разойдутся.
– Конечно, он был еще совсем молод, – согласилась с ней Лала, – но ты ведь видишь, как убедительно он умел говорить, хотя и был еще всего лишь медиком-первокурсником. Он был хорошим оратором. У него была харизма. Как мы видим, он объединял своих университетских товарищей. Имея такую силу влияния на людей, он мог бы играть важную роль в стране.
Сарита кивнула, вспомнив, как ретиво обхаживали ее сына в те дни государственные чиновники. Его брат Карлос предостерег его, что политика может быть очень опасной, и Мигель быстро понял – погружение в это занятие может стоить ему личной свободы.
– Мне надо снова найти дона Леонардо, – вздохнула старая женщина, массируя другую ногу. – Уж он-то знает, что для наших поисков нужно.
– Полагаю, мужчины друг друга лучше знают, – пробурчала рыжеволосая. – Наверняка все наблюдает, как парочки любовью занимаются.
– Не время опять смотреть на это! – воскликнула Сарита.
Ох уж эти молодые – мнят о себе невесть что из-за своих любовных подвигов, как будто они сами придумали этот процесс. Она представила себе Мигеля, каким он был в ту пору – молодым, всегда влюбленным. Она вспомнила Марию, его жену, и их чудных сыновей. Конечно, любовная близость так много дает: и телу услада, а потом радость отцовства и материнства. Ничто нас не волнует больше, чем женитьба, чем рождение… чем смерть.
Держа в руке тапку, Сарита подняла голову.
– Смерть… – бледнея, произнесла она.
Отвернувшись от парка, от людей, она увидела то, чего до этого мгновения не замечала. Вдали, сидя за рулем старого драндулета, медленно петляя сквозь толпу студентов, как будто разыскивая кого-то, ехал молодой человек.
– Мемин, – прошептала она, в голове у нее помутилось от воспоминания о другом сыне, и она упала без чувств.
* * *
– Сарита, – тихо позвал Мигель. – Madre, ты здесь? Сарита?
Из глубин видения Сарита почувствовала его присутствие. Глаза ее были закрыты, а ум несся сквозь миры. Она постаралась успокоить его, не говоря ни слова. Наверное, он сидит сейчас на своем дереве, а за ним сияет Земля. Верно, смеется над ней – безумие продолжается. Ей не вернуть сына против его воли, но и бросить свои попытки она не может. Слишком много она уже для этого сделала, столь многих задействовала. Ее пронзила нестерпимая боль, которую чувствует мать, когда вот-вот может потерять второе свое любимое дитя. Она знала: Мигель рядом, он на нее смотрит. Он одновременно присутствовал и отсутствовал, как и сама она. Она чувствовала, что он близко, что он внимает ей, – но, боже, как ей хотелось снова прижать его к себе! Она все так же беззвучно пошевелила губами, но слова каким-то образом обрели форму и были услышаны.
– Я здесь, дитя мое, – прошептала она куда-то в неведомое. – Я с тобой, в тебе, и я не отрекусь от того, что задумала. Пусть я старуха, но у меня еще есть силы. Хоть я и немощная, я пересилю твое упрямство. И храбрость твоя не помешает мне победить.
Сарите страстно захотелось хоть на миг увидеть лицо сына, почувствовать прикосновение его руки к своей. И она ощутила его близость: казалось, он ответил на это ее желание, и ей стало легче.
А ведь так было не всегда, подумала она, уходя в пучину видения. Было время, когда любая разлука казалась им мучением. Волшебное время началось, как только мать и сын впервые узнали себя в глазах друг друга, и казалось, что этому не будет конца. С первых же мгновений их связала сила большая, чем любовь. Да, эта сила превосходила любовь. Слово «любовь» запятнано: что только им не называют и какие только себялюбивые хотения не прикрывают им! Когда-то это был восхитительный дар, но со временем он утратил свою чистоту. Постепенно обозначение любви укрепило свою власть над человеческим сердцем – так львица вцепляется в свою добычу. Связь между ними действительно была сильнее любви – и намного сильнее страха, который зачастую бежит по пятам за любовью, как шакал.
С самого рождения сына она ему пела, и с того мгновения они были одним целым. Сейчас, когда Сарита боролась за то, чтобы их связь не прервалась, ей вспомнилось, как она прижимала к себе голенького младенца в кровавых следах его путешествия из утробы. Аромат матери успокоил его, он дышал в такт ее сердцу. Его личико упиралось в ее мокрую грудь, а язычок пытался извлечь влагу из соска. Эти ощущения омыли ее покоем. Она отдалась первобытной тишине, любуясь его невинными глазками. Кончиками пальцев она водила по закруглениям его крошечного лба и щек, по мягким изгибам ручек и ножек. Она ласкала его гладкую, почти как у земноводного, плоть и дивилась его нежному теплу.
– Да, – грезя, вслух прошептала она. – Я плакала от счастья, когда наконец увидела ребенка, которого вызвала на свет по своему желанию и носила в себе как тайну. Ты родился, мое золото, – и прошла вся моя боль, все мои тревоги. С того мгновения мы были счастливы в объятиях друг друга, мы ни на минуту не сомневались, что счастье это продлится всю жизнь.
Но сомнение, конечно, пришло. Оно пришло позже и не раз наведывалось затем – и связь, поначалу такая прочная, стала рваться. Сомнение пришло в тот день, когда погиб Мемин. Он был ее первенцем, ее сокровищем, героем маленьких братьев. Тот страшный день был первым в череде других страшных дней, которые навсегда изменили Сариту и ее младшего сына. И Мигель увидел человечество таким, какое оно есть.
* * *
– Qué pues?[22] – воскликнул дон Леонардо. – Что ты сделала с моей дочерью?
Университетский городок исчез. Сарита, почти без чувств, лежала на траве среди кладбищенских деревьев – к груди прижата сумка, босую ногу обжигает солнце. Она слышала звуки, но не понимала, откуда они.
Она мешкала на границе снов, а где-то рядом съезжались машины. У изящного вяза собирались люди, все в черном. Они обменивались негромкими приветствиями, у некоторых на глазах были слезы – им предстояло прощание с близким человеком.
Лала, которая, по-видимому, не сознавала, что происходит вокруг, – стояла на коленях рядом с Саритой, гладя ее по седым волосам и сжимая ее руку.
– Я ничего не делала, – отрывисто сказала она.
В голосе ее слышалась тревога. Лалу охватил непривычный страх: а вдруг Сарита уже настолько выбилась из сил, что не сможет продолжить свой путь. Этого нельзя допустить. Нельзя позволить Мигелю умереть. Им всем важно, чтобы он остался жив, но мало кто знал, насколько он нужен Лале.
– Что ж, ладно, – ответил старик, – но почему она тут в обмороке лежит, как оглушенный орел, которому крылья оборвали?
Он только что догнал дочь и ругал себя за то, что оставил ее. Он боялся, что в его отсутствие ее решимость могла ослабнуть.
Лала подняла взгляд на прибавляющуюся траурную толпу.
– Где мы? Что тут происходит?
– Похороны старшего сына Сары, Мемина.
– А младший? Он где сейчас?
– Вон там. В этом воспоминании он стоит рядом с матерью.
Лала поискала взглядом в толпе и увидела его: одиннадцатилетний мальчик стоял возле матери и заглядывал ей в лицо, а она рыдала без удержу. Подошли другие родственники и стали утешать ее, она отвернулась от сына и упала в объятия мужа. Потеряв родителей из виду в этой толкотне, Мигель потихоньку, незаметно отошел в сторону и стал наблюдать за происходящим, стоя в тени вяза, среди застывших в скорбном молчании старших братьев.
– Вот это плохо, – сказал его дедушка, стоя на своем посту рядом с Саритой. – Ребята предоставлены самим себе. Конечно, они уже почти взрослые, кроме Мигеля, но ведь для них это тоже большое несчастье. Нам, видите ли, нужно погоревать – и мы совсем забываем про невинных, неискушенных подростков.
– Не такие уж они неискушенные, – возразила рыжеволосая, в беспокойстве потирая запястье Сарите. – Они уже знают содержание этой пьесы из репертуара человеческого театра. Ничего, выдержат – облачатся в нужные костюмы, вызубрят текст и продекламируют на публику в зале, как это делают все остальные. По правде говоря, это и восхищает меня в человечестве. Актеры, которые всегда наготове.
Дон Леонардо удивленно посмотрел на нее.
– Актеры?
– А вы посмотрите, – сказала она. – Вы же любитель понаблюдать.
Они повернулись в сторону людей, приехавших на похороны. Теперь все – мужчины, женщины, маленькие дети и растерянные подростки – тесным кругом столпились вокруг могилы. В самой середине стояла Сара, убитая горем мать. Слышно было, как произносит свою речь священник, которого было едва видно из-за толпы. Вскоре его слова перестали доноситься – над могилой поднялся плач, он наводил печаль и вселял тревогу, заглушая собой все другие звуки. Вначале раздались тихие горестные причитания одной женщины, но вскоре звучал уже целый их хор, все громче и громче, заполняя все вокруг потоком скорби, превращаясь в гимн тысячи матерей, лишившихся своего ребенка. Сквозь повторяющуюся мелодию рыданий пробивался звучный гул утешающих и успокаивающих мужских голосов. Звуки наугад, кругами возносились к небу, достигали наивысшей точки и обрушивались на землю. Так они взмывали и низвергались, кружась, закручиваясь в спираль, лавиной возвращаясь вниз. Сквозь неистовство плача донесся крик священника – теперь можно было попрощаться с покойным, оставив ему цветы, записочки, четки. Оплакивающие приступили к прощальному ритуалу, и рыдания стали постепенно затихать. Громкие стенания переходили в едва слышные всхлипывания. Наконец нестройная разноголосица улеглась, и наступила поскрипывающая тишина – так музыкальный шедевр смолкает в последних звуковых дорожках старой грампластинки. Похороны закончились, и толпа группками стала расходиться по травянистому склону холма, направляясь к своим машинам.
Все это удивительное действо маленький Мигель так и простоял у вяза. Братья, бывшие с ним вначале, потом присоединились к толпе родственников у могилы, а он остался один, смотрел и слушал. Дон Леонардо не сводил глаз с мальчика, он следовал за причудливыми образами и картинами, проносившимися в уме внука. Ребенок наблюдал за этой драмой – мощным выплеском чувств, происходившим у него на глазах, – но не подпал под ее чары. Разделяя это видение с мальчиком, Леонардо успокаивался и погружался в воспоминания, на губах его заиграла лукавая улыбка, она мелькнула на его лице и спряталась в мудрых глазах.
* * *
Смерть моего старшего брата раздавила горем меня и всю нашу семью. Ему было девятнадцать, а он уже был мужем и отцом. Разумеется, для большинства взрослых, и особенно для матери, он оставался ребенком. Его смерть застигла нас врасплох – так бывает всегда, когда умирают совсем юные. Но молодые люди заигрывают со смертью, как пылкие любовники. Мемин любил лихую безрассудную езду. В девятнадцать лет юноши – боги: мы бессмертны, потому что мы так решили. Что нам до тех, кто из-за нас ночами не спит и жизни своей не пощадил бы ради нас! И все же в девятнадцать лет Мемин уже был главой собственной семьи. Его молодая жена была беременна их вторым ребенком. Он стремительно превращался во взрослого мужчину и успел принять на себя серьезную ответственность. Но ему не суждено было дожить до зрелого возраста – он погиб за рулем своего автомобиля, мчась на огромной скорости. Его маленькая семья тоже была в машине, но, к счастью, они остались живы. Можно сказать, что он продолжил жить в своих детях, но тот отважный ослепительный свет, которым был Мемин, погас навсегда.
Когда мне самому исполнилось девятнадцать, я тоже был очень самонадеян и никого не слушал, я был слишком полон жизни, чтобы обращать внимание на близость смерти. В те шальные годы я много кутил и бражничал, испытывая судьбу, пока в веселом угаре не врезался в бетонную стену. Я продолжал бы играть с опасностью до рокового исхода, как мой старший брат, если бы что-то не спасло меня. Но что-то меня спасло, и я остался жить, чтобы стать немного мудрее. Я жил, чтобы обрести мудрость, которую жизнь обещает каждому ребенку.
В детстве эта мудрость жила во мне, пока я не утратил ее подростком, когда во всю мощь заиграли гормоны. Когда мне было одиннадцать, я все еще был глубок. Может быть, я даже был мудр. У меня были свои мечты и свои герои. Как и для остальных моих братьев, Мемин был для меня героем действия. Он ведь и правда постоянно действовал: двигался, куда-то бежал, мчался на автомобиле, смеялся. Он строил планы, ставил цели, ухаживал за девушками, и нам казалось, что нет силы, способной помешать ему, что бы он ни задумал. Разве он не обгонял время, не опережал судьбу, не побеждал сомнения? Разве он не был самым крутым парнем из всех, кого мы знали? Пройдет много времени после его смерти, прежде чем мы поймем, что Мемину – брату, герою боевика – никогда больше не блистать среди нас.
Как это ни странно, самым его долговечным подарком мне, младшему брату, занимавшему столь малое место в его жизни, оказались его похороны. В тот день мой детский ум приблизился к некоей мудрости. Я стоял среди своей родни, и мне казалось, что у меня две семьи: одна жила, растворившись в сцене из очередного маминого телесериала, где каждое действующее лицо, исполняемое актерами разной степени одаренности, сеет хаос в своей собственной жизни и в жизни других. В другой моей семье обменивались впечатлениями, говорили друг другу о своих чувствах, поддерживали друг друга. Иногда эта вторая семья как бы и не существовала вовсе, но потом вдруг оказывалась рядом, жила со мной. Она становилась моей матерью, отцом, братьями, она разговаривала со мной сквозь треск слов, бездумно произносимых ими.
Возможно, в тот день со мной была еще и третья семья, – может быть, я чувствовал не совсем исчезнувший след присутствия моих предков. Старики умерли – и в то же время не умерли, и все они были мудрее меня. Какой бы ни была моя связь с ними, я чувствовал, что в то утро, когда мы хоронили Мемина, со мной кто-то был. Предки загадочным образом сопровождали меня весь день, даже когда мы ушли с кладбища и пришли домой – и горькие слезы родных почему-то вдруг сменились смехом.
Да, так и было. Как будто кто-то переключил канал на нашем крошечном черно-белом телевизоре – все, как по волшебству, повеселели, как только открылась парадная дверь и женщины толпой вошли в дом и принялись выставлять на стол тарелки с едой. Я вдруг стал зрителем другого представления. В нем женщины делились друг с другом последними слухами, дети играли, а мужчины, выпив по нескольку кружек пива, по очереди рассказывали смешные случаи из жизни моего погибшего брата.
Я увидел, как люди произвольно надевают на себя, а потом снимают выражение лица – по сигналу, намеку, следуя примеру друг друга. Вот кто-то горюет, но достаточно кому-то сказать что-нибудь ободряющее, как в следующее же мгновение скорбная маска слетает и человек уже улыбается и шутит. Никто не хотел вести себя иначе, чем другие, все обменивались похожими репликами, брови вскидывались, а губы шевелились в ответ чужим словам. А на столах стояла еда, и все в тот день хорошо поели, но я впервые увидел, как никто не хочет упустить ни кусочка на фуршете чувств, предложенном жизнью.
И все шло не так уж хорошо. Каждый раз, откусывая бискочито[23], люди принимали двойную дозу яда – упивались злословием, осуждали кого-то, передавали слухи. Добрая женщина почему-то произносила о ком-то недобрые слова. Взрослый мужчина, который только что, казалось, нашел полное взаимопонимание с собеседником, вдруг лез в драку всего лишь из-за одного слова. Для конфликта достаточно было какого-то слова, или взгляда, или пожатия плеч. И я учился вести себя так же, не понимая, что успел стать мастером в этом деле. В одиннадцать лет я уже вполне поднаторел в искусстве такого общения. Все происходило автоматически, но, наблюдая в тот день других, я был потрясен до глубины души – так бывает, когда внезапно что-то осознаешь.
Казалось, чувства людей питали собой что-то невидимое мне. Они беспрепятственно проходили сквозь тело каждого человека, вызывая болезнь и безумие, – но почему? В печали, гневе, радости нет ничего плохого. Я вспомнил время, когда был совсем маленьким: тогда чувства пролетали сквозь меня, как речные феи, – они касались меня, изменяли меня и исчезали, не раня. Но эти люди были изранены – чем, я не знал, – и их боль никуда не ушла. Странно было, что кто-то должен горевать только потому, что этого требует особый день. А немного спустя все они уже весело галдят потому только, что часы показывают три? А к вечеру они что, будут в ужасе, а перед сном – почувствуют разочарование? Невозможно было разумом объяснить драматические перепады их чувств – разве что кто-то или что-то кормилось их силой.
Спустя некоторое время я кое-что понял. Слушая и наблюдая, я заметил, что люди распалялись и даже злобствовали, когда их захватывала чья-либо история. Они могли что-то услышать, или сказать, или подумать, но история начинала управлять ими, меняла их, превращала их в охотников, жаждавших какой-то особой крови. Разумные, чувствующие человеческие существа становились созданиями, жадно пожиравшими человеческие же чувства.
Люди справляли в нашем маленьком доме поминки, а я попробовал поиграть с выбранными наугад чувствами, улавливая их кончиками пальцев. Не говоря никому ни слова, я переключался с одного настроения на другое, менял фокус внимания. Сидя на полу, я следовал за тонким потоком проявлявшихся то тут, то там эмоциональных энергий, пытаясь понять, что происходит. Вот кто-то рассмеялся, потом всплакнул. Вот кто-то кого-то утешает, потом повисает тишина. Поток замирает, опять движется, набирает скорость. Он сам себя поправляет, преобразует – и вот уже настроение снова изменилось. И никто не замечал маленького мальчика, который сидел с закрытыми глазами и, осторожно пошевеливая пальцами приподнятых рук, видел то, что видеть невозможно. Лицо его выражало любопытство, но оставалось безмятежным.
* * *
– Посмотри на него. Что это он делает? – спросила Сарита, сидевшая на одном из стульев с высокой спинкой в доме, где она когда-то жила с мужем и детьми.
Занятно было увидеть себя: вот она, уже пожилая, восседает на своем обычном месте во главе стола, поглядывая на миски с сальсой и блюда с курицей. Прихлебывая травяной чай из чашки, она чувствовала, как к ней возвращаются силы.
Такие дни, когда дом заполняла многочисленная родня, которая толпилась и на крыльце, и на улице, были привычны, как старые туфли. Для нее и теперь не было ничего лучше, чем принимать родных у себя дома – стряпать, есть, потчевать друг друга разными байками. С крыльца донесся смех Хосе Луиса, и у нее отлегло от сердца. Чудесные годы они прожили вместе: старшие дочери уже вышли замуж и растили собственных детей, родились первые внуки. Так бы и жить-поживать в этом домике – до несчастного случая так ей казалось. Но после него все стало не таким благополучным и надежным.
– Я вижу, что он делает, – ответил дон Леонардо, – но не понимаю, зачем он это делает.
Он снова принялся за галеты, лежавшие на подносе с десертом.
– Да все ты понимаешь, – сказала она, показывая на мальчика, который так и сидел на ковре в гостиной. – Мы же с тобой этим постоянно занимаемся. Он наблюдает за потоком жизни в этой комнате, за всеми его ручьями и течениями.
– Он ведет себя ненормально, вот что я тебе скажу. Может быть, тогда, раньше, это и было уместно, но не сейчас.
– Тот день был далеко не нормальный.
Сарита огляделась, растроганная тем, что рядом так много дорогих, родных людей. Тут были племянницы и племянники, дети и внуки – большинство из них уже постарели, многие ушли в мир иной. Она была последней из своего поколения и единственной, кто помнил старые времена, и все же, надо признаться, многих она узнавала с трудом. Неужели и она изменилась так же сильно, как они?
В дальнем конце комнаты на тахте сидел старик, держа на коленях тарелку. Он был тщательно одет в национальный мексиканский костюм, состоявший из расклешенных черных брюк и куртки с обрезанным низом, которые были усыпаны серебряными ракушками. Под курткой была блуза с оборками, которая когда-то, наверное, была белой, но теперь выцвела до отдающей плесенью желтизны. Рядом с ним на кушетке лежало большое, грязное от старости сомбреро с завязавшимися в узлы запачканными кисточками. Кожа старика напоминала иссушенную солнцем шкуру бизона, но глаза его глядели ясно и озорно.
– Да это же… – начала она и запнулась. – Неужели это дон Эсикио?
Дон Леонардо скользнул по ней взглядом, исполненным невинности и чистоты, и направился к бочонку с холодным пивом, ожидавшему его на крыльце. Пробормотав что-то себе под нос, Сарита встала из-за стола и медленно, осторожно, все еще неуверенно держась на ногах, прошла через комнату. Приблизившись к одетому в кожу старику, она встала над ним, глядя, как он уплетает угощение и тихонько мычит от удовольствия.
– Дедушка, – резко обратилась она к нему. – А ты здесь какими судьбами?
Он поднял к ней удивленное морщинистое лицо и расплылся в узнающей улыбке.
– Сара! Ну и постарела же ты! – воскликнул он, проглатывая фасоль, которой успел набрать полный рот. – Для меня честь откликнуться на зов моего сына – он совсем запутался. В общем, ему нужен мой совет, мой опыт.
– Тебя позвал мой отец? А ты не знаешь зачем?
– Вопрос жизни и смерти – вот что мне было сказано, – радостно объяснил он, отдирая от куриной косточки последний мясистый кусок. – И потом, он обещал, что будут женщины.
– Вопрос жизни и… смерти, – тихо произнесла Сарита. – Мы на похоронах моего старшего мальчика, Мемина. Это было так давно. Но мы здесь, чтоб спасти моего младшего. Может, ты и не помнишь его.
– Как же! Конечно помню! – сказал он, промокая губы салфеткой в пятнах. – Мигель Анхель! Потому-то у меня нет сомнений: женщины непременно будут. – Он поискал взглядом в толпе. – Который из них он?
– Он там, на полу. Ему совсем недавно стукнуло одиннадцать.
– Одиннадцать? Всего лишь? Вон оно что, – обескураженно сказал он, едва взглянув на мальчика. – Тогда придется подождать годик-другой, пока не наступит пора уступчивых девочек, восторгов и наслаждений. Ну не беда, у меня время есть.
И он снова занялся курицей с фасолью, ненадолго отвлекшись лишь на проходившую мимо женщину – рыжеволосую красавицу с глазами такими же глубокими и голубыми, как карстовые озера его родного края. Он взглянул на нее один раз, потом другой, пытаясь вспомнить, где видел ее. Нет, он никогда ее не видел, но не мог отделаться от чувства, что где-то они встречались. Ну ведь точно встречались.
Сарита оставила его, не понимая, какой от него может быть прок в их миссии. Но предок есть предок, так что возражать не приходится. Правда, этого воспоминания с нее уже хватит. Ей хотелось, чтобы оно поскорее закончилось. Повторение сделало лишь еще тяжелее этот скорбный день, который она тогда едва пережила. Она пробиралась на кухню в поисках рыжеволосой. Нужно было поговорить с ней. Времени оставалось немного, а места в сумке Сариты еще меньше.
В спешке Сарита не заметила Лалу, которая толкалась среди людей, обдумывая свой следующий шаг, и крутилась возле ребенка, в одиночестве сидевшего на полу. Рыжеволосая уже заметила старушку и, хоть и вздохнула с облегчением, снова увидев ее в добром здравии, но докучливые вопросы Сариты надоели ей, поэтому она затерялась среди родственников и соседей, набившихся в гостиную. Ей здесь нравилось. Ей нравилось, когда люди собирались покурить, поговорить и пустить дальше вирус. Любой вирус преобразует среду. Любой вирус воздействует на работу организма, но этот вид вируса меняет человеческое видение. Это вирус, рождаемый словами, зажигающий мысль и распаляющий жар в теле человека. Это знание, то, без чего не может существовать ее мир. Она улыбнулась: как хорошо, что она живет в этом мире – мире, построенном из слогов и звуков и прочно скрепленном строительным раствором убеждений.
Ее мир выглядит и ощущается так же, как физическая Вселенная, хотя некоторые называют его отражением. Ее символ – это тоже дерево, подобное древу жизни, огромное, красивое, глубоко укорененное. Корни жизни простираются в бесконечность, а ее ветви дышат вечным светом, в то время как корни Лалы пьют из родника человеческих историй, а ветви приносят потом его плоды. Без нее нет мысли, нет реальности, размышляла она. Без нее лишь звери рыскают по дикому полю.
Она чувствовала в комнате присутствие живого Мигеля, хотя и не видела его. Он был не там, где сидел маленький мальчик, самостоятельно учившийся отслеживать силы человеческого чувства. Но Мигель был близко, он наблюдал и ждал подходящего момента, когда можно будет показаться. Если он здесь, то он наблюдает за этим ребенком, думала она. В памяти его оживают картины, и он любезно складывает их в сумку матери. Она знала: он покидает этот мир и не хочет в него возвращаться. Но ему придется вернуться. Придется, потому что Сарита не отступится. Он вернется, потому что хорошему ученику надлежит чтить учителя, если уж он не хочет уважить мать.
Лала прилегла на ковер рядом с одиннадцатилетним мальчиком, которым когда-то был Мигель, и посмотрела ему в лицо. Ах, это лицо! И глаза, прячущие в своей черноте ослепительный свет. Это были глаза мужчины, которым он однажды станет, мужчины, перед которым ей по-прежнему не устоять.
– Знаешь, как ты всегда был мне нужен? – прошептала она мальчику. – Ты видишь наше прошлое и будущее, любовь моя? Видишь, как мы будем танцевать с тобой в тысяче новых поколений?
Лицо мальчика не изменило своего выражения. Его черные глаза сосредоточились на том, чего больше никто из присутствующих не замечал. Вернее, никто, кроме нее. Лала вздохнула, откинула голову на ковер и закрыла глаза. Ей вспомнилось, как она впервые пришла к нему – уже не в видениях и мыслях, а в самом что ни на есть настоящем женском теле и мысля как женщина. Она дождалась, пока ему не наскучит, не приестся одна и та же безвкусная пища. Дождалась, когда он будет готов принять такое знание, которое доводит мужчин до помешательства. Только тогда она взяла его за руку и повела вспять, в древнее видение тольтеков.
Лала, как и все, была поражена, когда Мигель бросил медицинскую практику и покинул тишь своего кабинета. Ее обеспокоило то, что он вернулся к Сарите, чтобы учиться ее ремеслу, – ведь это была колдунья, как бы она сама себя ни именовала. За годы учебы у Сариты у него развилось внутреннее чутье, и он перестал бояться собственной силы. Он уходил из-под власти Лалы. Она хотела, чтобы он понял: людей связывают слова, и только слова, а действиями людей повелевают идеи. Она считала, что обязана помочь ему довести искусство рассказывания историй до уровня гениальности, и постаралась выполнить эту задачу.
Ага. Теперь она знала, где будет их следующая остановка, и удовлетворенно улыбнулась. Нужно забирать старуху и снова отправляться в путь, чтобы стать свидетелями первой встречи Мигеля с женщиной, вдохновившей его на рассказывание историй. Во время встречи с ней ему было страшно: он узнал ту, что являлась ему ночами во сне. Больше всего на свете в тот день ему хотелось сбежать от нее, но он остался. Остался – и влюбился. Именно туда они сейчас и отправятся.
Она открыла глаза и увидела, что мальчик смотрит на нее в упор.
– Никогда еще не танцевал с девчонкой, но скоро, наверно, попробую.
Он огляделся, потом снова встретился с ней взглядом. Он оценивал ее, что-то почувствовал, и в лицо ему бросилась краска.
– Да, скоро, – прошептала она.
Однажды этот едва оперившийся ученик с невинными и нежными глазами станет мастером. Пора уже ей направить видение в нужное ей русло. Так она сможет управлять рекой памяти. Нет ничего неизбежного, уверяла она себя, и этот танец еще далеко не закончен.
* * *
Дон Эсикио уписывал уже третью порцию, занимавшую всю тарелку, когда на тахту к нему подсел Мигель Руис, тоже с тарелкой в руке. В своем больничном халате он выглядел здесь совсем нелепо. Но его привлекло это время и это место. На посыпанной гравием дорожке его родные старшие братья разговаривали с братьями двоюродными. Любопытно было бы снова увидеть их детьми, но зато здесь, в битком набитой гостиной, он видел ребенком самого себя. Он улыбнулся, глядя на мальчишку, который сидел на полу совсем один, и вспомнил то странное ощущение шока, который он испытал, впервые став свидетелем человеческой драмы. В детстве он завидовал взрослым – не только их знаниям, но и тому, в какое зрелище они превращали эту драму. Мир взрослых казался ему мыльной оперой в сумасшедшем доме, и ему хотелось найти способ исцелить этот мир от безумия. Всю свою жизнь он искал выход и в сорок девять лет, похоже, начал достигать в этом некоторых успехов.
Он увидел, что Лала разлеглась рядом с мальчиком, смотрит на него и мимоходом старается повлиять на его мысли. Хочет охмурить его каким-нибудь рассказом, откровением?
Когда человек что-то чувствует интуитивно, всегда возникает соблазн облечь ощущения в какую-нибудь историю, начать думать… Вот мальчик сидит, просто следует за осязаемыми линиями жизни – тут-то она и попотчует его какой-нибудь историей про жизнь. Она будет описывать ее по-новому, не так, как он слышал от других, самолюбию мальчика эти рассказы будут приятны. Пройдет еще много лет, прежде чем Мигель, уже взрослый, поймет, чего на самом деле стоят ее истории.
Наконец Мигель отвел взгляд от ребенка и воткнул вилку во вкусную гору на тарелке. Двое мужчин сидели бок о бок, молча наслаждаясь домашней едой. Непохоже было, чтобы они узнали друг друга. Посмотрев в окно, Мигель увидел дона Леонардо, в одиночестве стоявшего на улице. На его костюм кремового цвета ложился розовый отсвет вечернего неба. Его дед похож был на высокородного ангела, терпеливо ждущего, не раскроет ли ему это мгновение какую-нибудь новую тайну.
Расправившись с третьей порцией, дон Эсикио наконец посмотрел на сидевшего рядом с ним человека.
– Добрый день, сударь, – величественно поздоровался он. – Вы, я вижу, тоже проголодались.
– Ммм, да. Несколько недель не ел, – с набитым ртом ответил Мигель.
– А я – несколько десятилетий. Кажется, ничего вкуснее в жизни не пробовал!
Эсикио в восторге хлопнул себя узловатой рукой по бедру и поднял в воздух целое облако пыли. Пыль быстро увлекло в открытую кем-то дверь, но освобожденное пространство тут же присвоили себе клубы сигарного дыма. Эсикио помолчал, обозревая комнату, снова повернулся к Мигелю и устремил на него пристальный взгляд.
– С кем имею честь?
– Я ваш правнук, правда на самом деле меня здесь нет, – ответил Мигель. – Как, собственно, и вас, сударь.
– Ах вот что! – воскликнул старик. – Это так, мой дорогой compadre[24], но кто из всех людей, живших на планете, когда-либо был здесь по-настоящему?
– Ваша правда, – улыбаясь сказал Мигель, и они опять некоторое время посидели молча, наблюдая за входящими и выходящими и прислушиваясь к мелодичному гулу голосов.
– Да, брат твой прожил недолго. Значит, ты пришел его помянуть.
Мигель учтиво покачал головой.
– Это воспоминание не для меня, а для моей матери. Я здесь поддержку оказываю.
– Поддержку, милый мой, оказываешь и кое-что показываешь, – сострил Эсикио, глядя на голые ноги Мигеля. – Можно полюбопытствовать, сударь, у тебя что, с одеждой плохо?
– Да нет, все хорошо, – ответил Мигель, запахивая халат поверх колен и промокая салфеткой пятнышко крови. – Я сейчас в коме – какой смысл одеваться?
– Понял, – сказал престарелый господин. – Ну, ты не бойся. Если ты все-таки умрешь, тебя неплохо принарядят. Посмотри на меня. – Он вскинул тощие руки. – Я свой уход эффектно оформил, согласен?
Он подхватил сомбреро и, напялив его на свой череп, всклубил еще одно облако пыли.
– Весьма впечатляет, – сказал Мигель.
Он снова оглядел комнату. Воспоминания об этом дне скоро закончатся, но рассказанные истории никуда не исчезнут, они будут передаваться из поколения в поколение, подумал он. Сквозь толпу родственников он увидел, что мальчик остался один. Где же Лала?
– Вон сколько детей – и все обязаны своим произрастанием плодородной почве моих чресл, – заметил старик, толкая Мигеля в бок костлявым локтем, и, подмигнув, добавил: – Я для человечества достаточно потрудился, verdad?[25] А кто этот малыш?
– Это я, – ответил Мигель, отводя свою тарелку подальше от локтя старика. – Для меня это был важный день. Очень важный.
– Что? Ах да… важный, – согласился его прадед, и каждая морщинка его видавшего виды лица подтверждала: уж он-то понимает, о чем идет речь. – Знаменательный день.
Он надолго замолчал, слегка сдвинув брови, как будто обдумывая над шахматной доской следующий ход. Человеческая жизнь состоит из тысяч незабываемых мгновений, но лишь немногие из них можно назвать важными. Они оба знали: важные воспоминания – лучший материал для нового, просветленного видения. Дон Эсикио смотрел на правнука с восхищением.
– Ты играешь в увлекательную игру, мой мальчик.
Мигель промолчал.
Народ расходился, в комнате стало тихо. Дневной свет уступил место сумеркам. Призрачный мир вокруг потускнел. Плут Эсикио поднял старческую руку и потеребил мочку уха. Сновидец Мигель поставил пустую тарелку и глянул на прадеда с нескрываемой любовью. Глаза их встретились: они понимали друг друга. Старик начал было говорить, но, передумав, поджал тонкие губы. Потом почесал скрюченным пальцем седую щетину на подбородке. Размышляя, он слегка наклонил голову набок. Он не знал, как попал сюда. Не знал он и почему вообще что-либо происходит – в жизни человека или за пределами его бурного существования. Как бы там ни было, над мертвыми знания не властны. Он свободен от их запретов и разрешений. Он не знает закона, он гражданин страны, где мятеж не влечет за собой наказания. Эсикио придвинулся к сидевшему рядом с ним человеку, в глазах которого сверкал такой же, как у него, упрямый озорной огонек, и дружески положил руку ему на плечо.
– Можешь не сомневаться, сударь, – сказал дон Эсикио, хитро подмигнув Мигелю. – Отныне я с тобой.
6
Несколько строк о слове «важный». Пока я временно отсутствовал в этом мире, мать Сарита, разумеется, не могла – с проводником или без него – не погрузиться в воспоминания, которые большинство людей считают по-настоящему значительными: о рождении, смерти, свадьбах, драматических днях несчастий и торжеств. С того самого мгновения, когда у меня случился инфаркт, она знала, что нужно делать. Мой брат Хайме помог ей собрать семью, руководил всеми ритуалами и поддерживал намерение, которое позволило ей выйти за пределы своего видения и войти в видение сына, находившегося при смерти. Она помнила имена своих помощников, слова, которые необходимо произнести, и молитвы, которые нужно прочитать. Она перестала цепляться за знаемое ради того, чтобы найти меня на моем пути в непознанное. Теперь по совету появившейся у нее спутницы она ищет памятные события жизни, прожитой не ею.
Но памятные события совсем не то же самое, что события важные. Да, хорошо вспомнить рождение ребенка, смерть другого, первое выговоренное слово, страстный поцелуй, большое горе. В то же время в этот отчетливый узор событий вплетено множество неброских нитей, ведущих к постижению истины, – беспорядочных стежков, меняющих взгляд человека на самого себя и его представление о мире. Иными словами, в этот узор вплетены мгновения, преобразующие человека. Они куда важнее, чем окончание института или свадебное торжество: эти-то события наступают в свой черед и в свое время, а результат их вполне ожидаем. Но в те мгновения, когда жизнь захватывает вас врасплох – не важно, настигло ли вас внезапное потрясение, или ваша мысль вдруг начинает работать чуть под другим углом, – меняется все. Непредсказуемые происшествия поворачивают ход событий в неожиданную сторону, и нам кажется, что так не должно быть, ведь из-за них нам приходится сойти с той дороги, которую мы распланировали, проложили и даже посыпали гравием, и двинуться в путь, о конечном пункте которого мы можем только догадываться. Стоит немного измениться ракурсу – и правил больше нет: мы движемся в сторону тайны, у нас исчезла цель. Что-то заставляет нас действовать, но мы не в состоянии привести ни единого веского довода в пользу своих действий.
Я пережил много таких мгновений, и мне повезло с семьей, которую нисколько не смущало чье-либо чудаковатое поведение, но невозможно описать словами то, что меняет человека, тончайшие события не поддаются объяснению. Моим отцу и матери, при всей их огромной мудрости, не дано было видеть видение их младшего сына или проследить его неуловимый путь к истине. Они могли дать совет, не судить – и отпустить. Благодаря их терпению и сдержанности я научился ценить умение сдаваться. Поддерживаемый их любовью, я нашел в себе силы идти на риск и развить осознанность так, что она вышла за пределы знаний. С каждым новым откровением моя жизнь становилась все более спонтанной и все менее предсказуемой. Каждое намерение превращалось в действие силы. Когда случился инфаркт, я знал, что, возможно, никогда больше не смогу распоряжаться этой силой, и в очередной раз сдался.
Вы можете сказать, что, пока я лежу без сознания на больничной койке, у меня было время подумать, стоит ли возвращаться к жизни. Тем, кто дожидается меня, отставив в сторону собственную жизнь, это время, должно быть, кажется целой вечностью. Прошло уже почти девять недель, но врачи так и не обещают ничего утешительного. Мои близкие каждый день дежурят в больнице – не находят себе места, жалеют о прошлом, плачут. Они молятся, просят. Борются с судьбой, потом сдаются ей. А некоторые без удержу смеются.
Да, некоторые пустились в этот путь вместе со мной, потому и смеются. Они не понимают – да и зачем понимать? – но чувствуют, что я взволнован, что меня охватила бурная радость. Они чувствуют ту свободу, что я ощущаю, пока тело мое спит, а мозг видит сны. То, что они знают, не позволяет им надеяться, что я выживу, но они все равно смеются. Радость помогла им продержаться эти долгие недели – мы веселились вместе. Не описать словами, как тяжело моему бедному телу, борющемуся за жизнь, когда сердце отказывает, а легкие наполняются жидкостью, зато как здорово смотреть этот сон! Я – тот, кем был испокон веков, тот, кем был и всегда будет каждый. Я – сама жизнь, и я понимаю: природа моя вечна, какое мне дело до физических ограничений! Мой собственный образ, которым я довольствовался почти пятьдесят лет, исчез, а образ оставшегося – он совсем иной. Он относится не к личности, а к бесконечности.
Это образ чистого потенциала жизни – не столько картина, сколько ощущение. Мой ум спит, а значит ничего не выбирает и никого не судит, и я ощущаю возможности жизни, проходящие сквозь меня, как океанское течение, как воздух, колеблемый крылом кондора. Я всегда был самой жизнью и понимал, что един со Вселенной, хоть материя и держала меня. Освободившись от видения человечества, я могу направить свое внимание куда угодно, как это делает жизнь, в моем распоряжении безграничные возможности.
Вернуться – значит снова прийти в мир, где есть последствия, и для меня они неминуемы. Мое сердце изношено, мое тело все эти недели ослабевало, и это не пройдет бесследно: я буду с трудом двигаться, мне будет все время больно. Хуже того, я вернусь невинным младенцем, не готовым к суровой грубости человеческого видения: я увижу тьму в умах тех, кого любил, там, где раньше видел только сияние возможностей. Почти забыв Мигеля, я вернусь в мир, где другие слишком хорошо его помнят. Все будут считать, что знают его, предугадывать, что ему нужно, – все, кроме меня. У каждого будет о нем своя история, а для меня их истории будут совершенно разными. Да, если я вернусь, я должен буду пережить все эти последствия. Человечество будет пугать меня, приводить в замешательство – по крайней мере, первое время. Мне нужно будет заново учиться ходить, говорить, понимать. Я, как в детстве, буду жаждать душевного здоровья, но столкнусь все с тем же безумием. Смертный и слабый, я снова буду тосковать по бесконечному. Да, если я вернусь, последствий мне не избежать.
А здесь мне хорошо, мой взор охватывает все. Я вижу бесконечность, но поле зрения моей матери четко ограничено, а решимость ее непреклонна. Если б я был в сознании и мог словами рассказать, что со мной происходит, все могло бы пойти по-другому. Если найти правильные слова, они могут смирить беспокойную волю и смягчить женское сердце. Моя мать не так уж отличается от других женщин, от любой женщины – не так уж отличается она и от одной моей знакомой. Без Лалы, госпожи знаний, не обходится ни одно видение – ни грезы наяву, ни ночные сны – с тех пор, как человек научился говорить. Она всегда к вашим услугам, всегда готова говорить, но не слушать. Может быть, она решила изловить меня в этом моем видении, где нет времени, где слова мне не служат, а жизнь баюкает меня в глубокой тишине. Но любая наша встреча окажется нелегким испытанием. Ну и ладно, не впервой знания пытаются соблазнить меня под видом волевой красавицы.
Мне было уже почти сорок, когда я повстречал Дхару. Лицо ее являлось мне еще в детских снах, но я не знал, кто она. Когда мы встретились, она была замужем и искала духовного утешения. Я тогда работал вместе с матерью в Сан-Диего. Я оставил медицинскую практику и занялся целительством, используя методы наших предков, набираясь мастерства и укрепляя веру в самого себя. Если бы я не ожидал появления Дхары, она бы, наверное, осталась для меня просто очередной ученицей. Если бы я уже не видел ее в ночных снах, я бы, наверное, испугался: ее присутствие вселяло какую-то тревогу.
Она стояла в дверях маленького храма моей матери. Ее силуэт четко вырисовывался в лучах ослепительного полуденного солнца, волосы слегка развевал летний ветерок. Лица мне не было видно, но я ощутил ее силу. Мы никогда раньше не встречались, но я уже знал, кто она и зачем она здесь. В моих видениях мы разговаривали уже много раз. Ее лицо впервые появилось в моих снах, когда я был еще совсем молод. Тогда я решил, что она – ангел смерти и приходит ко мне, чтобы предупредить: жизнь моя скоро оборвется. Я еще не понимал истинной природы смерти, как понимаю ее сейчас, и мне было страшно. Я был уверен, что узнаю лицо моего ангела, если он когда-либо вдруг обретет плоть, – так и произошло.
Наша встреча казалась мне дьявольски важной. Смерть пришла ко мне, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение! Я знал, что у меня есть выбор: бежать – или посмотреть в лицо тому, чего я боюсь. Чувствуя, что исход будет одинаковым в обоих случаях, я остался. Другой не увидел бы ничего особенного в ее внезапном появлении, но для меня это было далеко не обыкновенное событие. Сомневаюсь, что Дхара сама догадывалась о том, что привело ее в тот день ко мне. Как многие женщины, приходившие к моей матери, она искала ответы на свои вопросы. Она хотела, чтобы кто-то просветленный открыл ей истину. Для нее насущной потребностью было слушать кого-то, учиться, ей хотелось непременно изменить свою жизнь. Ей нужны были не столько молитва и благословение, сколько серьезнейшее испытание. Она преклонялась перед матерью Саритой и чувствовала свое родство с ней, но ей нужно было нечто большее. Ей нужен был я. Она могла этого не знать, но я-то знал. Увидев, как она стоит в лучах солнца, я сразу все понял. Я узнал ангела, посещавшего меня в мальчишеских снах, и мне захотелось, чтобы она так и оставалась фантомом. Я был совершенно не готов к тем драматическим переменам, которые должны были произойти, – я видел, что с ее приходом эти перемены стремительно надвигаются на меня.
Но все это не имело никакого значения в тот миг, когда она, стоя в открытых дверях, произнесла мое имя. Теперь сопротивляться было бесполезно. Боюсь я или нет, готов ли я – все это было не важно. Прикрыв ладонью глаза от льющегося на меня света, я поднял взгляд и приветствовал смерть.
* * *
– Это еще что? – воскликнула Сарита, глядя на представшую ее взору сцену. – Зачем мы здесь? А как же Мария, свадьба, дети? – вопрошала она, переводя обвиняющий взгляд с рыжеволосой на отца. – А авария как же?
– Не волнуйся, – увещевающе ответила ее спутница. – Здесь вершится магия.
Новое видение вернуло Лале уверенность. Явилась Дхара – облеченная в восхитительную плоть иллюзия. Она стояла в дверях, загораживая свет.
– Нужен же какой-то порядок, – возмущалась Сарита, хотя ее и растрогало, что она снова видит Дхару, такую молодую и сильную.
– Что тебя беспокоит, сестра? Разве ты не любила эту женщину?
– Конечно любила! И по сию пору люблю! – с негодованием ответила старушка Лале. – Но сейчас не ее черед. Ее мы должны увидеть позже.
– Ему видней, Сарита, когда ей появиться, – вмешался дон Леонардо. – Это его история, ему решать, что за чем следует.
– Это мне решать, – уточнила Лала. – Эту одиссею я придумала.
– Ты так говоришь, дорогая моя, но это всего лишь слова. – Он взглянул сначала на нее, потом на дочь – та слишком устала, чтобы слушать их. – С приходом Дхары все быстро изменится, и скоро последуют чрезвычайно важные уроки.
– Они важней, чем то время, когда он был почти при смерти? Чем развод, чем несчастье семьи? – прошептала Сарита.
Покачав головой, она медленно прошествовала туда, где Дхара разговаривала с ее сыном. Солнечные лучи согрели ее, как будто она и впрямь оказалась там, вместе с ними, и на душе у нее стало спокойнее. Сарита вспомнила, как направила к нему Дхару, когда он пытался найти свой путь. Внутреннее чутье подсказывало ей, что их союз ускорит назревающие перемены. Вот они ведут тот первый, неловкий разговор – какое счастье, что она тогда послушалась своего внутреннего голоса!
– Другие воспоминания никуда не денутся, – сказал из-за ее спины отец, – и тогда ты сорвешь их, как бутоны роз, и положишь в свою корзинку, к другим средствам для приведения в сознание.
– От них мало пользы, – насмешливо сказала рыжеволосая. – Смотри лучше на этих двоих! Вспомни ту встречу и что было потом. Вспомни, за что ты любишь ее. Подумай!
Сарита прошла между сыном и Дхарой. Эта американка так хотела учиться, узнавать новое, хотела преодолеть свой страх и смятение. Сарита внимательно посмотрела на Мигеля, она была так близко к нему, что его дыхание касалось ее. Он говорил с Дхарой – по его глазам видно было, что он узнал ее. Ему понадобилось усилие воли, чтобы не сбежать. Преодолев себя, он улыбнулся, с трудом подбирая слова на английском и борясь с волнением. Вот для него возможность воспарить в любви! Богатство, престиж были ему безразличны. Отказавшись от карьеры врача, нейрохирурга, он отправился на поиски истины. Он захотел обрести то, что открыли его предки, и Сарита помогала ему в этом. Она и его отец приобщили его к своей мудрости, дали ему возможность работать и заглядывать в будущее, но вскоре ему стало этого мало.
И вот перед ним стоит она – человек, способный заставить крутиться шестеренки в видении мира. Да, Дхара должна стать ей дочерью, матерью ее внуков, но прежде всего она – долгожданный друг и товарищ ее сына. Вместе они откроют чудеса Теотиуакана и его безмолвное знание. Вместе они соберут вокруг себя учеников, пылких последователей. С Мигелем – шаманом и мастером видения – всем, кто пойдет за ним, не придется ждать спокойной жизни. Он вдребезги разобьет жесткий фундамент, на котором зиждилась их реальность, будет настойчиво призывать их не быть слепыми, не сдерживать воображения. Он изменит их видение самих себя, и они примут его вызов – и Дхара будет среди них первой.
– Я любила ее, потому что она была союзницей, – просто сказала Сарита. – Она была другом, одной из нас. Она была звеном между нашим древним, тайным миром и миром нынешних забот.
– Она ведь дитя видения мира, правда? – заметил ее отец.
– Ну да, как и все они, – ответила она. – Но она могла влиять на события. Она любила, иногда злилась – и пробивала дорогу сквозь судьбу, как Моисей плыл сквозь тростники, а потом раздвигал воды.
– Точно! – Лале понравилось это сравнение. – Она, как Моисей, посмотрела в лицо своему видению и преобразила его – но сделала она это ради знаний.
– Нет, ради моего сына.
– Для себя самой она это сделала – так поступаем все мы, – сказал дон Леонардо. – Но давайте двинемся дальше. Куда нас ведет эта сцена, сударыня?
– Ну конечно же, к следующей сцене, – с горящим взором ответила их проводница. – На этот раз, если не возражаете, мы обойдемся без постельных интерлюдий и слезливых эпизодов томления и расставания.
Картина, которую они наблюдали, начинала уже надоедать Лале. Нужно срочно переходить к мифологии, этому творению великих умов.
– Эта женщина восхищалась вашим сыном и снискала его уважение, – оживленно сказала она. – Но суть этого воспоминания вовсе не в ней. Сейчас мы направимся туда, где творили тольтекские мастера, к пирамидам Теотиуакана, к оригинальной мудрости вашего народа!
Дон Леонардо смотрел на Лалу и не мог сдержать улыбки: нет слов, она хороша в своем амплуа. Верна себе, выглядит прелестно, ей так важно быть на виду, важно, чтобы ее замечали, ей необходимо оставить свой след в жизни других людей. Ну да пусть поважничает, потешит себя. В конце концов, ее захватит любовь. Такова ее судьба. Такой же оказалась судьба Дхары – и то же самое уготовано человеческому хитроумию вообще. Тольтекские мудрецы понимали это уже больше двух тысяч лет назад: в конечном счете знания должны подчиниться любви.
Похоже, и это прекрасное воспоминание о начале любви должно было подчиниться неизбежному. Пока Лала говорила о своих намерениях, собираясь вызвать чудеса Теотиуакана, два ее спутника просто исчезли из виду и вокруг образовалась странная пустота, безграничное пространство, заполненное светом. Различить здесь можно было лишь какой-то потускневший блеск, в котором ничего не отражалось и ничего не проявлялось. Лала сделала несколько неуверенных шагов в одну сторону, потом в другую, все ожидая, когда же появится новый пейзаж. Насторожившись, с широко открытыми глазами, она медленно повернулась. Ей хотелось крикнуть о помощи, но как признать, что она растерялась? В конце концов, она командует этим видением или кто?
Свет то слабел, то становился ярче; в его колебаниях возникали полустертые образы. Вот стоит в дверях и смеется женщина, красавица Дхара, ее все так же омывает солнечный свет. За ее спиной – какие-то неясные тени, клочья дымки мечутся, словно непоседливые дети. Из-за теней вырастают толпы народа, слышатся бессвязные крики, и в этом шуме Лала как будто узнает себя. В непрерывном людском галдеже звучит и ее голос. В какое неистовство приводят народ ее слова! Но вот, всего за несколько мгновений все краски блекнут, звуки стихают. Гаснут образы людей, умолкает их гомон – и, как только наступает тишина, замирают все чувства. Не остается и следа от смутных желаний и сожалений Сариты. Волнение Дхары, только что столь явственно ощутимое, унесло в прошлое.
А Мигель?.. Что происходит с Мигелем?
Лала успела ощутить вкус того, что он почувствовал, встретившись с Дхарой, и теперь с удовольствием вспоминала это мгновение. Однажды, в детских снах она нашептала ему одну историю, и эта история заставила уже взрослого мужчину испугаться. Вот какой властью над человеческой душой она обладает! Ей удалось взять его за живое тогда и, может быть, удастся еще. Она подняла лицо, пытаясь почувствовать, где он, но, сколько ни старалась, цепенящий туман оставался непроницаемым. Она существо, живущее чувствами людей – такими неподдельными, такими сочными. Чувствует ли он сейчас что-нибудь? Можно ли из этих чувств сотворить разговор? И могут ли ее слова снова завладеть его вниманием? Может ли она не только привлечь, но и удержать его?
У Лалы – той, которая называла себя La Diosa, – перехватило дыхание, пустота, в которой она оказалась, лишила ее всякой уверенности. Только что она могла как угодно играть трепетными воспоминаниями человека, и вот те раз – очутилась неведомо где. Она заблудилась. Да, без этих мучительных человеческих переживаний, вдали от шума человеческих раздумий она оказалась совершенно потерянной. В этом белом свете заключена жизнь, но Лале она была недоступна. Сверкающую тишину пронизывала истина, но Лала не осмеливалась вдохнуть ее. Больше всего на свете ей нужны были отражения, она жить не могла без привычной лжи – а оказалось, что порождать отражения и ложь ей не по силам.
Она пришла в полное замешательство, и, когда ей стало совсем уж невыносимо, что-то слегка изменилось. Кажется, снова послышалось слабое гудение мыслей, а следом – неизбежный гул слов. Видение начинало меняться, принимало новое направление. Лала выдохнула, затем резко вдохнула, и ей стало легче – силы возвращались к ней. Дымка слегка рассеялась, и сквозь тонкий призрачный туман стали оживать новые краски.
* * *
Без всяких предупреждений и чьих-либо команд Сарита снова оказалась в другом месте и теперь, как того и хотелось Лале, стояла на вершине великой пирамиды. Она тоже, по-видимому, осталась одна. Издалека доносился грохот вселенной, кувырком несущейся в бесконечность. Порывы утреннего ветра трепали ее шаль, и она пыталась спрятаться от него за низкой стеной, построенной в древние времена и выставившей напоказ тысячи круглых разноцветных камней. Поверхность стены была холодной. Солнце еще только вставало из-за восточной цепи гор и обещало тепло, но пока не было готово выполнить это обещание. Едва занялась утренняя заря, как Сарита вдруг поняла, что знает эту пирамиду, вызывавшую, хотя и по-своему, такое же благоговение, как пирамиды, построенные древними египтянами. Правда, вокруг не было африканской пустыни – со всех сторон видны были знакомые волнистые холмы и горы, поросшие буйной зеленью лета. Перед рассветом прошел дождь, и внизу почти все заволакивал туман. Сарита смотрела на центральную долину Мехико, это была ее родина. Она стояла наверху самой большой пирамиды Теотиуакана, знаменитой цивилизации ее предков, построенной больше двух тысяч лет тому назад и известной как город, где люди становятся богами.
Ей стало спокойнее, оттого что это место знакомо ей. Было холодно и неуютно, но она была готова ко всему, что бы ни ждало ее дальше. Она съежилась у стены и дрожала, пока наконец солнечный свет молча не коснулся ее выцветших розовых тапок кончиками своих любопытных пальцев. Благодарная за эту толику тепла, Сарита осторожно шагнула вперед, и свет солнца неудержимо хлынул на нее. Она подставила ему лицо, шепча молитву признательности. Какое чудо – та живительная сила, которую свет дает человеческой плоти и всем драгоценным живым существам земли! Она медленно повернулась, впитывая в себя тепло, давая лучам проникнуть во все мышцы ее слабого, больного тела. Может быть, это и сон, думала она, но то, что она сейчас чувствует, – это настоящее, тут и спорить не о чем. Довольная тем, что снова осталась наедине с собой, она, согретая ласковым теплом, подождет здесь, прислушиваясь ко всем звукам.
И тут она увидела его: он стоял наверху древней лестницы, дыша спокойно и ровно, как будто не взобрался только что на самую вершину, как будто его принесли величественные крылья намерения. Руки его были вытянуты в стороны ладонями вверх, он был неподвижен и невозмутим. Это ее сын Мигель Анхель, тот, кого она с таким трудом пытается спасти от надвигающейся смерти. Но в этот волшебный миг он пришел из другого времени, он полон сил, потому что юн, мужествен, движим решимостью. В этом видении он излучал жизнь. Она исходила от него сияющими завитками света, озаряющего лежащий внизу мир и выманивающего остатки тумана из его тайных убежищ.
С тех пор как Сарита увидела эту панораму с вершины пирамиды Солнца, прошло много лет. К тому времени, когда Мигель стал часто совершать паломничества в Теотиуакан, ей уже вряд ли было бы по силам подняться наверх. Не сосчитать, сколько раз она приезжала сюда учить и исцелять людей, но ей не припомнить, чтобы она когда-нибудь была именно здесь и при таких обстоятельствах. Почему Мигель сейчас стоит перед ней и рядом с ним нет его учеников, нет Дхары? Она попробовала посмотреть на все его глазами, и постепенно до нее дошло. То была его первая встреча с руинами великой цивилизации и видением древних тольтекских мастеров. То были мгновения, которые пережил он, и только он. Это воспоминание принадлежало Мигелю, но он был так добр, что подарил его матери.
Она совсем согрелась. Она забыла о старости и боли, теперь ее охватил трепет перед чудом. Ей было явлено то, что чувствует умирающий человек, который, быть может, только что начал бороться за свою жизнь. Сарита услышала, как сын велит ей: сейчас надлежит видеть то, что открылось ему тогда, в день, возможно ставший решающим в его жизни.
Солнце, быстро всходившее перед ней, окрасило горизонт. Залившийся девичьим румянцем туман покачивался над развалинами, испаряясь в сказочные небеса. Великолепие Теотиуакана никогда не представало Сарите таким, каким она увидела его глазами Мигеля. Внизу лежали неброские руины центральной части города – его сердца и жизненной силы. Вокруг главного проспекта и стоявших вдоль нее тщательно продуманных строений когда-то располагались многочисленные процветающие районы, населенные торговцами, ремесленниками, рабочими и учителями, а еще сюда из близких и далеких мест стекались десятки тысяч паломников. Было время, когда Теотиуакан по своему размеру превосходил все города мира. Сейчас от него остались лишь покрытые пылью наметки, по которым трудно представить, что здесь существовала цивилизация, когда-то оказавшая влияние на большинство территорий Западного полушария. Землю, лежащую за пределами этих развалин, в основном вернула себе природа – там растет трава и кустарники, на широких просторах пасется скот. И все же многое можно увидеть на этой карте, начертанной камнями и костями на месте исчезнувшей империи.
Чем больше Сарита погружалась в видение Мигеля, тем легче ей становилось видеть и представлять. Она знала эти руины давно, они стали для нее вторым домом. Глядя на них сейчас глазами сына, который когда-то впервые открыл для себя эти строения, она была поражена тем, как мастерски сработан Теотиуакан, ей вдруг открылся грандиозный замысел его создателей, как будто она сама здесь в первый раз. Сейчас он предстал ей особым видом высшей школы. Это был университетский городок, устроенный столь просто и изящно, что дух захватывало.
Нет, это у сына захватывало дух. Вот так же, как она сейчас, был взволнован и ошеломлен Мигель, когда неожиданно совершил это потрясающее открытие. Он попал сюда вскоре после того, как Дхара и он скрепили свой союз духовной церемонией. Оба они уже были разведены. Сюда они приехали в медовый месяц, туристами, и не ждали от своей поездки ничего особенного. Он вырос в Мехико и повидал много древних развалин, но этих до сих пор не видел. Как-то ранним утром он из любопытства взобрался на пирамиду один и изумился древнему видению, которое открылось ему. В тот миг он увидел не просто очередной памятник человеческой истории, а план откровения, которое может быть явлено человеку.
Сюда приезжали учиться самые деятельные ученики, и здесь некоторым из них, тщательно отобранным, предоставлялась возможность выйти за пределы обыденного сознания. Юному новичку могли потребоваться годы, для того чтобы его жизнь коренным образом изменилась. На это могла уйти и вся жизнь, но никто не подвергал сомнению сам этот путь. Жить осознанной жизнью было для них пределом стремлений и совершеннейшим из искусств.
Да, это искусство. Ведь слово «тольтек» на языке науатль означает «художник». И те из мастеров духа, кто хотел познать все тонкости своего ремесла, изучали его здесь, в этом уважаемом университете. Величайшим проявлением человеческой силы считалось умение управлять собственной личной историей. Чтобы быть избранным для ученичества у живших здесь великих мастеров, видимо, требовалось большое смирение. Путь к личной безупречности подразумевал постоянную практику, всегда и при любых обстоятельствах, и настоящий мастер мог поднять осознанность всей своей общины на более высокие уровни только тем, что сам становился безупречным в своей жизни.
В залитом солнечным светом пространстве храмов и лестниц, протянувшемся на добрую милю, Сарита различила символический рисунок змеи, встроенный в планировку города и простиравшийся от одного конца университета мудрости до другого. Двуглавый змей обозначал процесс преобразования, который должен был полностью пройти каждый ученик. Двумя его лицами глядели боги Кецалькоатль и Тескатлипока, или Туманное Зеркало. Как много разных мифов одновременно всплыло в ее сознании, когда она прошептала эти имена! Сколько историй рассказано, пересказано и на свой лад истолковано множеством людей, считавших себя знатоками! У людей, создавших эту цивилизацию, не было алфавита, они пользовались символами, предоставленными природой, – рисунками живых существ, знаками ветра и дождя, солнца и земли, которые запечатлены в архитектуре и рельефно нанесены на стены краской и камнями.
Мудрецы понимали, что значит быть змеей, тварью, обреченной ползать по камням и пыли на туловище без ног, не знать ничего, кроме своего примитивного житья, и быть слепым к бесконечному миру за пределами их среды обитания. Они понимали, что все это очень напоминает состояние, в котором пребывает человек. Чтобы выйти из него, нужно решительно изменить свой угол зрения. Для такой метаморфозы нужно умереть и родиться заново. Духовный воин должен войти в пасть змеи и позволить ей сожрать себя, ему нужно отказаться от всего, что он успел узнать и понять. Выдержавший испытание выходит из него осознанным существом. Он овладевает величайшим из всех искусств – искусством смерти.
Сарита посмотрела налево, туда, где начинался этот духовный путь, – на площадь Кецалькоатля. Там, в дальнем конце университетского городка, раскрывалась змеиная пасть. Кецалькоатль, которого чаще всего изображали в виде пернатого змея, символизировал мир материи. Воображение служило крыльями, помогающими человечеству подняться над слепотой и выйти за пределы физической реальности. Широкий проспект, уходящий от площади, олицетворял тело и путь, который в конечном счете должен был пройти каждый ученик. Этот путь назывался Дорогой Мертвых. Бог Туманное Зеркало символизировал абсолютную власть, силу, создавшую все проявленные миры. Священная процессия по дороге всякий раз заканчивалась у этого божества, когда лучшие из воинов приходили к осознанию своей божественной природы.
Сарита надивиться не могла этому городу, где сошлись все символы, сталкиваясь друг с другом взрывами смыслов. Ядовитые змеи, двухголовый змей, пернатый змей – каждый символ представлял разные уровни понимания и каждый ясно доносил свое послание герою, отправившемуся на поиски истины. Люди всегда искали ее с помощью символов своего времени, размышляла она. Отбросив дым и искажения, создаваемые голыми знаниями, они могут почувствовать послание жизни, потрясающее все основы. Как все воины, пришедшие в эту великую школу тайны, ее сын поднялся над символами и прошел по путям света. А потом пустился в бегство.
Став шаманом, Мигель приведет в эту школу высшего знания многих учеников, будет создавать свои ритуалы, но в то первое мгновение перед величественной панорамой он осознал ее послание. Задача учеников – увидеть то, что спрятано за дымом и путаницей символов. Им предлагалось испытать свободу, что лежит по ту сторону смерти.
Раздумывая над этим, Сарита вдруг запуталась в словах. Ей казалось, она знает, что значит умереть. Смерть – это ведь конец всего, не так ли? Смерть – начало вечного блаженства для всех, кто его заслужил. Сарита и все вокруг нее всегда были уверены в этом. Но сейчас, овеваемая утренним ветром, поднимавшим зной земли к небу, Сарита ясно поняла: для ее сына смерть означает нечто другое.
7
– Кто вы? – глядя на старика, решительно спросила Лала. – И что я здесь делаю?
– Когда-то меня звали Эсикио, – ответил старый шаман.
Не очень-то жалуя этих туповатых людишек с их навязчивыми привидениями, Лала отвернулась, чтобы осмотреться. Они вдвоем сидели на верхней ступеньке пирамиды. Утреннее солнце изливало свой жар на Теотиуакан, превращая Дорогу Мертвых в призрачное видение гигантской змеи, греющей свое тяжелое тело, разлегшееся по прямой линии между храмами, камнями, развалинами империи. На некотором расстоянии видна была еще одна пирамида, большего размера.
– Вы сами вызвали это место, – продолжал дон Эсикио, показывая вниз, на открывающееся им зрелище. – Как видите, мы в Теотиуакане – месте, где люди становятся богами.
– Чепуха.
– Ну хорошо, – не стал возражать старик и лишь задумчиво прищурился. – Это место, где человек может научиться видеть. И когда окончательно прозревает, то видит, что он – бог.
– Он видит то, что я ему велю.
– Вы уверены в этом?
– Дедуля, где остальные? – спросила она раздраженно. – И где это мы сидим?
– Грандиозное сооружение, на котором мы находимся, называется пирамида Луны. С нее нам открывается захватывающая панорама всей дороги, а также величественного памятника жизни – пирамиды Солнца. – Он показал театральным жестом: – Вон там.
Дон Эсикио помолчал, чтобы можно было прочувствовать все нынешнее величие этого места и великолепие его прошлого. Возможно, он ошибся со временем этого события, зато уж постарается выжать из этого эпизода все, что можно. В конце концов, что он знает о времени? Ведь он – уже и не человек, а скорее бесконечное мгновение, волна возможностей в маске чего-то обыденного. Он повернулся лицом к древнему городу, и в нем воспламенилось вдохновение. Он замер, затаил дыхание и почувствовал присутствие великого сновидца, которого вот-вот посетит откровение. Мигель был где-то рядом – не во плоти, но в земле и воздухе этого места. Дон Эсикио всмотрелся в залитую солнцем пирамиду, стоявшую вдали, и улыбнулся. Если в жизни человека и случалось когда-нибудь важное событие, то оно происходило сейчас с Мигелем.
– А представьте, как все это выглядело две тысячи лет назад! – воскликнул он, распираемый восторгом. – Храмы сверкали в солнечном свете, поблескивали исполинские пирамиды, зовя паломников со всех уголков полушария, – это был маяк для блуждающих душ! Представьте себе все эти ярко выкрашенные стены, росписи, позолоченные порталы! Представьте красоту этого места, великолепие, волнами расходящееся от его могучего сердца, – одно только воспоминание об этом способно воскресить мертвого!
Дон Эсикио снял свою пыльную шляпу и прижал к сердцу. Блеск в его глазах говорил о том, что он сильно взволнован, – это и забавляло, и раздражало его спутницу.
– Зачем же мне воображать этот великий город, отче? Я здесь бывала.
– Claro[26], – сказал он, мельком взглянув на нее. – Вы сохранились гораздо лучше, чем эти храмы, сеньора. Я искренне вами восхищаюсь.
– Я – La Diosa, – напомнила она ему, вставая и, видимо, полагая, что в полный рост произведет на него более сильное впечатление.
Ветер развевал ее рыжие волосы и играл редкими складками платья.
– Это в каком же видении вас так величают, позвольте поинтересоваться? – спросил он, глядя на нее ясными и невинными глазами.
– В самых глубоких видениях человечества, – резко ответила она. – А теперь убирался бы ты отсюда. Не до тебя мне.
– Вот как? А до кого же тебе, дорогая моя?
– Пошел вон! – прикрикнула она. – Исчезни, шут! Лучше поищи старушку, если знаешь, где она, и пришли ее ко мне!
– Она смотрит сон вместе с ним – вон там, – сказал он, снова показывая на пирамиду Солнца. – А ты не смотришь.
– Что она делает? – выпалила она.
Сверху вниз Лала посмотрела на этого чудного человечка, наряженного на собственные похороны, потом перевела взгляд на высившуюся вдали пирамиду. Теперь пирамида была больше и великолепнее, чем казалась в окутывавшем ее рассветном тумане. Солнце как будто увеличило ее, вернуло ей какую-то необъяснимую силу. Да, время изменило ее, но она навсегда останется свидетельством тайны.
– Она… там? – Смутившись, Лала повернулась к Эсикио.
– Что общего у луны и солнца, сеньора? – спросил он.
– Свет. И сила просветления, – ответила она, все глядя на большую пирамиду. – Так ты говоришь, старуха там?
– Ничего, – произнес он, не обращая внимания на ее слова. – Ничего у них общего нет.
Дон Эсикио встал. Рядом с этой высокой женщиной худой старик казался карликом.
– Ты глупец, – сказала она. – Как и те, что жили до тебя, и те, что рождались потом.
– Ты в этом уверена? – ответил Эсикио.
Он дождался, пока она повернется к нему, и смерил ее строгим взглядом. Его глаза поблескивали не то озорством, не то еще чем-то – но разве поймешь этого старика? Когда весь мир, казалось, снова притих, Эсикио заговорил.
– Ты – просто отражение, дорогая моя, – почти с нежностью сказал он. – Ты – лишь слабый отблеск, вообразивший себя солнцем. Твое сияние – фальшивка. Ты – подделка. – Он помолчал, оттеняя вескость своих слов. – Я и сам – лишь игра света, обманщик. Все мы – всего лишь грубые отпечатки единственной вечной истины. Поэтому мы и стоим здесь, в дальнем конце этой дороги, и, подобно выброшенным на берег морякам, издали глядим на сотворенный мир с этого надменного святилища материи и смерти.
Лала с презрением посмотрела на него и отмахнулась от его слов, устремив взгляд на пирамиду Солнца.
– Мать Сарита должна быть здесь, при мне, – сказала она. – Она – то же самое, что и я. Мы с ней – одно и то же.
– Только не сегодня. Сегодня она – само восприятие.
– Восприятие зависит от слов! – возразила она и заколебалась, как будто пытаясь что-то вспомнить. – В начале было…
– Не было никакого начала, – перебил ее он, расплываясь в улыбке. – Никогда никакого начала не было. Ты веришь тому, что вычитала в книге, что застряло в замороченных умах людей. Эсикио, это привидение, что стоит перед тобой, тоже когда-то думал, что нашел смысл. О, сколько он терзался насчет смысла! Как только он выбросил все эти терзания из своего помраченного видения, взошло солнце и мир проснулся внутри его. С тех пор он не переставая смеется.
Тут старик издал громкий радостный вопль и пустился в пляс, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, как весело играющее дитя.
– Есть у меня тело или его нет – я смеюсь, я сама радость, и, где бы я ни был, всегда светит солнце.
– Что толку от солнца? – сказала Лала, не впечатленная его выходками.
– И от меня, – фыркнул от смеха дон Эсикио, поднимая лицо к небу. – Да и от смеха – какой толк, верно?
И он снова разразился ликующим криком, а за ним последовал взрыв гомерического хохота, от которого задрожали камни.
Внезапно что-то вокруг изменилось. Все так же светило солнце, но все погрузилось во мрак. Вдалеке прокатился гром, хотя туч не было. Ветер с силой рванулся вверх по ступенькам пирамиды, ошеломив старика. Он снова завопил, на этот раз удивленно, и увидел, как на дороге выросло с десяток пыльных вихрей, воронками вытягивающихся вверх. Все еще смеясь, он запрыгнул на огромную каменную ступень, потом снова соскочил вниз и тремя прыжками вернулся к тому месту, где стояла женщина.
Волосы женщины развевались на ветру. Глаза ее горели красным огнем, лицо выражало свирепую решимость. Как легко он вывел ее из себя! Ее захватила собственная магия. Она взмахнула рукой – и к небу поднялся целый ураган пыли, скрыв из виду лежащие внизу руины. Стало еще темнее, на утреннее солнце наползали черные тени, пытаясь стереть его с неба.
Стоя друг подле друга во внезапно воцарившейся темноте, оба долго молчали. Наконец старик хихикнул.
– Чую мерзкое зловоние Страшного суда, – проговорил он.
– Вот и славно.
– Но попахивает и страхом, только не моим, милая моя, а твоим.
Эсикио опять засмеялся – весело, понимающе.
– Твоя сила – не более чем паутинка, сплетенная из слухов и молвы. Дочь слухов, ты слышишь, как я смеюсь?
Казалось, отовсюду доносится тихое хихиканье – явно человеческое, но непостижимо было, откуда оно взялось. Затем из глубоких тайников разрушенных дворцов, из пустых храмов поднялся целый хор смеха. Из долины, с возвышающихся за ней гор и холмов, слышны были раскаты веселого хохота, от которого становилось хорошо на душе. Звук многократно отражался от древних стен и парапетов, эхом проходя сквозь город и бомбардируя тьму.
Лала в гневе замахнулась, желая сбросить старого плута со ступеней и вообще прекратить его существование, но он куда-то исчез. Она застыла, прислушалась и услышала, как он, дурачась, орет что-то с вершины их пирамиды. Его смех звенел над ней, потом раздался откуда-то снизу и в конце концов зазвучал со всех шести сторон. Казалось, ничто не может заставить его умолкнуть.
Ей, способной изменить все, что угодно, – даже отстроить заново этот город из первобытных горных пород – оказалось не по силам заглушить этот радостный гул. Она не могла переместиться на большую пирамиду, не могла заставить Сариту явиться к ней. Опять раздался смех, и вновь ночная тьма наполнилась им. Старик стонал, гоготал, щелкал каблуками под взрывы хохота, охватившего весь город.
– Я отправлюсь к ней домой, жалкий кривляка! – крикнула она. – Туда, где она играет в свои мутные игры. Найду – и вместе мы пойдем к нашей цели!
После этих слов Лала исчезла. Скоро смех умолк, и над руинами Теотиуакана воцарилась полная тишина.
* * *
– Что случилось? Они уже зво… – торопливо пыталась спросить что-то Сарита. Она только что очнулась, веки ее подрагивали, она испуганно озиралась вокруг. – Они звонили? Из больницы звонили? Они знают?
– Сарита! Кто – они? О ком ты говоришь?
Заторможенно хлопая глазами, старушка пыталась рассмотреть, что происходит вокруг. Это была гостиная ее дома, родные и близкие все еще были здесь, они стояли кружком, глядя на нее. Кто-то бережно держал ее голову и плечи, склонившись над ней там, где она упала в изнеможении.
– Хайме, – прошептала она, едва слыша себя. – Хайме, – повторила она. – Сынок.
– Sí[27], madre, – ответил сын, тоже усталым голосом. – Мы все здесь.
– Они должны знать…
– Что знать, Сарита? – спросил он, прикасаясь рукой к ее щеке, чтобы она услышала его. – Скажи, что мы должны знать.
– Конечно, мать, скажи им то, что они должны знать, – услышала она женский голос и вздрогнула всем своим обессилевшим телом.
Лала стояла в кругу вместе с остальными. Все глядели обеспокоенно, она же делано улыбалась.
– Ответь им, – сказала она. – Они жаждут слов, а ты им подсовываешь какую-то чепуху! Барабаны, пение, видения! Без слов – моих слов! – никакой ритуал не подействует и тебе не вернуть сына. Не может быть человеческого видения без слов. «Тринадцатый из тринадцати», «жизнь и смерть» – все это ничего не значит. Да и сам Мигель ничего не значит. Я – начало и конец всякого смысла. Во мне все человеческие знания!
Сарита долго смотрела на нее, с трудом, прерывисто дыша. Потом снова повернулась к сыну.
– Хайме, давай снова посмотрим это видение, – прохрипела она. – Мы не должны его упустить. Догоняй его, догоняй!
Старший брат Мигеля посмотрел на собравшихся.
– Станьте вместе, – велел он. – Перестаньте барабанить, опустошите ум. Впустите свет и пошлите свою любовь на помощь Сарите. Ей нужна наша помощь!
Лала отозвалась эхом:
– «Помогите Сарите»! «Помогите Сарите»! – Она презрительно фыркнула, глядя на это сборище дураков, – какие они все серьезные, сосредоточенные! – А мне никто не хочет помочь? Ведь это я придаю смысл таким бессмысленным действиям.
Но ее уже никто не слышал. День, неделю назад они бы только ее голос и слышали. Но сегодня вечером они собрали все свои оставшиеся силы ради этой целительницы, женщины, находившейся сейчас там, куда нет доступа мысли. Сегодня они принадлежали Сарите. Когда же сегодняшний вечер кончится, они снова будут во власти Ла Диосы. Она знала это.
* * *
Внезапное солнечное затмение мгновенно превратило день в ночь. Сарита, стоявшая на вершине огромной пирамиды, пыталась понять, что происходит с ландшафтом видения. Наверное, это Лалиных рук дело. Она устремила взгляд в небо и сквозь рассеивающиеся облака пыли увидела пульсирующую над ней Вселенную. Бессчетные звезды мерцали, как светлячки в полете, – каждая была отдельным сверкающим существом. Миллионы этих созданий плыли, кружась, время от времени неторопливо сходясь в группы и снова разбегаясь. Никогда еще не приходилось ей видеть наш мир в таком живом движении. Это был хаос, зажженный силой замысла. Она протянула руку, желая дотронуться до грандиозной звездной мозаики, и увидела перед собой изящную руку Мигеля, следующую по траектории движения Млечного Пути. Тонким пальцем он показывал на созвездия – по очереди, как будто только сейчас их открывал.
Она и он снова стали одним целым. Она вернулась в его видение и стояла на пирамиде Солнца впервые – и на все времена. Звездным роем клубились прошлое, настоящее и возможные варианты будущего. В его видении сошлась тысяча разных историй, но он будет рассказывать только одну – историю Теотиуакана и мудрости, исходящей от этих руин.
– Что вверху, то и внизу[28], – прошептал он сам себе, и слова его скользнули сквозь космос, как самые обычные воспоминания.
– Что вверху… – эхом повторила за ним Сарита.
Вдруг, посмотрев вниз, на развалины города, она увидела, что Дорога Мертвых зажглась звездами, – там они мерцали и танцевали так же, как на кружившихся небесах. Освещенная дорога неслась сквозь тьму так же дерзко и безудержно, как Млечный Путь. Они отражали друг друга, как две параллельные автострады в ночной пустыне, – им никогда не встретиться, но они всегда вместе, одной всегда суждено быть такой же, как другая.
– …то и внизу, – договорила Сарита.
В тот миг она поняла, какую задачу возложил на себя ее сын. Он будет и вестником, и самим посланием. Что в жизни, то и в материи. Что во всем мироздании, то и в нем. Каждый предмет и любая тварь во Вселенной – слепок жизни, единственного живого существа, содержащего эту Вселенную в себе. У нее не было слов, чтобы правильно объяснить это, но она ведь учила сына выходить за пределы царства языка. Слова предназначались для того, чтобы служить тайне, а вместо этого их стали использовать для разгадывания загадок.
Нечего и пытаться словами объяснить ту карту, которая развернулась перед ней. У каждой площади, представшей ее взору, было название, выхваченное из воображения Мигеля. Из всех храмов доносился барабанный бой древних ритуалов, и каждый ритуал Мигель сделал своим. Тут было место, где умирают, где хоронят, где рождаются заново. Тут была большая базарная площадь, или митоте, символ непрекращающегося шума и гама в уме человека и символ его безумия. Севернее были место женщин и место мужчин – два храма, отражающие друг друга на пути к постижению. Главным зданием дороги был Дворец Мастеров. Древняя академия, очевидно, открыла Мигелю свои секреты, и видение духовной цивилизации, столь долго молчавшее, начало обретать форму у него на глазах.
Сарита дивилась тому, что видел и чувствовал Мигель, а тем временем зрелище Теотиуакана менялось, ширилось. Теперь оно напоминало скорее тело человечества, распростертое в глубоком и опасном сне. Она как будто увидела его: тяжелое, мучимое тревогами, трепещущее от бесконечных кошмаров под пение звезд, в такт которым вращается Земля. После бесчисленных столетий человечество зашевелилось, оно начинало пробуждаться. Мигель был дудочником, флейтистом, искусным и дерзким, который наконец вернулся, чтобы пробудить человечество животрепещущей балладой. Он пришел спеть о чуде, что свершается между жизнью и смертью. Он пришел петь об осознанности, и каждая гора, каждый камень должны стать его хором!
От Теотиуакана остались лишь руины да камни, но сейчас, под пристальным взглядом Мигеля, он оживал. Он возвращался к своей судьбе, неся утешение и вдохновение будущим паломникам. Каждая храмовая ступенька будет стирать прошлое и открывать вечное настоящее. Каменные стены будут забирать человеческую боль и превращать ее в откровение. На горных лугах вместе со звездами поют цикады, их вибрирующие крылья посылают в ночь свои крошечные благословения.
Это зрелище ошеломило Сариту. В своем теле она слышала учащенный стук сердца Мигеля. Он своими глазами показывал ей Вселенную, описывал жизнь во всей ее дивной искусности. Но вот короткая ночь затмения стала отступать. Звезды померкли, солнце сбросило свои оковы и снова залило город светом.
Солнечный свет ударил Сариту с почти взрывной силой, лучи его обрушились сначала с одной стороны, потом с другой. Один мощный луч угодил ей между лопаток, отчего она перестала дышать, а перед ней, туда, где она и Мигель созерцали одно и то же видение, упала длинная тень. Тень сбегала вниз по ступеням пирамиды и сползала далеко на площадь, повторяя очертания сына, который стоял на вершине сооружения, раскинув руки. Вокруг его головы яркий солнечный свет образовал ореол. Тот же рисунок присутствовал в самой архитектуре лестницы пирамиды. С ее вершины было видно, что две лестницы сходятся. Две ноги соединяются с туловищем, затем идут две вытянутые руки. Голова и ореол вокруг нее встроены в площадь. Что это за видение? Сколько лет должно быть этому символу, если он стал частью строения столь древнего, столь забытого, столь далекого от места происхождения человечества? Эта гордая цивилизация существовала за пятьсот лет до появления Христа, но эти ступени, эта пирамида казались отголоском истории о нем.
Сарите, глубоко погруженной в это воспоминание, открылось, что человечество начинает видеть себя по-новому, что его кошмар почти кончился, что ему становится ясной его судьба. Да, человечество проснется – со временем, когда сменится несколько поколений. Она размышляла о самых темных сторонах существования человека и о том, как всего один ум и его присутствие могут преобразовать все человечество. Просветленные мужчины и женщины появлялись раньше и, конечно же, будут приходить снова, чтобы смягчить человеческое видение и бросить каждому новому созерцателю вызов – сможет ли он или она превратить свою жизнь в произведение искусства. Пора. В очередной раз пора.
8
Я вспоминаю, как впервые оказался на пирамиде Солнца, как увидел все великолепие былого видения и как сильно мне захотелось дать ему новую жизнь. Нельзя ли сделать видение мастеров той эпохи доступным тем, кто ищет мудрость в наше время, много столетий спустя? И не важно, что эта мудрость рождена культурой тольтеков в забытой древности. Это общая человеческая мудрость, ее несли вестники по всему земному шару и во все века.
То, что Сарита переживает сейчас вместе со мной, – начало нового этапа моей жизни. Я оставил медицину, чтобы разобраться, какую роль в наших страданиях играет разум. Через несколько лет, глядя вниз, на эти руины, я понял, что человеческий ум – это, по сути, лабиринт. Великий город Теотиуакан отражает это своей архитектурой: в нем каждая ступенька и каждый коридор представляют собой ловушки, окольные пути и грандиозные достижения человеческого сознания в процессе его роста. Для тольтеков, учившихся в Теотиуакане в древности, этот город был местом, где можно было получить высшую форму образования и постичь истинную, божественную природу самих себя.
В тот первый миг прозрения я понял, что выйти из этого лабиринта просто. В отличие от тех, что выстроены из каменных стен или из кустарника, лабиринт человеческих мыслей можно покинуть в любой момент. Можно увидеть, что мы сами создаем символы, и почувствовать силу жизни за пределами наших слов. Отождествив себя с этой силой, мы можем изменить направление историй, которые рассказываем. Мы можем освободиться от убеждений и верований, из-за которых совсем перестаем быть самими собой. Мы можем проявить величайшую доброту к своему телу и к человеческому видению.
Созерцая в первый раз чудеса Теотиуакана, я понял, что могу научиться гораздо большему и быстрее, если буду работать с учениками, – так потом и произошло. Избавившись от убеждений и ожиданий, я стал больше осознавать. Если мне это по силам, то получится и у них. Находясь сейчас рядом с Саритой, я могу рассказать о самых важных для меня мгновениях этого опыта – преобразующих мгновениях в жизни воина. Может быть, она поймет и ее это заденет, а может, это никак на нее не подействует. В любом случае эти размышления – мой дар ей навечно. Пока могу, я продлю свое видение.
Между двумя ударами сердца человек может увидеть всю свою жизнь: перед ним откроется завтрашний день, а вчерашний канет в вечность. Нет лучшего места для личных воспоминаний, чем забвение. Прожитое прошлое представляет очень малую ценность. Но мы тащим его бездыханное тело в каждое мгновение будущего и позволяем ему давить на нас своей тяжестью, определять, кто мы, говорить за нас. Даже самые талантливые из взрослых людей редко принимают решение, не посоветовавшись с прошлым (а значит, с трупом) и не прислушавшись к его бесконечным укорам. Мудрец же пренебрежет такими советами и будет наблюдать мир с точки зрения бесконечности.
Уже в юности мне стало очевидно, что в настоящем можно найти огромное количество информации и, чтобы не отставать от жизни, я должен непрестанно что-то в себе менять. Перестав цепляться за прошлое, я стал тратить на жизнь гораздо меньше усилий. Я избавился от необходимости ежедневно платить дань чувству вины и от бесконечных домогательств моей памяти. Жизнь влилась в каждое освобожденное и жаждущее ее мгновение, и сами эти мгновения стали стремительными и многоликими. Вот что произошло со мной.
За эти недели, что я нахожусь в коме, прошлое ни разу не побеспокоило меня. Событиями моей жизни теперь занимается Сарита. Я для нее реально существую, как и все эти воспоминания, но и они, и она сама находятся в ландшафте воображения. Отстраненный и внимательный к велениям жизни, я ощущаю лишь свободу и ничем не ограниченную любовь, которая рождается, когда страх себя исчерпал.
У меня свое представление о смерти. Для меня смерть – это материя. Материи нужно зачатие, а затем – рождение. Она растет, умножается, но ее ждет непреложный конец. Материю приводит в движение сила, находящаяся за ее пределами, она же это движение и прекращает. Эта сила – жизнь.
С этой точки зрения материю можно назвать смертью – это субстанция, для создания и оживления которой нужна энергия жизни. Благодаря жизни мы можем двигаться, дышать, любить, думать и грезить. Когда же материя или тело человека не в состоянии больше поддерживать силу жизни – из-за увечья ли, болезни или иных разрушительных явлений, – начинается умирание. И тогда сила, родившая тело, забирает его. Смерть подчиняется жизни – отнюдь не наоборот.
Физическая смерть – это возвращение домой. Свет расширяется и превращается в свет. Энергия вечна и бесконечна, она меняет свою силу, не останавливаясь ни на миг. Она – свет, наполняющий собой мириады вселенных, от невероятно малых до невообразимо огромных. Она заключает себя в материю, а затем с неудержимой силой расходится лучами вовне. Она – во всех предметах и в загадочном пространстве между ними.
Человек способен понять, вспомнить все это за время между двумя ударами сердца и последовать за силой намерения к следующему живому мгновению. Что такое намерение? Это понятие не имеет никакого отношения к умственной деятельности. Это не то же самое, что желание. Мы можем желать встретиться с другом, купить автомобиль, начать делать карьеру, но намерение – это сила жизни, которой мы являемся. Чтобы почувствовать эту силу, мы должны сначала осознать, что мы есть жизнь. Мы и есть та сила, которая ведет, хранит и постоянно спасает нас. Осознанно использовать эту силу – в этом заключается работа того, кто по-настоящему прозрел, стал своим собственным спасителем и поддерживает других людей, находящихся с ним в одном видении.
Видеть – значит осознавать все в настоящем мгновении. Использовать эту осознанность для управления историей, которую мы рассказываем о самих себе, – это величайший акт силы человека. Сарита тоже сейчас постигает это – в своем трансе она видит, как я впервые прохожу через этот опыт в Теотиуакане. В ее жизни тоже был такой опыт переживания истины. У нее очень развито внутреннее чутье. Исцеляя людей, она находила то место в теле, где спрятан яд, откуда исходит боль, место, иногда подлежащее удалению. Ей удавалось излечивать хвори, от которых не помогали никакие лекарства, избавлять от болячек, до которых не могли добраться хирурги. У нее были свои способы, и они действовали. Много лет я пользовался ее ритуалами, вдыхал жизнь в старые символы, но наступил день, когда слова наконец подчинились намерению и стало ясно, что это всего лишь символы. Тот день настал, но только через годы, когда я достиг мастерства в шаманской практике.
Шаманом я стал тогда, на пирамиде, когда далекое прошлое слилось с сознанием настоящего. Во время поездки с Дхарой я был погружен в себя, я чувствовал – во мне что-то меняется, я заглядывал внутрь себя в попытках что-то понять. Увидев тогда город и признав в нем великий университет, в котором можно обрести просветление, я просто объявил, что начинаю возить туда учеников. Дхара рассмеялась, озираясь: вокруг лежала обширная мексиканская долина.
– Да кому в голову придет поехать сюда, это же на краю света! – поддела она меня. – Да еще под руководством молчуна не от мира сего, да с твоим-то скверным характером!
С этим было не поспорить, но через месяц я организовал первую поездку, и со мной отправились шестнадцать учеников. Спустя еще месяц поехало вдвое больше. Мы стали часто бывать там, и так я стал учителем.
Когда я встретил Дхару, я уже был отцом и развелся с женой. Я вступал на новый путь – путь открытий и пробы сил. Ее путь, до тех пор извилистый, принял то же направление. Успев вырастить четверых собственных детей, она поняла, что ей есть что сказать миру, и жаждала научиться тому, как нести послание. Мы любили друг друга, но не знали, как построить совместное будущее. По настоянию Сариты мы позволили ей обвенчать нас посредством ею же придуманной церемонии, а затем вдвоем пустились в наше первое приключение – поехали на машине по Мексике. Это должно было стать испытанием для нас, так мы могли узнать друг друга в непривычной обстановке. Можно назвать это нашим медовым месяцем, но, как я считал, для Дхары это была возможность увидеть новое, чему-то научиться, оставить в прошлом автоматические реакции.
Отношения – это событие: два человека встречаются, привлекают внимание друг друга. Продолжительность и качество отношений, как и любого другого события, зависит от качества внимания с обеих сторон. Романтические отношения, как и любые другие, не вечны. Главное – это уважение. Старые привычки, эмоциональные драмы могут разрушить любой союз, который тогда становится ненасытным чудовищем, пожирающим любовь и превращающим ее в объект, требующий от вас огромных затрат и связывающий многочисленными страхами. То, что начинается как сильное влечение двоих друг к другу, превращается в нечто иное: некую сущность, отдельную от обоих. «Отношения» – понятие, которое довольно быстро становится привередливым тираном. Когда так происходит, хочется спросить: куда же делись эти два счастливых человека, два мечтателя, которые встречались, целовались, которые были влюблены друг в друга? Как получилось, что сумма их капиталовложений оказалась больше их любви?
На Марии, девушке из моего колледжа, я женился, когда мне было двадцать с чем-то лет. Я был уверен, что из нее выйдет хорошая мать и хорошая супруга. У меня был традиционный взгляд на наши роли: я врач и должен зарабатывать деньги, а ее задача – хлопотать по дому и растить детей. Я был очень занят на работе, времени на семью почти совсем не оставалось. Сначала я с головой ушел в учебу, участвовал в студенческой политической деятельности, был общественным активистом. Потом все мое время занимала интернатура.
Сколь ни были нежны наши чувства друг к другу, в семейной жизни у нас все было очень непросто. Она ревновала, расстраивалась, чувствовала себя жертвой. Я вел себя вызывающе, негодовал… и чувствовал себя жертвой. И мы мало чем отличались от большинства семейных пар. Поэтому я часто называю брак человеческим жертвоприношением. Люди клянутся друг другу в верности, дают обещания, а потом оба страдают от несбывшихся ожиданий. Что можем мы пообещать другому человеку, чтобы никто не был разочарован? Как жить, наслаждаться своим существованием – и при этом оправдать высокие ожидания партнера? Трудно удовлетворить глубочайшие потребности другого человека, когда ни один из двоих не может ни определить, ни понять их. «Ты – мой!» – кричала Мария каждый раз, когда мы ссорились, как будто, повторяя эти слова, можно было придать им истинность и непреложность. Красный огонь, сверкавший в ее глазах в таких случаях, я видел за свою жизнь у сотен других женщин. Всякий раз, когда ей казалось, что с ней поступили несправедливо, всякий раз, когда какие-нибудь мысли вызывали у нее жалость к себе, задували штормовые ветра и гремел гром. То, во что мы верим, завладевает нами – и часто губит любовь, нашу истинную сущность.
Пока мы вздорили с Марией, жизнь, как это всегда бывает, заботилась о нас. Я был потрясен и воодушевлен, когда родился наш первый сын: казалось, все наши нелады – лишь должная плата за это. Да, мы могли бы сделать выбор в пользу правила, что за чудеса жизни надо платить, – это была бы совсем иная история, притом что сами чудеса остаются прежними. Много воды утекло с тех пор, когда, искусившись, я готов был пострадать ради своего счастья. Я не расплачиваюсь за знания и не позволяю личным неурядицам умалить любовь. Я наблюдаю за тем, как человечество страдает во имя любви, и пытаюсь улучшить свое послание. Я призываю людей любить самих себя и показываю, как уважение позволяет открывать двери, в то время как страх только закрывает их. Уважение правит небесами, а небеса так близко от нас, что их можно достать рукой всякий раз, когда мы совершаем выбор. Никто не обязан заслуживать уважение. Все мы – отражение самой жизни. Мы можем уважать друг друга просто за то, что существуем, и можем уважать чужие видения – не важно, насколько они отличаются от нашего собственного. Существует много объяснений действительности, и все они имеют право на существование. С кем-то мы можем соглашаться, с кем-то спорить, но если мы отказываем кому-то в простом уважении, то обрекаем на поражение самих себя.
Уважение создает естественное равновесие между щедростью и благодарностью. Получайте жизнь и благодарите за это своим ростом и процветанием. Такие отношения вдыхают новую жизнь во все. Будьте щедры – и жизнь будет щедра к вам. Равновесие, возникающее, когда один отдает, а другой по достоинству оценивает это, показывает, как действует любовь.
Все это ясно мне теперь, и было ясно уже много лет. Когда я думал о своем будущем в то давнее утро в Теотиуакане, меня вдохновляла любовь к человеческому видению. Даже сейчас, покидая видение Мигеля Руиса, я чувствую, как сила любви создает новые миры и новые возможности, для того чтобы обретать осознанность. Может быть, Сарита, мастер исцеления, тоже увидит это… и отпустит меня.
* * *
– La Diosa! – усмехнулась Сарита, благополучно воссоединившаяся с отцом. – Так она себя называет, хотя, похоже, такая же трусиха и задавака, как все смертные.
– Да, она совсем как обыкновенная женщина, – согласился дон Леонардо, не обнаружив и следа их проводницы. Все вокруг было окутано непроницаемым туманом. Возможно, он стоял в лесу в предрассветный час, когда солнце пытается пробиться через мощный строй тсуг[29], а все звуки мягко приглушены. Дон Леонардо прислушался: нигде ни ветка не треснет, ни зверь не прошмыгнет. Если отойти даже на небольшое расстояние, то можно потерять Сариту, поэтому он просто расхаживал, делая по три шага взад и вперед и рассекая туман, который от этого кружился светящимися клочьями.
– Женщина? Да какая она женщина! – воскликнула Сарита, щелкнув языком. – Чистое недоразумение, а не женщина!
Она понимала, что их спутница всего лишь болтающий что попало голос, но сейчас ей, как ни странно, не хватало этого рыжеволосого существа. Куда ее занесло на сей раз? Вместе они собрали уже много важных воспоминаний, но непонятно было, куда двигаться дальше. Она осмотрелась, желая понять, где они, но все заполнял собой густой туман. Холод пробирал ее до костей. Зря она не надела шерстяное платье.
– И правда, что мой внук заставил замолчать этот голос? – спросил ее отец.
– И да… – задумалась Сарита, – и нет. Ум его тих, и покой его прочен, но разве спрячешься от этого вечного гвалта вокруг, когда каждый так и норовит высказать свое мнение? – Нейлоновая сумка Сариты потяжелела от собранных воспоминаний, и она переложила ее в другую руку. – Пойдем дальше без нее?
Она посмотрела на отца.
– Куда? – спросил он, без всякого выражения глядя на нее. – Мы попали в гряду тумана на воображаемых дорогах времени. Ты все еще веришь, что в нашем путешествии есть смысл?
– Смысл? Речь идет о жизни моего сына!
– Да, его жизнь драгоценна, – мягко сказал старик. – Но не менее драгоценной может быть и его смерть – и показать человеку она может не меньше. Разве можешь ты знать, что лучше в конечном итоге?
Сарита отпустила сумку, и та шлепнулась у ее ног.
– Отец, если ты не хочешь помочь, то я отправлюсь дальше одна.
– Конечно же, я буду тебе помогать! – воскликнул он. – Просто мне хочется, чтобы ты взвесила, что будет лучше.
– Что же мне надо сделать, чтобы ты стал доверять мне? Я так и останусь для тебя навсегда маленькой растерянной девочкой?
Она устремила хмурый безнадежный взгляд в туманную даль.
– Для меня… что? – удивился он.
– Сколько лет я остаюсь посмешищем для всех родных?
– Посмешищем? С чего ты взяла?
– Может, я не очень хорошо училась, но кое-каких знаний набралась! Уж в этом-то можешь мне поверить!
Ей трудно было сдерживаться. Она сама понять не могла, что это вдруг нашло на нее.
– Я тебе верю. И никто над тобой не смеется, – заверил ее отец.
– А над моей готовкой? – с неожиданной горячностью выпалила она.
– Над готовкой? Ну, наверное, есть такие, у кого лучше по…
– А мои друзья? Ты всегда потешался над ними. А мужья мои? Как ты смеялся над ними все время!
– M’ija[30], у меня нет слов.
Лалы нигде не было видно, но у него было такое чувство, что ее дух вселился в дочь.
– Ах, теперь у тебя, оказывается, нет слов! Раньше-то ты только и делал, что судил да рядил направо и налево, – ни дня без этого не проходило. Забыл, как я малышку уронила?
Дон Леонардо словно онемел и вдруг расхохотался.
– Ах Dios[31], какую древнюю историю ты вспомнила. Ха! Со смеху умереть можно было!
– Вот видишь! Я никогда не забуду тот случай!
– Но ведь это ты о нем напомнила! – заметил он, смеясь. – Ты тогда сама ребенком была. Пятнадцатилетняя девочка с новорожденной. На минутку отвернулась – та и свалилась с кровати. У молодых мам такое не редкость!
– И что, над ними надо всю оставшуюся жизнь зубоскалить?
– Ты же прибежала к нам домой вся в слезах, с криками: «Моя малышка, моя малышка! Она упала! Что мне делать?» И только когда мы с матерью спросили, где же ребенок, ты вспомнила, что она так и валяется на полу. Бедняжка так и осталась там! Ты примчалась к нам – и даже не подняла ее, не посмотрела, не ушиблась ли она! Ну как тут было не посмеяться? – оправдывался он. – Ничего хорошего, конечно. Да, чудно́ это было – но все равно смешно!
– Я еще ребенком была. Я не…
– Я и говорю. Ты еще ничего не умела. Ребенок с ребенком. Если бы тебе не приспичило выйти за этого болвана…
– Вот! Вот оно! Я дура, я тупица, и больше ничего.
– Девочка моя дорогая, – проникновенно сказал он, стараясь смягчить послание и избежать лжи. – Теперь ты уже мать тринадцати детей. У тебя много внуков и правнуков. Ты мудрая целительница, ты творишь чудеса.
Он помолчал, дожидаясь, пока она снова улыбнется. И улыбка наконец заиграла на ее губах, хотя по глазам было видно, что эмоции еще не отпустили ее.
– Давай продолжим, – сказал он. – Покажи мне, как ты будешь возвращать к жизни этого человека, достойного восхищения.
– По правде сказать, я чувствую себя такой же молоденькой дурочкой – как тогда, когда удрала от малышки, а она кричала вовсю. – Сарита вытерла слезу и прокашлялась. – Я глупо себя веду, да, отец? Совсем одержимой стала, ума лишилась? Но я не могу его потерять.
– Ты не потеряешь его, дитя мое. Отправимся дальше и будем помнить, что страх делает нас глухими к истине. – Он стряхнул утреннюю росу с лацкана пиджака и поправил галстук. – Где же эта женщина?
– Женщина. – При мысли о Лале в ней опять взыграли эмоции. – Почему она является в виде женщины?
– Ты о чем?
– Женщина, серпент, сирена, змея. Чем женщины заслужили этот позор?
– Ах вот в чем дело. – Дон Леонардо посмотрел дочери в глаза и вздохнул. – Они его не заслужили. В человеческом видении есть мужчины и есть женщины. Есть она, и есть он. Кто рассказывает историю этого видения – он или она?
– Он, надо полагать.
– Вот именно, он. Женщинам так часто отказывали в доступе к знаниям, поэтому они завидовали мужчинам, у которых этот доступ был всегда, не правда ли? Разве не логично, что знания предстают в виде красивой женщины, так, чтобы ей можно было позавидовать?
– Совсем не логично.
– Не секрет, что мужчины жаждут знаний, и страсть эта неутолима. Поэтому знания часто изображают в облике женщины – столь желанной, что ее нужно добиваться, завоевывать.
– Да ладно тебе, отец.
– После того как детей отнимают от груди, их кормят знаниями, воспитывают через них, делают знания главным ориентиром. И поэтому что удивительного в том, что знания представляют в виде полногрудой дамы, матери, тигрицы, у которой можно найти защиту? Это поэтично! Как и всякой девушке, знаниям суждено потерять свою невинность. Как и любая женщина, они играют в прятки с истиной. – Старик посмотрел на Сариту блестящими глазами. – Продолжать?
– А почему змея?
– Это самое поэтичное сравнение! Знания не открывают нам истину. Женщина всегда была хранительницей этого царства – мудрости. Она обладала тайным зрением, а как знает каждый, истину может видеть Пернатый Змей.
– Получается, женщина олицетворяет сразу и робкое знание, и мудрость, так что ли?
– Я – мужчина. Для меня женщина олицетворяет все, что необходимо для моего существования.
– Отец, ты – мужчина, который пытается разобраться в символах, но совсем в них запутался!
– Он человек могучего ума, – присоединился к их разговору еще один голос. – Символы – это спасение человечества.
Рыжеволосая вышла из тумана. Вид у нее был посвежевший, она готова была продолжить поиски.
– Вернулась, значит, La Pomposa[32], – вздохнула Сарита. – К твоему сведению, без тебя тут все шло очень хорошо.
– Прошу называть меня La Diosa. – Лала огляделась. – Я бы не сказала, что все так уж хорошо. Вы застряли неизвестно где. – О том, что самой ей гораздо хуже, что она в полном отчаянии, она предпочла умолчать. – Вы заблудились в тумане.
– Выражаясь символически? – съязвил Леонардо.
– Символы служат человечеству, они помогают ему, – нараспев произнесла рыжеволосая. Слова – они как вода, как воздух, как… сильная женщина.
– Как вода и как воздух, они могут быть отравлены, – сказал Леонардо. – А как сильная женщина, могут злоупотреблять своей силой.
– Прошу вас, – вмешалась Сарита, которой не терпелось снова двинуться в путь, – уймитесь, оба.
* * *
Сарита подняла сумку и пошла, шаркая тапками по ухабистой поверхности, – кажется, это был асфальт шоссе. Согласно чьему-то загадочному намерению они оказались в следующем пункте назначения.
Зловеще стелился рассеивающийся туман, всюду мигали красные огни. Перед ними был пустой участок шоссе. Ночь уступала рассвету. В одну сторону движение было перекрыто, чтобы облегчить спецтранспорту доступ к месту аварии. Тут была полиция со своими автомобилями, их фары освещали искореженную машину. Сарита остановилась как вкопанная.
– Нет, только не это. – Перед ней разворачивалось воспоминание, которого она страшилась больше всего. – А нам обязательно возвращаться? Почему мы просто не идем по времени?
– Ха-ха! – Леонардо похлопал в ладоши. – Что значит «по времени», голубушка? Время можно по-разному проживать. Бывает, как говорил мой отец, время-хлопушка, когда все события взрывом рассыпаются из настоящего мгновения. Потом есть обычное время, как его воспринимают люди, – вереница событий, следующих друг за другом в предсказуемом порядке, так, как их запечатлевает память человека. Еще есть…
– Есть только то время, которое знают люди, – сказала рыжеволосая. – Знания доказывают, что это так.
– Время – это отчаянная уловка растерянных умов, – сказал Леонардо, залихватски взглянул на Лалу и подмигнул, но она снова повернулась к Сарите.
– Разве ты не собиралась просмотреть это воспоминание? – спросила она. – Тебе ведь нужны были события, которые сделали Мигеля тем, кто он есть, а это, по-моему, как раз такой случай. Хотя сейчас, глядя на все это, я не понимаю, почему это так. – Она рассматривала место происшествия и качала головой. Машина превратилась в бесформенную груду исковерканного, мятого металла. – Он чуть не умер – как это может помочь сформировать характер человека?
– Видишь, Сарита, оказывается, есть кое-кто и поглупее тебя! – с нескрываемым удовольствием воскликнул Леонардо.
– Отец, где он? – крикнула Сарита, вглядываясь в место катастрофы. – Он же остался жив в ту ночь, почему же его не…
– Сарита, его, конечно же, увезли в больницу.
– Но если его здесь нет, чему нас учит эта сцена?
– Чему учит? – усмехнулась Лала. – Ну, например, тому, что надо обращать внимание на знаки. Соблюдать ограничения скорости. Следовать правилам. Уважать письменное слово.
– Правила? Слова? Ты думаешь, ему тут было до них?
Пожилой господин стоял рядом с ней, выдыхая в зябкий ночной воздух облачка пара.
– Теперь вы видите, что ему не было никакого дела до порядка, – спокойно ответила она.
– Я теперь вижу, что ему в тот момент не было дела до своей жизни, – сказал Леонардо.
– А я теперь вижу, что ему тогда приоткрылась тайна. – По голосу Сариты было ясно, что до нее начинает что-то доходить. Она все не могла согреться и, дрожа, перекинула шаль через шею. – Он понял тогда, кем он не является. Здесь у него появилась настоящая цель. Старые цели привели его к этому мигу. Пусть ему понадобилось еще несколько лет, но после этого он нашел свой путь обратно ко мне. Он услышал, что его зовет истина. У него появились вопросы, он стал сомневаться. У него начался роман с тайной – вот здесь. Все это началось той ночью.
Лала скептически прищурилась:
– Роман? Здесь у него могла бы начаться любовная связь с трезвостью – чудесная пара могла бы получиться.
Дон Леонардо рассмеялся:
– В видении человечества, в этой вечеринке пьяных кутил, он пока остается трезвым.
Он снова засмеялся и обнял Сариту, которая все смотрела на то, что осталось от машины. Понимая, что ей нелегко быть свидетельницей уже второго несчастья, он хотел согреть и подбодрить ее.
И ему это удалось – она почувствовала себя сильнее и увереннее. Она наконец стала осознавать важность этого путешествия, превосходившую те цели и ожидания, которые были у нее вначале. Дело было не только в том, чтобы спасти ее умирающего сына. Она наконец видела сына таким, каким он был и вскоре будет. Она признала в нем наследника рода, от которого происходили великие воины Благородного Орла и древний ацтекский народ тольтеков. Он был вестником воодушевления в бездуховном видении. Он нес факел, зажженный раньше, чем в Мексике загорелся первый костер, и от его пламени зажгутся повсюду будущие огни.
* * *
Незадолго до автомобильной катастрофы, в которой я чуть не погиб, вся наша семья собралась на большой семейный ужин. Это была обычная встреча родных – тут были все мои братья, их жены и дети, мои родители, двоюродные братья и сестры, дяди и тети. Стол, как всегда в таких случаях, ломился от яств, царил беспорядок, дети шумно играли, а взрослые смеялись глупым шуткам и бесконечным историям из детства. Мне было очень хорошо, я хвастался перед всеми недавно родившимся ребенком и весело поддразнивал жену.
Однако весь вечер я не мог избавиться от чувства, что все вместе мы собрались в последний раз. Семья значила для меня очень много, и от мысли, что я могу никогда больше не увидеть своих родных, мне было не по себе. Что-то заставляло меня быть к ним всем в этот раз особенно внимательным – говорить с каждым отдельно, участливо слушать, в то же время бдительно охраняя сон моего малыша, которого я держал на руках. Меня наполняла любовь к близким, и думать о том, что мы, быть может, скоро потеряем друг друга, было неимоверно тяжело.
Я выжил после аварии, но ее вторжение в мое существование сильно изменило меня самого и все мои представления. По многим причинам я считаю, что это событие перевернуло мою жизнь. В то время я уже был мужем и отцом. Был уже зачат наш второй ребенок, хотя ни я, ни Мария этого еще не знали. Я учился на последнем курсе медицинского института в Мехико, при любой возможности был не прочь отдохнуть, повеселиться и часто бывал на разных вечеринках. В те дни я любил выпить и пировал, забывая об ответственности, которая на мне лежала.
Как-то раз, узнав, что в субботу вечером в Куэрнаваке[33] на танцы собирается много народу, я не колеблясь сказал жене, что собираюсь поехать. Мой брат Луис дал мне на время свою машину, и я отправился туда с двумя институтскими товарищами. Дорога представляла собой двухполосное шоссе, но машин не было, и можно было разогнаться. Доехали мы мигом. Вечер удался на славу. Мы веселились от всей души, спиртное лилось рекой. Выпив, мы танцевали, потом опять выпивали и снова танцевали. Под утро, когда пришла пора разъезжаться, мы втроем вползли в машину и некоторое время плутали по незнакомым закоулкам, пока не выехали на дорогу, ведущую домой.
Было все еще темно, я сидел за рулем. Мои друзья болтали и смеялись, вспоминая все, что было забавного за ночь. Я тоже смеялся, пока сонливость не одолела меня. Наверное, я затих, но товарищи не заметили этого. Дорога была свободна, и я ехал быстро. Когда один из моих друзей заканчивал рассказывать какой-то длинный анекдот, я отключился, машину повернуло и повело в сторону бетонной стены, шедшей вдоль дороги. Ничего больше про ту ночь я не помню, не вспомнить мне и саму катастрофу. Зато мне в мельчайших подробностях запомнилось все, что я пережил, находясь без сознания.
В тот миг, когда я лишился чувств, все замедлилось. Время потекло совсем по-другому, став слугой какого-то таинственного господина. Я был без сознания, но видел свое тело, сидевшее за рулем. Я слышал, как в страхе кричат друзья, и, хотя мое физическое тело было бессильно что-либо предпринять, мной овладел порыв помочь им, невзирая ни на что. С этим неотступным чувством я увидел, что открываю заднюю дверь – как будто машина остановилась, а не продолжала нестись по асфальту, – выношу одного из моих приятелей из машины и кладу на обочину шоссе. То же самое я проделал со вторым другом, сидевшим впереди. Когда оба они оказались в безопасности, я обхватил руками свое собственное тело, защищая его от удара, которого ожидал, – и он с неистовой силой обрушился на меня. Машина на большой скорости врезалась в стену и разбилась.
Очнулся я много часов спустя в больнице. Медсестра спросила меня, знаю ли я, что случилось. Я не смог ей ответить и лишь покачал головой.
– Вон как! – насмешливо сказала она. – Ишь, приятелей поубивало, а у него память отшибло!
Я был ошеломлен. Мне стало тошно. В тот миг мне хотелось умереть. Тут, увидев, в каком я ужасе, она призналась, что пошутила, а друзья мои целы и невредимы. Я не верил ей, и тогда она привела их ко мне. На обоих не было ни царапины. Как и на мне. Я услышал, что машина моего брата превратилась в металлолом.
Двое моих друзей были вне себя от радости и изумления, что остались живы, и не переставая, наперебой разглагольствовали о чудесах, которые, оказывается, случаются на свете. Мне же становилось все хуже и хуже. Меня, разумеется, ожидал разговор с братом. Но что еще ужаснее, меня ждала встреча с его женой. Возместить им утрату машины у меня не было никакой возможности. А как загладить вину перед родными, которые места себе не находили, беспокоясь обо мне? Но самое главное – у меня никак не укладывалось в голове, что же произошло со мной в ту ночь. Мои друзья не могли объяснить, почему их не было в машине в момент катастрофы. Никто не мог объяснить, каким образом человек, сидевший за рулем, мог остаться в живых после такого удара. Если я отключился, когда вел машину, то кто защитил меня? Если я – не мое тело, то кто тогда я?
Медицинское образование никак не помогало мне ответить на эти вопросы. Я старался мыслить научно, и меня до сих пор не волновали вопросы, на которые невозможно найти ответа. Эта ночь много лет не будет давать мне покоя. Я стал серьезнее относиться к своей работе и семье. То, чем увлекались мои друзья, утратило для меня всякий вкус. В тот же год родился мой второй сын, Хосе. Он подрастал, и мне стало казаться, что изменения, произошедшие во мне во время катастрофы и после нее, каким-то образом подействовали и на него и между нами возникло некоторое сходство. Внезапное пробуждение, которое пережил я, казалось, подобным же образом пробудило и его – еще в утробе матери, где начинался его собственный путь к осознанности. Он был необычным ребенком, а молодым человеком проявил природные способности к интуитивному знанию. Много раз я входил с ним в одно и то же видение – иногда я думал, что вспоминаю о событиях собственной жизни, а потом оказывалось, что они происходят с ним. Когда у меня случился инфаркт, ему было чуть за двадцать, но ему все еще трудно было свободно общаться с другими людьми. Я всегда знал, что это изменится, что придет день, когда он заговорит с миром как любящий вестник, но я также догадывался, что должен буду помочь ему.
Сейчас, видя, как давние события предстают перед взором моей матери, я начинаю задумываться: а может быть, она права, когда говорит, что меня еще ждут дела в этой жизни – хотя бы в том, что касается моих сыновей? Конечно, она любит меня, и ей нестерпима мысль о том, чтобы похоронить еще одного из своих детей, но и мои дети любят меня – они рассчитывают, что я буду рядом с ними, пока они сами не будут готовы видеть собственные великие видения. Я чувствую, как больно матери, когда она смотрит на искореженные останки машины, на которой я в ту ночь врезался в ограждение. После аварии она всегда готова была помочь мне разобраться в том, что произошло, и побуждала меня искать ответы на продолжавшие беспокоить меня вопросы. Она в любую минуту рада была прийти мне на помощь, когда я из юноши превращался в мужчину и пытался исследовать миры, недоступные обычному пониманию. Она готова была помогать тогда – и готова сейчас. Буду ли я так же готов поддерживать своих сыновей? И возможно ли это вообще?
После катастрофы все в моей жизни изменила воскресная Школа Видений Сариты. Мы с женой переехали в Тихуану[34], где я проходил интернатуру в Больнице социального обеспечения. Потом я начал работать нейрохирургом, ассистируя моему брату Карлосу. Я уже готовился начать собственную практику и восхождение по карьерной лестнице в медицине, когда воскресные занятия по видению у Сариты в конце концов подтолкнули меня к другой работе. Вместо того чтобы лечить болезни и неврозы, мне захотелось узнать их причины. Эти поиски в конечном счете привели меня вместо медицины к области, заниматься которой мне казалось не очень-то удобным. Хотя для многих из моей семьи это было делом совершенно естественным.
В детстве я иногда был свидетелем необъяснимых событий. Мой дед – да и его отец – был удивительным человеком, свершившим много загадочного. А еще у меня была тетушка, которая, похоже, владела магией. Она любила угостить родных ужином во дворе за своим домом. И вот как-то раз во время одной из таких веселых посиделок я сидел за столом рядом с ней. Мне тогда было лет шесть или семь, и я с восторгом слушал ее смешные истории о том, как она росла со своими братьями-озорниками. Во время одного из таких рассказов она легонько толкнула меня локтем в бок и попросила сходить на кухню – принести маленькую голубую миску. Я вскочил со стула, побежал на кухню – и увидел там тетушку. Она мыла посуду над раковиной. У меня перехватило дыхание, пораженный, я замер на месте, уставившись на нее.
– Ты чего? – спросила она.
– Я… мм… я за миской, – ответил я.
– Вот, возьми, – как ни в чем не бывало сказала она, махнув по голубой миске кухонным полотенцем и вручая ее мне.
Я схватил миску и помчался к столу во дворе, чтобы отдать ее все той же самой тетушке. В знак благодарности она подмигнула и поцеловала меня! Я навсегда запомнил тот случай, но таких случаев в моем детстве было столь много, что они уже не казались чем-то необычным.
Я, молодой врач, переживший в ту ночь на шоссе опыт восприятия себя как чего-то, отличного от своего тела, начал вспоминать подобные эпизоды один за другим. Эти воспоминания как будто звали меня, давали повод исследовать все, чего я не знал о жизни, все, чего не понимал в себе. Ученичество у Сариты стало для меня лучшей возможностью найти ответы на эти вопросы. Так, давно уже получив диплом врача, я начал все сначала. Я начинал с нуля, проработав несколько лет хирургом. И начал я с неизбежного вопроса: «Кто я?»
9
– Бред какой! – прошептала Лала.
– Это событие, которое остается в памяти, богиня, – сказала Сарита.
Она немного приободрилась, после того как исчезло видение аварии. В то же время странно вдруг было очутиться на стуле в маленькой комнатке с зеркалами по стенам. Сначала она не понимала, почему попала сюда, но потом вспомнила разговор с Мигелем в первую встречу с ним – когда он в больничном халате сидел на ветке древа жизни и грыз яблоко. Он говорил тогда о звездах и космосе, о том, что весь мир материи – это отражение бесконечной жизни. Тогда мир, в сущности, и есть зеркальная комната. Здесь это было ей очевидно. Ее сын понял это – сделал свое открытие о зеркалах – во время ученичества. Позже он стал заниматься самостоятельно, погружаясь в видение по нескольку часов кряду в комнате с зеркалами. Он регулярно практиковал этот вид медитации до тех пор, пока не перестал нуждаться в напоминании… то есть пока не пережил на опыте, что он и все вокруг – это отражение истины.
Сарита смотрела на все эти отражающие поверхности, и ее не оставляло какое-то странное чувство.
– А почему это тебя в зеркалах нет? – спросила она Лалу.
Хотя ее спутница сидела рядом, прижавшись к ней в тесноте, Сарита нигде не видела ее отражения.
– Тебе лучше знать. Это же твое видение.
– Это видение моего сына.
– Гм. – Лала нахмурилась. – Откуда же тогда столько лиц матери Сариты?
Старая женщина и сама была бы не прочь получить ответ на этот вопрос. Ее озадачило такое количество собственных отражений – они множились, разбегались, создавая вселенную, у которой, по-видимому, не было пределов. Со всех сторон, куда ни кинь взгляд, на нее смотрел собственный образ. В каждом зеркале сидела сгорбленная, усталая, отяжелевшая старуха. Она всегда гордилась тем, что следит за собой: и волосы у нее всегда были причесаны как следует, и одевалась она хорошо, но в этих отражениях она представала неряхой. На нее глядели толпы растрепанных старушенций в поношенных шалях, с унылыми лицами. Тогда она бодро улыбнулась, надеясь поправить картину, в ответ ей улыбнулись тысячи лиц, и в комнатке стало веселее. Так-то оно лучше, подумала она, проводя дрожащей рукой по седым волосам и чуть выпрямляясь.
Помещение было совсем маленькое – что-то вроде чулана или гардеробной. На стенах висело восемь зеркал в рамах. Ни одежды, ни чего-то другого здесь, однако, не было – одни зеркала, да кто-то положил коврик на пол и поставил на белых блюдцах свечи, которые были таинственным образом зажжены. От их мерцания все отражения казались живыми. Лала еще плотнее прижалась к ней, почти положив свою ногу ей на ногу и уперевшись острым локтем ей в ребра, так что Сарите очень захотелось оказаться на каком-нибудь удобном диване. Разве иллюзиям позволительно вызывать боль?
– Ты правильно отметила, – сказала Сарита, и ее голос эхом отразился от стекол. – Пока сам Мигель тут не появится, это не его видение.
– Сестра, но еще один человек тут уже не поместится, – откликнулась Лала. – А что, если еще и отец твой присоединится к нам или, не дай бог, этот призрак по имени Эсикио?
Она побарабанила по зеркалу, в которое смотрела, как будто этот стук мог помочь ей увидеть себя. Она постучала еще, и вдруг что-то резко изменилось в комнатке. Все отражения Сариты исчезли, а на их местах появились освещенные свечами бессчетные лица Мигеля Руиса.
Лала испуганно подтянула под себя ноги. Мигель сидел рядом, прижавшись к ней теплым боком. Его присутствие поставило под угрозу само ее существование. Казалось, к ним пришел сам смотрящий, а не только воспоминание о нем. Кем бы он ни был сейчас – отчаявшимся телом, цепляющимся за жизнь, или сознанием, переписывающим свою историю, – реальность его невозможно было отрицать. Одним лишь своим присутствием он вдыхал в видение жизнь. Зеркала теперь стали бесконечной вселенной возможностей, по сравнению с которой знания казались чем-то ничтожным, не имеющим никакого значения.
– Интересно, – услышала его голос Лала.
Это он с ней говорит? Она смотрела на ставшего моложе Мигеля: он всматривался в калейдоскоп отражений. Улыбнувшись, он закрыл глаза, как бы желая удержать ощущения еще на несколько драгоценных секунд. Вот где она навсегда потеряла его – в такой же комнатке с зеркалами. Да, места тут было явно маловато. Ей стало трудно дышать, и не потому, что они сидели в тесном чулане, а потому, что, по крайней мере сейчас, ничто не способно было спасти знания от уничтожения.
– Чрезвычайно интересно, – сказал он, открывая глаза. – Разве нет?
Он обращался к ней, но она ничего не ответила.
– Ты здесь, – произнес он, – и в то же время тебя здесь нет.
Она посмотрела в зеркала и не нашлась, что на это сказать.
– Ты существуешь – и в то же время не существуешь. – Он помолчал. – Я чувствую, что ты рядом. Я слышу твои слова: они эхом отдаются у меня в голове, как чьи-то воспоминания, но я тебя совсем не вижу.
– Поверь мне, – непривычно робко сказала она. – Я настоящая.
– Это так – и не так. Ты думаешь, что ты настоящая, и я так когда-то думал. Но это не так.
– Все подчиняется моему повелению. – В ее голосе зазвучали воинственные нотки. – Люди действуют и реагируют лишь потому, что я им велю.
– Однако ты не человек. Смотри. – Мигель разглядывал множество своих отражений, но ее не мог отыскать. – В этой комнате только один человек.
– Я – человеческий ум, – надменно сказала она. – Попробуйте-ка обойтись без него.
– Ты – плод ума. Это так – и не так. Ты – человеческий гений. И это так, да не так.
– Знания навечно возвысили дух человека.
– Ах, никогда еще голос знаний не звучал столь разумно! – Мигель улыбнулся и добавил: – Ты права – и не права. Знания могут возвысить дух, а могут и подорвать его силу. Они – причина всех трудностей человечества, и они же – их преодоление.
Лале хотелось сказать что-нибудь в свою защиту, но она колебалась, вдруг почувствовав неуверенность. Он что, пытается запутать ее? Она следила за лицом Мигеля, находящегося в видении, которое ему показывали бесчисленные зеркала, и размышляла. Людьми руководят мысли, убеждения, общие мнения. Убеждения естественным образом отражают друг друга. Одна мысль имитирует другую, как отражения в этой несчастной комнатушке, создавая столько разных миров, что их не сосчитать. Истории множатся, воспроизводя друг друга при каждом пересказе. Что в этом плохого?
– Любовь моя, истина обитает не в этой комнате, – сказал Мигель. – Здесь, как и в мире человеческого мышления, есть только эхо и отражения.
– Слушай, ты говоришь совсем как тот старый шут! – воскликнула она, свирепея при воспоминании о его прадеде. – Никакое я не эхо – и смотри, у меня ведь нет отражения, как ты и говоришь!
Мигель закрыл глаза, словно для того, чтобы представить ее себе такой, какая она есть.
– Из реального в этой комнате – только этот человек, – вздохнул он. – Знания, любовь моя, – это голос, непрекращающийся рассказ, история. Да, он меняет человеческую действительность к лучшему – но и к худшему тоже.
– Твоя история – это единственное, что останется после тебя, а я покровительница историй.
– Ты рассказчица, это правда. И искательница истины. Ты лгунья, ниспровергательница – но также ни то и ни другое.
Она придвинулась совсем близко к нему и прошептала на ухо:
– Я – это ты. Да, я – это ты! Признай это. Я – это ты, и я реальная.
– Признаю, ты хочешь быть реальной. Но я признаю и то, что ты не реальная. И это тело свидетель тому.
Она увидела, как в зеркале бессчетные отражения Мигеля прикладывают красивую руку к сердцу. Ее обжег огонь ярости.
– Тебе нужна истина? Ты ищешь то, что невозможно найти, – а тем временем вот она я! Я полна желания, бери меня. Все это время я шепчу тебе, маню тебя!
Пытаясь найти удобную позу в этой тесноте, она скрючилась прямо перед Мигелем. «Ну и пусть, – подумала она. – Пусть посмотрит на свое собственное лицо».
– Где я – там уверенность, там ясность, – убежденно сказала она. – Со мной всегда победишь, без расплаты!
– Расплата бывает огромна, – возразил он. – Люди платят непомерную цену за свои верования.
– Чем была бы жизнь человека без убеждений? – спросила она.
– Сколько помню, ты все время мне это нашептываешь, – устало сказал он. Взгляд его устремился туда, где она должна была бы отражаться. – Есть только жизнь, любовь моя, – прошептал он, – и бесконечное число точек зрения. Видишь?
Он кивнул на отражения в отражениях, окружавшие их.
– Меня увидь, – с силой сказала она, вдруг забеспокоившись.
– Я тебя вижу, – заверил ее он.
– Признай меня.
– Признаю.
– Скажи, что ты мой!
– Это ты моя, – сказал он. – А теперь уходи.
Не успела она и слова сказать, как видение закончилось, зеркала исчезли – и она была изгнана из разума Мигеля Руиса.
* * *
Оглядываясь в прошлое, я ясно осознаю, что работа с зеркалами стала важной частью моего обучения, которая помогла мне понять природу света и его отражений. Материя и все, что связано с материей, – это отражение истины. Материя отражает свет, поэтому сам мозг – это зеркало, которое посылает информацию света всему телу. С этой точки зрения можно сказать, что ум – который так важен и сложен – тоже лишь одно из многочисленных отражений.
Когда подошло к концу мое ученичество у Сариты, мне пришла в голову мысль создать для себя дома небольшое пространство в одной из кладовок в коридоре, повесить там зеркала и заняться практикой видения. Там я погружался в видения о материи и человеческом уме. В видении я не размышлял, не полагался на знания, как раньше. Так я практиковал видения каждый день в течение многих месяцев, и память о прозрениях, посетивших меня в то время, драгоценна для меня. Это важные воспоминания: вместе с другими знаменательными событиями они способны дать форму новому видению.
Я начал понимать, что знания – главное действующее лицо в истории любого человека; это отражение истины. Для того чтобы поставить знания на положенное им место, нужна перемена в сознании. Ум должен отнестись к себе скептически. Он должен начать все подвергать сомнению. Конечно, он и дальше будет, как ему и положено, рассказывать истории, но теперь это будет происходить на сто процентов осознанно. Без осознанности мы подчиняемся правилам, создаваемым знаниями, и живем на их условиях. Общие знания, коллективные знания, принятые на веру знания определяют путь, по которому мы движемся в человеческом видении, это они принимают за нас самые важные решения. Лучшие из наших убеждений, как и наши истории, можно изложить по-разному, с различных точек зрения. Но мы в любое время можем отбросить их. Мы можем посмеяться над историей, которую сами же рассказали. Любое убеждение можно отложить в сторону. Если мы решим, что какое-либо из них и есть абсолютная истина, то как же нам двигаться к следующему прозрению? Как сможем мы быть художниками, рассказывающими новые истории, преображающие действительность?
После катастрофы мне понадобилось несколько лет, чтобы отвести правильное место моим знаниям и с готовностью открыть разум новому. Я не находил никаких научных объяснений тому, что пережил, поэтому и вернулся к моей семье и к шаманству. Теперь я был дальше от непреложных постулатов, чем когда начинал работать врачом. Мои родители, бабушки, дедушки и вековая традиция вели меня путями, которыми наука не ходит. А еще у меня был брат Хайме – тот, который задирал меня в детстве, но которому очень нравилось, что я так люблю придумывать новые игры и умею по-новому взглянуть на жизнь, по-новому действовать.
Я рад, что мать, решив вернуть меня к жизни, обратилась за поддержкой к Хайме. Мой брат и я были близки в детстве, но школа, девушки, разные друзья и разность интересов отдалили нас друг от друга. После того как мы женились, семьей для нас стали уже не родители, братья и сестры, а жены, дети и свойственники. Потом наши браки распались, дети выросли. Со временем моя жизнь изменилась до неузнаваемости, и мы с Хайме уже и признать-то друг друга могли с трудом. Понадобились годы, чтобы это наконец изменилось. Изменения начались, когда мы оба учились у Сариты, помогали ей исцелять людей и каждое воскресенье вместе с ее учениками практиковались в видении.
Воскресные занятия по видению представляли собой то, что и предполагает их название. Целый год каждое воскресенье по утрам группа из двадцати одного ученика собиралась в доме моих родителей, чтобы погрузиться в видение. Под видением подразумевалось многое. Нужно было долгие часы сидеть в неподвижности. Ум необходимо было успокоить, так чтобы мозг воспринимал все самостоятельно. Это было необычное обучение, часто оно проходило в состоянии транса, и тогда с каждым разом становилось все понятнее, что действительность – это видение.
В отличие от реальности бодрствования, в ночном сновидении нет никакой упорядоченности. Транс – это во многом то же самое; там нет никакого порядка, он не подчиняется никаким законам. Наши воскресные сеансы видения в то далекое время обычно длились довольно долго – так, что можно было войти в транс. Путешествие могло быть коротким, но могло занять и целый день. Моя мать тонко чувствовала потребности каждого ученика и подходила ко всем индивидуально. В один из таких дней, при ее заботливом наблюдении, я провалился в видение, длившееся, казалось, целую вечность…
Как только мой ум перестал сопротивляться, я обнаружил, что вместо гостиной моей матери стою в длинном коридоре, который заканчивается нишей с факелами, отбрасывающими на все колеблющийся свет. На стенах из красного гранита были высечены подробные изображения людей, животных и еще каких-то фигур – они были плохо освещены, и трудно было понять, что там. Бесчисленные символы, четко нанесенные строчками и столбиками, походили на какие-то священные тексты. Рисунки не были похожи на те, что оставляли мои ацтекские предки. Похоже, они принадлежали цивилизации, существовавшей в другом месте, видению, породившему тысячи других видений. Я решил, что попал в тайные катакомбы, спрятанные под одной из древнеегипетских пирамид. От залежей минералов в толще камня по моему телу побежало электричество, экзотические пряные ароматы будоражили мои чувства, вызывая образы забытого человечеством видения.
Несмотря на состояние транса, я был очень взволнован. Не важно, как я оказался в этом месте, оно сулило огромные возможности. Мое любопытство усилилось, когда появился высокий человек в белых одеяниях. Он был лысым, его гладкая голова блестела в свете факелов, придавая ему вид какого-то божественного существа. Некоторое время он разглядывал меня, потом заговорил голосом, исполненным бесконечного терпения.
– Знаешь ли ты, кто я?
Я не задумываясь ответил:
– Вы – верховный жрец.
– А знаешь ли ты, где находишься?
На этот вопрос ответить было не так легко.
– Я… наверное, здесь учат.
– Верно, – улыбаясь, сказал он. – Это место для обучения. Символы, которые ты видишь, послания, так тщательно вырезанные в камне, предназначены для тех, кто видит. Готов ли ты видеть и учиться?
Я был весь внимание. Это видение не имело ничего общего с той реальностью, в которой я жил, однако происходящее представилось мне более чем реальным.
– Да, я хочу учиться.
– Тогда ты останешься, – повелел его низкий голос. – Ты сосредоточишь все внимание на этих стенах с высеченными знаками и не уйдешь отсюда, пока не разберешь, что там написано.
Когда он произносил эти слова, у меня возникло множество вопросов, но не успел я и рта раскрыть, как он исчез. Я огляделся, не зная, с чего начать, и пошел по помещению, проводя пальцами по начертанным символам и пристально разглядывая стены. Я был очень взволнован, но и напуган не меньше. А что, если мне не удастся прочесть эти письмена? Что будет, если я не смогу их расшифровать? Если у меня не хватит ума, как смогу я когда-либо выбраться из этого бездыханного пространства?
Коридор был узкий, но очень длинный, стены поднимались метра на три с половиной. Они были сплошь покрыты иероглифами. Некоторые рисунки казались знакомыми, некоторые наводили на интересные мысли, но извлечь из них хоть какой-нибудь смысл мне не удавалось. Я направил все свои умственные усилия на то, чтобы разгадать знаки этого языка и узнать, что за послание они скрывают, но чем больше я старался, тем труднее мне становилось. Время от времени я начинал распознавать некоторую закономерность, но все мои попытки истолковать надпись оказывались нелепыми и приводили к бессмыслице. Я пробовал применить знакомую логику к незнакомым рядам символов – получалась абракадабра. Извлекая смысл каждого отдельного рисунка, я не видел, как они связаны между собой. Вот так же ребенком на кухне у Сариты я слушал с десяток разговоров, происходивших одновременно, не понимая ни одного из них. Для маленьких детей разговор взрослых – это просто шум, но он может по-своему успокаивать. Он говорит ребенку, что люди рядом, что в любую секунду к тебе придут на помощь и что, как бы громко они ни галдели, ты в безопасности. Гвалт в моих древних катакомбах нарастал, но безопасностью здесь и не пахло. Стены что-то кричали мне. Символы восклицали, спорили, противоречили друг другу. Их значения пересекались и сталкивались друг с другом. Знания кичились и чванились, и конца не было видно их радостному бахвальству.
Нет, в этом галдеже никакой помощи ждать не приходилось, и я ясно увидел: да это ведь тот самый ад, что царит в человеческом видении. Я начал смутно сознавать, что нахожусь во сне, в трансе, а тело мое лежит где-то в настоящей комнате. Я сознавал, что кто-то, должно быть, ждет, когда я пробужусь, но мое видение от этого никак не менялось. Возможно, я пребывал в нем несколько минут или часов, но у меня было четкое ощущение, что прошли уже века, а может быть, и миллиарды лет. Каждое мгновение тянулось медленно, казалось бесконечным – время шло, а я не продвинулся ни на шаг. Поставленная передо мной задача теперь представлялась мне непосильной. Этот вызов был мне не по зубам. Меня начала охватывать паника, но от нарастающего страха я только еще больше запутывался. Когда я наконец понял, что вернуться в бодрствующее состояние у меня нет ни малейшей возможности, страх стал отступать. Теперь я знал – из моих судорожных стараний ухватить мудрость, запечатленную на этих стенах, ничего не выйдет, мне суждено остаться здесь навеки. И тогда шум стал стихать.
Сдавшись, я рухнул на землю. И вдруг наступила полная тишина. Воцарился покой. Меня оставило назойливое чувство, что нужно непременно что-то делать, я потерял ощущение времени. Как будто бы я сам стал временем: я безмятежно покоился здесь, а бессчетные космические события двигались внутри и вокруг меня, словно неугомонные молекулы. Никакие потрясения не способны были поколебать мою вечную природу.
Наконец я осмелился поднять взгляд на возвышавшиеся надо мною стены. Теперь я смотрел на них совсем другими глазами. Их послания достигли самой сердцевины моего естества, как будто их сущность вдруг оказалась той же самой, что и моя. Как мог я быть таким слепым? Передо мной было древнее знание, неподвластное времени и такое знакомое – как само человечество. Это была история человеческих знаний, уходящая к самым ранним египетским текстам, иногда называемым «Книгой Тота». Мудрость, записанная египетскими провидцами, заключала в себе все существовавшие к тому времени знания и стала фундаментом всех будущих знаний. Вот что увидел я.
Освободившись от навязчивого желания понимать, я смог наконец постичь все. Я видел лишь символы – и мне ясно было, что за намерение стоит за ними. Я смотрел сквозь них и видел то, что было в умах людей, которые их создали, чтобы выразить истину. Эта мудрость существовала в каждой традиции и каждой культуре и хранилась в тайне немногими посвященными. Символы изменяются, претерпевают многие превращения, из них вырастают теории, выраженные словами. Подобно священным картам Таро, авторитет которых был подорван суевериями и бесконечными салонными играми, священное знание постоянно вытеснялось знаниями расхожими. Слова и символы искажают нечто реальное. Я понял все это, и больше, чем это. Я был изумлен, восхищен, мне хотелось, чтобы этот высокий человек вернулся. Мне хотелось рассказать ему о том, что я увидел и понял, мне хотелось его одобрения.
И он предстал передо мной. Он стоял в нише, и под факелами его белые одежды отсвечивали золотом. Он долго смотрел на меня. Невозможно было понять, что выражает его лицо. Он заговорил прежде, чем я успел собраться с мыслями.
– Теперь ты можешь идти.
Идти? И это все? Я почувствовал горькое разочарование. Мне хотелось закричать: «Но я знаю истину!» Мне так хотелось все объяснить, но я вдруг понял, что ждал одобрения от самого себя. Объяснять себе то, что я уже знаю, не имело смысла. Тогда я постиг, что стоит только произнести слова, как истина теряется. Можно высечь в граните символы, запечатлеть их на века, но истина всегда будет оставаться за пределами слов, вне досягаемости для чудесных художников, что вырезали эти рисунки в камне, она останется неподвластной многочисленным истолкованиям.
В следующее мгновение я уже бодрствовал. Из кухни моей матери до меня долетали запахи готовящегося ужина, доносилась веселая болтовня. Мой мир был точно таким же, каким я его оставил, но сам я, похоже, никогда уже не буду прежним.
10
– Постой же, – перебила его Дхара. – Чего мы все-таки хотим в конечном счете добиться?
Они с Мигелем шли к руинам великолепного Теотиуакана. Это было в 1992 году – их первая поездка с учениками; некоторые из них рвались в бой, других мучил страх неизведанного. Они готовились к предстоящему дню, Дхара говорила, сомневалась, задавала вопросы, но почти не умолкала, чтобы выслушать ответ.
– Обожаю это место, его историю, – продолжала она, – эти пирамиды! Господи, какая красота! – Она в восторге раскинула руки, охватывая взглядом эту удивительную панораму, а Мигель молча слушал ее. – Это место силы, несомненно. Я вот стою тут с тобой и чувствую это. Значит, мы создадим ритуалы, и… и что дальше?
– В каком смысле «что дальше»? – спросил он, глядя, как она удаляется.
– На что им надеяться, что они могут получить от всего этого? – пояснила она.
– «Надеяться» не нужно. Гораздо лучше оставить всякую надежду.
Она сделала еще одну попытку уточнить свой вопрос:
– Что ученики извлекут для себя из этих поездок, Мигель?
– Осознанность.
Он взял ее за руку и повел к ступеням на площади Ада, которая олицетворяет большой базар митоте. На ярмарке человечества каждый что-то продает и каждый что-то покупает. Все говорят, и никто не слушает. «Как вот это может стать началом чего бы то ни было, не говоря уж о пути на небеса?» – думала она. Мигель посмотрел вдаль через площадь – за ней стояла небольшая пирамида, посвященная богу Кецалькоатлю. Вот откуда надо будет начинать, говорил он. Ученики должны будут оставить за спиной свой личный ад и совершить прыжок в непостижимое. Они должны будут отбросить свои убеждения и обрести осознанность.
– Осознанность, – повторила Дхара. – Да, но как?
– Они перестанут верить себе.
– Ну, может быть… – с растущим беспокойством сказала Дхара. – Но мы должны дать им что-то. Им нужно во что-то верить.
– Ты так считаешь? – спросил он.
Он все смотрел через площадь, видя то, что увидеть нельзя, и думая о том, что принесет этот день, – с ними приехало шестнадцать учеников, и некоторые из них были настроены весьма решительно. Было раннее утро, но осталось уже меньше часа до того, как ученики начнут собираться здесь.
– Без веры, без убеждений… – начала было она, но слова ее растворились в гнетущей тишине. – Мигель, ради бога! Скажи, что они будут здесь делать? – пыталась она добиться от него ответа.
– Они увидят, в чем обманывают себя, и отбросят свои ложные верования.
– Отбросят? Как? Мы… мы что, расскажем им, что Санта-Клауса не существует?
– Мы расскажем им, что не существует их самих. Они узнают, что их сфабриковали.
– Сегодня? Вот так сразу?
Мигель рассмеялся и обнял ее, чтобы подбодрить.
– Сегодня, – сказал он. – Мы начнем с ада. Отправной точкой будет митоте – видение человечества. У них будет возможность признать, что они находятся в аду, и решить, хотят ли они из него выйти.
– Так… И как же они будут из него выходить?
– Для этого им нужно понять, что их там держит.
Находясь здесь, он мог представить себе путь, который за все эти столетия прошли многочисленные ученики под руководством безупречных мастеров. Недавно посвященные сталкивались здесь лицом к лицу со своими демонами – страхами и худшими из своих суждений.
– Что же держит нас в аду? – спросила Дхара.
– Обычно приводится много отговорок, но ни одна не оправдывает такого положения вещей, – ответил он. – Человечество предрасположено к страданию, и есть тысяча оправданий этому.
По хмурому взгляду Дхары видно было, что она не очень ему верит.
– Предрасположено? Значит, ты хочешь, чтобы они покончили с этим и увидели свои отговорки. Ты предлагаешь им перестать лгать самим себе.
– Вот именно.
Она намеренно вдохнула и выдохнула, не зная, что делать дальше.
– Мне можно начинать?
– Конечно! Давай! – воодушевленно сказал Мигель.
Оставив ее одну, он отошел к дальнему краю лестницы и сел там.
Дхара нашла себе место, где можно было почувствовать некоторое уединение, и предалась медитации. Она просматривала свою жизнь. Через несколько минут она взглянула на Мигеля. Лицо ее начинало мрачнеть.
– Это что-то вроде исповеди? – спросила она.
– В некотором роде. Ты исповедуешься самой себе. – Некоторое время он смотрел на нее, думая о чем-то, потом предложил: – Найди себе какой-нибудь камешек или еще что-нибудь, пусть он будет твоим ритуальным предметом. Пусть он символизирует твою связь с адом – может быть, твою ненависть, или страх, или чувство вины. А может быть, гордыню, – с усмешкой добавил он.
Поискав у себя под ногами, она нашла пластмассовую пробку от бутылки.
– О’кей, – сказала она, с почтением подержав ее. – Я осуждаю людей. Ничего не могу с собой поделать. И чувствую, что меня тоже все время судят. Мне нужно все это тебе рассказывать?
– Рассказывай это себе, Дхара. Что заставляет тебя раздавать оценки? Посмотри, как осуждение причиняет боль тебе и тем, кого ты любишь.
Дхара отвернулась от него и закрыла глаза, держа пробку от бутылки, как священный предмет, в который она изливала весь яд, накопившийся за целую жизнь в страхе. Вскоре она тихо заплакала, но Мигель не подошел к ней. Нечто, начавшееся как игра, в которую ее вовлекло любопытство, должно превратиться в акт преображения. Он не будет вмешиваться. Время шло, она плакала, вздыхала.
Успокоившись, Дхара вновь обрела дар речи.
– И что теперь? – спокойно спросила она.
– Теперь прости себя, – негромко сказал он, – ведь ты не знала, что делала с человеком в себе.
– Не знала – до сегодняшнего дня.
– Теперь ты поняла это. Теперь ты чувствуешь ответственность перед этим человеком. Единственный грех – идти против себя. Причиняя боль кому-то, ты вредишь себе. – Он посмотрел на нее и продолжал: – Это можно назвать покаянием. Таинства создавались как важный инструмент пробуждения осознанности в человеке, но они во многом утратили свою силу и смысл. Верни им силу для самой себя.
На ступеньках выше собирались ученики. Они молча садились и ждали, наблюдая то, что происходит у них на глазах. Дхара снова заплакала, на этот раз ее рыдания были громче. Мигель встал, подошел к ней и тоже стал ждать. Через некоторое время она успокоилась.
– А теперь, – мягко сказал он, – подумай, как ты можешь возместить ущерб. Можно проявить к кому-нибудь сострадание, вместо того чтобы обвинять. На смену осуждению может прийти великодушие. И быть может, ты начнешь принимать саму себя такой, какая ты есть. А когда будешь готова, похорони ритуальный предмет. Расстанься со всем этим.
– Мне очень больно, – сквозь слезы проговорила она, как будто переживая агонию. – Мне кажется, это убивает меня.
– Это убивает твою ложь, – сказал он, глядя, как она встает и спускается по последним ступенькам.
Она нашла палочку и выкопала в сухой земле ямку. Потом положила туда свою пробку и засыпала, пробормотав молитву благодарности. Что она предала земле? Маленькую ложь, которая повторялась изо дня в день? Или это она Дхару похоронила? Как бы то ни было, пришло облегчение. Она подняла на Мигеля вопросительный взгляд.
– Продолжай. Найди еще что-нибудь, – сказал он, показывая на открытое пространство площади. – Ты еще не выбралась из ада.
Это было не то, чего она ожидала.
– Нет, я не могу опять пройти через это, – с мольбой сказала она. – Не могу.
Мигель кивнул на увеличивавшуюся группу учеников.
– Им придется пройти через это много раз, прежде чем они смогут хотя бы увидеть врата из ада, – сказал он так, чтобы было слышно всем. – И тебе тоже придется проделать это еще много раз. Пора разрушить человеческую форму – бросить вызов всей твоей системе убеждений.
– Позволь мне сейчас помогать им.
– Им помогу я, – сказал Мигель. – А ты не останавливайся. Ты правильно живешь, но день и ночь несешь в себе ад. Как и все, ты заставляешь себя тысячу раз расплачиваться за то, что совершила давным-давно. Ты и других заставляешь платить – за твой страх, за твои знания. – Он поколебался и сказал, пристально посмотрев на нее: – Или потом придется заплатить нашей любовью?
Ее глаза на миг полыхнули гневом.
– Я хочу видеть то, что видишь ты, – сказала она.
– Тогда продолжай, любимая.
Он смотрел, как она идет на площадь – и в тот ад, который своими силами создавала в своей душе всю жизнь. Это первый шаг. Он знал: ей предстоит сделать еще много шагов. Выбрав жизнь в Царствии Небесном, там, где правит уважение, где счастье приходит к человеку без всяких усилий, она должна будет совершить еще много открытий. Она обнаружит, что выйти из ада означает также отбросить свои любимые истории. Даже небеса кажутся людям уже не такими желанными, как только они понимают, что под угрозой оказались их убеждения. Они готовы подвергнуть сомнению свою истинную природу, но только не свои знания.
То, что этот путь начала Дхара, было правильно. Это она разыскала Мигеля, явилась перед ним наяву из его видений. Вместе с этой женщиной он мог идти по жизни. Она была его женщиной, и на карту было поставлено счастье всей ее жизни.
Мигель велел ученикам последовать примеру Дхары. Затем он неторопливо пошел по площади, к пирамиде Кецалькоатля, уменьшенной версии двух пирамид, высившихся дальше по дороге. Он встал на возвышение напротив пирамиды. Между двумя сооружениями было углубленное пространство. Мигель представил себе, чем оно было в давние времена: заполненным водой глубоким рвом между площадью и священным храмом. В безлунные ночи ученики должны были, идя навстречу смерти, прыгнуть в мрачную пропасть.
Он знал: чтобы возродиться, нужно умереть. Как и многие из учеников, Дхара должна сегодня расстаться с жизнью. Завтра она умрет немного больше, чем сегодня. Каждый раз, уступая смерти, она будет умирать по отношению к известной ей реальности. Мигель знал: из нее выйдет хороший воин. Но он не знал, сколько времени ей понадобится и сколько она потребует внимания. Со временем она познает то, что когда-то постигли древние мастера. В тот миг, когда мы принимаем молекулярную форму, мы перестаем понимать, что мы бесконечны. Испуская последнее дыхание, мы умираем для конечного и временного. В видении между рождением и смертью есть только осознанность.
В древнем Теотиуакане ученики обретали осознанность с каждым умиранием, начиная с прыжка во тьму. Изъявляя готовность умереть физически, они вступали на путь, который будет продолжаться всю оставшуюся жизнь. На ученичество уходили годы и десятилетия. Они совершали прыжок. Потом его приходилось совершать снова. Даже когда не было черного рва с водой, они постоянно сталкивались лицом к лицу со страхом. Постепенно страх становился демоном все более изворотливым. Больше всего люди боятся тайны, которая заключена в них самих. Чаще всего куда легче пережить опасность физической смерти. Гораздо проще броситься с карниза в непроглядную тьму.
Великие духовные воины глубоко заглядывают в бездну души и, сталкиваясь с худшими из своих страхов, вновь и вновь обретают осознанность и окончательный покой. Мигель снова посмотрел на пирамиду и представил себе храм, который когда-то венчал это великолепное сооружение, – с сотней каменных змеев и морских созданий, которые защищали его от сил зла. Совершая путь здесь, можно чувствовать себя в безопасности, подумал он. Он возобновит древнюю традицию. Ученики найдут его. Все больше искателей будет приезжать сюда – тех, кто жаждет жизни в Царствии Небесном и готов, отправившись в путешествие, перестать знать себя. В древние времена ученику для преобразования требовались годы, а иногда и целая жизнь.
По его расчетам, путь должен был занять четыре дня.
* * *
Видение о Дхаре напоминает мне о понятии «духовный воин». Воин – это тот, кто участвует в сражениях. Он (или она) – солдат, боец. Каждый воин с кем-то воюет. Человечество знает войну как насилие, нападение на других людей. Одна группа восстает против другой, страна идет против страны – предполагается, что война решит конфликт, но она, конечно же, лишь становится самым страшным из всех конфликтов. Убийство ведет к новым убийствам. Поражение провоцирует ответный удар и жажду мести. Война, как мы ее знаем, в конечном итоге мало что решает, но есть другая война – та, что меняет поведение человека. Если бы мужчины и женщины испытывали тягу к такой войне, в которой не проливается ни капли крови и никто не умирает, то странам незачем было бы нападать друг на друга. Для этого необходимо другое сознание: оно должно заглядывать внутрь себя и понимать, что битву нужно вести со своими собственными закоснелыми убеждениями и суждениями. Это редкий вид сознания: оно смотрит, видит и затем решает начать эту войну – последнюю на земле.
Духовный воин – совершенно особый человек. Для любого сражения нужно оружие, и ни для кого не секрет, как мы наносим поражение самим себе – а потом и другим – оружием, называемым «слова». Слова могут обладать разрушительным действием, даже если их не произносят. Достаточно уже одной мысли. Из слов складываются войска мнений, которые самодовольно вышагивают по окольным путям нашего сознания, сея сомнения и ссоры. Мнения сплачиваются вокруг общего дела – какого-нибудь убеждения. Убеждения, разделяемые сообществом, возводятся в ранг истины. Если нет осознанности, то война идей превращается в войну против людей, но война идей может идти и внутри каждого из нас, и в ней может быть свой победитель.
Идеи и творческое мышление людей могут творить чудеса, но, когда идеи начинают воевать друг с другом, под угрозой оказываются лучшие из умов. Представьте себе, что человечество поголовно заболело, ну, скажем, тяжелой формой сыпи, симптомы которой очевидны. Если бы у каждого, кто ходит по земле, по всему телу, на каждом сантиметре кожи, были видны незаживающие, кровоточащие язвы, мы могли бы с полным основанием сказать, что человечество больно. Раны, из-за которых гноится человеческое мышление, скрыты от взгляда, но они настолько реальны и многочисленны, что можно с полным основанием утверждать: да, человечество больно. Детские травмы и разочарования продолжают калечить взрослых людей, здоровых во всем остальном. Чувства вины, стыда и неустанные обвинения превращают людей в жертв. Постоянная привычка судить превращает их в злобных существ, а мысли о несправедливости не дают остыть вечному гневу.
Все войны в политике и культуре начинаются в сознании одного человека – а это сознание нуждается в обществе. Нам нужны единомышленники. Волны враждебности чаще всего возникают в мирной домашней обстановке: зарождается какая-нибудь мысль, она дает искру для разговора, а потом превращается в боевой клич. Душевные раны одного человека заражают другого, а потом и многих других. Но раненый ум не такой уж раненый, как ему хочется думать.
Нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым[35]. Не знаю, верил ли Шекспир в то, что писал, но он мог бы развить эту мысль. На самом деле ничто не является ни хорошим, ни плохим, ни правильным, ни неправильным. Наши родители и учителя втолковывали нам свои собственные представления о добре и зле, и эти правила продолжают связывать нас во взрослом возрасте. Освободившись от этих ограничений, мы обретаем способность узнавать все по собственному опыту, начинаем видеть сами. Отбросив навязанные нам мнения, мы можем без фальши откликаться на то, с чем встречаемся в жизни. Хорошо что-то или плохо, прав кто-то или нет – не имеет значения. Это есть. Они есть.
Все есть. Жизнь есть. Вы есть. Я есть. Мы можем согласиться стать частью чьего-то видения или отказаться от этого, но нет никакой причины, заставляющей нас судить кого-то или что-то. Однажды я задал себе вопрос: кто я? Ответа на него я не знаю – и не узнаю никогда. У меня нет мнения о самом себе, хотя, разумеется, у каждого из тех, кто меня окружает, оно есть. Мнения и суждения людей о Мигеле не имеют ни малейшего отношения к нему или его видению. Тем не менее я существую в их воображении. Люди полагают, что они понимают мотивы, движущие умами других людей, и чувства, наполняющие сердца других. Их видения населены воображаемыми друзьями и врагами, но есть лишь одно действующее лицо, которое можно понять и преобразовать, – это главный герой их собственной истории. Каждый человек способен видеть и слышать себя, изменяя то, что он видит, – и не потому, что видит он несовершенство, а потому, что взгляду его предстают бесконечные возможности.
Мои первые паломничества в Теотиуакан позволили мне с большей ясностью осознать многочисленные последствия приручения – того воспитания, которое мы получаем в раннем возрасте от родителей и общества. Каждый из моих последователей пережил детство и справляется со своими задачами, став взрослым. Все они умны, у них здоровый мозг и тело. Однако они убедили себя в том, что они больны или пережили в детстве травму. Мне казалось очевидным, что необходим другой вид приручения. Им не нужна была еще одна история, но истории запускают процесс изменений, поэтому я предлагал им историю получше. Я давал им чудесные мифы – некоторые из них (но не все) восходят к тольтекской древности. Я рассказывал им об этапах становления человеческой осознанности, которые соответствуют меняющейся интенсивности солнечного излучения. Согласно воззрениям тольтекских мастеров, Первое Солнце появилось на заре человечества. За многие тысячелетия с Солнцем происходили изменения, и в видении человечества можно различить пять отчетливых ступеней развития. Недавно мы вступили в эпоху Шестого Солнца, и нас ждут важные прорывы в постижении реальности и новая осознанность. По мере того как каждый человек будет изменять свой собственный мир и личный уровень осознанности, произойдет сдвиг в коллективном человеческом видении.
Я рассказывал ученикам о тольтеках, стремившихся стать художниками жизни. Я рассказывал им истории, вдохновлявшие их любить друг друга и уважать видения других людей. Каждому хочется, чтобы кто-то его полюбил, даже если он сам себя ненавидит. Человек ждет, что вдруг ударит молния, зазвонит телефон, прискачет рыцарь в сверкающих доспехах. Разочаровываясь в любви, люди думают, что они ее недостойны. Они чувствуют, что их лишили любви, они вечно жаждут ее. Эта жажда заставляет их отчаянно искать любых проявлений любви и внимания, отчего они легко становятся жертвами дурного обращения.
Чтобы помочь ученикам полюбить себя, я рассказывал им о «волшебной кухне». Если бы каждый из нас жил в доме с волшебной кухней, где в шкафу всегда полно припасов, полки холодильника ломятся от еды и весь этот провиант неисчерпаем, нас бы, конечно, не мучили ни голод, ни жажда. Мы не боялись бы, что когда-нибудь станем голодать, нам не нужно было бы молиться, чтобы кто-нибудь принес нам еды. С любовью – то же самое. Если бы каждый из нас смог полюбить самого себя так, как мы хотели бы, чтобы нас любили другие, мы не позволили бы нашему голоду по любви принимать решения за нас. Когда мы не в отчаянии, мы можем противостоять соблазнам – даже тем, что являются в блестящих доспехах с аппетитной пиццей в руках!
С годами я стал менять истории, вместо полюбившихся мифов предлагать новые. Старые убеждения сталкивались с новыми вызовами. Отбрасывались и вновь обретенные убеждения. Моим ученикам приходилось отказываться от какой-нибудь истории, к которой они успели эмоционально привязаться. Они должны были двигаться дальше, оставляя свои убеждения позади. Они привязывались. Потом освобождались. Снова привязывались. И опять освобождались. Начинали во что-то верить. Потом расставались со своими верованиями. Все это повторялось многократно, снова и снова. Ученикам предлагалось заново рассказать историю своей жизни, потом еще раз, и еще – до тех пор, пока эта история не лишалась своего эмоционального заряда и не начинала звучать как любая другая история – знакомая, но уже не подчиняющая человека себе.
Я часто предоставлял ученикам возможность посомневаться. «Не верьте мне», – всегда напоминал я им. «Не верьте и себе, – добавлял я, – и вообще никому – но слушайте!» Как бы ни изменялись мифы и как бы ни развивались мои истории, это наставление оставалось неизменным. На нем зиждется вся мудрость. Когда перестаешь верить себе, легко не верить другим. Каждый ум создает реальность на основе своего неповторимого запаса знаний. Реальность, построенная им, – это личное видение такого ума. Слушая человека, мы слышим, как говорит всего лишь его видение. Слушая, мы можем распознать убеждения, породившие это видение. Лишь одно видение мы способны изменить – наше собственное.
Но помимо наставлений и мифов, я показывал своим ученикам, что рассказывать истории можно по-другому. Я был человеком, взявшим на себя ответственность за свою собственную историю. Я был тем, кто способен противостоять гипнозу знаний, даже своих собственных. Я был хозяином волшебной кухни, я не просил о любви, как о подаянии, и не страдал ради нее, я счастлив был поделиться безграничной любовью с любым, кто в ней нуждался. Двери моей кухни были распахнуты для всех, и там они находили поддержку, которая помогала им полюбить самих себя.
* * *
Дхара начала видеть мир таким, какой он есть. Долгий путь от площади Ада выматывал эмоционально и физически. Было много ритуалов, подобных тому, который Мигель придумал для нее тем утром, – они открывали умы и сердца. Было много слез, откровений и радостных минут. Когда группы приезжих стали удаляться по Дороге Мертвых, она отпустила учеников. День удался, но ей еще многое нужно было сделать, и сделать это она должна была сама. Она чувствовала, что Мигель где-то рядом, что он поддерживает ее видение, но его не было видно уже несколько часов, хотя день близился к вечеру. Люди спускались по ступенькам пирамиды Луны, гуляя, возвращались в близлежащую деревню. Несколько учеников, все еще шедших за нею, оставили ее и смешались с общей толпой. Дхара легла лицом к небу на площадку у основания пирамиды. Нагретый камень обжигал, но давал отдых телу. Чего она хочет – и от какой силы? Почему в ней не ослабевает эта неотступная потребность что-то завершить, найти окончательный фрагмент этой головоломки без названия? Разве ей когда-нибудь хотелось большего, чем любовь Бога, и разве она когда-нибудь сомневалась в этой любви? Что ж, может быть, и сомневалась – и даже немного боялась, но она рвалась в бой и была готова к победе. Она глубоко вдохнула и громко выдохнула. Сердце ее было открыто для неба. Она опустошила ум и стала ждать.
Внезапно все, что происходило до этого дня, перестало иметь какое бы то ни было значение. Ее рождение, жизнь, стремление что-то понять – все куда-то отхлынуло, как тихая илистая река. Дхару наполнила ясность, сквозь нее шел мощный, нарастающий поток жизненной силы, а привычное течение воспоминаний куда-то исчезло. Она почувствовала себя хрупкой, невесомой. Сейчас она была не там, где видела себя несколько минут назад, когда легла на площадку у пирамиды. Под ней уже не было теплой поверхности, ее не ограничивал даже небесный свод. Она была нигде – и всюду. Стало легко дышать, – казалось, ее дыхание заполняет собой все свободное пространство Вселенной. На ее губах заиграла улыбка, но радость отразилась не только на ее лице, но и на всем, что она знала. Восторг охватил вещи, людей, места. Она не могла бы назвать что-то конкретное или осмыслить, но было очевидно – все это было ею. Счастье переполняло ее, наконец-то все ее чувства улеглись, обрели завершенность. Но это ощущение легкости, пришедшее так быстро, столь же стремительно было у нее отнято.
В одно мгновение на нее обрушилась вся тяжесть ее убеждений и верований. Шум в голове оглушил ее. Митоте – эта война слов внутри человеческого сознания, то, что Мигель превратил в знакомые мифы, – внезапно стало реальностью. Казалось, каждый человек на планете громко кричит на нее или на кого-то еще. Все орали, ругались, спорили с истиной, и гвалт этот был невыносим. За всем этим шумом стояли гнев и голый страх – их сила потрясала. Еще больше потрясло ее открытие, что все эти голоса принадлежат ей самой. Все доводы, предположения и заключения были частью ее собственного мыслительного процесса, каждое суждение исходило от нее. Каждая жалоба и противоречие были ее отражением. Это она сама – хаос, оглушительный шум в собственной голове. Она и есть лгунья, безумная рассказчица. Она воображала себя ангелом жизни, но сейчас к ней, притупляя ее чувства, подступала смерть. До нее доходило лишь то, что твердил страх. Ужас жег ее мозг, пока, внезапно выпущенный на волю, не прокатился громом по руинам Теотиуакана.
Казалось, вся она превратилась в страх и ведет безжалостное сражение с хрупким телом, в котором обитает. Это было невыносимое, жуткое чувство. Как удар кинжала, к ней пришло понимание, что она сама дает прибежище страху, что она и есть легко узнаваемый голос знаний. Она – тиран, вселившийся в это человеческое существо, но она же – и путь к спасению.
Дхара вскрикнула, а умолкнув, закричала снова. Каждый камень и каждое дерево усиливали ее страх, и крики возвращались к ней, становясь громче. Ничего не замечая вокруг себя, она снова издала вопль, полный муки. Она позволила невыносимому горю подняться внутри себя и почувствовала, как сердце ее разбивается. Убийственная боль продолжалась, пока не исчерпала себя, и тогда страх стал ослаблять свою хватку. Было ли это последнее надругательство над истиной? Последнее осуждение, конец верований? Ее жизнь строилась на бесконечном обмане, который все эти годы разрастался и превращался в клубящийся туман заблуждений и искажений. Она просила о понимании и теперь знала, каково получить ответ – своему тирану, своей лжи.
Истина не знает жалости, говорил Мигель. Он предупреждал, что это случится, но она представить себе не могла, что будет так больно. Узнает ли она саму себя после этого? Что она будет теперь делать, все видя и ничему не веря? Вопросы возникали один за другим, пока и они не иссякли. Ее рыдания утихали, она стала дышать медленнее и через некоторое время открыла глаза.
Над ней стояла красивая женщина, ее прекрасные черты были искажены скорбью. Женщина была высокой и изящной. Казалось, ей повинуется ветер – ее рыжие волосы развевались, летели, как листья в осеннее ненастье. Дхаре показалось, что она видит себя, но, моргнув и стряхнув с ресниц слезы, она увидела сквозь женщину пирамиду. Этой женщины нет здесь, но гнев ее ощутим. Самой ее нет, но слышны ее жалобы.
«Я – это ты, – говорило видение. – А ты – это я». Дхара снова моргнула. Призрак растворялся в воздухе. Когда он исчез, заходящее солнце осветило пирамиду Луны, воздавая должное всем отражениям жизни. «Не покидай меня! Не покидай!» – Дхара услышала, как это она сама кричит голосом, который больше не узнавала. А потом стало тихо. У нее больше не оставалось слез, муки закончились. Она снова легла на остывающий камень и позволила сну омыть ее тело – тело, которое поддерживало ее в воинском подвиге.
11
– Дедушка! Ну и напугал же ты меня!
Сарита сидела на низкой стене у основания пирамиды Луны в Теотиуакане. Предвечернее солнце должно было вот-вот опуститься за дальние холмы. Хорошо оказаться здесь снова, думала она. Может быть, для жизни ее сына это было не самое важное событие, но это правильно – быть здесь, даже при всех этих обстоятельствах.
– Я сам себя пугаю, – весело отозвался дон Эсикио, стирая грязь с кожаных штанов.
Перед этим он запрыгнул на стену к Сарите и теперь рассматривал окружавшую их панораму. Его черные глаза щурились под широкополым сомбреро.
– А где же все? Где действующие лица этой причудливой пьесы? – спросил он.
– Они приходят и уходят без объяснений, – ответила она. – Как будто я вижу сон.
– Ты уверена, что его видишь ты, m’ija?
Она не обратила внимания на вопрос.
– Такое ощущение, что я здесь уже целую вечность сижу и наблюдаю за моей дорогой Дхарой. Видишь ее вон там?
Им видно было, как Дхара лицом к небу лежит на площадке и тихо всхлипывает. Так ребенок оплакивает потерянную игрушку, подумала Сарита.
– Почему эта женщина плачет? – спросил Эсикио.
– Она плачет от облегчения, дедушка. У нее прошла боль.
– Боль?
– Ей было очень тяжело, она была на грани. Мигель сказал бы, что так и должно быть после…
– После встречи с истиной, – договорил старик.
– Она вела себя храбро, встретилась с собой и…
– И крепость дала трещину! – Полный интереса, он уселся рядом с внучкой. – Люблю вот эту часть – когда ум сдается.
– Дедушка! – возмутилась Сарита. – Она же была раздавлена!
– И поделом!
– Ей нужно помочь.
– Это твоему мальчику нужно помочь, не забыла? Его сердце должно снова начать биться само.
Сарита в недоумении смотрела на старика.
– А чем мы, по-твоему, занимаемся? Мы разыскиваем эти воспоминания и…
– Нас интересует сердце, девочка моя! Нужно дойти до самого сердца!
Эсикио спрыгнул с маленькой стены на землю и легко потрусил к Дхаре: у него был припасен для нее любимый трюк. Сарита хотела было остановить его, но лишь вздохнула, дивясь, как резво он бежит, – давно умершие не часто могут похвастаться такой живостью. Действительно, Дхара когда-то владела ключом к сердцу ее сына, подумала Сарита. Сердце Мигеля… Может быть, у ее деда на уме не только глупые фокусы.
Глядя, как он мчится к каменной площадке, она снова задумалась о том, как тяжело приходится Дхаре. Возможно, сын заставил ее зайти слишком далеко. Слишком рано бросил ей этот вызов. Каждый хороший воин жаждет начать сражение, но редко бывает к нему готов. В этом мире ценятся знания, как всякий раз норовила напомнить ей Лала. Мигель вел учеников в мир незнания – там знать невозможно вообще. Этот другой мир требует, чтобы человек сдался, иначе там нельзя. Каждый должен сначала пережить новое горе, лишь потом там можно обрести покой.
Размышляя обо всем этом, Сарита почувствовала, что рядом есть кто-то еще. Она повернулась и увидела Мигеля, своего сына, о котором думала, – он сидел рядом с ней. Это был тот Мигель, которого она в последний раз видела в реальном мире, мире знаний. На нем был все тот же нелепый больничный халат, забрызганный кровью по краю.
– Ангел мой! – задыхаясь, воскликнула его мать. – Как ты? Ты вернулся к нам?
– Теперь я с тобой, Сарита. А остальное – кому известно? – Он посмотрел в сторону каменной площадки и одинокого силуэта Дхары. – Я помню это, – сказал он.
– Сынок, как ты безжалостно с ней…
– Но она не просила жалости.
– Разве ты не мог поддержать ее?
– В тот день ей не нужна была поддержка, – сказал он. – Конечно, она ее все равно получила. Ее ум не сломался, madre. То, что ты видишь, – это страх того, что он может сломаться.
– И все же больно на это смотреть.
– Ей нужно будет пролить еще немного слез, полностью сдаться, и Вселенная откроется ей. Осознанность просто бросится ей в объятия, готовая, чтобы ее приняли.
– Но… Нужно ли для этого так смирять ум?
– Нужно ли заставить лжеца замолчать? – спросил Мигель. – Нужно ли свергнуть тирана?
– Мигель, за это наше путешествие как раз ум надо благодарить, – медленно, взвешивая слова, сказала Сарита. – Без воспоминаний – твоих и моих – не было бы вот этого.
Она нарисовала руками в воздухе большой круг, который должен был обозначать весь Теотиуакан и то мгновение, в котором оба они находились. Сын кивнул, с интересом глядя на нее.
– В тот день Дхара была лучшим воином, – сказал он. – А вот ты все избегаешь настоящего столкновения.
– Ох, как же это?
– Я вижу, как ты стараешься уступить знаниям, этой соблазнительнице. Я слышу это в твоих словах и вижу в твоих действиях. Ты все лелеешь надежду, а она не дает тебе идти дальше. И самое главное – ты пытаешься отсрочить неизбежное.
– И в чем оно?
Он пристально смотрел ей в глаза, пока она не отвернулась.
– Madre, ты должна отпустить Мигеля.
Сарита нахмурилась, придвинула к себе сумку. Она прошла длинный путь с тех пор, как нашла его на вечном древе. Она собрала уже почти все воспоминания, которые нужны были ей, чтобы заново собрать личность. Слишком близка она была к этому и не могла взять и рискнуть всем.
– Ничего я не должна. И ничего я не отсрочиваю. Не говори со мной, как с мамашей, которая беспокоится, что ты где-то допоздна загулялся. Я не мать! – Внезапно ее глаза загорелись красным светом, а голос загромыхал. – Я не игрушка! Если надо, я буду драться с самими стихиями, пока мир Сариты снова не будет целым!
Вместе со вспыхнувшей яростью поднялся ветер, и от каменных стен снова донеслось эхо далеких криков Дхары, словно вобравших в себя весь человеческий гнев. Не встретив отпора, ярость постепенно улеглась. Все успокоилось, огонь в глазах старой женщины сменился тлеющей, неотступной печалью. На сына она старалась не смотреть. Ветер утих, но над багровым горизонтом гремел гром. Беспокойно щебеча, разлетались птицы, кружили и усаживались на кустарники в низинах.
И вдруг наступил покой, как будто ничего не случилось. Мать и сын сидели в тишине. Где-то на задворках сознания Сариты всплыл вопрос: что же будет дальше? Она больше не была уверена в своих действиях. Где дон Эсикио и что еще может сделать ее семья?
* * *
Вдалеке, среди руин, слышались тихие всхлипывания Дхары, которые возносились в сумеречное небо. Она боролась и никак не могла сдаться – и снова проигрывала сражение. Но вот солнце уютно угнездилось среди западных холмов, и боль растворилась в тихой осознанности…
* * *
День подошел к концу. Дхара заснула и видела сон. До нее доносились лай собак из дальней деревни и крики летящего ястреба, но ей казалось, что она покинула это священное место на высоком мексиканском плато. Она перенеслась куда-то и стала другим человеком. Под ней вздымались и с шумом разбивались о скалу волны океана, обжигая холодными брызгами ее босые ступни. Чувствуя свое тело, нагое и мокрое, она висела на краю отвесной скалы, вцепившись окровавленными пальцами в щели и трещины. Море жаждало поглотить ее целиком, и некому было спасти ее.
Она пыталась выкрикнуть предупреждение всем душам, которым грозит опасность, но не могла издать ни звука. Она пыталась думать, но ничего не получалось. Она хватала ртом воздух, но не могла дышать. Силы покидали ее, воля к борьбе иссякла. Тело ее пожирало пламя ужаса, от ее отваги ничего не осталось. Казалось, океан вот-вот заберет ее, и ничто не могло быть страшнее. Уж лучше все муки человеческого существования, вся эта боль и безумие, чем отдаться воле морской бездны.
– Да неужто? – спросил дон Эсикио, наблюдавший сверху со своего насеста на скалах. – Я предоставляю ей такой хороший случай совершить прыжок, а она говорит, что предпочитает этому любые человеческие страдания.
У Дхары от этих слов перехватило дыхание. Она собрала все свои силы, и ревущие волны перестали хватать ее снизу, их рокот утих.
– Кто вы? – задыхаясь, проговорила она.
– А разве от этого что-то может измениться? – ответил он.
– Вы Бог?
– Если тебе так угодно.
– Что мне делать? – хрипло спросила она. – Разжать пальцы? Или продолжать бороться?
– Ты о ком сейчас?
– Простите… Не понимаю.
– Ты говоришь о той, что висит сейчас, вцепившись в утес, или о той, что цепляется за себя? Ты о той, что глупа, или о той, что хочет счастья? О которой из них?
Дхара жадно хватала воздух. Ей казалось, что она уже тонет.
– Не понимаю, – повторила она.
– Ты счастливая или глупая? – бросил ей вызов старик.
– Как тут можно выбирать!
– Точно нельзя? Уверена?
– Нельзя, конечно нельзя, – задыхаясь от страха, проговорила она.
– Только из этого и можно выбирать! – рявкнул он и, оттолкнувшись обутыми в сапоги ногами от скалы, пролетел мимо ее головы.
Одним ликующим прыжком Эсикио скрылся из глаз и исчез в морской пучине.
– Боже! – выдохнула Дхара, очнувшись. – Господи!
Она лежала в одиночестве на шершавых камнях Теотиуакана. Сколько она уже тут пролежала? Небо успело потемнеть. Даже в летние месяцы вечерами на высоких равнинах становилось холодно. Озябнув и дрожа от холода, она медленно поднялась. Руины Теотиуакана превратились в сборище припавших к земле теней, и никто больше не бродил по дороге, погрузившейся в темноту.
Она вспомнила сон об океане, вспомнила старика. Не так она себе представляла встречу с Богом. Бог должен был выглядеть как индийский духовный учитель Саи Баба и вещать голосом штормовых ветров, летящих среди цветков лотоса. С детства она была убеждена, что у Бога есть для нее миссия – нести весть человечеству, делиться мудростью с миром. Когда она висела на утесе и жизнь ее была на волоске, она ждала Его Божественного вмешательства. Он должен был спасти ее от верной смерти, направить к истинной цели. И что же? Он лишь поглумился над ней, оставил ее с видением какого-то бесенка, бесстрашно бросившегося в безбрежный океан. Он покинул ее.
Где-то залаяла собака. К ней присоединилось еще несколько, их лай напоминал крики старух. Жизнь, наверное, смеется над ней. Что ж, наверное, поделом. Она, когда-то столь уверенная во многом, теперь перестала понимать хоть что-нибудь. Она, разгневавшаяся на учителя, сражавшаяся с собственными убеждениями, осталась перед выбором, который нельзя сделать… Перестать цепляться и провалиться в тайну? Тайна. Эта простая мысль, казалось, рассеяла ее страх. Она осмелилась сделать глубокий вдох – и перестала дрожать. Ей вдруг стало лучше. Удивительно, но наступил покой. Ей ничего не было нужно. Факты, в которые она до сих пор непреложно верила, потеряли свою соблазняющую силу. Пусть человечество верит во что угодно, она свободна от всего этого. На мгновение она вышла из густого тумана, разбила тысячу тяжких цепей и ощутила счастье, какого не знала никогда.
* * *
– Что ты натворил? – обвиняющим тоном спросила Сарита. – Знаешь, дон Эсикио, это уже слишком! Нет, правда, это уже чересчур!
Она и ее дед смотрели, как Дхара устало идет по дороге, направляясь туда, где можно поужинать и переночевать. Надвигалась ночь, в небе светил лишь ущербный месяц, плывший над ними, как чаша для подаяний.
– Вовсе нет. Это обычное дело, – сказал Эсикио. – Каждый раз так бывает. Все они говорят: «Мне не нужна жалость!» – а потом умоляют о ней. Лететь их не заставишь. Стонут, плачут, жалуются, обвиняют, а иногда у них не выдерживает сердце. У меня такое один раз было, когда я учил. Дело было в Соноре[36], у меня было три ученика, так один из них свалился прямо…
– Нехорошую шутку ты с Дхарой сыграл!
– Шутку! – защищаясь, воскликнул он. – Мои так называемые шутки совершают переворот в душе человека. Мигель ими, между прочим, тоже пользуется. Ты подумай: мой внук пошутил с этой женщиной или спас ее от тупости в последней стадии? А сейчас – посмотри-ка на нее! Исполнена покоя, несет в себе мудрость, которой ей не дали бы все мудрецы мира!
– Все же меняться очень тяжело.
– Но она сама хотела измениться, девочка моя. Она умоляла об этом, и теперь все случилось. Все прекрасно на земле[37], Сарита, ибо Дхара учится сама себя спасать.
– Она решительно настроена, – согласилась Сарита.
– Она рьяно за дело взялась – у многих так происходит. Как и всех, ее было не остановить: она искала, добивалась ответов на вопросы, вскрывала свое сердце, чтобы узнать, что там. А с истиной приходит боль, рыдания, освобождение – как и в блаженной агонии плотской любви.
– Спору нет, она полностью себя отдавала, – кивнула Сарита.
– Да, и ее рвение привело ее… в Индию?
– Да, в Индию! – подтвердила Сарита, вспоминая. – Мы и сами все в Индию ездили. Я встречалась там с ним – Шри Саи Бабой, божественным существом, которое с великим смирением ходило по нашей планете. Он был… Ну, он был…
– Богом, – подсказал ей старик, подмигивая. – Ты ведь это хотела сказать? Что он был богом?
Сарита пожала плечами.
– Мы везде ищем Бога, – смущенно сказала она. – Это же естественно.
– Есть одно место, где глупые люди никогда не ищут.
Взмахом костлявых рук дон Эсикио показал на свое тело, от макушки до пальцев ног, чтобы она увидела человека, каким он был – сейчас или когда-то. Покачав головой, он глубоко вдохнул ночной воздух и позволил звукам летнего вечера наполнить тишину.
– Ум ведь паникер, – заметил он, – совсем как лодка с прохудившимся дном: отчаянно старается удержаться на поверхности океана спокойствия и отказывается погрузиться в него.
Его внучка молчала. Она думала о чудесах, о таинственных силах жизни, которым нужны верные союзники. Как и все, Дхара хотела быть таким союзником и, как все, боялась, что за это придется слишком дорого заплатить. Сарита тоже очень часто привязывалась к удобным историям и привычным путям, боялась, колебалась. Она, как и все, предпочитала знать, кто она и куда идет. Кто захочет поменять надежную гавань привычных знаний на ужас забвения?
– Разве можно предать забвению бесконечную жизнь? – спросил дед, следуя за ее мыслями. – Кто мы – жизнь, этот океан, что вечно расширяется, или маленькие разбитые лодчонки?
Разбитые лодчонки или полные решимости пловцы, мы боремся за выживание – уж как умеем, думала Сарита. Зачем Мигель требует от людей такого мужества? Он думает, сдаться легко? Разве ему самому не приходилось стоять над океаном, таким глубоким и страшным, и делать свой выбор? Конечно приходилось. Он тоже расставался с ложью. Он умирал при жизни, и умирал в одиночку. Так что он знал, как это трудно.
– Да, знал, – отозвался Эсикио, – и тоже упорствовал. Даже тебе, учителю, было не вытолкнуть его из лодки.
– Но помни: я еще и его мать, как и Мигель был не только мудрым мастером, но и мужем Дхары.
Ну, не совсем мужем, поправилась она про себя, но из-за того, что они близкие люди, сдаться было не легче, а еще труднее. Эта женщина искала отца и целителя, избавителя и спасителя. Вместо этого ее реальность разрушена, уничтожена. Это не кажется ей спасением, это как упасть, соскользнуть – но куда? И что там ждет?
– Полная осознанность. – Старик засмеялся и добавил: – Невыносимая участь, правда?
– Осознанность не заменит маленьких радостей жизни, не согреет и не приютит, как наши убеждения, – возразила Сарита, понимая, что это слабый довод.
– В мое время подняться выше своих убеждений считалось для воина величайшим вызовом, – сказал Эсикио. – А сегодня на это смотрят как на бесцеремонное покушение на собственную личность. В наше время мы гнали гнев до самых границ, прорубаясь сквозь колючки и сорняки, пока не находили путь к открытым полям осознанности.
Сарита ничего не сказала, вспоминая свой собственный путь. Старик, пытаясь отдышаться, плюхнулся на большой камень, утопавший в земле. Потом снял шляпу, отер лоб тыльной стороной ладони, положил шляпу на колени и провел дрожащим пальцем по ее полям.
– Сарита, я пришел помочь тебе в твоих поисках, – продолжал он. – Чтобы довести их до конца, мы должны найти в себе смелость посмотреть в самое сердце всего и помочь истине победить ложь. – Он помолчал. – Ты ведь видишь ложь?
– Самая большая ложь – в том, что внутри нас якобы есть что-то, чего надо бояться.
Сарита с состраданием смотрела вниз, на женщину, что сидела там, на площадке.
– Это надобно запомнить, – заметил старик, – если ты хочешь стать мудрой старой женщиной.
– Не смешно, дорогой ты мой.
– Очень даже смешно, – сказал он, улыбаясь, встал и исполнил короткий энергичный танец.
Они оба рассмеялись, и их смех выплеснулся океанскими волнами в вечерний воздух.
– Все ведь очень забавно, мой маленький ангел, если бы только живые могли это видеть. В мое время…
– Ну хватит уже! – досадуя, воскликнула она, но тут же снова засмеялась вместе с дедом.
Усталые и счастливые, они смотрели, как силуэт Дхары достиг конца древней дороги и исчез в темноте.
– В один прекрасный день даже она будет смеяться, – сказал старик. – У живых есть простой выбор. Они могут дорого расплачиваться за то, что верят в свою ложь – а это полнейшая глупость! – или смеяться над собой и быть счастливыми. Я свой выбор сделал столетие назад – с тех пор и смеюсь… И да – я буду смеяться вечно.
Сарита, улыбаясь, кивнула. Слава богу, это воспоминание подходит к концу, думала она. Вздохнув, она подняла руку, чтобы по-дружески похлопать дона Эсикио по плечу, но его уже не было рядом.
На его месте стояла женщина, называвшая себя La Diosa, призрачное воплощение знаний. Она молчала и не смотрела на Сариту. Взгляд ее был устремлен в ту сторону, куда ушла Дхара, а на лице ее постепенно появилось выражение, которое бывает у охотника, рассчитывающего расстояние до цели и оценивающего направление ветра. «Чего она хочет? За кем сейчас охотится?» – думала Сарита, глядя на нее. По глазам этого существа ничего нельзя было понять. С каким-то неестественным спокойствием Ла Диоса просто смотрела на горизонт, по-видимому подсчитывая, сколько оттенков у полосы закатного неба на западе.
* * *
Ум легко описать, ведь у него есть характерные потребности. Как и живое существо, в котором он обитает, он охотится, чтобы добыть себе еду. Способы охоты входят в привычку: животное учится рыскать в поисках одной и той же добычи, используя одни и те же приемы. Пусть ум – это воображаемое существо, но он вырабатывает похожие способы нахождения пищи. Он определяет себя на основании всей имеющейся информации, а потом постепенно разрабатывает стратегию выживания. Выживание в этом случае означает ощущение себя как чего-то реального – такого же реального, как материя, в которой он живет. Формирование отдельной личности, или главного действующего лица истории, которую создает ум, – это начало. Но это искреннее ощущение себя «реальным существом», в жилах которого течет горячая кровь, усиливается взаимодействием ума с человеческими эмоциями. Ум ребенка довольно быстро начинает понимать, как слово, этот мельчайший носитель знаний, может вызывать эмоциональный отклик. Вскоре слова становятся инструментами охоты, а способы нахождения эмоциональной пищи быстро усваиваются.
Знания – главное действующее лицо моей истории, как и истории любого человека. Размышляя о Лале, охотнице, слепой к своей собственной природе, я чувствую только сострадание. Давным-давно она придумала историю Мигеля, и ее единственное желание – продолжать рассказывать ее. Давно прошли те времена, когда мне важно было быть мною. Сейчас даже и не вспомнить, когда это было. Полностью освободившись от влияния знаний, я могу как угодно представить себе главное действующее лицо этой меняющейся истории. На протяжении всей жизни я понимал, что у каждого свое представление о Мигеле, но сейчас, с более отстраненной точки зрения, я вижу, что Мигель – это просто знания, точнее, мои знания. Я накапливал их все эти годы своим, ни на чей не похожим способом, пожиная убеждения, произросшие из семян мнений. По представлению большинства, голос знаний изматывает тело. Однажды услышав его, распознав свой собственный голос, я почувствовал, что должен исследовать его. Поняв, что я – это он, я должен был изменить привычки и потребности своего мышления. Мне захотелось выработать в себе вкус к истине. Мне стало ясно, что истина может освободить этого человека.
Обрести личную свободу – значит избавиться от дани, которую мы вынуждены платить знаниям. Стоит изменить что-нибудь одно – какую-нибудь идею, привычку, – и границы откроются. Свобода – излюбленная идея в человеческом видении, идея, не понятая до конца. Свобода начинается, когда каждый отдельный ум осмеливается вырваться из тюрьмы, которую сам же и построил. Мы становимся свободными, когда заканчивается война в наших головах. Мы родились аутентичными, то есть подлинными, и непосредственно откликались на все, что предлагает нам жизнь, но на поле битвы идей мы утратили нашу подлинность. Конечно, мы снова можем стать подлинными. Мы можем стать неуязвимыми для того воздействия, которое на нас оказывают знания. Мы больше не обязаны верить себе, но можем очень многое узнать, слушая – слушая собственные мысли, чужие мнения и отказываясь платить эмоциональную дань, которую они с нас требуют. Мы можем видеть, не строя домыслов. Измените одну идею, заключите новое соглашение – и тюремная решетка начнет поддаваться.
Человеческие знания доказали свою ценность и возможности. Знания дают уму ландшафт, воображаемое пространство, в котором он может пользоваться словами для исследования и игры. Слова могут населять наше воображение объектами, и тогда этот ландшафт насыщается новыми представлениями и возможностями. Знания – это фон всего видения человечества. Их предназначение – быть союзником осознанности. Если принять эту точку зрения, то мы увидим, что знания могут быть ангелом, освобождающим нас, – или же бесом, вселяющимся в нас. Признавая это, мы обретаем возможность управлять своими историями так, чтобы они лучше отражали истину. Управление историей – наш первый, пробный прыжок к свободе.
Нетрудно понять, что для каждого человека свобода означает готовность ума менять старые привычки. Но в первую очередь ум должен услышать себя и изменить свою речь. Поэтому я и просил своих последователей заключить с самими собой некоторые новые «соглашения». Подспудно они долгие годы совершали выбор, который шел вразрез с состоянием их сознания. Так, мои ученики, как и большинство людей, когда-то заключили с собой договор, гласящий, что жизнь несправедлива или что они неудачники, то есть сами назначили себя жертвами. Согласившись на эти неписаные условия, они чувствовали себя обязанными жить в соответствии с ними и годами ломали себя, лишь бы угодить обществу. Страх заразен – если мы с этим согласимся. Осуждение неизбежно, чувствовать себя жертвой – нормально, если мы поверим, что это действительно так. Общепринято сплетничать, всем так и хочется знать, что за несчастье постигло знакомого, всех захватывают драматические события, происходящие с другими. Но это становится нормой, только если мы так решим.
Однако мы можем сделать другой выбор. Чтобы помочь этому, я предложил людям принять некоторые новые соглашения (позже я назову их «Четырьмя соглашениями»), с помощью которых можно изменить старые, привычные модели поведения. Я призывал людей ничего не принимать на свой счет и перестать заниматься домыслами. Я просил их быть честными в своих словах, когда они пользуются чудесным даром языка: словами, которые они произносят, и словами, в которые облечены их самые сокровенные мысли. Я просил их делать все в полную силу. Это и есть четыре простых соглашения. Кроме того, я не уставал напоминать ученикам: не верьте, но слушайте. Если начать выполнять эти новые соглашения, произойдет сдвиг в нынешнем положении вещей и реальность человека изменится.
В конечном счете я просил моих учеников сдаться – не мне, не какому-то другому человеку и не по какой-либо причине, – а просто сдаться. Ум придумывает слова, дает им значения, и для большинства людей слово «сдаться» означает что-то малоприятное. Оно означает капитулировать, признать поражение. Ум не способен постичь преимущества тотальной сдачи, но человеческое существо понимает их. Когда ум не создает помех, человек стремится сдаться, как запертый в клетку зверь стремится к свободе. Он умеет уступить требованиям голода или отдаться любовной страсти, умеет провалиться в сон и влюбиться. Когда удовлетворяются эти физические потребности, тело обновляется, становится сильнее. Сдаться жизни – это действие силы. Расставание со старыми историями – это знак благодарности от ума верному телу.
Я уже давно сдался. Моя война со знаниями окончена. Я больше не думаю. Я вижу, слушаю, отвечаю. Слова – не самое неотразимое, что может быть в жизни, это касается и меня, и всех остальных. Гораздо притягательнее сила любви. И все же немногие понимают, сколь много старых соглашений нужно разорвать, чтобы эта сила возобладала.
После того как у меня случился инфаркт, я снова должен сдаться, оставив все ожидания и предположения. Я должен препоручить свое тело жизни и сказать «да» всем ее дарам и ударам.
Если мое тело выживет, я начну все снова и буду со смехом встречать каждый день… И да – я буду смеяться вечно.
12
– Но почему «соглашения»? – в ужасе спросила Лала. – Почему не «заповеди»? Например, «Новые заповеди»! Или «Четыре священных закона»! Или «Благие обеты»!
– Соглашение можно нарушить, – вздохнул дон Леонардо, – или изменить. Никто не будет за это судить или карать.
– Но как это поможет держать смертных в узде?
– А заповеди кого-то удержали? А обеты никто не нарушал?
– Не согрешивши, не покаешься, – сказала она. – Они грешат, а потом судят себя. Бог судит их, а они судят друг друга. Их нужно хорошенько судить.
– Судить, признавать себя виновным – значит идти против себя.
– Правильно. Это Закон Непогрешимости.
Она зевнула.
– Первое соглашение, дорогая моя. Если ты не исполнил соглашение, извлеки урок и в следующий раз сделай все, что от тебя зависит. Прощение – акт милосердия. Дать себе возможность поступить по-другому – значит действовать из любви.
– Наказать отступника – праведное дело.
– Да, так и поступают, и из запуганных детей вырастают мужчины и женщины, которые живут с чувством вины, – но счастливо ли человечество при таких законах, сеньора?
– Счастье, как и ты, – чистая фантазия.
– Как я! Чистая фантазия – это ты.
Они замолчали. Сариты не было с ними, но, помня, как не нравятся ей их перебранки, они удержались от ссоры. В тишине стало ясно, где они находятся. Они оказались свидетелями частной церемонии на вершине пирамиды Солнца.
– Интересное событие, – заметил дон Леонардо, меняя тему.
Лала с тревогой спросила:
– Где это?
– Ну как же, мы на великой пирамиде. Мне ни разу еще не довелось побывать в этом месте.
– Мне тоже, – тихо отозвалась она.
– Значит, тебя повысили!
– Как это может быть?
У Лалы перехватило дыхание. Ей было не по себе, и она ничего не могла с этим поделать. Пирамида Солнца символизировала жизнь, а не ее отражения.
– Да какая разница! – сказал он, подвигаясь ближе к месту действия. – Давай смотреть и слушать внимательно. Вот Мигель, мой внук. Он почти не изменился со студенческой поры.
– Твоей дряхлой дочери надо бы это увидеть.
– Моей достойной почитания дочери, сеньора. Прошу тебя проявлять хоть какое-то уважение, – упрекнул он ее. Но она права, признал он, Сарите следовало бы видеть эту сцену. – Тебе и мне доверено быть свидетелями этого события. Мы находимся в этом славном месте, где человеческое намерение соединило солнце с землей. Я вижу Мигеля: он улыбается, молчит. С ним женщина… Но лицо ее мне незнакомо.
– Это книгоиздательница.
– Книгоиздательница? – удивился он.
– Выходит первая книга твоего внука, ее прочтут во всех странах. Она может изменить мир, сударь, – благодаря языку!
– Здорово! – воскликнул Леонардо. – Я-то не дожил до этого!
– Ведь правда нет ничего замечательнее печатного слова, – сказала она, вновь обретая пошедшее было на убыль воодушевление. – Люди когда-нибудь подвергают сомнению слова, написанные на папирусе?
– На бумаге. Нет, не часто. – Он глубоко вздохнул и одобрительно кивнул. – «Четыре соглашения». Смелый взгляд. Хорошо написано. Просто. И при этом революционно и захватывающе.
– Видение и так прекрасно, без всяких поправок.
– Болезнь прекрасна? – резко спросил он. – Тирания прекрасна? – Да она испытывает его терпение! – Ты хочешь сказать, что страх и кара – хорошие спутники, что ответ насилием дает славные плоды?
– Похоже, тебя эта тема задела за живое.
Старый господин посмотрел в ее горящие глаза и почувствовал опасность. Не нужно распалять ее, напомнил он сам себе. Слова разжигают конфликт, а это ее любимая пища. Не важно, какие это слова – добрые или горькие, она будет наслаждаться тем, к чему они приведут.
– Я весьма уважаю твои способности, моя дорогая сударыня, – со спокойной улыбкой сказал он. – Помни только, что они достойны лучшего применения.
Лала смотрела на него, не находя, что ответить.
– Книгоиздательница, кажется, действует из лучших побуждений, – заметил Леонардо, – но чего именно она все-таки хочет?
– Очевидно, она произносит молитвы. Проводит церемонию, которую сама и придумала. Надеется, что желания, идущие от сердца, обеспечат успех.
– Она стоит рядом с нагуалем и отважилась чего-то желать, – сказал дон Леонардо и улыбнулся. Уже от одного звука этого слова он оживился. Нагуаль. Абсолютная сила. Тональ же в его культурной традиции означает материю. За пределами материи – только тайна, беспредельная и непостижимая, непроницаемая для знаний. Нагуаль – это еще и человек, который знает, что он сам – это бесконечные возможности, сила самой жизни. Дон Леонардо подошел ближе и протянул руку, чтобы прикоснуться к Мигелю. Прикасаться было не к кому, и на ощупь ничего было не почувствовать, но была сила, сохранившаяся в тонком, как паутинка, воспоминании. Сейчас! Вот она! Рука старого господина ощупывала воздух, пальцы его дрожали, и вот его улыбка переросла в тихий смех.
– Намерение – физическая сила жизни, – сказал он. – Этого человека пронизывает намерение.
Лала, обернувшись, посмотрела на него и с любопытством протянула руку. Она стала подражать ему, двигая рукой в воздухе рядом с двумя людьми, стоявшими на вершине пирамиды и овеваемыми ветром. Она проводила рукой даже между ними.
– Значит, намерение – или хотение?
– Хотение, сеньора, – это действие ума. Как ты говоришь, желание и молитва…
– И надежда, – тихо сказала она.
– Чтобы оживить видение, одной надежды мало, – сказал Леонардо. – Нужно действие – и действие, заряженное верой в себя.
– Верой в себя? Да ты отец богохульства, сударь!
– От матери лжи слышу, мадам! – парировал старик.
Удовлетворенный тем, что последнее слово осталось за ним, Леонардо перестал обращать на нее внимание. И в это мгновение оба они растаяли в солнечном свете, позволив видению принять новую форму и разворачиваться дальше.
* * *
Отец богохульства, мать лжи. Как глупо могут звучать слова, когда мы забываем их истинное назначение. Все мы поддаемся искушению обвинять, легко уступаем желанию отстаивать какую-нибудь излюбленную иллюзию, какую-нибудь свою идею, которую могут донести только слова. Вкладывая в эти слова всю свою веру, мы сами становимся этой иллюзией. Мы есть знания, неустанно старающиеся найти слова, которые лучше всего смогут описать наш обратный путь к истине.
Слово «нагуаль» постоянно звучало вокруг меня в детстве, оно с ранних лет захватило мое воображение. В моей семье слова «тональ» и «нагуаль» привычно использовались для описания жизни в ее целостности – материи и чистой энергии. Мой дед Леонардо любил рассказывать мне о традициях и обычаях тольтеков, он с радостным воодушевлением доносил до меня свое понимание этого мира. Я и сейчас чувствую его восторг, вспоминая, как он помогал вновь возгореться моей любви к жизни. Дон Леонардо рассказал мне множество чудесных историй, подводя меня к тайнам, о которых невозможно поведать, но которые можно прожить самому. Как учитель и наставник я тоже рассказывал истории, чтобы вызвать удивление и разжечь любопытство. Одна из них преподносит особенно важный урок осознанности. Я рассказывал ее по-разному, но послание ее всегда оставалось одним и тем же…
Жил однажды человек, который, как и многие, постиг, что он – бесконечная сила жизни. Это произошло с ним внезапно, в миг озарения. Такое озарение может посетить любого и в любое время. В моей истории в одну ясную и тихую ночь человек смотрел на звездное небо и был очарован тем, что увидел. Это бывает со всеми: внезапно нам открывается все величие Вселенной, мы вдруг, к своему изумлению, повсюду видим красоту. Мы обретаем зрение художника, и все, что мы видим, становится красотой.
И в то мгновение человек, о котором я рассказываю, постиг все – абсолютно все – без слов. Не важно, как давно звезды послали свою весть сквозь бесконечное пространство и существовали ли еще эти звезды. В тот миг он получил их послание.
Глядя на ночное небо, все мы знаем, что темнота, лежащая между звездами, похожа на пустое пространство. Кто-то из нас также знает, что это пространство намного, намного больше, чем место, которое занимают все звезды, вместе взятые. Больше двух тысяч лет тому назад в великой цивилизации Теотиуакана народ тольтеков называл пространство между объектами нагуалем.
Человек, стоявший под звездами в ту ослепительную ночь, вдруг посмотрел на свои руки. И в них он тоже увидел Вселенную. Он увидел, что руки его состоят из миллионов атомов, как Вселенная состоит из звезд. Как и звезды, атомы его тела – это тональ, или проявленная жизнь. Затем ему открылось как бесспорная истина, что тональ создается нагуалем. Он постиг, что всю материю сотворяет наполненная светом пустота. Нагуаль – это абсолютная энергия, бесконечная сила созидания. Дальше в истории рассказывается, как взволнован был этот человек своим открытием, как ему хотелось никогда не забыть его смысл. Он знал, как легко можно забыть в суете человеческого существования то, что он пережил.
Так кто же мы – тональ или нагуаль? Материя или жизнь? Тысячелетиями люди по-разному задавались этим вопросом, не понимая, как проста истина. А истина – это жизнь и смерть, простая двоичная формула с математическими символами «0» и «1». На языке науки это означает энергию и материю. В религиозных толкованиях это – Бог и творение.
Истории, которые мы рассказываем об истине, часто приводят нас к дальнейшим искажениям и лишь усиливают наши страхи. Нам не нужно доказывать, что жизнь существует, – если бы мы занялись этим, то подвергли бы сомнению собственное существование. Мы живы, значит жизнь существует. Смерть, или материя, очевидно, тоже существует – все, что создано, когда-нибудь встретит свой конец. Воплощение – это процесс, с помощью которого жизнь создает материю, приводит ее в движение и сама становится материей. Человек из моей истории знал, что он – нагуаль, то есть сила, которая дает жизнь своему физическому телу. Тело, или тональ, – его творение. Тело было его святилищем, местом, которое он любил и, безусловно, уважал. Такое же уважение он проявлял к каждому месту, в котором находился. Наша планета, один из миллиардов объектов в безбрежном пространстве жизни, тоже была для него домом, достойным уважения и любви.
Нагуаль знает, что он – сила, дающая начало существованию и приводящая в движение материю, он видит, что все остальное преходяще. Все остальное – мысль, слова – это зеркальное искажение. Знать это – значит знать истину.
* * *
Разве это не правда, мой ангел любви, что, когда идешь рука об руку в видение жизни, каждый шаг благословлен Богом?
Свадьбу праздновали в доме одного из учеников в Нью-Мексико, среди красных скал, под шатром сапфировых небес. Это было хорошее, полное очарования место. Сарита чувствовала, как под ногами гудит музыка земли, в простом пении птиц она слышала таинство. Цветущая пустыня и сосны благоухали ароматом жизни. Палящее летнее солнце нагревало воздух до кристаллического блеска.
Мигель всецело завладел вниманием собравшихся, его словами двигало могучее намерение. Слушая как посторонний наблюдатель, Сарита восхищалась переменами, происшедшими в ее сыне. Она уже забыла, как очевидна всем была его сила в ту пору его жизни. Вернувшись из путешествия на Гавайи, он стремительно менялся. Он повстречал женщину, которая загорелась идеей издать его первую книгу. Он снова влюбился и собирался создать новую семью. Он подстригся, избавившись от своих длинных волос, стал по-другому одеваться и начал каждый день бегать. В свои сорок пять он был еще молод и выглядел даже красивее, чем его отец в этом возрасте.
– Хосе Луис, – вздохнула она.
Вспомнив мужа, она снова почувствовала светлую грусть. Он умер незадолго до этой свадьбы, и его уход сильно подействовал на нее. После их поездки в Индию Хосе Луис стал часто чувствовать себя очень усталым, но не придавал этому значения. К врачу идти он отказывался, и она потеряла его прежде, чем кто-нибудь успел понять, насколько серьезной была его болезнь. Смерть его была как гром средь ясного неба. Повлияла ли эта утрата и на Мигеля? Похоже, что-то на него повлияло. Изменилась рассказываемая им история, теперь это было новое повествование, и действующие лица в нем были совсем другие. Дхара шла дальше своим путем, а он привел в свою жизнь другую женщину. Он собирался жениться. На церемонии присутствовало несколько друзей и учеников, из родственников никого не было. Он говорил радостно, как будто снова был мальчишкой, которому не терпится пуститься в очередное приключение, – не важно, чем оно закончится.
Разве это не правда, мой ангел жизни, что в вечной моей радости улыбка на твоем лице отражает любовь в моих глазах?
Да, он зажигает новое пламя, но при этом гасит старое. Хотя Мигель и был преисполнен воодушевления, почти как дитя, к этой церемонии привело не безрассудство мальчишки, а скорее взвешенный расчет мужчины. Связывая свою жизнь с этой женщиной, он завершал старые видения и приветствовал новые. Странно было смотреть на эту свадебную церемонию с такой точки зрения: это была еще одна часть его жизни, которую он не разделил с ней, еще одна часть его самого, которой она не знала. Она рада была стать ее свидетелем сейчас и благодарна, что он этого захотел. Такой человек, как он, не видит больших трудностей в переменах. Он способен приноровиться к новому – будь то человек или обстоятельства – и способен при этом любить.
Сарита смахнула с ресницы слезу, и та исчезла в солнечном свете. Она не ожидала, что это воспоминание так тронет ее. Кто-то прикоснулся к ее плечу, и она увидела нынешнего Мигеля. Он стоял рядом с ней и смотрел на сцену, разыгрывавшуюся перед ними. На нем, конечно же, был больничный халат, и выглядел он маленьким и хрупким, совсем не похожим на мужчину, участвовавшего в залитой солнцем церемонии, но все-таки лицо его озаряла улыбка.
– Самый счастливый сон матери, – бодро сказал он.
Она кивнула:
– Ты пришел сюда за мной. Спасибо тебе.
– Мне хотелось порадоваться вместе с тобой.
– Выглядел ты получше, – с горькой иронией заметила она, в подтверждение своих слов показывая на жениха.
– Да уж. – Он смотрел, как служит священник. – Приятно ведь видеть, как твой сын наконец находит свое счастье в браке? – насмешливо улыбаясь, спросил он.
– Ты был счастлив. Я это вижу, – сказала она. Глаза ее сияли. – Ты напоминаешь мне твоего отца, m’ijo.
– У моего отца оказался успешный брак.
– Он-то никогда бы не осмелился бросить меня – это уж точно. – Только Мигель – не Хосе Луис, думала она. Какой бы сильной ни была женщина, он всегда оказывался сильнее. – Девочка она была очаровательная, насколько я помню, – добавила Сарита.
– Она и сейчас такая. Только ничего у нас не получилось.
Сарита хотела ответить ему, но где-то над ними, на гребне близлежащих гор, она заметила какое-то движение. Решив, что это олень, символ изящества и любви, она показала в ту сторону рукой.
– Это… – Она запнулась, узнав силуэт своего деда, столь живого и тем не менее давно умершего. – Это дон Эсикио там? – изумилась она. – Убьется же – так скакать!
– Он хочет непременно благословить это событие. – Мигель улыбнулся. – Да оно и получило благословение. Все в тот день ощущали какой-то волшебный свет и тепло – это же видно?
– Ты правда, кажется, по уши влюблен, – согласилась она.
– Конечно, я был влюблен. Я ее обожал.
– Ты так про каждую говоришь, – нежно сказала она.
– Я каждую и обожаю, – пожал плечами Мигель.
– M’ijo, они могут принять только ту любовь, которую, как им кажется, они заслужили, – но не безграничную любовь, которая сквозь женщину видит истину. – Она улыбнулась, по лицу ее видно было, как она взволнована. – И все же это казалось так правильно, что ты и эта девочка соединились.
– Нет правильного или неправильного. – Он обнял мать слабой рукой. – Я попробовал. У меня не вышло. Вот и все.
– Посмотри, сынок, как ты радовался – такой мужественный, уверенный! Невеста вся так и светится, и сколько чувства в твоих глазах!
– Я очень старался, как и она, – сказал он, наблюдая за сценой. – Была страсть, а какой чудесный был секс…
– Мигель!
– Но нужно ли было так сильно стараться? У нас с ней почти никогда ни в чем не было согласия. Выяснилось, что ей неловко со мной. Она неохотно знакомила меня со своими друзьями. В таких случаях я чувствовал себя кальмаром, затесавшимся в компанию диковинных рыбок.
Сарита не удержалась от смеха:
– А кальмар-то был выдающийся, таких редко встретишь!
– Мы оказались не парой, – продолжал он, показывая на молодоженов. – Долго это продолжаться не могло, но можно поспорить, что ты и Дхара не сильно горевали, когда наш союз распался.
– А ты ждал, что будет по-другому?
Задумавшись над ее вопросом, Мигель чуть нахмурился.
– Madre, вам обеим хотелось руководить видением Мигеля, но у вас это не получалось, – сказал он. – Проживать его должен был я сам.
Сарита смотрела на него и думала, какое же средство передвижения нужно ему, чтобы снова двигаться в человеческом видении. Тело его под угрозой, но им по-прежнему управляет великий нагуаль. Он прожил замечательную жизнь, которая стала образцом любви, а тело его было ее инструментом. Он вернется и сможет дать людям еще больше. Она позаботится об этом.
– Сколько вы потом прожили вместе?
– Три месяца. И все это время то ругались, то миловались.
– А что было потом? Что я увижу дальше?
Сын повернулся к ней, посмотрел ей прямо в глаза и спросил:
– Ты готова?
Этот вопрос он всегда задавал ученикам, которым не терпелось увидеть то, к чему они ни в малейшей степени не были подготовлены. На самом деле, он всегда спрашивал их трижды. Более умные, поняв, отставали от него и больше не требовали показать, как действует сила. Тех, кто настаивал, он предупреждал, но кратко, без уговоров. «Ты готов?» – спрашивал он в третий раз, и реальность преображалась, прежде чем они успевали ответить. Возникали видения, мышление останавливалось, и истина с грохотом обрушивалась на них, подкашивая, как удар в живот.
Сарита не получила никакого предупреждения.
– Ты готова? – тихо вплел он свои слова в гам сосновых соек и жужжание крыльев колибри.
В следующее мгновение она уже стояла в незнакомой комнате.
* * *
Это была женская спальня. Должно быть, стояла ночь, потому что лампа у изголовья кровати была включена, абрикосового цвета шторы и покрывала пылали золотом. На кровати у себя дома в Сан-Диего сидела Дхара. Сарита была в этом небольшом доме довольно давно, но вспомнила, что именно сюда Мигель поехал, когда расстался со своей новой женой через несколько месяцев после свадьбы. Он поехал к Дхаре, прилетев с уик-энда «Круг Огня», на который ежегодно съезжались его ученики и родственники, – там он всем объявил, что освобождает жену от обетов. Машину он оставил в Тахо и улетел обратно – к Дхаре.
Сарита увидела Мигеля таким, каким он был тогда. Он сидел в кресле поодаль от кровати. Глаза его были закрыты, он молчал. Приехал он поздно ночью. В дом его впустил сын Дхары.
– Я к твоей маме, – сказал Мигель и прошел по коридору в спальню Дхары, застав ее врасплох.
Она была поражена, но по его лицу все сразу поняла. Она не произнесла ни слова. Час спустя они все так же молча сидели в разных концах комнаты, без слов, даря друг другу прощение и милосердие. Война закончилась.
Сарита вспоминала, как в последовавшие за этим недели Дхара, воспарив, как мифический орел, излечила Мигеля от тоски, охватившей его из-за неудавшегося брака. Они поехали в Италию, и это путешествие изменило, обновило его. Там его печаль и уныние прошли. Они обедали в Венеции, осматривали Ватикан, бродили среди римских развалин. Поездка в Италию оказалась пиршеством, полным наслаждений и восторга, – ничего этого Мигель не получил от своего пребывания в Индии, куда они ездили вдвоем несколько лет назад. Путешествия в Индию не стали для него пьянящим духовным приключением, каким они были для Дхары и Сариты. Похоже, это была не его страна. Но в Италии он нашел отдых, который был нужен ему в трудное для него время, и драгоценную возможность решить, куда теперь направить свою энергию.
Той ночью, когда он молча сидел с Дхарой, его сердце начало исцеляться. Они снова сошлись, чтобы разделить новую жизнь – на этот раз ничего друг от друга не требуя, отказавшись от борьбы. Сарита вздохнула, закрыла глаза и при свете лампы погрузилась в видение вместе с Мигелем и Дхарой. Теперь она ощущала глубокий покой. Никто больше не сердился, в них обоих сильно и ярко пылала любовь. Наконец истина вернула к жизни вечное мгновение. Умолкли враждебные речи. Сарита будет всегда благодарна за один этот сладостный мимолетный миг покоя. Здесь сражение выиграно, здесь царит уважение, а что будет дальше – не имеет значения.
– Ты готова? – услышала она голос сына.
– Да, – ответила она, но видение уже исчезло.
Не было ни Дхары, ни света лампы. Сарита снова была вместе с Мигелем на свадьбе. Невеста и жених теперь танцевали с гостями, солнце садилось за горы на западе. Плут Эсикио легко вспрыгнул на край площадки на вершине горы. Волшебство изливалось на его маленькую зачарованную землю, прикасаясь к каждой из ее погруженных в видения душ.
13
Хайме смотрел, как мать спит в своей маленькой кровати. Он слышал ее медленное тихое дыхание. Тусклый лунный свет пробивался между раздернутыми занавесками и освещал стену, у которой она лежала. Сарита долго не могла заснуть, но в конце концов сдалась и позволила вечерним молитвам сделать свое дело.
«Интересно, что она видела сегодня вечером во время церемоний?» – думал он. Когда били барабаны, а погремушки из бутылочных тыкв осыпали дом каплями звуков, у него промелькнуло немало видений, а что было с ней? Куда отправлялась она, когда остальные выкрикивали имена предков и читали старые молитвы? Кажется, труды, которым она предавалась каждый вечер, тратя драгоценную энергию во время церемоний, собиравших родню и последователей, не столько помогали Мигелю, сколько вредили ей. Этим вечером она опять упала в обморок, и на этот раз Хайме остановил ритуалы и распустил всех по домам. Мигель прожил еще один день. Может быть, он продержится еще день-другой, но они проигрывают бой со смертью. Врачи постепенно теряют его брата, но Хайме не может потерять ее. Он не позволит Сарите умереть, даже ради ее младшего сына.
Хайме вспомнил, как у Мигеля один раз уже чуть не отказало сердце. Во время путешествия по местам силы на Гавайи несколько лет назад он и Дхара повели группу отважных учеников на вершину горы на большом острове. Мигель пошел с ними к жерлу вулкана – пройти нужно было не меньше мили. Дхара осталась, не желая иметь дело ни с палящим солнцем, ни с подземным пеклом, тем более что еще предстояло взбираться обратно на край кратера. Это было задание для Мигеля – соединиться с землей, как постановила Сарита. Землю и огонь в этом месте силы символизирует богиня Пеле. Мигель совершил все ритуалы, которым его обучили, чтобы добиться благосклонности богини, и осмелился войти внутрь ее. Пеле, должно быть, принадлежала к разряду женщин, которых трудно расположить к себе, потому что в тот день она не проявила милосердия к своему воздыхателю. Без тени улыбки, полная скуки, она прогнала Мигеля, не дав благословения, и на полпути из вулкана его сердце стало сдавать.
Он почувствовал мучительную боль в груди, побледнел, вспотел и стал спотыкаться. Ученики заволновались. Некоторые из мужчин покрупнее вызвались нести его, но он только рассмеялся в ответ. Вспоминая это, Хайме подозревал, что Мигель решил тогда преподать самый серьезный из своих уроков. Похоже, Пеле с презрением отвергла его, зато он теперь сможет показать своим ученикам, как настоящий мастер встречает смерть.
Лунные лучи бесшумно гонялись друг за другом по комнате. Хайме улыбнулся сам себе. Его братик всегда был кудесником в играх, каждый раз придумывая новые состязания: это касалось и способов игры в мяч, и азартных игр, и того, как победить в шахматном поединке. Ему скучно было каждые выходные заниматься одним и тем же. Когда старшие мальчишки начинали осваивать какую-нибудь игру, он менял правила или передвигал линию ворот. Он изобретал игры с новыми, умными стратегиями. Став шаманом, он продолжал в том же духе. Стоило ученикам ухватить какую-нибудь идею, принять какую-либо теорию, как Мигель отбрасывал ее ради новой. Он постоянно заставлял учеников бодрствовать и лишал равновесия. Чтобы соответствовать, они должны были меняться, не застревать – иначе они могли лишиться его внимания. Со временем он стал мастером мифов, постоянно предоставляя им возможность привязаться к его и их собственным историям, а потом отстраниться от них.
Новое приручение требовало новых поощрений и подразумевало, что не будет наказаний. Он был спасителем, которого искали его ученики, родителем, которого им так не хватало. Для многих он был другом, и для каждого – учителем и наставником. Здесь не было правильного и неправильного, а правила, которых всем предлагалось придерживаться, составляли часть игры, в которой победителем был каждый.
Мигель не хотел пугать своих духовных детей в тот день, когда они спускались в вулкан. Боль была очень сильной, и он едва сдерживал свое тело, чтобы не закричать, – они ведь подумали бы, что страдание или страх одолели его. Ему не хотелось, чтобы они боялись смерти. Он продолжал разговаривать и медленно, но решительно восходить к краю жерла. Женщины плакали, боясь, что живым ему отсюда не выбраться. Мужчины молились и искали силу внутри себя.
Дхара и не подозревала о том, что случилось, пока все не кончилось и он не пришел к ней за помощью. Той ночью они вместе успокаивали его сердце и исцеляли воспоминания о трудном дне. И он выжил. Жизнь продолжалась, но ему пришлось пересмотреть план игры. Пеле оттолкнула его, больше того – обошлась с ним жестоко, но он попробует снова. Он придумает новую стратегию. У него была необходимая для победы вера. Богиня уступит, смягчится, и он одержит верх в этой игре – так бывало всегда.
Хайме так и не понял, дошло ли до тех учеников, что значит совладать со смертью. Возможно, они не постигли этого до сих пор. Там, на вулкане, Мигель весело встретил физическую смерть – так же он встречает ее сейчас. В конце концов, это игра, правда мало кто обладает достаточной осознанностью, чтобы играть в нее. Может быть, они слушали, и возможно, кто-то из них чему-то тогда научился. Но в любом случае тот день на Гавайях был днем предзнаменования. Это было предупреждение, смысл которого был ясен всем, кто молился за него сегодня вечером. Сейчас он снова лицом к лицу столкнулся со смертью, и, как бы он ни смеялся, перевес не на его стороне.
Тем временем Сарита испытывала страдание. Хайме был рядом с ней с того мгновения, когда брата увезли в больницу. Он смотрел на нее и думал: пытается ли она и во сне пристыдить сына и заставить его вернуться, как в те летние дни в детстве, когда его нужно было затаскивать домой к ужину после долгих игр.
– Где ты бываешь в эти ночи, Сарита? – прошептал Хайме в лунный свет. – Что ты слышишь? Что видишь?
Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. Ему хотелось отправиться вместе с ней, сопровождать ее, в какие бы сферы ее ни заносило, и помогать в достижении ее цели. Она не рассказывала ему о своих внутренних странствиях, обмолвилась лишь, что говорила с Мигелем и что ее ведут. Ведут… Кто и куда? Хайме выпрямился. Он вдруг почувствовал: тут есть кто-то еще и этот кто-то слушает его мысли. У него появилось едва уловимое ощущение, что кто-то сидит рядом с ним у постели его матери – может быть, ангел-хранитель.
– Кто, как он считает, ведет его мать? Ангелы да херувимы на крылатых жеребцах? – вслух размышляла рыжеволосая, глядя на мать и сына, освещаемых луной.
Лала и дон Леонардо только что очутились в этой комнате, в этом тихом воспоминании, и были обеспокоены тем, что потеряли связь с Саритой. Она была так изнурена, что вывалилась из ясного состояния транса в сон без сновидений.
– Он считает, что какой-нибудь старец – вроде тебя или меня – посвящает его мать в тайны Вселенной, в то время как он здесь в поте лица вместе с двоюродными братьями и сестрами называет нараспев имена своих предков.
Дон Леонардо сочувственно улыбнулся, глядя на внука:
– Ему завидно? Ха!
– Расскажи ему, сеньора, – подстрекал ее Леонардо. – Расскажи Хайме то, что он хочет знать. Разве это не твое призвание – рассказывать замысловатые истории, чтобы подразнить ум?
– Я не собираюсь издеваться над ним. Он верит, он друг знаний, и он воин. Посмотри, как он волнуется за свою мамочку! Он ведь, верно, отдал бы за нее дюжину своих братьев?
– Это не так.
– Ну, может быть, одного брата?
– Мы будем бороться за Мигеля, дорогая моя. Он верный брат, и он поможет Сарите продолжить путь, а она вернет своего младшего мальчика к жизни.
– Мне все равно, останется шаман или уйдет, – запомни, – резко сказала его спутница. – Эти люди просят дать им ответы на их вопросы. Это мой совет им нужен, и я с удовольствием его даю.
Леонардо пожал плечами, чувствуя, что пора сменить тему. Его мысли вернулись к Сарите, крепким сном спавшей в мире живых, в мире насущных забот. Без нее бессмысленно продолжать путь: ни за кем другим ее сын не пойдет. При этой мысли он почувствовал, что Мигель где-то рядом, смотрит и ждет. Что-то подтолкнуло Леонардо – нужно действовать от имени Сариты.
– У Мигеля осталось очень мало времени, – сказал он. – Мы не можем вот так просто смотреть на мою дочь и ничего не предпринимать.
– Мы уже много сделали.
– Да, мы собрали много воспоминаний, но этого недостаточно. Пожалуйста, не спорь со мной, – сказал он, не давая перебить себя. – Боюсь, я должен настоять на этом.
Лала промолчала. Она смотрела на Хайме Руиса, берегущего сон своей матери. Похоже, дорога знаний может вести людей только до какого-то предела. Когда молитвы прочитаны, когда больше нет надежды, у них остаются лишь они сами – да спокойствие в ничем не заполненном пространстве между двумя мыслями. Это – не для нее. Это – для ловцов тайны.
– Любовь – это тайна, – наконец сказала она.
– Это лишь слово, сеньора, и ты хорошо это знаешь.
– Да, это – слово. Это – повеление. Это, я бы сказала, мука. И все же…
– И все же?
– Прежде чем слово было произнесено, было… что-то еще.
– Что-то, что правит словами, – согласился старик. – Что-то, что правит всеми видениями, всеми вселенными.
– В том числе и ее видениями, – сказала она и, нахмурившись, посмотрела на мать Сариту. – И прямо сейчас тоже.
– Да и сейчас, когда она пребывает в видении без нас.
– Видимо, нас тут оставили одних, дон Леонардо, поиграть с одной хрупкой идеей.
– С какой же?
– Что сыновья любовь может, в конце концов, стать искрой, из которой возгорится чудо.
Старик смотрел на нее, раскрыв рот: он не узнавал ни ее тона, ни выражения ее лица. Вид у нее был восторженный – так, по его представлениям, могла бы выглядеть безумно влюбленная девочка. Куда делись ее мысли – мысли рассказчицы? Кто виновник этого преображения? Он окинул взглядом комнатку, прищурившись, вгляделся в тени, но никого не увидел.
– Может быть, нам отправиться туда, куда ее привели видения? – предложил он.
– А если видений нет?
Лала засомневалась, могут ли в почти бездыханном теле возникать видения.
– Давай пустимся в погоню! Ты – Артемида, а я – один из твоих прекрасных неутомимых псов. Давай выследим ее и посмотрим, что еще сможем найти!
Еще раз бросив взгляд на Сариту, Лала кивнула. Она последует за стариком, поскольку им движет вдохновение, а ей и оно сейчас недоступно. Быстро взглянув друг другу в глаза, она и дон Леонардо исчезли, оставив окутанную лунным светом старую женщину спать под присмотром сына, с едва уловимым присутствием ангела-хранителя, сидящего рядом, у изголовья.
* * *
Сарите и правда снился сон. Это было видение о другой свадьбе – многолюдной, особенной. Там было много невест. Их было не сосчитать, Сарита узнала только трех. Она увидела там Марию, первую жену Мигеля, с тремя юными сыновьями. Была там и Дхара, одетая в сари из золотистого шелка. Была также женщина, которой суждено было стать его женой на несколько коротких месяцев, – ее лицо она узнала, но имя успело изгладиться из ее памяти. Было множество других невест, сотни невест, они собрались у ступеней огромного алтаря, взволнованно ожидая прибытия жениха. Церемония проводилась под открытым небом, но воздух был сырой, с моря дул теплый благоуханный бриз. Среди собравшихся царило радостное предвкушение, замешанное на густой романтике – по-видимому, неотъемлемом свойстве тропического климата. Все были возбуждены, как будто ночь обещала им сладостные и страстные наслаждения.
Похоже, церемония действительно проходила на тропическом острове: там, где стояла Сарита, со всех сторон был виден океан. Она не видела Мигеля, но чувствовала, что он где-то рядом. Она понимала, как тревожно ему думать о будущем, в котором у него будет столько жен, но восторг при мысли о медовом месяце явно перевешивал этот страх. Она повернулась лицом к ветру и ощутила чистую животную силу этого возбуждения. Разве она сама не чувствовала то же самое, когда была молодой женщиной? Разве это не ощущение самой жизни? Каждый человек жаждет радостей любви, окончательного слияния. Каждый мужчина и каждая женщина хочет соединиться с жизнью через тело другого человеческого существа. Этому закону подчинялись и Сарита, и мужчины, которых она любила. Она открывалась чувствам, и они уносили ее в царство упоения, на миг освобождали от оков убеждений и окунали в любовь. Пожалуй, в этом и есть его сущность – этот ничем не скованный дух желания. Она не могла бы сказать, как сильно это повлияло на многих женщин, которые были в его жизни, но это была его настоящая сила. Знания не могут устоять перед ней. Уму со всеми его расчетливыми уловками никогда не одолеть ее. В нем была эта сила безусловной любви, он и был ею. И вот доказательство: сто пылких невест, затаив дыхание, стоят и ждут его.
Это была грандиозная свадьба. Среди гостей были все, кого она знала, толпа покрывала почти весь остров. Сарита видела своих родных – сыновей и дочерей, их детей и детей их детей. Старые друзья разговаривали с новыми знакомыми, а давно умершие братья и сестры выпивали и смеялись с живыми. Среди бесчисленных гостей она заметила своего отца, а подле него стояла La Diosa. И в это мгновение Сарита поняла, что это сон. Это был не транс и не воспоминание. Это было сновидение спящей, возникшее без всякой причины и намерения. Да, она видит дона Леонардо и с ним женщину-змею, но это бессмысленный и бессвязный сон. Это просто баловство, забава, придуманная ею самой. Но стоило ей проснуться внутри сна, как видение стало подчиняться ее воле.
Гости исчезли. Рассеялось и великое сборище невест. Если суждено быть медовому месяцу, то жениху придется вернуться к живым. Когда Мигель вернется, пусть предается любви, сколько ему будет угодно, женится столько раз, сколько выдержит, и наплодит, к своему восторгу, еще с дюжину детей. А до тех пор – никаких разговоров о спаривании и супружестве. Хочет Мигель или нет, она положит этому конец. Пусть предки следуют за ней или возвращаются на свои пыльные ложа. Пусть святые отвернутся от нее, а ангелы разлетятся – она закончит это дело и вернет сына.
* * *
Мать всегда играла важную роль в моем видении – и когда я спал, и когда бодрствовал. Если мне суждено пережить ее, уверен, я буду и дальше чувствовать ее присутствие и слышать ее слова. Пусть Мигель, занимающий ее воображение, – это не совсем я, но она любит его без всяких условий. Как бы далеко он сейчас ни был, ускользнув и от меня, и от нее, она продолжает непрестанно беспокоиться о нем. Она видит во сне женщин, которых он знал и хотел, и все они соперничают с ней, борются за его внимание. Внимание для человека – самый большой приз и наш самый важный инструмент осознанности, но теперь мало что требует внимания от Мигеля. События будет определять внимание жизни, и оно направит это видение в совершенно новую сторону. А там ждут новые открытия. Брат присмотрит за Саритой, она отдохнет, проснется и снова возьмется за дело, как и полагается настоящему мастеру.
Свадьба в 1997 году – не то шумное сборище, которое только что ей приснилось, а скромная церемония в Нью-Мексико стала свидетельством моей решимости изменить видение Мигеля. Тогда мне казалось, что новая любовь и новый образ жизни помогут найти новые возможности. Я стал заниматься своим здоровьем, внешностью и принял ответственность за свою судьбу. Недавно опубликованные «Четыре соглашения» уже начали изменять мое видение. Вскоре изменится и мой подход к учительству. Мои отношения с жизнью становились более подвижными и близкими. Сарита права, когда говорит, что никогда я так не сознавал свою личную силу, как в те месяцы и в последующие пять лет.
Тот брак скоро распался, но у любви не бывает конца. Уважение не умирает из-за того, что видения оказываются несовместимыми. Видения же не вечны и, умирая, уступают место другим, новым. Новые видения лишь выигрывают оттого, что наша осознанность выросла, и в них начинают действовать совсем новые персонажи. Некоторые из них могут увидеть в нас то, чего другие не замечали, и полюбить нас со страстью, которая никогда не угаснет. Ветер, что дул в северном Нью-Мексико в день моей свадьбы, нес радостную весть о переменах. Он говорил: «Это только начало. Сдайся еще раз, ибо намерение меняет все. Жизнь отбрасывает одно и заново придумывает другое. Вестник преображается вместе со своим посланием. Мир слушает. Жизнь мчится на полной скорости. Грядет союз – любовь, наполненная страстью, – и ему предопределено выдержать испытание временем».
С детских лет я считал, что предаваться любви – моя мужская миссия как с биологической, так и нравственной точки зрения. Подростком я начал подозревать, что девочкам секс нравится не меньше, чем мне. Если девочки жаждут его, а моя мать была девочкой, значит и она его жаждала. Вначале это открытие обескуражило меня, но куда было от этого деваться? Глубокое уважение к матери велело мне посвятить себя любви к женщинам, и превыше всего я ставил их страсть к удовольствию. Я был ребенком мужского пола, который вырос и стал мужчиной, желающим любить и быть любимым. Все обстояло для меня так просто, зачем усложнять? Мои братья и друзья поддерживали меня в моих устремлениях, если они не шли вразрез с их собственными. Любовь делает людей счастливыми. Чувство вины, стыда, осуждение – нет.
Романтическая любовь – это история, которую мы рассказываем любви плотской. Стихи, свечи, музыка – все это чудесно, но секс не зависит от них: они ничего в нем не меняют, и возникает он не из них. Сексуальность – наше неотъемлемое свойство. Мы, люди, постигаем истину через чувства и физическую близость, но заметьте, как скоро наши истории обид и обвинений восстанавливают нас против истины. Мы заставляем человеческое тело расплачиваться за наши представления о добре и зле. Я рано понял, что истина может открыться, когда нет истории. Любовь – наша истина – сама преображает реальность.
– Когда ты впервые решил не быть жертвой любви? – спросил меня однажды ученик.
Всерьез задать такой вопрос можно только после того, как сам увидишь искажение и откажешься прислушиваться к голосу символов. Ум каждого человека околдован знаниями – словами, обозначающими лишь то, что мы в них вкладываем. Нас покоряет их сила, но волшебники, давшие им силу, – это мы. Плененные чарами, неосознанно мы раним словами себя и других. Слова, которые мы произносим про себя, заставляют нас испытывать страх. Слова, произносимые нами вслух, порабощают нас.
Мне было двадцать с чем-то, когда я заключил с самим собой соглашение о слове «любовь». Для меня это была сила жизни в действии, уравновешивавшая благодарность и великодушие во всех видениях, в которых я участвовал. Точно так же я смотрел и на самого себя – как на силу жизни в действии. Мы были одним и тем же. И если я есть любовь, то как я могу быть ее жертвой?
Любовью – с силой самой истины – слишком часто прикрываются для отрицания истины. Люди научаются любить только при каком-нибудь условии. Они любят, если: если их полюбят в ответ или если они смогут управлять жизнью другого человека. Человечество тысячелетиями любило таким вот искаженным образом. Нам редко приходит в голову, что можно полюбить кого-то без всяких условий и оценок, и мы редко так любим. Та любовь, о которой говорит и которую чувствует большинство людей, – это противоположность любви. Как символическое древо, отражающее жизнь, – это лишь копия истины, но не сама истина. Как падший ангел, это вестник, попавший в ловушку собственной лжи. Как Лала, это знание… это мастерски рассказанная история – увлекающая и опасная.
* * *
– Что ты думаешь о Лале?
Мигель и его мать разговаривали дома, в ее комнате. Она лежала на своей маленькой кровати. Хайме вернулся к своей семье, и теперь они остались вдвоем. Занавески были раздвинуты, и луна на небе висела так низко, что светила Сарите в глаза. Ее младший сын удобно устроился на подушках – так когда-то в детстве, вернувшись из школы, он рассказывал ей, как прошел день. Сарита, еще не совсем пробудившаяся после долгого сна, не подвергала сомнению его присутствие, но едва различала, как он выглядит. В таком виде он обычно отправлялся к пирамидам: на нем были поношенные джинсы и рубашка из джинсовой ткани, спортивные ботинки зашнурованы, на голове небрежно сидела коричневая фетровая шляпа. Говорил он тихо, как близкий друг, но голос его звучал как будто издалека.
– Скажи, что ты о ней думаешь? – снова спросил он.
– Что? – рассеянно отозвалась она.
Он что-то спросил про Лалу? Какой далекой ей сейчас кажется это женщина! От ее имени осталось лишь тусклое воспоминание.
– Я про твою проводницу. Как она тебе?
– А, эта! Она просто бесит меня, – сказала Сарита, протирая глаза. – Начальницу из себя строит, – продолжала она, пытаясь наконец прийти в себя. – Ну да, постоянно командует, брюзжит вечно. – Она начинала четче вспоминать Лалу. – А самомнение-то: воображает, что она вся такая умная и сногсшибательная!
– Разве она не помогает тебе? – спросил он, явно обеспокоившись.
– Думаю, надо еще посмотреть. Она так и сыплет разными мыслями, – может, это и есть помощь? По мне, так не помощь это никакая. Похоже, она считает, что лучше всех во всем разбирается, что она одна знает, как судьбу повернуть.
– Понимаю; наверное, это неприятно.
– Неприятно! Это какое-то испытание для меня, m’ijo! – Сарита задышала мелко и часто.
Ее комната была залита светом, в ней стало немного жарко. Она повернулась к окну и посмотрела на улицу. Чуть поодаль друг от друга высились два величественных дерева, а за ними висела в небе огромная полная луна. Она вспомнила, как в тени одного такого дерева встретила Ла Диосу. Узнав дерево и смутившись, она покачала головой. Оно что, всегда стояло на заднем дворе ее дома?
– Вот как?
– Что?
Она вздрогнула и оглянулась на сына.
– Испытание для нервов? Она тебя испытывает?
– А, ты про Лалу. Да. Она так важничает. Это действует мне на нервы. Такая высокомерная – я просто не могу! – От досады старушке стало трудно дышать. – Бывает, мне как будто даже нравится… нравится сцепиться с ней.
– Сцепиться?
– Схватить эту упрямицу и трясти, пока она не начнет видеть меня по-настоящему. Но похоже, она ничего не видит. – Сарите вдруг вспомнился библейский образ Иакова, борющегося с… с… Она моргнула – и образ исчез. – Она даже дона Леонардо до белого каления доводит, – сказала она, – а уж он-то не из тех, кого легко вывести из себя.
– Да, он не из таких, – кивнул Мигель.
– Подозреваю, это на него красота ее действует. – Она пожала плечами, подавляя зевок. – Что тут скажешь – мужчины есть мужчины.
– Так она красивая?
– Привлекательная, – нашла она слово и опять пожала плечами. – Она, конечно, особенная, а особенная женщина может… произвести впечатление. – Сарита перевела дух, ожидая, когда в голове прояснится. – Я была такой женщиной.
– Ты и сейчас такая женщина.
– Но красота ее не оправдывает, – продолжала она. – Высокомерие делает женщину ограниченной и… И опасной.
Сарита помолчала, потом прищурилась, как будто пытаясь сосредоточиться. О чем это они вообще?
– Ты ее боишься?
– Вот еще! Она пустая бабенка – так, надоедает немного. – Она заметила, что в глазах сына мелькнул интерес, и снова смутилась. – Наверное, она необычная – да, необычная. Есть в ней какое-то очарование – у твоей матери оно тоже было, когда… когда…
– Оно у тебя и сейчас есть, madre.
После этих слов Сарита снова замолчала и погрузилась в раздумье. Она снова посмотрела в окно. Луна оставалась на том же месте. Но оба дерева как будто стали больше. Они безмятежно соседствовали, идеально подходя друг другу, – благородные и величественные. Тишина ночи лишь подчеркивала их великолепие, огромные ветви тянулись к небу, в стороны и к ней. Она смотрела на них, и вдруг одно из деревьев стало постепенно исчезать, как видение, сотканное из тумана. Сарита закрыла глаза. Когда она снова открыла их, оба дерева, как и прежде, четко вырисовывались на ярком фоне луны.
– Ты говоришь, она досаждает тебе – «надоедает немного», – сказал ее сын.
– Да, но не очень, – согласилась она.
– А в видении человечества она играет очень большую роль.
– В видении?..
Сарита запнулась, почувствовав опасность. Хотя она еще не совсем пришла в себя, какая-то часть ее стала необыкновенно чувствительной ко всему, что происходило. Она поняла, что Мигель, так уютно беседовавший с ней, сейчас скажет ей что-то такое, что она не хотела бы услышать. Ей стало ясно, что тело ее спит, но сон, который она сейчас видит, требует от нее полного внимания. Сын наклонился к ней и заговорил.
– Для того, кто живет осознанно, она и демон, и ангел, и враг, и союзник, – сказал он.
– Демон? – повторила она и удивилась тому, что ей стало стыдно от этого слова.
– И ангел.
Сарита пристально смотрела на Мигеля, лицо которого оставалось на удивление бесстрастным.
– Мы подчиняемся Лале, уже произнося наши самые первые слова, – продолжал он. – Она овладевает нами, нашим умом и телом. А что такое демон, как не тот, кто обладает силой вселиться в другого? Ее слава возносит нас, и ее же прихоть нас низвергает. Но, научившись осознавать, мы можем наконец увидеть ее, посмотреть ей в лицо – побороться с ней, если нужно, – и отвоевать свою свободу.
– M’ijo, ты хочешь сказать, что… я одержима? – с нехорошим предчувствием проговорила она.
– Древо познания прорастает в голове каждого человека, после того как он отведает его семени. Каждый может задать себе вопрос: «Какие плоды оно приносит? Страх оно рождает или уважение? Какой у них вкус – нектара или горького яда?»
Его голос отдавался эхом в тишине. Сарите хотелось проснуться, но тело отказывалось повиноваться.
– Лала… вселяется? – Старушку обеспокоили эти слова. – А мне она кажется вполне безобидной. Она просто паразит, вот и все.
– В пустыне Сатана был страшен, – мягко сказал сын, – он, можно сказать, производил впечатление.
Пальцы Сариты теребили ночную рубашку.
– Сатана в саду не так пугал, – продолжал Мигель. – Он в основном надоедал – и его было легко осадить.
– Не надо смеяться над этой историей, m’ijo, – укорила она его.
– Это история каждого человека. Восприятие меняется с ростом осознанности, Сарита. То, как ты сейчас воспринимаешь Лалу, – это мера твоей осознанности.
Так что же, эта женщина – сатана или нет? Сарита вдруг почувствовала себя слишком старой и слишком усталой, чтобы пытаться это понять. Почему ей никак не проснуться?
– Сатана – это искаженный образ Бога, – сказал сын, отвечая на ее мысли, – так же как знания – это искажение истины.
– Я не стала бы водить компанию со злом, если б знала, что это зло, дитя мое, – тихо сказала Сарита.
– Зло возникает, когда верят в ложь, и тебя ему никогда не завоевать. Что касается Лалы, то ты ее видишь в общем такой, какая она есть, – она очаровывает, она красива, но веры твоей не заслуживает. – Он взял ее за руку. – Ты видишь в ней просто зануду.
– Но иногда я вижу в ней…
Смутившись, она замолчала.
– Сариту? – подсказал он ей, но она не ответила. – Сарита – это не истинная ты. Так же как и Мигель, которого ты воспринимаешь, – не настоящий, хотя он и вправду достоин восхищения. – В слепящем лунном свете он поцеловал ее в щеку.
– Настоящий он или нет, а я его люблю, – со слезами прошептала она.
– Живой или нет, он всегда будет любить тебя.
Что-то царапнуло по оконному стеклу, и Сарита окончательно проснулась. Ей сразу же захотелось увидеть два дерева, но на фоне ночного неба видна была лишь линия крыши соседского дома. Под ветром гнулось молодое деревце жакаранды, задевая карниз крыши ветками, на которых начинали распускаться почки. Она отвернулась от окна – в темной комнате никого не было.
Лежа в одиночестве в своей маленькой кровати, Сарита глубоко дышала и пыталась собраться с мыслями. С того утра, когда у ее сына случился сердечный приступ, она проделала большой путь. Она не могла бы сказать, в каких местах побывала и как это она так поддалась чарам, – но в итоге она почему-то оказалась там же, откуда начинала. Она была у себя дома, а сына с ней не было. Она стара и скоро должна будет посмотреть правде в лицо. Нет больше почитаемой курандеры, исцелявшей умирающих. Нет больше чародейки-укротительницы, подчинявшей судьбу своей воле. Даже в состоянии транса ей не удалось вернуть ту женщину. Правда, она пока еще может пуститься во внутреннее странствие. Ей все еще подвластны силы желания. Она все еще способна на видения…
Сарита снова устремила взгляд в окно – там, в ночи, бушевал ветер. Она начинала понимать, почему нашла сына на древе жизни. Ей не нужны были объяснения Мигеля, что любовь, безусловная и неослабная, – это основа жизни. Она прекрасно знала, что любовь, ставящая условия, – это искривленный образ правды, но именно им забавляется человечество в тени символического дерева, дрожащего, как зловещий мираж, и разбрасывающего миллионы семян лжи.
Нет, ему не нужно все это ей рассказывать… И все же в это путешествие она отправилась из собственных эгоистических побуждений. Сарита выключила лампу у кровати. Потом встала с постели, нашла тапки и медленно, шаркая, направилась в кухню, истосковавшись по вкусу pan-dulce[38] и чашечке травяного чая. Нужно найти какой-то другой способ видеть это. Ей казалось, что сын бестолково распоряжается своей судьбой, что он сбился с пути. Но разве он не счастлив? Разве он не стал воплощением самого счастья – теперь, когда освободился от образа Мигеля? Осталось ли у нее самой еще время, чтобы вкусить такой свободы?
Она размышляла об этом, маленькими кусочками ела булочку и грела пальцы о горячую чашку чая. Поставив чашку на столик в гостиной, она уселась в большое кресло. Полная раздумий, она погрузилась в сон, более глубокий, чем раньше, позволив этому мгновению – всем мгновениям – раствориться в абсолютной силе.
14
– Ты счастливая или глупая?
– Что вы имеете в виду? – спросила женщина.
На глазах у нее выступили слезы. Они ехали в автобусе по тряской горной дороге в перуанской глуши. Мотор ревел, скрежетала коробка передач. Пассажиры громко разговаривали, – может быть, она неправильно расслышала его вопрос?
– Ты счастливая? – снова спросил дон Мигель ученицу.
Глаза его поблескивали из-под полей видавшей виды шляпы.
– Нет, не очень, – запнувшись, ответила она.
– Значит, ты глупая?
– Нет.
– Нет?
Она пыталась смотреть прямо ему в глаза, но это было трудно. Нелегко было встретить его открытый внимательный взгляд и вспоминать при этом, как это – быть несчастным.
– Счастье – не вопрос выбора, – наконец сказала она, сосредоточившись на том, как сцепились друг с другом на коленях ее руки. – Столько всего делает нас несчастными, – добавила она, шмыгая носом. – Некоторые… Ну, некоторые люди разбивают нам сердца.
– Ты в это веришь? – спросил он с какой-то чрезмерной прямотой. – Что кто-то или что-то делает тебя несчастной? Что кто-то может разбить твое сердце?
– Да.
– Кто-то может заставить тебя, принудить быть несчастной? Серьезно?
– Да. Это звучит глупо?
– Это звучит так, как будто ты веришь в это.
– Я ничего не могу с этим поделать. – Она пожала плечами. – Жизнь – дерьмо.
– Жизнь предоставляет огромный выбор, – ласково сказал Мигель. – Ты выбираешь несчастье?
– Если у нас правда есть выбор, то, конечно, было бы глупо выбрать несчастье.
– Вот именно.
– Но…
Она силилась найти какой-нибудь довод, и ее снова наполнила горечь. Она заерзала на сиденье и зарыдала.
– Так что же, милая, – мягко повторил Мигель, – ты счастливая или глупая?
Теперь слезы обильно полились у нее из глаз прямо в подставленные руки.
Сидевшая через проход рыжеволосая женщина наблюдала и слушала. Автобус был заполнен учениками, все говорили наперебой и громко смеялись, так что трудно было что-нибудь расслышать, но Лале хотелось быть рядом с ними. Ей хотелось увидеть, как учитель работает, наконец кое-что понять в нем – в той игре, которую он затевал с людскими умами. Он играл во многом так же, как и она, но использовал магию, которая ей не давалась. Она ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось знать.
Поездка была для Мигеля желанной, это было видно. Недолгий брак, начавшийся в летний день в Нью-Мексико, был расторгнут всего несколько недель назад. Лала видела, что он уже исцелился от душевных ран и полон желания учить, поддразнивать, снова играть своей силой. И вот он здесь, с группой горячих последователей, составивших ему компанию. Всего их сорок: сорок человеческих существ, преисполненных воодушевления, едут по местам силы в Перу, сорок человек мчатся по извилистым дорогам на вершине невероятного мира.
Это люди разного возраста с непохожим прошлым, но одно объединяет их всех: поиск. Они ищут решение проблемы, которую нельзя назвать. Они ищут нечто, чего, по их мнению, им недостает, в чем им было отказано. Ей никак не привыкнуть к тому, как некоторые смертные гонятся за тайной, как будто в ней есть какая-то высшая логика. В конечном счете они опять возжаждут старых привычных знаний и вернутся к ним. Как цыплята, которые усаживаются на насест после многих мучительных попыток взлететь, они вернутся к своей прежней, привычной жизни. Скорее раньше, чем позже, они придут в себя.
Так стоило ли вообще пускаться в это предприятие? Зачем вся эта суета, эти поверхностные попытки, к чему это вдохновенное пение, молитвы, все это притворство? Чтобы ненадолго оказаться в этом братстве? Или ради нескольких пьянящих мгновений чуда? Наверное, их влекло то глубокое волнение, которое испытываешь, подходя к краю познаваемого и в благоговейном страхе заглядывая в пустоту. Но, постояв над пропастью, почуяв опасность, они, видимо, уже скоро вполне готовы вернуться к комфорту привычной действительности, к тому, в чем не приходится сомневаться. И они возвращаются к старым представлениям о себе, к все тем же дурачащим их мыслям. Рискнули немного, мельком увидели бездну – и достаточно.
Лала окинула взглядом ехавших в автобусе искателей приключений. Большинство – американцы, несколько учеников из Мексики и парочка из Европы. Почти во всем мире Перу считается священным местом, сбывшейся мечтой для любителей острых духовных ощущений. Мать Сарита, несомненно, считает эту страну именно таким местом. Старушка отправила сына сюда, чтобы он соединился с Землей, – точно так же она настаивала на том, чтобы он побывал на Гавайях. У нее и другие места намечены – Египет, Тибет, Антарктика. Каждое из них требует особой стратегии, для каждого видения нужен свой план действий. Может быть, у Земли, как и у всех тел, есть свое видение, но она еще и хранит память о древних и забытых человеческих снах. Честолюбивыми устремлениями построены города и повержены в прах цивилизации, но в их развалинах все еще вибрирует человеческая мысль. Знания навечно пропитывают почву Земли, как растаявший снег – и пролитая кровь.
Один из учеников, сидевший рядом с ней, закончил рассказывать длинный анекдот, и весь автобус разразился хохотом. Как, однако, все возбуждены в этой поездке, аж подташнивает. Когда смех стих, женщины на задних сиденьях затянули песню, и вскоре все впали в слезливо-сентиментальное настроение. Она начинала жалеть, что увязалась за ними. Воздух так насыщался душевным волнением, что ей стало трудно дышать. Она уже обдумывала, что бы такое ей предпринять, когда что-то по ту сторону прохода привлекло ее внимание.
Теперь ученица в изнеможении лежала на коленях у Мигеля. Лала заволновалась и покачала головой. У этой женщины были все причины быть несчастной. Как не стать несчастной, когда цепляешься за твердокаменные мнения и убеждения? Целыми днями слушая грохот сталкивающихся в голове идей, она обречена была оказаться в тупике. Страдание было неизбежно: находиться в осаде сорвавшегося с цепи мышления и мучиться от этого – судьба каждого смертного. Лала снова посмотрела на женщину. Теперь она, похоже, не страдала. Ее несчастье, наверное, унес с собой бурный поток слез, – видимо, она совсем успокоилась. Глаза ее были закрыты, на губах играла беззаботная улыбка, не выражавшая ничего. Лицо ее как будто глядело из потустороннего мира – зрелище не из приятных. Мигель начал осыпать женщину воображаемыми поцелуями, клюя собранными вместе кончиками пальцев ее щеки, нос, подбородок. Лала смотрела как зачарованная. Он поднял запястье женщины и погладил нежную кожу на локтевом сгибе. Затем постучал пальцем по вене, как медсестра перед уколом, и вонзил в это место кончики двух пальцев. Ногти впились в ее плоть, и у женщины перехватило дыхание. И впрямь прививка, хотя Лала не могла понять, на каких принципах она основана. Он как будто впрыскивал этому ошеломленному созданию свою собственную сущность – силу, не признанную человечеством. В результате этих манипуляций женщина полностью лишилась чувств. Она затихла и явно погрузилась в блаженство. Возможно, как раз сейчас она заглядывает за край, отчего у нее захватывает дух, но еще немного – и она отступит, – Лале это было известно. Они всегда отшатываются от тайны и всегда возвращаются к известному – и к ней.
В эту поездку Лале довелось увидеть много необъяснимого в поведении людей. Вначале она подняла на смех идею «путешествия по местам силы» – очередную претенциозную выдумку во мгле самообмана. Да что может знать о силе этот человек, который перебивается от месяца к месяцу, читая лекции в частных домах и рассказывая сказки об истине и осознанности? Как может он обладать силой, оставаясь неизвестным в мире, избегая внимания и контроверсий? Что может знать человек, смеющийся над убеждениями, которые движут другими людьми? Он мог бы занять высочайшее положение в этом мире, но он предпочел иное. Видимо, он по-другому, чем она, понимает силу. Но какую силу он может предложить этим ученикам? Если ему не удастся осчастливить этих сорок человек, последовавших за ним, будут ли они и дальше считать это путешествием по местам силы?
Таковы были ее первые впечатления. Но чем больше она наблюдала, тем больше изумлялась, а способность изумляться не входила в число ее многочисленных талантов. Она дивилась тому, как он крепок – физически и своей волей. Она-то сама с каждым днем слабела, к Мигелю же приходила сила, у которой не было источника, и получал он ее необъяснимыми способами. Он не тратил лишних слов. Несколькими воодушевляющими фразами он заманивал ум на путь спасения и тут же бросал его, оставлял барахтаться без мыслей, без указаний. Слова повиновались ему. По его воле они отходили в сторонку или начинали звучать в высшей степени вдохновляюще. Во время ритуалов эти подданные лишались сил – согласно его намерению. По его повелению знания сражались с тайной. Да, Лала чувствовала, что ослабла. Она оказалась в чуждой ей сфере. Здесь никто не прислушивается к ее голосу, а ее решимость проваливается в небытие. На этом поле играет Вселенная. Здесь резвится жизнь, и ее прихотям послушен даже мастер-нагуаль.
Она не понимала, как он делает то, что делает. Не вполне понимала она и что именно он делает. Она знала лишь то, что видела. С первых часов в Лиме, даже с первых минут в самолете, летевшем из Лос-Анджелеса, он околдовал своих учеников. Женщины были очарованы, мужчинам хотелось ему подражать. Вполне возможно, что мужчины завидовали тому вниманию, которое Мигелю оказывали женщины, но, похоже, им нравился этот вызов – они сами воображали себя одаренными магами. Они следовали за ним по пятам, когда он взбирался по древним ступенькам и горным тропам. Они шли бок о бок с ним, как тогда, внутри вулкана, готовые быть его ангелами и защитниками. Возвышаясь над малорослым Мигелем, они производили впечатление силы и безопасности. В его присутствии даже самые слабые из мужчин, казалось, становились сильными.
Лала с удовольствием наблюдала за мужчинами в этой группе. Они были окрыленными ревнителями знаний. Идеи производили на них впечатление. Они были рождены с природной склонностью верить и совершать подвиги. Всегда готовые отправиться с экспедицией в неизведанные земли и полететь в космос, мужчины не столь отважны, когда дело касается расширения возможностей восприятия. Шаман понимал это и постоянно помнил, что это люди с большим самомнением. У него было несколько избранных ангелов, которые проводили церемонии на закате и помогали другим во время ритуалов. Когда женщины плакали, его ангелы утешали их. Когда Мигель вызывал ливень с ураганом, они укрывали его. Когда по его мановению гремел гром и небо прорезали молнии, они без страха стояли подле него. Эти высокие мужи как бы олицетворяли его невидимую силу. Они были статуями из цельного камня, украшавшими его путь.
Конечно, в преданности мужчин для Лалы не было ничего нового, но было что-то в их отношениях с учителем, чего она не могла раскусить. Как и большинство воинов, этих мужчин привлекала опасность. Это она понимала. Как большинство людей, не чуждых науке, их влекло к знаниям. Как всех детей, их влекло к хорошему родителю, которого воплощал в себе Мигель. Но они стремились к чему-то еще и, похоже, находили это в его присутствии. Они находили в себе отвагу, когда даже и признаков ее, казалось бы, не было. Очевидно, они находили веру – ту, что не поддается определению и не имеет названия. Для понимания им достаточно было малейшего намека. Они находили подлинность – быть может, всего на несколько секунд, зато, уезжая домой, увозили с собой память о ней. Внутреннее странствие, в которое отправлял их Мигель, – импровизированная вылазка за пределы рассудка – преображало их. В безумии они находили покой. Похоже, они находили самих себя.
Для La Diosa ничто не могло быть страшнее.
Женщины тоже явно искали свою истину, если она вообще существует в природе. Мигель как бы держал зеркало, которое показывало им то, что они хотели увидеть. Он ни над кем не возвышался, подобно каменной статуе, но сила его была ощутима. Радость его была заразительна, его мудрость вдохновляла. У его любви была сила цунами: все покорялось ей. Наблюдая его в действии, Лала была готова признать, что он пробуждает страстное желание, которое даже знания не способны пробудить. Преследуемые этим желанием, ученики часто уходили в сторону от своих поисков.
«Ты мой» – эти слова хотела сказать Мигелю каждая женщина. Он был не просто мужчиной, он был присутствием, нарушающим равновесие, а это преображало людей. Он был способен меняться, но они не могли изменить его. «А как же я?» – рыдали они. Лале было известно, что «я» – это изобретение разума. «Я» жаждет внимания, невзирая на последствия. «Я» – это тщеславие каждой женщины, представление каждого мужчины о себе. Это вспышки гнева, разбивающие сердца и разрушающие союз близких людей. «Я» – это знания, воплощенные в личность. «Я» – это то, чему мать Сарита могла бы дать имя «Лала», но не сделала этого.
Для дона Мигеля жизнь полна чего-то, что Лала не смогла бы определить или описать, чего-то, что существовало до первоначального толчка творения и будет существовать еще долго после окончания действа. Истина для него – это то, что стоило испытать, даже рискуя потерей своего «я». Он видел себя во всех существах и предметах, в каждом звуке он слышал музыку жизни. В своем скромном человеческом обличье он был торжествующей тайной, способной растворить в себе всех, кто к нему приближался. Домом его была вечность. Там он жил, там играл и любил, в то время как те, кто держался своего маленького видения, едва осмеливались даже помыслить об этом.
Лала обдумывала то, что увидела и услышала с того мгновения, как началось ее бдение здесь, в этом горнем мире тайной мудрости. Да, произошли волнующие преображения. Повсюду была тайна. Музыка неслась из радиоприемников, складывалась из детских голосов, мелодично струилась сквозь человеческое сознание. Музыка звенела в воздухе, гудела из глубин земли, журчала в течении рек и ручьев. Лала заподозрила, что музыка – это не просто математическое сочетание звуков и выверенной ритмики. Музыка каким-то образом вошла в сговор с тайной и, как и шаман, грозила лишить Лалу остатков всякой власти.
* * *
– Извините, что отрываю вас от музыки, – позвал Мигель, – но я хочу вам кое-что показать.
После долгой езды в автобусе они наконец остановились в гостинице в Мачу-Пикчу. Отдохнув и поев, небольшая группа собралась на ступеньках отеля. Некоторые остались танцевать в холле. Когда дон Мигель звал, имело смысл откликнуться. Не для того они проделали путь длиной в четыре тысячи миль, чтобы пропустить что-то важное, что можно узнать, общаясь с ним, а сейчас, возможно, был как раз один из таких случаев.
Отель стоял на скале прямо над развалинами древнего города – места силы, которое привлекает духовных искателей со всего мира. Посетив Лиму и Куско, группа должна была провести несколько дней здесь, исследуя тайны этого места и познавая себя. Каждый день обучение начиналось за завтраком и продолжалось до самой ночи.
Тем вечером в конце октября вся группа собиралась устроить вечеринку, но дону Мигелю не сиделось на месте. Нужно было еще так много сделать и сказать. И вот, сбившись вместе, преданные ученики притихли, чтобы послушать мастера. В Перу, в Южном полушарии стояла ранняя весна, и ночами было все еще холодно. Куда ни глянь, высились горы, в лунном свете сияли белизной их снежные вершины. Развалины города внизу не были видны, но вечерний воздух отражал его тайны, как будто это сами руины рассказывали предания из общего видения.
– Красивый вечер, правда? – сказал Мигель, расхаживая по маленькому дворику.
Ученики закивали. Большинство уже дрожало от холода, но все молчали, приготовившись смотреть и слушать.
– Луна прелестная, – продолжал он. – Чудесные звезды! Какое ясное, потрясающее небо! – Не в его обычае было говорить банальности, значит должно произойти что-то из ряда вон, решили ученики. – Сейчас все это исчезнет. Хотите посмотреть как?
Да, вот оно! Немного волшебства. Некоторые радостно захлопали в ладоши, и рослые ангелы Мигеля аккуратно встали по стойке смирно, готовые наблюдать и учиться.
Мигель отошел от них, сделал несколько шагов в пустоту вечера. Затем как будто вступил с кем-то в безмолвный контакт. Он ничего не произносил, обе руки были опущены, но одна рука, сжатая в кулак, начала медленно описывать круги, как бы крутя невидимую ленту. Затем, широко улыбаясь, он вернулся к ожидавшей его группе. Все молчали. Не было слышно ни звука. В этой тишине в их сторону пополз клок седого тумана. Он надвигался из темноты, его тонкие облака постепенно слились в густую пелену. Через несколько мгновений все было окутано непроницаемым покровом мглы. Луна, звезды и горные вершины исчезли из виду, и все погрузилось во мрак.
– Здорово! Потрясающе, правда? – восхитился Мигель.
Его публика согласилась, одобряюще кивая, – дара речи она, похоже, лишилась. Он глубоко вдыхал насыщенный туманом воздух, любуясь делом своих рук.
– Развеять его? – предложил он через несколько минут.
Никто не возражал. Все совсем притихли и лишь что-то промычали в знак согласия. Широко раскрыв глаза, они дивились собравшемуся вокруг них туману и ждали, что будет дальше.
Мигель снова отошел в сторону. Он просто стоял во мгле, без всяких жестов, без всякой показухи. Ничего внешне заметного он не делал и ничего не говорил. Тем не менее мало-помалу облака рассеялись, превращаясь в тонкие завитки тумана, отступавшие в ущелья подобно сварливым призракам. Когда из-за непроглядной тьмы ярко засияла луна и звезды стали перемигиваться, как будто были участниками этого представления, все засмеялись. Вскоре на горизонте показались освещенные лунным светом горы, и мир вновь стал видимым.
Как и прежде, улыбаясь во весь рот, Мигель повернулся к ученикам. Он подошел к ним и заговорил о намерении. Голос его был едва слышен из-за живой музыки, гремевшей в холле гостиницы, но все внимательно слушали его. Он объяснял им, что намерение – это жизнь, которая ведет беседу сама с собою. Возможен ли такой разговор, когда разум обычного человека поражен всем этим шумом и неразберихой? Чтобы овладеть намерением, нужно сдаться. Он говорил, ночь светилась, в темноте рокотало видение древних воинов. Его спокойный голос завораживал. Мигель бесспорно обладал силой.
Рыжеволосая стояла у перил веранды, слушая вполуха. Как и ее смертные подобия, она изо всех сил старалась понять, свидетелем чего является. Ей уже многое довелось увидеть в этой поездке, и что-то во всем этом лишало ее всякой возможности вмешаться. Когда Мигель бывал таким, тайна побеждала ее. Она видела, как этот человек, к изумлению своих последователей, рисует на облаках. Много раз она наблюдала, как он вызывает грозу – и ему отвечал гром. Молния по его приказу рассекала небо, по его желанию начинал лить дождь. Однажды она присоединилась к нескольким ученикам, когда он вел их через холмы к священному месту. Они шли за ним, отставая, пока он не исчез из виду. Тогда они пошли по его следам. Когда же пропали и следы, они рухнули на землю и вместе погрузились в видение, решив, что это лучший способ найти его. Ей запомнилось это зрелище, заставившее ее дивиться, что же это за ум, который признает обычные границы, но продолжает тянуться дальше и постигать с помощью воображения.
Видела она и как Мигель появляется в двух местах одновременно, – учеников понаблюдательнее это забавляло и, похоже, не требовало объяснения.
– Хм, дон Мигель, – произносил кто-нибудь, обнаружив, что тот проводит импровизированные занятия на крыше отеля. – Разве мы только что не разговаривали с вами в вестибюле?
Иногда две разные женщины уверяли, что были с ним в одну и ту же ночь в двух разных городах. Делать какие-то выводы казалось бессмысленным. В том мире, в который они согласились войти вместе с ним, выводы были не нужны. Лале не нравилось, когда нарушали установленные правила: она была убеждена, что человеческое видение держится исключительно на них.
В начале той недели одна молодая женщина упала, спускаясь по скользкой лестнице в пещере. Она ударилась спиной о каменную ступеньку, раздался громкий хруст. Лишившись подвижности, но явно не утратив способности чувствовать, она закричала от боли. Шаман попросил ее посмотреть ему в глаза. Встретившись с ним взглядом, она успокоилась. Затем, взяв ее за обе руки, он медленно и осторожно поднял ее. В спине ее что-то с щелчком встало на место. Она все еще была в слезах, но боль прошла, она снова могла двигаться.
Лале были знакомы такие фокусы и представления, но здесь не было ничего показного. События происходили, люди принимали их – и потом забывали. Все было возможно – просто потому, что все возможно. Вот и все. Значит, это действительно волшебство? Что же это за магия, которая избавляет от страха и отнимает у разума его законное превосходство? Та магия, которую знала она, зиждилась на страхе, темных мыслях и зловещих фантазиях. Лала хорошо знала черную магию, которая движет большей частью человечества, но здесь использовалась не она. Так что же это было?
На протяжении всего человеческого видения за магией скрывались тайные, специально отобранные знания. Необразованные массы обычно эксплуатировались теми немногими, кто обладал знаниями. Испокон веков знания казались чем-то магическим. Возможно, шаман знает то, чего не знают другие. А может быть, он нашел способ, позволяющий обходиться без знаний. Лала определенно чувствовала себя ненужной в его мире. С тех пор как она здесь, она не слышала, чтобы кто-нибудь обращался за помощью – к ней ли, Богу, привычным святым, проводникам или случайным сущностям. Все истории отброшены, здесь правит жизнь. Неизвестность не давала ей действовать, пугала ее, значит оставалось только наблюдать, замечать, что происходит, и размышлять о природе того, что называют белой магией, и о том, как по-разному может проявляться сила.
* * *
Я чувствую, как сейчас мягко вторгается Лала, – так было всю мою жизнь. Знания повсюду следуют за нами, как озабоченный друг, как настойчивый любовник. Это шум рассудка у нас в голове, и нам кажется, что мы понимаем, что он имеет в виду. Он хочет, чтобы наш слух не обращал внимания на то, что мы слышим, а глаза не верили тому, что видят. Он пытается приказывать нашим сердцам, кого любить и что ненавидеть. Когда знания становятся особенно назойливыми, они превращаются в безжалостного диктатора. Они жестоко обращаются с нами и требуют, чтобы мы так же вели себя с другими. Всего одна мысль может далеко увести от того, что заложено в нас природой, от чувства сострадания. Какая-нибудь одна идея может стать оправданием зверств. Легко сказать, что мы – это знания, отделенные от своей подлинной сути словами и смыслами, но не так-то легко по-настоящему осознать это и измениться. Конечно, это трудно, но вера в себя делает это возможным и даже неизбежным.
Многие годы я слышу, как слова Лалы звучат в голосах всех, кто меня окружает. Отправляясь в экзотические путешествия в края, совершенно не похожие на ту действительность, в которой мои ученики привыкли жить, они берут с собой свои знания – такие же громоздкие и тяжеловесные, как их рюкзаки. Они позволяют этим знаниям говорить от своего имени, спорить, пускаться в объяснения. Религиозные учения и мифология культуры ведут с помощью знаний войну идей до тех пор, пока ум не будет наконец готов сдаться. На нашей планете уже не осталось ни одного уголка, куда бы не проникли знания человека. Нужно стать путешественником нового типа, чтобы увидеть их, услышать в своем собственном голосе и изменить свое отношение к ним.
Как и любое другое место, Перу, страна, в которой до сих пор слышно эхо древних посланий и традиций, околдовано Лалой. Я чувствовал ее присутствие там, как и во всех моих путешествиях, и сейчас я радуюсь, что она по-другому слышит наши разговоры и видит себя в моих видениях. Я слышу, как внутри нее слова сталкиваются друг с другом, как они сталкивались внутри Мигеля, в конце концов разрушая собственные чары и начиная отражать великую щедрость жизни.
Человечество влечет к слову «чудо». Чудеса – это то, что мы не можем объяснить, – по крайней мере, так говорят нам знания. С точки же зрения жизни, чудеса – это явления, возникающие независимо от того, ожидаем и понимаем ли мы их. Из ничего вдруг появляется нечто – это происходит постоянно, бесконечно. Магия – это созидательная сила в действии, и печально, что своими человеческими силами мы способны к саморазрушению. Черная магия – это искусство наносить поражение самим себе. Мы отравляем себя осуждением и страхом, а затем заражаем этим ядом все живые существа вокруг. Чтобы исцелиться, нам нужна любовь к себе – белая магия, которая творит чудеса для видения человечества.
Идея силы лишает знания спокойствия. Мы видим, как это происходит в мире бизнеса и политики, и предполагаем, что в духовном мире все устроено так же. Мы исходим из того, что сила – это дар, которым обладают немногие незаурядные люди. Человек говорит себе: «Она-то может, а мы – нет. Он – избранный, я – нет. Он мастер, мне же этот путь заказан». Мы становимся мастерами того, чем не являемся и чего не можем. Мы позволяем овладеть собой убеждению, что у других больше силы, чем у нас, потому что мы не признаем собственную силу – свою истину. Для видения мира сила – это что-то мелкое, своекорыстное. С точки зрения созидания, сила бесконечна и бескорыстна.
Когда мы начинаем воспринимать себя как жизнь, меняются наши отношения со всем. Слова обычно произносят перед каким-либо действием, но они могут произноситься и одновременно с происходящим, как если бы друг с другом говорили две части уравнения. «Хотите услышать гром?» – могу спросить я. И вот гремит гром! И люди слышат его. «Хотите, чтобы все затянуло туманом?» Вот он! «Хотите, чтобы снова появились звезды?» Туман рассеивается! Замечательно! Что чему предшествует – вопрос или ответ? Они – одно и то же: и тот и другой исходит из одного живого существа. Намерением возжигается речь, и сила начинает действовать. Намерение – это жизнь, это ее поток, бегущий сквозь нас, и мы откликаемся на этот поток. Истина – не в нашей истории. Лучшие из наших научных уравнений – это не истина. Символы не могут заменить истину, но могут служить ей. Они могут указывать нам на истину, и когда они подчинятся, когда знания сдадутся тому, что не способны постичь, мы становимся орудиями намерения.
Войну идей выигрывает осознанность. Чтобы победить самоосуждение и страдание человека, нужна любовь. Придет день, когда центральной темой моего учения станет победа в войне. В те первые поездки в Теотиуакан и путешествия по местам силы в Перу я еще не говорил об этом. Тогда главным было помочь моим ученикам выбраться из ада. Важно было, чтобы они поняли, какой кошмар создали для себя сами и как можно наконец пробудиться. Они не видели, где выход из преисподней. Необходимо было изменить правила, должны были преобразиться их слова, нужно было успокоить внутренние голоса. Этим ученикам нужно было простить себя, стать к себе добрее. Им нужно было понять, что человеческое существование – это не просто шум и бестолковщина, что они тоже могут обладать мудростью. Они чувствовали, что через меня могут познать истину. В моей любви к ним они начинали ощущать собственную силу. Никто не мог привести их к Богу. В духовном смысле я мог только помочь им найти врата из ада и вдохновить их на то, чтобы им захотелось обрести то, что находится за этими вратами.
* * *
За ним последовали только три ученика. Остальные пошли другим маршрутом, и автобус поехал встречать их. Перед этим, когда все брели по пересеченной местности в поисках священных руин, дон Мигель свернул с тропы. Местный гид махал, чтобы они продолжали путь дальше, за ним, но группа заколебалась. Они видели Мигеля, стоявшего вдалеке на торчавшем из земли большом камне, но хотел ли он, чтобы все они пошли за ним? Они не были уверены в этом, так как он не подавал никакого видимого знака. Гид все звал их, и они один за другим возобновили свой путь по тропе, нагнали перуанца и, как прежде, пошли группой. Когда они кое-как перевалили через горный хребет и исчезли из виду, здесь остались лишь трое преданных учеников. Не отрывая глаз от далекой фигуры Мигеля, они начали подниматься к нему по холму, решив, что он их зовет и ждет.
Наконец эти трое добрались до него. Их шаман удобно расположился на плоском камне. Он приветствовал их, лицо его выражало интерес и радостное удивление. Размышлял ли он о том, кто последует за ним, кто выйдет за рамки ожидаемого поведения и покинет группу, где было безопаснее? Кто сглупил – они или все остальные? Гадать о мыслях Мигеля Руиса было любимым развлечением его учеников. Просто следовать своему внутреннему чутью и отказаться от ожиданий было недостаточно. Важно было понять мотив, который лежал глубже. Самая желанная награда для ума – смысл, Лале это было известно. Если когда-либо нахлынет цунами любви, чтобы уничтожить последние остатки бастионов реальности, смысл будет единственной надеждой для тонущего рассудка. Все должно что-нибудь да значить. Вообще-то, она тоже так считала, но понимала, сейчас этот подход вряд ли уместен. У Мигеля не найдешь ни закона, ни смысла.
Если Мигель и чувствовал присутствие Лалы, то ничего об этом не сказал. Она сидела вместе с остальными на плоском камне, повернувшись спиной к утреннему солнцу, и наблюдала. Некоторое время все молчали. Три ученика сидели с закрытыми глазами, им приятно и радостно было, что они особенные, избранные. Наконец они нерешительно начали задавать Мигелю вопросы. Лала равнодушно слушала и размышляла над тем, что происходит. В группе был один мужчина и две женщины. Все они, похоже, были примерно одного возраста: достаточно зрелые, так как у них уже были собственные семьи, но и еще вполне молодые, чтобы выдержать тяготы такого рода занятий. Если это можно назвать занятиями, подумала она. По ее-то мнению, они просто вписались в авантюру, в которой постоянно будут получать изрядные дозы безумия. Равняться на неизвестное, отказаться от защиты привычных убеждений и традиций – какая нелепость! Шаман гордится своим здравым смыслом, но самонадеянно ведет своих учеников к острым краям реальности, где бо́льшая часть того, что они знали и во что верили, внезапно улетучивается. И некоторые возвращаются к пропасти снова и снова! Ну разве это не безумие?
– Некоторые никогда не останавливаются, – сказал Мигель.
Лала резко обернулась к нему, удивившись, что он заговорил с ней. Но это оказалось не так. Он улыбался одной из женщин, которая, видимо, только что задала вопрос. Лала попыталась восстановить в памяти разговор. Сначала ученик спросил что-то о природе, солнце и земле. Что именно ответил Мигель, ей было не припомнить, но там было что-то про «одно сущее». Да, вспомнила она, – «одно сущее».
– Есть только одно сущее, – говорил он, – и бесчисленные точки зрения.
Так он сказал. Но если сущее только одно, то она тогда кто? Кто такая La Diosa и в чем ее особая точка зрения? Его голос, казалось, погрузил их в легкий транс, и разговор смолк. Через некоторое время заговорила женщина. Она уже давно задумчиво смотрела на него широко раскрытыми глазами и спросила о единственном, что имело значение:
– Чем ты так отличаешься от всех нас?
Он ответил не сразу. Два других ученика стряхнули с себя дремоту и устремили взгляды на него. Вопрос прозвучал дерзко.
– Некоторые никогда не останавливаются, – ответил он уже без улыбки.
Он внимательно смотрел на женщину ясными глазами, ожидая следующего вопроса, но его не последовало. Похоже, она поняла. Вероятно, она была одной из тех, кто добежал в этой гонке до края и подумывал о том, чтобы совершить прыжок. Если есть пропасть, если есть возможность оторваться от незыблемой скалы убеждений, делающих человека тем, что он о себе думает, то эта женщина способна на такой поступок, думала рыжеволосая. Но такого края скалы не существует. Реальность повсюду, она готова схватить того, кто отклонился от обычного процесса мышления, и вернуть к начальной точке. Так обстоят дела с человеческим видением, она-то знает.
Следующим, не сводя глаз с Мигеля, заговорил мужчина.
– Вчера, – нерешительно начал он, – нас разделили на малые группы, по два лидера в каждой, помните?
– Помню. Ну и как прошло? – поинтересовался Мигель.
– Ну, в моей группе два лидера дали нам разные задания на день. Один попросил нас найти истину в себе. А второй, чтобы как-то облегчить нам жизнь, сказал, что нужно делать все весело. Наверное, его слова прозвучали забавно, и все засмеялись, но меня эти два указания сильно задели.
– Серьезно?
Ученик поколебался, опасаясь критики.
– Да. На самом деле меня так потрясло то, что я вдруг обнаружил в себе, что весь остаток дня я бродил в одиночестве. Две эти идеи выявили глубокий конфликт внутри меня.
– Не вижу никакого конфликта.
– Встречаясь в жизни среди людей с трудностями, я всегда вел себя как клоун. Сейчас я вижу противоречие между тем, чтобы постоянно веселить людей, без перерыва отпускать шуточки, – и быть настоящим. Мне кажется, я всю свою взрослую жизнь избегал быть настоящим.
– Всю твою жизнь ты творил смех, – возразил ему Мигель.
– Просто если я не зубоскалю, то не знаю, что делать. Это беспокоит меня.
Лале, которая знала, что обман – это нехитрый инструмент выживания, такая обеспокоенность казалась глупой. Она громко фыркнула, но никто, кажется, этого не услышал. Посмотрев на небо, она увидела орла, который парил в потоке восходящего весеннего воздуха. Она вспомнила, как гид-перуанец рассказывал Мигелю, что в здешних горах нет орлов. Тут, конечно, есть кондоры, которые возвещают о своих правах на изгибающиеся ущелья и открытые долины, паря над горными цепями и поражая воображение смертных. Но сейчас голубое небо с пронзительными победными криками пересекал беркут – золотой орел.
– Я не вижу никакого конфликта, Вождь, – повторил Мигель, назвав ученика прозвищем, которое он дал ему.
Услышав клекот беркута, Мигель посмотрел вверх. Улыбаясь, он перевел взгляд – как будто прямо на Лалу. Сердце ее на мгновение замерло, потом все прошло. Он повернулся к ученикам.
– Ты верен себе, когда смешишь людей, но когда ты ищешь подлинного себя, ты тоже верен себе. За всеми конфликтами, о которых ты говоришь, кроется что-то простое и истинное. Ты – это жизнь. Когда ты родился, твое тело и твои действия были истиной.
– А сейчас я – подделка, – настаивал Вождь.
– И что же ты подделываешь?
– Все, – сказал ученик, пожимая плечами. – Уверенность. Осознанность. Честность. Если бы я смог подделать подлинность, я бы это сделал.
Женщины засмеялись, но, увидев серьезное лицо Мигеля, сразу снова притихли.
– В каждом из вас жизнь воплотила совершенное человеческое существо. Вы совершенны такими, какие есть. Понятию несовершенства вас научили, и вы построили на его основе реальность.
– Вчера я был сломлен, дон Мигель, просто сокрушен.
– Это тоже совершенство. Позволь изменению произойти и напоминай себе, что история, которую ты про это рассказываешь, не имеет никакого значения.
Он замолчал, спокойно размышляя о каждом из них. Женщины, каждая по-своему, были честолюбивы, но старались не показывать этого. Одна почти всегда вела себя тихо, но была настроена решительно. Он это учтет. Вторая, скорее всего, была в поисках нового мужа, но даже такого рода настрой мог принести ей пользу. Часто простой замысел можно было превратить в перемену всей жизни. Вождь был не столь осторожен, как его спутницы, и, возможно, менее готов к обретению мудрости. Мигель с самого начала видел в нем большой потенциал, но с ним не помешает проявить терпение. Терпение нужно всегда…
Лале был виден затылок ученика – мини-ландшафт трудов в поте лица. Поза его говорила о нетерпении – или, может быть, о жажде чего-то? Прозвище «Вождь» появилось, потому что в обычной жизни он возглавлял компанию. В этом путешествии в Перу Мигель попросил его взять на себя роль вождя племени, который руководил бы учениками во время многочисленных церемоний. Это имя вполне ему подходило, но для шамана он был трудной задачкой. Вождю было очень некомфортно за пределами привычного царства мысли. Он преклонялся перед своим учителем, но часто использовал его для оправдания своих страхов. Однажды, получив нелегкое задание увидеть правду о себе глазами шамана, он представил себе уродливо-комического рогатого демона о нескольких головах. Лала позабавилась зрелищем, а вот воину после этого переживания снились кошмары. Человек он был решительный, но временами мог переусердствовать. Как-то во время церемонии на закате солнца он впал в такую шаманскую горячку, что лишился чувств, и его пришлось унести в автобус. Она думала о нем и поражалась. Какой же он воин, если падает в обморок? Разве может нагуаль, как любил называть его Мигель, стать жертвой собственных чар?
К пятидесяти годам Вождь добился успеха в бизнесе, все обстояло хорошо в его семейных делах, и его потянуло на поиски нематериального, захотелось разобраться в вопросах души. По природе своей склонный к соперничеству, он к своей недавно обретенной духовности подошел с тем же боевым пылом, как и ко всем остальным делам. Он был упрям. Его отвращение к самоанализу было очевидным. Мнения его были крепче, чем его дух. По правде говоря, учеником он был ужасным. Ей он очень нравился.
– Я вижу, что вы, ребята, честны перед самими собой, – сказал Мигель. – Ваша осознанность быстро растет. Помните о том, что не нужно верить всему, что вы думаете, или тому, что думают другие. Просто слушайте и учитесь.
– Может быть, мы могли бы сделать что-то большее? – спросила одна из учениц. – Вождь сказал, что он был сломлен. Наверное, нам нужно продолжать и дальше ломаться, пока наконец не произойдет сдвиг в сознании и мы не впустим внутрь себя свет.
Она нахмурилась, видимо не уверенная, что она на правильном пути. Но внутреннее чутье шамана подсказывало ему, что она выбрала верное направление.
– Продолжай, – велел ей Мигель.
– Я просто подумала, не могли бы вы…
– Не могли бы вы подтолкнуть нас посильнее? – встрял Вождь, как будто ему уже давно не терпелось сказать это. Что-то подобное он уже говорил раньше и, очевидно, забыл о неприятных последствиях. – Мы здесь, с вами, дон Мигель, другие-то с вами не пошли, – похвастался Вождь. – Мы здесь, и мы готовы.
Все трое посмотрели на шамана.
Мигель обвел каждого пристальным взглядом.
– Хотите, чтоб я вас подтолкнул? – спросил он.
– Ну конечно! – воскликнул Вождь. – Сделайте худшее, на что вы способны, босс.
– Вы правда этого хотите?
– Не жалейте нас! – ответил Вождь, улыбаясь во весь рот.
Женщины, похоже, были уже не так уверены, они с трудом выдерживали взгляд Мигеля.
– Вы понимаете, чего просите? – тихо осведомился учитель.
Широкая улыбка не сходила с губ Вождя, но он замялся. Произнеся свои слова, теперь он вынужден был задуматься о том, что они могут подразумевать. Что именно может означать слово «подтолкнуть»? У себя на работе он ежедневно подталкивал людей. Конечно, это другое, и делается ради другого, он знает. Вспомнив страшное синее чудище из своего видения, он стал размышлять. Все долго молчали, улыбка медленно сошла с его лица.
С интересом наблюдая эту сцену, Лала начинала понимать, как на все это смотрит шаман. Глядя в лица своих любимых учеников, он слышал только один голос. Несомненно, он сказал бы, что это голос Лалы. Он понимает, что желание закончить гонку раньше всех, – это тщеславие. Он бы обвинил ее в этой постоянной, упорной потребности знать. Со своей стороны, она не понимала, что могут получить ученики, если их подтолкнуть сильнее. Взламывать человеческий разум никогда не входило в набор ее методов. Ту игру, в которую играет она, можно выиграть, только направляя и убеждая, а затем – наблюдая, как ум совершает свою работу. В любом случае этот ученик, этот основательный человек, который хочет, чтобы просветление случилось по его графику, не сломается. Он создан, чтобы быть гибким. Он, скорее, упадет в обморок.
Орел, замеченный Лалой и все круживший в небе, внезапно с клекотом спикировал на них. Этот звук распорол мгновение и разорвал залитое солнцем пространство. Все три ученика были потрясены. Вождю – человеку, который требовал знания, – показалось, что время высасывается через небо, а горный пейзаж улетает вслед за ним. Ум его стал пустым. Вождь сидя закачался и рухнул набок, распластавшись по изгибам камня. У женщин перехватило дыхание, они, застыв, смотрели на Мигеля.
– Небольшое злоупотребление истиной – и в разуме происходит сдвиг, – сказал он. – Иногда бывает достаточно новой идеи – изменения восприятия, или можно на секунду заглянуть внутрь себя. – Голос его звучал тихо, но в нем была сила. – Самые большие сдвиги происходят от переживания чистого ощущения жизни, без всяких комментариев. Остановите мышление, и останется лишь чувственный опыт. Прекратите стараться, и вас вознесет любовь.
«Воины умирают, не оставляя попыток», – хотел он добавить, но его, скорее всего, не поняли бы. Духовные искатели часто целую жизнь тратят на то, чтобы стараться, добиваться чего-то, выстраивать стратегии. Они воюют со своими внутренними голосами, морят голодом свое тело, а потом наказывают себя за то, что так и не обрели нирвану. Они роются в шкатулках тайных знаний, бьются над загадкой, но пропускают самое важное: необходимость сдаться.
В каньоне за их спинами шуршал ветер, шевеля последние, сухие остатки зимы. Он приводил травинки в движение, но не ломал их. Убеждения можно разрушить, не сломив того, кто в них верит.
– А теперь время видения, – сказал Мигель, глядя им в глаза. – Пора все отпустить. – Он помолчал, чтобы убедиться в том, что они понимают. – Готовы?
Ему не пришлось повторять вопрос. Женщины нашли себе место поудобнее по обеим сторонам от все еще бездвижного тела Вождя и позволили своему дыханию замедлиться и успокоиться. Мигель показал на небо и попросил их погрузиться в видение орла, парившего над ними и взмывавшего все выше и выше. В последний раз взглянув вверх, обе закрыли глаза и отдались видению.
В воцарившейся тишине Лала ощутила некий поток, от которого ей стало неуютно. Он хлынул в пустоту, оставленную словами, и, вибрируя, пронизывал материю. Он пульсировал в околдованных солнцем и погруженных в видения, смягчал самую ткань всех существ и предметов. Шаман нашел бы и для этого слово. Возможно, он назвал бы это любовью – драгоценным камнем, который Лала так старалась лишить блеска. Любовь отбрасывала в сторону теорию и бесстыдно нарушала правила. Участники этой маленькой группы всю жизнь занимались более темными искусствами и, слыша это слово, чувствовали себя так же неловко, как Лала. Любовь – самый непонятный вид магии, она прогоняет страх и позволяет свету пробиться сквозь дым знаний.
Куда же это Лалу занесло? Что увело ее так далеко из-под тени того дерева, от роскошной иллюзии слов? Где сейчас старуха, мать мастера нагуаля, из-за которого она пустилась в эту безумную погоню? Вдали снова закричал орел, и Лала вдруг насторожилась. Она подняла взгляд вверх, прикрывая глаза от безжалостного солнечного света. Теперь она увидела, и, хотя их разделяло огромное расстояние, она узнала, кто там, в небесах. Видимо, Сарита нашла новый способ вести поиски. Лала смотрела, словно в трансе, как Сарита парит и кружит над человеческим видением, над войной идей, – и никакие последствия ей не страшны.
Неужели Сарита вознеслась так высоко, что даже Лале ее уже не достать? Нет, без La Diosa успех в этой миссии невозможен. Без ее помощи учитель нагуаля не вернется, и никто больше не услышит слов мудрости от тринадцатого ребенка мексиканской колдуньи. Хватит с нее видений, тайн и умышленных надругательств над верой. Она надеется, что те привидения – Леонардо и его сумасшедший отец Эсикио – больше никогда не вернутся. Где бы они ни были и какое бы вмешательство в ее дела ни замышляли, с ними покончено. Она больше не потерпит присутствия их и таких, как они.
«А как же я?» – услышала она голос. Да, действительно, а как же она сама? Нужно познакомить этого видящего с собою и вернуть его на ее условиях. У нее есть свои интересы, и пора о них позаботиться. Рыжеволосая встала, вдохнула из бесконечного источника жизни и спокойно позволила себе постепенно исчезнуть, оставив маленьких смертных с их маленькими видениями.
15
– Покажите мне, как вы привлекаете к себе внимание Бога!
Мигель обращался к группе со ступеней руин инков. Все сорок учеников внизу замерли, их лица выражали замешательство. Они стояли на самом высоком месте маленького острова усталые, но радостные, а за ними мириадами переливчатых оттенков сверкало озеро Титикака.
Отчалив от гористых берегов рано утром, их паром достиг острова незадолго до полудня, и они сразу же начали подъем на скалистый пик. Они были на ногах с раннего утра, и Мигель рассчитывал, что усталость сломит сопротивление учеников истине – хотя бы немного. Спросите человека со свежим умом о Боге, и на вас посыплются разные теории. Но если вы попросите потеоретизировать того, кто устал, то можете увидеть первые проблески осознанности. «Покажите мне, как вы привлекаете к себе внимание Бога!» Он дал команду, но ничего не происходило. Никто не знал, что нужно делать, как действовать. Украдкой посматривая друг на друга, все ждали, когда кто-нибудь первым нарушит тишину. Наконец такой человек нашелся.
– Эй, Бог! – взревел он, и его слова пульсирующими волнами отдались в горах.
Несколько человек засмеялись, и тогда один за другим его примеру последовали другие. Сначала они неуклюже двигались, не понимая, что делать дальше, но вскоре воодушевились. Одна женщина бросилась на землю и стала с чувственным удовольствием корчиться и стонать. Мужчины падали на колени. Некоторые танцевали. Многие пели. С Вождя было, видимо, довольно, ему не хотелось, чтобы на него обращали внимание, и он просто наблюдал за другими. Одна из женщин встала в центре группы и замерла среди всеобщего бедлама, пристально и целеустремленно глядя на Мигеля. Да, подумал он, уже близко, но этого еще не достаточно. Пришла ли кому-нибудь из них в голову мысль о зеркале, пусть воображаемом? Захотелось ли кому-нибудь остановиться и помолчать? Задумался ли кто-нибудь о том, чтобы направить часть внимания на тело, в котором он обитает? На вызов Мигеля не было правильного ответа, но занятно, как быстро они превратили его в интеллектуальный вызов. Ему почти слышны были их мысли: «Где же, в конце концов, Бог?», «Бог – Он кто?», «Видит ли нас Бог?», «Слышит ли Он нас?», «Заботится ли Он о нас?». Насколько сильна их уверенность, их сомнение? Нравится ли им вообще идея Бога? Боятся ли они ее? Может быть, они боятся, что Он их осудит, так же, как боятся, что их осудят другие? Тогда, наверное, внимание Бога будет похоже на их внимание – вялое, мимолетное, подверженное любым влияниям.
Мигель несколько минут молча наблюдал за ними, затем сознательно переключил внимание на озеро и бесконечное небо над ним. К воде сквозь ветер с криком спикировал орел. Мигель, улыбаясь, покачал головой. Этот орел, несомненно один и тот же, показывался каждый день. За его появлениями он чувствовал намерение, но не был уверен даже в том, существует ли эта птица в реальности. Это создание казалось вестником из другого времени – возможно, времени, которое еще не наступило.
Все это утро было посвящено видению. Прежде чем начать подъем к высшей точке острова и к этому священному месту, он разделил учеников на три группы. Каждой группе было дано задание погрузиться в видение какого-нибудь животного силы. Одна группа должна была увидеть видение орла. Он знал, что эти ребята почувствуют свою важность. Второй группе досталось видение ягуара. Эти тоже решат, что они особенные. А третья группа должна была увидеть мир как паук. В глазах тех, кого назначили пауками, сразу же можно было прочесть разочарование. «Паук? Как же он, наверное, низко меня ценит!» – почти слышал он их мысли. К концу дня их ощущения изменятся. Каждое создание – воин по своему собственному праву. Тот, кто достиг мастерства в видении, поймет это.
Каждое из этих трех существ – охотник, хищник. Как и люди, они созданы, чтобы выживать за счет жизненной силы других, но делать это неприкрыто и даже красиво. Очевидно, что орлы обладают преимуществом над большинством других животных: они могут парить на огромной высоте, у них сильные крылья и кажущееся почти невесомым тело. Быть в видении орлом – упоительное переживание, которое в то же время вселяет в человека ужас. Воздух для этого создания – это океан разных потоков и сигналов для органов чувств. Изменение частоты солнечного света может стать вызовом или новой возможностью. Видение орла несет множество откровений, помогающих духовному воину. Просветленный ум знает, что можно использовать воображение как крылья и взмывать все выше к непостижимому. Открытый ум предоставляет человеку обзор с самого выгодного пункта наблюдения. Осознающий ум способен распознать собственную жажду вдохновения – и жажду отравы.
Ягуар – тоже убийца. Красивый, грациозный, он скрытен и опасен. Его добыча – это, конечно, жизнь, но на что и за чем охотится ум человека? «Неужели действительно так трудно даже для добрейшей из учениц представить себя преследовательницей, охотницей, жаждущей крови?» – думал Мигель. И мужчинам, и женщинам нужно понять, какой непревзойденной хитростью хищника обладает ум. То, что не всегда под силу человеку как животному, например завалить добычу крупнее себя, человеческий ум делает постоянно. Всем этим охотникам нужно будет дать возможность поразмыслить над этим. Уже в детстве ум каждого человека учится использовать слова для того, чтобы угрожать, наказывать, разрушать. Если его ученикам кажется, что это сказано слишком резко, ему остается только напомнить им, как они разговаривают с самими собой, как каждый день нападают на себя. Ум – особый вид хищника, и не важно, живет он в теле застенчивой женщины или дюжего мужчины.
Мигель бросил взгляд на учеников. Они продолжали кричать и приплясывать, все так же повинуясь уму, говорившему им: «Ты должен быть прав, будь умным, будь лучшим!» Если дать им достаточно времени, они сдадутся. Это часто происходит, когда человек ищет Бога. Есть сферы, недоступные уму, но доступные телу. Тайна, постичь которую жаждут люди, – в мельчайших сосудах тела, в его атомной структуре. Ей отвечает каждое биение сердца, каждый вдох впитывает истину, и каждый выдох отдает ее Вселенной. Где еще могут они найти утешение? Нужно ли им на самом деле еще чье-либо внимание? Некоторые уже натолкнулись на внутреннюю стену и повалились на землю. Кто-то лежал в пыли, свернувшись и тихо что-то бормоча. Кто-то растянулся на спине, устремив взор в небо и созерцая то, что нельзя себе представить. Остальные продолжали танцевать, как дети, ожидающие, когда им улыбнутся родители.
Он стал думать о пауке. Вот это смотрящий! Да, пауки охотятся и убивают. Как и люди, они умеют для собственного выживания поймать зверя, превосходящего их размером. Но им не обязательно заставать кого-то врасплох и нападать. Как и люди, они изобретают способы заманить добычу в ловушку. Они создают нечто красивое, солнечным утром сверкающее капельками росы, звенящее музыкой от прикосновения ветерка и дрожащее от возбуждения, когда приближается другое живое существо. Паучья охота – потрясающее искусство. Задание погрузиться в видение паука Мигель дал семи женщинам. Сейчас все они сидели, расслабившись и улыбаясь в низвергавшемся на них солнечном свете. Лица их сияли, волосы чувственно шевелились на ветру, а ум каждой из них наконец успокоился. Таков путь паука: создать что-то блистающее в тусклом, скучном мире ожидаемых событий, а затем ждать. Бог придет к ним. Больше того, в своем видении паук охватывает всех и вся, он все соединяет тонким усилием намерения. Паук живет так, как если бы он был Богом.
Тут раздался резкий крик одного из охотников. Мигель посмотрел вверх и увидел орла, парившего над островом, подобно ловцу видений, – легко, неторопливо, с сосредоточенным взором и расслабленными лапами. «Что нужно этому охотнику? Какую добычу он ищет? – думал Мигель. – Какой тайной награды жаждет?» Ответ был очевиден, он пришел изнутри. Все существа ищут жизнь.
Кого или что нужно убить этой птице, чтобы найти удовлетворение?
* * *
Мать Сарита видела все это. Когда-то она учила своих сыновей тому, как с помощью воображения войти в видение другого существа. Мигель любил говорить, что быть в видении человеком – единственное настоящее искусство, которым он владеет, но она знала, что эти эксперименты много ему дали. Для того чтобы воспользоваться этим видом силы в ее возрасте, ей нужно было отбросить все сомнения. Ей нужно было отбросить шум. Она должна была забыть о своем теле, о семье и о законах физической реальности. Она полностью отделилась от своего собственного видения и позволила себе падать, взмывать и свободно лететь на крыльях воображения.
Сейчас, паря внутри орлиного видения, она видела то, что дорогая Сарита, старуха и напуганная мать, не могла впустить внутрь себя. В этой всеохватной перспективе она дышала глубоким, ритмичным дыханием тела Земли, плывущей в бесконечном пространстве. Она видела Перу, страну, одетую в теплые цвета и смело раскинувшуюся вдоль тихоокеанского побережья, такую далекую, а сейчас лежавшую перед ней как на ладони. Можно было любоваться ее лесистыми долинами и сверкающими в солнечных лучах горами, ее тенями и потоками света, ее грезами и глубоким, безмятежным сном. С этой точки наблюдения высоко в земной атмосфере не заметно было никаких признаков человечества. Этот край, так похожий на тот, в котором она родилась, был живой картиной, портретом чего-то, что всегда будет невидимым, оставляя лишь свое отражение в материи. Она была преисполнена величайшей благодарности к жизни – за цвета, за ткань всего сущего и за чувства, данные ей, чтобы наслаждаться всем этим. Руки ветра подхватывали ее и несли вверх, каждое перышко на ее теле отвечало едва уловимым сигналам, несомым окружавшими ее потоками. Ее большие крылья отталкивались от силы самой жизни, затем подчинялись ей и расслаблялись. Глаза ее вбирали в себя огромный пейзаж, распростершийся внизу, – все, что светилось на горизонте, все, что двигалось, и все, что застыло в неподвижности.
Она видела, как ее сын ведет группу последователей к священным местам среди горных хребтов и ущелий Анд. Однажды после полудня, когда ослепительно светило солнце, она пронеслась так низко над землей, что как будто даже услышала, как бьется его сердце, когда он, с почтением узнавая ее, посмотрел вверх. С ним ученики были всегда очарованы – и красотой самой земли, конечно, но и вызывающей головокружение любовью, исходившей от него. Его любовь можно было почувствовать – даже в воздухе, даже на расстоянии и сквозь хрустальную дымку, которой было ее сновидение. Его послание было посланием любви. То неотразимое обаяние, которое она увидела в нем, когда он был ребенком, покоряло других, когда он стал мужчиной. Он нес бескомпромиссное послание истины и осознанности, но все дело было в самом вестнике. Слова служили ему, но сила его была в самом его существе. Она видела силу глазами орлицы, охотницы за жизнью. Она слышала, как эта сила пульсирует в охотничьей крови, бьется в этом сильном, вечном сердце.
Ей многое открылось с этой высоты, откуда была видна такая широкая панорама. Мчась над этой необъятной землей, она видела странное безумие людей, ищущих истину, которая, по их мнению, находилась где-то еще, в то время как она была в них самих, и нигде больше. Она видела их решимость прикоснуться к небу, как будто ключ ко всем тайнам витал в ожидании где-то там. Она читала послания, запечатленные в земле, высеченные в скалах, спрятанные за стенами храмов. А вот следы еще не найденных пирамид – оставшееся от древности подтверждение потребности человечества вырваться из земных уз и дотянуться до небес. Ей понятно было желание людей найти связь, объединиться. Им хотелось обрести зрение и превосходство орла. Она слышала крики бессчетных смертных, которые молили об освобождении, заклинали избавить их от рабства. Ее взору представилась пышная процессия, парад, охватывающий весь земной шар, проходящий сквозь всю человеческую историю, – люди, ищущие Бога где угодно, только не в самих себе. Если бы они просто увидели себя такими, какие они есть, все было бы совсем по-другому. Если бы они только смогли понять, что они сами и есть подлинное и присутствующее прямо сейчас воплощение тайны жизни…
«А что же происходит с Саритой?» – думала она. Является ли она частью этого вечного видения, этой созидательной силы, беспрестанно гонящейся за самой собой, или она просто человек, женщина, мать, разыскивающая потерянного ребенка? Действительно ли ей нужно сохранить жизнь одного человека, чтобы доказать, на что она способна? Разве жизнь ее сына в любом случае не обещана вечности? Сарита прищурилась от слепивших ее последних дерзких лучей прячущегося солнца. Может быть, она и правда все делала только ради себя? За прошедшие годы многие так говорили, но она ведь пеклась о двух мужьях и тринадцати детях. Старалась, чтобы ее малыши выросли сильными и смогли жить в этом суровом мире. Она на все была готова, лишь бы поддержать и защитить своих близких. Кого же она защищает сейчас? Она думала – Мигеля, дитя, пришедшее к ней со вспышкой света. Он тринадцатый из тринадцати, гордость ее предков – и разве не ответили эти предки на ее зов о помощи? Разве это не доказательство ее великодушия?
Может быть… Может, она пытается подчинить это видение своим желаниям. Возможно, предки просто отвечают Сарите и из-за того, что это Сарита, думала она. «Может быть, они говорят с моим голосом – и только ради меня. Может, для моего сына спасение означает что-то другое – для моего милого, мудрого мальчика, остановившегося у пропасти в бесконечность в ожидании, что я разрешу ему сдаться ей».
Крылья ее устали, и она полетела к восточному побережью, к заслуженному сну среди сосен. Куда отправиться потом и что делать дальше, она не знала. Разве может она бросить это предприятие? Разве может она сейчас взять и оставить все попытки? Что тогда будет с ее сыном, посланцем любви, несущим весть миру, который забыл любовь?
Она устремилась вниз, к теням, становившимся все смелее с уходом солнца. Да, ей нужно отдохнуть. Она достаточно увидела глазами орлицы. Она сделала больше, чем можно ожидать от смертного. Пора узнать жизнь во всей ее полноте. Наступило время увидеть, как все выглядит с бесконечной точки зрения жизни, и отказаться от узкого взгляда материи. Это, как часто говаривал ее сын, – искусство овладения смертью… даже в жизни.
* * *
Дон Леонардо смотрел, как орел кругами опускается в вечернем свете все ниже и ниже. Птица летела так изящно, возвращаясь медленно и осторожно по спирали к земному в поисках безопасного и спокойного пристанища, что он сам задумался о доме. Когда-то домом была для него страна, жилище, семья. Сейчас его дом – это место, которое не в силах нарисовать человеческое воображение. Теперь это истина и вневременность.
Он и дон Эсикио любовались закатным небом, стоя на выступе среди развалин храма, построенного инками в давно забытом столетии. Оба чувствовали мощь того далекого видения, казалось, до них доносится звучный гул разговоров, слова, произносимые на древних языках и эхом отдающиеся под разрушенными сводами храма. Это мгновение и этот закат тоже были частью видения, чужого для них и одновременно волнующе знакомого. Во дворе разговаривал с верными учениками нагуаль. Никто из тех, кто сейчас слушал, не мог представить себе, каким это место было когда-то, в другие времена, сколько таких обучающихся, тихо внимая, сидело здесь. Сюда приходили поделиться мудростью великие мастера.
В этом видении мастером был его внук, держатель наследия, которое, вероятно, не будет исчерпано никогда. С сотворения мира и до последнего человеческого вздоха люди слышат зов истины и отправляются на ее поиски, поэтому учителя и дальше будут делиться своим опытом. Даже если не будет человеческого видения, жизнь останется, и она будет стремиться отразить себя во всем. Передача мудрости продолжится. Дон Леонардо знал видение этого древнего народа, и ему было известно, что такая передача происходит и за пределами слов. Мигель передавал самого себя целиком – и тело свое, и ум, и силу своего присутствия. То, чего надеялась достичь Сарита, было плохой услугой ее сыну. Нельзя разобрать эту жизненную силу на части, пересчитать их и затем сшить во что-то целое, как она представляла это себе. Такую данность невозможно удержать. Мигель понял это еще до того, как у него отказало сердце. Той последней ночью он проснулся от видения воина, готовый покинуть плоть. Жизнь стремилась освободиться от ограничений материи. Неужели матери было так трудно понять это?
Он метнул взгляд вверх, ища орлицу, но ее унесло к земле, в другое видение. Ученики Мигеля собрали вещи и ушли, теперь им не терпелось вернуться на материк, и они предвкушали, как улягутся в теплую постель. Похоже, испытания истиной изнурили их. Леонардо тихо усмехнулся, размышляя над тем, насколько это действительно выматывает – позволить более мудрому человеку давать тебе пищу, которую ты не хочешь сам себе раздобыть. Он пожал плечами, понимая, как сильно должны будут измениться их аппетиты, чтобы хотя бы начать принимать предлагаемое питание. На самом деле они заслуживают большой похвалы.
Рядом с ним ворчал отец. Дон Леонардо взглянул на Эсикио, который, похоже, проходил свое собственное испытание. Они мало что успели сказать друг другу. Дону Леонардо, который сам был едва ли более реальным, чем фантазия, казалось, что его отца долго не было в видении Мигеля. Может быть, мальчику не хотелось пользоваться талантами старика? Может быть, он был не уверен, поможет ли легендарный плут – или только навредит. Леонардо смотрел, как дон Эсикио, спрыгнув с выступа, расхаживал среди руин и пинал камни носками своих поношенных сапог. Вид у него был такой, будто он что-то потерял и ищет.
– Зачем так все усложнять? – бурчал Эсикио, в волнении потирая лоб. – Просматривать жизнь человека по одному едва уловимому эпизоду – это как считать зерна риса, разбросанные на свадьбе.
– Но ведь и открытий немало, разве нет? – заметил дон Леонардо.
– Бесит. Все равно что камешки вынимать из банки с черной фасолью.
– Мне это скорее напоминает живопись.
– Как блох выискивать у бродячей собаки.
– Нет, это как писать портрет, – настаивал его сын, думая: а не сам ли Эсикио не хочет позволить своим дарованиям послужить общему делу? – У меня это когда-то хорошо получалось. Молодым человеком я часто пробовал написать портрет моей возлюбленной… Позабыл, как ее звали, – красивое было имя. Попыток было не счесть. Я был очарован каждой черточкой, но увидеть, что рисую, не мог.
– Ты не видел свою возлюбленную? – Эсикио остановился и, прищурившись в угасавшем свете дня, искоса посмотрел на Леонардо.
Он как будто впервые увидел своего сына. Музыкант, оказывается, пробовал себя в живописи. Солдат был нежным любовником. Чего еще он не заметил в парне?
– Я испещрял холст точечками, работал легкими мазками, – продолжал Леонардо, – смешивал краски в манере великих импрессионистов, был в восторге от собственной гениальности, а потом отступал от картины и обнаруживал, что у нарисованной мной девушки то носа не хватает, то уха, то левого глаза. Один раз ее лицо оказалось почти полностью закрытым тщательно выписанной орхидеей. Короче говоря, меня сводили с ума средства выражения, а не сама женщина. Понимаешь?
– Что именно? Что мы пытаемся найти лицо в клумбе?
– Может быть, нам нужно вспомнить, какую цель мы преследуем.
– И какую же? – спросил Эсикио, загораясь любопытством.
Наверное, он нашел среди камней потерянную драгоценность. Пнув еще один булыжник, Эсикио взбежал по ступеням и оказался бок о бок с сыном.
– Увидеть то, ради чего мы пришли, – ответил Леонардо.
– Чтобы нас ничто не сводило с ума?
– Сводить с ума – это по твоей части, papá. – Он ласково сжал отеческое плечо и поразился тому, какое оно на ощупь. Даже для него старик был едва ли более реален, чем призрак. – Мы здесь для того, чтобы видеть, вот и все.
– Непростое, однако, занятие, – изрек Эсикио, – это как отделять видения от галлюцинаций. Или пылинки от туч пыли.
– Задачка не из легких, согласен, – признал сын.
– Все равно как сортировать крупинки сахара и кристаллы соли.
– Если Сарита взялась за это, мы должны ей помочь. Если за ней последует донья Лала – а она даже не понимает, что она охотница, влюбленная в свою добычу, – мы тоже должны.
– Может быть, мне тоже пора влюбиться? – с серьезным видом спросил Эсикио, прижав костлявые руки к сердцу. – Вот это был бы фокус – в моем-то нынешнем положении.
– Ты – сама любовь, – сказал Леонардо, борясь с желанием еще раз прикоснуться к отцу. – Всегда готов вдохновить человека.
Дон Эсикио кивнул, на секунду задумавшись, почему они с сыном никогда так не разговаривали при жизни. «Отец и сын» – в этих словах есть какой-то скрытый, недосказанный смысл. Его сын не был рожден равным ему. Маленький Лео так долго был смешным недоростком, что, даже когда ребенок превратился в мужчину, отец не мог воспринимать его всерьез. А когда мужчина стал мастером, Эсикио был слишком занят, чтобы замечать его: жизнь, семья, необходимость выживать, желание подняться над человеческим видением полностью поглощали его. И в итоге он оказался так увлечен своими играми и иллюзиями, что перестал видеть то, что сам произвел на свет. Что ж, отец и сын разговаривают сейчас, и уже почти нечему отвлечь их от этого. Он постарается извлечь из нынешней оказии – реальная она или воображаемая – все, что можно. Он даст волю своему главному достоянию – воображению – и примется за работу. Он вспомнит цель, а если это не получится, придумает свою.
Малыш Леонардо сказал, что он сама любовь. Так и есть! Нужно ли было ему напоминание сына, каким бы мудрым он ни стал, что вдохновлять – это радость для шамана? Конечно нет. Эсикио постучал носком сапога по земле и пощелкал пальцами. Он быстро сделал по нескольку шагов во всех священных направлениях и замер на месте. Затем закрыл глаза и погрузился в видение человечества. Там было все, что ему нужно: внутри людских мыслей и в той силе, которая делает возможными все мысли. Мысли, планы, цели – все это не имеет никакого значения для Земли, неторопливо разворачивающей свое видение и питающей всех нас. Для него все это тоже было не важно. Но между двумя мыслями лежит целая вселенная возможностей. Этот промежуток заключает в себе бесконечную тайну. Да, дон Эсикио всегда был готов вдохновлять.
Он напомнил себе, что вдохновение часто ошибочно принимают за внезапную потерю рассудка, но он ведь еще и художник, и безумие – это его любимое средство выражения. Он призовет все краски божественного сумасшествия и плеснет ими на готовый холст. Он найдет себе ученика, с которым можно будет играть. Как паук, он будет прясть просвечивающие воспоминания – они будут сверкать и сиять только в самом чистом свете. Он будет извлекать звуки из тонких нитей, что связывают Мигеля с тем, к кому он неравнодушен, кого он обучает и мучит. Сердце и душу мастера можно найти через его последователей. Он разыщет подходящего ученика и попытается расшевелить жизненную силу человека, которого жизнь почти покинула.
Приняв это решение, старый плут немедленно исчез, оставив своего сына Леонардо искать очередную драгоценную часть видения и завладевать им с помощью своего собственного искусства.
16
Школьником, лет в пятнадцать или шестнадцать, я познакомился с девочкой из младшего класса. Ей было тринадцать, она была необыкновенно хороша собой и казалась мне воплощением чистоты. Мне хотелось взять ее под свою защиту, и я стал постоянно оберегать ее, когда она находилась среди старших учеников. Мне и в голову не приходило как-нибудь воспользоваться ее невинностью, но она, похоже, неправильно истолковала мои знаки внимания. Однажды во время обеда мы над чем-то смеялись, как вдруг она наклонилась и поцеловала меня. Я был и удивлен, и тронут. Жест был подкупающий, но с ее наивной точки зрения он превратил нас в возлюбленных.
– Теперь ты мой, – уверенно заявила она, как будто говорила о чем-то неотвратимом, и поцеловала меня еще раз.
Я не знал, как сказать ей, что чувствую к ней совсем не то, что она ко мне, что она для меня ребенок. Побоявшись обидеть ее, я промолчал. Теперь-то я понимаю, что в сказанной правде было бы больше добра, чем в добрейшем обмане.
И я стал играть роль ее парня. Друзья смеялись у меня за спиной, я слышал, как они издевательски свистят и фыркают, когда мы с ней, держась за руки, выходили из школы, но стать парнем, оттолкнувшим ее, я не захотел. То время, когда я притворялся, что ухаживаю за маленькой девочкой, для которой стал романтическим героем, многому меня научило. Успев овладеть обычными любовными приемами мальчика-подростка – властью, перемежаемой время от времени пренебрежением, – я обязан был теперь проявлять к ней уважение. Как ни странно, это оказалось совсем нетрудно. В свои шестнадцать я был уже искушенным мальчиком, но она напомнила мне об идеальной любви, которую я представлял себе ребенком. Тот идеал я почти утратил, торопясь стать взрослым и предаться любви телесной.
Наш детский роман продлился недолго. Тем летом ее семья переехала, и нам пришлось пережить грусть расставания. Тем не менее эта тринадцатилетняя девочка произвела на меня неизгладимое впечатление. Я больше никогда в жизни не видел ее, но с тех пор узнаю ее во многих девушках, играющих роль женщины и жены. У каждой из них был образ меня, который соответствовал их девчоночьему идеалу. Увидеть меня настоящего или настоящих себя им не удавалось.
Каждый человек погружен в видение. У каждого видение зависит от того, как он или она воспринимает реальность. Видение человека заполнено множеством действующих лиц – родных, друзей, любимых, и каждый из нас видит в них какие-то особые черты характера. Эти люди оставляют отпечаток в наших чувствах, и мы по-разному взаимодействуем с каждым из них. Но взаимодействуем мы соответственно тому, как нам хочется их воспринимать, а не тому, кто они на самом деле. Откуда мы можем знать, кто они, помимо их придуманной роли в нашем собственном кинофильме? Жизнь, фильм, видение – все это создает и осуществляет сам смотрящий. Но посмотрите фильм вашего близкого друга – вы обнаружите в нем многих героев из вашей кинокартины, только они покажутся вам другими и чувства у вас вызовут совсем другие. Иначе будут выстроены диалоги, и основные события будут развиваться не так, как вы ожидали. В фильмах вашего отца, сестры, мужа или жены история будет рассказана по-разному. Роль, исполняемая вами в их видениях, может оказаться совсем не такой приятной, как вам бы хотелось, или не такой нелестной, как вы полагали. Ваш герой может оказаться в сюжете совсем не главным – или же, наоборот, иметь преувеличенное значение. Другими словами, вы можете не узнать себя в видениях окружающих вас людей.
У каждого свое видение своей жизни, оно не похоже ни на чье другое. Мы предполагаем, что у других такие же видения, как у нас, но это не так. Важно уважать чужие видения, даже если мы не согласны с тем, как в них истолкована реальность. Мы не можем никого заставить видеть жизнь так, как ее видим мы. Нам и не нужно, чтобы все снимали одинаковое кино, и нам незачем этого желать. У нас есть возможность каждое утро повернуть голову на подушке и увидеть любимого человека как будто в первый раз. Нам ведь хочется, чтобы нас воспринимали беспристрастно и непредубежденно – точно так же мы можем, ничего не ожидая и принимая человека таким, какой он есть, позволить его неповторимым чертам каждый раз вновь удивлять нас.
Все, кого я встречаю, видят меня по-разному, через призму собственного видения. Мнения людей обо мне имеют мало общего с тем, кто я есть на самом деле. В их глазах я могу быть героем или представлять угрозу. Невозможно определить, что такое «настоящий я» или «настоящие они». Наблюдая мальчиком за спектаклем, разыгранным на похоронах моего брата, и слушая, как люди исполняют ожидаемые от них роли, я понял, что все их разговоры, их позирование скрывали настоящую правду о них. Мы обычно составляем представление о человеке, едва успев бросить на него взгляд, и потом оно уже не меняется. Точно так же мы поступаем с самими собой, выбирая себе образ и затем усиленно стараясь ему соответствовать. Каждый день мы наряжаемся, словно идем на маскарад, – облачаемся в нашу браваду, в наши убеждения. Чтобы измениться, нам нужно увидеть собственное лицедейство. Мы можем начать понимать, что скрывается за словами, и, вместо того чтобы отвечать на слова и действия как автоматы, начать откликаться на них из нашей подлинной сущности.
Воспоминание о той тринадцатилетней девочке и сейчас трогает мое сердце. Какой непосредственной и веселой она была! Помню, с каким доверием она смотрела на меня, когда я говорил, как ловила каждое мое слово. Она была простодушна и бескорыстна, смех ее звенел как музыка, а от ее улыбки становилось светло на душе. Она не научилась еще обращать любовь против себя самой; надеюсь, этого с ней не случилось и позже. Ее чистота и очарование стали для меня уроком: они всегда есть в каждой женщине, не важно, ощущает она их в себе или нет.
Случилось так, что такой же звонкий смех я услышал несколько десятилетий спустя, вскоре после того, как мы разошлись с Дхарой и был расторгнут наш недолгий брак. Я отправился в Перу с большой группой учеников и в первый вечер в Мачу-Пикчу заметил женщину, танцевавшую вместе с другими в холле. Она двигалась в одиночку, чувствуя музыку и блаженно улыбаясь самой себе. Уже тогда она была хорошим видящим и умела создать в воображении тот мир, который был ей нужен, невзирая на окружавшую ее суету. Она раскачивалась под музыку, что-то, должно быть, развеселило ее, и я услышал прелестный смех влюбленной тринадцатилетней девочки. Я увидел ее такой, какой она была, – всего на мгновение, но мне стало ясно, что это мудрость, которую часто принимают за детское простодушие. В то мгновение я понял, что мир, который вообразила эта женщина, скоро станет для нее реальностью – ей нужно будет только поработать и опереться на силу своего намерения.
Такие ученики – те, кто соприкасается с видящим умом и готов выйти за его границы, – всегда были мне интересны. Это самые сильные видящие: они застенчивы, ничего не требуют, но вообразить способны все, что угодно.
Помимо пользы, приносимой моим ученикам, странствия в Перу и по другим местам силы были очень важны и для моего собственного развития. Автобусные поездки и путешествия по воде, ритуалы и обряды посвящения – все это помогало росту и моей осознанности.
Во время одного из таких путешествий я влюбился в удивительную женщину – с такой страстью я, пожалуй, еще не любил. Как и многие, она чувствовала, что заблудилась, и была полна решимости отыскать путь к утраченной ясности. Она и представить себе не могла, что ее путешествие уведет ее далеко за пределы уютных иллюзорных представлений о ясности, к тому, чтобы видеть правдиво. Она и вообразить себе не могла, что сама станет мастером. Она и подумать не могла, что однажды ей придется наблюдать, как я умираю – как я умираю сейчас.
Глядя на Эмму в тот первый вечер, я увидел пример ученика, который может в один прекрасный день стать вдохновляющим вестником. Мне хотелось помочь этому пророчеству сбыться, дать ему защиту, которой оно заслуживает, и посмотреть, сможет ли пробудиться хотя бы один из этих сорока. Все они были уже взрослыми. Они созрели физически и умственно. Теперь им пора было совершить прыжок за пределы обыденного мышления, оставить позади себя, насколько смогут, старые шоры и начать видеть истинно.
Думая так и с образом Эммы перед собой, я преисполнился сил. Мне хотелось найти новые способы подтолкнуть здравые умы к тому, что лежит за барьерами рассудка.
* * *
– За гранью рассудка? И ты считал, что это возможно – и, вообще, нужно?
Лала сидела рядом с ним на дереве. Она оседлала толстую ветку и смотрела ему прямо в лицо, глаза в глаза. Ее воздушные юбки покачивались вокруг нее. Она заставила себя войти в сердцевину его видения, попасть на древо жизни. Для этого ей понадобилось приложить невероятные усилия и, прежде всего, совершить нечто весьма неприятное: перестать верить – не только видению, в котором она находилась, но и, что гнуснее всего, самой себе. Никакого сомнения в том, что она реальна, быть никогда не могло, но в этом противостоянии с шаманом ей придется использовать другой подход. Она должна преподнести себя как миф, как действующее лицо его видения. Она должна предстать перед ним как нечто спорное, вступить с ним в поединок и отвоевать его.
– Рассудок – мое царство, – упорно продолжала она, – это одновременно и царство жизни. Он встроен в мозг людей.
– Царству жизни принадлежит все, – спокойно ответил ей Мигель.
Казалось, его ничуть не удивило, что она сидит рядом с ним. Он как будто даже почувствовал облегчение, и это обеспокоило ее. Они не сводили друг с друга глаз, а за ними лениво описывала круги планета Земля. Здесь было очень светло – чересчур светло для нее. Свет разом смывал все искажения, и их ничто не отражало, кроме миража планеты, этого нелепого дерева и их призрачных лиц.
– Ты предпочла бы поговорить где-нибудь в другом месте? – спросил Мигель.
Он перевел взгляд на тени внизу, и она различила там очертания дерева, очень похожего на это, но в другом ландшафте, на который было легче смотреть. Если она хочет победить, то должна действовать на его территории. Пусть он поверит, что все преимущества на его стороне.
– Лучше здесь, – твердо сказала она. – Мне нравится твое… видение.
– Мне тоже, – сказал он, отводя взгляд в бесконечность.
Какое-то время ей казалось, что он уходит от нее. Внимание его переместилось от нее к чему-то для нее невидимому. Наконец он вернулся, очевидно узнав ее лицо и внимательно глядя ей в глаза, как будто и в них ему видна была бесконечность. Она успела забыть, какую страсть когда-то будили в ней эти глаза. Они разжигали странное желание: раствориться, отдать себя. Дрожа, она сосредоточилась на звуке его голоса.
– Тебе понравились мои воспоминания? – спросил он улыбаясь. – События моей жизни прояснили что-нибудь? Пролили на что-нибудь свет?
«Проливать свет», «прояснять». Значит, его оружием будет свет? Свет довольно просто повернуть в другую сторону, преломить, подумала она. Любая субстанция, даже просто намек на субстанцию, сможет отразить его и запустить на другие орбиты. Ее щит – знания, они и будут решать исход. Лала прищурилась, снова переключилась на разговор и улыбнулась ему в ответ.
– Это все иллюзия, – сказала она. – Мы с тобой это понимаем и знаем цену таким иллюзиям.
– И какова же она?
– Иллюзии нужны, чтобы успокоить ум, вдохновить человека. Ведь дон Мигель – мужчина, сын, шаман – захворал.
– Он умирает.
– Тело подвело его, и ум должен к этому приспособиться. Это видение – отступление, способ отдохнуть, и это логично, но мы должны следить за тем, чтобы, удовлетворяя потребности тела, не пойти против логики.
– Мы? – Мигель все еще добродушно улыбался ей, но к его добродушию теперь, похоже, примешивалась ирония. – Нет никаких «нас», любовь моя, – прошептал он. – В теле или без него – я есть. – Он помолчал. – Я есть… Вот и все.
– Пойми меня правильно…
– Нет никаких «нас». Если мой человек выживет, у него не будет времени на эти игры.
«Если мой человек выживет»? Значит, это еще возможно. Лала постаралась побольше сосредоточиться. Она находится в видении шамана и должна играть по его правилам.
– Мы должны… Мы должны пролить свет на то, что слишком долго оставалось без внимания, – рассудительно сказала она. – Нам нужно, как ты говоришь, все прояснить и заключить соглашения.
Мигель молчал.
– Посмотри, что ты вызвал к жизни, чародей, – сказала она, поведя рукой окрест себя. – Какой пейзаж, рай простоты. Тут сидишь ты. А вон там Земля, мать существования, танцует в темноте, как влюбленная.
– А вот ты, – добавил он.
– В твоем раю два дерева – и…
– Тут есть ты.
Она замолчала и посмотрела на него, ожидая, что выражение его лица изменится. Что за бесстрастное видение, почему на него не действуют ее колкости? На лице Мигеля нельзя было прочесть ничего. Его глаза затягивали ее в свою глубину, и ей вдруг захотелось совершить прыжок в нее, чтобы раствориться и забыть себя там. Но, вместо этого, она собралась с духом, чтобы продолжить схватку.
– Два дерева, – повторила она. – Два древа. Разве оба они не приносят плодов? Разве они не плодоносят? И ты, и я – одновременно и творец, и сотворенное. Мой мир и твой – это одно и то же.
Она подождала, но он все молчал.
– Из единственной клетки, – продолжала она, наклоняясь к нему, вопреки своим наработанным инстинктам, – ты создаешь целую вселенную клеток, живое существо. Из единственного высказывания я создаю целую вселенную идей, живое видение. Без этого видения, состоящего из слов и смыслов, любая человеческая вселенная была бы ничем, ничего не смогла бы сделать, осуществить.
Он по-прежнему молчал. Этот человек кого угодно способен вывести из себя.
– Взгляни на два этих дерева – они совершенно одинаково священны и прекрасны! Ты воспринимаешь меня как угрозу? А ведь я – счастливый дар. Угроза же исходит от человечества, произросшего из грядки водорослей. Человечеству предназначено дышать, есть, а потом вымереть – оно же паразит на небесном теле, к которому прицепилось!
Шаман с интересом смотрел на нее, но снова ничего не сказал. Ее возмущение росло, и она почувствовала, как меняется настроение этого места. От Мигеля исходило какое-то чувство – нет, не чувство, а сила. Он всю свою жизнь, как и все люди, говорил о любви – так трогательно, так мечтательно. И только сейчас она ощутила ее силу и ее правду. Этот несостоятельный довод был его оружием. Многие приходили к нему вот так – они были готовы спорить и жаждали победы. И все они не устояли перед силой любви, их доводы были разбиты. С опаской она вдруг вспомнила прежние стычки. Она ведь конфликтовала и раньше, но кто всегда побеждал? Кажется, любовь?
– Впереди другие воспоминания, m’ija, – сказал шаман. – Возвращайся к своим поискам. Вспомни, как знания могут помочь осознанности.
Ну, это уж слишком! В ней, сгущая тьму и предвещая грозу раньше молнии, поднялась ярость. Ну так что ж? Грянет буря – и пусть. Пусть глаза ее зажгутся красным, пусть все вокруг бушует и горит. Пусть сгинет это безмятежное видение, пусть его унесет в самые дальние уголки вечности. Она снова скажет то, что должно быть сказано.
– Посмотри на меня, вестник! – воскликнула она. Волосы ее светились кровавым цветом, развеваясь на поднимающемся ветру. Тело ее приподнялось в воздух, к беззвездным небесам – от изысканного платья в темноту, как светлячки, разлетались кусочки опаленного шелка. – Я вытащила человечество из навозной кучи! Я улучшала и вдохновляла человека с его первого жалкого вдоха!
Каждый листок на огромном дереве затрепетал, отбрасывая золотистые и серебристые отблески на ее разгневанное лицо и на простиравшийся за нею безмолвный ландшафт. Лала все больше распалялась от своего же бешенства, и дерево откликалось на каждое злое слово.
– Вообразил себя основой жизни, великим творцом? – возопила она. – Разве гений может обречь свое творение на тяжкий труд и страдания, оканчивающиеся отвратительной смертью? Я дала людям средство жить после смерти. Слова не умирают, память остается. После того как исчезнет всякая жизнь, следы знаний долго еще будут сохраняться запечатленными в камне, врезавшимися в звездный свет!
– Да, любовь моя, – наконец ответил Мигель.
Она посмотрела на него, и ее гнев сменился ужасом. Его ангельское лицо превратилось в дьявольскую рожу, глаза были как раскаленные угли, а волосы пылали огнем, уходящим, беспорядочно закручиваясь, вверх, во тьму. Видение приковало к себе ее взор, у нее перехватило дыхание. В тот миг она увидела себя, и ей стало нечем дышать.
– Мы с тобой – одно и то же, – произнесло ее отражение. – Мы эхо жизни, эхо историй, о которых кричат в глубокие ущелья. Послушай, как мы кричим, – сказал он, и тишина наполнилась страшным гвалтом.
Казалось, одновременно орали, ругались, молили о чем-то миллиарды людей.
– Не утомляй меня своими фокусами! – завопила она, и ее слова вернулись к ней огненной бурей.
Лицо, смотревшее на нее, было карикатурой ее лица. Голос, отвечавший ей, так пугал, что ее решимость поколебалась.
– Увидь меня, – издевался ее зеркальный образ. – Услышь меня. Подчинись мне.
– Хватит!
– Бойся меня. Повинуйся мне. Скажи, что ты моя!
Лала, богиня и тиран, больше не могла выносить это. Ее слова эхом отдавались в ее ушах, теряя всякий смысл. Ее гнев унесло ветром, она снова опустилась в тишину, села на ветку дерева – терпеливого древа жизни. Рядом с ней сидел Мигель – человек, который тихо говорил и улыбался.
– Пора отпустить, – сказал он.
Он о себе? Что он имеет в виду?
– Ты так легко и безжалостно откажешься от своей драгоценной жизни? – со слезами в голосе проговорила она.
Мигель посмотрел на нее.
– Мое тело – любовь всей моей жизни, – сказал он. – Разве могу я безжалостно обречь его на целый век боли?
Ну вот и все, подумала она и вздохнула. Она устала и скоро потеряет всякое желание продолжать. Теперь ей трудно было противостоять ему, думать стало утомительно. Она упала духом и замкнулась в себе. Мигель тихо подвинулся поближе к ней. Неужели он хочет прикоснуться к ней? Невероятно сильными и неестественно теплыми руками он осторожно обнял ее.
Лала вся съежилась. Может ли она надеяться, что уцелеет после такого посягательства? Как может она, такая неприкосновенная и недоступная, позволить жизни ласкать себя? Что это за ужасная магия? Она сопротивлялась ему – или думала, что сопротивляется. Чем больше она представляла себе, что отбивается от него, тем слабее становилась. В конце концов время перестало что-либо значить – и борьба оказалась бесполезной. В то самое мгновение, когда она забыла о своей цели, Мигель ослабил свои объятия.
– А теперь ступай, – велел он. – Увидь то, что нужно увидеть.
– Что еще можно увидеть? – всхлипнула она. – Я наблюдала за твоей жизнью. Должна ли я стать свидетельницей твоей смерти?
«И это мой собственный голос?» – удивилась она, едва понимая, зачем задала свой вопрос. Вверху, над поверхностью земного шара вспыхивали и гасли огни, и она поняла, что знания все еще могут сыграть свою роль в преображении Мигеля. Разве не это, в конце концов, ее цель?
– Еще есть пламенные речи, которые нужно произнести, которые нужно записать! – сказала она, вспомнив о своих более возвышенных сторонах.
– И есть другие люди, готовые подхватить их, пусть я и лежу на смертном одре. Иди. Смотри.
Она выпрямилась, с достоинством поправляя свое воздушное платье. Глаза ее заблестели ярче, теперь они светились едва уловимым огнем. Она устремила последний, тоскливый взгляд на дерево, величественно застывшее под мрачными небесами на другой стороне долины.
В следующее мгновение Мигель был снова один, искушения знаний больше не донимали его. Он вдохнул бодрящий воздух бесконечности. Выдохнув, он почувствовал, что опять что-то изменилось и он еще больше освободился от удивительной притягательности материи. Скоро, подумал он, скоро. Скоро придет конец.
Внимание его переключилось на небо, на тайну, на тот покой, что приходит с окончательной свободой. Он обитал в материи и ощутил на себе все связанные с этим лишения. Человеческое видение было его родным домом. Он был зрителем этого представления и даже автором некоторых его эпизодов. Это было упоительно, но он не вернется. С ним или без него – люди будут снова и снова переживать свою мучительную драму, пока не решат пробудиться.
Живые иногда пробуждаются. Человек просыпается, видит выстроенную им тюрьму и выбирает свободу. Он может покончить со своей склонностью ко лжи и открыть для себя свежий вкус истины. Он может упорно продолжать свой путь, его точка зрения будет меняться: во главе угла сначала может быть ум, потом материя, затем видение света и, наконец, совершенное осознание себя как жизни. Отражение может быть спасено: за время всего одного удара сердца человека может возникнуть его зеркальный образ, увидеть себя и разбиться вдребезги, превращаясь в полную осознанность. Это может случиться в течение одной человеческой жизни.
Он это знал, потому что с ним это случилось.
17
Дон Эсикио был занят. Удалившись от своих спутников, он мог теперь воспользоваться своими талантами. Это не значит, что он хорошо помнил эти таланты. Он действовал, если так можно сказать, инстинктивно. Только на какие инстинкты может человек полагаться, когда он так давно умер? От магии, которую он применял при жизни, теперь остались одни воспоминания, яркие для других, но не для него. Все зависело от тех, кто когда-то был близок к нему, и от того, как они рассказывали его историю.
Он понимал, что репутация его укрепилась уже после смерти. В представлении переживших его родственников он был волшебником, каким-то неземным персонажем. Его поступки, когда-то казавшиеся безрассудными и безответственными, теперь стали легендой. Но все, включая его самого, сходились в том, что время от времени он совершал настоящие чудеса. Даже самых строгих из своих критиков он иногда заставлял открыть рот от изумления. Он сеял сомнения в людях, прилипших к старым идеям, как букашки к горячей смоле. Он воздействовал на умы и менял видения. Да, он плутовал, озорничал, чтобы разогнать собственную скуку, – и если иногда становился причиной чьего-то кошмара, так что же? Он заставлял людей ломать голову, дивиться. Он вышибал людей из спячки, в которой все предсказуемо. Он был мастером веселья.
Есть ли в жизни человека что-нибудь важнее веселья? В любви ли, в дружбе, разве это не самое главное между двумя людьми? Веселье спасает человеческие отношения. Если бы он и его возлюбленная Крусита отказались от радостей жизни, если бы они не умели наслаждаться каждым мгновением, проведенным вместе, то как бы они смогли так долго оставаться мужем и женой? То же самое можно сказать и о Селесте. И об Эсперансе. И о его дорогой Ча-Че! Разве тогда продлились бы столько времени все его романы? Разве смог бы он с удовольствием просуществовать больше столетия, если б не было этих многих тысяч ночей смеха – и восхитительных открытий? Разве было бы у него тогда столько веселья? Вся соль в веселье!
Пусть он давно умер, сейчас ему весело. К черту всякие там учения, думал он, тихо посмеиваясь. Пора снова поиграть с видениями живых – с их дневными грезами, ночными снами и промежуточными мечтаниями. Ему хотелось заняться реальным человеческим существом, понимающим, что значит испытывать жаркие чувства и быть в плену у желания. Он поискал эту женщину на дорогах памяти и, узнав на ней особую отметину шамана, оказался здесь.
Сейчас он смотрел на нее: женщина с горячей кровью – это яркое зрелище. У нее было миловидное лицо, одета она, как у них принято: в джинсы и белую хлопковую рубашку. Она стояла в опасной близости к самому краю скалы, расставив руки в стороны и слушая хохот быстрокрылых ястребов, оседлавших горные ветры. Кругом лежал необъятный суровый, дикий ландшафт. Самое подходящее место для приключения – идеальная обстановка для духовной одиссеи. Ее одиссея началась с рождения, как и у всех, с первого вдоха, когда человека ослепляет яркий свет нового видения. Все начинается в то мгновение, но, похоже, это было хорошее место, чтобы еще раз начать.
Дону Эсикио с малых лет доставляло удовольствие бросать вызов другим умам. Первым делом он бросил его самому себе. Сможет ли он не верить словам, произносимым им же самим? Сможет ли оказывать своим родителям уважение, которого они достойны, и при этом не верить им? Сможет ли принимать во внимание власть, но не подчиняться ей? Он обнаружил, что все это ему по силам. Он узнал, что может использовать идеи, как ребенок пользуется руками на пляже, строя совком из мокрого песка причудливые сооружения, возводя неприступные стены и тут же рассыпая их. Ум – это поле, и его почва может принести щедрый урожай или оказаться бесплодной. Идеи – это семена, которые мы бросаем в землю – иногда ненароком. Эти семена неизбежно приносят какой-нибудь плод. Если их посеять с намерением, то солнце и дождь помогают им создать видение. Если человек заботится о своем урожае, осознанно относясь к процессу, дающему видению жизнь, то он – художник.
Эсикио видел, что Эмма хочет быть художником. Возможно, она уже была им в других областях, используя разные средства выражения. Наверное, ей было знакомо слово «тольтек» и она постигла его значение. Так зажглось ее воображение, и она решила освоить самое захватывающее из искусств – искусство жизни. Эмма была уже не так молода. В его время считалось бы, что пора ее расцвета уже миновала, но огонь ее еще ярко пылал. Смотреть, как она стоит здесь, безмолвно погрузившись в видение ястребов, было вдохновляющим зрелищем. Знает ли она сама, что привело ее сюда? Понимает ли она, какие силы привлекли ее к этому месту и к этому мгновению? Скала под ее ногами высилась над глубоким ущельем на десятки метров от уровня реки Рио-Гранде. Он увидел, что руки ее расслабились. Она стала на колени, затем осторожно легла на спину, свесив голову над пропастью. Над нею – небо, внизу – река, она должна чувствовать себя плывущей между мирами. «Ты готова?» – улыбаясь, бросил он ей молчаливый вызов. Она ему понравилась. Она была готова к испытанию посерьезнее. Может быть, она не знала, чего хочет, но он, дон Эсикио, ручался, что она это получит.
Ученик растет и развивается, то же самое и учитель. Осознанность учителя расширяется, становясь вратами для других и зовя их ступить на территорию бесконечности. Конечно, не каждый способен услышать этот зов, размышлял Эсикио. А из тех, кто его расслышал, мало кто жаждет совершить прыжок. Эмма едва ли понимала, что значит совершить такой прыжок, но для нее важен был не буквальный смысл слов. Она расположилась на краю скалы вниз головой, чтобы ее ум мог увидеть мир по-новому, чтобы почувствовать зов. Она экспериментировала, играла, задавала себе вопросы. Старик узнавал руку Мигеля, поработавшего над развитием этой женщины. Его влияние чувствовалось в том, как она себя ведет, как слышит безмолвный призыв его любви и отвечает на него.
Ему казалось, что он уже давно наблюдает за Эммой. Впервые он обратил на нее внимание в Перу, где она послушно следовала за Мигелем по горам и лугам, несмотря на все происки погоды, в экспедиции по дюжине священных мест, страстно желая меняться и учиться. Без сомнения, в ней было любопытство. В ней была отвага отчаянной женщины, но в обстоятельствах ее жизни, кажется, не было ничего отчаянного. Просто пришло ее время. Для нее пришло время сомневаться, пойти в непостижимое. Пришла пора проскользнуть незамеченной сквозь неприступные ворота рассудка и безоглядно броситься вперед.
То, что учителя и ученицу тянуло друг к другу, было очевидно с самого начала. Роман между Эммой и Мигелем был неизбежен. Дальнейшее наблюдение подсказало дону Эсикио, что, вероятно, эта любовь – надолго. Мигель жил в ее сердце. Эсикио знал, что значит завоевать любовь женщины и заслужить ее верность. Он знал, какие драгоценные плоды приносят доверие и благородство. В его жизни тоже было несколько браков и бессчетное число любовных историй. А сколько было сладкозвучной музыки! Сколько песен, обольщений и измен! Сколько наслаждений! Он мог бы поклясться, что древние инстинкты вновь взыграли в нем, загудели в его тонких, как веретена, бедрах, взрываясь в чреслах. Все было по-настоящему. Трудно было сдержать это чувство. Невозможно не подчиниться самому мощному повелению жизни. Каждой улиткой, каждой звездой руководит один тот же закон. Он гласит: «Будь!» Будь! И мы становимся кем-то. А потом соединяемся с кем-то, чтобы жизнь множилась.
– Иди к сердцу, – пробормотал Эсикио сам себе, ухмыляясь. – Иди к сердцу.
Его позвали, чтобы спасти жизнь. Есть ли для этого способ лучше, чем весело сыграть на струнах сердца умирающего человека? Его правнук полагался на этот дух, он попробует то же самое.
Солнце зашло за скалы ущелья, а Эмма все лежала на краю утеса, освободив свой ум и подставив тело вечерней прохладе. К ней подбежал пес и решительно свернулся калачиком у ее ног. Пес был старый и седой, походил на волка и явно принадлежал ей. Эсикио видел его раньше и понимал, что быть вместе решила не она, а само животное. Оно было ее собакой. Это был ее союзник, добровольный страж, приставленный к ее видениям, – куда бы они ни уносили ее. Старик подозревал, что и шаман здесь, дышит легкими этого пса с глубоко сидящими глазами.
Дон Эсикио наблюдал за ними, расположившись в тени можжевелового дерева. Они были спутниками в путешествии, сути которого ни она, ни он не понимали, да и вряд ли хотели понять. Дух жизни в крови у всех существ. Тому, что у собаки остается простым инстинктом, человеку нужно учиться заново. Несколько раз Эмма сбивалась с дороги высоко в горах по вине летних гроз и проливных дождей, и пес выводил ее обратно к старенькому джипу, спасал ее. Он и она были заодно с жизнью. Вместе они следовали велению нагуаля.
В лесу за спиной Эсикио беспокойно заухала сова.
– Ага! – воскликнул он.
«Нагуаль». Это слово пришло к нему в голосе его отца и отца его отца. В нем был отзвук древних времен и священных учений. Эмма пока еще не стала нагуалем. Когда уму бросается вызов, человек содрогается до самых своих основ. Ее мир рушился не раз и в малом, и в большом, и у нее хватало мудрости оставлять его осколки там, куда они падали. Она начала расставаться с убеждениями, копившимися всю жизнь. Да, она чувствовала дух учения, знала, куда движется, но в этих поисках даже волшебный пес не поможет. Он покажет ей, как спуститься с горы, но свою дорогу домой она должна будет найти сама. Эсикио сочувственно улыбнулся. Она ученица мастера, но где же сейчас сам мастер? Где настоящий Мигель, виновник всех этих треволнений?
– И в самом деле! – прогудел за его спиной знакомый голос. – Где наследник всего этого сумасшествия?
Эсикио повернулся на каблуках.
– Гандара! – воскликнул он.
Перед ним в мягком вечернем свете стоял его старый друг, тоже шаман. При жизни Гандара был толстяком с вечно угрюмым выражением лица, но смерть изменила его. Двигался он теперь медленнее, без своих обычных резких движений и подпрыгиваний, но казался счастливее. При виде дорогого compadre лицо его просияло. Он оттянул и отпустил подтяжки, отчего они щелкнули по груди, и вытянул обе руки, приветствуя приятеля, вне всяких сомнений полагая, что Эсикио прибыл сюда исключительно ради встречи с ним. Так у них было заведено: один всегда изображал превосходство над другим. Гандара научил старика многим штукам, но они сравнялись в мастерстве и колдовских проделках.
В былые дни они были сообщниками, вызывали духов и своими проказами вселяли страх во всю округу. Они играли на суевериях местной деревенщины и пугали во сне детишек. Их козни и забавы были для них важнее любого долга. Ни самая уважаемая профессия, ни положение в обществе не спасали человека от их шуточек. Если им хотелось пошалить, их не останавливала ни добродетельность женщины, ни жестокость врага. Человечество было для них полем, на котором можно вволю порезвиться, и игроков бесстрашнее их было не сыскать – что в любви, что в драке. Они стали легендой: «Дон Эсикио со своей шайкой хулиганов»! Старик очень обрадовался своему земляку, товарищу по безобразиям и вечному другу.
– Как, черт подери, мы с тобой оказались тут вместе? – воскликнул Гандара, душа друга в объятиях.
– Я не сам пришел, hombre[39]. Меня вызвали.
– Для чего? – спросил Гандара с растущим любопытством, всегда готовый, если надо, набедокурить.
Эсикио немного подумал, пытаясь расправить шею после крепкого дружеского объятия.
– Для повторения, – ответил он.
– Для повторения? Мы же разделались с этим сто лет назад. Насколько помню, я неплохо тебя учил, – сказал Гандара, хлопая друга по спине. – Очень даже неплохо.
– Это ты-то меня учил? Да ты никак пьян, нечестивец?
– Я многому тебя научил, и ты это хорошо знаешь. Пока не появился Гандара, разве мог ты управлять своими ночными снами? Мог читать мысли, пробуждать чувства, разжигать своей волей огонь? Да ты едва умел…
– Ну ладно, наврал уже с три короба, дружище, на тыщу лет хватит. Мы тут с моим сыном Леонардо восстанавливаем воспоминания из другой жизни. Пытаемся вернуть человека.
– Вернуть человека! Уж не из мертвых ли ты его воскрешать собрался, дуралей? Ты разве не помнишь, как мы оживили несчастного Педрито? Родные его в ужасе были…
– Но они же сами просили нас! Умоляли!
– Болваны они были – как и мы с тобой! – рявкнул его друг. – Слава богу, его скоро холера прибрала. А то бы пришлось нам подороже заплатить!
– Педрито был обречен, мы должны были это понять. – Эсикио помолчал, пытаясь выбросить из головы гротескный образ восставшего из мертвых Педрито. – А мой правнук еще жив, – заключил он.
– Ах вот как! Ну что ж, если он ничего не потерял, то и возвращать нечего, – с облегчением сказал толстяк и снова обнял своего товарища.
– Он, можно сказать, потерял волю, – пояснил Эсикио, отдышавшись. – Внучка никак не может до него достучаться, хоть у нее и полно силы.
– Это которая? Чья дочь?
– Леонардо, – пробормотал он, предчувствуя, что скажет приятель.
– А! Певчий анархист! Как же, помню-помню!
– Он был солдатом, – раздраженно поправил его Эсикио.
– Для генералов распевал да бренчал на гитаре.
– Gacho[40]. Он кормил семью и не хотел стать пушечным мясом. Мы с тобой тоже бы так поступили, – возразил он, дружески хлопнув Гандару по животу. – Мы созданы, чтоб хулиганить, а не воевать.
– Мы созданы, чтоб смеяться, брат. Забыл?
– Ты смеялся, когда запятнали доброе имя Начито – когда его сослали в пустыню?
Он знал, что, упомянув Начо, изменит тональность разговора. Как compadre этот человек был безупречен. В их братстве он был лучшим. Как прохвост он не имел себе равных. Эсикио смотрел, как меняется выражение лица друга, как сожаление затуманивает его радость.
– Мы давно договорились не вспоминать про это, – пробормотал Гандара.
– Ну, так это было давно.
Гандара, не найдя что ответить, кивнул.
– Начито, – задумчиво и серьезно проговорил он. – Его осудили незаслуженно.
– Он прекрасно приспособился к уединению.
– Во всяком случае, нас он не впутал в это дело.
– Другого такого братства, как у нас, больше нет. Мы всегда приходим на помощь своим.
Эсикио помолчал, погрузившись, как и его друг, в печаль.
– Эх, ты напомнил мне о наших славных годах. Как великолепны мы были когда-то – дон Гандара со своей шайкой хулиганов!
Эсикио бросил на него сердитый взгляд, но придержал язык.
– Да, мы были легендой. И мы можем снова пошалить, viejo[41].
– Вот еще! Я с живыми больше дела не имею.
– Понимаю. У них нет…
– Стойкости у них нет. Никакой.
– Точно. И все же у нас есть возможность поиграть, – задумчиво сказал Эсикио, – и, может быть, проявить благородство – ради нашего доброго друга.
– Начито не было равных, – вслух размышлял Гандара.
– Он был настоящим другом.
– Как бы мне хотелось, чтобы он был здесь!
– Но почему он не с нами?
– У него есть на это причины, – ответил Гандара.
– Какие?
Его друг серьезно смотрел на него.
– Парень давно помер.
Повисла долгая пауза, а потом оба разразились смехом, от которого затряслись горы. Друзья хохотали до тех пор, пока старый пес не посчитал нужным кое-как подняться, вильнуть кривым хвостом и подозрительно гавкнуть в пустоту ночи. Это прервало грезы женщины. Она села, потерла ладони, чтобы согреть их, и устремила взгляд в темноту, в которой что-то смутно вырисовывалось. Старые привидения, опираясь друг на друга, чтобы не упасть, и пытаясь сдержать смех, смотрели на нее. Эсикио заговорил было, но на него вдруг напал кашель. Пес снова залаял.
– Кто это? – спросил Гандара, переводя дух и вытирая слезы. – Ведьма… с волком?
– Вряд ли она ведьма, друг мой, – ответил Эсикио сквозь кашель. – Это ученица нового мастера нагуаля, она пробует самостоятельно нащупать дорогу к запредельному.
– Самостоятельно? Тебе лучше знать, каналья, – сказал Гандара и ткнул приятеля в ребра. – Экспериментирует со стихиями, вижу. С воздухом это легко – вибрирует. Земля приземляет. – Он помолчал, нахмурившись. – Труднее всего мне давалась вода.
– Мне тоже. Я видел ее среди волн. Не здесь, на юге. Чем больше качает и бросает ее океан, тем спокойнее она кажется.
– Люди почитают стихии, – нараспев произнес Гандара, – но только до определенной степени. Они чувствуют, что на высоте опасно, поэтому вцепляются в скалы. Они не любят спускаться под землю, потому что боятся темноты. Они сторонятся огня, зная, что он покроет их кожу волдырями и уничтожит их. Мало кто из них знаком со стихиями по-настоящему.
Эсикио смотрел, как женщина надевает куртку и собирает вещи.
– Она хорошо проводит дни и ночи: ее манит молния, привлекает дикая природа, она погружается в видения в пещерах и звериных норах. Она танцует нагая в лунном свете.
– Ведьма! Я так и понял! Тетушка Констанца была такой, помнишь? Каждое полнолуние бегала по улицам с голым задом!
– Нет, эта не ведьма, только видящая. Мы можем показать ей, как пойти в видение дальше, за пределы знания.
– На это нужно время. Думаешь, у меня горы времени, caballero?[42]
– Думаю, да.
Толстяк поднял бровь.
– Чем это поможет твоей семье, дурачина старый? Ты этим вернешь мальчишку?
Эсикио посмотрел на друга. Может ли он сказать то, что нужно, и избежать насмешки?
– От одного огня зажигается другой, – заявил он, тщательно подбирая слова. – Раздуй это пламя, дай ему разгореться – и огонь может перекинуться дальше.
– Ты говоришь о любви мужчины… к этой женщине?
– К жизни, Гандара. И ко всему, к чему жизнь тянется. – Он помолчал, раздумывая, как убедить приятеля. – Это важно, – произнес он.
– А, важно? – Лицо Гандары просветлело. – Начо любил это слово. Помнишь, как…
– Гандара, – перебил его Эсикио, глядя, как женщина отряхивает пыль с джинсов и зовет пса. – У нас, может, и уйма времени, но терять нам его все равно нельзя.
– Правильно, – сказал его дородный друг, кивая. – Ладно, так и быть. – Он быстро взглянул в сторону женщины. – Но ты ведь понимаешь, что она может сойти с ума.
Эсикио уловил иронию и подмигнул.
– В первый раз нам, что ли, укладывать мамашку Разумность на лопатки, soldado?[43]
– И щекотать ей животик…
– Покусывать ее мощные груди…
– И показывать, на какую страсть способен мужчина-нагуаль!
Два привидения снова разразились хохотом, а за их спинами в небе Нью-Мексико хлынули метеоритные дожди. Они слышали, как вдалеке лает сбитый с толку старый пес, но продолжали смеяться, пританцовывая среди кустов полыни и вздымая в воздух частицы лунного света. Где-то за горизонтом загремел гром и покатился по потемневшим равнинам, словно небесный призыв к оружию. «Устройте бедлам! – громыхал он. – Что-то новое носится в воздухе! Время устало от притворства, ему не терпится показать себя!»
Но вот небеса угомонились. Долина успокоилась. Веселье улеглось – планета наконец забылась беспокойным сном. Два старика негромко возобновили свой разговор, а ночь мирно слушала их. Скромно мерцали звезды. Друзья попрощались с крутыми обрывами и неторопливо, плечо к плечу, вполголоса обсуждая свои замыслы, шли прочь в тени гор, название которым – Сангре-де-Кристо[44].
* * *
Прадедушка, волшебник моего детского воображения, я вижу тебя сейчас. Я вижу эльфа, танцующего в звездном пространстве мыслей, весело переставляющего местами Галактики. Вижу бесенка, играющего видениями. Я вижу озорника, носящегося с ведром, полным магии, и гасящего огни преисподней. В тебе, дон Эсикио, я вижу себя, всегда играющего, всегда готового совершить прыжок в темноту. Ты был прав, решив искать дух учителя в сердце его ученицы. Я долго жил в сердце Эммы, как и она до сих пор живет в моем сердце. Мастер неизбежно открывает каналы между собой и хорошим учеником – каналы, которые редко бывают доступны другим. Много лет назад я оставил на ней свою шаманскую отметину – эта духовная печать должна была защищать ее от любого зла, и неудивительно, что ты пришел по следам этого оттиска сюда, к моей возлюбленной, в ее самые потаенные видения.
Я чувствую кровную связь с моим прадедушкой, хотя у нас и нет общих воспоминаний. Видение о нем почему-то всегда успокаивает, напоминая мне о веселой бессмыслице жизни. Ум всегда полон видений – ночью во сне или днем наяву. То, что кажется нам реальным, когда мы спим, выглядит по-другому, когда мы бодрствуем, потому что наши видения наяву следуют строгим правилам и представлениям о правдоподобии. Проснувшись, мы видим такое же видение, как и все остальные, соглашаясь с общепринятыми понятиями, подчиняясь общим допущениям. По мере расширения осознанности, видящие начинают видеть больше и совершают для себя больше открытий, чем раньше. Внимательность и готовность к изменениям позволяют ученикам, вернувшимся домой из путешествия по местам силы, по-новому увидеть свою жизнь. Теперь они могут иначе взаимодействовать с людьми в своем видении и менять к лучшему реальность, в которой они живут вместе с ними.
Отправиться в путешествие по местам силы – значит, по сути, попробовать воспринимать все по-новому. Увидев проблеск истины, его не скоро забываешь, даже если время начинает искажать его. Все путешествуют по-разному, но почти всегда лучше не торопиться. Это касается даже тех многочисленных учеников, которые настаивают на том, чтобы я подталкивал их сильнее и ничем себя не сдерживал. «Не жалей нас», – говорят многие. Чем неповоротливее ум, тем он кажется настойчивее, но свобода для него – для нас – наступает только тогда, когда мы избавляемся от наших суждений и допущений. Мы не продвинемся ни на йоту, покуда не научимся слушать самих себя. Любое утверждение о чем бы то ни было следует подвергать сомнению. Любое убеждение может оказаться слепым пятном. Жизнь становится гораздо проще, когда мы перестаем навешивать на все ярлыки хорошего или плохого, правильного или неправильного. Мы пытаемся доказать собственную значимость многими способами и тем самым создаем много боли. Я присваивал своим ученикам звания, давал ласковые имена, назначал лидерами. В конечном счете гордыня дает о себе знать, и это преподносит им бесценный урок. Значимость не помогает нам выйти за пределы самих себя, как и набожность или скромность. Тут не помогут ни знания, ни разгадка какого-нибудь секрета. Преобразиться способен лишь тот, кто изменяет мир – мир, созданный самим собой в собственном уме. Многие хотят этого. Тех, кто на самом деле меняется, меньше… А некоторые никогда не останавливаются и меняются постоянно.
Эмма вошла в мое видение задолго до того, как стала моей ученицей. В первый раз я встретил ее в Нью-Мексико во время одного своего выступления. Она была искательницей-одиночкой, у нее не было единомышленников, которые могли бы ее поддержать. Она понимала, что потеряла любимого человека – саму себя. Она не могла признать ту, кем стала, и не в силах была воскресить ту, кем когда-то была. Трудно было увидеть истину, но у нее были способности, для того чтобы постичь ее. Ей нужно было, чтобы кто-то вел ее. Как можем мы измениться, не представляя себе возможности изменения? В поисках подлинности – того, что обществу не удалось поддержать в нас, – мы снова чувствуем себя, как запутавшиеся дети, на этот раз оставшиеся одни, без родителей – и без учителей. В то время Эмма была уже зрелым человеком, замужем и пыталась выбраться из-под завалов лжи. Ей нужна была истина, но в голове у нее звучали только собственные убеждения и мнения. В этом смысле она походила на любого из моих учеников, за небольшими исключениями. Может быть, ей это было неизвестно, когда мы с ней впервые встретились и даже в первые годы нашего знакомства, но она была из породы особых искателей. Она была воином перемен, готовым видеть, прощать себя и действовать, – и было похоже, что она никогда не остановится.
18
Эмма и ее шестилетний сын сидели на насыпи у дороги. У себя в кармане она нашла пластинку жевательной резинки и разделила ее с ним пополам. Они тихо говорили о том, какая интересная форма у облаков, как сегодня греет солнце, как красиво этим январским утром. Они направлялись к горячим источникам, и оба чувствовали себя нарушителями из-за того, что сын пропустил занятия в школе, но ее машину занесло на посыпанной гравием дороге, и она перевернулась, снова встав на колеса. Оба отделались легким испугом. Они были спокойны и даже веселы, жевали себе жвачку и ждали, не зная, что будет дальше. Вряд ли кто-нибудь оказался бы здесь и смог им помочь до конца дня, да и то в лучшем случае. Хотя этот участок дороги вел к большим шоссе, здесь редко кто ездил. Эмма в раздумье смотрела на машину – та спокойно стояла за ними в зарослях полыни на четырех спущенных шинах, но была изуродована почти до неузнаваемости. Крыша была вогнута, капот смят, а от разбитого вдребезги переднего стекла остались одни осколки.
Сын без умолку болтал о школе и друзьях, а Эмма пыталась подсчитать, сколько раз что-то похожее случалось с ней за последний год. Может быть, четыре, тогда это пятый. То авария, то машину в сторону занесет, то вынесет на обочину, а как-то раз, ослепленная солнцем, она сорвалась в засыпанный снегом каньон. Несколько месяцев назад машина заскользила по обледеневшей проселочной дороге и врезалась в забор из колючей проволоки. Капот оказался в чем-то вроде заранее приготовленного рождественского подарка – в терновом венце, кусок скрученной проволоки до сих пор обвивал фары. В другой раз, когда она, возвращаясь из Колорадо, ехала одна на высокой скорости, машину повернуло и завертело вокруг оси так, что ничего нельзя было поделать. Она начинала привыкать к этому ощущению – к потере контроля, к тому, что смерть всегда может настигнуть тебя. Но после стольких случаев, похожих на этот, складывалось впечатление, что смерти пока не до нее.
Со времени своей первой поездки в Теотиуакан она думала о смерти как о необходимом начале. Смерть должна привести к трансформации, к истине. Трансформация оказалась куда более рискованным предприятием, чем она предполагала, а для того, чтобы постичь истину, ее скромных способностей, очевидно, не хватало. После встречи с доном Мигелем ее словно забросило совсем в другой мир. Все пути вели внутрь, и все дороги казались ненадежными. Здесь все было нелогичным. Любовь здесь была уже не чувством, а всеми чувствами, вместе взятыми. Погода здесь менялась каждую минуту, и нередко ее настигал целый тайфун переживаний. Она плакала без причины и смеялась без повода, как будто плач и смех – это одно и то же. Она стала скрытной и молчаливой, собирая прозрения, как сумасшедшая у костра. Когда она бодрствовала, на нее нисходило множество новых ярких откровений. Ее ночные сны были населены разной публикой: старыми ведьмами, злодеями и безликими добродушными наставниками. Через ее видения проносились змеи, они шипели и нападали на нее, кусали за лицо, руки, ноги. С ней разговаривали крокодилы, давая ей советы и вежливо предупреждая. Древние символы обретали в ней новую жизнь. В видениях она обдумывала путешествия, паковала сумки, опаздывала на поезда. И всюду, что наяву, что во сне, был хаос.
Она не знала, как долго может продлиться этот период дезориентации и закончится ли он когда-нибудь вообще. Видимо, раз уж она согласилась на перемены в своей жизни, хаос был неизбежен и ей нужно было приготовиться к долгому пути. Необычное стало теперь обычным. Она устала от неприятностей с машиной, устала спотыкаться и лепетать, но, похоже, ей нужно было заново научиться двигаться и говорить. В мгновения чистого чуда – а чудеса продолжали происходить – она отказывалась от желания знать.
Эмма вздохнула и отшвырнула жевательную резинку. Ее сын показывал на кролика, выглядывавшего из-за зарослей лебеды. Сын перемахнул через пыльную дорогу, чтобы лучше рассмотреть его, и спугнул зверька. Из кустов неподалеку взлетел беркут – золотой орел. Некоторые назвали бы это добрым предзнаменованием. Сегодня она, пожалуй, согласится с ними. День был хороший – не важно, что произошло. Но, еще раз взглянув на машину, она подумала, что, может быть, ее друзья беспокоились не понапрасну. Одно дело – впустить в жизнь нарушение привычного порядка, и другое – рисковать безопасностью сына. То, что произошло сегодня, – это уже слишком.
– Она права, hombre, – согласился Эсикио. – Это уже чересчур.
– Старина, я не виноват, – стал защищаться Гандара. – Это другие сущности поработали – мерзкие, презренные существа. Ты же знаешь, как это бывает.
– Я бы этому поверил, когда был живой, – с насмешкой сказал его товарищ, – но теперь-то мы по другую сторону, Гандара. Посмотри вокруг. Ты видишь какие-нибудь сущности?
– Тут только ты и я, – признал тот, пожимая плечами.
– Только ты да я, и то мы всего лишь фикция из видения.
Гандара, по-видимому, обиделся. Он с силой обеими руками хлопнул себя по животу.
– Разве это похоже на видение, padrón?[45] А ну потрогай!
Он хотел взять Эсикио за руки, но тот пошел прочь. Дорога вела на юг, к поросшим сосной холмам, и Эсикио направился в их сторону. Над ними, поперек их пути, с криками пронесся орел.
– А ну-ка потрогай видение, трус! – не унимался Гандара, догоняя друга.
– Нет никаких мерзких сущностей, старик, есть только ты, – сказал Эсикио, когда приятель поравнялся с ним. – А ты всего лишь мысленный образ и опасен не более, чем образ.
– Но и не менее, – пытаясь отдышаться, сказал Гандара. – Не менее опасен.
С этим не поспоришь, подумал Эсикио. Он почувствовал раздражение и не стал больше ничего говорить. Ему хотелось, чтобы из их предприятия что-нибудь вышло. Он хотел, чтобы Мигель почувствовал, как страдает эта женщина, чтобы это снова взяло его за душу. Ему хотелось, чтобы разгорелись страсти, чтобы любовь встряхнула дух человека и вернула его к жизни. Умереть несколькими смертями, несущими смысл, Эмме было полезно, но телу ее умирать было не нужно. Он расправил выцветшие кружевные манжеты на запястьях и с важным видом продолжал свой путь, поджав от досады губы. Гандара, пыхтя, с покаянным видом семенил рядом.
– Ну, я старался, compadre, – проговорил он.
– Воины умирают, не оставляя попыток, – отрезал Эсикио и замолчал.
На ходу он погрузился в размышления. Конечно, ему хотелось раздуть пламя. Разворошив эти тлеющие угольки, оживив в памяти и усилив страсть Эммы, он надеялся помочь вновь забиться слабеющему сердцу другого человека. Еще может получиться, думал он. Пылких видящих слышно во всех мирах. Что плохого, если слегка подтолкнуть прирученный ум дальше к естеству? Ведь его крики могут прорваться сквозь время. Эмма переживала перелом в своей жизни. Она переносилась с места на место, от одной истории к другой, от привычного к неизвестному. Реальное начинало смешиваться с воображаемым. Может, она и в одиночку сражалась, но каждым своим вздохом взывала к шаману. Слышал ли он ее? Помнил ли живую связь между ними? Зимнее солнце светило горячо, но со снежных вершин скатывались холодные ветры, неся с собой шлейф соснового аромата. Время лениво текло – никто не смог бы определить, летит оно или ползет. На равнину надвигались тени, а эти двое все шли. Когда они подошли к устью каньона, стало холоднее. Поколебавшись, Эсикио снял шляпу и повернул дубленое лицо к оставленным позади горам. Как изумительна жизнь на этой гостеприимной планете! Этот дружеский треп, это краткое воображаемое существование пробудили в нем такие чувства, такое желание!
Желание – начало всего, заметил он про себя. Оно предшествует любой фантазии, любому действию. Желание движет жизнью. Желание – это искра, зажигающая пламя, чего бы оно ни касалось – женщины, видения, существования. Когда-то жизнь почувствовала первый зов желания и ответила тем, что создала образ себя. То, чего пожелала жизнь, было тотчас и создано, а созданное, в свою очередь, возжелало жизни. Желание рождает желания. Каждое видение – неотъемлемая часть того, кому или чему оно принадлежит.
– Мы живем и дышим внутри видения жизни, – вслух произнес Эсикио.
– Ты же прежде утверждал, что ты и я существуем в видениях других людей.
– Какая разница! Все мы – последствия либидозной жизни.
– А! Понимаю. – Гандара кивнул. – Хорошо сказано. Красиво.
Эсикио широко улыбнулся, так что потрескались его сухие губы, и решительно водрузил шляпу на голову. Было время, когда для такого откровения понадобилось бы несколько недель подготовки и много бочек вина. А сейчас, с его нынешней точки обзора, для того чтобы ясно постичь что-либо, не требовалось почти никаких усилий, не нужно было никаких треволнений. Он понимал женщину, сидевшую на обочине дороги. Понимал ее жажду гораздо лучше, чем она сама. Она жила по правилам мастера нагуаля и теперь была его добычей, намеченной для треволнений. Она принадлежала ему – не важно, близко она от него или далеко. Она ощущала его поддразнивание, уговоры и его бесспорную любовь. Может быть, все-таки из далеких коридоров этого воспоминания и до Мигеля дойдут ее чувства.
Видя теперь все в более благоприятном свете, Эсикио шел по проселочной дороге легким, неторопливым шагом. При любом раскладе он доволен был ролью, которую играл в этой экспедиции. Два старых друга снова сошлись, чтобы порезвиться среди живых и ощутить радостную сложность жизни. Он был доволен этим сновидением, гордился своим правнуком. Да, мальчишка – воин Благородного Орла, до мозга костей, размышлял он. Мигель возжег магию предков, позволив и им, двум старикам, снова во что-то сунуть свой нос. Понятно, ученики в восторге от него – гораздо больше, чем помнится самому Мигелю. Их готовность принимать участие в игре чудесна, их отвага перед лицом меняющейся реальности так вдохновляет! А Эмма ведь…
Эсикио кольнуло нехорошее чувство, и он замер на месте.
– Она с сынишкой должна как-то вернуться домой, – сказал он.
Гандара остановился, тяжело дыша, и в раздумье обернулся.
– Нет, им нужно как-то двигаться вперед, jefe[46]. Смотрящий не позволяет беде испортить веселье.
– И на чем же им двигаться вперед?
Гандара, чувствуя, что мешкать нельзя, вытер потное лицо ладонью и сосредоточился.
– А! Помнишь сына Начито? С его ржавым синим ведром?
– С синим ведром? – переспросил Эсикио. – Ты о чем?
– Si![47] Грузовик, у которого мотор вечно чихал!
– А! Ведро-монстр!
– Всю деревню видом своим пугал, – продолжал Гандара, – как дракон сказочный: клыки обнажит, дым изрыгает!
– Грузовик? Это твой ответ? Нам нужны были грузовики, когда мы Веракрус обороняли? Когда на столицу шли? Когда помогали вольному каменщику идти к славе?
– О боги! Por favor[48], хватит про генерала Хуареса[49]. Ты же знаешь, у меня от одного его упоминания ступни кровоточат.
Гандара тяжело дышал и хмурился, ум его был занят решением задачи, стоявшей перед ним прямо сейчас.
– Тогда отправь ее домой! – скомандовал Эсикио.
И в то же мгновение они услышали позади чихание и фырканье машины. Оба удивленно обернулись и увидели грузовик блекло-голубого цвета, который ехал, подпрыгивая, в их сторону. Он был как две капли воды похож на колымагу, на которой сын Начито катил через деревню почти восемьдесят лет назад. За рулем сидел маленький человечек, а на месте пассажира восседал крупный пес. Когда драндулет поравнялся с ними, водитель поднял руку в знак приветствия, оставив стариков задыхаться в облаке пыли. Вот оно. Мальчика и его мать найдут, и они смогут и дальше наслаждаться этим днем, лишенным забот.
Эсикио хотел заверить ее, сказать ей, что, после того как мир полностью переворачивается, все обретает безумно упоительный смысл, – но он сомневался, что она ему поверит. Какое-то время она и дальше будет колебаться. Она будет сопротивляться успокоению, не будет доверять простоте. Она не готова отказаться от усилий. Еще немного жестоких разочарований, еще несколько маленьких смертей – и она найдет равновесие. Истина безжалостна, но Эмма встретится с ней. Жизнь иногда выкидывает странные шутки, но унывать не в характере этой женщины. Они завлекли ее к самому краю рассудка, но рассудок расширит свои границы, как ему и положено. Он сам откалывал с ней номера – множество изумительных фокусов, – но кто дон Эсикио, как не игра света? Его поражало, как легко все получается, когда ты больше не связан материей. Но можно быть свободным, даже пребывая в материи. Когда по его жилам еще текла жизнь, он внушал людям благоговейный ужас. Тогда он и Начито – ну да, и Гандара – обладали необыкновенными способностями. Он бросил на друга восхищенный взгляд и похлопал его по спине. Они двинулись к предгорьям. Даже толстый, неуклюжий Гандара показал в свое время, каким отчаянным колдуном он может быть. Давным-давно они втроем овладели искусством покидать мир «реального» – и возвращаться. Возвращение было самым трудным трюком.
Он снова подумал об Эмме, столкнувшейся с теми же страхами, с которыми встречаются все люди испокон веков. Их страхи всегда приходят замаскированными под обоснованные вопросы: «Если я изменюсь, как я буду знать, что это я? Не сойду ли я с ума, если перестану верить? Если я зайду слишком далеко, то как найду путь домой?» Когда человек осознает себя как всё, что есть вокруг, дом становится глупой иллюзией. Эсикио тихо засмеялся. В постижении жизни нет границ. В юности он мог легко попадать из одного видения в другое. Он умел оторваться от земли, а потом безопасно приземлиться. Тогда он не испытывал любопытства по поводу всего этого – только радость, его просто захватывала сама возможность выйти за пределы. Уйти, а потом вернуться. У него было то, о чем большинство людей и мечтать не смеют. Он обладал смелостью совершить прыжок за границы знаний.
А как там дон Мигель, его наследник? Где он в этом ландшафте воспоминаний? В то время как его предки играли, а ученики упирались и дрожали; в то время как любовь звала и не слышала ответа, – что происходило с ним?
– Гандара, – вдруг заговорил он, – я хочу увидеть, как учитель действует.
– Назорей? – спросил Гандара и тут же извинился. – Disculpa[50]. Заблудился во времени, – пробормотал он.
– Мигель собирается что-то предпринять, – пришел к заключению его друг. – Уже некоторое время он что-то замышляет!
– Найти его? – нерешительно спросил Гандара. Совсем нелегким оказалось приключение. К примеру, вот в это мгновение покоя даже солнце стало припекать, а дорога пошла круче.
– Да, найди его, – ответил Эсикио, – даже если придется раскачать время.
– А выпить чего покрепче тебе тоже найти, padrón, и закусить горяченьким? – сказал Гандара. – А как насчет бабенки горячей, может, ее тоже пораскачиваешь?
– Я восхищаюсь твоей работой, amigo, – сказал его спутник, чувствуя, что обидел старика. – С грузовиком у тебя здорово получилось. Начито аплодировал бы, танцуя.
– Да-да. Начито бы понравилось, – согласился его друг. – Но вернемся к делу. Пока я буду раскачивать время, что будешь делать ты?
Эсикио снова сорвал с себя сомбреро, наслаждаясь прелестным жаром солнца. Он выпятил грудь, изображая глубокий вздох, и громко выдохнул.
– Я буду почивать здесь на лаврах, vaquero[51], – театрально вздохнул он. – На каждом из многочисленных лавров, заработанных за мою долгую и достойную награды жизнь.
Гандара тяжело вздохнул и покачал головой, глядя на стоявшего перед ним шута, – еще тот тип, но зато преданный, как никто, сородич. Нужно уважить просьбу друга. В конце концов, раз желание загорелось…
Не успел он поразмыслить о силе желания одного человека, как время уступило воле жизни и сияющее солнце исчезло.
* * *
Мигелю показалось, что он снова перенесся в катакомбы под египетской пирамидой и оказался в мире верховного жреца. Он слышал, как его собственным дыханием колеблется стерильный воздух, как оно пробивается сквозь мягкие границы времени. Под ним был холодный камень, от которого стыла спина, который звал его мозг пробудиться. Он знал, что от этого ему не проснуться.
Он открыл глаза и оглядел знакомое место. Коридор освещали факелы, отбрасывая ему на лицо беспокойные тени, а на стены – темно-красный мерцающий свет. Это были те же высокие стены, покрытые иероглифами от пола до потолка, что он видел много лет назад. И чувствовал он то же самое: ноздри его снова ощутили слабый аромат пряностей, а язык – вкус минералов. Казалось, он очутился в том же самом мгновении. Он попытался поднять голову, но это ему не удалось. Тело стало безжизненным и беспомощным. В уме все шло кругом, он снова пытался разобраться в этом видении, но не находил успокоения. Может быть, он что-то пропустил? Не понял чего-то? Может быть, он здесь для того, чтобы попробовать заново истолковать тот урок? Не в силах пошевелиться, он лежал неподвижно, ожидая, когда войдет верховный жрец в своих одеяниях.
Но никто не входил, ничего не происходило. Ярким неровным пламенем, потрескивая, горели факелы, на этот раз больше не было никаких звуков. Мигель не смог бы сказать, быстро летят часы или едва ползут. Может быть, время остановилось – ему это было непонятно. Он лежал, скользя взглядом по каменной резьбе. Вдруг его внимание привлек один рисунок, размером больше других. Он был тщательно высечен на стене и изображал историю, которую он знал. Знаки отличались от привычных ему, они были по-иному начертаны и расположены, но и их он знал. Имена этих богов и богинь были ему неизвестны, но он узнал главных действующих лиц этой истории. В частности, там было два персонажа. Один – повелитель подземного мира, Хранитель Весов, взвешивающий сердца умерших, чтобы определить, достойны ли они вечной жизни после смерти. Здесь он был изображен наполовину как человек и наполовину как волк. Второй – Великий Пожиратель, яркий образ которого сочетал в себе черты самых крупных плотоядных, известных человеку: льва, гиппопотама и крокодила. Хранитель сравнивает на чашах огромных весов сердце умершего человека и перо страуса. Если сердце оказывалось тяжелее пера, то его пожирал страшный зверь. Если же оно было легче, то ему разрешалось попасть в вечное царство.
Что определяет чистоту сердца? Мигель посмотрел на символы этого рисунка, столь блестяще придуманные и дающие такой простой урок преображения. Он целую жизнь посвятил очищению своего ума от яда. Он исследовал свое сердце, нашел в нем порчу и избавился от нее. Он вырвал из него ложь – ту ложь, которую слышал от других и в которую верил, и собственную ложь, которую использовал против самого себя. Это было его искусство – очищать ум и возвращать подлинность. Эта сцена символизировала овладение смертью, пробуждение.
Мигель снова устремил взгляд на фигуры, окруженные всеми этими сложными символами, рассказывающими историю. Он смотрел на тела животных и людей, на их одежду, маски, инструменты – все они были исполнены в приглушенных тонах и изящных формах. Этот рисунок говорил: «Наказание за пренебрежение своим долгом будет страшным. Не важно, цари мы или рабы, – предупреждал он, – от нас зависит, останемся ли мы бдительными хранителями истины. Мы и виновники, и жертвы собственной порчи. Мы боги, совершающие выбор, когда речь идет о нашей собственной свободе. Мы Хранители Весов, руководящие ритуалом, в котором взвешивается наша ложь и наша правда».
Вдруг рисунки стали расплываться. Теперь Мигель едва мог их разобрать. Наверное, его видение подходит к концу. Может быть, за мерцающим светом факелов, за темными углами этого помещения его уже ждет вечность. Да, она ждет его. Он чувствует ее близость, – кажется, она притаилась между этими вырезанными в камне символами и под каждым пятнышком краски. Она близко, она дожидается, ей не терпится встретить его. Теперь и запах специй стал улетучиваться.
Чувства Мигеля притуплялись. Он закрыл глаза и сдался, погружаясь в глубины сна. Дыхание его успокоилось, пульс постепенно замедлялся, стал едва ощутимым и замер. Все хорошо. Вечность ждет его.
– Он умер?
В помещении было тихо, но эти слова, произнесенные так негромко, эхом, как жуткая пародия, отдались от его гранитных стен. «Он умер? Он умер? Он умер… умер… умер?»
Женщина, стоявшая на коленях рядом с телом Мигеля, держала его за запястье, пытаясь нащупать пульс. Пульса не было. Она наклонила левое ухо к его губам. Он не дышал. Один из мужчин тоже стал на колени рядом с ней и проделал то же самое. Затем он положил голову на сердце Мигелю. Пролежав так не меньше минуты, он сел и посмотрел на остальных. «Сердце не бьется», – говорило его лицо. Немедленно начался переполох.
– Нет! – задыхаясь, вскрикнул кто-то, и в усыпальнице снова закудахтало эхо.
«Нет! Нет… нет… нет!» На этот раз зашевелилась вся группа учеников – все враз заговорили, стали что-то выяснять, кричать. Еще несколько человек склонились над телом Мигеля, трогали его, звали, даже трясли, чтобы разбудить. Женщины заплакали, мужчины беспомощно пытались понять, что происходит.
Шел второй день поездки их группы в Египет. Тем утром они поехали к Великой пирамиде. Полные возбуждения, они предвкушали частную экскурсию по самому таинственному из чудес света. Гробница фараона Хеопса расположена высоко внутри Великой пирамиды Гизы, в так называемой Камере Царя. Это большое прямоугольное помещение, облицованное полированным гранитом, и внутри его нет ничего, кроме саркофага. Он лишен великолепия царской усыпальницы, но нельзя отрицать, что от него веет тайнами высочайшего владыки – и какой-то опасностью, которую невозможно определить. У Камеры Царицы, расположенной гораздо ниже, почти посередине этого гигантского сооружения, вид более величественный и куда менее зловещий. Она даже казалась гостеприимной.
После того как они собрались у основания пирамиды, а потом вошли через пролом в наружной стене и начали свое торжественное шествие по ее коридорам, освещенным неверным светом, у участников группы было ощущение, как будто их ждут здесь с распростертыми объятиями. Их благоговейный шепот поднимался по невидимым тоннелям и многократно повторялся в каждом помещении. Священный трепет учеников был встречен благожелательно – во всяком случае, так им казалось. Радостное настроение словно неслось впереди них, желая изменить это место, изменить сам ход истории. В то утро пирамида была закрыта для обычных туристов, и группе было разрешено исследовать ее чудеса, ни на что не отвлекаясь и в своем темпе. Никто не понимал, как это получилось, но между ними само собой разумелось, что в мире дона Мигеля возможно всё. Стоит ли выяснять почему? Сегодня доступ в Великую пирамиду открыт только для них, сегодня это в порядке вещей.
Но внезапно, как только Мигель привел их в усыпальницу фараона Хеопса, все перестало быть в порядке. Все было не так, как должно было быть. «Что произошло, из-за чего все изменилось? – ломали они головы. – Что они упустили?» Все набились в склеп, каждый, впитывая его настроение, нашел себе место, где можно было стоять или сидеть, а Мигель, держа руки за спиной, обошел его по периметру, касаясь высоких стен и рассматривая потолок. Казалось, ему знакомо это место – или какое-то место, похожее на него, – и он что-то припоминает. У некоторых возникло ощущение, будто он приветствует старых знакомых. Обойдя помещение, он подошел к саркофагу и постоял возле него. Затем, не говоря ни слова, лег на пол, закрыл глаза и скрестил руки на груди. Его ученики, привычные к ритуалу видения, смежили веки вместе с ним. Они не думали, что что-то должно произойти, – они просто ждали.
Они всё ждали и ждали. Но не было ни звука, ни движения. Тогда одна из женщин наконец стала на колени рядом с ним и что-то прошептала ему на ухо. Ответа не последовало. Тогда она решила проверить пульс…
– Не существует верного способа определить, правда ли человек умер, – заявил Гандара, наблюдая за происходящим из глубины помещения. Он произнес это четко, но не было ни эха, ни отклика толпы. – Поверь мне, – добавил он, качая головой.
– Поверить тебе? – Эсикио стоял прямо за ним. – Да ты меня чуть живьем земле не предал несколько десятков лет назад!
– Я знал, что ты еще жив, – взвился его друг. – Знал. А то зачем бы я откладывал похороны?
– Ничего ты не откладывал! Ты оставил меня валяться на ступеньках церкви, чтобы меня нашел и похоронил падре Кричалес! Ты удрал от смерти, как напуганная девчонка!
– Но это же просто смешно!
– Это ты смешон! – сказал Эсикио, повышая голос, чтобы перекричать учеников. Те столпились вокруг Мигеля, очевидно скончавшегося, и засуетились. – Так же как сейчас смешны эти люди, – добавил он.
– Ах, эти люди! – подхватил Гандара, он рад был переменить тему. – У них для чудес характера не хватает. Нет у них…
– Терпения, – категорично заявил Эсикио. – Терпения им не хватает. Мать Мигеля подождала бы. Сарита пошла бы на кухню, да приготовила пока для всех posole[52], а сына оставила бы сновидениям.
– У меня такая мать была, – нараспев произнес Гандара. – Лучший друг шамана. – Он повернулся к Эсикио и улыбнулся. – Фелия, жена моя, никогда бы мне такого не позволила. Никакой свободы не давала – при ней не забалуешь. Пилила меня вечно: «А кто кукурузу и перец покупать будет? Кто воды из колодца наберет?» Прямо изводила меня. «На что семья жить будет, если ты все время умираешь?» Постоянные вопросы, все ей не так! Мать терпеть ее не могла.
Два старика молча наблюдали за тем, как люди теснились вокруг тела, суетились, шептались, после того как пошел на убыль первый взрыв чувств. Египетский гид побежал за помощью, и, похоже, почти ничего больше нельзя было сделать. Наконец затих и шепот, слышны были лишь приглушенные рыдания, кто-то пытался сдержать слезы.
– Постой! – вдруг опомнился Гандара, подозрительно посмотрев на своего спутника. – Я думал, мы договорились, что ты будешь почивать на лаврах.
– Ни о чем я не договаривался. Я хотел найти учителя нагуаля – и нашел. – Он показал на людей, толпившихся в комнате, затем посмотрел озадаченному другу в глаза. – То, что он делает, касается всех. То, что он видит в своем видении, влияет на все.
– Я сам справлюсь, viejo, – заверил его друг, слегка толкнув локтем в ребра. – Возвращайся в горы, своди мир с ума. Ступай. Веселись.
– Мир подождет, – сказал Эсикио. – Я хочу увидеть, что произойдет здесь.
– Он или умрет, или нет. Что еще?
– Значение, hombre. Я хочу понять значение того, что здесь происходит.
– Нужно ли нам искать скрытый смысл во всем этом? – проворчал Гандара. – Мы живем. Смеемся. Почему во всем этом должен быть какой-то смысл?
– Смысла в этом нет, – резко ответил Эсикио. – А вот значение – это другое.
– Ему придется заплатить за это, если это имеет значение.
– Я хорошо помню: за умирание расплачивается тело.
– Amigo, на ступеньках часовни тебя оставил Начо, а не я.
– Ага! Вот как!
Эсикио повернулся к другу, глаза его зло сверкнули.
Вдруг одна из женщин ахнула. Кто-то закричал, толпа отпрянула. Сквозь движущуюся массу людей старики увидели, как Мигель открыл глаза и медленно сел. Три женщины поспешили помочь ему подняться и принялись подбадривать его.
– Молодец, m’ijo, – едва слышно проговорил Эсикио.
– Посмотри на его лицо! – воскликнул Гандара. – Он не понимает, что тут было. Могут ли они быть уверены, что он и вправду жив?
– Ну, они могут положить его в яму и набросать ему на лицо земли.
– Поверь мне, это был Начито.
– Врешь! Я очнулся и видел тебя…
– Тише!
Мигель уже стоял на ногах, слегка касаясь рукой каменного саркофага, успокаивал учеников и жестами приглашал сесть. Все притихли. Несколько минут он молчал. Большое помещение будто сомкнулось вокруг них, заглушая любой вздох и малейшее движение. Мерцающие стены освещали их застывшие в ожидании лица, и, казалось, сама пирамида затаила дыхание, приготовившись слушать. И вот дон Мигель заговорил. Черные глаза его сияли, голос звучал мягко и ласково.
– Слушайте меня внимательно, – начал он. – Пусть вас не отвлекают ваши истории. Не верьте тому, что, как вам кажется, вы знаете, или тому, что другие хотят вам сказать о том, что происходит.
Голос его, низкий и звучный, словно доносился из чрева земли; заставляя дрожать гранит, он тек по магистральным артериям пирамиды, и ее массивное тело отвечало ему гулким отзвуком. Сверху слабым неясным шумом отзывались потайные камеры. Прошлое шептало за гранитными стенами, которые были расцвечены золотыми нитями. Гробница фараона словно заново обрела былое царское величие.
– Я хочу, чтоб вы знали: я всегда буду с вами, – сказал он. – Покуда вы живы, пока способны слушать, я не покину вас. Я вернусь. Я приду снова – и снова, чтобы нести послание жизни.
– Вот, – прошептал Эсикио.
«Выпутаться из паутины знаний», – проговорил он про себя. Таково правило – и вот оно выполнено.
Мигель продолжал говорить с каждым из умов, со всем, что могло ему внять, хотя казалось, что он не обращается ни к кому и ни к чему в отдельности. Глаза его блестели, но то, что он видел, было не здесь. Он смотрел сквозь гладкие гранитные стены и, паря над трепетом этого хрупкого мгновения, различал то, что находилось за пределами мира материи.
* * *
Помню те ощущения, что охватили меня, когда я сдался давно покинутому видению и, вместо того чтобы погрузиться в него, взмыл над всеми видениями. Переживая этот опыт заново и видя его со всех сторон, я чувствую тихую безмятежность. Ту поездку в Египет я совершил из-за некоторых тяжелых событий, в том числе из-за еще одного длительного путешествия в Перу. Накануне отъезда ночами мне начали сниться зловещие сны, наполненные образами старых богов и демонов – символов Древнего Египта. Очевидно, мой ум пытался разобраться в давнем коллективном видении, ныне стершемся из памяти, исчезнувшем для ушедшего вперед человечества. Я не собирался воскрешать это сновидение, запрятанное глубоко в хранилище человеческой памяти. Но я понимал, что уже самим фактом поездки в Египет вызову к жизни эпизоды древних мифов, которые могут подвергнуть меня испытанию. Я принял меры предосторожности и высказал пожелание, чтобы самые близкие мне люди остались дома. Эмму я попросил не ехать со мной и посоветовал ей побыть это время как можно дальше от меня как физически, так и эмоционально.
Так в то время была выстроена реальность в моем воображении, и все, кто меня окружал, были частью этой реальности. Ученики вошли в мое видение по собственной воле, и соответствующим образом изменились правила реальности. В царстве моего видения люди принимали язык и логику дона Мигеля. Я пользовался шаманскими символами, и они следовали моему примеру. Они говорили на языке, основанном на этих символах. Эти символы, как и у меня, вошли в их жизнь и в их видения. Мое учение менялось, и я изменял символы, чтобы они соответствовали моему новому подходу к осознанности. Тот, кто шел в ногу с изменениями, оставался рядом со мной, а некоторые серьезные сдвиги в видении обогащали учение. Те же, кому перемены не нравились, уходили.
Все шаманы отличаются друг от друга, но их ученики попадают в видение шамана сходным образом. Укрывшись под его заботливым крылом, они находят его поддержку и возможности для роста. В моем видении уважение – это все: уважение к себе, к другим и ко всему творению. В моем видении нет места страху, в нем все способствует безусловной любви. В таком расположении духа мы отправлялись в каждое путешествие – и в ту поездку в Египет тоже. Какие бы ни были у моих учеников заботы или неприятности, они разбираются с ними и двигаются дальше осознанно.
Мы с группой прибыли в Каир. Все шло хорошо. Я получил разрешение на частную экскурсию по Великой пирамиде Гизы, а оттуда мы должны были продолжить свой путь вниз по течению Нила. Как только мы вошли в пирамиду, мне стало спокойно и легко. Грандиозное сооружение окутало нас, как утроба матери, и видение древнего народа стало мне знакомым и близким. В Камере Царя я пережил нечто, похожее на мое состояние в давнем видении, в котором со мной разговаривал верховный жрец. Я начал понимать это место, понимать ту человеческую драму, которая разыгрывалась здесь в древние времена. Я лег на пол усыпальницы и сдался. В тот миг я словно стал видением самой жизни.
Когда мы говорим о теле, уме и духе, то создаем вводящие в заблуждение разграничения. Существует только жизнь и бесчисленные точки зрения жизни. Отстранившись от конкретного места, обстоятельств и времени, я больше не был связан своими ощущениями. Я был – вот и все. Что это значит – видеть с точки зрения жизни? Что значит быть бесконечным в настоящем мгновении? Наверное, об этом невозможно рассказать, но это можно испытать на собственном опыте. Люди говорят, что тогда, в гробнице, я был мертв, – но ведь это просто представление, созданное мозгом, материей. Умер? Ушел? Покинул тело? С точки зрения жизни, эти понятия, как и все понятия, несущественны. Тот случай можно назвать прообразом моего неизбежного перехода. Я не был мертв тогда, не умер я еще и сейчас, но мое желание узнать, что такое смерть, удовлетворено. В путешествии от бесконечного потенциала в видение материи и формы, а потом обратно к бесконечному потенциалу нет ничего страшного. С точки зрения жизни, ничего особенного не происходит.
Но с точки зрения материи, происходит что-то совершенно ужасное. Материя недолговечна и подвержена постоянным изменениям. Кто бы мы ни были, к какому бы роду ни принадлежали, мы видим реальность с точки зрения материи, даже если мы достаточно осознанны и понимаем, что мы – это нечто большее. Наши представления о жизни и смерти – и обо всем остальном – существуют в видении материи.
У материи мощная память – мы это знаем по своему мозгу. Мозг запоминает независимо от того, хочет этого ум или нет. Память в огромной степени влияет на способ нашего восприятия и на наши убеждения, но это всего лишь одна из функций органического механизма, чьих возможностей не счесть. Чувства, язык, интеллект – все это функции материи, как и эмоции, настроения, инстинкты и интуиция. Я хочу подчеркнуть, как сложна природа физического тела, и пояснить: развитие нашего восприятия соответствует эволюции самой материи. Степень развитости материи можно измерить тем, как она реагирует на свет. Эволюция человека непосредственно связана с изменением сложности нервной системы и ее чувствительности к свету. Свет – это вестник жизни и ее первое проявление. Наверное, это звучит как очередная история, но так, собственно, оно и есть. Я пытаюсь облечь в слова то, что почти невозможно ими выразить, и так поступает каждый, кто ищет истину, используя символы. О свете и вестниках жизни рассказано немало историй, до сих пор живущих в памяти человечества, но мы склонны привязываться к самой истории, вместо того чтобы увидеть истину, которую она пытается до нас донести.
Скажем так: жизнь – это непознаваемое бытие, сила, которая не может быть названа словами. Можно сказать, что, прежде чем начала существовать материя, был лишь потенциал существования. И вот вдруг этот потенциал, или абсолютная сила, вынужден воспринимать, смотреть. А когда смотришь, возникает две точки зрения – видящего и видимого. Механизмом, соединяющим эти две точки зрения, является свет. Как ребенок, заглядывающий в замочную скважину, жизнь смотрит вокруг, и свет показывает ей Вселенную. Между главными действующими лицами этой истории нет никакой разницы. Нет различия между жизнью, тем, что она видит, и тем, посредством чего она видит. Чистый потенциал превращается в чистое восприятие. «Замочные скважины» есть повсюду, и вид из них один и тот же. Жизнь видит саму себя.
В том опыте, который я пережил в египетской пирамиде, не было ничего странного. Я погрузился в видение, а затем оказался вне видений, вне времени, в вечности. Когда я сказал ученикам, что вернусь, я говорил не как Мигель, а как чистая сила жизни. Жизнь всегда здесь с предложением нового начала и возможности иного разговора. На сердце у меня было легко. Оно стало невесомым, избавившись от гнетущего бремени знаний и тирании рассказчика. Когда я проскальзывал в тот день мимо смерти, мне было понятно послание жизни. Я не чувствовал никакой угрозы, у меня не было ощущения конца или начала. Пожалуй, тот день в Камере Царя был предзнаменованием последнего сдвига в моем сознании.
Этот сдвиг произошел два года спустя в Теотиуакане, когда я понял, что мое физическое тело скоро не сможет мне больше служить. Оно будет не в состоянии долго существовать с постоянно расширяющейся и усиливающейся внутри его силой жизни. А через неделю у меня действительно откажет сердце, и, так или иначе, тот Мигель, которого я знал, – и тот Мигель, образ которого рисовали себе другие, – умрет.
19
– Я хочу играть! – закричал Хосе на брата.
– Отстань! – отрезал Мигелито. – Играю я.
– Но игра и моя тоже!
Хосе попытался выхватить у брата пульт управления. Мигелито было двенадцать лет, и он был крупнее, но Хосе как-то раз удалось повалить его на пол. Он готов был повторить свой подвиг.
– Это мой рождественский подарок, – огрызнулся старший брат. – Вот я и играю.
– Да ладно тебе! Давай я буду Луиджи[53].
– Я тоже хочу играть! – заканючил маленький Лео, добавляя шуму.
– Эй, что происходит? – спросил их отец, заходя в дом Марии за сыновьями. – Вас с улицы слышно.
– Пап! Я играть хочу!
– Тебе нельзя! – крикнул на него брат.
– Во что играть? – спросил Мигель.
– В «Супер-Марио», папа.
– «Nintendo»![54] Нам же обоим ее подарили!
– Почему это ему нельзя играть? – спросил отец.
– Потому что я играю.
– Мне можно! Мы можем вдвоем играть!
– Это правда? – спросил Мигель.
– Да! – сказал Хосе.
– Она сейчас не в режиме Луиджи, слышишь, Луиджи, – простонал его брат.
– Вот видишь, пап? Я Луиджи – он меня так назвал! Пусть даст мне поиграть!
– Я хочу поиграть! – вторил ему Лео.
– Что это за игра? – спросил отец, подсаживаясь к старшему сыну.
– Ой, ну как я тебе объясню? – опять со стоном отозвался Мигелито. – Она очень сложная.
– Все просто! – возразил Хосе, запрыгивая на колени к отцу. – Марио и Луиджи идут в Грибное Королевство, чтобы спасти принцессу Олдскул.
– Мордстул.
– Им нужно спасти принцессу, но плохой парень пытается их убить.
– Меня, – поправил его старший брат. – Он пытается убить меня.
– И меня тоже, если меня играть пустят.
– И что вы должны делать? – спросил Мигель, уставившись на экран.
– Мне нужно пройти отсюда сюда – видишь этот флагшток? – так, чтобы меня не убили.
– Я могу помочь! – настаивал Хосе.
– Почему ты не хочешь, чтобы он помог тебе? Он же твой брат.
– Он не умеет.
– Я тоже не умею.
– И я не умею! – присоединился Лео, переползая через спинку дивана, чтобы поглядеть, как идет игра.
Его маленькая рука потянулась к пульту, но тут же получила шлепок.
– У вас есть оружие? – спросил отец. – Армии? Какие-нибудь стратегии?
– Он один, – сказал Хосе, – но я мог бы…
– Видишь маленькие блоки с вопросительными знаками? – показал его брат на экран. – Там всякая ерунда, которую я могу использовать против…
– Там монеты и классные штучки, – возбужденно перебил его Хосе. – А еще там грибы! Покажи ему!
– Вот от этого гриба я становлюсь больше и сильнее.
– А еще можно получить бессмертие!
– Жизни, дурак, – сказал его брат, закатывая глаза. – Я получаю дополнительные жизни. Понятно? Папа, он не понимает.
– Не называй своего брата дураком.
– А кто он? Оба они дураки.
– Я не дурак, – заявил маленький Лео, повиснув на плече у отца.
– А ну-ка, ребята, покажите мне, как тут все происходит, – спокойно попросил Мигель.
– Пап, давай я покажу! – вызвался Хосе, радостно подпрыгивая.
– Давай я покажу! – собезьянничал Лео.
– Показывать буду я, – в очередной раз простонал Мигелито. – Папа, в этой игре восемь миров и в каждом несколько уровней, и, чтобы победить, я должен пройти их все. Но это правда очень трудно.
– Только не для меня! – воскликнул Хосе.
– На последнем уровне каждого этапа…
– Каждого мира, дурак, – поправил его брат.
– На последнем уровне я должен сразиться с Баузером[55] или кем-нибудь из его компании. Видишь, какие они большие?
– Я знаю, как с ним сражаться!
– А если я найду отводную трубу…
– Или звезду!
– …то могу перескочить через несколько этапов, – продолжал Мигелито. – В смысле, миров. Но это трудно. Эти гады все время меня уничтожают. Один раз я в этой подводной штуке утонул.
– Да-а, – протянул Хосе, наморщив лоб.
– Ух ты! – сказал Мигель, и лицо его оживилось. – Да это же совсем как в жизни!
– Нет уж, в моей жизни не так, – ответил ему старший сын. – Разве что есть у меня тупой братишка Луиджи.
– Хосе Луис, дурак!
– А ну-ка хватит! – строго сказал им отец. – Так у всех в жизни. Мы рождаемся в игре, в которую не знаем, как играть.
– В игре?
– Я про человеческую жизнь. Да, это игра. В ней много правил, как и в этой. Помните все эти правила, что вас заставляли учить с тех пор, как вы родились? Разве не нужно было учиться самим ходить на горшок?
– На горшок! – Лео скатился с дивана и, хохоча, упал на пол. – На горшок!
– Вы должны были делать то, что вам говорили родители, – продолжал Мигель, – и то, чему вас учили в школе, правильно? Жить гораздо легче, когда знаешь правила и умеешь вести себя в обществе. Жизнь становится лучше, если научишься чистить зубы, ложиться спать вовремя и будешь помогать маме. Ваша жизнь будет лучше, если вы получите образование и хорошо выучитесь какому-нибудь делу.
– Ну… – произнес Мигелито. – В этой игре, если меня убьют, я могу жить снова. Она дает мне сверхспособности. А если я сорву Огненный Цветок…
– Огненный Цветок! – крикнул Хосе. – Бабах!
– Ладно, – сказал их отец. – В жизни тоже есть полезные стратегии. Если вы обретете осознанность, то будете видеть то, что другие не видят. Если вы будете верить в себя, то вам будет все равно, что о вас думают другие. Это и есть сверхспособности.
– Я не стану больше, если съем Красный Гриб.
– Красно-желтый, – поправил его брат.
– Ты станешь сильнее, если будешь есть меньше яда, – с улыбкой ответил отец.
– Папа…
– Я серьезно. Есть секреты, которые помогают жить лучше. Вы сами должны их для себя открыть и потом пользоваться ими. Мастером можно стать только на практике.
– Шмактике? – раздался голос с пола.
– Нужно использовать знания, чтобы открывать каналы взаимодействия. Вот хорошая стратегия. Когда проявляешь к людям уважение, они впускают тебя в свою жизнь. Вот в чем сила и способности. Когда кому-то помогаешь, ему тоже захочется тебе помочь. Это здравый смысл, еще одна способность.
– Вот насчет помощи, – со вздохом сказал Хосе. – Я тоже хочу поиграть, ну пожалуйста.
– Ты знаешь, как победить в этой игре? – спросил Мигель своего первенца.
– Ну да. Мне надо поубивать врагов и спасти принцессу, – ответил Мигелито. – Если меня убьют первым, то я проиграл.
– Вам нужно сделать кое-что важное, чтобы выиграть в этой игре, – сказал Мигель, – и чтобы выиграть в жизни.
– Что?
– Сначала нужно освоить игрушку.
– Какую игрушку?
– Игрушку? – Из-под журнального столика высунулась голова Лео.
– Ты про какую игрушку? – спросил Мигелито.
– Про этого паренька, – сказал Мигель, показывая на героя игры. – Марио.
– Или Луиджи!
– Они ведь в этой игре вместо вас, правильно? Игрушка – это вы.
– Ага…
– Выясните, что он может, какие у него есть способности и силы, – тогда вы будете знать, как преодолевать препятствия. – Мигель помолчал, глядя на лица сыновей. – В жизни вам нужно будет понять, что вы умеете, и потом стараться делать это все лучше и лучше. Вам нужно будет разобраться в себе, увидеть, какие вы. И когда вы освоите игрушку, вы овладеете игрой.
– Этой игрой?
– И жизнью тоже. Ведь это игра, и мы в нее играем. – Мигель улыбнулся, довольный тем, что они слушают, а не спорят. – Если мы не знаем правил, то не можем перейти на следующий уровень. Если мы не знаем нашей собственной силы, то оказываемся в проигрышном положении каждый раз, когда сталкиваемся с какой-нибудь трудностью. И проигрываем на всех уровнях, потому что не знаем игрушку. Мы терпим поражение от самих себя, а не от большого монстра.
– Баузера.
– Гумбы![56]
– Ну да. Они нас уничтожают, потому что мы не позаботились о том, чтобы узнать самих себя.
Мальчики снова смотрели на экран, и каждый делал для себя свои выводы. По настоянию отца Мигелито сбросил программу и настроил новую игру, в которой должны были участвовать Марио и его брат Луиджи.
– Ну что ж, m’ijos, – сказал Мигель. – Покажите мне, на что вы способны.
* * *
Теперь мои сыновья – взрослые мужчины, они больше не ссорятся из-за игрушек. Они успели достаточно показать мне, на что способны. Уроки детства помогают им становиться мудрее. Живя с возрастающей осознанностью, они учатся быть хозяевами собственной истории. Может быть, мне не суждено больше разговаривать с ними, но я верю, что каждый из них будет размышлять над тем временем, которое мы провели вместе, над тем, что я делал, и над тем, что мог объяснить только словами.
Конечно, мы всегда учим своих детей, даже если сами толком не понимаем, в чем состоит урок. Мы передаем детям все, что узнали сами, обычно даже не задумываясь, правда ли все это и какими могут быть последствия наших слов. Дети слушают, даже когда делают вид, что не обращают на нас никакого внимания. Они слушают и учатся у нас. Потом они учатся в школе, у друзей, у своих кумиров. Кроме того, они учатся у видения планеты.
Мои родители делали все от них зависящее, чтобы понять что-то о жизни и передать это своим детям. Я тоже делал все возможное для моих детей, но не всегда был рядом с ними. Мне нужно было зарабатывать на жизнь, я также много работал над тем, чтобы освоить эту игрушку – узнать вот этого человека, себя. Я создавал новые стратегии, чтобы больше узнать о человеческом уме, и из моих игр вырос дар учительства. Уча людей, я старался наилучшим образом использовать внимание. Дети сразу понимают, как важно завоевать внимание другого человека. Если вам удалось привлечь внимание, открываются все каналы взаимодействия.
Ребенком я не был обделен вниманием родителей, когда они были в состоянии уделить его. Братья же не проявляли ко мне особого интереса. Я был младшим и почти не удостаивался их внимания. Друзей моего возраста у меня было немного, и я развлекал себя сам. Ища себе разные забавы, изобретая игры, в которые мог бы играть в одиночку, я был удивлен, когда обнаружил, что могу, оказывается, обратить на себя внимание старших братьев – людей, на которых я больше всего хотел произвести впечатление. Если мне было весело, когда я играл в какую-нибудь игру сам или с товарищем, обычно первым это замечал Хайме. Он мог подсесть к нам, начать что-нибудь подсказывать. Это привлекало внимание другого брата, Карлоса, который немедленно бросался соперничать с Хайме. Увидев это, к нам присоединялся Мемин. Освоив игру, братья больше не нуждались в моем участии. Они соревновались друг с другом, а про меня вскоре забывали. Тогда я придумывал новую игру, где правила были потруднее, и происходило все то же самое. Сначала заинтересовывались Хайме и Карлос, потом Мемин. Иногда еще одному брату, Леону, тоже становилось интересно, и он вступал в конкуренцию со всеми остальными. Невзначай я наткнулся на способ заполучить драгоценный приз – внимание моих старших братьев, – а заодно и приятно провести время.
Соревноваться – в природе человека. Прежде всего, люди борются за внимание. Этот самый главный вид соперничества начинается в раннем детстве и никогда не заканчивается. Я рассказывал своим мальчишкам о древних ацтекских играх, которые разыгрывались на стадионах для многотысячных толп. Они были похожи на наши современные игры с мячом, когда соревнуются две команды и нужно, например, попасть мячом в корзину или провести его за линию ворот, но, говорят, в те времена проигравшим отрубали голову. Правда это или нет, но идея привлекла внимание моих сыновей. Ставки были самые высокие, рассказывал я им: жизнь или смерть. Наградой было продолжение жизни, и единственным средством завоевать ее был мяч. То же самое можно сказать и о коллективном человеческом видении в любые времена – там мячом служит внимание. Его нужно завоевать и удерживать любой ценой.
То же самое я говорил и своим ученикам. Как шаман я создал множество притч, которые помогали доносить учение до людей. Я придумывал разные подходы к учению. Я говорил одно и то же по-разному и в разных контекстах. Я стал зачинателем новых традиций, и с каждым разом это получалось у меня все успешнее и успешнее. Как отец я пользовался играми, чтобы привлечь внимание моих детей, но они становились старше, и делать это было все труднее. В подростковом возрасте они почти утратили интерес к моей точке зрения. Вокруг хватало других заманчивых мнений. Естественно, теперь для них важнее стали взгляды друзей, их захватывал образ жизни знаменитостей, рок-звезд и профессиональных спортсменов. Как все дети, они отворачивались от одного учителя и начинали слушать других. Пройдет какое-то время – и они вернутся, как я вернулся к Сарите.
Компьютерная игра «Супер-Марио» стала хорошим учебным пособием и для моих сыновей, и для моих учеников. Я нахожу ценность в видеоиграх, потому что с их помощью можно объяснять жизнь визуально. Вряд ли большинство ребятишек смотрят на игры под таким углом зрения, но в конечном счете в правилах любой игры можно обнаружить метафоры жизни. По мере того как мы растем и мужаем, мы открываем свои сильные стороны. Мы развиваем свои таланты в школе, на работе, на спортивной площадке. Узнавая все больше о самих себе, мы продвигаемся в жизни и переходим в человеческом видении от одного уровня к другому. Когда-то я учился в начальной школе, а потом перешел в среднюю. Затем я стал студентом, изучал медицину. Окончив институт, я стал интерном, получил диплом. Работал терапевтом, потом стал специалистом. Заканчивая каждый этап учебы, я все больше узнавал о себе, это позволяло мне перейти на следующий уровень, и я оказывался в мире новых людей, где меня ждали новые вызовы. Жизнь каждого человека похожа на видеоигру. Каждая такая игра отражает нашу действительность и то, как мы ее понимаем. Сначала нам нужно освоить игрушку.
Обычно мне удавалось привлечь внимание моих детей тем, что я встречался с ними в их собственном видении. Их интересы становились моими. Их заботы превращались в мои. Конечно, интересы и увлечения у всех были разные, и внимание каждого было обращено в соответствующую сторону. Мой сын Мигель всегда увлекался спортом. Его любимой игрой был футбол. Когда он играл, ему важно было знать не только свои сильные стороны, но и свою роль в команде, то, как он может ей помочь. Ведь побеждает не один игрок, а команда. Возможно, ему хотелось быть вратарем, но силен он был в другом. И чтобы команда была сильнее, он должен был делать то, что умел лучше всего. Если думать только о себе, то подведешь команду и она проиграет. Конечно, мы учимся этому многими способами, занимаясь самыми разными вещами – даже играя в видеоигры. Юного Мигеля также интересовали шахматы. Он всегда смотрел, как я играю со своими братьями. Не знаю, играл ли я на их уровне, но я достиг определенного мастерства, забавы ради участвуя в местных турнирах и выигрывая. Я играл в шахматы с ним, много раз играл с сыном Дхары, и это позволило мне преподать им важные уроки жизни. Шахматы – стратегическая игра, как и все другие игры. Она учила мальчиков думать на несколько шагов вперед и предвидеть реакцию на каждое действие. Она тренировала их внимание: они подмечали ошибки и пользовались теми моментами, когда внимание противника отвлекалось.
Люди живут во вселенной последствий. Каждое действие вызывает реакцию, которая иногда становится нашим наказанием. Я должен был донести это до всех моих сыновей. Важность этого урока стала очевидной для каждого из них к подростковому возрасту. Хосе я объяснял, что из-за плохой успеваемости его могут исключить из школы, а это скажется на всей его жизни. Из-за того что в документах будет написано об исключении, он будет первым под подозрением, если его когда-нибудь вдруг обвинят в преступлении. Если он отсидит в тюрьме, то к нему будет предвзято относиться общество, что вызовет новые осложнения, новую несправедливость и так далее. Таковы действия и ответные действия. В мои намерения не входило пугать – скорее я хотел, чтобы мои сыновья научились видеть на несколько шагов вперед. Человеческое видение предсказуемо, и большинства неприятностей можно избежать. Любимым зрелищным видом спорта Хосе был профессиональный реслинг. Я рассказал ему, что все это притворство, большая постановка, призванная завести публику, но что само зрелище можно сделать настолько реальным, насколько захочешь. Он понял, что, ради получения удовольствия от игры, может сам делать ее реальной. Цель любых отношений, любого увлечения и любого взаимодействия – это радость. Веселье вознаграждает нас за наши отношения с жизнью, и, чтобы не лишиться радости, мы должны смотреть на все как на игру, как на видение.
У моего младшего сына были свои интересы. Став постарше, Лео увлекся покером. Если мы не будем достаточно осторожны, азартные игры могут превратить нас в жертву, и я хотел, чтобы он понял: это всего лишь игра, от которой можно получать удовольствие, как и от всего остального. В жизни мы каждый раз оцениваем риск – стоит на него пойти или нет, но бояться не нужно. Можно заставить наше внимание служить нам. Мы можем научиться распознавать, когда противник боится, и использовать свою уверенность для изменения его стратегии. Если мы начинаем проигрывать, можно дождаться другой комбинации карт. Нам помогут стратегии терпения и спокойствия. Отличный инструмент – сдержанность, но лучшее оружие против поражения – это уважение к самому себе. Велик соблазн пойти против себя, в его основе – ложь, в которую мы верим. Во что мы уверовали о самих себе и насколько важно беречь тело, в котором мы обитаем? Куда должна быть направлена сила внимания, если не на спасение этого человека любым возможным способом? Может быть, судьба избавит нас от такого соперничества, где речь идет о жизни и смерти, как у игроков древних цивилизаций, но мы можем спасти себя от поражения тем, что будем уважать себя – всегда, в любой ситуации.
Видение планеты больше, чем мы, – это очевидно. Оно говорит устами миллиардов людей, и сила его огромна. Но мы хозяева своего личного видения. Мы стратеги и видящие собственной реальности. Важно понимать правила, которые устанавливает общество, и уважать их так же, как мы уважаем видения других людей. Тольтеки чтили право каждого человека составлять себе собственное представление о реальности и затем действовать по вдохновению. Мне всегда хотелось, чтобы мои ученики смогли найти вдохновение и, доверяя себе, стать хозяевами своего видения и спасителями своего человеческого существа. Лучшие из моих учеников полностью отдавали мне внимание и предпринимали действия, чтобы изменить свое видение. Освоив один уровень, они двигались к следующему. Действия порождали последствия. Если они решались стать счастливее, то становились счастливее. Если они задавались целью измениться, то изменения происходили. Если они по-настоящему хотели учиться – или забыть то, чему научились раньше, – то им удавалось освоить эту игрушку.
Действия давали чудесные плоды – перемены. Кто-то с радостью принимал их, а кто-то сопротивлялся. Если ученик больше не находил радости, я советовал такому человеку уйти. Мы рождены, чтобы следовать за удовольствием. Временами бывало трудно отпустить человека, в котором дремали большие возможности. Нелегко было расставаться с друзьями, но я уважал их выбор. Наградой всегда была свобода – свобода от знаний, от самих себя и в конечном счете от Мигеля. В любой момент можно было позвонить в колокольчик и уйти. Они могли отправиться домой – или играть дальше, завоевывать все новые миры и выигрывать.
20
Сын шамана, Мигель-младший, сидел у постели отца, лежавшего в отделении неотложной кардиологической помощи. Он приехал в Сан-Диего несколько недель назад, после того как ему позвонили рано утром и сказали, что у отца инфаркт. Сначала Мигеля-старшего отвезли в близлежащую больницу, где никакой специализированной помощи ему не оказывали, пока положение не стало критическим. К тому времени, когда его сын прибыл в город, отец – все еще в той же первой больнице – уже терял сознание и не понимал, что происходит вокруг. Тогда его срочно перевезли на машине «скорой помощи» в Ла-Холью[57], и там лучшие кардиохирурги страны сейчас боролись за его жизнь.
Отец был в коме, жизнь его поддерживалась искусственно, и кто-то должен был принять на себя ответственность за дальнейшее. Майк – так его обычно звали – был старшим сыном, поэтому врачи советовались с ним. Но после девяти недель комы было маловероятно, что Мигель Руис останется в живых. Любое решение, принятое в предстоящие сорок восемь часов, определило бы будущее семьи. Как мог он взять на себя такую ношу? Он, в сущности, все еще оставался юным Мигелито, мальчиком, который хорошо учился в школе и слушался родителей. Жизнь его вращалась вокруг простых вещей: девушек, игр, развлечений. Он был ребенком. Отец его, конечно, не согласился бы с этим. Они с ним часто не сходились во мнениях.
Майк всегда ощущал любовь отца, но чувствовал и его невысказанные желания. Мигелю хотелось, чтобы его сыновья продолжили его работу и извлекли для себя пользу из его учения и мудрости предков. В двадцать семь лет Майк все еще получал удовольствие от пребывания в колледже. Жил он в Окленде, вдали от родных – и вдали от всего, связанного с учением тольтеков. Много лет пропутешествовав с отцом и своими глазами насмотревшись на страсти, кипевшие в поездках по местам силы, он рад был оказаться подальше от всего этого. Он был сыт по горло шаманством. Ему опостылели мужчины, которые хотели стать мистиками, и женщины, которые хотели, чтобы их хотели. Ему осточертели ритуалы, состояния транса и вылазки в духовные сферы.
Он любил мир известного, любил видение человечества. Знания, бурный обмен идеями и мнениями окрыляли его. Отец предостерегал его от болтовни и тех чар, что накладывают на человека убеждения, но что за радость жить без своего мнения? Умы созданы для того, чтобы встречаться, разговаривать, объединяться. Он жил в мире теорий и воспоминаний. Знания были его ремеслом, а колледж – шумным рынком идей. Если б можно было, он навечно остался бы в студентах. В Окленде все учились, философствовали, ходили на свидания и выпивали. Жизнь там была проста, а мир вменяем. Там он не был чьим-то сыном. Он был парнем, у которого есть девушка, скейтборд и здоровое увлечение футболом и спортивным залом.
Майк смотрел, как поднимается и опускается грудь отца от потока воздуха из аппарата искусственного дыхания. Он никогда не видел его слабым, совсем не видел беспомощным. Он никогда всерьез не задумывался о том, что отец может умереть, но вот, похоже, настал момент, когда смерти было не избежать. Сердце Мигеля было слишком сильно поражено, отказывали легкие. Преследовавший его всю жизнь страх утонуть, кажется, в какой-то степени оправдывался. Он лежит в постели, к нему присоединена дюжина проводов и мониторов, и его легкие наполняются водой. Некоторые говорили, что пора отключить его от аппарата. Если Майк с ними согласится, то как потом он посмотрит в лицо бабушке, твердо решившей, что ее младший сын должен остаться в живых? Она ведь целыми днями молится, а ночами совершает священные обряды. Ее мир очень отличался от его мира. С мальчишеских лет он наблюдал, как она творит чудеса, исцеляет больных, проводит свои ритуалы. Не раз он помогал ей и был ее переводчиком, но научился ли он у нее чему-нибудь по-настоящему? Чем он может помочь ей сейчас?
Отец пролил бы свет на происходящее. Он попросил бы у сына полного внимания и превратил бы то, что происходит, в урок. При этой мысли Майк неловко улыбнулся. Мигель нисколько не страшился ждавшей его смерти и даже предвкушал встречу с ней, – во всяком случае, так сказали Майку. В первые часы после инфаркта отцу, очевидно, хотелось многое сказать, и он говорил с родными, друзьями и несколькими верными учениками. В те драгоценные часы, когда он еще оставался в сознании, он даже подписал бумаги о передаче своих домов и другого имущества сыновьям. Он сделал распоряжения и по поводу семейных дел – и все время смеялся, постоянно делился мудростью и любовью. Теперь он молчал. Теперь действовать должен был его старший сын.
Майку нужен был мудрый совет, но отец больше не мог его дать. Сыну нужно было поговорить со старшим, опытным человеком, но и Сарита была сейчас недоступна. Его abuela пребывала в своем собственном мире. Она сейчас воин, сражающийся с ангелом смерти… Но что это значит? Он целую вечность старался избегать ответов на такие вопросы – так как же он может представить, что там сейчас делает его бабушка и с кем она бьется в своих ночных видениях и дневных трансах? Она находится в другой вселенной, но этот реальный мир, в котором существует он, требует от него действия. Этому миру нужно, чтобы он принял решение, жить или умереть его отцу. Что скажет Сарита, если его выбор окажется ошибочным? И что тогда скажет ей он? Что может он сказать учителю, целительнице, хранительнице очага? Что он сказал бы отцу прямо сейчас?
– Да что хочешь, то и скажи, – предложил Мигель.
Он сидел в кровати. Вентиляционная трубка исчезла. На нем не было ни датчиков, ни проводов, куда-то делась вся реанимационная аппаратура, и он радостно улыбался. Он был видением собственного разума – а может быть, чьего-то еще. На нем был больничный халат и бейсбольная кепка «Padres»[58]. По воскресеньям после обеда они часто ходили на матчи вместе с Майком. Как здорово это было! Воспоминание о тех временах могло бы помочь его сыну заговорить с ним и поверить происходящему.
– Давай же, – подзадоривал он. – Я слушаю.
Молодой человек глубоко погрузился в мысли. Лицо его было нахмурено, глаза опущены, одна нога нервно подпрыгивала. Да, вспомнил Мигель, думать – это пытка. Как-то раз, уже привыкнув за многие годы обходиться без размышлений, он попробовал предаться раздумьям – и поклялся больше не повторять эту ошибку. Ломать голову – это мучение. Мигель покачал головой и потянулся рукой к босой ступне, чтобы ощупать пальцы ноги. Для этого движения не потребовалось никаких мыслей. Рассуждать – в лучшем случае бессмысленно. Конечно, для думающего все это имеет смысл – так пьяному кажется вполне разумным опрокинуть еще рюмочку текилы. Годами глотая яд, человек начинает верить, что это лекарство, что это друг, на которого можно положиться, и уже дня не может прожить без него. Но, оказывается, вполне можно жить без яда. Любой легко проживет и без раздумий, без постоянного гудения слов и объяснений. Люди способны жить без шума у себя в голове, без его эмоционального осадка. Он много раз говорил об этом сыновьям, но каждому из них необходимо начать собственную войну с этим шумом. Им нужно вступить в свое сражение со знаниями и победить. В конечном счете они должны будут слушать, но не верить.
Глядя на своего мальчика, первенца, Мигель грустно улыбнулся. Тяжело было смотреть, как страдает сын, но он не осуждал его. Из него изливалась только любовь, словно река, впадающая в море. Он любил Мигелито с самого его рождения, с того мгновения, когда подхватил малыша и поднял к небу, гордо объявив Вселенной о его появлении. Эта любовь всегда была с ним, какие бы перемены ни происходили. Он любил его, несмотря на все их расхождения во взглядах, споры и расставания. Он и сын давно жили порознь, но сейчас они вместе. Бывало, они не находили общего языка, но сейчас все будет по-другому. Майк хранил в своем сердце то, что Мигель говорил ему – часто и искренне. Может быть, мальчик и сопротивлялся, но он услышал отца. Внутри его сейчас есть мудрость, и она поможет ему в эти трудные дни, да и во всей последующей жизни. Любовь его отца бесспорна. Любовь, которая исходит от жизни, всегда с тобой. Отец и сын сидели бок о бок, рядом жужжали аппараты, слышно было, как тихо переговариваются медсестры. Любовь уносила прочь все разногласия и обломки воспоминаний. Мигель видел, что сын расслабился; дыхание его стало ровным, он выдохнул, и ум его успокоился. Через несколько минут он поднял глаза и встретил взгляд отца. Мигель ждал: что же увидит сын?
– Поговори со мной, m’ijo, – наконец сказал он сыну, но ответа не последовало.
Слишком далеко они друг от друга, сделал он вывод. Даже при самых лучших намерениях, даже с бейсбольной кепкой на голове его присутствие слишком неуловимо, слишком труднодоступно – так что пусть это расстояние преодолевает любовь. Он наслаждался, глядя на своего чудесного сына, он так рад был его видеть. Он понимал, что сейчас происходит в душе молодого человека, понимал его тревогу, его страх и успокаивал ум, настойчиво требовавший ответов. В своей шаманской практике он не раз проделывал это. Он мог стереть все болезненные раздумья и опустошить ум ученика. Тот вначале чувствовал полную растерянность, а потом сдавался. Иногда человек мог почувствовать полный упадок сил, как животное, которое долго понукали кнутом и вдруг перестали. Конечно, это были лишь краткие мгновения. Они приходили к ученику совсем ненадолго, но оставляли в нем вкус свободы, которую он может когда-нибудь обрести без чьей-либо помощи.
Он хотел, чтобы его сын действовал свободно и верил себе до конца. Не нужно тревожиться. Не нужно раздумывать. Любое решение будет хорошим, любое действие будет действием жизни. Вера в себя – это вера в жизнь, и не важно, каким будет исход. Может быть, им не суждено больше разговаривать друг с другом, но память о сказанном и о прожитом вместе останется жить в Майке навсегда. Он будет помнить, как весело им было, как они гуляли всей семьей, как ходили на бейсбол. Он не забудет уроки братьев «Супер-Марио» – освоить игрушку, чтобы победить в игре.
– Пора, hijo[59], – сказал Мигель. – Ты знаешь, на что способна эта игрушка. Теперь пора осваивать жизнь.
Он улыбнулся мальчику – теперь уже мужчине, принимающему решения, от которых зависит жизнь семьи, и готовящемуся воплотить тайную мудрость в действие. Магия – это естественное движение жизни, а то, что сейчас происходило между отцом и сыном, было не чем иным, как магией.
– Я люблю тебя, – сказал он своему старшему сыну. – А теперь слушай, и давай-ка снова сыграем.
* * *
Дон Леонардо сидел в первом ряду трибуны стадиона Военно-морской академии к северу от Сан-Диего[60], где его тезка Лео играл в футбол с одноклассниками. Мальчик, еще не окончивший школу, был до глубины души потрясен известием о том, что может скоро потерять отца. Он, конечно же, родился уже после смерти дона Леонардо, поэтому было весьма маловероятно, что между ними может существовать связь. И все же, глядя, как мальчик целеустремленно носится по грязи, увертываясь от противника и догоняя мяч, он чувствовал что-то знакомое. Да, Мигель научил его владеть вниманием. И сегодня парень умело им пользуется. Таково человеческое видение: это игра, в которой побеждаешь, потом проигрываешь – и снова побеждаешь. Мяч символизирует внимание, завоевать которое люди стремятся прежде всего остального.
Было время в жизни этого мальчишки, когда он не был слишком обласкан вниманием своей семьи. Подростком он все еще жил с матерью в Тихуане, и Марии трудно было справляться с ним. Тогда вмешался Мигель и забрал его жить с собой и Саритой. Переезд в Калифорнию означал погружение в новую среду, знакомство с иной культурой. Нужно было по-настоящему учить язык и приспосабливаться к правилам, принятым в доме отца. Его отправили учиться в школу – вот в эту самую академию. Она не так далеко от дома, но давала ему возможность расцвести без излишней опеки. Насколько мог судить старик, идея оказалась удачной. У мальчика здесь были друзья, свои обязанности, родные не надоедали ему нравоучениями. Леонардо хорошо знал, что никто из близких не был настроен против парнишки, но тому невозможно в это поверить. Дети думают, что все взоры устремлены на них, что всем лишь бы покритиковать их. К сожалению, большинство людей действительно любят посплетничать и кого-нибудь осудить, но как объяснить мальчику, что суровее всех судит себя он сам?
Сейчас Лео сидел на скамье и отдыхал, игра продолжалась без него. В руке у него было полотенце, и он с отсутствующим видом вытирал голову. Волосы у него были рыжие, неправдоподобного оттенка, как у Марии, и это удивительным образом выделяло его среди других. Друзья звали его Rojo[61], и было нетрудно заметить, что ему нравилось это отличие. Ему нравилось, что у него есть собственное видение, он с удовольствием жил в своем собственном мире. Придет время, размышлял старик, когда он больше всего на свете захочет свободы – самому совершать ошибки, терпеть неудачи или добиваться успеха без советов отца, без его покровительства, но пока еще он не созрел для самостоятельности. А сегодня, когда вокруг кричали друзья и, смягчая боль, капал теплый дождь, жизнь без папы была всего лишь опасением, тревожной мыслью, облаком, согласным повисеть над горизонтом.
Он знал, что отец при смерти, что над его собственным будущим нависла неизвестность, но рядом были его родные. Рядом была его бабушка, всегда сильная, всегда готовая утешить. С ними Майк, он сейчас совершал выбор, который необходимо совершить. Рядом брат Хосе, сторонящийся сплетен и шума. Хосе женился, и дом, в котором он жил с женой, стал вторым домом Лео. Там можно было укрыться от родных, задающих слишком много вопросов, на которые у него нет ответов.
У молодых людей никогда нет ответа, думал дон Леонардо. Сами они нечасто задают вопросы, не желая показаться невежественными, а ответов у них нет. Они хвастаются, демонстрируют презрение к взрослым – и при этом ничего не знают. Старику хотелось думать, что он-то в юности не был таким, но вряд ли это было правдой. Сам он подростком сбежал от семьи, собираясь создать новую, получше. Бежал он вслепую, на ходу строя тысячу глупых планов. Жизнь перехватывала его на каждом повороте, постоянно спасая от саморазрушения и тюрьмы. Жизнь спасла его от войны и от цепких когтей смерти. Жизнь подарила ему музыку, женщин, любовь. Жизнь подарила ему детей, а дети помогли ему лучше понять жизнь.
Дон Леонардо, отголосок старой истории, смотрел через футбольное поле на младшего сына дона Мигеля, и на душе у него было спокойно. Этот мальчик, носящий его имя, пройдет сквозь ждущие его трудности – так говорит жизнь. Он будет спотыкаться, потом благоденствовать, он все выдержит, подгоняемый попутным ветром созидания. Останется его отец в живых или нет, с этим парнем пребывает благословение. Удача коснулась его уже с первым вдохом, хотя, быть может, сам он с этим не согласится. Конечно, если он потеряет отца, то будет горевать. Может быть, он будет проклинать небеса и ночами засыпать в слезах, но даже давно умершему Леонардо ясно: мальчик благословлен.
Лео тем временем вернулся на поле, его рыжие волосы, мокрые от дождя, блестели. Из-под его ног летела грязь, обрызгивая его от лодыжек до ушей, он кричал товарищам по команде, требуя удара по мячу. Правильно, думал старик, кивая. Награда – это внимание. Куда сейчас направлено твое внимание? Куда оно переместится, если твоя жизнь вдруг изменится? Сосредоточишь ли ты его на жестокой несправедливости или отдашь его благодарности? Да, благодарности – за те многочисленные богатства, что дает тебе существование, за любовь, которую тебе дарят так щедро и без всяких условий. То, как ты откликаешься на внезапные перемены в жизни, имеет огромное значение и в конечном счете превращает своевольного мальчика в благочестивого мужа.
Дон Леонардо встал и стряхнул капли дождя со своего костюма кремового цвета, довольный тем, что побыл здесь. Конечно, жизнь человеческая определяется не одними только воспоминаниями. В настоящем всегда присутствуют возможности и тот медленный процесс, посредством которого они просачиваются и воплощаются в жизнь. Всегда есть любовь, семена которой можно посеять очень быстро, чтобы потом растить ее целую жизнь. И каждый, освободившись от ограничений детства, волен взращивать любовь в себе так, чтобы плоды ее были видны миру.
Дон Леонардо, своевольный сын своевольного отца, сошел с трибуны стадиона и неторопливо пошел с поля к желтому вечернему зареву, возвращаясь в пространство памяти, где находилась его дочь.
* * *
Мать Сарита удобно устроилась на упавшем дереве. Она любовалась кружевным покровом тумана, изящно наброшенным на холмы, наконец-то снова радуясь теплу солнца и чувствуя облегчение от того, что ногами можно опереться на землю. Путешествие ослабило ее, она могла вот-вот заболеть. Уж слишком она старалась, подчинив себя странному честолюбивому замыслу. Она дошла до самых дальних пределов рассудка, напугав близких и по ходу дела поставив под угрозу свою же цель. Да, она согласна, нужно отдохнуть, и ей это удастся. Ее снова заботливо уложили в постель, и ей снились мирные сны. Как будто желая удостовериться в том, что это действительно так, она огляделась и вдохнула влажный, прохладный воздух, довольная тем, что ей удалось вызвать в воображении такой безмятежный пейзаж.
Пока она парила в своих видениях, несколькими часами раньше заехал Хайме и застал ее все еще сидящей в большом кресле. Он осторожно разбудил ее и, прежде чем снова уйти, приготовил ей горячую ванну. Потом приходили другие родственники, но до ужина все ушли, чтобы она могла лечь пораньше. Пора было увидеть все в более ясном свете. Пора все взвесить и сделать на этот раз правильный выбор. Ее миссия должна увенчаться успехом.
Она не знала, почему очутилась здесь, в каньоне, заключенном между скалами, прорезанными вдоль и поперек первобытными пещерами, но рада была снова почувствовать себя самой собой. Место показалось ей знакомым: она вспомнила, как в юности отправлялась на целый день куда-нибудь на природу, грезя о магии и волшебстве там, где живут одни только звери. В те времена она много и далеко ходила пешком. Ей всегда нравилось быть на свежем воздухе, она любила солнце, луга, запах диких трав и летних цветов. Как хорошо было вместе с сестрами выкапывать целебные коренья, окунать пальцы ног в холодные журчащие ручьи! Они с сестрами устраивали пикники, ели хлеб с сыром, который несли с собой в потертых кожаных ранцах. Как здорово было лежать в ласковой летней траве, считать бабочек и болтать про мальчишек!
– Боже милостивый! – простонала La Diosa. – Тебе что, снова двенадцать лет? Ты что, променяла крылья на детскую юбчонку, старая ворона?
Сарита поежилась. Она не удивилась, снова услышав этот голос, но ей стало досадно, что нарушили этот чудный покой. Она вздохнула, смиряясь, и посмотрела на свою гостью. Она начинала принимать Лалу такой, какая та есть. Сарита вспомнила последний разговор с Мигелем (был ли это действительно он и его ли это были слова?) и поняла, что должна сейчас изменить свое видение. Она должна больше осознавать то, что есть, и перестать быть такой чувствительной к декорациям. Влияние этой женщины было таким же сильным, как воспоминание о ее сыне. Она чувствовала, как через нее действует его воля. Здесь он был во всем. Он жил в жарких лучах солнца и в силе этих холмов. Он наблюдал и ждал, когда все изменится в последний раз. Ее миссия должна увенчаться успехом.
– Это личные воспоминания, дорогая, – вежливо ответила Сарита. – К тебе это не имеет никакого отношения – как и к нашему делу.
– Странно, – сказала рыжеволосая. – Ты исчезаешь, безрассудно влетаешь в какой-то бред…
– Не было никакого бреда.
– А потом возвращаешься с обожженными крыльями и полным клювом детского вранья.
– Какого вранья?
– Разве ты только что не сказала мне: «К тебе это не имеет отношения», или это просто каркала старая ворона?
– Это не имеет отноше…
– Да? Почему же тогда здесь шаман?
Рыжеволосая показала на каких-то пеших туристов, пробиравшихся по оленьей тропе прямо под скалами. Сарита целую минуту вглядывалась в группку людей, прежде чем узнала своего сына – молодого человека в своей лучшей физической форме, ведущего двоих маленьких мальчиков через эти первобытные места. Их резко скрыла из виду тополиная роща, но вскоре все трое снова появились из-за нее. Впереди шел Мигелито.
– Мадре-Гранде, – удивленно произнесла Сарита.
– Кто? – спросила ее спутница.
– Мадре-Гранде, – повторила Сарита. – Это в Калифорнии. Кажется, рядом с монастырем. Он взял туда с собой Мигелито и Хосе, когда они были маленькими, – из семьи в поход отправились только мужчины. Для них это было шаманское путешествие – это чудесное воспоминание!
Значит, память все-таки продолжает слать им знаки. Не все еще потеряно. Она поднесла палец к губам, призывая Лалу к молчанию, и прислушалась. От склона холма до нее донеслось пение старшего мальчика, Мигелито. Эхо его голоса гналось за самим собой, обегая все скалы и укрытые облаками возвышенности, и возвращалось к мальчику, наполняя его восторгом. Наверное, ему тогда было лет одиннадцать, точно она не помнила. В перерывах между пением он оживленно болтал с отцом, а Хосе следовал за ними в каком-то задумчивом молчании.
– Пап, вон какая у меня сверхспособность! Я горы могу заставить говорить! – И Мигелито затянул песню, а потом подождал, когда она облетит все холмы. – Это же сила, правда? Это магия? – спросил он у отца. – Я ведь тоже волшебник.
– Да, ты волшебник, – согласился Мигель.
Он шел медленно, заложив руки за спину, стараясь прочувствовать дух этого места. Он всегда так ходил, и Хосе шел за ним точно так же.
– Сила – это скрытая энергия, – сказал отец. – То, что люди называют магией, – это сила в действии.
– В действии! – крикнул его сын.
И горы тоже крикнули:
– В действии!
Это, очевидно, послужило доказательством сказанного и безмерно обрадовало мальчика. С улыбкой повернувшись к брату и отцу, он увидел, как мимо них проносится краснохвостый сарыч, а брат, сойдя с тропы, бросается за ним в погоню.
– Па! – позвал Мигелито. – Хосе удрал, он в кустах!
Отец остановился на развилке тропы, воображение рисовало ему, куда могло привести каждое из ответвлений.
– Вот эта тропинка ведет вверх, на скалы, – заключил он. – Куда направился твой брат?
– Ага, скажет он, дождешься от него! – фыркнув, сказал старший мальчик. – Когда он что-нибудь кому-нибудь говорил?
– Тогда пошли дальше. Он нас догонит. – Он свернул на новую тропу, и сын, потеснив его, помчался вперед. – Хорошо, что ты заговорил о силе, – начал Мигель, но Мигелито уже снова кричал ему:
– Пап! Глянь! Хосе нашел ее! Пещеру!
Хосе взобрался по склону холма к стене из валунов и вошел в пелену стелившегося по земле тумана. Они едва различили маленький силуэт мальчика, скользнувший в ровную расщелину и исчезнувший в пещере. Мигель со старшим сыном побежали за ним вверх по извилистой тропинке.
– Здесь! – закричал Мигелито, добежавший до места раньше отца. – Он тут!
Тут показался Хосе, красный и возбужденный, глаза его расширились от восхищения.
– Это halcón[62] сюда меня привел, – задыхаясь, объяснял он. – Я за ним побежал.
– Спасибо, m’ijo, – сказал Мигель. Улыбаясь, он разглядывал широкую плоскую поверхность валуна, у которого они стояли. – Ну что, проведем церемонию здесь? Тут нас может найти солнце.
Мальчики воодушевленно закивали. Они повернулись, чтобы полюбоваться узкой долиной, лежавшей внизу, и все трое замолчали в созерцании и ожидании. Мимо снова со свистом пронесся сарыч. И тут великолепной вспышкой света солнце прорвалось сквозь туман и осветило их. Ребята стояли остолбенев. Отец заговорил.
– Жизнь, этот величайший художник, действует, – сказал он, – и рождается магия. Знать, что ты и есть жизнь, – это знать, что ты маг, художник, тольтек.
Шаман поднял руки и соединил ладони над головой. Он смотрел на огромный камень, и сыновья, повернувшись, увидели на плоской поверхности валуна тень Мигеля. Они в изумлении смотрели, а он начал двигаться всем телом, подобно змее, и тень зашевелилась с ним вместе. Казалось, на скале выросла огромная гремучая змея, она извивалась, дразнила их. Мальчишки беспокойно сглотнули и стали медленно повторять движения, устремив взгляды на чудовищное существо. Вместе с ними к танцу присоединились еще две змеи, а с окружающих холмов донесся треск погремушек, музыка несметного числа бутылочных тыкв. Необыкновенный ритуал продолжался: Мигель поддерживал состояние транса, и тень вдруг по-настоящему ожила. Змея прыгнула, мальчики вздрогнули и в страхе отпрянули. Бросая друг на друга испуганные взгляды, они нашли в себе мужество, свели руки над головой, как Мигель, и снова стали ритмично двигаться вместе с отцом, держась как можно ближе к нему. Чары усиливались, намеренно погружая мир в глубокий транс. Долина шипела и гремела, шум становился все громче.
– Слышите? – спросил Мигель. – Гора приветствует нас.
Сыновья мрачно кивнули, не сводя глаз со своих теней. Змеи сворачивались в клубок, изгибались, поглощенные движением жизни. Загипнотизированный собственной тенью, маленький Хосе, закрыв глаза и слыша зов магии, тоже начал танцевать под неслышные ритмы. Он тихо шипел сам себе, поддразнивая свои страхи. Небо прояснело, и его яркий белый счастливый свет растворил мальчика в себе.
* * *
Ветреным весенним утром Хосе Луис, нареченный в честь отца его отца, сидел на морском берегу в Малибу. У его ног беспокойно шумел Тихий океан, но своим внутренним оком Хосе Луис созерцал духовную пустыню. В священных повествованиях пустыня всегда была местом, где можно найти откровение и обрести истину. Вдали от общества, там, где не мешают его правила и где оно ничем не утешит, воин находит необходимое ему уединение. Никакие видимые признаки жизни не могут его там успокоить, и он встречается со своим самым страшным демоном. В пустыне, оставшись один и лишившись поддержки, духовный воин смотрит в лицо самому себе.
Хосе, второй из троих сыновей, теперь уже взрослый человек, не помнил, когда отец впервые рассказал ему об этой пустыне ума, но сейчас он готов был отправиться туда. В юности он всегда чувствовал себя отделенным от друзей и родных. Ему казалось, что он лишний в видении мира. В школьные годы он чуть не погубил себя окончательно – пьянством, наркотиками, бегством от всех, кто мог бы помочь. В то время он почти не разговаривал. Он едва отвечал на вежливые вопросы друзей. Он ничего не находил в людях, которые пытались расшевелить или заинтересовать его, и считал, что исправить что-то в самом себе невозможно. Он был пропащим ребенком, сиротой в большой семье и не мог спрятать свою боль. Он так отдалился от отца, что даже сейчас с трудом мог представить себе Мигеля таким, какой он есть. Но он помнил его мудрость. Каждую минуту каждого дня слова его отца вели войну с мыслями Хосе, в которых он сам себя осуждал. Война все еще свирепствовала, когда ему исполнилось двадцать лет, и его собственные голоса побеждали. Этот шум выигрывал битву с ним – до египетской поездки.
Хосе и Джуди познакомились во время последнего путешествия отца по местам силы в Египет и влюбились друг в друга. Женитьба спасла его, но трудности, с которыми неизбежно сталкиваешься в отношениях, вскрыли старые страхи – страхи подростка, погруженного в уныние. Эйфория и гнев, как и раньше, боролись друг с другом, и в видении, которое должно было стать надежным убежищем, разыгралась настоящая драма. И вот в одно тусклое зимнее утро пришло известие: у отца инфаркт. Дон Мигель готовится умереть и хочет, чтобы дети были с ним рядом.
Хосе в слезах вошел в палату отца и стал умолять того не покидать его в такое трудное время. Он плакал, не скрываясь, его мягкое сердце уже не выдерживало, а за его словами стоял страх. Но отец смотрел так, что он замолчал. Мигель был очень рад ему, но сейчас лицо его стало таким суровым, словно они снова оказались в кабинете директора школы. Мигель никогда не ругал детей. Достаточно было его взгляда. Он мог смотреть так пристально, так долго, что Хосе как будто опять превращался в ребенка, чувствующего одновременно вину и раскаяние. Именно такой взгляд был у его отца в реанимации, и Хосе умолк.
– Так-то ты отмечаешь смерть отца? – спросил Мигель. – Уходи! Выйди из палаты! Утри слезы! А когда успокоишься, возвращайся, я должен сказать тебе кое-что важное.
Глотая слезы, Хосе повиновался. Он вышел из здания, ища уединения, и остановился у маленького деревца, незащищенно стоявшего на зимнем холоде. Он рад был его скромному обществу. Прокручивая в голове разговор с отцом, он признал, что вел себя эгоистично. «Не оставляй меня, – плакал он. – Не умирай, папа! Я еще не готов!» Он жалел самого себя, боялся за собственное благополучие и был поглощен тем, что нужно ему самому. Он уже успел похоронить отца и покориться горю – в то время как тот сидел живой на кровати и радовался его приходу! Это все, что он может дать человеку, который подарил ему жизнь, любовь и всю силу своей веры? Так он готов отплатить своему учителю? Действительно ли так он хочет отметить жизнь отца? Слезы его высохли, в нем появилась решимость, она придала ему сил. Он оставил деревце и вернулся в палату к отцу.
– Папа, – спокойно начал он. – Я вел себя как эгоист. Я за себя боялся, а о тебе даже не думал. – Он сел на кровать и взял отца за руку. – Я буду действовать так, как учишь ты: я могу подняться над страхом. Я могу слышать голос знаний, но не верить ему, слышать, как люди распространяют яд, но не впитывать его в себя. Я готов. – Хосе посмотрел своему учителю прямо в глаза и сказал: – Теперь я с тобой.
Он помнил, как отец тогда просиял и сказал, что как раз об этом и собирался поговорить. Урок был окончен. Потом они сидели рядом друг с другом, и Мигель рассказывал, как он видит будущее сыновей, и говорил о том, как всегда любил и будет любить каждого из них.
Сейчас казалось, что этот разговор был так давно. Мигель уже два месяца лежал в коме, и врачи признавали, что надежды остается мало. Хосе старался сохранять спокойствие, не обращая внимания на собственные тревожные мысли и на разговоры родных. В эти дни он не ходил в больницу, оставался дома, старался быть веселым и присматривал за младшим братом, который был охвачен беспокойством, в чем не мог признаться.
Хосе подумал о годах своего молчания: всякие разговоры казались тогда бессмысленными. С тех пор, когда он был замкнутым подростком, узником своего личного ада, произошло много событий. Он влюбился, и это изменило его, придало ему уверенности в себе, он вдруг задумался о будущем. Он начал ценить жизнь. В нем проснулось воображение. Впервые ему очень захотелось учиться. В эти последние недели он начал слушать аудиозаписи частных занятий и открытых лекций отца. Он стал проводить собственные семинары – в ванной, для самого себя. Ему нравилось слышать, как его голос гулко отдается от кафельных стен и уносится далеко в видения будущего. Мальчик, у которого когда-то не было голоса, который ни с кем не разговаривал, наконец учился говорить. Он учился исцелять свое яростное сердце и воодушевлять сердца других.
Хосе понимал теперь, кем он был раньше: паразитом, медленно пожирающим человека, в теле которого жил. Он совершал преступления против самого себя. Он, съежившись, прятался в темноте и верил собственной лжи, но теперь у него появился вкус к истине. Он начинал любить жизнь и самого себя. Верный обещанию, теперь он был со своим отцом.
Отец, со своей стороны, тоже был с ним. В эти дни и недели тревожного ожидания были, кроме забот, и светлые мгновения. Иногда Хосе чувствовал почти радость, как будто сын с папой снова гуляли по сельской ярмарке, катались на американских горках и вместе лакомились сахарной ватой. Он не мог бы объяснить, почему так происходит, да отец и посмеялся бы, начни он что-нибудь объяснять. «Зачем спрашивать „почему“? – сказал бы он. – Просто радуйся!» Как бы то ни было, их воссоединение наполняло его любовью и мало-помалу все более глубоким пониманием жизни. Хосе научился распознавать голос знаний и подвергать сомнению их обман, но все еще иногда поддавался колебаниям и мог отступить во тьму. Пора было отказаться от внутренней борьбы, признать, что она причиняет боль. Пора было снова встретиться с самим собой.
Волны океана с шумом обрушивались на берег, как упрямые дети, требующие, чтобы на них обратили внимание. Рокот морского простора уходил вдаль, туда, где нет времени. Хосе глубоко вздохнул, дал воспоминаниям уйти и открылся всем точкам зрения. Он знал: можно видеть так, как все видит сама жизнь, и быть свободным.
Мастером можно стать только на практике.
21
Эмма обрела равновесие, ей стало лучше. Одного часа в комнате с зеркалами обычно хватало для этого. Ее утомили ликование и душевный подъем, длившиеся столько дней и недель. Ликование – в этом была какая-то тайна! С того дня, когда у Мигеля случился сердечный приступ, и до дня сегодняшнего – а прошло уже несколько недель – она чувствовала только радость. Человек, которого она любит, лежит в коме, вероятность того, что он выживет, очень мала, а она совершенно спокойна. Она скучала по его голосу, по его прикосновениям и при этом не чувствовала, что его нет рядом. Сейчас его присутствие ощущалось больше, чем за все восемь лет, что они знали друг друга. Он смеялся с ней и над ней и шутил над несчастьем. Его слова крутились у нее в голове – он учил, выговаривал, утешал. Когда она ехала в больницу и обратно, он сидел на пассажирском сиденье. Ночами он лежал рядом с ней, он улыбался ей каждое утро, когда она просыпалась. Эта непрекращающаяся радость прогоняла сомнения. Никогда прежде не чувствовала она себя лучше, довольнее, чем сейчас, – и это в такое время, когда все, казалось, пошло прахом. Никогда прежде не была сильнее ее вера, никогда еще она не жила настолько в ладу с жизнью.
Может быть, это и есть свобода? «Ты не обязана быть собой», – говорил он. Сколько раз он произносил эти слова? Они очень просты, и в то же время их так трудно понять. Сейчас у Мигеля не было обязательств быть кем-то для кого-то. Возможно, скоро он освободится и от самой материи. Может быть, скоро он вернется домой.
Думая о своем собственном видении, ставшем без него таким непрочным, она задавала себе вопрос: почему все это происходит, зачем? И почему – почему? – ей так спокойно?
– Зачем спрашивать «почему»? – услышала она родной, милый голос Мигеля.
Его не было в маленькой комнате с зеркалами – но, как всегда, он был с ней.
– Я знала, что ты так скажешь, – ответила она.
– Ты все знаешь.
– Я, как и раньше, хочу знать все, – согласилась она. – Я безнадежна.
– Надеюсь, что ты безнадежна, – улыбнулся он.
Она улыбнулась ему в ответ. Он любил называть надежду злейшим демоном ада. Ведь она манит, обольщает, но обещаний своих не сдерживает. К счастью, сейчас надежда оставила свои штуки. Эмма не надеялась на какой-то конкретный исход, у нее не было ожиданий. В конечном счете дело всегда в том, чтобы сдаться.
– Тебе понравился мой подарок, любимая? – спросил Мигель.
– Твой подарок? Ты про мою радость? Про это глупое состояние?
– Я про наследие Мигеля.
– Наследие, – пробормотала она, нахмурившись. – Наследие – это про умерших.
– Наследие – это про живых. Что остается, когда кто-то перестает существовать? – наступал он. – Что он после себя оставляет?
– То, что сегодня он сказал, – ответила она эхом припева битловской песни[63].
– Точно, – тихо засмеялся он. – То, что он сказал.
У них всегда, с первой их встречи, в голове крутилась одна и та же мелодия. Музыка – и химия жизни – стала искрой, от которой разгорелся роман между ними. Он помнил, как они, не сомкнув глаз, пели друг другу целые ночи напролет. Иногда они превращали это в игру. Один запевал и останавливался посреди песни. Последнее спетое слово становилось первым словом следующей песни – и так до тех пор, пока у них больше не оставалось сил петь и они не засыпали под какую-нибудь сотую известную песню.
– Всем вам в наследство, – сказал Мигель, – я оставляю воспоминания обо мне. У всех они разные, все это видения, созданные вами самими. Мое наследие – это учение, как бы его ни толковали. Мое наследие всем – как фонотека, где для каждого слушателя подобрана своя музыка.
– Мои воспоминания о тебе все музыкальные.
– Вот как?
– Ну хорошо, и телесные, – сказала она, испытывая сильное желание прикоснуться к нему. – И чувственные. – Было бы нечестно не включить в этот список жгучую боль, которую она испытывала, когда только влюбилась в него. – А иногда и мучительные, – добавила она.
– Я был для тебя предлогом, чтобы помучить себя, – заметил он. – Теперь это может прекратиться, любовь моя.
– Это обязательно прекратится, – сказала она, – если ты вернешься.
– О нет! – со смехом ответил он. – Ты говоришь, как Сарита!
– Но я не Сарита. Я… Я твоя…
Вздохнув, она прекратила попытки найти слово. Сейчас вряд ли имело значение, кто она. Ничем не скованная, она пустилась в плавание по морю тайны, и у нее не было ответов. Сейчас она чувствовала его любовь больше, чем когда-либо, и не понимала, как могла раньше обращать эту бесспорную любовь против себя. Какой лжи она верила все те годы, что любовь казалась ей такой опасной? Любовь, ставящая условия, – это противоположность любви, говорил он. Это искаженное отражение. Пора ей избавиться от искажений, пока он еще рядом и берет ее с собой в рай.
Глядя в зеркало, она видела женщину, которая казалась ей смутно знакомой, но была совсем не похожа на ту, которую он встретил – и вернул к жизни – много лет назад. Она увидела женщину, у которой не было истории и не было страха. И, что самое главное, эта женщина была очень счастлива, и у нее не было надежды.
– Это невыносимо, – театральным шепотом произнес Гандара, пытаясь втиснуть плечи в комнату с зеркалами, где молча сидела Эмма. – Интересно, какой магией можно заниматься с помощью этого изобретения?
– Смею думать, оно предназначено не для магии, – сказал Эсикио, скорчившись в тесной комнатке, – а для того, чтобы создавать определенное расположение духа. – Он оставил сомбреро и сапоги за зеркальной дверью, но все равно ему было неудобно, никак было не найти себе места. – Я думаю, она создает настроение.
– Скажи ей, что мое расположение духа быстро ухудшается, – проворчал Гандара. – Может, изменим ландшафт, padrо́n?
– Мы нашли ее здесь, – напомнил ему Эсикио. – На это должна быть причина.
– А, теперь к нам присоединилась причина! На мой вкус, многовато действующих лиц.
– Терпение, друг мой, – сказал Эсикио, разглядывая маленькое помещение поверх своих костлявых колен. – Тут может быть интересно.
– Тут невыносимо!
– Посмотри вокруг!
Друзья угомонились и стали думать о месте, в которое попали. А вползли они в самодельную комнатку, облицованную восемью зеркалами, мастерски вставленными в рамы из полированного дуба и соединенными с помощью шарниров. Ее можно было бы назвать предметом мебели, если бы она не была рассчитана на то, что в ней будет помещаться один человек – некто необычный, кому может нравиться созерцать мир как великолепное отражение жизни. Сейчас в этой крошечной зеркальной комнатке видны были лишь отражения ученицы. Она была здесь единственным живым существом, но отовсюду глядели ее образы. Одно отражение заключало в себе другое, потом еще одно, и так далее, до бесконечности.
Гандара весь скрючился в тесноте, но должен был признать, что пространство это придумано с умом. Он жалел, что упустил такое, когда сам учился: простые зеркала создают бесконечную вселенную. Расположившись в центре, можно увидеть реальный мир всего лишь как проекцию ума. Можно получить представление о жизни, загадочной и бесконечной, которая видна только в отражающих поверхностях материи. Здорово. Волнует и поражает. Если бы он и другие больше погружались в подобные видения, то уже в детстве могли бы добиться потрясающих результатов. Он улыбнулся этой мысли, поворачивая тучный корпус в узкой восьмиугольной коробке.
Он увидел, что Эсикио наконец устроился: лег на бок, прижавшись задом к зеркалам, но никак не находил места, куда можно было бы деть длинные тонкие ноги. Основная масса дородного тела Гандары оставалась снаружи тесной комнатки, ему удалось просунуться в нее лишь верхней половиной. Свои круглые небритые щеки он подпирал ладонями. Испытывая неудобство, он все-таки последовал совету Эсикио и внимательно огляделся, как и его друг. Куда бы они ни посмотрели, всюду было одно и то же. Эмму, которая тихо сидела, скрестив ноги, окружало несметное число ее копий, сидевших в точно такой же позе. Два друга так и сяк вытягивали шеи, пытаясь увидеть себя в этой толпе Эмм, но лишь столкнулись носами. Оба с отвращением отвернулись.
– Я говорю: невыносимо, – намеренно повторил Гандара.
– Наверно, тебе больше по душе гробницы египетских фараонов?
– Одного раза было достаточно, gracias. Но вид там был получше.
– Hombre, тут вид захватывающий. Можно увидеть то, что находится за человеком, за этими отражениями, заглянуть в видение бесконечности.
– Значит, нас ждут приключения?
– Как в старые деньки, дружище, когда мы умели пошалить.
– Не жизнь тогда была, а прямо театр, правда? Опера.
– Да, со своими примадоннами и шутами.
– Но дирижерской палочкой ведь мы махали?
– А то кто же!
– Ах!.. – вздохнул Гандара, вспоминая, как когда-то видение человечества представлялось ему оркестром, громадным скоплением звуков и темпов.
Как любил он дирижировать этой музыкой, как искусно водил в воздухе палочкой! Он думал о старых добрых временах, и его пухлые пальцы двигались в такт неслышным мелодиям. Он притих, закрыл усталые глаза и положил голову на мягкий ковер.
Он любил это ощущение существования и тосковал по прежней своей силе, когда мог заглянуть за пределы воображаемых стен бытия. При жизни ему было доступно невидимое. Ему казалось, что он слышит мысли людей; он знал их намерения прежде их самих и мог запросто предсказывать их действия. Как мать знает свое дитя, так он знал язык человеческого ума. Как мужчина знает свою любовницу, так он кожей чувствовал дыхание жизни и откликался на любое чувственное желание. Он видел, как все связано между собой непрестанными потоками жизни. Он видел, как даже кончики его собственных пальцев излучают жизнь! Ах! Какая это была радость – быть живым!
– Гандара, посмотри внимательнее в зеркала, – сказал Эсикио. – Смотри, друг мой: в каждом зеркале целое море воспоминаний, и каждое отдельное воспоминание – это произведение, сводящееся к obra maestra[64], коим является жизнь каждого человека.
Толстяк поднял голову и тщательно проверил, что отражает ближайшее к нему зеркало. Слава богу, подумал он, что там вроде не видно растрепанного старого мексиканца с красными глазами и несвежим дыханием. Видно было лишь женщину, которая недвижно, невозмутимо сидела рядом с ним. Она представала в огромном множестве версий. Он чувствовал узор ее воспоминаний. Другие зеркала отбрасывали бессчетные световые проекции, обмениваясь друг с другом ее образом. Эта комнатка вместила в себя мириады разных восприятий, в ней рассказывались бесчисленные истории – и он понимал, что нельзя верить лишь какой-то одной из них. Шло зачарованное время, и каждая история-картина оживала и начинала двигаться как будто под музыку, превращаясь в танец, в пьесу… в оперу.
* * *
Зеркала…
Когда я впервые стал использовать в обучающей практике зеркала, мне не хотелось, чтобы Эмма участвовала в этом виде медитации. Мне казалось, что она и без того слишком увлекается, погружаясь в видения. Помня собственный опыт, я боялся, что она перестарается и настолько полюбит проводить время среди зеркал, что потеряет интерес к реальности. Но она начала заниматься, как когда-то и я, и оставалась там многие часы. Передавая ей свой опыт видений такого рода, могу сказать, что она умело обходится с зеркалами. Она разделяет мои видения, использует творческий подход и, увидев, сколько ей необходимо, заканчивает медитацию. Это симпатичное маленькое помещение из дерева и стекла особенно помогает ей сейчас, когда откровения приходят стремительно и постоянно. Оно дает ей утешение в эти дни, когда она осталась без учителя, когда неизвестно, что ждет ее – и всех моих родных – в будущем.
Дон Эсикио тоже ей помогает. Старые плуты, похоже, могут стать нашими лучшими союзниками в поисках осознанности. Чем больше они спорят, чем больше разыгрывают свои роли и чем громче их шутовские реплики, тем яснее нам становится то, что мы творим с самими собой. Когда мы слышим непрестанную болтовню ума, мы осознаем, как опасно слепо верить чему-то. Все, с кем мы имеем дело в жизни, как и наши внутренние голоса, – вымышленные персонажи. Стоящие за этими действующими лицами реальные люди не имеют ничего общего с нашим представлением о них. И это становится очевидным, когда тихо сидишь в комнате с зеркалами, где все отражения кажутся четкими и знакомыми, но они не реальны, это не мы.
В 2000 году не случилось катастроф, напророченных отдельными предсказателями, но в моем мире произошли серьезные перемены – кто-то назвал бы их катастрофическими. После поездки по местам силы в Египет мне было тревожно, неспокойно. Я ясно видел, что изменился сам, что меньше вкладываюсь в свое нынешнее видение. Для того чтобы возродить, оживить свой собственный интерес к жизни, я должен был найти новые пути для творчества. Вышла моя первая книга, рассказывающая о значительной части учения, с которой были знакомы мои ученики, – но, как я всегда твердил им, только практика делает тебя мастером. Я часто говорил, что буду их последним костылем, последней психологической поддержкой, от которой им придется отказаться, перед тем как они отправятся в самостоятельный полет. Как перышко Дамбо[65], костыли помогают людям поверить в себя и пережить крутые перемены. Преобразование нашей системы убеждений – это самое важное изменение, которое мы можем осуществить, и часто оно пугает больше всего, поэтому небольшая помощь здесь не помешает. Помогает вера в учителя. Каждое небольшое изменение вызывает сильную реакцию, поэтому полезной может стать новая мифология. Святая ложь и безобидная подпорка тоже могут помочь – до тех пор, пока не придет время лететь.
Мои ученики теперь лгали себе меньше, чем раньше, но отказаться от пересудов о самих себе и друг о друге им, похоже, было еще не по силам. Им все еще трудно было перестать важничать. Некоторым просто необходимо было чувствовать свою особую важность, поэтому я присваивал им звания. Многим я давал прозвища со смыслом, поощряя в них иной взгляд на себя. Как и любые костыли, все это следовало выбросить, когда придет время, а именно когда мудрость и осознанность сделают ненужными любые знаки отличия. Книга «Четыре соглашения» тоже помогла им продвинуться вперед. При всей своей кажущейся простоте во время первого прочтения (быть честным в своих словах, ничего не принимать на свой счет, перестать заниматься домыслами и все делать в полную силу) эти соглашения способствовали колоссальным сдвигам в сознании. Каждый раз, когда люди их применяли, к ним приходили новые откровения, а каждое откровение повышало осознанность.
Как ни замечательны были мои отношения с учениками, я все же не был доволен достигнутым за годы моей работы. Я видел, что многие из них лишь заменили старые предрассудки на новые. В них оставалось много зависти, они не избавились от эгоизма. Многим трудно было проявлять щедрость: они не научились отдавать и получать. Мы не можем отдать то, чего у нас нет, а многие из моих учеников не знали, что такое бескорыстная любовь, не испытали ее. Многие возомнили себя великими учителями – и я поощрял их идти к этой цели, – но гордыня не позволяла им достичь ее. Поэтому после Египта я стал кое-что менять.
Начал я с того, что отменил всякие звания. Ни у кого не должно быть преимуществ перед другими – пусть даже эти преимущества существуют только в воображении ученика. Не должно быть никаких пересудов. Нельзя действовать из своекорыстных побуждений. Каждый ученик должен был стать воином, способным начать битву внутри самого себя, тогда как слишком много энергии уходило у них на сражения с другими. Они должны были посмотреть в лицо собственной лжи. «Не верьте мне, – напоминал я им. – Не верьте и себе – и никому другому». Перестать верить своим излюбленным мнениям – самый мощный инструмент развития осознанности. Не верить собственным мыслям и созданным для себя историям – лучший путь к свободе. Они жили предрассудками, а мое послание несло им здравый смысл. Им нужно было изменить свои потребности.
Реагировали на это по-разному. Кто-то воодушевился, но были и обиды, чьи-то чувства были задеты. Видя это, я вскоре понял, что должен пойти еще дальше, должен сказать им, чтобы они воспользовались в дальнейшем своем движении инструментами, которые я им дал, чтобы делать эту жизнь счастливее. Слишком часто на смену желанию учиться и меняться приходит фанатизм. В детстве я придумывал много новых игр – и сейчас я поставил перед собой такую же задачу. Новая игра должна была обеспечить лучшие результаты. Но сначала нужно было закончить эту. Как много лет назад я оставил медицину, чтобы исследовать новые способы исцеления души, мне нужно было отказаться от шаманства. Я должен был прекратить использовать силу.
Вряд ли кто-нибудь поинтересуется, что я имел в виду под этим. Совсем немногие хотят по-настоящему разобраться в том, что же такое сила, предпочитая согласиться с общепринятыми представлениями. И все же важно понимать истинную природу силы. Я отказался от использования силы из-за того, как сама идея силы действовала на моих учеников, из-за того, что мое присутствие превращало некоторых из них в фанатиков. Я показал ученикам мою личную силу. Они стали свидетелями того, как я менял восприятие, рассеивал страхи, исцелял больных. Они видели, что силу жизни, которая течет сквозь всех нас, можно использовать, чтобы стать ближе к жизни. У всех нас есть доступ к абсолютной силе и способность изменять нашу реальность. Важно было, чтобы мои ученики научились делать все это для себя, без всяких ожиданий. Они должны были понять, что они сами спасители.
Мы есть жизнь. Мы возникли благодаря силе жизни, мы – каналы, по которым течет эта сила. Мы ищем истину, но вместо этого стараемся набрать побольше знаний, а потом нам приходится защищать то, во что мы верим. Значение знаний для мира невелико по сравнению с силой истины – даже тогда, когда они служат жизни, повышая осознанность и создавая безупречные видения. Как использовать знания лучшим образом? Как нам добиться того, чтобы они не наносили вреда и не порождали конфликтов?
Прежде всего, нужно понять, что представляют собой знания – все те соглашения, что мы заключаем по поводу реальности, – и увидеть все в истинном свете. Затем нужно прислушаться к самим себе. Мы можем изменить наше мышление и избавиться от эмоциональной привязанности к мыслям. Мы можем победить в той войне, что так давно идет в наших головах. Мы можем взрастить веру в себя и уйти из толпы.
Можно сказать, что после Египта я и ушел. В это переходное время мне удалось поработать с Хосе и позаботиться о его духовном развитии. Мне нужно было уделить этому внимание. Я хотел научиться играть с жизнью по-новому. В Египте я узнал покой небытия, но нужно было начать все сначала в этой жизни, пока я существую здесь. Важно было понимать, каким будет мой следующий шаг, и неуклонно продолжать свой путь сквозь человеческое видение. Вернувшись из этого пространства бесконечного покоя, я стал лучше понимать, в каком состоянии находятся люди. Я видел, что люди – это необыкновенные существа, подавляемые тиранией знаний, и что они не в силах изменить свое положение. Человеческое животное беспомощно – впрочем, до тех пор, пока ум не решит измениться и пока знания не лишатся своей верховной власти. Я понимал, что я не Мигель, что Мигель – это лишь способ обозначить себя для других. Но чем бы я ни был, я нахожусь в теле, которому нужно мое присутствие и руководство. Чтобы жить, телу необходимо некоторое количество простых вещей. Уму же не нужно ничего. Он изобретает потребности, воображая, что он материален. На самом деле он лишь видение материи. Ум с исключительной осознанностью понимает, что он служит потребностям тела и связи тела с жизнью. Осознающий себя ум готов слушать собственный голос и менять происходящий диалог ради блага человека.
Если бы мне когда-нибудь пришлось снова учить, то в программу обучения обязательно вошли бы прямые разговоры с главным действующим лицом истории ученика. Ему пришлось бы посмотреть в зеркало и предъявить себя. Ему пришлось бы в своем восприятии отделить тело от ума – другими словами, осознать разницу между знаниями и собственно человеком, которого они оккупировали. Только так может обрести истинный смысл понятие самосознания.
Через несколько месяцев после путешествия в Египет я почувствовал невероятную свободу – так свободен я никогда еще не был. Я снова влюбился в жизнь и смел надеяться, что любовь моя послужит вдохновением для нового кипучего видения. Поэтому я смотрел в будущее, как всегда, доверяя щедрости жизни. Я был живой. Я снова жаждал играть с намерением.
Я вернулся и был готов начать совсем новую игру.
22
– Меня зовут Том. Я хищник. Моя любимая пища – гнев.
По стенам классной комнаты висели зеркала. Все восемьдесят учеников стояли, выстроившись бок о бок перед зеркалами, и разговаривали со своими отражениями. Им было предложено встать со стульев, подойти к зеркалам и обратиться к своему отражению. Это оказалось труднее, чем они ожидали.
– Меня зовут Линда, – сказала высокая женщина, у которой был обиженный вид. – Я хищница, и я люблю… наверное, несправедливость.
– Меня зовут Вероника, – сказала другая. – Я хищница. Я охочусь на… Ну, то есть, мое любимое блюдо – стыд.
– Меня зовут Тони, – сказал мужчина, стоявший рядом с ней, наклонившись близко к зеркалу, чтобы никто не подслушал. – Я хищник, и меня распирает от самомнения… и привычки всех судить… и, конечно, от гордыни.
– Меня зовут Энн, – сказала еще одна женщина, похоже не испытывавшая неловкости. – Я хищница, и мне не устоять перед ревностью. Я постоянно ею питаюсь.
– Мне, наверное, нравится жалеть себя, – прошептала женщина на другом конце комнаты. – Да. О’кей. Меня зовут Джун. Я хищница, и каждый день я съедаю тонну жалости к себе.
Она обвела печальным взглядом окружавших ее видящих, как будто надеясь, что кто-нибудь хоть немного пожалеет ее.
Однако женщина, стоявшая рядом с ней, была поглощена собственным разговором. Глаза ее были закрыты, а руки молитвенно сложены. Вид у нее был такой, как будто она исповедовалась в грехах невидимому священнику.
– Я Моника, – сказала она тоном почтения. – Я хищник, и чаще всего я охочусь за одобрением. Особенно сегодня.
– Меня зовут Таня, – сказала другая. – В моем меню уже много лет ненависть к себе. – Поколебавшись, она добавила: – Прости меня, я не знала.
«Прости меня, я не знала». Сарита сидела на стуле с прямой спинкой и как завороженная смотрела на учеников, выполнявших упражнение. Лала стояла за ней и беспокойно постукивала пальцами по спинке стула. Они были уже в двадцать первом веке, и дон Мигель снова учил людей. Он расхаживал по комнате, слушал исповеди и помогал ощутить присутствие истины тем, у кого не хватало мужества.
– Это злоупотребление ритуалом, – сердито буркнула рыжеволосая. – Исповедь всегда была таинством, призванным очищать тело от грехов.
– И я это ох как хорошо знаю, – согласилась с ней Сарита. – Все это вроде логично и правильно, пока не поймешь, что тело-то никогда не грешило.
– Как можешь ты говорить, что…
– Просто тело непорочно. А вот вестник порочен. Вот хоть ты, например, моя дорогая.
Лала вцепилась в спинку стула так, что у нее побелели пальцы. Казалось, ей нечего было ответить, но Сарита была уверена, что она скоро что-нибудь придумает.
– Не порти себе кровь, – добавила Сарита. – Ты можешь быть искуплена. – Она посмотрела на то, что происходит в комнате, и ее осенило. – Похоже, твое искупление совершается прямо сейчас.
Обе вглядывались в учеников, слушали исповеди. Сарита восхищалась простотой ритуала, корни которого уходили в самое начало истории человечества. Исповедуйся. Признай, что ты согрешил, то есть так или иначе навредил самому себе. Покайся, то есть возьми на себя обязательство больше так не поступать. Исполни епитимью, а именно: прости себя. Измени свое дальнейшее поведение. Для таинств не нужен священник: правосудие над собой вершит сам согрешивший, в чем бы ни заключался его проступок. Исповедь, покаяние, прощение. Вот и все.
Мигель заметно изменил это видение. Для большинства он оставался учителем, шаманом, но изменилось его послание и способ обучения. Он продолжал возить большие группы в Теотиуакан, продолжал проводить церемонии «Круг Огня», но теперь у него был еще и ежемесячный трехдневный семинар в Сан-Диего, где собирались его ученики. Целый уик-энд они жили, ночевали и учились вместе. Они слушали, рассказывали о своем опыте, делали упражнения вроде этого. Они смеялись и плакали. Они гневались и вопили от радости. Они, как когда-то ученики Сариты, погружались в видение. Сидя кругами лицом друг к другу, с прямой спиной, положив руки на бедра и закрыв глаза, они позволяли уму блуждать. Так они могли воспринимать себя целиком: и как историю, и как ее рассказчика. Они были шумом у себя в голове и одновременно средством заставить этот шум умолкнуть.
Вспоминая, Сарита улыбалась. Он взял ее принципы обучения и дополнил их. Чтобы бросить вызов умам своих учеников, он применял уроки величайших историй, что когда-либо были рассказаны. Он предлагал им взять на себя ответственность за свою личную историю. У всех человеческих повествований, какими бы пугающими или вдохновляющими они ни были, один и тот же автор. Ум придумывает сюжет и мораль, и человек следует им. Эти ученики сейчас учатся избавляться от собственной тирании над телом.
– Глупость какая, – проворчала рыжеволосая, прерывая мысли старушки. – Какая может быть от этого польза?
– Для тебя польза очень большая. А человеку, чье отражение они видят в зеркале, это дает покой и спасение.
– Спасение? От чего?
– Еще раз, La Diosa: от тебя.
И вдруг глаза Лалы наполнились слезами. Она отвернулась, но ее смятение отражалось со всех сторон. Все лица выражали желание искупления и примирения. От всех стен эхом отражались возгласы признания и освобождения. Как она может отвернуться от этого? «Прости меня, я не знала». Эти слова тронули ее, как будто она сама произносила их, обращаясь к себе.
– Меня зовут Эми, – сказала женщина, стоявшая недалеко от нее. – Я хищница. Я питаюсь тем, что не принимаю себя. – Она тоже была переполнена чувствами, но продолжала говорить: – Я хочу научиться лучше любить, хочу, чтобы это тело чувствовало, что я люблю его.
Две спутницы наблюдали, а Мигель подошел к женщине, прикрыл ей глаза ладонями и горячо выдохнул ей в уста. Поцелуй нагуаля. Сарита улыбнулась. Женщина издала тихий звук, всхлипнула и позволила своему телу мягко упасть на пол. Вот она лежит без мыслей, отдавшись истине, и скоро понимание забрезжит в ней.
Сарита посмотрела на Мигеля. Он был очень воодушевлен. Его работа обрела второе дыхание. Его слова несли послание, заслуживавшее, чтобы его услышали. Его существование несло необходимое нарушение равновесия. Она вздохнула, думая о том, чем же закончится это приключение. Воспоминание, в котором они находились сейчас, было одним из последних. Он совершит еще одно путешествие по местам силы в Теотиуакан, и потом его отважное сердце откажет. Что ей делать сейчас? Что она может сделать, чтобы помочь ему противостоять смерти? Она собрала столько воспоминаний, столько разных его частей – как ей и было велено. Что же теперь?
Она повернулась к Лале, стоявшей перед зеркалами со странным выражением лица, как будто она увидела отражение, которого не было. Вид у нее был испуганный, на красивом лице – такое лицо было когда-то у Сариты – блестели слезы. Да, может быть, давным-давно, в дни пылкой юности, она выглядела как Лала. Ей стало легче, когда она подумала, что сейчас никакого сходства не осталось. Она и эта женщина – не одно и то же. Отчаянный голос в разуме, вечно норовящий поселиться в чужих умах, – это не она. Она не тиран и не гарпия. Она не может контролировать сына, как будто он все еще дитя малое. Он сам принимает решения и берет на себя ответственность за их последствия. Может быть, он и во сне помнит ее как воплощение тепла и доброты и чтит как учителя, но даже самым убедительным из ее слов сейчас не достучаться до него. Ей нужно отказаться от своих иллюзий и покончить с этим.
– La Diosa, – почтительно обратилась Сарита к Лале, и та обернулась. – Наше путешествие подходит к концу. Пойдем туда, где он жив сейчас, и благословим его напоследок.
Лала поколебалась, подыскивая для ответа какую-нибудь насмешку. Она же с самого начала говорила, что вся эта затея – лишь глупая трата времени, старушенции надо это напомнить, правда момент неподходящий. «Не сейчас, – предостерегла она саму себя. – Не здесь». Вот когда придет хорошенько в себя, тогда уж она скажет все, что думает про это. Смахивая проклятые слезы, она кивнула и вслед за своей спутницей вышла из зала.
* * *
Задержусь здесь еще немного, вдыхая атмосферу этого места и слушая забытые разговоры. Я любил такие занятия и до сих пор чувствую жар от тогдашнего огня вдохновения. Моя новая программа, которую я назвал «Видение тольтеков», привлекла новые поколения учеников, она поощряла их начать путь обратно к здравому смыслу. Я смотрю в глаза моим ученикам, вижу, как страстно они хотят учиться, и это напоминает мне, какая сила была в тех ежемесячных семинарах, как важны они были. Благодаря им я смог опробовать новые способы обучения, которые помогли ученикам по-настоящему изменить жизнь. Конечно, им хотелось знаний. Ум так устроен, что ему необходимо поглощать новую информацию, которой он потом непременно должен поделиться с другими. В знаниях, которые я давал им, не было ничего нового, но они позволяли посмотреть на все свежим взглядом. Они побуждали к особому виду самосозерцания, бросавшему им вызов, и указывали путь к такой свободе, о которой и помыслить было невозможно. Я хотел, чтобы каждый ученик оценил, какими возможностями наделен его ум. Я хотел, чтобы каждый понял, что он герой, выполняющий миссию спасения человека.
Воодушевление учеников на этом семинаре усиливалось с каждым новым прозрением. Не обошлось, разумеется, и без других эмоциональных последствий. Когда нарушается равновесие ума, появляются возможности для изменений, но зачастую малейшему такому нарушению противятся даже те, кто настаивал, что жаждет его. Преобразование личности происходит в результате серьезных сдвигов в восприятии и реагировании. Этот процесс может быть неприятным, поскольку ум не хочет замечать себя, брать на себя ответственность за свои истории и меняться. Когда ум активно сопротивляется, эмоциональному телу приходится расплачиваться за это.
Как я уже говорил, если кто-то из учеников не мог пойти за пределы страха и гнева, порождаемых серьезными изменениями, вполне разумным выходом было позволить им найти иной путь к осознанности. Нельзя было допустить, чтобы они использовали Мигеля против самих себя. Я тоже ощущал эмоциональные последствия, когда отпускал их, но таким ученикам необходимо было учиться больше верить в себя – и меньше в меня. Я доверял жизни и всех их поощрял к тому же. Уважая других, мы позволяем им иметь те видения, которые нужны им. Если мы любим других, то не противимся их выбору – не важно, понятен он нам или нет.
Эмма покинула мое видение до того, как начались эти новые семинары. Она решила отбросить последний костыль и продолжить свой путь без меня. Она хороший воин: может в одиночку принять вызов, отважиться на новые видения и рискнуть пуститься в неизвестное. Может быть, она чувствовала, что осталась одна, но между нами всегда была сильная связь. Я отпустил ее и стал ждать – так же я поступил в отношениях с Дхарой, так же поступаю и буду поступать в отношениях с сыновьями.
Как ни больно было отпускать Эмму на физическом уровне, я совершил этот выбор из уважения и желания быть великодушным. Я вполне понимал, что мы можем никогда больше не увидеться. При мысли об этом мне становилось не по себе. Но мог ли я подарить ей что-нибудь ценнее свободы? Никто не может стать мастером, не практикуя, не ведя одинокую войну с голосом знаний и не побеждая. Я ожидал, что, если ей станет слишком трудно воевать, она придет ко мне. Я всегда с радостью принял бы ее обратно в свое видение, в свои объятия. Она, как и прежде, оставалась в моем сердце.
Как всегда, все должна была решить любовь. Даже сейчас сердце мое наполнено. Мое тело борется, пытаясь не потерять связь с силами жизни, и откликается на каждый мысленный образ, на все тончайшие душевные движения, исходящие от памяти. Жизнь дает мне все средства для этой борьбы. Каждый человек в моей жизни сейчас – союзник моего разума. Все, чему я научился, все, что испытал, помогает мне выжить. Задействовано все, что живет, все, что движется, – все, что выходит за пределы знаний. Когда я не думаю, я осознаю. Осознаю все. Я осознаю то, что есть, и то, что, кажется, когда-то существовало. Осознаю вестника по имени Мигель, послание, которое он нес, и любовь, которую он отдавал.
Когда появляется осознанность, реальность меняется. Тогда мы начинаем понимать, что быть живым – это и есть цель, а все, что мы делаем, пока живем, – выражение нашего искусства. То, как мы думаем, разговариваем и ведем себя, определяет качество этого искусства. Мы есть жизнь, но мы так долго воспринимали все с точки зрения ума, что нам трудно увидеть то, чего не видит он. Ум отрицает свою отдельность, когда говорит: «Я чувствую себя хорошо» – или: «Я чувствую себя плохо». На самом деле ум не чувствует, чувствует тело. Ум рассказывает историю о чувстве вины, гневе или просто смущении, а все последствия ложатся на тело.
Я предлагал моим тольтекским видящим посмотреть в зеркало, в глаза человеку и позволить рассказчику представиться, начав со слов: «Меня зовут…»
Если ум услышит себя, то он способен на изменения. Наверное, осуждение себя – одно из самых любимых его блюд, но, чтобы что-то поделать с этой склонностью, необходимо сначала ее распознать. Как только ум понимает, что он хищник, он начинает превращаться в союзника. Ум может постоянно создавать для человека проблемы, но он же способен находить удивительные решения. У него прекрасное воображение. Мы ведь все время представляем себе разговоры, которых не было. Мы воображаем себе иные реальности и явления, которые только предстоит открыть. Мы заново прокручиваем в голове прошлое и фантазируем о будущем. Мы видим в воображении богов и демонов. Мы представляем себе ужасы и чудеса. Из всего, воображаемого нами, одержимость демонами, пожалуй, самое интересное, она многое нам открывает. О ней говорится во всех человеческих культурах. Кто-то боится одержимости, кто-то, отшучиваясь, не обращает на нее внимания, но она реальна.
Мы знаем, что значит владеть какой-нибудь вещью. Мы покупаем что-нибудь, платим за это, вымениваем за что-нибудь ценное, и она становится нашей. Даже людей мы считаем своей собственностью: тех, кого любим, детей, которых растим, работников, которым платим зарплату, страну, в которой живем. В большинстве культур обладание считается очень важным, а у многих народов владение другими людьми – общепринятая практика. Но мы не замечаем, что все люди сами являются чьей-то собственностью, независимо от их убеждений и традиций. Ими зловещим образом овладевает нечто изнутри. Человеческое тело становится одержимым знаниями.
Несколько лет назад я говорил об этом перед большой аудиторией. Одна женщина встала, чтобы поделиться своим мнением, и я почувствовал, что за всеми ее словами стоит сильный гнев. Казалось, она отвечает на что-то, сказанное мной. Я пригласил ее на сцену. Она холодно позволила мне обнять ее, и я предложил ей подробнее рассказать о своей жизни, изложить свои взгляды и даже выразить гнев – дать ему волю. Она заговорила, сначала нерешительно, затем все раскованнее. Чем дольше она говорила, тем агрессивнее становилась. Я молча стоял рядом с ней, а она разразилась тирадой, клеймя мужчин, Бога, жизнь. Голос ее звучал все громче, ее затрясло, а лицо ее приняло демоническое выражение. В зале улыбки сменились тревогой, а потом потрясением. У многих в глазах был страх.
Так продолжалось несколько минут. Наконец гнев женщины стал ослабевать – и она заплакала. На этот раз она с благодарностью, искренне позволила обнять себя. Зал зааплодировал, впечатленный этим выплеском неприкрытого чувства, но всем, однако, было не по себе. Когда она вернулась на свое место и публика успокоилась, я спросил, есть ли у присутствующих сомнения в том, что одержимость существует.
– Теперь вы понимаете, о чем я говорю? – обратился я к залу.
Разумеется, они понимали. Мы можем считать, что все наши собственные злейшие демоны живут в окружающих людях, можем пугать себя образами бесов и упырей – а можем посмотреть внутрь себя, прислушаться и распознать голос знаний, живущий в нас и постоянно разговаривающий с нами. Этот голос может очень сильно напугать. Мы не привыкли слышать самих себя, поэтому редко отдаем себе отчет в том, какие своекорыстные и жестокие слова произносим вслух и про себя каждый день. Отследить то, что мы думаем, и изменить свой внутренний разговор – вот в чем заключается любовь к себе.
Все в жизни призвано служить самой жизни. Слушая и меняясь, мы можем превратить знания в слугу, которым они и должны быть. Овладев искусством создавать ад в своем уме, мы можем выбрать путь благородных ангелов, безупречных вестников. Следует уважать любое видение, но каждое видение может измениться, когда будет к этому готово. Если ум захочет, он может дать нам свободу, к которой мы все стремимся и которую с трудом можем себе представить.
Признав, что знания, служащие жизни, могут также быть средством избавления человека от страданий, мы можем научиться по-новому взаимодействовать с людьми. Мы можем по-другому увидеть самих себя. Мы можем перестать верить собственному голосу, всем голосам, но продолжать слушать и учиться. «Я хищник. Моя любимая пища – страх… чувство вины… гнев…» – можно начать и с этого. Моим ученикам такое начало обычно помогало понять проблему и наметить ее решение. Осознанный ум может стать охотником, жаждущим истины.
Лучшие из моих учеников продолжают охотиться, только теперь у них другая добыча. Они изменились. Они верны человеку, и создаваемая ими реальность строится на благодарности и великодушии. Ум, который раньше за всем надзирал и наказывал, теперь служит жизни. Если раньше он был злодеем, то теперь он герой. Прежде он жаждал яда, а сегодня ему по вкусу нектар.
23
– Ты пчела или муха?
– Что? – смущенно спросил мужчина.
– Ты пчела? Или же ты муха?
– Думаю, пчела. Кому хочется быть мухой?
Дон Мигель кивнул и повернулся к другому ученику. Группа была большая, почти все обширное пространство студии было заполнено учениками. Большинство сидело в удобных креслах. Они придвинулись поближе к учителю, который говорил, сидя на маленьком диване в передней части зала.
– Кто ты? – спросил Мигель у женщины, делавшей заметки. – Пчела или муха?
– Пчела! – бодро ответила женщина, роняя ручку.
Она быстро переключила внимание на происходящее вокруг, ей очень хотелось принять участие в обсуждении.
– Ты в этом уверена? – спросил Мигель, наклоняясь к ней и глядя прямо в глаза. – Ты уверена в том, что время от времени тебе не хочется отведать немного дерьма?
– Дерьма? – Женщина была потрясена до глубины души и, кажется, даже оскорблена. – Да нет же!
– Ты никогда не сплетничаешь с подругами? Никогда никого не осуждаешь?
– Ну…
– Ты никогда не соглашаешься с пересудами о тебе? Никогда не обижаешься? Твои чувства никогда не бывают задеты?
– Думаю, иногда мне бывает жалко себя.
– Из-за того, что?..
– Может быть, я чувствую себя отвергнутой… Мне кажется, меня не понимают.
– Значит, все-таки иногда ешь дерьмо?
– Ну, может быть.
Мигель обратился к женщине постарше:
– Ты когда-нибудь осуждаешь человека в себе?
– Наверное, да, но в основном я питаюсь медом, – ответила она.
– Ты говоришь своему телу, как оно прекрасно, правда?
– Да, конечно.
– Скажи этому человеку в тебе, что он любовь всей твоей жизни.
Мигель подождал, пока она поймет, что он имеет в виду.
– Любовь?..
Женщина залилась румянцем, подыскивая слова для ответа.
– Кто больше достоин твоей любви и верности? – тихо продолжал Мигель, как будто вел с ней частную беседу. – Этот человек был с тобой, когда ты родилась, и останется с тобой до самого конца. – Он с сочувствием посмотрел на женщину. – Он сразу же стал служить тебе и всегда тебя слушался, как бы ты им ни пренебрегала и как бы жестоко с ним ни обращалась. Это он выслушивает все твои тайные исповеди и принимает тебя такой, какая ты есть. Он твой постоянный спутник и друг. Он любовь твоей жизни.
– Да, я понимаю, – ответила женщина, еще больше заливаясь краской.
– К кому ты относишься лучше: к своей кошке или к человеку в тебе? – спросил Мигель мужчину, сидевшего в глубине комнаты.
– У меня две собаки, – сказал тот, – так что без вариантов. К ним я отношусь гораздо лучше. – Группа засмеялась. – Без шуток: они спят на стеганых одеялах с гусиным пухом и питаются экологически чистым кормом.
– Да, наверное, к собакам ты относишься лучше, – согласился Мигель, – но у тебя никогда не будет домашнего существа добрее и преданнее, чем человек в тебе… А что у тебя? – обратился он к маленькой женщине, сидевшей в переднем ряду.
– У меня кот, – сказала она.
– Ты ешь дерьмо?
Женщина опустила взгляд на свой блокнот и покачала головой. На секунду всем показалось, что она вот-вот расплачется.
Чтобы дать ей время, Мигель переключился на женщину, сидевшую рядом с ней.
– А ты? – спросил он.
– Боюсь, что да, – сразу ответила та. – Я, кажется, всегда боюсь. Вот и сейчас боюсь.
Ее миниатюрная соседка подавила всхлип, и Мигель раскрыл ей свои объятия. Она отложила блокнот, села рядом с ним и позволила его рукам обхватить ее голову. Он гладил ее по волосам, обводя взглядом комнату. У дальней стены, плотно скрестив руки на груди, сидел мужчина.
– А ты что предпочитаешь? – спросил его Мигель. – Мед или дерьмо?
– Предпочитаю-то я мед, – ответил мужчина, – но, должен признаться, больше привык к дерьму.
– Любишь осуждать?
Мигель улыбался, глядя, как мужчина неодобрительно посматривает на женщину, нашедшую у него утешение.
– Да нет. Просто вокруг одни идиоты.
Аудитория снова грохнула. Мужчина немного расслабился и положил руки на колени.
– Значит, ты муха?
– Муха?
Мужчина слегка нахмурился, размышляя.
– Раз нравится трескать дерьмо, значит муха, – объяснил Мигель. – Если б ты был пчелой, то всегда лакомился бы медом. Ты бы питался любовью, уважением, радостью, разве нет? Я не прав? Говорил бы человеку в себе приятное. Наблюдал бы за тем, как ведут себя другие, замечал бы, как они причиняют боль самим себе, и чувствовал бы сострадание. Ты проявлял бы уважение ко всем, потому что уважал бы самого себя. – Он ждал, глядя на лица собравшихся. – Я прав?
По залу волной прокатился гул согласия.
– А не могут ли мухи научиться питаться медом? – спросил мужчина.
– Ты хочешь быть мухой, которая ест мед? Ну что ж, дерзай! – Мигель усмехнулся. – Только помни: рано или поздно ты не устоишь перед дерьмом. Тебе захочется твоей обычной еды – обычной для мухи, конечно.
– Но что, если ты не рожден пчелой?
– Все мы рождаемся пчелами. Ну разумеется, мы родились людьми. Ты ведь понимаешь – все это только метафоры, – сказал Мигель, улыбаясь. – Родились мы людьми, а люди не рождаются умственно запрограммированными. Это происходит позже, когда ребенок овладевает языком и начинает думать. С этого времени человек подчиняется уму. Его мысли решают, что реально.
– Что может быть реальным, – поправил его кто-то.
– Разум определяет, что является реальным, – настоял он на своем.
Мигель опустил взгляд на женщину, прислонившуюся к его колену. Он дотронулся до ее щеки сведенными вместе кончиками пальцев и стал как бы осыпать ее поцелуями. Откликнуться она, похоже, была не в состоянии.
– Но даже после того, как в наших головах появились мысли, – сказал он, – даже после того, как мы усвоили символы, прошло еще много времени, прежде чем мы научились питаться дерьмом. Вы, конечно же, видели, как счастливы малые дети. Они добры от природы и с любовью встречают любовь. Они испытывают все эмоции, но в раннем возрасте эмоции быстро возникают и тут же исчезают. Ребенок обижается, и обида проходит. Он пугается чего-то, но и страх скоро проходит. Дети любопытны: они хотят знать все обо всем. Они узнают, что как называется, учатся говорить, и – р-раз! – в их головы влетает несметное множество разных мнений.
Мигель обвел взглядом учеников, отмечая, насколько внимательно они слушают.
– Все эти страхи, ненависть, осуждение сильно влияют на детей, – продолжал он. – Вместо меда они начинают привыкать к продуктам, которыми питаются все вокруг. Они не натуральные, но выглядят как обыкновенная еда. Все ведь питаются ими. Они начинают употреблять яд, и тело реагирует на это эмоциями. Они слышат злобные, отвратительные речи и чувствуют, как их тела вырабатывают гнев. Они могут сказать: «Ага, другие люди питаются гневом, и им это очень нравится, попробую-ка и я». И тогда гнев вырабатывается снова и снова, чтобы накормить их. Некоторые без ума от чувства вины: ммм! Так вкусно, когда годами не пробовал ничего другого. Кое-кому из взрослых до сих пор по душе страх. От него тоже иногда слюнки текут. Он может маскироваться под робость – ну ничего же плохого! – и люди, приложив усилия, привыкают к его вкусу. Чтобы казаться сильными и властными, они вкушают собственный страх тайно и жиреют на страхах других людей. Чтобы казаться умными, они развивают в себе вкус к осуждению. Чтобы быть как взрослые, как другие люди, дети учатся питаться ядом, пока у них не возникает переносимость. И дерьмо уже кажется неплохой закуской.
– Ужас какой! – не выдержала одна пожилая дама.
– Но это логично, – ответил он. – Лучше ли будет, если мы скажем, что это дьявол принуждает их так поступать? Видите, как страх перед дьяволом и Богом превращает людей в дерьмоедов, – и всем этим дерьмом они не прочь поделиться с другими. Они готовы отдать десятую часть дохода, чтобы держать дьявола подальше от себя. Они питаются страхом, чувством вины, стыдом и так далее и никак не могут наесться. Не лучше ли увидеть все это и измениться?
– Изменить наш пищевой рацион? – спросил кто-то.
– Как насчет того, чтобы для начала изменить свой биологический вид? – предложил Мигель.
В зале стало тихо – так тихо, что женщина в его руках подняла голову, озираясь в недоумении.
– Вы нереальны, – продолжил Мигель, обращаясь ко всем. – Но ваше человеческое существо реально. Ему не нужно меняться, но вы можете измениться. Вы можете эволюционировать – от мухи до пчелы.
– С помощью осознанности, – предположил кто-то.
– Хорошо, попробую сказать иначе, – развивал свою мысль Мигель. – Допустим, вы вели себя как дерьмо. Говорили вечно какие-нибудь гадости, мысли у вас были всегда злые. То есть вы были дерьмом. Кого вы к себе привлекали бы: пчел или мух?
Все сошлись во мнении, что на них охотнее летели бы мухи.
– А если бы вы были как мед, были бы милы и добры, всегда веселы и уважали себя?
Все единогласно пришли к выводу, что к ним полетели бы пчелы.
– Не только, – сказал Мигель. – Такой прекрасный продукт привлек бы к себе всех и вся. – Группа засмеялась. – Я не шучу, – настаивал он на своем. – К вам бы прилетели и пчелы, и мухи, и кто угодно. Конечно, вы должны постоянно все осознавать. Осознанность – ключ ко всему. Она помогает увидеть, кто вы есть на самом деле, чем вы питаетесь и кто питается вами. В мире животных каждый кого-то ест. Виртуальный мир – это отражение, копия. Вы можете выбирать, как будете действовать в этом мире и чем будете питаться.
– Я представил себе Серенгети[66] – в Африке, – смеясь, сказал один мужчина.
– Вы виртуальны. Вы можете изменить свой ландшафт. Зачем человеку в вас постоянно ждать, что вы нападете на него или съедите? Стоит ли подпитывать этот иррациональный страх?
– Да уж! – воскликнул кто-то.
– Ваша природа – любовь. Помните свою природу. Если вы идете против нее, то притворяетесь другим биологическим видом. И притворяетесь так давно, что уже и на самом деле стали другим видом. Осознавать – значит видеть истину и помнить о ней, она никогда никуда не исчезала. Она всегда была с вами, но внимание ваше было сосредоточено на лжи.
Заговорила молодая женщина:
– Я пчела, которая сидела на строгой дерьмовой диете, чтобы вписаться в общество. Я больна, я, наверное, сволочь, зато я крутая.
– В чьих глазах? – спросил Мигель, когда утих смех.
– В глазах мух.
– С точки зрения твоего приемного биологического вида, то есть хищников.
В глубине зала послышались громкие одобрительные аплодисменты – это восторженно хлопал своими красивыми ладонями дон Леонардо.
– Вы только посмотрите! – восхищался он. – Волшебно!
Леонардо взглянул на женщину, сидевшую рядом с ним. У нее был сердитый вид, как будто она вознамерилась проглотить немного собственного яда и ничьи увещевания не способны были утолить ее волчьего аппетита. Он вздохнул, жалея, что не может разделить свои впечатления с Саритой, но она потерялась в наплыве воспоминаний. Ей бы здесь понравилось. Может быть, она и для себя извлекла бы урок.
– Но как узнать, правильно ли мы реагируем? – спросил один из учеников.
– Как? – улыбнулся Мигель. – Если вы в замешательстве, задайте себе вопрос: «Кто я и что я ем?» И конкретнее: хищник вы сейчас или союзник? В этот самый момент вы едите мед или дерьмо?
Зал отзывался энергией, в учениках пробуждалось намерение. Дон Леонардо был в восторге. Может быть, больше всего его внуку будет не хватать вот этого. Именно сюда, к этим людям он будет возвращаться – если вообще вернется…
– Не бойся, кто-нибудь подхватит у меня эстафету, – услышал он тихий голос.
Леонардо повернулся и увидел своего внука Мигеля – тот сидел рядом на парусиновом стуле, маленький и хрупкий. Это не был учитель, говоривший с учениками. Этот Мигель был бледен и худ, на нем был все тот же больничный халат в пятнах. Казалось, он держится за жизнь слабой равнодушной рукой.
– Они понимают, а потом все забывают, – произнес Мигель, наблюдая за аудиторией. – Все так быстро искажается.
– Ты приносишь дар мудрости, – сказал Леонардо, глядя на внука понимающим взглядом, – а потом, когда видишь, что его начинают перевирать, откладываешь его на время в сторону. Позже ты снова приносишь его, но под другим названием. В этом, мальчик мой, и заключается мастерство учителя.
Перевирают легко и быстро. Он помнил это по своему опыту учительства. Не успеет он облечь истину в слова, как ученики перетолкуют их в ладную, удобную ложь. Мигель ясно видел это. Его желание учить, его любовь к поиску тактических решений вполне могли вернуть его сейчас к жизни.
– Вы добры, abuelito[67], и удивительно находчивы, – улыбаясь, ответил внук. – Но этому воспоминанию не вернуть меня. Я сделал все, на что был способен, больше ничего не сделать.
– Наверно, твоя мать права. Ты действительно упрям, как дитя малое.
– Я счастлив, как дитя, и с нетерпением жду возвращения домой.
– Мигель, ты уже не дитя, ты мудрый муж, мастер, – сказал Леонардо, – поэтому я и буду говорить с тобой как с мастером. – Старый господин чуть подвинулся у себя на стуле, глядя Мигелю прямо в глаза. – Мы – те, кто может говорить, – должны говорить, пока у нас есть дар. Мы должны любить, пока живы, и действовать, пока у нас есть силы.
– У меня больше нет сил, которые я мог бы дать этому телу.
– У тебя есть все силы. Если б я был таким шаманом, то мог бы горы двигать. Мог бы сдвинуть Гвадалахару в океан, которому она и принадлежит.
– Я в этом не сомневаюсь, – вяло усмехнулся Мигель. – Только зачем?
– С каких это пор тебя интересуют цели и смыслы, дон Мигель? – саркастически заметил дед. – Пусть Гвадалахара остается на своем месте. Ты считаешь, что умы всех людей подобны пустыням, отторгающим любое семя?
– Я не могу изменить разум, если он того не желает.
– Ты можешь вернуть своему телу здоровье, – отпарировал Леонардо. – А потом решай, есть ли тебе дело до людских умов.
– Мне нет до них дела.
– Правда? И до умов твоих сыновей и их будущих сыновей?
– Им сейчас и так хорошо и спокойно – с отцом ли, без отца ли.
– Им сейчас совсем не спокойно, m’ijo. Они ведут войну, которую им самим не закончить.
Мигель молчал, представляя, как Хосе в эти дни борется со своими сомнениями. Парень и так уже до смерти настрадался. Но что он может сделать сейчас для Хосе, когда сам так ослаб телом, что ему совсем не до борьбы?
– Ты можешь наполнить собой мальчика, – сказал Леонардо, нащупывая возможность победить в этом споре. – Ты можешь дать ему всю мудрость нагуаля, отдать всего себя, если посчитаешь нужным. Отдать ему все, что у тебя осталось. В это самое мгновение он сидит дома и изобретает собственное учение, опираясь только на интуицию, проповедует стенам, как вдохновенный безумец, которым ему суждено стать!
Старик поправил шейный платок и немного выпрямил спину.
– Да, я мог бы это сделать, – ответил Мигель со слабой улыбкой. – Я мог бы помогать ему, как он помогает мне. И смог бы все отдать.
– А другим? Им тоже нужен отец и наставник, хотя сейчас они могут и не понимать этого. Ты им нужен.
– Мои дети, – пробормотал Мигель, вызывая в сознании их образы.
Оставил ли бы он их в нынешних обстоятельствах, если бы у него был выбор? Конечно, дон Леонардо прав, – в конце концов, он человек разумный и с воображением. Он понимает, что ребята заслуживают не меньше, чем любой другой ученик, что они могли бы использовать знания, чтобы установить более тесный контакт с жизнью. Научившись по-настоящему осознанности, они стали бы видеть больше и дальше. С помощью такого расширенного видения они смогли бы заглянуть за пределы знаний – и совершить прыжок. И все же при мысли о продолжении учительства Мигель чувствовал усталость.
– Знаешь, не осталось у меня желаний для этого мира, – сказал он. – Ни запала, ни страсти.
– Нет запала? Дон Эсикио пришел бы в ужас!
Оба рассмеялись, и обоим, вроде бы без видимых причин, стало легче. Леонардо положил руку Мигелю на плечо. Оно было еще крепким. Да, внук исхудал, мышцы у него ссохлись, но в нем оставалась жизненная сила, ждавшая своего часа, она еще могла запылать.
– Maestro[68], одна из граней воина – любовник. Тебе стоит подумать над этим. Любовник должен быть всегда бодр и готов к действию.
Дон Леонардо бросил взгляд на женщину, сидевшую рядом с ним, и понизил голос. Он не любил говорить о таких вещах в присутствии дам.
– Любовник должен быть наготове, – настойчиво шептал он. – Он должен навострить глаза, уши и все свои чувства, чтобы улавливать знаки малейшей неудовлетворенности своей подруги. Глаза его должны всегда блестеть, а руки постоянно быть при деле. Никакой лености, никакой вялости: кровь его должна быть готова вскипеть. Никакого отдыха! Нельзя пропускать ни единого вздоха, знака, заигрывания. Необходимо отвечать на все ее вздохи и тщательно рассчитанные намеки. Страсть нужно встречать страстью. У женщины не должно быть ни малейшего подозрения, что в тебе стало меньше пороху или желания.
– Слишком поздно, abuelito, – пожал плечами Мигель, но глаза его весело поблескивали.
Старик сменил тон:
– Я понимаю, сейчас боль твоего тела заслонила от тебя все. Умерев несколько раз, ты…
– По крайней мере три раза.
– Умерев много раз, ты, может быть, считаешь, что тебе простительно впасть в апатию, но…
– Да, простительно.
– А как же женщины, которых ты любишь? Ну да, ты можешь спросить: «Зачем я им сейчас, когда я лишь половина мужчины?» Ответ…
– Меньше половины.
– Ответ таков: ты нужен был им тогда! – прокричал старик с такой интонацией, как будто все это было очевидно. – Они помнят. Их жажда не утолена, их страсть не остыла. Эти женщины продолжают звать тебя во сне!
– Я в этом не уверен.
– Не глупи! Они зовут тебя, но ты не обращаешь внимания. Ты утратил свой воинский дух.
– Будут другие любовники, будут воины лучше. Больше не за что сражаться, нечего завоевывать.
– И нечего спасать? – спросил Леонардо. – Нечего, Мигель? Некого?
Мигель смотрел на деда и видел за его затуманившимися глазами силу тысячи солнц. Он задумался над словами старика и вспомнил те полдня, что они провели вместе так много лет назад. «Единственный конфликт – это борьба правды с ложью», – сказал ему тогда дон Леонардо. Истина одна, но лжем мы себе постоянно. Как же быть с Лалой, повелительницей лжи? Оставит ли он ее и дальше совершать многочисленные опрометчивые поступки, пока он еще в состоянии дышать? Пренебрежет ли он возможностью посеять еще несколько зерен истины – если у него есть выбор?
Конечно, выбор за него уже сделан. Если он вернется, то не потому, что этого хотят его родные, но потому, что жизнь, дразня и настаивая, продолжает пробиваться сквозь него. Жизнь взвешивает, насколько готов он снова действовать с ней заодно. Одно небольшое действие, рожденное желанием, способно зажечь угасающее видение. Пришло ли время для такого действия? Мигель смотрел в глаза дону Леонардо, и ему казалось, что его дедушка задает тот же вопрос.
Мигель опустил взгляд на свое полураздетое тело, все в синяках от уколов. Ему не хотелось возвращаться к своему сломленному человеку… Но ведь необязательно, вернувшись, действовать с тем же напором. Можно идти сквозь человеческое видение легко, безмятежно. Он может дать поддержку и утешение тем, кому он нужен, подчиняясь намерению жизни. К Лале, богине, которой он сам поклонялся когда-то, он может быть внимателен, не соглашаясь с ней. Он знал – она ждет его. Она слушает, смотрит – и жаждет нового цунами любви.
– Я думаю о ней, – сказал он деду.
Думал он не о той, что с рыжими волосами и огненными глазами, а о той, что зовется гуманностью, о той, которую он так хорошо знал и мог бы узнать еще лучше, если б остался.
Старик молча ждал.
– Не беспокойся, дедушка, – сказал наконец Мигель, беря Леонардо за руку. – Я буду наставником для моих учеников. Я буду отцом для моих сыновей и сыном для моей матери. Для женщин же я буду любовником во всех смыслах, как только смогу.
– А для… той? – спросил дед, избегая называть Лалу по имени.
– Нет никакой той. Она – это все они, – просто сказал он. – Конечно, я позабочусь о ней.
Он ласково улыбнулся деду, и у старика лицо просветлело от облегчения. А если не получится, со вздохом подумал Мигель, то ничего страшного. Видение женщин продолжится. Их жажда никуда не денется – с ним или без него. Мужчины будут бороться. Его сыновья будут с радостью проживать свои дни и ночи. Жизнь будет продолжаться – и время от времени будет прорастать зерно истины.
Они снова замолчали, их внимание постепенно вернулось к тому, что происходило в зале. Не обращая внимания на приближающийся гул бури по имени жизнь, Мигель неподвижно сидел и праздно наблюдал за танцем вдохновенного учителя и его ретивых, восторженных учеников. Помещение наполнил аромат меда, и дед с внуком услышали жужжание счастливых пчел.
24
На моих губах вкус нектара. Я чувствую, как меня нежно влечет к себе существование, я слышу, как меня зовет играть жизнь. Сладчайший из нектаров – мы сами. Мы есть любовь. Перестав притворяться, что мы что-то другое, мы вновь обретаем подлинность. Мы вновь находим то, что считали утраченным.
Мы пришли в этот мир подлинными существами, а потом стали упражняться в ответе на вопрос «кто мы?», пока не довели этот навык до мастерства. Во взрослой жизни мы в любое время можем отучиться от этой привычки: можно перестать цепляться за какую-либо идентичность, – оказывается, можно просто быть. И тогда начинается совсем иная жизнь – подлинная. Неотрепетированное поведение ведет к спонтанному взаимодействию. День, проведенный без ожиданий, дарит неожиданные чудеса. Простой миг становится бесконечным мгновением, в котором заключена абсолютная сила.
У подлинности свой вкус и цвет. Когда мы подлинны, наше присутствие важнее, чем то, что мы делаем. Мы не чувствуем себя обязанными повсюду привносить свое «я». Мы совершаем действия, но ни они, ни реакции не привязаны к тому, что мы думаем о самих себе. Мы воспринимаем и позволяем человеческому существу откликаться на чистое восприятие. Наше воображение не имеет границ. Мы видим не только глазами, но всеми своими чувствами.
Когда я научился видеть по-настоящему, мне казалось, что я получил удивительное преимущество, и в то же время мне чудилась в этом какая-то несправедливость: меня искушала мысль, что я особенный, что никто не способен понять меня правильно. Разумеется, оба эти ощущения поддерживались знаниями. Поэтому, перестав обращать внимание на свои мнения и сомнения, я смог целиком отдаться настоящему мгновению – вневременному источнику возможностей. Я успокоился и принял свою внутреннюю истину – в чем бы она ни выражалась. Все сущее состоит из событий, которые нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Люди – это события. Идеи – это тоже события. Я есть развертывающееся событие, но важнее всего тот факт, что я есть.
В течение многих лет я очень сильно чувствовал связь с бессознательным, то есть с абсолютной силой. Я уже давно понимал, что я – это материя и одновременно сила, движущая материей. После случая в Великой пирамиде Гизы у меня осталось яркое чувственное воспоминание о том, что я тогда пережил. Оно продолжало пронизывать всю мою жизнь и после того, как я вернулся домой. Мне трудно было сосредоточиться на том, что происходило вокруг меня. На несколько недель после той поездки меня охватила какая-то шаткость во всем теле. Я стал видеть все по-другому и старался привыкнуть к этой новизне. Мир людей и предметов как будто становился для меня все более далеким.
Тем не менее я продолжал жить в человеческом теле, у которого были свои очевидные потребности. Ему нужно было есть, спать, отдыхать, двигаться и предаваться любви. Если я собирался жить среди людей дальше и, как и раньше, влиять на человеческое видение, то мне прежде всего следовало уделить внимание тому, в чем нуждается тело. Я должен был расставить приоритеты. Как человеку, снова собирающемуся в путь, мне нужно было сделать один шаг, потом другой и терпеливо двигаться к новому способу видения.
Начиналось новое столетие, и некоторые из моих учеников настойчиво просили, чтобы я снова начал учить. Я согласился – с условием, что они не будут поддаваться суевериям и фанатизму. Я решил регулярно проводить семинары для ограниченного круга учеников, среди которых был и мой сын Хосе. Моя новая программа «Видение тольтеков» стала пользоваться большим успехом. Через год я взял больше учеников, и второй год обещал быть еще интереснее. Ученики приезжали в Сан-Диего со всей страны и даже из Мексики и Европы. Те, кто учился у меня давно, и новички занимались вместе, все были захвачены возможностью участвовать в новом, неизведанном видении.
В начале второго года программы из своей далекой реальности объявилась Эмма. Она попросила у меня помощи. В одиночку она сделала все, что могла, и продолжала использовать свои знания против себя. Она верила своим собственным историям о несправедливости и строго судила себя. Другими словами, ее ум не перестал быть тираном. Она перепробовала многое: путешествовала, отказывалась от закостеневших стереотипов, искала новых друзей – но неизбежно возвращалась все к тому же состоянию несчастья и разочарования. Ей нужен был спаситель.
Я рад был, что она связалась со мной, какие бы причины ее к этому ни подтолкнули, и настоятельно рекомендовал ей приехать на семинар по видению тольтеков. Она послушалась. Ей понятен был язык здравого смысла, она увидела, что можно сделать, чтобы спасти себя, и больше не покидала меня. Она снова была под моим крылом. Хотя вначале ей не хотелось говорить на публике, вскоре она стала облекать пережитое ею в слова. Она смогла выражать вслух свои мысли и догадки, и ее замечания заставляли творчески мыслить других учеников. Я постоянно подталкивал ее к учительству, и она охотно откликалась – наперекор собственным убеждениям и невзирая на мнения окружающих. Она обещала стать мастером видения.
Хосе еще не был готов говорить перед публикой, но тоже слушал и учился. Он был видящим по своей природе, ему хотелось расширять свою осознанность в новых направлениях, а уютнее всего он чувствовал себя в мире своего воображения. Он был еще молод, впереди у него была долгая жизнь – годы, полные бесконечных возможностей учиться, выражать себя и мудреть.
В феврале 2002 года я повез всех моих учеников в Теотиуакан, в путешествие по местам силы в честь окончания учебного года. Это была не совсем выпускная церемония, но важно было, чтобы все почувствовали, что они чего-то достигли. Для учеников закончился еще один год личных испытаний, настроение у всех было приподнятое, они были открыты любому опыту и любым возможностям.
Кроме того, я видел возможность снова изменить видение. Я хотел передать свою роль Хосе, хотел, чтобы он постепенно занял мое место. Вскоре придет время ему стать своим собственным учителем и спасителем. Необходимо было, чтобы он построил другое видение, отличное от того, что создал я, и в первую же неделю в Теотиуакане я объявил его своим преемником. Все не просто менялось, я видел неизбежный конец собственного человеческого существования.
В последние месяцы у меня появилось ощущение, как будто я одновременно нахожусь здесь и не здесь. Я все больше настраивался на волну бессознательного, как будто смотрел на существование с точки наблюдения, находившейся где-то далеко. Я чувствовал, что скоро покину тело. Врач сказал бы мне, что у меня больное сердце и это можно поправить с помощью операции. Я сам врач и, конечно, понимал, что в таких словах была бы правда, но я чувствовал, что скоро умру, – не важно от чего: от инфаркта или чего-то другого. Все мы способны видеть не только глазами, и, когда мы начинаем видеть по-новому, мы меньше значения придаем тому, что говорит нам рассудок. Не зная причин, я видел свою смерть.
Я видел, как жизнь, бившаяся об эту физическую форму, встречала все меньше и меньше сопротивления. Тело – это материя, и внутри моего тела происходили стремительные изменения. Подчиняясь абсолютной силе, материя готовилась рассыпаться. Так я видел то, что происходило. Душа, как я часто напоминал ученикам, – это сила жизни, которая удерживает в единстве частицы каждой вселенной. Материя кажется твердой благодаря этой объединяющей силе. Душа позволяет каждому компоненту чувствовать себя частью отдельной вселенной. Когда материя больше не может поддерживать активное взаимодействие с жизнью, ее частицы начинают разъединяться и рассеиваться. Мне казалось, что меня скоро это ждет и что сила, скреплявшая мое тело в единое целое, вот-вот перестанет держать его.
Жизнь медленно возвращает себе материю. Этот процесс начинается с разрушения нервной системы. Затем он распространяется на основные органы: сердце, мозг и так далее – до тех пор, пока не начнется распад тела и жизнь окончательно не поглотит форму. Скоро этот процесс должен был начаться в моем теле. Скоро жизнь должна была подчиниться жизни. Я только не знал, когда точно это случится. Но я хотел быть готовым к этому и подготовить всех. Хосе должен был взять на себя ответственность за то, чтобы и дальше, по-своему нести мое послание. Эмма должна была продолжать учить людей. Теперь они были со мной.
Понимали меня другие ученики или нет, я предупредил их о том, что может произойти. Услышали они меня или нет, я сказал им то, что было необходимо, и мне теперь не важно было, чем все кончится. Я сказал ученикам, чтобы они любили друг друга и строили свои видения, уважая всех. Я напомнил им, что буду присутствовать повсюду, ибо я есть жизнь. И они есть жизнь. Есть только жизнь – и ее бесчисленные отражения.
Последнюю ночь нашей поездки в Теотиуакан мы провели с Эммой вместе, и страсть, с которой мы предавались любви, запустила в моем теле цепь процессов. Материя, по-видимому, встретилась с абсолютной силой, и от этого потрясения я воспарил. Мое физическое тело отозвалось, и мною овладело чувство любви, поднимающей меня к небесам, прочь от материального мира, за пределы царства человеческого видения. Я не сомневался, что очень скоро все изменится.
И однажды утром, в четыре часа, вскоре после нашего возвращения домой, я проснулся от невыносимой боли. Это начался инфаркт.
* * *
Разве это не правда, мой ангел любви, что солнце, луна и звезды слились и дышат вместе с нами любовью? Разве это не правда, мой ангел жизни, что в божественном порядке существования ты родилась для меня, а я – для тебя?
Восходящая луна, казалось, медлит на горизонте, чтобы вглядеться в древние руины Теотиуакана и затопить светом призрачную тишину. От основания пирамиды Солнца расползалась огромная тень. Она покрывала своей чернотой открытую площадь и широкие ступени за ней. Полчища других теней скользили сквозь город, ползли по Дороге Мертвых. Кривые черные линии пересекали просторные луга лунного света, словно жадные пальцы, норовящие утащить золотые слитки. Мир спал. Там, где было сознание, сейчас его не было. Существование было забыто напрочь и еще не успело возникнуть ни в чьем воображении. Сейчас жизнь была всем, она была единственным, что существовало. Материя оставалась недвижной, лишенной видений и ждала, чтобы к ней прикоснулись снова.
Недалеко от безмолвных пирамид, в номере отеля «Вийас Аркеолохикас» спал Мигель Руис. Он был надежно заключен в объятия мира материи, обвит руками своей женщины, но его манила бесконечность.
В комнате было так темно, что хоть глаз выколи. Эсикио едва смог различить кровать, и почти совсем не видел двоих, которые лежали, запутавшись в простынях. Гандара стоял рядом с другом. Он, прищурившись, вглядывался во мрак и чувствовал, что в природном равновесии произошло какое-то изменение. Сын сына дона Эсикио опрокинул мир. Он пересек невидимую линию. Это не было игрой, подобной озорным забавам, которым Гандара предавался с друзьями при жизни. Это было что-то серьезное. Присмотревшись, Гандара увидел светящиеся частицы, отлетавшие от спящего: как будто лопнула оболочка и во все вселенные хлынула искрящаяся звездная пыль – она струилась, сыпалась, возвращалась домой.
– Может быть, это всего лишь чары видения, – вдруг предположил Гандара, всколыхнув поверхность бездонной тишины.
– Это последняя вспышка, – печально произнес Эсикио. – Скоро он будет среди нас.
– Ты же сам мне говорил, что он лежит в больнице, что он дышит, но еще не пришел в себя.
– Как он может прийти в себя? – воскликнул Эсикио. – Ты видишь то же, что и я. Даже сейчас он знает то же, что знаем мы. Уже совсем скоро будет невозможно вернуться в человеческое тело.
– Друг мой… – хотел было возразить Гандара, но запнулся. Это странствие обратно в существование тронуло его и опечалило. – Быть человеком труднее, чем мне запомнилось, – просто сказал он.
– Полагаю, – кивнул Эсикио. – Там иногда бывают явно критические моменты.
– И слишком много для такого короткого отрезка времени, – посетовал его друг.
– Мы с тобой всегда это знали.
– Мне по-другому это помнилось. Вроде бы все было так волшебно.
– Мертвым мир людей кажется волшебным, compadre. – Эсикио ткнул Гандару пальцем в ребра. – Мы ведь делали его волшебным, правда? Когда были живы и полны страсти!
– Я помню только страсть.
– Остальное и не важно.
– Смотрю я вот на эту парочку, обессиленную страстью, и все равно как-то все это тяжело.
Дон Эсикио повернулся к Гандаре, он заметил, что веселое настроение покинуло его друга.
– Тебя что-то беспокоит, друг мой?
– Кажется, старый толстый Гандара заскучал по дому.
– Нас позвали сюда, Гандара. Живы мы или мертвы, это честь, когда мы нужны.
– Это было полезным напоминанием. Мне не хватало прелести существования, как ослу, который скучает по понукающей руке хозяина, или как киту-страннику, который, не чувствуя веса в глубинах океана, тоскует по…
– Силе тяготения.
– Именно. Ну что ж, мы получили урок. Нам пора уходить?
– А как же шаман? – спросил Эсикио, глядя на правнука.
– Шаман – больше не шаман, – многозначительно сказал Гандара. – Сын Сариты – больше не сын Сариты. Хороший врач больше не работает в медицине. Любовник больше не жаждет, союзника больше нет. В общем, человек перестал быть тем, кем он был. Что прикажешь делать? Остановить его – как раз когда он изготовился к прыжку в свободу?
Эсикио колебался, признавая, что старый толстый Гандара прав. Они суются в мир мысли и материи – мир, который Мигель уже оставил. На память ему опять пришел бедняга Педрито, опрометчиво воскрешенный из мертвых, и он быстро отогнал видение. Они теперь больше не праздные шутники и проказники. Сейчас они вестники. Их призвала жизнь, соблазны знаний не имеют над ними силы, и поэтому они неподкупны – теоретически.
– Больше мы ничего сделать не можем, друг мой, – сказал он со вздохом. – Мы поступим неблагоразумно, если будем служить не тому хозяину.
– Какому хозяину? Я не служу никакому хозяину, – проворчал Гандара.
Эсикио поскреб заросшую щетиной щеку и снова погрузился в раздумья. При жизни они служили своим родителям, женам, жителям своей округи. Служили в армии, как и их сыновья. Они служили, пусть невольно, Богу. Гоняясь за удовольствиями для себя, они служили жизни. Разве все люди не находятся на службе у чего-нибудь или кого-нибудь? Очевидно, что он, дон Эсикио, перестал быть просто человеком. Очевидно и то, что он часть долгого видения человечества, иначе он не был бы вызван сюда. Он существовал в человеческом воображении и историях, рассказываемых живыми. И сейчас, мертвецом, он служил этим историям.
Невозможно было одновременно быть тем, кем его представлял себе его сын Леонардо, и тем, кого в нем видела его дочь. Но Леонардо и Сарита не были хозяевами этого видения. Все в его видении было версией видящего. Старик задумался об этом. Изменило ли что-нибудь их вмешательство? Он и Гандара с радостью ухватились за предоставленную возможность подремонтировать воображение умирающего человека, но бал здесь правило само видение. С помощью памяти и интеллекта оно использовало обильную информацию жизни, для того чтобы оживлять себя и исцеляться. Он и Гандара пусть и привидения, но верные, и были здесь они для того, чтобы служить Мигелю, видящему, в то время как Мигель служил – как только мог – тем, кого любил.
– Что еще делать, как не служить? – сказал он, отворачиваясь.
В тот же миг оба они перенеслись из погруженной в темноту комнаты в небольшой сад во дворе гостиницы. Ночь стояла холодная, тени становились все длиннее и цепче.
– Знаешь, что меня утешает – и это важно, – что в одном мой правнук был безупречен.
– В чем же?
– Он жил как мужчина, – сказал Эсикио. – Он ел, пил, ошибался – и истекал кровью так же, как все! Он предавался любви, как герой, сражался, как воин, уничтожал драконов – и не хвастался этим. Он шел среди сомнамбул, пробуждая немногих – но тысячи. Он смеялся! – Ноги Эсикио исполнили паучью джигу. – Он танцевал!
– Да, он повеселился!
– Он был темпераментным и проницательным художником, которым руководила жизнь, – добавил Эсикио.
Гандара увидел друга в необычном свете и кивнул.
– Ты мудр, старая колючка, ты лучший среди мужей, – сказал он, снова повеселев. – Прощаю тебе все, что было.
– Что именно? Я невинен.
– Это ты-то невинен? – с досадой воскликнул Гандара. – Как ты можешь такое говорить после всего, что ты… – Глаза его вызывающе сверкнули, но он тут же смягчился. – Вот негодяй! Чуть снова меня не втянул, – проворчал он, тихо посмеиваясь.
Они замолчали, и каждый ушел в свои размышления. Слова и их озорные хозяева принадлежали другому видению, другому веку. Пора уже было этим почтенным гостям покинуть людской карнавал. Они обменялись дружескими взглядами и неторопливо вышли из сада, держась рядом, а голодные тени ускользали обратно в темноту.
– Постой! А как же мать? – спохватился Гандара, вспомнив о Сарите.
Его друг застыл на месте. Они стояли, прислушиваясь к звукам ночи.
– Моя внучка больше не зовет меня, – сказал Эсикио, пытаясь почувствовать то, что нельзя увидеть. Протянув руку, он дотронулся до цветка красного гибискуса, изящно закрывшегося на ночь. Цветок был нежным, как бархат, он подрагивал под кончиками его пальцев, готовый раскрыться при первых лучах солнца. Жизнь, похоже, взяла передышку. Жизнь выжидала.
– Может, Сарита пришла к тому же выводу, – предположил Гандара, – и ушла из этого видения.
– Возможно ли это? – засомневался Эсикио.
– Если мы можем, то и она может, мой добрый друг… мой настоящий друг.
Гандара широко улыбнулся, чувствуя, как с его массивных плеч сваливается тяжесть. Он сорвал один из цветков.
– Настоящий, говоришь? – поддразнил его Эсикио. – Да мы с тобой – чистая выдумка, вымысел из древнего видения, сплошной обман.
– Но мы были очень дружелюбным обманом!
– Эсикио со своими поразительными фокусами!
– Гандара со своим обворожительным… пузом!
– И давай не будем забывать нашего друга Начо…
– С его дерзкой шайкой хулиганов!
Они обнялись, награждая друг друга приятельскими тумаками. Над виллами, каменными руинами, над спящим миром всходила луна. Друзья весело и непринужденно смеялись. Их смех не смолкал всю дорогу, пока они возвращались в те светлые покои памяти, из которых пришли, – далеко от ревнивых причуд человеческого видения. Шаги их, удаляясь, звучали в унисон и наконец совсем стихли.
* * *
Сарита и Лала смотрели, как два призрака растворяются в ночи. Женщины стояли под деревом за стенами комнаты, в которой спал Мигель.
– Пусть уходят, – сказала Сарита, чувствуя, что Лала собирается позвать их.
– А, ну конечно, пускай, – ответила рыжеволосая.
– Кажется, мы здесь уже были, – прошептала Сарита.
– Гм. Наблюдали за любовниками, лежавшими в постели, – фыркнула Лала, заглядывая в окно спальни. – Чем больше все меняется, тем…
– Его здесь нет, – сказала старая женщина, одергивая шаль.
– Наверняка он здесь – точно так же, как мы здесь.
– Нет его. Там, где должен быть он, нет тепла. Он все дальше ускользает из мира живых – и от меня.
– Тогда позови его, старушка-мать, пусть вернется, – сказала ее спутница, нетерпеливо встряхнув волосами. – Он не посмеет сбежать от тебя.
Ему не нужно убегать, спокойно подумала Сарита. Она пришла попрощаться с ним, а не изрыгать злобу и нашептывать ложь, как какой-нибудь садовый вредитель. Она хотела покинуть это пространство иллюзий и оказаться в больнице, ухаживать за ним, как ей и положено. Ей хотелось прикоснуться к его настоящим, а не воображаемым рукам, поцеловать его в щеку, пожелать ему спокойной ночи. Ей хотелось любить его, по-матерински утешить в последний раз.
– Зачем я упорствовала? – вслух произнесла она. – Зачем давила на него, спорила с ним, зачем так цеплялась за прошлое?
Лала смотрела на нее с открытым ртом. Ей казалось, что ответ не требует объяснений.
– Я сделала все, что умею, – продолжала Сарита, – и все, что могла. Я все средства перепробовала, и хватит… стараться. – Вспомнив слова из другого видения, она сказала: – Воины в конце концов умирают…
– Воины умирают, не оставляя попыток! – выпалила рыжеволосая. – А как же иначе!
Старая курандера посмотрела на женщину-призрака, стоявшую рядом с ней. Они были похожи больше, чем она готова была признать, но пора этому сходству закончиться.
– Я выполнила материнский долг, – сказала Сарита, – большинству матерей такое было бы не под силу. Я читала молитвы, совершала ритуалы. Я призвала на помощь всю свою веру и веру моей семьи. Я взывала к святым и предкам, разговаривала с Богом, спорила с Иисусом. Я произносила нужные слова и верила в их силу. – Она поколебалась, глядя на Лалу. – Я, как всегда, играла в твои игры.
– И всегда будешь играть в них.
– Нет, – быстро ответила Сарита, поднимая взгляд на окно. – Мигель помог мне увидеть все таким, какое оно есть.
Лала рассмеялась бы, если бы не выражение лица старушки. Казалось, Сарите только что открылась божественная тайна. Ее улыбка мягко сияла в лунном свете. Внимание ее где-то блуждало, и сейчас она смотрела сквозь ветви деревьев, полнившие тенями ночной сад. Взгляд ее был устремлен за пределы оштукатуренных стен гостиницы, как будто ей и в самом деле видны были лежавшие за ней руины древнего города. Может быть, она бродила у пирамид, позволив воображению унести ее туда, где вдохновение создало потрясающие формы и где темнота вечно играла с пятнышками света.
– Я могу все отпустить, – сказала Сарита, словно погруженная в грезы. – Могу больше не цепляться – ни за что.
– Нет, ты никак не можешь это сделать, – категорически заявила ее спутница, почуяв мятеж.
– Я так много увидела с тех пор, как начала свои поиски, – просто сказала Сарита. – Я видела то, что вполне ожидала увидеть: знакомые вещи, знакомых людей, – но теперь лицезрела их совсем другими глазами.
– Ну разумеется, – самодовольно проговорила ее собеседница.
– Я и себя увидела по-другому, – продолжала Сарита. – Я увидела себя в тебе.
– Приятно услышать это от тебя, – осторожно ответила рыжеволосая. – И что же? Как ты выглядишь – во мне?
– Испуганной себялюбкой, – сказала мать Сарита, смягчая свои слова улыбкой. – Я выгляжу высокомерной – женщиной, которая видит только то, что хочет видеть.
– Дорогуша…
– Я женщина, которая слушает, но не хочет слышать, – не останавливалась Сарита. – В тебе я враг истины и отрицание любви.
– Ты говоришь так, как будто…
– В тебе, сеньора, я жалкое отражение себя, – заключила она. – Пора признать разницу между нами.
– Ничего нельзя признать без моего согласия.
– Тогда я попрощаюсь с тобой.
– Попрощаешься? – усмехнулась Лала, в то же время внезапно встревожившись. – Нельзя заканчивать не там, где начинал!
Обведя небольшой садик нарочито презрительным взглядом, она изрекла:
– Не здесь мы начинали наше странствие, милая сестра.
– Мы начали его в комнате, где в темноте лежали любовники.
Сарита показала вверх, на окно гостиничного номера. Ее взгляд задержался на нем, она подумала о том, увидит ли еще своего любимого сына.
– Мы начали оттуда, где я живу, женщина, туда мы и вернемся! – закричала рыжеволосая, от возмущения высоко подняв подбородок. – Я не хочу терять вас обоих!
Произнося эти слова, Лала сама себе удивлялась. Что это такое она говорит? Что она надеется доказать? Есть ведь и другие умы, с которыми можно поиграть. Всегда будут смертные, которых можно подразнить, соблазнить, которыми можно будет повелевать. Она – то, чего они жаждут. Когда она предлагает им отраву, они пьют ее. Когда она приносит им противоядие, они принимают его. Это она определяет, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Она создает рай и ад. Она – это каждое слово, каждая тайная мысль. Она одна решает, что реально существует, ибо она владычица человеческого видения. Она La Diosa – la ultima diosa[69].
С той же скоростью, с которой в ней прозвучали эти слова, ее гнев растворился в пустоте. Луна потемнела, сад исчез. Гостиница испарилась вместе с сотней своих постояльцев и всеми их захватывающими историями. Древние руины, шепчущие тайны мудрости среди кривых теней, растаяли во тьме.
Лала вглядывалась в туманное пространство, но ничего не могла различить. Она попыталась позвать кого-нибудь, но не смогла произнести ни слова. Старухи нигде не было, Лала теперь молчала, и видения прекратились.
25
– Сарита! Проснись!
Хайме встревоженно смотрел в лицо матери, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки сознания. Накануне, посоветовавшись с врачом, семья Мигеля решила отключить его от аппаратуры жизнеобеспечения. Сегодня Мигель дышал самостоятельно, но никто не знал, вернется ли к нему сознание. В любом случае девять недель – срок достаточный. Останется он жив или нет, решит жизнь. Сарита, конечно, была против отключения. Когда Хайме вчера уходил от нее, она была сама не своя. Утром он застал мать лежащей на полу спальни – свернувшейся калачиком, без одеяла, без сознания, едва живой. Она еле дышала, тело остыло. Он прикоснулся к ее щеке и в ужасе отдернул руку.
– Сарита! – позвал он, переворачивая ее на спину.
Она была бледна, как мертвая. Глаза ее были закрыты, но на губах можно было различить легкое подобие улыбки.
– Сарита! – снова проговорил он, осторожно тряся ее обеими руками за плечи.
Она пошевелилась.
– Не надо больше… пытаться, – едва слышно проговорила она.
– Mamá? – нежно и удивленно произнес Хайме и крепче сжал ее плечи. – Сарита?
Должно быть, она услышала его, потому что сказала что-то еще, но он не разобрал. Значит, постепенно приходит в чувство, осознал он. Он прошептал благодарственную молитву и снова назвал ее по имени.
– Сарита, – сказал он, беря ее за ледяные руки. – Mamá, это Хайме. Сейчас утро. Ты сделала достаточно. Ты перепробовала все…
– Да, – слабым голосом отозвалась она.
Она ощутила, как от его рук жизнь снова входит в ее пальцы. Его любовь медленно распространяла тепло по всему ее телу. Она прерывисто вздохнула, и ее сознание непрочно повисло на границе между мирами.
– Сынок, – прошептала она, и сознание ее нашло себе место в царстве человеческого мышления.
Она открыла глаза. Посмотрев в обеспокоенное лицо Хайме, она узнала его и слабо улыбнулась.
– Отвези меня к Мигелю, – вполне отчетливо попросила она.
* * *
Мигель Руис лежал в больничной палате, далеко от дома, где погружалась в свои видения его мать. Сознание вспыхнуло в нем и тут же резко погасло, тело тем временем пыталось проснуться. В его мозг, требуя внимания, просочился свет. В уши ворвался рев звуков. В горле пересохло и саднило. Из него больше не торчали трубки, он дышал сам, но боль распространялась по телу, словно пожар. По телевизору показывали мультфильмы. Заслышав злобные голоса и остервенелую музыку, он вначале было испугался. Его чувства не сразу приноровились к миру, в котором он когда-то жил, внешний шум навалился на него с пугающей силой. Он предполагал, что так будет, но не ожидал такого натиска. Может быть, он лишился защитных механизмов? Не вернулся ли он в младенчество? Неужели все видение началось сначала?
В палате рядом с ним кто-то находился – наверное, кто-то из братьев. Он помнил их – тиранов его юности и защитников. Он помнил родителей: они были мудры и всегда приходили на помощь. Ему было даровано так много любви, несмотря на всю холодную ярость человеческого видения. От грохота телевизора ему стало не по себе, снова с силой взревел циклон, заглушая истину. Это то, с чем люди живут постоянно: громыханье ума, токи первичного страха. Когда-то он смотрел изнутри той бури, но сейчас, вернувшись в свое ослабшее тело, он испугался.
– Лала, – пробормотал он.
Губы его потрескались, голос звучал слабо. Неужели она вернулась, чтобы повелевать циклоном? Он переместил фокус внимания, стараясь ухватить только что растворившееся видение. На фоне воплей мультипликационных персонажей он стал возвращаться ко сну, стараясь снова вызвать в памяти ускользавшие из нее образы. В одном из видений был мудрый верховный жрец, говоривший с ним из гробниц человеческой истории. У Мигеля было ощущение, что он умер в такой гробнице, а потом проснулся с новым сознанием. Там был совет старейшин, и все они соревновались за титулы, боролись, желая обратить на себя внимание. Там были мужчины, которые хотели изменить его, и женщины, жаждавшие обладать им. Были там и другие существа: орлы, собаки и демоны. Были и великие воины другой эпохи, наблюдавшие за всем из мира теней. В его сне были молчаливые рослые ангелы и маленькая девочка, желавшая вернуть ему невинность.
И всюду присутствовала его мать, появляясь то тут, то там в разных формах. Она советовала, умоляла, но слов ее он не мог вспомнить. Он не видел ее лица, не понимал, что движет ею. Он побывал на улицах Теотиуакана, по которым когда-то ходили его предки. Он слышал, как они говорят приглушенными голосами, пересказывая притчи забытых времен. Он чувствовал их намерение, когда в грезах шел по Дороге Мертвых и поднимался на пирамиду Солнца. Он наблюдал самого себя: как он учил, творил, почитал мастеров, когда был моложе. Он был воином, но, кажется, война давно закончилась – и она выиграна.
Вряд ли имело значение, кем он был, и кто он сейчас, и куда ему предстоит попасть. Он любил – любил всегда, и в этом не могло быть сомнения. Его ослепило солнце, засиявшее за окном, и видения разлетелись от него, как бабочки от весеннего ветра. Он вдруг снова оказался в постели, в больничной палате. Открыв глаза, он увидел, как по телевизору мышь из мультфильма почти до смерти избивает кошку. Он поморщился и отвернулся.
– Ангел мой, – сказал женский голос.
Слова прозвучали тихо и успокаивающе. Кажется, та, что произнесла их, когда-то была ему близким человеком. Желая понять, кто это, он повернулся и увидел доброе и знакомое лицо, несущее покой. Воспоминания посыпались на него, как нескончаемое конфетти. Он смутно осознавал сами события, как будто слышал сквозь рев телевизора, как кто-то обсуждает их в соседнем помещении. Незнакомые, по-видимому, люди читали его характеристики, обменивались мнениями, предположениями. Ему хотелось прекратить этот разговор. «Я знаю этого человека лучше, чем вы!» – хотелось крикнуть ему, но он не был уверен, что так оно и есть. Трудно было определить, чья жизнь представлена всеми этими разрозненными фрагментами звука и света. Мигель сделал усилие, чтобы разобраться в этих картинах, малых отпечатках историй, набрасывавших эскиз жизни человека, но ему ничего не удавалось, и он бросил попытки. То, чего не помнит он, помнят другие. У каждого обязательно найдется что сказать. Всем непременно нужно говорить, а о том, чтобы слушать, никто и не вспомнит. Теперь он знал, где находится.
Мигель в первый раз вздохнул глубоко, и его тело расслабилось. Какие еще нужны ему знаки? Игра началась. Это жизнь, она подталкивает его, движет им. Любовь воскрешает его и уносит прочь страх. Он моргнул, потом еще раз. Женщина, сидевшая рядом, сжала его руку, глаза ее наполнились счастливыми слезами. Она была стара, но через нее все так же чисто и искренне звучала мелодия жизни. В ее улыбке он постепенно узнавал друга, союзника. Сначала он представил себе, что улыбается ей в ответ, а потом лицо его и в самом деле просияло. Она тут же откликнулась.
– Я с тобой, сын мой, – негромко сказала Сарита, глядя на него усталыми глазами, лучащимися пониманием. Она протянула руки и прикоснулась к его щекам прохладными гладкими ладонями, придавая значимости своим словам. – Теперь я с тобой.
* * *
Разве это не правда, мой ангел смерти, что в этом уголке мира все более красиво, а любовь величава?
Рыжеволосая стояла в тени древа познания, там, где мать Сарита впервые увидела ее. Все здесь осталось почти таким же, как и прежде, и она была опять одна. Мрачные грозовые тучи затягивали небо, ландшафт видения озаряли вспышки молний. В безбрежном космическом океане животом кверху плыла Земля, а вдали высилось грандиозное древо жизни. Она посмотрела туда, но там никого не было. Вот это да – дерево цвело! Каких только сладких плодов на нем не было, но никто не сидел на его волнистых ветвях, там не было даже маленького, странно одетого человека.
Что пошло не так? Может быть, она перегнула палку – или, наоборот, была недостаточно настойчивой? Она следовала за матерью, потакала бесчисленным прихотям, а когда могла, настаивала на своем. Она сделала все, что умела, но он ушел. Это был его выбор: он вернулся в мир причин и следствий. На этот раз у него не было сомнений. Он ненадолго посетил ее мир, подразнив, поманив, помучив ее надеждой. Вначале она и вправду исполнилась ожиданий, почуяв страх Сариты. Она надеялась и лелеяла эту надежду с бодрой уверенностью. Трудно понять, что произошло потом. Одно воспоминание будило другое – и теперь мать и сын вместе. В нем нет больше любопытства. Он больше не принадлежит ей, Лале.
Ну и что ж из того? Люди рождаются каждый день. Конечно, не все будут такими пытливыми, не все будут пытаться заглянуть за пределы отражения, чтобы найти истину. Но она может дать ответы на любые вопросы. Люди обожают спрашивать: «Почему? Кто я? Что со мной? Какова моя цель, мое будущее, моя судьба? Что правильно? Что ложно?» Как легко писать картину, когда само полотно так и просится под кисть.
С ее дерева упал лист. Он нисходящими кругами спланировал среди пятен тени и легко коснулся земли. Она тронула его ступней, и он хрустнул. Рядом с ее лицом пролетел еще один лист, потом еще – сухие листья сыпались вокруг, словно умирающие солдаты. Пока ее не было, здесь многое изменилось. Что произошло с этим ландшафтом совершенных символов? Она сорвала с ближайшей ветки яблоко и, предчувствуя что-то отвратительное, откусила от него. Оно оказалось горьким на вкус. Лала швырнула его на землю и вгляделась в сверкающее, пленительное дерево, стоявшее вдали.
Древо жизни, в своем великолепии поднимавшееся навстречу солнцу, ответило на ее взгляд. Казалось, тысячей распростертых ветвей оно готово было принять ее в свои объятия. Тронутая этим зрелищем, она подумала: «А как же должна выглядеть я, если на меня посмотреть из этой безмятежности?» И ей предстало видение себя: это было что-то расплывчатое – сумрачное облако, ждущее, что оно превратится в воздух, которым можно дышать, и что его коснется свет. Она мираж, который сквозь собственный туман пытается увидеть проблеск чего-то настоящего. Она нереальна, она бледный, непрочный отпечаток на бесконечном фоне.
Именно этому откровению она сопротивлялась больше всего: это послание приходило часто, но всегда оставалось без внимания. Шаман был не единственным, кто осмелился просветить ее, – и не последним. Он был не первым, кто испытывал ее безжалостной карой любви, были и другие провидцы, предсказывавшие ее искупление. Она представила, как он играет в свои нелепые игры, пока они не наскучат, а потом с ликованием переворачивает достигнутые договоренности. С каждой переменой он создает новое видение, приглашая мир принять в нем участие. А она разве не мастер игры – или же ее правила стали слишком жесткими, а игра непомерно усложнилась?
Лала вдохнула тяжелый воздух, от которого на душе становилось уныло. Казалось, дерево, у которого она стояла, отступает в собственную густую тень, в то время как ее продолжала занимать жизнь – то, чему она никогда не доверяла и о чем почти не думала. Интересно, каково это было бы – отдаться тому, что нельзя измерить, что невозможно понять? Как выглядел бы мир, в котором у истины нет врагов, а ее тайна не встречает сопротивления?
Что есть истина, размышляла она, как не тишина, воцаряющаяся после отважно заданного вопроса? Оказавшись в этой тишине, она испытывала беспокойство, но вот волной накатила пустота, поглотила слова, и ее зашатало от нахлынувших ощущений. Все было ощущением. То, что, как ей казалось, существовало раньше, перестало существовать. Осмотревшись, она обнаружила, что оба дерева исчезли из этого ландшафта, в котором не было времени. Не было видно и планеты, а вместе с ней испарились куда-то и мерцающие огни человеческих видений. Не осталось никаких символов – кроме дивного образа женщины, жрицы без алтаря, стоявшей в одиночестве на ветру в выдуманном мире.
И тут небо этой фантазии испустило вздох и разразилось слезами. На нее и на сухую пыльную землю под ее ногами полился дождь. Ветер набросился на кучи мертвых потрескавшихся листьев, раскидывая их. Лала наклонилась, чтобы удержать один из спасавшихся бегством листьев. Теперь это был лишь образчик скручивающихся пятнышек и засохших жилок. Она держала лист в руке и смотрела, как капли дождя стучат по его хрупкой поверхности. От их прикосновения лист как будто быстро вдохнул и ожил. Лала вспомнила младенца, которого разве что не швырнули на металлический стол и оставили там, чтобы он самостоятельно впервые впустил в себя воздух жизни, – и ее захлестнул поток чувств. Листок напитывался влагой, его плоть размягчалась и зеленела. Черенок стал крепче. Заостренные зубчики, подрагивая, жадно тянулись к невидимому солнцу. И солнце вышло, пронизывая облака, и его совершенный свет упал на нее и на листок.
Жизнь хлынула сквозь нее, возвращая себе свое утонченнейшее отражение, и Лала удивленно вскрикнула. Это был миг преображения изысканного и бессмертного мастера иллюзий. Она успокоилась, взгляд ее прояснился. Обнажив свои чувства, выйдя за пределы знания, она была ошеломлена непоколебимым пульсом жизни. Чувствует ли и жизнь ее? Видит ли, слышит ли ее жизнь? Имеет ли здесь какое-нибудь значение язык? Она помедлила, подыскивая слова, за которыми стояло бы безукоризненно чистое намерение, и услышала, как из самой тайны звучит ее голос.
– Теперь я с тобой, – сказала она.
Руководство для читателя[70]
Предисловие и Пролог
Вопрос № 1
В начале книги Сарита отправляется в сон мира на поиски сына Мигеля, чтобы вернуть его к жизни. Вы часто толкуете свои сны? Чем это отличается от комментариев по поводу видений во время вашего бодрствования?
Вопрос № 2
Мигель приветствует смерть с благодарностью воина, который хорошо воевал и желает спокойно вернуться домой. Каковы ваши чувства по поводу смерти?
Главы 1–5
Вопрос № 3
Когда Сарита пытается убедить Мигеля вернуться в его тело, мы узнаем, что прежде он был шаманом. Вы знакомы с шаманизмом? Как вы думаете, искусство шамана – это что-то уникальное?
Вопрос № 4
Почему создается впечатление, что Лала в повествовании иногда напоминает того, кто смотрит на нее? Почему ей, скорее всего, не нравится хаос полнокровной жизни?
Вопрос № 5
В книге Мигель вспоминает свои отношения с девочками в детстве и размышляет о том, как благодаря им узнавал, что жизни присуще искушение, что намек провоцирует воображение, а воображение строит реальность. Как вы считаете, ваши детские отношения с противоположным полом еще влияют на ваши отношения сегодня?
Вопрос № 6
Ангел – это посланник, вестник. Мигель говорит нам, что «редко находятся вестники, прибегающие к обольщению ума во благо другому человеку. А случаи, когда вестник использует это умение на благо всего человечества, настолько редки, что такому вестнику люди начинают поклоняться». Какого рода вестником вы себя представляете?
Вопрос № 7
Дедушка Мигеля говорит ему: «Все, чему ты выучился в школе, и все, что, как тебе кажется, ты понял про жизнь, – это всего лишь знания. Но это не истина». Вам понятно, как знание может восприниматься отражением истины и как это отражение (сумма ваших мнений и убеждений) искажает истину?
Вопрос № 8
Сарита настаивает на том, чтобы ее сын вернулся к ней, но Мигель говорит нам: «Себе на беду, она найдет притворщика – облеченное в плоть и кровь подобие ее младшего сына, уже нашедшего истину и радостно растворившегося в ее чудесах». Почему Мигель окажется в этой истории притворщиком, если вернется к жизни? Вы когда-нибудь чувствовали себя актером в чужой пьесе? Было ли у вас какое-нибудь судьбоносное событие, делавшее затруднительным ваше возвращение к привычному образу жизни?
Вопрос № 9
В сновидении мира Сарите помогают найти Мигеля ее давно умершие отец и дед. Вы когда-нибудь обращались к близким, которые умерли? Каково ваше отношение к людям, которых вы потеряли?
Главы 6–10
Вопрос № 10
Духовные подвижники древних тольтеков позволяли, чтобы их поглотил метафорический змей, дабы они возрождались знающими и овладевшими смертью. Что значат для вас слова «овладение смертью»?
Вопрос № 11
Когда Мигель встречает Дхару, он чувствует, что оба изменят жизнь друг друга. Вы когда-нибудь встречали людей, которые, по вашему ощущению, изменили бы вашу жизнь? Они это сделали? Какова была ваша роль в каких-либо изменениях и преобразованиях?
Вопрос № 12
Можете ли вы почувствовать деятельность вашего ума как нечто отдельное от вашего тела? Как ваши мысли влияют на тело, эмоционально и физически? Меняя свое мышление, чувствуете ли вы иной эмоциональный результат?
Вопрос № 13
Мигель упоминает автомобильную катастрофу как начало перемен в своей жизни. Был ли у вас в жизни травматический опыт, и если да, то дал ли он вам возможность что-то переосмыслить? Как результат, вы изменили что-то в вашей реальности? Изменились ли сами? Обрели ли мудрость и как эта мудрость проявлялась в ваших действиях?
Вопрос № 14
В этой истории ад описывается как рынок – митоте, – то есть шум идей в наших головах. Вы иногда чувствуете что-то вроде путаницы в голове от слишком большого количества мыслей? Если вы хотите избавиться от этого шума, как вы обычно поступаете?
Вопрос № 15
Как, по-вашему, это правда, что люди культивируют страдания? В какой степени вы позволяете себя страдать по поводу идей, людей или мнений о вашей жизни?
Главы 11–15
Вопрос № 16
Попробуйте написать историю своей жизни и посмотрите, какие воспоминания вызывают у вас эмоциональную боль. Сколько раз вам нужно переписать свою историю, чтобы эти воспоминания вас больше не расстраивали?
Вопрос № 17
Нагуаль и тональ являются словами, которые описывают бесконечную жизнь и все ее вполне конечные проявления. Попробуйте испытать себя как нагуаль, затем как тональ, а затем – мостом между ними.
Вопрос № 18
По мнению Мигеля, любовь является синонимом истины. Вы когда-нибудь испытывали в своей жизни любовь как препятствие на пути к истине? Вы испытывали ее как предлог, чтобы страдать?
Вопрос № 19
Вы когда-нибудь были в состоянии любви без всяких условий? Как бескорыстная любовь к вам на протяжении вашей жизни помогла вам стать более подлинным и уверенным в себе?
Вопрос № 20
Черная магия – это искусство саморазрушения. Когда, если помните, вы использовали черную магию на себе? Или все еще используете?
Вопрос № 21
Опираясь на ваш собственный опыт, подумайте, привело ли изменение ваших представлений к личным преобразованиям? Вы когда-нибудь сознательно меняли убеждения или отказывались от каких-то привычек? Одно изменение вело к другим?
Главы 16–20
Вопрос № 22
Ясно ли вам, как каждый из нас соревнуется в человеческом видении за внимание других? Ясно ли вам, как мы далеки от осознания удивительной силы своего собственного внимания? Как правило, наше внимание контролируют личные убеждения. Как бы это помогло вам, если бы вы взяли на себя ответственность за собственное внимание?
Вопрос № 23
Осознание означает умение видеть то, что есть, не вдаваясь в суждения. Можете ли вы использовать воспоминания о вашей жизни, чтобы ясно осознать себя в данный момент?
Вопрос № 24
Слово тольтек означает «художник»; древние тольтекские мастера были художниками жизни. Насколько ваша собственная жизнь является произведением искусства?
Главы 21–25
Вопрос № 25
Вы заметили, как фанатизм может изменить восприятие и исказить поведение? Когда, по собственному опыту, вы доходили в чем-то до фанатизма? Как вы полагаете, одержимость приносила вам боль?
Вопрос № 26
Ближе к концу книги в деталях объясняется реальность смерти. Ваше мнение на данную тему изменилось после путешествия по этим главам?
Вопрос № 27
Каким образом вы практикуете свою подлинность? Как вы практикуете то, чем вы не являетесь?
Вопрос № 28
В этой истории знание различными путями осознает самое себя. Можете ли вы сказать, каким образом вы осознали себя как голос знания – равно как тирана и спасителя в вашей собственной замечательной истории?
Благодарности
Я хотел бы выразить самую глубокую благодарность моим родителям, Сарите и Хосе Луису, которые сделали возможным мое существование в этом теле и мое познание себя как вечной силы жизни. Их щедрость и безупречное наставничество дали мне уверенность в том, чтобы любить, получать любовь и делиться с миром моим присутствием в нем.
Я благодарю своего деда, дона Леонардо, за его удивительную мудрость и за неизгладимое впечатление, которое он произвел на мою душу и мое воображение.
Я навсегда признателен Барбаре Эмрис, моему соавтору, за ее большой вклад в мою жизнь. За последние два десятилетия, когда ее творческие посылы выросли до уровня гениальности, для меня было удовольствием наблюдать за эволюцией одаренного посланника, чьи терпение и благосклонность давали мне преимущества перед другими.
Эта книга была бы невозможна без энтузиазма и поддержки, которую я получил от издательства «Харпер Коллинз Паблишинг» и от всех сотрудников отделений «Харпер Уан» и «Харпер Эликсир», – это Майкл Модлин, Клаудия Бутоте, Марк Таубер, Мелинда Маллинз, Ким Дейман, Терри Леонард, Адриан Морган, Натали Блашери, Либби Эдельсон и Джоси Гист. Я высоко ценю то уважение, с которым они отнеслись ко мне, моей семье и моему персоналу, и я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества. И наконец, я выражаю сердечную благодарность моим читателям, чье желание изменить свой мир и воспламенить новые отношения с истиной всегда будут для меня самой большой наградой.
Сноски
1
Теночтитлан – ацтекский альтепетль (город-государство), находившийся на месте современного города Мехико. Был основан примерно в 1325 г. на острове посреди соленого озера Тескоко, в 1521 г. был разрушен испанскими конкистадорами, возглавляемыми Эрнаном Кортесом. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Мама (исп.).
(обратно)3
Земля (исп.).
(обратно)4
Мать, мама (исп.).
(обратно)5
Сынок (исп.).
(обратно)6
Ты (исп.).
(обратно)7
Попай (Popeye) – персонаж комиксов и мультфильмов (с 1929 г.), особенно популярных в 1930-е гг., смешной пучеглазый моряк, обладавший способностью превращаться в суперсилача каждый раз, когда он съедал банку консервированного шпината. Художник Э. Сигар.
(обратно)8
Название одного из мультфильмов о Попае и цитата из него.
(обратно)9
Старушка (исп.).
(обратно)10
Жизнь (исп.).
(обратно)11
Свет (исп.).
(обратно)12
Истина (исп.).
(обратно)13
Богиня (исп.).
(обратно)14
Целительница (исп.).
(обратно)15
Любовь моя… Дорогой мой (исп.).
(обратно)16
Тортилья – тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.
(обратно)17
Бабушка (исп.).
(обратно)18
Дочь (исп.).
(обратно)19
Цитата из «Опытов» Мишеля Монтеня: «Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них». Монтень имеет в виду «Руководство» Эпиктета, 5. Это изречение было начертано среди других греческих изречений на потолке библиотеки Монтеня.
(обратно)20
Эмпанада – пирожок с начинкой.
(обратно)21
2 октября 1968 г. мексиканские войска открыли огонь по студентам и другим протестующим на площади Трех Культур в районе Тлателолько города Мехико. Это случилось за десять дней до начала XIX летних Олимпийских игр в Мехико.
(обратно)22
Что такое? (исп.)
(обратно)23
Бискочито – рассыпчатое печенье.
(обратно)24
Друг, приятель (исп.).
(обратно)25
Верно ведь? (исп.)
(обратно)26
Ясно (исп.).
(обратно)27
Да (исп.).
(обратно)28
Одно из основных положений герметизма (первоисточник – «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста).
(обратно)29
Тсуга – род вечнозеленых хвойных деревьев семейства сосновых.
(обратно)30
Дочка (исп.).
(обратно)31
Боже (исп.).
(обратно)32
Велеречивая, напыщенная (исп.).
(обратно)33
Куэрнавак – столица штата Морелос и административный центр одноименного муниципалитета приблизительно в 85 км к югу от Мехико.
(обратно)34
Тихуану – город на северо-западе Мексики, на границе с США, в 30 минутах езды от Сан-Диего.
(обратно)35
Шекспир. Гамлет, принц Датский. Перевод М. Лозинского.
(обратно)36
Сонор – штат на северо-западе Мексики.
(обратно)37
Цитата из пьесы Роберта Браунинга (1812–1889) «Пиппа проходит мимо».
(обратно)38
Сладкий хлеб (исп.) – сладкая выпечка.
(обратно)39
Человек, мужчина, мужик (исп.).
(обратно)40
Некрасиво, нехорошо, свинство (мекс. сленг).
(обратно)41
Старина (исп.).
(обратно)42
Сударь (исп.).
(обратно)43
Солдат (исп.).
(обратно)44
Кровь Христа (исп.).
(обратно)45
Папаша (исп.).
(обратно)46
Начальник, командир (исп.).
(обратно)47
Ну как же! (исп.)
(обратно)48
Пожалуйста (исп.).
(обратно)49
Бенито Пабло Хуарес Гарсия (1806–1872) – мексиканский политический и государственный деятель, национальный герой Мексики.
(обратно)50
Извинение (исп.).
(обратно)51
Ковбой (исп.).
(обратно)52
Наваристый суп-рагу из свинины и кукурузы, который может заправляться лимоном, редисом, красным перцем, луком, авокадо и т. д., – одно из самых популярных блюд мексиканской кухни.
(обратно)53
Луиджи – герой видеоигры «Супер-Марио».
(обратно)54
«Nintendo» – японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей. Главный герой игры «Супер-Марио», Марио, стал символом компании «Nintendo».
(обратно)55
Главный отрицательный герой игры «Супер-Марио» (другое имя – Король Купа).
(обратно)56
Гумба – злой гриб, самый простой враг.
(обратно)57
Ла-Холью – северо-западный район калифорнийского города Сан-Диего.
(обратно)58
«Сан-Диего Падрес» (англ. San Diego Padres) – профессиональный бейсбольный клуб из Сан-Диего (штат Калифорния).
(обратно)59
Сын (исп.).
(обратно)60
Военно-морская академия – международно признанная военная подготовительная школа-пансион, принимающая молодых людей с 7 по 12 класс (12–18 лет) и следующая стандартам подготовки Калифорнийского университета. Учебное заведение готовит молодых офицеров запаса и входит в десятку лучших военных академий США.
(обратно)61
Рыжий, красный (исп.).
(обратно)62
Сокол, сапсан (исп.).
(обратно)63
«Things We Said Today», написана Полом Маккартни в мае 1964 г.
(обратно)64
Шедевр (исп.).
(обратно)65
Дамбо – герой одноименного мультипликационного фильма У. Диснея, слоненок с огромными ушами – предметом насмешек и издевательств со стороны остальных зверей. Когда позже выясняется, что при помощи ушей Дамбо может летать, он становится всеобщим любимцем. Полететь же ему удалось после того, как ему вручили якобы волшебное воронье перо.
(обратно)66
Серенгети – экорегион в Восточной Африке, простирающийся от севера Танзании до юга Кении к востоку от озера Виктория. Экосистема Серенгети – одна из старейших и наиболее сохранившихся на Земле. Более 80 процентов Серенгети занимают охраняемые территории.
(обратно)67
Дедушка (исп.).
(обратно)68
Учитель, наставник, мастер, маэстро (исп.).
(обратно)69
Последняя богиня (исп.).
(обратно)70
Перевод И. Куберского.
(обратно)

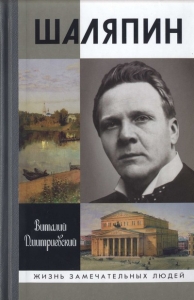


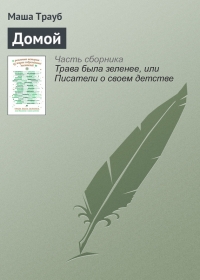
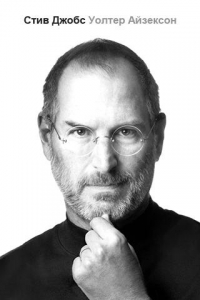
Комментарии к книге «Тольтекское искусство жизни и смерти: история одного открытия», Барбара Эмрис
Всего 0 комментариев